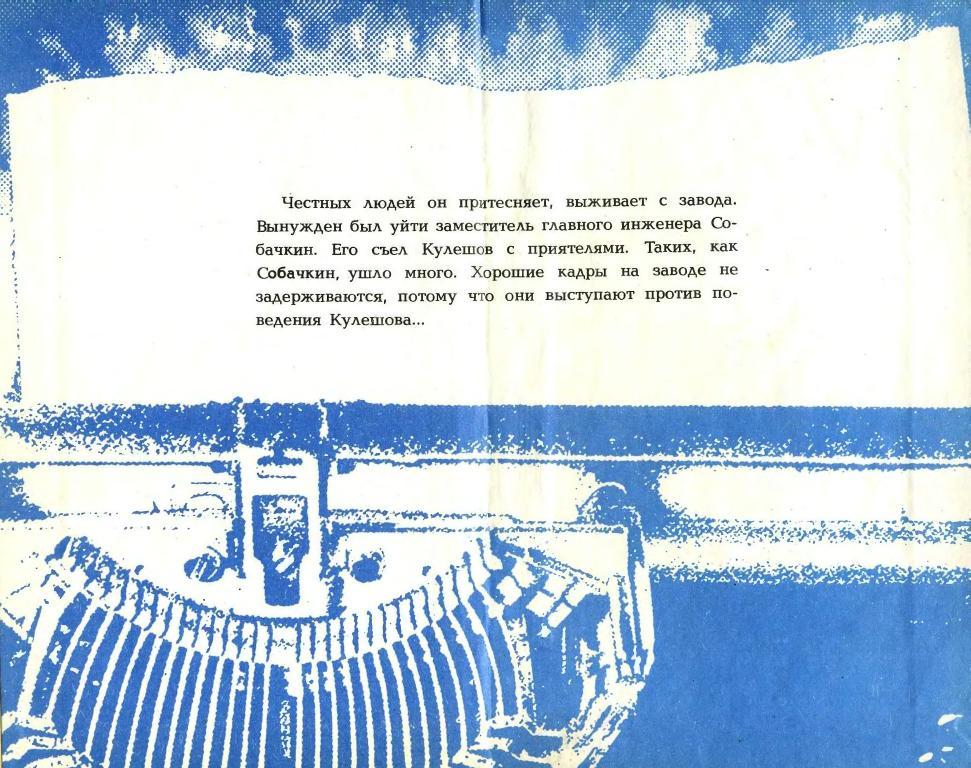Романов В
За всё платит форвард
Перед самым началом матча, когда футболисты московского «Полета» и барселонского «Эспаньола» выстроились в центральном круге, Лобов вдруг сообразил, что на этом стадионе «Сарриа» ему не довелось бы сыграть и семь лет назад, даже если бы нелепая травма в последней контрольной игре не вычеркнула его из заявки сборной. Он остался тогда дома, а сборная отправилась на чемпионат мира в Испанию и три встречи провела здесь, в Барселоне, но не на этом, чисто футбольном, стадионе без беговых дорожек, а на стотысячном «Ноу Камп».
— Здесь в 82-м играли итальянцы с бразильцами, и Марадону с этого поля удалили, — тихонько сказал Лобов стоявшему рядом Бондаренко.
— Ну и хрен с ними со всеми, — буркнул тот.
«Поделом тебе, Алексей Иваныч, — подумал Лобов, — кому нужна сейчас твоя лирика».
Пока судья бросал монетку и капитаны выбирали ворота, Лобов посматривал на бурлящие трибуны, где все проходы были забиты людьми. Ворота «Полета» оказались слева от центральной трибуны, а за левой трибуной вырастали жилые дома, и там на балконах люди тоже размахивали флагами «Эспаньола».
Прежде чем ввести мяч в игру, Лобов машинально глянул на табло, и ему показалось, что, дожидаясь свистка судьи, огромная красная стрелка набирает скорость. Быстро ли пролетит это время, эти девяносто минут? А что если понадобятся еще тридцать?
Дома «Полет» с «Эспаньолом» в первом четвертьфинальном матче Кубка УЕФА сыграл вничью — 1:1, впрочем, «домом» для «Полета» был тогда тбилисский стадион: в Москве в марте играть нельзя. А в Барселоне весна — словно наше лето.
— Классная поляна, — шепнул Лобов Бондаренко.
— Ну и хрен с ней, — услышал в ответ. — Чего ждешь-то?
И Лобов катнул мяч под ногу Бондаренко, тот отдал пас назад в среднюю линию. Игра началась...
В эти ворота у левой трибуны и были забиты за девяносто минут два гола. В первом тайме испанцы забили «Полету» с пенальти после того, как Кочнев сыграл рукой.
Лобов не мог ошибиться: стрелка на табло в это мгновение замерла, точно вслушиваясь в рев ошалевших от счастья трибун.
А во втором тайме в штрафной площадке «Эспаньола» ударом сзади по ногам сбили того же полузащитника Кочнева. В гнетущей тишине Бондаренко устанавливал мяч на одиннадцатиметровой отметке. Лобов подбежал к нему.
— Бей в левый! Справа он все тянет!
— Да пошел он!.. — рявкнул Бондаренко и с такой силой пробил в правый угол, что испанский вратарь, хоть и угадал, и бросился вправо, но не успел за мячом.
Грустный вздох стадиона, и спустя мгновение — нарастающий гул: «Эспаньол», «Эспаньол»!
Испанцы в ярости обрушились на ворота гостей, их штурм прервал лишь свисток арбитра. Основное время кончилось.
— Еще полчаса пахать! — недовольно проговорил Бондаренко, возвращаясь вместе с Лобовым в раздевалку.
Лежа на массажной скамье, отдавшись полностью на волю неистового в своем деле Стрелкова, Лобов улыбался. Стрелков недоуменно смотрел на него, но спросить не решился.
Оставалось десять минут до конца второй, дополнительной пятнадцатиминутки. Игра уже совсем разваливалась. Старший тренер «Полета» Сергей Николаевич Барсуков застыл с посеревшим лицом на скамейке запасных и лишь переводил взгляд то влево, то вправо: чтобы уследить за мячом, даже голову поворачивать не надо — обе команды чуть ли не в кучу сбились в центре поля, до штрафных площадей дело уже и не доходит.
Слева от Барсукова покачивался замначальника Управления футбола Веселов. Он вертелся из стороны в сторону, то бил себя руками по коленям, то хватался за голову. Справа от Барсукова невозмутимо застыл невысокий мускулистый Лопарев, второй тренер, бывший защитник «Полета». «Выноси, выноси», — то и дело шептал он. Массажист Стрелков кусал губы: он замер в какой-то неловкой позе, потому что одной рукой держался за ручку стоящего на траве «адидасовского» ящичка — массажист словно замер на старте, готовый рвануться на поле, на помощь кому-нибудь из ребят.
— Да что же это они делают! — не выдержав, вскрикнул врач команды Николай Максимович Гудовичев. — Мало им, что ли, пообещали? Те уже еле ползают! Такого шанса в жизни не будет!
Своим криком врач будто разбудил тренеров.
— Давай выпустим Назмутдинова, — сказал Лопарев Барсукову. Но слишком громко сказал — Веселов услышал.
— Вот именно! — вмешался тот. — Вместо Лобова! Он же совсем мышей не ловит!
Лобов действительно стоял в центральном круге, на своей половине поля, рядом с испанским защитником и давно уже не получал мяча. Он видел, как все устали, как вообще развалилась игра — у обеих команд. Ему казалось, что даже зрители устали — уже не рев доносился с трибун, а какой-то тяжелый хрип.
И Барсуков не сводил глаз с Лобова.
— Выпускай Назмутдинова, — процедил Барсуков Лопареву и, помедлив, добавил: — вместо Кочнева...
— О'кей! Лопарев вскочил и тотчас недоуменно взглянул на Барсукова, словно тот ошибся.
— Вместо Кочнева, — угрюмо повторил Барсуков.
— О'кей! — уже хмуро кивнул Лопарев и побежал к разминавшимся запасным.
Это правильное решение, пусть парень сыграет, а то зря везли, что ли! — тараторил Веселов. — Со свежими силами хоть побегает! Только надо было вместо Лобова, а?
Он уставился в лицо Барсукову, но тот ответил лишь гримасой, так раздражала его болтовня Веселова.
— Надо будет в Москве серьезный разговор провести, — не дождавшись ответа, продолжал Веселов. — Разболтались тут все, разве это игра! Стыд перед Европой! Конечно, «Эспаньол» не подарок! Но ведь и не «Реал», и не «Эйндховен»! Так повезло со жребием, и не проскочить! Сперва в Тбилиси опозорились. Ну, там ладно, мяч в ворота не лез! Но здесь-то... наоборот, подфартило, отыгрались, а ведь он мог пенальти и не дать! Они же все, эти судьи треклятые, всегда против нас! Ты посмотри, нет, ты посмотри, куда он свистит!..
— Да замолчите вы наконец! — не выдержал Барсуков. — Дайте игру досмотреть!
— Разве это игра! — обиженно буркнул Веселов, но все-таки умолк.
А на поле уже появился Назмутдинов и сразу рванулся к мячу.
Барсуков же следил за Лобовым. Тот тоже посмотрел в сторону
скамейки, и Барсуков жестом показал ему, чтобы сместился чуть влево. Но Лобов смотрел не на тренера. За скамейкой запасных, в пятом ряду сидела Кармен. Он отыскал ее, точно телеобъективом выхватил из толпы. Ему даже показалось, что она улыбнулась ему. Но, может быть, лишь показалось.
В этот момент Назмутдинов подхватил мяч, пробросил его себе же на ход по правому краю и помчался к воротам испанцев. Это все произошло перед самой скамейкой. Веселов не усидел, вскочил с криком: «Давай, Рашидик!»
Лобов тоже устремился вперед, по месту левого инсайда, он оказался, пожалуй, в той как раз зоне, куда жестом показывал Барсуков. «Все верно, верно», — прошептал Барсуков.
Назмутдинов обыграл еще одного защитника и навесил мяч в центр штрафной площадки. Лобов сыграл на опережение, оторвался от защитника и в падении головой послал мяч в нижний угол ворот. Да так и остался лежать на траве. Назмутдинов бросился на него, подбежали ребята и навалились кучей малой на них обоих.
Все вскочили со скамейки. Гудовичев обнимал Барсукова, Веселов целовал массажиста Стрелкова.
А позади скамейки, в пятом ряду центральной трибуны, застыли в горестном отчаянии лица испанских болельщиков. И среди них одно было счастливым. Радовалась, стараясь не очень выдать себя, Кармен.
Вечером после ужина все собрались в «люксе» Веселова. Бодрые, свежевыбритые (перед игрой-го почти все не брились, верили в приметы), в модных цивильных костюмах. На журнальном столике перед Веселовым были разложены конверты с деньгами. Похлопывая по ним рукой, Веселов держал «тронную речь».
—...А с критикой Сергея Николаевича я все же полностью согласиться не могу. В дополнительные полчаса можно было, конечно, сыграть и получше. Но, к примеру, наш центрфорвард Алексей Иванович Лобов правильно сделал, что сберег силы для решающего момента. И Бондаренко — молодец. Если бы он, к примеру, не забил пенальти, никакой тридцатиминутки вообще бы не было. Так что судить мы должны по результату. А результат в нашу пользу. Мы в полуфинале Кубка УЕФА. Пусть «Реал» или «Эйндховен» туда еще выйдут. А оба-то они не выйдут, раз друг с другом играют. Значит, кого-то из них мы уже обошли, значит, мы сильнее кого-то из них, верно говорю? — и, удовлетворенный собственной шуткой, Веселов заразительно засмеялся.
Поддержал его только врач Гудовичев. Остальные вежливо заулыбались. Назмутдинов наклонился к Бондаренко и тихо сказал:
— Хоть мы и сильнее кого-то из них, в полуфинале лучше бы попался кто-нибудь другой, там еще «Славия», «Тулуза», «Мальме»...
— Да пошли они все! — ответил Бондаренко.
—...Деньги я всем сейчас раздам, — посерьезнев, продолжал речь Веселов. — Премия — как договаривались. Распишетесь в самолете. Рашидик, ты о чем болтаешь? Вчера тебя не слышно, не видно, но сегодня ты имеешь право говорить! Сегодня ты стал мастером! К примеру, можно быть мастером спорта, но не быть мастером футбола. Верно говорю? Улетаем завтра, в 16.00 всем быть внизу. Автобус отходит в 16.15. Сегодня вечером и завтра, когда будете покупать... сувениры... верно говорю? — не забывайте о правилах поведения советского человека за рубежом. По одному не ходить, только группами по три человека, от гостиницы далеко не забредать...
Барсуков скосил взгляд на Лобова. Тот сидел нахмурившись, сосредоточенно о чем-то размышляя.
— Зря ты Лобова задел, — шепнул Барсукову Лопарев.
— Ничего. Он не мальчишка, должен понять.
Лобов посмотрел на часы и неожиданно поднялся.
— Можно выйти, Петр Ермолаич? — прервав Веселова, спросил он.
Веселов запнулся. Секунду подумав, но так и не поняв, зачем Лобову понадобилось выйти, Веселов пожал плечами.
— Выйди, Алексей Иваныч, — торжественно разрешил он.
Дверь за Лобовым плавно закрылась. Назмутдинов с завистью смотрел ему вслед.
Алексей прошел по коридору, по крутой лестнице, которой пользуются обычно служители, а не гости отеля, спустился на свой этаж, снова пошел по коридору и вдруг увидел, как в конце этого коридора из номера вышел широкоплечий незнакомец и, захлопнув дверь, быстрым шагом направился к покрытой ковром парадной лестнице. Удивленный,
Лобов остановился: все номера в этой части этажа занимали члены команды, которые сейчас находились в «люксе» Веселова. После секундного раздумья Алексей прошел мимо номера, из которого вышел незнакомец, потрогал ручку двери: она не поддалась. Кто из ребят живет здесь, он не помнил. И решительно устремился вслед за незнакомцем. Сбежав с третьего этажа в холл, Алексей увидел, как широкоплечий незнакомец уже проходит через крутящиеся двери отеля. Лобов выскочил на улицу. Незнакомец уже садился в черный «мерседес», и через несколько секунд автомобиль выехал на широкую улицу Диагональ, где находился их четырехзвездочный гранд-отель «Кристина», но тут же свернул вправо на площадь Пабло Неруды. Алексей успел запомнить номер машины — МС 32315.
На лифте Лобов поднялся на свой этаж и, проходя мимо номера, из которого вышел незнакомец, тронул ручку. Она поддалась, и Алексей вошел в комнату. Она была пуста. Из ванной доносился шум воды. Лобов приоткрыл дверь и увидел врача Гудовичева: голый по пояс, тот полоскал горло. Увидев Лобова, врач чуть не захлебнулся и проглотил полосканье.
— Ты что, Леша?! — сердито проговорил Гудовичев. — Стучаться надо!
Лобов растерянно посмотрел на врача.
— Собрание закончили? — спросил он.
— Закончили, — кивнул Гудовичев. — Как ты ушел, так сразу и закончили. Деньги раздали, и все. Твой конверт кто-то из ребят взял. Да разве ж это деньги?! За такой-то успех всего по двести зелененьких?! А доллар этот треклятый опять упал. В их песетах и то получше бы вышло. А ты чего выскочил? Снова желудком маешься?
Все еще растерянный, Лобов кивнул.
Гудовичев вышел из ванной й подошел к банкетке для багажа, на которой стоял его «адидасовский» ящичек с медикаментами. Вытащил таблетки, протянул Лобову.
— Вот держи, это закрепляет. А я горло лечу. Хватанул пивка из мини-бара, а там лед сплошной. И привет.
Лобов, держа таблетки в руке, однако не уходил.
— Ты чего?
— В вашем номере кто-то был, — нерешительно выдавил из себя Лобов. — Я шел по коридору, а он выскочил из вашего номера. Сел в черный «мерседес» и уехал. В руках у него ничего вроде не было, а номер машины я запомнил: МС 32315.
— МС 32315, — растерянно пробормотал Гудовичев.
— Посмотрите, может быть, что-то пропало?..
— Вот черт! — вздохнул Гудовичев, снова открыл ящичек с медикаментами. —Так и есть. Пропала одна упаковка. Что же делать?
— Наверное, надо вызвать полицию, —пожал плечами Лобов.
— Нет-нет, вряд ли стоит вызывать, — заторопился Гудовичев. — Видишь ли, эта упаковка., ну, то, что мы называем... для вас... витаминами. А это на самом-то деле... ну, как тебе сказать... стимуляторы, что ли. Их вообще-то не рекомендуют... запрещают, значит... как допинги...
— Разве с этим у нас не покончено? — усмехнулся Лобов.
— Не все же рассуждают как Грамов! —с нотой злости в голосе ответил Гудовичев. — А куда без них денешься? Растет класс команд, увеличивается, сам понимаешь, и напряг, пупки-то не у всех держат! А выигрывать надо во что бы то ни стало. Без них какого-нибудь Марадону и не сдержать!
— Не надо было их на виду держать! Что же делать?.. Может быть, полицию вызвать?
— Еще чего?! — возмутился Гудовичев. — Газеты тут же растрезвонят— русские играли на допинге! Надо было тебе догнать этого сукина сына и врезать ему как следует!
— Растерялся я, — вздохнул Лобов.
— Звезде советского футбола грешно теряться, — миролюбиво протянул Гудовичев, улыбнулся и положил руку на плечо Лобову.
Тот мягко отстранил Гудовичева, положил таблетки на ящичек с медикаментами и пошел к выходу.
— Чего ж ты таблетки не взял?
— У меня все в порядке, — не оборачиваясь, ответил Лобов.
В коридоре к Лобову подскочил Назмутдинов.
— Алексей Иваныч, вот твой конверт. Веселов велел еще передать, что завтра в десять утра пресс-конференция. Чтоб ты обязательно был. А уж потом — по магазинам... И еще, слушай, ты зелененьких не одолжишь? Видик хочу купить.
— Откуда у меня? Кроме этих, — Лобов помахал конвертом, — ничего нет. Сам бы у кого-нибудь одолжил.
— Как думаешь, у кого из наших можно стрельнуть? — спросил Рашид.
— В свое время я у Бондаренко одалживал.
Рашид помрачнел.
— Мне он не даст. Он со мной вообще через губу здоровается. Вообразил, что я на его место претендент. Может, ты спросишь?
Лобов взглянул на часы.
— Ладно, спрошу. В каком он?
— В 316-м, — подсказал Рашид.
Лобов прошел по коридору, остановился около 316-го, постучал. Ему никто не ответил. Он взялся за круглую ручку, дверь открылась. Когда Лобов вошел в комнату, Бондаренко, сидя на кровати, считал деньги. Увидев Лобова, тотчас накрыл их одеялом. Но Лобов успел заметить, что денег было много, пожалуй, слишком много, и все зелененькие, доллары.
— Разбогател ты, — усмехнулся Лобов.
— Ни хрена. Это не мои, — буркнул Бондаренко. — Отдавать приготовил. И стучаться надо, когда входишь.
— Я постучался, — грубо ответил Лобов. — У тебя ж музыка гремит. — Он повернул ручку радиоприемника у кровати и выключил его. — Тут Назмутдинов у меня денег попросил. Видик хочет купить...
— Я же сказал: не мои! У меня самого ни хрена нет, — отрезал Бондаренко.
— Тогда извини.
Лобов вышел в коридор. Назмутдинов поджидал его, беседуя с Олегом Знобишиным. Тот уже успел переодеться. Форменный синий пиджак сменил на свою любимую зелено-красную клетчатую куртку. Не дождавшись подходившего к ним Лобова, Знобишин хлопнул Рашида по плечу и ушел. Они с Лобовым друг друга явно недолюбливали. Рашид растерянно посмотрел вслед Олегу и спросил Лобова:
— Чего вы с ним-то не поделили, Алексей Иваныч?
— Советов я ему много давал — и не только на поле. А есть люди, которые терпеть не могут, когда им хорошие советы дают. Ладно, не бери в голову. У Бондаренко нет денег.
— Мне Олег обещал достать, — Рашид кивнул в ту сторону, куда ушел Знобишин.
— А у него-то откуда?
— Не знаю...
— Видать, к другим советам прислушивается, — Лобов задумчиво покачал головой.
Объехав по кругу площадь Каталонии, голубой «сеат» свернул на бульвар Рамблас и на узкой проезжей части снизил скорость. Ночная жизнь на бульваре уже била ключом. Кармен, глядя вперед—приходилось то и дело тормозить, медленно продвигаясь в хвосте машин, — продолжала рассказывать:
— Из Мадрида я приехала сюда вместе с Будинским. Ты его, наверное, не помнишь?! Муж Исабель. Но еще на стадионе он куда-то смылся. Исабель сейчас на седьмом месяце. Так что, вполне возможно, он где-нибудь здесь, — она показала рукой в сторону улочек, перпендикулярно отходивших от бульвара, — тут полно заведений, которые он не против посетить. И относительно недорого. А может, ты помнишь его? У нас он играл в водное поло за «Москвич».
— Смутно помню, — Алексей улыбнулся.
Кармен, заметив его улыбку, на мгновение задумалась и вдруг рассмеялась.
— Я поняла, чего ты улыбаешься. Я ведь снова сказала: у нас. Да, представь себе: оказалась как будто на родине, а про Союз говорю — у нас. А про свою родину, Испанию, — у них. Поначалу запиналась, пыталась привыкнуть, а потом решила — буду говорить так, как получается. Так ты помнишь его или нет?
— Наверно, не помню. Зато помню, что, когда Исабель устраивала свадьбу — кажется, в «Советской», мы с тобой поссорились и я на свадьбу не пошел.
— А на той свадьбе и решилась моя участь. Там я и познакомилась с Пабло, он ведь был кузеном Исабель. Разбился здесь, неподалеку от Барселоны, — она сжала губы. — Так что впервые я приезжала сюда за ним, а второй раз — вот теперь, повидаться с тобой...
Лобов не ответил. Он смотрел в окно, наблюдая за тем, как из театра выходила роскошно одетая публика — сразу было видно, что это не те, кто ночью гуляет по бульвару, — и рассаживалась по машинам. Их «сеат» стоял на месте.
— Теперь, пока они не разъедутся, мы вряд ли сможем двинуться дальше. Это известный театр. Называется, если сказать по-нашему, «Большой театр Лицея».
— А куда мы едем?
— Тут уже совсем близко. Я покажу тебе памятник Колумбу, а рядом модель его шхуны на воде. Днем туда можно даже подняться. Совсем дешево. А потом посидим на набережной Колумба в маленьком ресторанчике. Там бывают настоящие устрицы. Я же тебе еще дома обещала — помнишь, в день отъезда, — что, если приедешь в гости, угощу устрицами.
Она бросила на него озорной и одновременно нежный взгляд, сняла правую руку с руля и нашла его руку.
— Я так соскучилась по тебе, Лешенька! — прошептала она и, помолчав, добавила: —Лучше бы я, наверное, и не приезжала домой, потому что, вернувшись сюда, я поняла, что всегда любила только тебя и больше никого... никогда... Не надо, не надо... ничего не говори...
Свеча на столике, за которым они сидели, догорала, широкий плоский подсвечник уже оплыл воском. Кармен, положив подбородок на кулачки, не сводила с Алексея глаз. А он доедал, уставившись в тарелку с устрицами, с непривычки путая необычные приборы и соусницы. Когда он поднял на нее растерянный взгляд, Кармен рассмеялась.
— Мама тебе привет передала, горячий и пламенный. Спросила: он все такой же хулиган?! Я говорю: нет, мама, он стал робким и застенчивым. А она не верит. Помнит, как ты с крыши забрался ко мне в комнату и напугал ее, когда вышел на кухню!..
Неожиданно она погрустнела.
— Боже, одиннадцать лет прошло, столько у нас всего было, а я... встретила тебя в Москве... и так заколотилось сердце, что чуть в обморок не упала... я раньше и не знала, что такое обморок... как в тургеневских романах... чудом на ногах удержалась... Ты стоишь, улыбаешься, а я думаю: ну, все, это конец!.. Ты еще помнишь ту ночь?..
— Да... — прошептал Алексей. Он отодвинул тарелку. — Помнишь, как я в тебя влюбился в седьмом классе и всех подряд колотил, кто за тобой увязывался. А ты ничего и не замечала...
— Замечала...
Кармен достала из сумочки платочек и приложила к глазам.
— Меня приглашают на два года играть в «Барселоне». Не в «Эспаньол», а в саму «Барселону», понимаешь?
— Я знаю, — кивнула Кармен, — читала в газетах. И что... ты? Разрешат тебе?
— Вроде бы разрешают. И я... дал согласие. С первого августа.
— С первого августа... — шепотом повторила Кармен.
На глазах у нее появились слезы.
— Ну что ты?.. — он погладил ее по щеке.
— Извини, я стала такой плаксой... Раньше я считала себя сильной...
— Теперь сильным буду я, хорошо?.. — улыбнулся Лобов.
— Но если я без тебя не смогу, это же... катастрофа! — Кармен снова вытащила платочек из сумки, достала косметичку. — Извини!..
Кармен улыбалась сквозь слезы, пытаясь взять себя в руки и не плакать.
— Успокойся, катастрофы не будет! — неожиданно сказал Лобов.
— Правда?! — вспыхнула она.
Он кивнул, оглянулся. В ресторанчике народу было немного, кроме свечей на каждом столике, никакого освещения не было. И вдруг на другом краю зала Алексей увидел Знобишина: тот сидел к ним спиной, но его зелено-красную клетчатую куртку невозможно было не узнать.
— Кого ты увидел? — оглядываясь, спросила Кармен.
— Наш полузащитник. Вот тот, в клетчатой куртке.
— Странно, — пожала плечами Кармен. — Я была уверена, что здесь никого из ваших быть не может. Тут ведь недешево, а шика — музыки или программы, что ваши ребята обожают, — никакого.
— Самое странное, что недешево, — усмехнулся Алексей. — Какая же ты красивая у меня!
Машина стояла на причале с потушенными фарами. Они целовались, освещаемые то красным, то зеленым, то желтым светом рекламных огней с набережной Колумба. А высоко над ними стоял на колонне освещенный Колумб.
В небольшом зале гранд-отеля «Кристина» шла пресс-конференция. Вел ее Веселов. Рядом за столом сидели Барсуков, Лопарев, Лобов, Знобишин и Назмутдинов.
— Сеньор Лобов, — спросил корреспондент, — вам скоро исполнится тридцать лет, два года вам, очевидно, разрешат сыграть в «Барселоне». А потом, когда вернетесь, чем будете заниматься?
— Во-первых, я надеюсь так хорошо играть в «Барселоне», чтобы со мной захотели продлить контракт...
Журналисты приветливо, одобрительно зашумели.
— А во-вторых, я закончил институт физкультуры. Может быть, стану тренером, скорее всего в детской спортшколе. Или поступлю в аспирантуру. Честно говоря, об этом еще не думал.
— Скажите, вы считаете себя счастливым человеком? — этот вопрос задала молодая журналистка.
— Отчасти да, как и каждый, кому что-то удается в его деле, — улыбнулся Лобов. — Но счастье... это ведь не постоянное состояние человека. Сегодня я счастлив, а завтра... кто его знает... В жизни все переменчиво.
— Скажите, сеньор Лобов, сколько вы получили за вчерашнюю игру?
Лобов растерянно взглянул на Веселова.
— Господа! — вмешался Веселов. — Мы выдали каждому игроку по двести долларов. Вы же должны знать, что в европейских кубковых турнирах весь доход со сборов и от телетрансляций остается хозяевам. Во время чемпионатов мира или Европы наши игроки получают гораздо больше, но, конечно, основная сумма идет в распоряжение комитета на приобретение спортивного снаряжения по всем видам спорта, так что...
— Не кажется ли вам странным, сеньор Веселов, что ваш игрок, забивший решающий гол, благодаря которому ваша команда вышла в полуфинал Кубка УЕФА, получил в десять раз меньше, чем каждый игрок «Эспаньола» за ничью в первом матче?
— А не кажется ли вам, сеньоры, — вмешался Барсуков, — что, если бы игроки «Эспаньола» за ничью на нашем поле ничего не получили, а премию бы им пообещали по сумме двух матчей, то есть за выход в полуфинал, они вчера сражались бы с нами еще старательнее?
— Журналисты засмеялись.
— Вы забили еще один гол, сеньор Барсуков, — выкрикнула журналистка.
— К тому же учтите, — Веселов попытался вновь завладеть аудиторией, — что по возвращении домой наши игроки получат премию в рублях. А валюта нам необходима на коренное улучшение нашей материальной базы, которая нуждается...
— А что, «материальная база», — эти слова корреспондент выговорил по-русски, остальное, как прежде, перевел испанский переводчик- сеньора Лобова не нуждается в коренном улучшении?
В зале засмеялись.
— Ну, я этого не знаю, — заулыбался Веселов, — пусть Алексей сам ответит.
— Моя в коренном не нуждается, — сказал Лобов. — А в принципе я считаю, что вся система нашего материального поощрения нуждается в пересмотре. — Веселов мрачно посмотрел на Лобова, а тот продолжал:— Это относится не только к спортсменам, но к спортсменам в том числе. Он посмотрел на Веселова и сказал, как бы обращаясь к нему: — Раньше за такие слова я был бы, конечно, крепко наказан, может быть, даже не выехал бы на полуфинальный матч, но сейчас, — он обратился к журналистам, — вы знаете, в нашей стране идет перестройка — это слово и в переводе не нуждается, демократизация общества. Прислушиваются теперь ко всем, и к нам, спортсменам, тоже. У нас создан футбольный союз, который должен защищать и материальные права игроков. Так что, я уверен, система вознаграждения и вообще оплаты труда спортсменов будет пересмотрена!..
Назмутдинов и Лобов шли по улочке, перпендикулярной бульвару Рамблас.
— Ну, ты молодец! — твердил Рашид. — Все правильно! А то пашешь, как раб на плантации, а потом ходишь копейки сшибаешь! Стыдоба!.. Да-а! А чего это Барсуков на тебя перед завтраком орал?
— Пришел я под утро...
— А где ж ты был? — удивился Рашид.
— Там меня давно нет!
— Вон этот! — Рашид показал на вывеску магазинчика электроники и ускорил шаг, чуть ли не пробежал последние двадцать метров.
В отделе видеомагнитофонов Рашид рассматривал «Панасоник».
— Японские мне больше нравятся, чем «Грюндиг» и «Саба», а тебе?
— Бери, раз нравится, — ответил Лобов. — А я пацану маленький с наушниками куплю. Ты деньги-то где достал?..
— Свет не без добрых людей! весело отозвался Рашид.
Они вышли из магазинчика с коробками в руках. И тут же мимо них проехал черный «мерседес». Лобов узнал номер — МС 32315. Заднее стекло было темным, и никого в салоне разглядеть не удалось. «Мерседес» свернул на Рамблас.
Лобов укладывал вещи в своем номере, когда зазвонил телефон.
— Я уже в Мадриде, — кричала в трубку Кармен. — Звоню из аэропорта. Домой не могу ехать, все время плачу, звоню тебе, а тебя нет, чуть с ума не сошла, думала, вы уже уехали!
— Сперва пресс-конференция была, потом ходил по магазинам, детям тут кое-что приобрел...
— А результаты знаешь? «Реал» у «Эйндховена» выиграл, а еще вышли «Тулуза» и «Мальме». Молю бога, чтобы завтра по жребию вам выпал «Реал» и ты бы приехал в Мадрид! Я с ума схожу, милый ты мой!
— Не надо с ума сходить, ласточка! Все будет хорошо. Ты слышишь?!
— Я слышу!..
В номер заглянул Лопарев.
— Срочно зайди в номер Веселова!
Лобов кивнул.
— Тут меня уже зовут, — сказал он в трубку. — Крепко-крепко тебя целую. До встречи. И помни главное: все будет хорошо! Ты слышишь?
— Я слышу! Все будет хорошо! Целую тебя! Пока, — Кармен первая положила трубку.
У двери в номер Веселова Лобова ждал Назмутдинов. Они вошли вместе и... обомлели: в номере сидели двое полицейских, переводчик, продавец, у которого они покупали аппаратуру, и хозяин этого магазина. Продавец поднялся и сказал:
— Это они!
— Вы описали их, мы их и позвали, — строго произнес Веселов. И обратился к ребятам: — После того, как вы расплатились и ушли, хозяин магазина обнаружил среди ваших купюр две фальшивые банкноты по двадцать долларов. Что скажете?
Рашид побледнел, взглянул на Лобова.
— Мы деньги у вас... вы ведь нам деньги дали... — бормотал Рашид, глядя то на Веселова, то на Лобова.
— Все деньги, которые я выдавал команде, получены из нашего банка. Тут ошибки быть не может. Либо вы где-то еще взяли деньги, либо разменивали где-то купюры. Тогда — где? Инспектору это надо знать! Я уверен, инспектор, что это недоразумение.
— Я никуда не ходил... — прошептал Рашид.
— В бар-то же вы все спускались! — рассердился Веселов.
— Я только посмотреть и воды попил, на мелочь...
— Наверное, это ко мне попали, — сказал Лобов. — Я вчера вечером гулял по набережной Колумба и заходил там в разные ресторанчики. Где-то разменял сотенную, там, наверное, и подсунули!..
— В каком ресторане, не помните? — спросил тот полицейский, которого Веселов называл инспектором.
— Нет, не помню. Но гулял только от памятника Колумба до площади Антонио Лопеса.
Инспектор записал.
— Мы возвращаем вам деньги, — Веселов протянул продавцу две двадцатидолларовые купюры.
Продавец посмотрел их на свет и удовлетворенно кивнул головой.
— Это, конечно, недоразумение, с улыбкой сказал Веселов инспектору. — Ребята у нас честные, но неопытные в таких делах. Им могут что угодно подсунуть. — Переводчик переводил, инспектор кивал головой.
— А эти, — он взял с журнального столика фальшивые, — я оставлю у себя. Работа тонкая, но мы тоже умеем кое-что. Извините за беспокойство.
Испанцы ушли. Улыбка тотчас сползла с лица Веселова.
— Какого черта ты шляешься ночью по кабакам?! — рявкнул он на Лобова. — Я же приказывал: из отеля не отлучаться. А Барсуков знает?
— Знает, — усмехнулся Лобов.
— Чего же он не пришел? — спросил Веселов Лопарева.
— Я его звал, но они с доктором заняты: укладываются, — робко ответил Лопарев.
— Ну и порядки у вас в команде! — вскипел Веселов. — А с тебя мы эти денежки вычтем, сейчас-то уж небось все потратил?
— Конечно, потратил, — улыбнулся Лобов. — Но вы не беспокойтесь, в Москве я вам сорок долларов достану. Отчет у вас будет в полном ажуре. Пошли, Рашид...
В Шереметьеве команду встречали представители Госкомспорта, работники Управления футбола, жены тренеров и игроков, размалеванные девицы с цветами.
Первым уехал врач Гудовичев. Он обычно оставлял свою машину на стоянке аэропорта. Когда толпа, окружавшая футболистов, выплыла через самооткрывающиеся двери здания на площадку, где стоял автобус с большими красно-синими буквами «Полет», Гудовичев помахал всем рукой и поспешил к своей машине. Веселов и Барсуков не ответили ему, мрачные, насупившиеся, они первыми уселись в автобус. К собственным машинам, на которых приехали с друзьями жены и подружки, направились и некоторые футболисты. В том числе — и Назмутдинов. Уходя, он кивнул Лобову и убежал, не дожидаясь ответного кивка.
Лобова никто не встречал. К нему привязался работник Управления футбола Федюнин.
— Ты знаешь, «Реал» разделал «Эйндховен» под орех. В программе «Время» показали голы. Эти испанцы на чужом поле забили три таких красавца — закачаешься. Но и твой гол — не хуже. Теперь мы такой контракт за тебя составим! «Барселона» на все согласится! Ты-то как? Не передумал? Тебе тоже прилично перепадет. Ты жену-то собираешься с собой взять? Я бы лично не советовал. Больше сколотишь, если один поедешь. Да и детей лучше с мамой оставить. Тебе же спокойней будет. А?
— До лета еще дожить надо, — вяло ответил Лобов.
Они подошли к автобусу как раз тогда, когда Веселов и Барсуков поднимались по ступеньке.
— А чего эти-то такие мрачные? — наклонившись к Лобову, спросил Федюнин.
— Хрен их знает! — неожиданно раздался у них над головой голос Бондаренко.
— Тише ты! — вздрогнул Федюнин и пальцем погрозил Бондаренко. Тот нагло засмеялся и, опередив Федюнина и Лобова, шагнул на ступеньку.
Лобов поднялся последним и сел на крутящееся кресло рядом с водителем. Тут хоть можно помолчать в дороге, рядом никто не сядет.
Юра и Машенька Лобовы уже щеголяли в испанских нарядах — «варенках», рубашках и курточках, — когда вернулась с работы нагруженная сумками Вера, жена Алексея.
— Что так поздно? — беря у нее сумки, спросил Лобов.
— Да-а... профсоюзное собрание. Затеяли свару, директор их, видите ли, не устраивает. Потому что работы требует. У нас ведь теперь демократия, гласность— вот все бездельники рты и пораскрывали.
— Может, не только бездельники? — улыбнулся Лобов.
— Тем, кто вкалывает, болтать на собраниях некогда. Я так и сказала. Вот и мне досталось — как пособнице директора! Нахлебалась, в общем, грязи!..
— Мама, я тореро! — выскочил в прихожую двенадцатилетний Юра с пиками наперевес. — Защищайся!..
— Нет уж, ты защищайся! Расскажи отцу, как вы устроили обструкцию учительнице литературы!
Раздался женский визг. По видику шел американский фильм, и Маша снова уткнулась в экран. Там один из злодеев крушил топором головы. Кровь лилась рекой.
— Опять ужасы! — возмутилась Вера. — Ты бы хоть запретил им эту чушь смотреть!.. Ну, рассказывай, рассказывай про вашу забастовку!..
— А чего рассказывать?! — хмуро огрызнулся Юра.
Он убавил звук фильма. Лицо убийцы с топором крупным планом возникло на экране.
— Они правы, мама, — оторвавшись от фильма, проговорила Машенька, которая была на год младше брата. — Их учительница стала ругать Хармса, Ивана Торопыжкина и Иван Иваныча Самоварова, говорит, ерундовые стихи, что они ничему не учат!..
— Наша литераторша — из эпохи застоя! изрек Юра.
— Вот-вот! Слышишь, что они говорят?! Литераторша им не нравится! Всем классом подписали письмо директору с просьбой ее заменить, устроили стоячую забастовку. Директор, естественно, возмутился, провел с ними беседу. А они ни в какую! Стали ее уроки прогуливать! А у литераторши этой отец чуть ли не секретарь нашего райкома.
— Он завотделом, — уточнил Юра.
— Ну и что? Пусть завотделом! Математика тебе тоже не нравится? Поэтому троек нахватал?
— Не-ет, там совсем другое дело. Там у нее просто требования очень высокие, и я пока не соответствую. Скоро буду соответствовать, и троек не станет.
— Вот-вот, слышишь? У них на все ответ найдется! Соответствую — не соответствую! Учил бы уроки подольше — тогда бы соответствовал! Я этого Хармса, между прочим, почитала — ничего, честно говоря, не поняла! Мало, что ли, других поэтов? И почему надо обязательно спорить? Она так считает, вам-то что? Пусть себе считает! А вы считайте по-своему, но молчите!
— Она же нас пытается переделать! возмутился Юра. — Впихивает в нас и заставляет наизусть заучивать свои реакционные идеи!..
— Ты слышишь, что он говорит?! — возмутилась жена.
— Ничего страшного, Вера, он не говорит. Почему действительно они должны молчать?! Пусть спорят! Я в этом ничего плохого не вижу. Мы только сейчас начинаем этому учиться, а они — пусть с детства...
— Та-ак!.. — Вера выдержала гробовую паузу. — По-твоему, получается: он прав, а я — как всегда, дура?!
— Да. Получается, что он прав. Но дурой тебя никто не считает, — вскипел Лобов. — Успокойся, Вера, приди в себя. Ты взвинчена своим собранием и поневоле разряжаешься на нас. Пошли, я тебе платье привез. Шубы там дорогие, дороже, чем у нас, поэтому купим здесь.
— Вот платье, мамочка! — Это Машенька уже успела выбежать из кухни и вернулась с платьем на вытянутых руках.
— Вера осмотрела платье, смахнула ниточку, прикинула на себя.
— Кто же тебе его выбирал? — не без напряжения спросила она.
— А как ты догадалась, что кто-то выбирал?! — усмехнулся Лобов.
— Догадаться нетрудно, — без тени сомнений проговорила Вера.
Они лежали в постели, когда Вера спросила:
— Ты встречался с ней?
— С кем?
— Не задавай глупых вопросов! С Кармен, конечно!..
Лобов не ответил. Вера снова уткнулась в книгу, но спустя несколько секунд обронила:
— Платье это можешь отнести в комиссионку или дари кому хочешь. Я его не надену!
Вся команда смотрела записанный на пленку матч «Эйндховен» «Реал».
— Проклятый жребий! — вздохнул Лопарев. — Ну, попались бы нам шведы или французы, так нет — опять эти чертовы испанцы!..
— Не ной! — оборвал его Барсуков. — Зато мы к их манере уже привыкли. Верно, ребята?
Но никто не отозвался. Лишь врач Гудовичев проронил:
— Носятся, как скаженные. Не иначе — наглотались или кольнулись.
Барсуков обернулся, срезал врача взглядом.
В этот момент Лобова попросили выйти в коридор. Перед ним стоял невысокий крепкий толстяк с приветливым лицом.
— Алексей Иванович? — вежливо осведомился он.
— Да.
— Вершинин Семен Петрович, следователь, — представился толстяк. — Мне бы поговорить с вами.
— Давайте через час. Матч хочу досмотреть. Мы ведь с «Реалом» попали... — кивнул Лобов на дверь, из-за которой доносился рев трибун.
— Это матч «Эйндховена» с «Реалом»?! — оживился Вершинин, заглядывая в щель двери.
— Да.
— А мне можно? — робко спросил он.
— Пожалуйста... — Лобов пожал плечами.
Они вернулись в зал как раз тогда, когда испанцы забили второй гол в ворота «Эйндховена». Лобов припал к экрану и на какое-то время забыл обо всем.
Потом они с Вершининым не спеша шли вдоль тренировочного поля.
Не понимаю, что тут такого страшного?! Вполне могут и вам на Центральном рынке дать сдачу фальшивыми деньгами. Вы что, каждую бумажку специально разглядываете? Я, например, просто кладу в карман, — Лобов говорил спокойно, с улыбкой, но был настороже — это чувствовалось.
— Безусловно, — охотно соглашался Вершинин, — все так и могло быть. Мне ведь только важно все проверить и доложить, — круглое лицо следователя сияло от удовольствия, что он беседует с известным футболистом и тот охотно готов обо всем рассказать.
Лобов с усмешкой разглядывал толстячка следователя: откуда такого откопали?!
— А гол, который вы забили, — потрясающий! — вдруг с жаром сказал Вершинин. — Вы знаете: я коллекционирую голы! Ради этого даже купил видеомагнитофон. Разные фильмы меня не интересуют. А голов уже записал около тысячи! Был бы я литератором — написал бы книгу о голах! Не хотите мою коллекцию посмотреть?
— Спасибо, с удовольствием. Как-нибудь при случае.
— Да-да-да! — тараторил Вершинин. — Итак, в ресторанчике на набережной вы чем расплачивались? Долларами?
— В каком ресторанчике? — удивился Лобов.
— Как в каком? — еще больше удивился Вершинин. — Вы же сами говорили испанскому инспектору, что на набережной заходили в разные ресторанчики. А он потом установил, что вы ужинали в ресторанчике «Шхуна Колумба». Кажется, так? Или «Шхуна «Мария», может быть, я запамятовал ?
— Да... — пробормотал Лобов.
— Но ведь там расплачивались, наверное, не вы? хитровато улыбался Вершинин. — Кармен расплачивалась, не так ли? Вы, конечно, сопротивлялись, но она настояла. Разве не так?
— Да... — выдавил из себя Лобов.
— Вам дали, как утверждает Веселов, две купюры по сто долларов. Значит, в магазине вы расплачивались сотенной купюрой. Ведь так?
— Да, — пробормотал Лобов.
— А теперь главный вопросик, на который я хочу услышать честный ответ: почему вы взяли вину на себя?
— Вину?! — не понял Лобов.
— Ну, просто будем выражаться так, будем выражаться так, — снова затараторил Вершинин, проявляя неукротимую прыть. — Я согласен, что вы можете не знать, чем отличаются фальшивые доллары от настоящих. Но ведь вы же знаете, что платили сотенной купюрой, а не двадцатидолларовой. Потому и спрашиваю, почему вы взяли это на себя?
— Да ведь тут все ясно, — вздохнул Лобов. — Вы бы посмотрели на Назмутдинова! Парень впервые выехал за рубеж. Он ведь у нас новичок. Перепугался насмерть. И правильно, что перепугался. У нас так запугивают заграницей... Его запросто могли в следующий раз вообще не выпустить. Ну а мне, как говорится, терять нечего...
— Значит, вы так подумали? — серьезно спросил Вершинин. — Назмутдинов, выходит, испугался, потому что у нас запугивают заграницей, да? А вам уже ничего не страшно?
— А чего мне бояться?.. — пожал плечами Лобов. — Меня пожурят, сделают внушение...
— А он ведь не испугался, хоть и такой запуганный, достать деньги и покупок сделать долларов на семьсот. Вы не подумали о том, где достал их Назмутдинов? Пятьсот долларов на дороге не валяются.
— Не знаю, Семен Петрович. А вы у него-то спрашивали?
Рашид Назмутдинов лишь с нынешнего сезона начал играть в «Полете», и поэтому собственной квартиры у него еще не было. Занимал он меньшую комнату в двухкомнатной квартире, которая называлась общежитием: в большей комнате жили два хоккеиста, не отличавшиеся, к слову, примерным поведением, отношения с ними у Рашида не складывались, и он был доволен, что футбольный и хоккейный календари не совпадали и что с соседями приходится встречаться крайне редко.
Вот и сегодня Рашид в одиночестве коротал время, осваивая новый «Панасоник». Когда раздался звонок в дверь, на телеэкране снова сражались «Эйндховен» и «Реал». Рашид открыл дверь: на пороге стоял Вершинин. Из прихожей следователь увидел, как мяч влетает в ворота голландцев.
— Потрясающе! — Вершинин, не дожидаясь приглашения, вошел в комнату, подвинул стул поближе к телевизору, поставил рядом портфель и уткнулся в экран.
Рашид недоуменно смотрел на гостя.
— Извините, вы к кому?
— Ах, я же вам не представился, — приподнимаясь, расплылся в улыбке Вершинин. — Семен Петрович Вершинин, так меня зовут. Следователь. Пятьсот с хвостиком? — Он кивнул на «Панасоник».
— Примерно, — озабоченно, без всякого удовольствия ответил Рашид.
— А давали всем по двести! — все с той же широкой улыбкой заметил Вершинин. — У кого попросили остальные денежки? Сознавайтесь, сознавайтесь, в ваших же интересах!..
— А в чем, собственно, дело?! — не понял Рашид.
— Да вот эти фальшивые купюры не дают нам покоя, уважаемый Рашид Исмаилович! Н-да-с!..
— Так ведь Лобов сознался, это его были, я-то тут при чем?!
— Сознался?!- повторил Вершинин уже без улыбки. — Это, увы, не аргумент! Итак, где и у кого вы заняли пятьсот долларов?
Рашид растерянно смотрел на Вершинина.
— Ну что? Будем молчать или... сознаваться? — Вершинин снова улыбнулся.
— Это мое дело! — отрезал Рашид.
Вершинин с сомнением покачал головой. На экране возникла острая ситуация, и он вновь прильнул к телевизору.
— Ладно, не хотите здесь отвечать, — вздохнул Вершинин, не отрываясь от экрана, — я вам выпишу повестку, завтра придете ко мне на службу, там и поговорим.
Все еще не отрываясь от экрана, он протянул руку к портфелю.
— Зачем же? Не надо. Давайте здесь, — испугался Рашид.
— Но вы же не хотите говорить?! — усмехнулся Вершинин, косясь на экран.
— Потому что не понимаю, при чем здесь я! — побледнев, заговорил Рашид. — У Лобова эти фальшивки оказались! У Лобова! А я ведь ни при чем! — выкрикнул он.
Теперь Вершинин жестко, внимательно посмотрел ему в лицо.
— Вы подумайте хорошенько обо всем, а завтра придете ко мне, —
Вершинин снова протянул руку к портфелю.
— Нет, не надо, — оборвал его Рашид. — Деньги я занял у Бондаренко! Сначала мне пообещал Знобишин достать, а потом подошел Бондаренко и спросил: на хрена тебе надо и сколько? Я говорю: хочу видик купить, а сколько можно? Он говорит: сколько угодно, но условие такое — один к пяти. Я сперва не хотел брать, дорого вроде, а потом подумал, на видике неплохо получается, он ведь у нас с телевизором и за восемь уйти может, вот и согласился...
— Значит, вы должны Бондаренко две с половиной тысячи?
— Да... — кивнул Рашид. — Он уже подходил, спрашивал, когда отдам.
— В тех долларах были купюры по двадцать? — спросил Вершинин.
— Не помню... Да, были... Кажется, были... Я пересчитал, было ровно пятьсот, а купюры разные... Не помню...
— Ладно, до свидания. Если понадобитесь, вызовем, — сурово сказал Вершинин. — О нашем разговоре — никому! Поняли?!
— Да, — прошептал Рашид.
Проводив Вершинина, он уселся в кресло перед телевизором. «Эйн- дховен» наступал, но каждая контратака «Реала» таила в себе угрозу. Испанцы забили третий гол, Рашид не реагировал, он тупо смотрел на экран, уставившись в одну точку.
Снова раздался звонок в дверь. Рашид вздрогнул, пошел открывать.
На пороге стояли два крепких плечистых парня. Высокого звали Актер, крепыша — Бегунок.
— Привет, Рашид, мы от Барсукова! Давай зайдем! — скривив губы в усмешке, проговорил один из них.
Рашид, помедлив, пропустил их в комнату. Они вошли. Бегунок встал у двери.
— Что, раскололся, падла? — процедил Актер. Скуластое лицо, нос перебит, с горбинкой, глаза холодные, злые, руки в перчатках с шипами. Рашид перевел взгляд на крепыша, руки у того в таких же перчатках.
— Не понимаю... — пробормотал Рашид.
Актер приставил к горлу Рашида нож.
— Ты сказал ему, кто тебе дал деньги? Двинешься — прошью! — предупредил он. — Отвечай: да или нет? Ну?! Ну?! — Актер надавил ножом, и струйка крови поползла к шее.
— Да... — прохрипел Рашид.
Бандит убрал нож. С презрением посмотрел на Рашида.
— Тебя же предупреждали, скотина! — прошипел Бегунок.
— Нет, — крикнул Рашид, — не предупреждали, ничего не говорили, сказали только — что один к пяти.
— Хватит скулить, — оборвал Актер, пряча нож. — Запомни, если этот мент узнает, что мы приходили, я тебя собственными руками разрежу на кусочки и собакам скормлю! Схватил?!
— Да! — вытирая кровь, с готовностью согласился Рашид.
— Хорошенько зацементируй! — прошипел Бегунок.
Они ушли. Сбегая по лестнице, Актер спросил не без довольства:
— Ну как исполнено?
— Видишь ли, Актер, — ответил, снимая перчатки, Бегунок, — побольше достоинства и строгости, жесты должны быть скупее, особенно когда достаешь и прячешь нож. Этот, конечно, не просек, но все равно надо тоньше, понимаешь, мой милый?!
Тренировка подходила к концу, но все же еще не окончилась, когда Лобов, резко повернувшись, направился в раздевалку. — В чем дело, Лобов? — крикнул Барсуков.
— Устал! — не оглядываясь, бросил Лобов.
— Я приказываю тебе вернуться! — У Барсукова от гнева исказилось лицо. — Немедленно вернись! Лобов!
Лобов даже не оглянулся, уходя с поля.
У ворот стадиона Лобов столкнулся с Вершининым.
— А я вас поджидаю, Алексей Иваныч! — радостно улыбался Вершинин. — Хотите, подвезу?! — Он кивнул на стоящие неподалеку «Жигули». — А где ваша «четверка»?
Лобов удивленно посмотрел на Вершинина.
— Откуда знаю?- сиял Вершинин. — О своих кумирах болельщики знают все! — садясь в машину, уже без умолку говорил он. — А вы — мой кумир! — Когда Лобов, забросив адидасовскую сумку на заднее сиденье, сел рядом, Вершинин безо всякого перехода сказал: — А деньги Назмутдинову дал Бондаренко!..
— Вот как?! - удивился Лобов. — Когда я попросил, он отказал...
— Вы что, тоже просили у него? — трогая машину с места, спросил Вершинин.
— Да, для Рашида...
— Откуда же у Бондаренко столько валюты? Сам купил долларов на семьсот барахла, Рашиду пятьсот отвалил... Уже тысяча набирается... — вздохнул Вершинин. — Откуда?!
— Это вообще больной вопрос, Семен Петрович, — махнул рукой Лобов. — Иностранцам за победу над нами всегда заплатят в несколько раз больше, чем нам, — даже если наши рубли пересчитывать по курсу. На коммерческих турнирах вообще чуть ли не все деньги отбирают. После чемпионата Европы в ФРГ наши ребята получили, правда, приличные деньги—впервые в жизни, кстати. Я уже лет десять участвую в международных матчах, а в сборную как раз и не попал, чтоб заработать напоследок. Но не во мне дело, конечно. Я-то не жалуюсь, тем более — в «Барселону» вроде отпускают. Но раньше вообще смех: получали гроши — если там кормят, значит, называлось — на тридцать процентов едем, на кока-колу едва хватало. Хоть, как турист, консервы с собой бери, но на консервах многого не наиграешь. А то еще витаминами так называемыми пичкали. Допингами. Победа любой ценой! Сейчас как будто запретили, но втихаря продолжается, — Лобов несколько секунд помолчал. — Впервые я с Барсуковым повздорил, когда отказался эти витамины потреблять. Посмотрел, как у нашего знаменитого гребца ребенок ненормальный родился, а у штангиста одного вообще трагедия с этим делом... Словом, отказался. Он стерпел. А если б выгнал меня?! С нуля жизнь начинать?! Поэтому ребята и фарцуют, и химичат, и доллары достают! Не их надо ловить, а всю нашу систему спортивную менять! Си-сте-му! И платить сколько зарабатываем!
Вершинин внимательно посмотрел на него.
— Раз уж такой разговор зашел, Алексей Иваныч, то и я вас спросить хочу. Разве плохо у нас спортсмены живут? Квартиры хорошие, машины почти у всех, заработки — в рублях по крайней мере — приличные. А вы не задумывались о людях других профессий? Я ведь тоже получаю раз в десять меньше, чем, скажем, тот испанский инспектор, да и любой другой западный сыщик моей квалификации. А журналисты наши? Спортивные хотя бы! Или инженеры? По сравнению с западными коллегами, а?
— Могу возразить, Семен Петрович. Потому что не раз думал об этом. Есть правда в ваших словах, не спорю. Но ведь инженер наш или журналист лицом к лицу с западными коллегами не соперничают, встык не идут — плечо в плечо, по ногам друг друга не бьют, и от того, победят в очной схватке или нет, их здоровье, судьба и жизнь не зависят. Могу и еще кое-что вам возразить, да стоит ли. Говорю ведь только про спортивную нашу систему, а уже остальное, наверное, можно и без совета с футболистами решать, а?
— Решим, конечно решим, — усмехнулся Вершинин. — Потруднее это решить, чем с Госкомспортом разобраться — что верно, то верно. Но решим. Только в данной, конкретной ситуации все посложнее, чем вы думаете, — Вершинин тоже помолчал несколько секунд. — Этим делом уже давно Интерпол занимается. Года три назад стали появляться фальшивые купюры в Европе, причем доллары и в самых разных странах... Так вот, те и эти доллары, что обнаружены у Назмутдинова, вышли из-под одного станочка. И сейчас важно установить, как они попали к Бондаренко. Он на тренировке был?
— Конечно, — ответил Лобов.
— Может быть, и ему подсунули, все бывает. Фарцовкой он давно занимается, это известно, а вот... — Вершинин не договорил, умолк. — Куда вас, Алексей Иваныч?
— Мне к Центральному телеграфу, — попросил Лобов.
В кабине для международных переговоров было душно. Алексей взмок еще и от того, что слышно плохо и надо кричать в трубку. Слышал он только одно слово Кармен: «Лешенька, Лешенька!..» А сам кричал и никак не мог докричаться.
— Я завтра позвоню! Слышишь, позвоню завтра!
— Лешенька! Я тебя не слышу! — кричала Кармен. — Лешенька!..
— Але! Але!
— Лешенька!..
Он повесил трубку и несколько секунд стоял у аппарата, пока в стекло кабины не постучали.
Проходя через зал, сквозь людской поток, Лобов вдруг услышал знакомый голос и обернулся. Спиной к нему, в такой же кабинке для международных переговоров, стоял Знобишин в неизменной зелено-красной клетчатой куртке. Ему тоже приходилось говорить громко, но говорил он по-английски — его рокочущий баритон доносился едва ли не до середины зала. Лобов в растерянности постоял несколько секунд, потом его толкнули, и пришлось выбираться из зала.
Выйдя на улицу, он сразу увидел вишневые «Жигули» Знобишина. Неожиданно подъехало такси, остановилось перед Лобовым, из такси вылез толстяк, и шофер, опуская козырек, раздраженно бросил: «В парк!» Лобов медлил: то ли пройти мимо, то ли спросить шофера, не по пути ли парк. Он растерянно стоял, держась за дверцу, пока не выглянул шофер.
— Ты оглох, что ли?! — выкрикнул шофер, но, узнав Лобова, расплылся в улыбке. — Алексей Лобов?! Садись!
Лобов сел и, захлопнув дверцу, заметил Знобишина, спешащего к своим «Жигулям».
— Куда прикажешь? — спросил, все еще улыбаясь, шофер.
— Если можно, вон за теми «Жигулями». Это парень из нашей команды. Олег Знобишин.
— Точно! — приглядевшись, радостно подтвердил шофер. — У вас с ним здорово все ладится! Гол ты в Испании забил потрясающий! Даже жена с сыном обалдели! Можно я им от тебя привет передам?
— Передайте, — кивнул Лобов.
Знобишин свернул на улицу Герцена, поднялся до Никитских ворот, миновал один светофор, а на втором свернул налево на улицу Палиашвили.
— В нашу стекляшку, смотри-ка... — удивился шофер, сворачивая вслед за «Жигулями».
Когда они подъехали, Знобишин уже выходил из машины.
— Чуть дальше проедем, — попросил Лобов, — и я выйду.
Такси остановилось. Лобов расплатился.
— Так я скажу, что мы познакомились? — спросил шофер.
— Конечно, и привет передайте.
Подойдя поближе к кафе, Лобов через стеклянную стену увидел Бондаренко. С ним за столиком уже сидел Знобишин. Бондаренко ел, а Знобишин что-то объяснял, разводя руками. Потом Знобишин вытащил из кармана пакет, передал Бондаренко.
На другой стороне улицы, чуть заехав на тротуар, стояли серые «Жигули». В машине сидели Актер и Бегунок.
— Ну-ка, Актер, посмотри, — хрипло проговорил Бегунок.
— Это еще кто такой? — прильнув к стеклу, удивился Актер.
— Лобов, — ответил Бегунок.
— Наш любимый форвард?! — пропел Актер. — Как он внимательно наблюдает за моим подопечным! К чему бы это?
Лобов будто почувствовал на себе эти взгляды, обернулся и внимательно посмотрел на серые «Жигули». Актер даже отпрянул от окна. Но Лобов отвернулся и вновь стал наблюдать за своими одноклубниками.
— Кажется, этот форвард засек нас, — промычал Актер. — Давай отъедем, подождем на углу Герцена.
— Тихо! — оборвал Актера Бегунок.
Из кафе вышел Знобишин, сел в свои «Жигули» и уехал. Лобов снова обернулся в сторону серых «Жигулей», взглянул на номер — Т16-16ММ.
— Он засек и номер! — хмыкнул Актер.
— Ну и отлично! — откликнулся довольный Бегунок.
Вышел Бондаренко. Не спеша подошел к своей белой «Волге», медленно открыл дверцу, уселся за руль и так же медленно поехал в сторону улицы Герцена. За ним тронулись и серые «Жигули».
Лобов смотрел им вслед. Кто-то тронул его за плечо. Лобов вздрогнул, побледнел, обернулся. Перед ним стоял пожилой грузин в кепке.
— Извини, дара-гой. Не подскажешь, как пройти к гастроному «Арбат»? — вытирая лицо платком, спросил грузин.
— Эту кассету мне дали, чтоб познакомиться с «Барселоной», — сказал Алексей сыну, включая видеомагнитофон. — Видишь, Юрок, это наши знакомые из «Эспальола», а вот эти — барселонцы, мои будущие партнеры. Так что — изучай!
— А ты не будешь? — спросил Юра.
— Да я уж три раза эту кассету смотрел. Пойду спать. Ты смотри, пока не надоест, — как они сыграли, не скажу, — а потом выключишь.
Вера на кухне переводила статью из американского журнала.
— Ты что, уже спать?! — удивилась она.
— Устал. Завтра с утра на базу, там тренировка... Хочу почитать немного...
— Ты что-то увлекся чтением... — в ее голосе звучала ирония.
— Бывает... — отозвался Алексей и пошел в спальню.
Вера отодвинула работу и пошла за ним. Молча следила, как он укладывался, потом подошла, присела на кровать.
— Поклянись сыном, что у тебя ничего с ней не было! — потребовала она.
— Что за глупости! — рассердился Алексей. — Поклянись сыном, поклянись дочерью! Хватит блажить!
— А почему бы тебе не поклясться?! Почему, если у тебя действительно ничего с ней не было?! Почему?!
— Это унизительно! Как ты не понимаешь? — вскричал он.
— Тише, не кричи! — оборвала она. — А то, что ты приехал и не спишь со мной — это не унизительно?! — Вера отвернулась и заплакала.
— Алексей положил на тумбочку «Новый мир», сел на кровати.
— Ну, пойми. Я измотан вконец, да и голова забита другим, — он помолчал. — Юрка разве не говорил тебе: я дал согласие поиграть за испанский клуб, и мне вроде бы...
— Как за испанский клуб?.. В Испании?..
Вера встрепенулась, слезы мгновенно высохли.
— Да... Контракт на два года. Это же очень почетно... И материально... выгодно... — бормотал он.
— Значит, ты нас бросаешь?.. — прошептала она.
— Почему бросаю?! — рассердился Алексей. — Это же всего на два года. И потом до конца дней нам не придется копейки считать. И потом — я же буду приезжать. В контракте предусмотрено. Редко, но буду вырываться...
— Не надо вырываться! — взяв себя в руки и поднявшись, сказала Вера. — Если ты уедешь — к нам можешь не возвращаться! Можешь остаться у своей испанской подруги, где угодно! Ловко придумано! За испанский клуб ему надо поиграть?! Кому ты там нужен — в тридцать-то лет! У испанцев своих игроков не хватает?! Первая любовь разгорелась?! Правильно французы говорят: всегда возвращаются к своей первой любви?! Что же она за тебя раньше-то не пошла?! — Вера снова заплакала, вытащила платок. — Все мне на работе завидуют: какой у тебя муж, какой у тебя муж знаменитый! А у меня нет мужа! Нет!.. Боже, и двое детей — сироты!.. Я как чувствовала! Чувствовала! — Вера закрыла лицо руками и выбежала из спальни.
Алексей неподвижно сидел на кровати.
Утром, когда он, побрившись, вышел из ванной, Вера обняла его в прихожей: она уже успела накраситься, но даже сквозь максфакторовские тени и тон проступала трагическая скорбность.
— Не знаю, может быть, я все придумала, тут еще на работе неприятности, и я так драматично все воспринимаю... — она погладила его по щеке. — Ты действительно просто устал?..
— Да, — сказал Алексей. — Да. Очень.
Вера облегченно вздохнула. Посмотрела на часы.
— Ой, уже опаздываю! Я сегодня тоже возьму машину? А? Знаю, что тебе на базу, что сегодня твой день...
— Бери, — сказал Алексей.
— Ребят я отправила, Юрка поел с аппетитом, а Машка — так, поклевала, я — только кофе, — Вера говорила быстро, лишь бы что-то говорить, — там еще осталось, ты подогрей, а вечером давай Гену с Лидкой пригласим, давно гостей не было, я приготовлю что-нибудь?!
Алексей кивнул. Вера улыбнулась ему.
— Поцелуй меня, — попросила она.
Он поцеловал ее в щеку. Она вздохнула, повеселела и ушла. Он подошел к окну в кухне. Видел, как она выбежала из подъезда, помахала ему рукой, села в машину, отъехала.
В этот раз тренировался Лобов с желанием, с настроением. Он вообще больше любил тренировки на загородной базе команды, чем на московском стадионе. И уже давно предпочитал «садиться на сбор» перед матчем пораньше, чего так не любят молодые: сколько всегда бывает споров, а то и конфликтов с тренерами, которые обычно стремятся собрать команду на базе пораньше, во избежание всяческих недоразумений с режимом. Лобов в таких спорах не участвовал и в молодости: еще юным дублером полюбил он эти дни на базе, когда ничто не отвлекает от футбола и от книги.
Сегодня даже Барсуков заметил, с каким настроем работает Лобов.
— Не зря я ему мозги вправил, — сказал он Лопареву. — Теперь придется то же самое сделать Бондаренко и Знобишину. Пойди-ка позвони по домам, куда они задевались? По полтиннику оштрафуем, это ясно. Но надо найти их, чтоб к обеду были. И собрание проведем, я этот прогул им не спущу.
— О'кей! — откликнулся Лопарев и поспешил в дом.
На последней разгрузочной пробежке Лобов оказался рядом с Назмутдиновым.
— Не знаешь, почему Бондаренко и Знобишина нет? — спросил он на бегу Рашида.
— Откуда мне знать?!
— А ты расплатился за Барселону?
— Нет еще. Отец обещал прислать переводом, да чего-то задерживает.
Когда футболисты шли с поля к дому, в ворота въехала черная «Волга». Из нее вышел Веселов, и Барсуков поспешил ему навстречу.
— Лобов! Алексей Иваныч! Как помоешься, загляни к нам, — крикнул Веселов. — Дело есть!
— Загляну, — кивнул Лобов.
После душевой, переодевшись, он столкнулся в дверях тренерской с выбегавшим оттуда Лопаревым.
— Не отвечает телефон ни у Бондаренко, ни у Знобишина, — успел сказать ему Лопарев, — помчусь в город искать их.
Едва Лобов вошел в тренерскую, Веселов сообщил ему:
— Ну, что сказать тебе, центрфорвард, дела твои отличные, документы на тебя мы уже подготовили, в Мадриде перед матчем с «Реалом» проведем окончательные переговоры с владельцами «Барселоны», так что считай, все в порядке. Но уж с «Реалом» оба матча отыграй на совесть. В твоих же собственных интересах: теперь барселонцы с тебя глаз спускать не будут, как говорится, твое благосостояние в твоих собственных руках, а точнее — ногах! — Веселов засмеялся, такой удачной показалась ему собственная шутка.
— Я всю жизнь старался играть на совесть, — спокойно ответил Лобов и посмотрел на Барсукова, как бы ожидая от тренера подтверждения. Тот хотел что-то сказать, но в эту минуту зазвонил телефон, и Барсуков взял трубку.
— Да, слушаю, Барсуков. Что-что?
— Может, кто-то из этих прогульщиков объявился?! — сказал, обращаясь к Лобову, Веселов. — Не знаешь, Алексей Иваныч, куда они могли закатиться?
— Не знаю, — ответил Лобов. — Я и не знал, что они в одной компании гуляют.
— Холостяк холостяка видит издалека, — Веселов снова засмеялся, полагая, что вновь удачно пошутил.
Барсуков положил трубку и сидел неподвижно. Веселов и Лобов вопросительно смотрели на него. Улыбка медленно сползла с лица Веселова. По виду тренера нетрудно было понять, что произошло нечто серьезное.
Барсуков медленно встал и подошел к Лобову. Положил руки ему на плечи и крепко сдавил их.
— Алексей Иваныч, Лешенька, крепись. Жена твоя... Вера разбилась... на машине...
Был уже поздний вечер, когда из операционной вышел врач. Лобов ждал его в коридоре. Врачу дали на ходу прикурить, и он в сопровождении ассистента подошел к Лобову. Развел руками, тяжело вздохнул.
— Сделали все, что могли. Но поздно... поздно ее привезли. Мне сказали, у вас двое детей. Сейчас вы обязаны думать о них. Поймите меня правильно.
Врач и ассистент ушли. Лобов застыл, не в силах сдвинуться с места. Потом неловко повернулся и, ссутулясь, пошел по коридору.
На крыльце его встретил Вершинин.
— Что там? — спросил он.
Лобов опустил голову.
— Держись, Леша... — Вершинин взял его за локоть. Поедем домой, ребята ведь ждут.
В машине Вершинин протянул ему таблетки.
— Это полезно, проглоти сразу.
Лобов машинально взял таблетки, проглотил.
— Как это случилось? Вы ведь знаете, конечно, — спросил он после долгого молчания, когда машина уже выехала из больничного двора.
— Протек тормозной шланг, и тормоз провалился. Скорость была шестьдесят. Когда она поняла, что не сможет затормозить, направила машину на КамАЗ, чтоб никого не сбить... До этого тормоза были в порядке? — спросил Вершинин.
— По-моему да... Я уж давно не ездил, хотя...
— Когда последний раз?
— Позавчера... На стадион заезжал. За зарплатой. А до этого долго не ездил. Сегодня собирался... на базу... Но утром Вера попросила... и я на автобусе... со всеми...
— А на базу ты обычно ездил на своей машине?
— Всегда. Вера знала. Но вчера мы с ней поссорились, и сегодня, когда она попросила...
— Обнаружилось, что техосмотр ты еще не проходил.
— Весной никогда не получается. Сплошные поездки, сборы, я обычно в конце лета... А тут Вера права получила. Она сама все собиралась съездить в ГАИ...
— Видишь ли, — после паузы проговорил нерешительно Вершинин, — есть у нас подозрение, что шланг протек не сам по себе. Видимо, кто-то захотел, чтобы это произошло, а значит, знал, что на базу ты всегда ездишь на своей машине. И этот кто-то решил от тебя избавиться...
Лобов молчал.
— Мне кажется, — неожиданно сказал Вершинин, — что ты мне чего-то не рассказал. Ты что-то знаешь, но не хочешь говорить. Так или нет?
Они уже подъехали к дому. Лобов молчал.
— Извини, — сказал Вершинин, — понимаю, что тебе сейчас не до разговоров. Дети еще не знают?! Может быть, мне пойти с тобой?
Лобов отрицательно покачал головой. Вышел из машины.
— Я тебе завтра позвоню, — сказал Вершинин в открытое окно и уехал.
Лобов уже вошел в подъезд, когда что-то заставило его оглянуться. На другой стороне улицы стоял рослый парень в спортивной куртке. Какое-то напряжение угадывалось в его фигуре. Он делал вид, что ждет кого-то, но как только увидел, что Лобов смотрит на него, пошел по тротуару—не торопясь, но с некой нервозностью, будто вот-вот побежит.
Лобов взбежал на третий этаж, открыл дверь, прошел на кухню и выглянул в окно — утром он так же смотрел в это окно и видел, как Вера помахала ему рукой. Но теперь напротив подъезда стоял парень в спортивной куртке и смотрел вверх — прямо на окна квартиры Лобова. Алексей шарахнулся в сторону от окна.
В кухне стояла Маша.
— А где мама? — спросила она.
— Она уехала в командировку, — неожиданно для самого себя нашелся Алексей.
— Куда? — удивилась Маша.
— Недалеко, в область. А Юра где?
— Он у себя в комнате.
Алексей заглянул к сыну. Тот сидел в наушниках, слушая музыку.
— Давайте ужинать, — сказал Алексей.
Потом Маша мыла посуду, Юра в наушниках ушел к себе, а Алексей сидел за кухонным столом, глядя в одну точку. Маша с тревогой посматривала на него, продолжая хозяйничать.
— Я пойду лягу, — проговорил он. Встал и незаметно для дочери выглянул в окно; парень все еще стоял на том же месте.
Алексей прошел в спальню, не раздеваясь, прилег на кровать. Потом вдруг резко вскочил, подошел к окну. Парень стоял, как на посту. Алексей снова лег на кровать.
От ветерка, проникающего в форточку, слегка раскачивалась штора. Алексей завороженно смотрел на нее.
Темно. Тихо.
Вдруг входная дверь бесшумно подалась и стала открываться, но ее задержала цепочка. В щель проник огромный тесак. Взмах — и цепочка разлетелась на куски...
Восковая маска закрывала лицо неизвестного. Он направился в большую комнату. Из своей неожиданно выскочила Маша. Но тут же упала, сраженная ударом тесака. Кровь брызнула на белую скатерть, которая покрывала стол.
Убийца прошел в комнату Юры. Послышался слабый вскрик.
Алексей открыл глаза. Было тихо. Лишь по-прежнему покачивалась тюлевая штора от ветерка, проникающего в форточку.
Алексей приподнялся, сел на постели. Неожиданно дверь в спальню со скрипом отворилась. На пороге с окровавленным тесаком стоял убийца. Он двинулся на Алексея, замахнулся, ударил, но Алексею удалось увернуться, и тесак вонзился в кровать.
Алексей ударил убийцу сверху по голове, и тот обмяк, застыл на кровати. Алексей подошел к убийце, перевернул его и в ужасе отпрянул. Перед ним лежал Барсуков. Неожиданно Барсуков открыл глаза, захохотал, кинулся на Алексея и стал душить его. Алексей сопротивлялся, как мог, но Барсуков все сильнее и сильнее сжимал его в железных объятиях. Алексей захрипел, заметался по кровати, силясь сбросить с себя Барсукова...
— Папа! Папа! — раздался голос дочери.
Алексей открыл глаза. Маша стояла около кровати, испуганно глядя на него.
— Ты так стонал, метался по кровати, — тихо проговорила она
— А где мама? — машинально спросил Алексей: вдруг вспыхнула надежда, что и все... все предшествовавшее тоже окажется кошмарным сном.
Маша несколько секунд растерянно смотрела на отца.
— Ты же сам сказал, что она...
— Да-да. Извини, я забыл...
— Ты разденься... У тебя же завтра тренировка, — сказала дочь
Маша вышла из комнаты, столкнувшись в дверях с Юрой.
Сын долго смотрел на отца, который с трудом поднялся с кровати и нерешительно стянул с себя рубашку. Наконец Юра спросил:
— Папа, что случилось?
— Что случилось?! — повторил Алексей.
— С мамой что-то случилось? Она разбилась? — в упор спросил Юра.
— Откуда ты взял?! — крикнул Алексей.
— Машины нет... и я... я чувствую... — тихо ответил сын.
Алексей стоял неподвижно перед Юрой, не зная, что ему ответить.
Не выдержал, подошел к сыну, обнял его.
— Да... — прошептал он.
Маша стояла у двери и все слышала. В первую секунду она не могла выговорить ни слова, потом губы у нее задрожали, она отчаянно замотала головой.
— Нет! — прошептала она.
Давай не будем пока ничего говорить Маше, — шептал в спальне сыну Алексей, гладя его по голове и прижимая к себе.
— Папочка! — Маша ворвалась в спальню, кинулась к отцу. — Это неправда! Скажи, что это неправда! Папочка!..
Алексей обнял и ее. Он прижал к себе обоих детей, словно желая защитить от всех грядущих напастей. Дети плакали, уткнувшись ему в грудь. И он плакал, глядя поверх их голов на тюлевую штору, которая покачивалась от ветерка, проникающего через форточку.
Зеркало в прихожей квартиры Лобова было затянуто черной тканью. Из большой комнаты все вынесли, посредине стоял на столе гроб. Лицо Веры припудрили, затонировали. Казалось, она спала в обрамлении роз, уложенных вокруг головы.
Алексей сидел в комнате один. Из кухни зашла теща в черном платке.
— Ты еще посидишь?.. — тихо спросила она.
Алексей кивнул.
— Я до аптеки дойду... С Юрочкой...
Алексей снова кивнул. Теща ушла.
Он смотрел, не отрываясь, на застывшее лицо жены — суровое, непреклонное даже в этот смертный час.
Комок подкатил к горлу, схватили спазмы, и он прикрыл рот платком. Поднялся, вышел в ванную. Зашумела вода.
Алексей сидел на краю ванной с полотенцем в руках, когда зазвонил телефон. Алексей вздрогнул, несколько секунд сидел неподвижно, потом прошел на кухню, взял трубку.
— Слушаю, — еле выговорил он.
— Слушай и наматывай на ус, форвард! — прохрипел голос в трубке. — Все, что ты видел в стекляшке и около нее, — ничего этого не было! Схватил?
Алексей молчал.
— Ты рассказал Вершинину, что было в стекляшке? — грозно хрипел голос. — Рассказал или нет?
— Нет... — выдавил из себя Алексей.
— То-то же! голос в трубке зло усмехнулся. — Слушай и запоминай: протреплешься — лишишься и поскребышей! По жене, надо полагать, ты не очень-то убиваешься, — голос снова усмехнулся. — А за машину страховку получишь! Ты схватил или нет?
— Да, — механически произнес Алексей.
— В общем, я все сказал! Не суй нос, куда не следует и подумай о детях! Будешь паинькой — никого не тронем! А не отступишься, форвард, — заплатишь за все! Схватил?
— Да, — прошептал Алексей.
— О'кей! — буркнул голос.
Трубку бросили. Звонили, видимо, из автомата, звук был далекий, глухой.
Кажется, Алексей уже слышал это «о'кей», эту интонацию. Где, когда?.. Он вытер пот со лба, положил трубку. Несколько секунд соображал, что делать, схватился было за телефон, стал набирать номер, но тотчас бросил трубку.
На кухонном столе стояло молоко, бутерброды с колбасой. Он налил в чашку молока, взял бутерброд, пил молоко, сосредоточенно и лихорадочно о чем-то размышляя.
Улица за окном была пуста, уже горели фонари, и капли дождя серебрились в их свете.
Он не слышал, как вернулись теща и Юра. Сын сразу прошел к себе в комнату, а теща заглянула в кухню.
— Ты бы разделся, Лешенька, и поел как следует, — тихо сказала она.
— Да-да, — закивал он. — Я ненадолго. Скоро вернусь.
На улице он остановил такси и объяснил шоферу, куда ехать.
Дверь Лобову открыла старушка и долго смотрела на него, силясь узнать.
— Мне к Семену Петровичу, — сказал он.
Старушка внимательно посмотрела на него и ушла, ничего не ответив.
Послышался шорох, легкий шум, потом тихий голос:
— Что-то я его раньше не видела, а лицо почему-то знакомое... Появился Вершинин. Увидев Лобова, улыбнулся, но не так широко и радостно, как обычно, а много сдержанней.
— Рад, очень рад! — заговорил он. — А я вот своей коллекцией занимаюсь — мексиканские голы смотрю и восхищаюсь.
Из комнаты доносился шум трибун и голос телекомментатора. Когда они вошли в комнату, Вершинин убавил звук.
— Может быть, чайку? — предложил он.
— Нет-нет, — остановил Вершинина Лобов. — У меня к вам просьба. Нельзя ли узнать, кому принадлежит машина «Жигули» номер Т16-16ММ?
— Т16-16ММ?.. — повторил Вершинин. — Сейчас узнаем. — Он взял трубку, набрал номер. — Миша, это я! Узнай быстренько, кому принадлежат «Жигули» номер Т16-16ММ. Да. И перезвони, я дома, Вершинин положил трубку. — Садись, Алексей Иваныч, на тебе лица нет.
Лобов выглянул на улицу. За окном сеял дождь.
— Дождь уже... — пробормотал он.
Холодный дождь скользил по витринам магазинов, размывая свет и цвет, образуя яркие красочные пятна.
— Он здесь уже, у следователя, — докладывал из телефонной будки Бегунок, — минут десять как пришел...
Тот, с кем разговаривал Бегунок, стоял в тренерской комнате на базе команды «Полет». В приоткрывшуюся щель видна лишь тень говорившего на стене да кубки в стеклянных стеллажах.
— Проследи, когда он выйдет... только осторожно, — приказал человек из тренерской комнаты.
В стекло кабины телефона-автомата уже стучала нетерпеливая старушка.
— Понял, прослежу! — Бегунок недовольно обернулся и сердито посмотрел на старушку. — Все, я пошел!
Лобов сидел за столом в квартире Вершинина. Они пили чай.
— Почему же ты раньше мне все не рассказал? — спросил Вершинин.
— Не знаю. Сперва убедил себя, что не следует придавать этому значения. Потом... не знаю, — вздохнул Лобов.
— А то, что на сбор не явились Бондаренко и Знобишин, тебя не удивило?
— Так это у них не впервой! — искренне пожал плечами Лобов.
И тут зазвонил телефон. Лобов вздрогнул. Вершинин взял трубку.
— Да?.. Вот как?! Спасибо, Миша, — следователь положил трубку и после секундной паузы сказал: — Этот номер принадлежит машине Барсукова.
Лобов онемел.
Из кафе Дворца спорта, где проходили поминки, Лобов вышел последним. Теща увела детей раньше, друзья предлагали Алексею отвезти его домой, но он отказался, намереваясь пойти пешком.
На стоянке возле кафе он увидел лишь одну машину со знакомым номером Т16-16ММ и Барсукова, который ждал его и пошел навстречу.
— Леша, я понимаю, тебе надо побыть одному. Но видишь ли, какое дело... — Барсуков нахмурился, — Лопарев так и не нашел Бондаренко. Ветрогон Знобишин обнаружился, ночевал где-то за городом у очередной зазнобы, проспал, опоздал на электричку и тому подобное вранье. Но божится, что с Бондаренко не виделся. А у того телефон не отвечает, дверь на звонки не открывает... — В голосе Барсукова звучала растерянность.
— А эти слухи, насчет перехода в «Днепр»?
— Да... слухов много. Но не попрется же он туда в самом начале сезона, да еще перед Мадридом?! — Барсуков вздохнул.
— А в милицию не обращались? — спросил Лобов.
— Не-ет. Он ведь с женой в ссоре. Она взяла сына и уехала к родителям в деревню. Вчера мы достали адрес, послали телеграмму. Такую вежливую, осторожную, чтобы не оглоушить... Он со мной не раз говорил о переходе. Заработать хочет. У нас с ним отношения, в общем- то, нормальные были. Да вот жена против меня настроена. Все время болтала, что я заработать мешаю и квартиру не даю. Ну, у него однокомнатная, а их трое. Я бы дал, да ведь все о переходе твердит. И как мне тогда перед начальством выглядеть? — Барсуков открыл дверцу машины. — Садись, поедем, чего стоять?!
Они сели.
— Дети с тещей останутся? — вдруг спросил Барсуков.
— Да, — механически ответил Лобов и тотчас застыл, замер в испуге, облизнул сухие губы, взглянул на Барсукова. Тот молчал, глядя перед собой и раздумывая о своем.
— Ну и вот, — вздохнул Барсуков. — А меня уже Рашид за горло берет. Его в ЦСКА сманивают этой самой квартирой. Я и решить не могу, кто из них нам сейчас важнее, кому первому квартиру делать?! Говорю Бондаренкам: поживите пока, до конца сезона... Так вот и рас-сорились. Тем более что Лопарев — сам знаешь — дольше всех квартиру ждет, я и ему обещал. По чести-то Лопареву надо первому давать...
— Это правильно, — кивнул Лобов.
— Вот видишь! Ты меня понимаешь, — Барсуков снова вздохнул, вытер пот со лба. — Ну, что? Съездим к нему? Чего-то у меня на сердце тревожно... Вот... — Барсуков завел мотор.
— Что же ехать, если дома никого нег?! — пожал плечами Лобов.
— У меня вообще-то ключи есть... — смутившись, проговорил Барсуков, доставая ключи из кармана. — Когда Лида уехала, я у него попросил. Однажды... встретиться тут надо было... забыл отдать, а Лопареву не хотел... Да и признаваться не хотел, что квартирой игрока пользовался... Понимаешь меня?
Лобов ничего не ответил.
Они поднялись на третий этаж панельной девятиэтажки, позвонили в дверь, но им никто не ответил.
Барсуков достал ключ, стал открывать.
— Одному, знаешь, не хотелось ехать, — проговорил он.
Руки Барсукова дрожали, когда он открывал дверь.
Они вошли в прихожую. Барсуков заглянул на кухню, потом открыл дверь в комнату.
Тахта помещалась за огромным шкафом, который перегораживал комнату пополам. Барсуков заглянул за шкаф и остановился как вкопанный.
Бондаренко лежал на тахте. Если бы не почерневшее лицо, можно было подумать, что он на минутку прилег и заснул, настолько естественной была его поза.
Они снова ехали в машине Барсукова.
— Какой ужас, какой ужас! — говорил Барсуков. — Хорошо, что хоть нас с тобой отпустили! Они там небось всю ночь проторчат. Слушай, — голос Барсукова неожиданно стал твердым, тренерским, — если ты раздумаешь в «Барселону» переходить, я буду рад за наш «По-лет», года три еще можем вместе поработать. И квартиру тебе поменяем. Представляю, как тебе тяжело там будет без Веры, а?
Лобов молчал.
Барсуков прокашлялся и снова заговорил:
— Хотя, конечно, тебе есть резон в «Барселону». Особенно теперь... А дети с тещей останутся, да?! Как же они-то все перенесли, бедняжки?! Я уж, кажется, чего только не насмотрелся, а все еще не могу в себя прийти. Слушай, а почему, интересно, сам Вершинин не приехал, когда мы позвонили?
— Не знаю.
— И что он про все это думает? — заискивающе спросил Барсуков.
— Не знаю, — повторил Лобов. — Он со мной не делится.
— Да-а. Попали мы в заварушку. Тебе, кажется, направо?
— Не надо. Я здесь сойду.
Они ехали по набережной, и Барсуков удивленно взглянул на Лобова.
— Чего ты? Я тебя до самого дома...
— Нет, не надо, — твердо сказал Лобов. — Пройтись хочу.
Барсуков затормозил. Лобов вышел из машины.
— Ну, давай. И чтоб все было «о'кей», как говорит наш Лопарев! — Барсуков улыбнулся и, склонившись на сиденье, где только что рядом с ним сидел Лобов, протянул руку.
Услышав «о'кей», Лобов вздрогнул, но все-таки наклонился и пожал руку Барсукову.
Тот захлопнул дверцу, помахал Лобову рукой и уехал.
Лобов долго смотрел вслед машине с номером Т16-16ММ.
Из дома он первым делом позвонил теще.
— Юра?.. Привет... Да, еще заехал по делу, а потом прошелся. Как вы там? Маша как? Уже спит? Делает вид... Понятно... Юра-Юрочка, ты ведь мужчина, правда? Да, спасибо... Не беспокойся... Постарайся заснуть. До завтра...
Алексей положил трубку, набрал побольше воздуха, заморгал: душили слезы. Он походил по комнате, размахивая руками, словно прогоняя кого-то невидимого. Свет в комнате он так и не зажег, только в прихожей. Неожиданно раздался телефонный звонок. Алексей вздрогнул, снял трубку.
— Опять вчера бегал к Вершинину?! — прохрипел голос. — О чем докладывал? Небось о стекляшке раззвонил?!
Алексей не мог выговорить ни слова.
— Я же тебя предупреждал, — тяжело дышал голос. — За все заплатишь! Детей пожалей, фраер! О чем говорил следователю?
— Он сам меня вызвал, спрашивал о Бондаренко... — пробормотал Алексей.
— Запомни, мы следим за каждым твоим шагом! За каждым!
Трубка ухнула, пошли гудки. Алексей постоял, сжав кулаки, набычившись, словно собираясь кого-то ударить. Постоял несколько секунд, подошел к окну. Внизу напротив его окон болтался все тот же парень в куртке. Лобов заметил, что куртка адидасовская, из тех, что выдавали им в прошлом году. И кроссовки тоже из их экипировки. Лобов усмехнулся, вышел из квартиры, спустился по лестнице на первый этаж, позвонил в одну из квартир. Дверь открыл высокий парень в спортивном костюме. Увидев Лобова, он робко и сочувственно улыбнулся.
— О, Алексей Иваныч, заходите... Примите наши... соболезнования...
— Один? — спросил Лобов.
— Жена в ванной. Я сейчас позову, — заторопился парень.
— Нет-нет, спасибо, не надо. Можно я на балкон пройду? — Лобов шагнул в комнату.
— Там грязно. Все никак после зимы не уберемся...
— Я пройду! Там фанаты пристали, а мне надо уйти... незаметно, — объяснил Лобов.
— А! Ну, конечно, конечно! — сообразил парень. — Вы всегда, пожалуйста, заходите. Если что помочь или с детишками, то мы с женой всегда...
— Спасибо, спасибо, — сказал Лобов, перелезая в кусты. — Пока! Спасибо.
— Пока, пока, — помахал ему вслед растерявшийся парень.
Вершинин подлил заварки в стакан Лобова, наложил в розетку еще варенья.
— ...Понимаешь, мне там делать было нечего. Все, что необходимо, ребята сообщат, — Вершинин вертел на столе теннисный мяч.
— Да я... — Лобов покрутил головой. — Я этого Барсукова... — Лобов не договорил. — В общем, чувствую, что он!.. Он знал, что Бондаренко убит, и один ехать не хотел! Мы вошли, он сразу носом туда, за шкаф... Я на него посмотрел: на лице даже радость тайная!.. Он садист! Он и детей не пожалеет!.. — Лобова трясло.
— Успокойся, Леша. За детей не волнуйся. Мы уже дали команду. С них глаз не спускают. И вообще все идет нормально.
— Чего нормального-то?! — воскликнул Лобов. — Вы же не знаете преступников?!
— Не знаем, — согласился Вершинин. — Но я же не теряю присутствия духа. Это игра. Посуровее, конечно, чем футбол, но тоже игра. Видишь, они уже начали переигрывать. Они ведь не стали у тебя выспрашивать, о чем мы с тобой говорили. Им неинтересно. Не пойму только, чего они к тебе так уж привязались?!
— Да я Барсуку поперек горла! — воскликнул Лобов. — Он не любит тех, кто головой варит!..
Вершинин улыбнулся.
— Тут все сложнее, Алексей Иваныч!.. Чтобы делать доллары, нужен первоклассный художник, нужен станок, особая бумага, ну и прочее!.. Там целая группа, которая как-то связана с вашей командой!.. Ситуация сложная!.. Я думаю, что печатают доллары все же там, а распространяют здесь!..
— А кому здесь распространять? — не понял Лобов.
— Ездят теперь много, и всем нужны доллары, причем достают и передают их втихаря, зачастую где-нибудь в машине, на задворках, поэтому времени хватает лишь пересчитать, а уж разглядывать бумагу и знаки некогда! А переплата идет большая! Бизнес?! Бизнес!..
— А зачем тамошним рубли?! — спросил Лобов.
— Сами по себе рубли, конечно, не нужны, но на них можно купить, к примеру, антиквариат, меха, картины!.. Если эти деньги обращать в ценности, которые имеют подчас даже большую стоимость на Западе, то тоже бизнес, не так ли?! — Вершинин доел свое варенье, облизнул губы.
Вошла старушка, мать Вершинина.
— Может быть, твой следователь есть хочет?.. — спросила она.
— Он не следователь, мама, он знаменитый футболист! — громко сказал Вершинин.
— Боже мой?! — вздохнула старушка. — Значит, вы и бегаете все время за одним мячом по полю?!
— Да... — Лобов улыбнулся.
— Тем более, он голодный тогда! проворчала старушка и решительно пошла на кухню.
— Придется съесть два отличных голубца! — радостно сказал Вершинин. — Между прочим, по моему рецепту!
— Нет, спасибо, мне надо идти! — Лобов поднялся.
— Сиди, сиди! — Вершинин чуть ли не насильно заставил Лобова сесть. — Обидишь старушку! А ей волноваться нельзя, возраст!..
Лобов уже прошел таможенный досмотр, когда к нему подошла девушка в форме таможенной службы.
— Алексей Иваныч, вас просят к телефону.
Его провели в служебное помещение, где на столе лежала снятая телефонная трубка.
— Леша, это я, Вершинин, — в трубке вздохнули. — Извини, что пришлось побеспокоить, но ты должен знать... Бондаренко отравили. Яд сильнодействующий, усыпляющий. Это произошло, видимо, тогда, когда ты его видел в последний раз. Не принимай никаких таблеток...
— Кто это сделал? — перебил Вершинина Лобов.
— Если б я знал... — вздохнул Вершинин. — Ну, счастливо тебе. Запомни о таблетках. Будь осторожен!
— До свиданья, — Лобов положил трубку.
В мадридском аэропорту команду «Полет» встречал представитель «Реала» — юркий, вертлявый человечек в золотом пенсне, работавший еще с самим доном Сантьяго Бернабеу и пятнадцать лет назад приезжавший с «Реалом» в Одессу на матч с киевским «Динамо». С тех пор этого человечка в пенсне знали многие наши футболисты и относились к нему с уважением: он всегда старался пойти навстречу, поселить в хорошем отеле, своевременно обеспечить автобус, согласовать сроки тренировок— словом, проявить всяческое гостеприимство. Он даже знал не-сколько русских слов и, здороваясь с Барсуковым и Лобовым за руку, сказал:
— Добро пожаловать, ребятки. Как здоровье? У меня, спасибо богу и доброй памяти дону Бернабеу, все-все карашо. А это наш новый толмач... да-да, так по-вашему... он из России...
И человечек перешел на испанский, представив гостям Виктора Будинского. Человечек говорил много и с огромной скоростью. Будинский переводил мало, но все же успел сказать Барсукову:
— Они хотели вас поселить в «Кларидже». Три звездочки и далеко от центра. А я настоял на «Лус Паласио». Пять звездочек, на Кастельяна. До стадиона пять минут на автобусе или пятнадцать ходьбы.
— Кому он лапшу вешает на уши? — шепнул Лобов Назмутдинову. — Этот мужичок всегда нас размещает, как королей. Я в этом «Лус Паласио» раз пять жил.
— То-то он тебя сразу узнал и лапку пожал, — усмехнулся Рашид. Он ждал от Лобова ответной шутки и удивился, когда заметил, что Алексей застыл и пристально смотрит вслед направившимся к выходу Барсукову, человечку в пенсне, Лопареву, доктору, массажисту.
Но Лобов смотрел только в спину Будинскому. Как только тот повернулся спиной и пошел к выходу, Лобов сразу узнал в нем — по широкой спине и походке — вразвалочку — человека, который тогда, в Барселоне, вышел из номера Гудовичева и уехал на черном «мерседесе». Он даже был в той же рубашке и тех же брюках.
— Игра назначена на восемь пятнадцать. У них всегда так, не пойму почему, — тем временем говорил
Будинский, обращаясь ко всем сразу. — Сейчас разместитесь, отдохнете, а вечером в семь или восемь, как захотите, разминка на том самом поле, где завтра играть. Утром зарядка: если хотите, на стадионе, если хотите, в парке — недалеко от отеля, — неожиданно Будинский обратился к Гудовичеву: — Как здоровье, доктор?
— Нормально, Витя, — процедил Гудовичев и пояснил для остальных: — Я этого новоявленного испанца знаю еще с юношеской сборной по водному поло.
— Доктор меня почти что от смерти спас, — заулыбался Будинский. — Я в игре ногу расцарапал, вернее, мне ногтями полоснули.
— В водном поло защитники под водой не церемонятся. Я внимания не обратил, а там загноение, отнимать ногу хотели, поверите ли? Так доктор отстоял, какими-то травами, снадобьями, словом, выходил меня.
— Без ноги его бы и замуж не взяли, — усмехнулся Гудовичев, — так что никакой Испании и не повидал бы. А теперь вот кейфует здесь.
— Я теперь вспомнил, — вдруг сказал Барсуков. — Вы неплохо в поло играли. И в Барселоне я вас видел. Вы на наш матч приезжали. Я тогда еще подумал, где же я вас видеть мог?!
— Конечно, приезжал, — подтвердил Будинский. — И поболеть за вас, и с доктором повидаться. Он ведь мне теперь как второй отец.
Гудовичев, словно почувствовав на себе пристальный взгляд Лобова, обернулся, встретился с ним глазами и быстро отвел в сторону. А Будинский уже около автобуса подошел к Лобову.
— Алексей Иваныч, Кармен просила предупредить, что приедет прямо в гостиницу. В редакции у нее какие-то дела, так что просила извинить. А я о вас много хорошего слышал от своей супруги, от Исабель. Она сейчас из дому не выходит, сына мы с ней ждем, так что настоятельно звала в гости.
— Спасибо, привет ей от меня передайте.
— Спасибом не отделаетесь, в гости придется зайти, чтобы будущая мама не расстроилась, — улыбнулся Будинский.
— Не знаю, как со временем будет, — ответил Лобов и шагнул на подножку.
В автобусе Будинский хотел было сесть рядом с доктором, но его опередил новый массажист «Полета» Гриша Земцов, который, перегнувшись через Гудовичева, сидевшего у окна, стал тыкать пальцем в стекло:
— Посмотрите, посмотрите. Ай да джигит!
Лобов и Назмутдинов тоже взглянули в окно. Испанец в национальном костюме скакал неторопливо на лошади, а рядом на такой же красивой лошади скакала женщина в костюме амазонки.
— У них тут чего только не увидишь, — проворчал Будинский.
А Лобов спросил Назмутдинова:
— Откуда этот массажист у нас взялся, не знаешь? Все забываю у Барсукова поинтересоваться.
— Из «Динамо», кажется. Стрелков-то наш отравился чем-то, в больницу даже положили.
Рашид откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза.
Лобов искоса поглядывал на восторженного массажиста, который о чем-то увлеченно рассказывал доктору.
Алексей принял душ и, растираясь полотенцем, ходил по номеру. То и дело поглядывал на телефон: Кармен не появилась и могла позвонить с минуты на минуту.
Алексей оделся, подошел к окну и на зеленом бульварчике, разделявшем Пасео де ла Кастильяна пополам, увидел Знобишина. Тот был в полосатой рубашке с короткими рукавами и держал в руке свою неизменную клетчатую куртку и полиэтиленовый пакет с эмблемой инвалютной «Березки». Знобишин что-то выяснял у пожилого мадридца: судя по жестам, речь шла о маршруте, которым ему необходимо пройти. Странно: только что приехали, а уже куда-то направляется...
Словно что-то подтолкнуло Алексея. Он быстро накинул спортивную куртку и выскочил из номера.
Когда Алексей выбежал из отеля на площадку для машин и посмотрел по сторонам, Знобишин уже шел по бульварчику направо от отеля — в сторону, противоположную стадиону «Бернабеу». Алексей двинулся в том же направлении.
Знобишин шел быстро, не оглядываясь, и это облегчало Лобову наблюдение. Но вот Знобишин свернул налево и оказался на противоположной от Лобова стороне улицы. Пока Лобов раздумывал, как пересечь бульварчик, оставаясь незамеченным, Знобишин свернул в узкую улочку и пропал.
Лобов побежал, уже не заботясь о том, чтобы не выдать себя, добежал до того места, где пропал Знобишин. Деться тому вроде бы было некуда, кроме как войти в деревянную дверь в глухой стене. Лобов толкнул дверь. Она поддалась. Сначала он попал в узкий полутемный коридор. Двинулся вперед и оказался в небольшом патио. Идти назад? В левом углу патио он увидел такую же дверь, за которой слышался шум. Лобов толкнул дверь, опять попал в узкий коридор, в конце которого виднелся свет, проникавший через матовое стекло двери. Дойдя до этой застекленной двери и открыв ее, Лобов снова оказался на Кастельяна, отель теперь находился справа от него. Лобов покрутился на месте, посмотрел назад, в коридор, которым только что прошел. Нигде и следа Знобишина не обнаружил. Не спеша он пошел к отелю и пересек улицу и бульварчик тогда, когда отель «Лус Паласио» оказался прямо перед ним. Каково же было его удивление, когда он увидел у входа в гостиницу Знобишина. Тот как ни в чем не бывало разговаривал с Барсуковым и Будинским. Лишь пакета у него не было.
Лобов не успел подойти к ним, как услышал:
— Алеша!
Обернулся и увидел Кармен.
— Где ты был? Я уже минут двадцать тебя ищу!
— Ну вот и нашелся! — обрадовался Будинский. — А то уж хотели объявлять розыск!
— Как ты?! — спросила Кармен. — Я все... все... уже знаю.
— Леша, на тренировку решили поехать в пять часов, — предупредил Барсуков. — Чтобы засветло поработать. Думаю, три часа ничего не решают, правда? Зато больше времени будет для отдыха.
Лобов кивнул.
— И у нас весь вечер свободный, — шепнула ему Кармен. — Мне надо в редакцию. Буду у тебя ровно в восемь.
— Хорошо, — согласился Лобов.
Тренировка не задалась. Все были какими-то вялыми, но Лобов особенно. Барсуков срывал зло на Лопареве и с трудом сдерживался, чтобы не орать на ребят.
К концу тренировки приехал Веселов, который встречался с представителями «Барселоны», прибывшими в Мадрид для уточнения деталей лобовского контракта. Переговоры, видимо, прошли успешно, Веселов сиял, как медный самовар.
— Ну, как поработали? — спросил он Барсукова, когда игроки уже покидали поле «Бернабеу».
— Плохо. Все были вареными, как яйца всмятку. А наш будущий барселонец особенно.
— За него ты не волнуйся. Как узнает о контракте, так завтра все отдаст. Они ему такие деньжищи выделяют, а под это дело я у них еще полмиллиона выторговал. Грамов будет в восторге. Николай Максимыч! — Веселов обратился к доктору, рядом с которым шел массажист! — Вы проследите, чтобы Лобова как следует подготовили к матчу. Вы меня поняли? И своему новому "массеру" объясните, договорились?
— Мне, что ли, объяснять? — игриво-обиженно скривил губы Земцов.
Но Веселов и не посмотрел на него.
— Все сделаем в лучшем виде, — сказал Гудовичев.
— Будет как огурчик! — радостно подтвердил Земцов, ничуть не смущенный тем явным пренебрежением, которое демонстрировал по отношению к нему замначальника Управления футбола. — А валюту когда давать будут? — спросил Земцов у Гудовичева.
— После матча, — буркнул доктор.
К автобусу Лобов и Знобишин шли рядом.
— Ты чего-то совсем расклеился, — сказал Знобишин. — Собраться надо. Надо зажать в себе боль, и она постепенно сама уйдет. У меня так было, когда мать умерла. Месяца два ничего не получалось, а потом...
— Ты куда сегодня из отеля бегал? — неожиданно спросил Лобов.
Знобишин от удивления осекся и замолк.
— Глазастый, — пробормотал он спустя несколько секунд. — А в чем дело-то?! — съежился Знобишин.
— Раз спрашиваю, значит надо, — жестко ответил Лобов.
— Кому надо-то?! — Знобишин усмехнулся. — Тебе могу признаться: погулять решил.
— Интересная прогулка, — процедил Лобов.
— Ты что, следил за мной? — еще больше удивился Знобишин.
— Да... — помедлив, обронил Лобов.
— Та-ак! — Знобишин оторопело смотрел на Лобова.
— Не заводись, а пораскинь своими цыплячьими мозгами, куда ты вляпался, идиот! — зло проговорил Лобов и быстро пошел к автобусу.
Он не сел на свое обычное место, а прошел в конец автобуса. Назмутдинов удивленно посмотрел ему вслед.
Напевая и радуясь неизвестно чему, массажист Земцов тоже прошел в конец автобуса, а не сел рядом с доктором.
— Свободно? — спросил массажист у Лобова.
— Занято! — хмуро буркнул Лобов.
— Жаль, — задетый столь неприветливым тоном, отозвался Земцов, вернулся и сел рядом с Гудовичевым.
Знобишин в оцепенении еще стоял на улице.
— Долго тебя ждать?! Олег, давай живо, — крикнул Барсуков.
Знобишин залез в автобус и медленно пошел по проходу. Около Лобова он остановился.
— Свободно?
— Садись! — Лобов сурово взглянул на Знобишина.
Несколько секунд они молчали. Автобус тронулся.
— Рассказывай все по порядку, — тихо приказал Лобов.
— А чего... — заикнулся было Знобишин, но Лобов его оборвал:
— Кому звонил по междугородке, о чем говорил с Бондаренко в стекляшке? Ты последний его видел живым... — Лобов вздохнул. — Допер теперь?!
— Допер... — помолчав, Знобишин наклонился к Лобову и зашептал ему в ухо: — Анаболики одному шведу обещал привезти. Мы еще в Барселоне встретились, он меня ужинать водил... В ресторанчик на набережной...
— Знаю, — прервал его Лобов.
— Чего ж тогда рассказывать, если ты все знаешь...
— Может быть, и не все...
— Ну, вот. Шведу этому и звонил в городок такой Хускварна. Там еще швейные машины выпускают. Он мне обещал привезти. Для сестры... Для нее я у Бондаренко тысячу занял. После смерти матери она совсем разболелась, чахнет с тоски. Вот и не знаю, чем порадовать. Бондаренко потребовал, чтобы часть долга я ему валютой отдал. Вот и рассказал ему про шведа. Он мне анаболики помог достать. За советские. Часть денег я ему тогда в стекляшке и отдал, а он мне — адрес, куда за анаболиками... И вдруг возвращаюсь — узнаю: сандалии он отбросил... Поначалу даже облегчение испытал — хоть и стыдно так говорить, но он меня уже с потрохами ел. За анаболики эти мне бы век с ним не расплатиться. Я уж их и везти не хотел. Сам знаешь, залетишь с ними — вовек не отмоешься. Ну, вот, — Знобишин вздохнул, — перед самым отъездом позвонил мне тип один. Приказал везти, а то, что Бондаренко должен, им потом отдать. И пригрозил... серьезно так... аргументированно...
— Хрипатый голос? — спросил Лобов.
— Да, — кивнул Знобишин и взглянул искоса на Лобова, но тот смотрел в окно. — Еще он сказал, чтобы шведа этого я не искал. Они, мол, сами его найдут и отдадут. А я чтоб пакет по этому адресу отнес, сказал еще хрипатый, что это рядом с отелем нашим будет, так и оказалось...
— Во дворике ждали или в коридоре? — спросил Лобов.
— В патио этом, во дворике. Потом через другую дверь тот вышел, и я за ним...
Знобишин замолчал.
— Все? — спросил Лобов.
— Все... — пожал плечами Знобишин.
— Ладно! — помолчав, сказал Лобов. — О нашем разговоре никому. Понял?
— И ты пойми, я ведь ни сном ни духом. Они сестру грозили изнасиловать... — шептал ему в ухо Олег.
— Я сказал: о разговоре никому! повторил Лобов. — Понял?
— Понял! — с готовностью и облегчением проговорил Олег. — А если что — сигнализировать?
— Если что — сигнализируй! — усмехнулся Лобов. — Только без паники!
— Понял! — бросив подозрительный взгляд в сторону, сказал Знобишин.
Лобов тоже осмотрелся. И вдруг заметил, что в их сторону поглядывает массажист.
Когда они проезжали мимо стадиона «Висенте Кальдерон», Кармен сказала:
— Пригласила бы тебя не «Барселона», а мадридский «Атлетико», ты бы тренировался и играл на этом стадионе. Отсюда пять минут до нашего дома.
И действительно: через две минуты они пересекли реку Манзанарес, а еще через три Кармен затормозила возле двухэтажного каменного дома с жалюзи на окнах. Перед входом — небольшой зеленый палисадник и рядом въезд в гараж.
— Такой дом здесь — целое состояние, — пояснила Кармен, поставив машину перед воротами гаража. — Я не буду заезжать, тебя ведь придется отвезти? — Она заглянула в лицо Алексею с надеждой, но он ничего не ответил, и она продолжила, выходя из машины: — Нам бы никогда на него не скопить. Он достался маме по наследству от ее бабушки, мама ведь выросла в нем. Мы, правда, сделали ремонт, но еще не до конца. Мама хочет поставить ограду, однако здесь, в этом районе, это не принято. Тебе нравится?
— Эти жалюзи на окнах похожи на внутренние ставни, какие бывают у нас в Приднепровье, — сказал Алексей.
— Неужели?! — обрадовалась Кармен. — А я и не знала!
Она открыла входную дверь, зажгла свет, и из прихожей они вошли в пустую длинную комнату.
— Здесь будет столовая, а пока мы едим на кухне.
Кармен на минутку заскочила туда, оставила пакет с провизией и вернулась. Они снова прошли через прихожую.
— Вот эта лестница, — Кармен показала на деревянную винтовую лестницу в дальнем конце прихожей, — ведет наверх. Там четыре спальни. Одна — для гостей. — Она снова пристально посмотрела на Алексея, и снова он промолчал. — А это гостиная.
Они вошли в большую квадратную комнату с камином.
— Это осуществившаяся мечта отца. Он проводит здесь все свободное время. Камелек горит, правда, пока горелка газовая, но отец мечтает переделать на дрова. Смотрит все время телевизор, курит трубку и попивает вино. Садись!
Алексей устало опустился в глубокое мягкое кресло, Кармен достала из бара бутылку вина, графин с водой и лед, поставила на журнальный столик.
Тебе с водой? — спросила она.
— Алексей кивнул.
— В Москве мама так часто рассказывала об этом доме, что, когда мы с отцом впервые вошли в него, нам показалось: мы здесь уже бывали, — говорила Кармен, наполняя бокалы. — До сих пор не могу привыкнуть к тому, что теперь Мадрид — моя родина. Ведь это и правда родина, хотя я и родилась в Москве. Все говорят: здесь жили твои предки, значит — это твоя родина. А я чувствую, что моя родина — Москва. Как Шукшин писал — малая родина. Вот себя и утешаю: Испания — пусть моя большая родина, а Москва — малая...
— Будь счастлива, — сказал Алексей. Они чокнулись и отпили по глотку.
—...Неделю назад была у Исабель на дне рождения. Сидели, вспоминали Москву, тебя. Будинский напился, тоже стал выспрашивать о тебе... Представляешь, Исабель на днях открывает его дипломат, а он весь набит пачками долларов. Она перепугалась, а он уверяет, что доллары не его, какого-то американца, который открывает здесь фирму. Но ведь американцы вообще сейчас ездят без денег, только с кредитными карточками. Ясно, что Виктор врет. Исабель боится, что он связался с какой-то мафией... Говорит, что виллу скоро купит на море, яхту...
— Что ж она не спросит, на какие деньги? — заинтересовался Лобов.
— Здесь, как вообще на Западе, не принято говорить о доходах и вмешиваться в мужские дела. Он это быстро усвоил. В общем, твердит, что у него дела с американцами... А тут завелся, чтобы я привела тебя к ним. Пристал, как банный лист.
— Зачем? — не понял Лобов.
— Не знаю... Правда, Исабель очень хочет тебя видеть, — Кармен улыбнулась. — Она мне призналась, что тоже была в тебя влюблена, но скрывала, чтоб мне не помешать... И без нее нашлось, кому помешать...
— А Будинский официально где-то служит?
Да нигде, — усмехнулась Кармен. — То переводчиком пристроится, то гидом в экскурсионное бюро. Мадрид, надо признать, изучил до последнего переулка, а вот язык — не очень-то. Все какие-то дела проворачивает и всегда только и говорит о своих успехах. Отец мой его терпеть не может: чтоб этот скользкий тип к нам больше не приходил — так и сказал. Но теперь-то они не скоро и выберутся, с маленьким-то... О чем ты думаешь?
— Да так...
— Как Юра с Машей?.. Очень тяжело, да?..
— Конечно...
— Кармен подошла к нему, прижала к себе его голову, провела рукой по лицу.
— Я умею боль снимать. У тебя голова не болит?
— Мне надо в отель вернуться, — неожиданно сказал Лобов.
— Кармен отошла от него.
— Прямо сейчас? — робко переспросила она. — И родителей не дождешься?
— Да... — Лобов поднялся. Мы можем где-нибудь по дороге в Москву позвонить?
— По-моему, на площади Испании есть пункт...
Телефонистка соединила его с Москвой, и он сам набрал номер Вершинина. Кармен заплатила за разговор и знаком показала, что будет ждать его в машине. К телефону в квартире Вершинина подошла его мать.
— Семена Петровича будьте добры, — попросил Лобов.
— Его нет, что ему передать? — прогнусавила старушка.
— А когда он будет? — закричал Лобов.
— Не кричите, я вас прекрасно слышу, — сердито ответила старушка. — Кричат так, словно с другого края света звонят. Он в командировке, что ему передать?
— Как в командировке?! — удивился Лобов. — А где?
— Куда послали, туда и поехал, — сурово ответила старушка. — Будете что-либо передавать, я запишу.
— Ничего, спасибо, — Лобов повесил трубку.
Когда он сел в машину, Кармен спросила:
— Дома все в порядке?
— Да... — кивнул Лобов.
Они поехали, и Кармен сперва просто называла ему улицы, по которым вела машину: авенида де ла Принцесса, авенида Хосе Антонио, калье де Алкала...
— Завтра после матча придешь к нам на ужин? Мама очень просила...
— Постараюсь...
Плаза де ла Цибелес, пасео де Калво Сотело...
— Тебя что-то мучает, я же вижу. Ты скажи, Леша, я пойму, я всегда была понятливая. Я же чувствую, ты переменился...
— Не сердись, Кира, — вздохнул Лобов.
Плаза де Колон...
— Площадь Колумба, как в Барселоне, помнишь. А вот и памятник Колумбу...
Пасео де ла Кастельяна...
— Это улица, где ваш отель. Я на этой стороне остановлюсь, ладно? Поговорим немного, а потом ты перейдешь на ту сторону, ладно?
Лобов кивнул.
Она остановила машину на том самом месте, куда он вернулся днем после неудачной слежки за Знобишиным.
Кармен выключила двигатель и молча ждала, когда Алексей заговорит.
— Не сердись, Кира, — снова вздохнул Лобов. — Навалилось на меня столько, что и рассказать не могу. Как будто за глотку схватили и держат. Я ведь не из робкого десятка, а тут... сам не пойму, что со мной.
— Кто держит? О чем ты? — не поняла Кармен.
— Да так... неприятности разные держат... служебные, что ли... Мне однажды сон приснился: будто я на поле во время игры заснул. Стою и сплю! Никогда ведь не думаешь о смерти. Или о том, что тебе, твоим близким, детям грозит опасность. Живешь, как живется. Все вроде бы нормально. Но оказывается вдруг, что ты постепенно засыпаешь и теряешь в себе какую-то важную часть души... слабеешь как бы... А тут еще эти годы... так называемого застоя, когда разные мерзавцы в силу вошли...
Кармен усмехнулась.
— Тебя, выходит, политика так волнует?!
— А ты не улыбайся, не улыбайся. Сама же хлебнула, когда слова не скажи, думать не смей — за тебя уже все продумали и все сказали. Главное — уметь вовремя повторить, ввернуть, процитировать, поддержать, не оступиться... Ведь учили всему этому, вдалбливали, заставляли... Помнишь ведь?..
— Помню... — после паузы выговорила Кармен. — Мама твоя два часа плакала, уговаривала меня... отказать тебе... — глядя в сторону, говорила Кармен. — Я же для нее иностранкой была...
— Как уговаривала?! — опешил Лобов. — Почему иностранкой?
— Неужели она тебе не рассказывала об этом?
— Нет...
— Боялась, что уедешь со мной. А если не поедешь, карьеру тебе испортят, не станут выпускать за рубеж. И за карьеру отца твоего боялась. И боялась, что ей перестанут доверять — не позволят учить детей... За тебя, конечно, боялась... — Кармен заморгала, отвернулась, вытащила платок. — Впрочем, ты бы никогда и не поехал со мной, я это чувствовала... Мать мне тогда сказала: «Что ж, может, она и права, доченька!» И я отказала тебе... Я ведь должна была хотя бы ради мамы вернуться сюда...
Лобов слушал ее и не мог проронить ни слова.
Они сидели в машине, а в холле отеля Лобова поджидал Гудовичев. Доктор встал, размял плечи, вышел на улицу. Он увидел на другой стороне улицы машину Кармен. Пригляделся. Понял, что в машине сидят двое. Увидел, как голова склонилась к голове, и через мгновение открылась дверца — в салоне машины загорелись лампочки. Гудовичев быстро вернулся в холл.
Лобов направился к лифту, когда его окликнул доктор.
— Леша! Подожди... — Гудовичев подошел к нему.
— Почему не спите, док? — Лобов попытался улыбнуться.
— Да вот выходил на улицу, пивка взять — сервезы, по-ихнему. В мини-баре можно, конечно, но там дороже намного.
— Так ведь «Реал» за все платит. Они на пивке не прогорят.
Гудовичев держал в руках бутылку с пивом, Лобов точно такую видел в своем мини-баре. Совпадение? Может, конечно, и в лавке на улице такие есть, но вряд ли — там обычно сорта дешевые. Да и рядом с отелем что-то не приметил он дешевых лавчонок.
Пауза затянулась, и наконец Гудовичев спросил:
— Ты перед игрой спокойно засыпаешь? Нервишки в порядке?
— Вашим димедрольчиком в случае чего пользуюсь, — он вынул из кармана упаковку и показал доктору.
— Сегодня надо тебе как следует выспаться. У Кармен небось гостевал?
Лобов не ответил. Они вошли в лифт. Доктор нажал на кнопку пятого этажа.
— Кстати, Будинский признался — это он ко мне в номер заходил, я его попросил купить кое-что, он привез, и анаболиков стервец пару упаковок взял!.. Я ему выволочку сделал! Кстати, Исабель настойчиво зовет нас в гости. Они ведь подруги с Кармен?
— Да, подруги, — подтвердил Лобов.
Лифт остановился на пятом этаже. Они вышли.
— Бывай, Леша! Смотри, выспись как следует! — проговорил Гудовичев.
Не оборачиваясь, они пошли по коридору в разные стороны.
Выйдя из кафе после завтрака, Лобов заметил у лифта Будинского. Он держал в руках тот же пакет с матрешками «Березка», который Лобов видел у Знобишина. Пакет был тяжелый, Будинский придерживал его второй рукой, и это Лобова насторожило.
Раскрылись двери сразу двух лифтов. В один из них вошел Будинский, Лобов заскочил во второй. Советская команда жила на пятом этаже, и Лобов нажал кнопку 5.
На пятом Алексей увидел, как Будинский быстро шел по коридору. Лобов двинулся за ним. Перед дверью Барсукова Будинский остановился, постучал. Ему ответили, и Будинский скрылся в номере Барсукова. Все произошло мгновенно, и Лобов в растерянности несколько секунд стоял на месте, потом сел в кресло в небольшом холле тут же на этаже, стал ждать. Кресло оказалось огромным, и Лобов, утонув в нем, практически был не виден, зато сам мог видеть все.
Будинский пробыл у Барсукова недолго. Вышел он с тем же пакетом, правда, на этот раз пакет был тощ, видимо, товар Будинский отдал. Пройдя несколько номеров, Будинский остановился и постучал в номер Лопарева. И снова скрылся за дверью.
Лобов усмехнулся. Прошло еще несколько секунд, и Будинский выпорхнул от Лопарева, видимо, он спешил. Пакета у него в руках не было. Через мгновение, почти следом за ним выскочил Лопарев.
— А с «капустой» как?! — крикнул Лопарев.
— Вечером занесу! — ответил Будинский.
— О'кей! — пробурчал Лопарев и скрылся за дверью.
Лобов неподвижно сидел в кресле. Из своего номера вышел Барсуков, без стука зашел к Лопареву.
Откуда-то снизу слышалась мелодия блюза и надсадно выл саксофон.
Лобов лежал на массажной скамье, и Гриша Земцов массировал его. Лобов морщился от боли, но Гриша его успокаивал:
— Терпи, герой. Больно — это даже хорошо. Боли не надо бояться. Без боли ничего хорошего не получится. Через боль материнскую нам жизнь достается...
— А ты, оказывается, философ, — буркнул Лобов.
Гудовичев, прислушавшись к их разговору, подошел и сказал Земцову:
— Пойди займись Рашидом. Я сам закончу. А то ты со своим старанием и теориями разными замучаешь нам центрфорварда.
Гриша отошел в сторону. Гудовичев достал из кармана тюбик, выдавил мазь на ладонь и начал массировать Лобову мышцы ног.
— Наша промышленность даже мази нормальные не обеспечит, — проворчал доктор. — Сам составляю, когда импортные кончаются. Госкомспорт на валюту жмется. Нас обдирают и на нас же экономят. Перестройка называется?! Ну, так что, после игры заедем в гости к Исабель? Будинский сказал, что довезет. Туда и обратно. А то, если хочешь, на машине Кармен приезжайте. Неплохо бы вместе посидеть, потолковать, а?
— Это было бы неплохо, — прошептал Лобов и скосил взгляд на Земцова, который уже массировал Рашида и тоже поглядывал на скамью, где лежал Лобов.
— Вот только Виктор мне что-то в последнее время не нравится, — продолжал, вздохнув, Гудовичев. — Никак настоящим делом не займется. У них тут, правда, с тунеядцами не борются, но совесть надо же иметь. Тем более прибавления в семействе ждут. Пытался я ему втолковать, а он отшучивается, говорит, я и без работы живу получше других. И ведь верно, деньжата у него водятся. Откуда чего — непонятно! Тебе небось Кармен рассказывала?
— Рассказывала, — подтвердил Лобов.
Гудовичев сокрушенно покачал головой, продолжая втирать мазь, и после секундной паузы задумчиво произнес:
— Тем более надо нам заехать к ним. Может, удастся наставить парня на путь истинный.
— Боюсь, не получится, док.
— Что не получится? — переспросил Гудовичев.
— Заехать... Сами прикиньте: игра кончится в десять. В отель попадем не раньше одиннадцати. Куда же тут?
Гудовичев опять помолчал.
— Ладно, — согласился он, — посмотрим, какое настроение будет. Если неплохо сыграете, можно и на ночь закатиться. Никто слова не скажет...
К ним подошли Земцов и Назмутдинов. Гудовичев хлопнул Лобова по спине.
Ну, все, форвард. Ты готов. Освобождай место для следующего. Лобов встал со скамьи, Рашид лег на нее. Земцов, прежде чем приступить к работе с ним, с улыбкой спросил у Лобова:
— Кто лучше массирует? Я или ваш Гудок?
Лобов выразительно посмотрел на массажиста, ничего не ответил, взял мяч и начал им жонглировать.
Матч начался яростными атаками «Реала». Сдерживая натиск, футболисты «Полета» оборонялись всей командой. Мяч не покидал половины поля гостей.
Трибуны ждали гола. Вымпелы, флаги, лозунги, шары, ленты метались над трибунами. Глаза слепило от красок. И неумолчно гремели барабаны.
Наконец неизбежное случилось. Мяч влетел в ворота «Полета». Восторженным ревом встретили трибуны удачу своих.
Веселов, Барсуков, Лопарев понуро сидели на скамье запасных. Гудовичев с досадой махнул рукой. И только Земцов с нескрываемым интересом смотрел по сторонам.
— Во дают! — неожиданно сказал он.
— Заткнись ты, — оборвал его доктор.
Начиная с центра поля, Лобов приказал Назмутдинову и Знобишину:
— Хватит жаться к штрафной! Я больше не оттягиваюсь. Рашид, иди на свое место. А ты, Олег, мяч не мни. Подлиннее вперед. Ищи меня или Рашида. Поняли?!
На удивление легко им удалось забить ответный гол. Испанцы, стремясь развить успех, снова ринулись вперед всей командой. Но когда наши защитники отбились у линии своей штрафной площадки и мяч попал к Знобишину, тот сделал длинную передачу на правый фланг. Там Назмутдинов обыграл защитника и, дойдя до угла штрафной площадки «Реала», низом послал мяч налево. С места левого инсайда Лобов без задержки нанес сильный удар с ходу: мяч влетел в верхний угол ворот хозяев поля.
— Ура! — завопил Веселов, вскочив со скамейки.
— Во дает?! — удивленно сказал Земцов.
Барсуков крепко обнял Лопарева и пожал руку Гудовичеву. От счастья сияли лица запасных «Полета».
А стадион мгновенно затих. И вдруг где-то вверху, над скамейкой запасных гостей, раздался звонкий голос трубы. Все обернулись, но снизу ничего не было видно.
Лобов, уже стоя в центральном круге, тоже среагировал на звук трубы. Он увидел Марию, мать Кармен, которая отчаянно дула в трубу. А рядом размахивала красным флагом Кармен!
— Мы же говорили им — действуйте на контратаках! — не мог успокоиться Веселов.
Но разделить с ним радость уже было некому. Барсуков и Лопарев хмуро смотрели на поле: игра возобновилась.
— Что за люди?! — буркнул Веселов, усаживаясь на свое место. — Даже радоваться не умеют...
На перерыв команды уходили при счете 1:1.
Лобов вошел в раздевалку хромая, устало опустился в кресло. И тут же к нему подлетел Земцов. Не говоря ни слова, стянул бутсу с правой ноги, закатал гетру, вытащил щиток и обнаружил большую гематому на ноге. К ним сразу подошли Барсуков и Гудовичев.
— Можешь играть? — спросил Барсуков.
Лобов пожал плечами.
— Сможет, сможет, — не поднимая головы, ответил Земцов. Он уже достал из своего ящичка заморозку, а доктор протянул ему какую-то белую мазь.
— Что это? — спросил Земцов.
— А тебе какое дело? — неожиданно резко вмешался Лобов. — Док знает, что надо.
Земцов удивленно посмотрел на Лобова снизу вверх.
— Бери, бери, — примирительно сказал массажисту Гудовичев. — Поработаешь с мое, сам будешь держать в кармане для таких случаев.
— По-моему, заморозки бы хватило, — недовольно проворчал Земцов, но мазь все-таки взял.
— Леша, терпи, сколько сможешь, — попросил Барсуков. — В случае чего — дай знак. Заменим.
— Ни в коем случае! — вмешался Веселов. — На него смотрит вся Россия!
— Скажите лучше — Барселона, — опять резко сказал Лобов.
— Не мешайте мне работать! — не поднимая головы, довольно-таки грубо произнес Земцов.
— А ты тут... — вскипел было Веселов, но Барсуков взял его под руку и увел в сторону.
— Надо подбодрить ребят, — шепнул ему тренер.
— Ребята! — с места в карьер начал Веселов. — Необходимо поднажать! Мы можем их обыграть!
— Пообещайте что-нибудь, — снова шепнул ему Барсуков.
— А как же?! — воодушевился Веселов. — Нам разрешили, если выиграете, заплатить вдвойне!
— А если не проиграем? — спросил Знобишин.
— Тогда... тогда... — смутился Веселов.
— Тогда, — вмешался Барсуков, — заплатим столько же, сколько при победе. Все ясно?!
Веселов потянул его за рукав, но Барсуков выдернул руку.
— Мяч не передерживать, — продолжил он. — План не меняем, все как договаривались. Одна контратака удалась, почему бы еще такую же не устроить?..
Невообразимый шум стоял на трибунах. На протяжении всего второго тайма испанцы яростно атаковали. Один за другим следовали удары по воротам, но хозяевам поля отчаянно не везло: промахивались из выгоднейших положений форварды, «мертвые» мячи доставал вратарь москвичей, мяч попадал в штанги, в перекладину и упорно не шел в ворота.
Единственная острая контратака удалась гостям минут за двадцать до конца встречи. Лобов получил мяч в центральном круге, сыграл в «стенку» со Знобишиным и на скорости прорвался по центру. У линии штрафной площадки испанцев он обыграл защитника, вошел в штрафную, но тот догнал его и сбил с ног. Пенальти! Судья-англичанин назначил его, не задумываясь.
Лобов катался по земле, корчась от боли. К нему бежали со своими чемоданчиками Гудовичев и Земцов...
В Москве, сидя у телевизора, ревела Маша.
— Папа, папочка! Вставай...
— Перестань, — нахмурившись, сказал Юра. — Бабуля, уведи ее отсюда.
— Машенька, пойдем, пойдем, милая...
— Ну-ка, что тут у тебя?! — Доктор присел перед Лобовым. — Помогите мне, — обратился он к Земцову и двум игрокам «Полета».
Они подняли Лобова и вынесли за линию ворот.
Мяч на одиннадцатиметровой отметке установил Знобишин.
Гудовичев и Земцов колдовали над ногой Лобова, а тот — с гримасой боли на лице — не сводил глаз с разбегавшегося Знобишина. Он пробил сильно — мяч попал в перекладину и по дуге улетел за ворота.
Стадион радостно взревел.
Лобов закрыл глаза. Все поплыло перед ним. Искаженные лица Барсукова и Лопарева. Оба что-то кричат, но ничего не слышно. Будинский сует Барсукову зеленый полиэтиленовый пакет, тот рвет его на части и бросает в лицо Лопареву. Обрывки пакета падают на траву. Земцов бросается подбирать их. Он ползает по траве, собирает обрывки пакета и пытается сложить их в одно целое.
Лобов открывает глаза. И видит, как Земцов возится с его ногой, а Гудовичев держит у его лица ватку, пропитанную нашатырным спиртом.
Появились носилки. Лобова укладывают на них и несут вдоль трибуны, мимо скамейки запасных «Полета». Сверху, на трибуне, он замечает испуганные, тревожные лица Кармен и ее матери.
И снова закрывает глаза...
Теперь он лежит на массажной скамье. В раздевалке непривычно тихо.
— Я же говорил, не надо было эту мазь накладывать, — слышит Лобов голос Земцова.
— При чем тут мазь?! — обрывает массажиста Гудовичев.
— Надо сделать блокаду, — говорит Земцов.
— Не надо никаких уколов, — пытается крикнуть Лобов, но голос не слушается его, получается негромко.
— Не волнуйся, Леша, — спокойно возражает Гудовичев. — Тут он прав.
— Док, как сыграли? — тихо спрашивает Лобов.
— Вничью! — сухо отвечает подошедший Барсуков.
— Жаль... — прошептал Лобов.
— Вот именно! — Это уже встревает Веселов. — И все из-за этого болвана, который не может забить пенальти!
— Знобишин сидит в кресле, опустив голову и закрыв лицо руками.
— Да что вы все — с ума посходили?! — неожиданно взрывается вратарь. — С «Реалом»! На его поле! Вничью сыграли! А настроение — похоронное?!
— За ничью, между прочим, обещали заплатить, как за победу, — спокойно вставляет Земцов, только что сделавший Лобову укол.
— Помолчи ты! — обрывает массажиста Веселов.
Лобов тяжело слезает со скамьи и, хромая, но уже без посторонней помощи, добирается до кресла. Он садится рядом со Знобишиным и кладет руку ему на плечо.
— Брось ты убиваться. Ничья — это неплохо, — он оживляется и обводит взглядом ребят. — Это даже здорово! В Москве нас и 0:0 устроит, а мы их обязательно обыграем, верно?!
— Конечно, обыграем, — подхватывает Назмутдинов.
Игроки начинают раздеваться и поочередно направляются в душевую.
— Надо что-то сказать, — шепчет Лопарев Барсукову.
— Действительно, ничья — это неплохо, — встрепенулся тот. И добавил, обращаясь к Веселову: А обещание мы обязательно сдержим, правда ведь?!
Веселов, насупившись, молчал. Барсуков подошел к нему и негромко сказал:
— Между прочим, руководству, как вы прекрасно знаете, полагается столько же, сколько игрокам.
— Вот именно! — успевает вставить Земцов. Веселов смерил его презрительным взглядом и громко объявил:
— В моей жизни не было случая, чтобы я не сдержал обещания!
Земцов посмотрел на Лобова и подмигнул ему. Но Лобов отвернулся.
Кармен и ее мать помогли Алексею выйти из машины, и они не спеша вошли в дом. Отец встретил их в дверях, крепко пожал ему руку.
— Не вешай нос, форвард. Ты играл, как настоящий тореро. Здесь понимают в этом толк. Я заказал Москву. У тебя дома наверняка волнуются.
— Спасибо большое. Но вы ведь не знаете номер телефона.
— Почему? У Кармен записан. Я нашел.
— Нет... — смущенно проговорил Алексей. — Пожалуйста, перезвоните на станцию. Вот какой надо, — он протянул отцу Кармен записную книжку.
— Да-да, папа, — подтвердила Кармен, — сообщи другой номер.
— Как знаете, — согласился удивленный отец, — сейчас позвоню.
Они прошли в уже знакомую Алексею гостиную. Он сел в то самое кресло, где сидел накануне вечером.
Мать принесла фрукты. Следом вошел отец с телефонным аппаратом на длинном шнуре.
— Уже соединяют. Тот номер, что ты просил, Леша.
— Алло, Юрочка! Вы уже спите, конечно. Да-да, папа. У меня полный порядок. Не волнуйтесь — обыкновенный ушиб. Кто звонил? Семен Петрович?! Значит, он в Москве. Понял, понял. Это хорошо. Очень хорошо. Завтра вечером. Сразу к вам. А как же?! Целую тебя. Машеньку и бабушку успокой. Ну, привет. Спокойной ночи!..
Алексей положил трубку.
— Значит, он в Москве!..
— Кто? — спросила Кармен.
— Ты не знаешь его, Кира. Но для меня это важно. Особенно сейчас.
— Это связано с той историей?
— С какой?
— С фальшивыми долларами.
— А ты откуда знаешь?
— От Виктора. Не связывайся с ними, Леша. Он мне как-то задолжал. И вернул долг долларами. Одна купюра оказалась фальшивой. Отец обнаружил. Виктор страшно переживал. Объяснял, что испугался за нас. А потом взял с нас слово, что мы — никому. И рассказал вашу барселонскую историю. Но добавил: если проболтаетесь — не жить... Он вообще-то не злой. По-моему, он сам запутался. Зато как он старался устроить тебе контракт с «Барселоной».
— Я решил туда не ехать.
— Как? — Кармен от неожиданности остолбенела. — Почему? Отец поставил бокал с вином на столик и внимательно посмотрел на Алексея. Даже мать остановилась в двери гостиной — с подносом она шла на кухню доложить фруктов.
— Я уверен, вы поймете меня, — заговорил Алексей. — Дети остаются одни. С бабушкой, конечно, но без отца и матери нельзя в их возрасте. И без того я уделял им мало внимания — футбольная жизнь такова, что дома почти не бываешь. Вот я и решил: с футболом вообще закончу. Буду жить, как все люди. Работать и растить детей.
— А я? Как же я? — прошептала Кармен.
Алексей поднялся, подошел к ней, хромая, обнял за плечи. И тихо сказал:
— Если мы любим друг друга... по-настоящему... то все устроится... Не знаю, как и когда... но устроится. Может быть, через год... или через три... Если любим по-настоящему. Нельзя строить свое счастье на несчастье других... Ты же сама всегда так считала.
Кармен уткнулась лицом ему в грудь.
— Любовь эгоистична, Леша, — прошептала она. — Я не могу без тебя... жить не могу...
Неожиданно резко, требовательно зазвонил телефон. Отец взял трубку, сказал несколько слов по-испански и протянул трубку Кармен. Она тоже говорила по-испански, а потом, положив трубку, сказала Алексею:
— Это Исабель. Умоляет на обратном пути заехать к ним, хоть на десять минут. Я обещала.
— Тогда поехали, — решительно сказал Алексей. — Раз обещала... Извините меня, — он обратился к отцу и матери, — но так все сошлось. Извините, если огорчил вас. Спасибо.
По мосту они пересекли Манзанарес и остановились на набережной около высокого дома с большим подземным гаражом. По другую сторону набережной начинался зеленый массив — парк стадиона «Висенте Кальдерон».
— Не буду заезжать в гараж, — сказала Кармен, — мы же ненадолго.
Они поднялись лифтом на пятнадцатый этаж: просторный холл приглашал в четыре квартиры. Одна из них и была квартирой Будинских. Она оказалась просторной, шикарно, даже помпезно обставленной.
Исабель кинулась им навстречу и повисла на шее Лобова, целуя его в обе щеки.
— Лешенька, дорогой, я уж и не верила, что увижу тебя. Как я соскучилась, если б ты только знал?! Мне каждую ночь снится наш двор, где мы с тобой росли, серый пятиэтажный дом в Капельском переулке... Ты хоть бываешь там? Уверена, что нет. Московская жизнь не сентиментальна, правда? Если б я жила в Москве, тоже бы не выбиралась с Песчаной на наши Мещанские улицы. Да ведь их же все переименовали давным-давно!..
Лобов поцеловал Исабель в щеку, но сделал вид, что не заметил протянутой руки Будинского, и захромал вслед за Кармен в гостиную. Там около бара, заставленного всевозможными напитками — от английского и испанского джинов до разных сортов водки: «Смирнофф», «Горбачефф», «Абсолют», от рома «Баккарди» до виски «Джим Бим», — сидел в кресле Гудовичев, потягивая через соломинку джин с тоником.
— Привет, док, — сказал Лобов.
— Как нога? — радостно улыбнулся Гудовичев. — Двигаешься неплохо.
— По-моему, хорошо. Тянет, правда, но не болит.
Лобов осмотрелся: старинная мебель, антикварный карточный столик с зеленым сукном и следами записей, сделанных мелом на сукне, на стенах — картины, расположенные рядами, как в галерее.
— Прилично живут местные безработные, а, док?
— Мне больше по душе вот эта выставка, — Гудовичев засмеялся и кивнул в направлении бара. — Я уже все перепробовал и никак не решу, чему отдать предпочтение. Тебе тоже можно. Считай, на месяц выбыл.
— Неужели на месяц?! — Лобов помрачнел. — А я надеялся к ответной встрече с «Реалом» подойти.
— На это не надейся. Спешить тебе нельзя. Да ребята и без тебя справятся. Что они, по нулям не сгоняют?! А тебе рисковать нельзя — перед Барселоной надо как следует вылечиться.
— А он... — Кармен едва не проговорилась, но вовремя осеклась, перехватив строгий взгляд Лобова.
Гудовичев не обратил внимания на ее слова. Зато Будинский воспользовался случаем и вступил в беседу:
— Что — он? — спросил Будинский и сам же оживленно продолжил: — Рвется в бой, как всегда?! Ох уж неугомонный народ, эти форварды. До всего им есть дело? Казалось бы, как хорошо: отдохни, поблаженствуй, вместо того чтобы грязь месить на московском поле, съезди в Сочи, полечись грязями, а потом в Барселону, на изумрудную травку... Ме-чта! Я вот и то подумываю заиметь домик на берегу моря в окрестностях Барселоны. Там, между прочим, сам Сальвадор Дали проживал.
— Не его ли это рисунок? — спросил Лобов, отошедший к стене и рассматривавший картины, отчего и слушал он тираду Будинского, стоя к нему спиной.
— А как же! — обрадовался Будинский. — Оригинал, между прочим. Ты знаешь, форвард, сколько он стоит?
— Полагаю, немало. И все это, — Лобов жестом обвел стену, — тоже оригиналы?
— А ты как думал?! Неужели я повесил бы в своем доме подделки?!
— Да, — согласился Лобов, — подделки — это не то. Хоть картины, хоть деньги. На подделках все равно погоришь, рано или поздно.
Улыбка сползла с лица Будинского.
— Ты о чем это, форвард?
— О подделках. О чем же еще? Когда я вляпался с теми фальшивыми долларами, подумал: если уж я не заметил, то все эти наши московские фарцовщики вовек не отличат. Иметь бы такие доллары, в Москве можно состояние сколотить. Сейчас у нас все рвутся в поездки за рубеж и мечтают доллары стрельнуть...
Будинский внимательно слушал Лобова, пытаясь определить, серьезно тот говорит или с подначкой.
— Леша, прекрати чушь молоть, — мирным тоном вступил Гудовичев. — Зачем дразнишь нашего безработного богача? Он и без того не всегда задумывается — что можно и что нельзя, — прежде чем связаться с деловыми людьми. Я ему целый час мозги вправлял: хочешь иметь много денег — заведи законное дело, повкалывай, как все миллионеры вкалывали и вкалывают. А то вместо виллы под Барселоной заимеешь комнатушку с видом на небо в клетку.
— Не верится мне, док, что он вас хорошо понял, — сказал Лобов и обратился к Исабель: Пора нам. Белочка. Мне надо ногу посмотреть и в покое ее держать. Ты уж извини. Живете вы хорошо. Желаю тебе сына родить, а еще лучше — сразу двойню. Спасибо за приглашение. Увидимся еще. Наверняка увидимся.
Он поцеловал Исабель. Кармен тоже расцеловала подругу, у которой слезы навертывались на глаза.
— Док, вы еще побудете? Или с нами?
Гудовичев решительно встал, чуть покачнулся.
— Поздно уже, — опередил он пытавшегося что-то сказать Будинского, — если не возражаете, я с вами.
В машине Гудовичев сидел рядом с
Кармен, а Лобов — на заднем сиденье. Наклонившись к доктору, Лобов говорил, казалось бы, убедительно, но нарочито сгущал краски, отчего Кармен время от времени искоса поглядывала на него, однако не решалась ни прервать, ни включиться в разговор.
— Видите ли, док, вы опоздали со своими проповедями добропорядочной жизни. Он уже погряз в таких темных делах, о которых нам с вами и не снилось. Тут .и фальшивомонетчики, и торговцы наркотиками, и убийцы, и мафиози — а он делает вид, что ничего не знает и не понимает. Да он уже давно на крючке у Интерпола. Его не берут только потому, что хотят через него всю сеть определить. Я это знаю доподлинно. За его квартирой и сейчас следят. С него вообще глаз не спускают. Даже телефон прослушивают...
Машина мчалась по ночному Мадриду. Разноцветные огни реклам пробегали бликами по лицам Кармен, Гудовичева, Лобова. Доктор слушал с напряженным вниманием. Он окончательно протрезвел: то неверие, то страх, то даже ужас читались в его глазах. Он ничего не говорил, не перебивал Лобова, только периодически шептал:
— Неужели, неужели?..
Они остановились у входа в отель.
— Да-а, — тяжело вздохнул Гудовичев, — раскрыл ты мне, Леша, глаза. Что же делать-то теперь? А я ведь к нему всей душой. Какой подлец, какой подлец...
Он с трудом вылез из машины, покачнулся и с отрешенным видом побрел к входу. Кармен и Лобов тоже вышли из машины. Она проводила его до дверей. Доктор уже был в холле. Он обернулся и послал им воздушный поцелуй.
Кармен обняла Лобова, крепко поцеловала его.
— Лешенька, дорогой, любимый мой, отдыхай, береги себя. Завтра мы не увидимся. Я не могу вырваться из редакции. Но позвоню обязательно. Это все правда, что ты говорил о Викторе?
Лобов прижал ее к груди.
— Не думай об этом. Но держись от него подальше.
— А как же Исабель? Бедняжка, как ее жалко!
— Конечно жалко. Ты позванивай ей почаще. А что еще мы можем?
Он поцеловал Кармен в губы.
— И ты себя береги. Из Москвы буду звонить тебе раз в неделю. И ты звони. Или ко мне, или к теще. В Сочи я лечиться не поеду. Наверняка у нас в ЦИТО справятся. Завтра еще поговорим. Спокойной ночи.
Ему не спалось. Он попробовал было читать в постели, но никак не мог сосредоточиться. Выключил лампу и лежал в темноте, глядя в потолок, когда зазвонил телефон. Не вставая. Лобов взял трубку. На чистом русском ему сказали:
— Если хочешь, чтобы твоя девица осталась жива, одевайся и спустись в ночной бар отеля. Там к тебе подойдут.
— Дайте... дайте ей трубку... — выдавил из себя Лобов.
Но на другом конце провода уже прозвучал отбой.
Несколько секунд Лобов соображал, что ему надо делать, потом вскочил, стал одеваться.
Он вошел в бар и в дальнем его конце увидел Земцова, сидящего спиной ко входу. Лобов хотел было направиться к нему, как почувствовал руку, сдавившую плечо. Обернулся. Перед ним стоял Будинский. Он подтолкнул Лобова влево, в кабинку, отгороженную ширмой от зала. Лобов задел травмированной ногой крутящееся металлическое кресло в кабинке и застонал от боли.
— Давай без глупостей! — холодно проговорил Будинский. — Все в твоих руках!.. Я хотел с тобой дома все обсудить, но ты взбрыкнул, пришлось применить прессинг!.. Я знаю, это неприятно, но что делать?!
— О чем ты?! — не понял Лобов.
— Не прикидывайся рваным пиджачком! Ты и дома у меня наговорил достаточно! Скрытые угрозы, намеки!.. Я знаю все, что произошло в Москве!..
— Не сомневаюсь!.. — усмехнулся Лобов.
Будинский выдержал паузу, оглянулся, точно кому-то подал знак.
— Так вот, я хочу знать, что знаешь ты и что тебе говорил об этом твой сыщик!.. Предупреждаю заранее, что только чистосердечное признание может облегчить участь Кармен, твою и твоих детей!..
Лобов при упоминании о детях невольно содрогнулся.
— Ну?! — торопил Будинский.
— Я попал в эту историю случайно, сам понимаешь!.. — вздохнул Лобов. — Не будь тех фальшивых двадцаток... Потом случайно увидел в стекляшке Бондаренко и Знобишина! Да и вообще, сам знаешь, наверное, у нас каждый второй чего-то везет на обмен, на продажу, лишь бы валюты побольше!.. Сам первое время лишнюю пару наручных часов прихватывал... А тут тебя увидел: огромный пакет из «Березки» тащишь. Зашел к Барсукову. Пакет опустел. Потом к Лопареву — пакета нет!.. А тут накачка следовательская: мол, торговля валютой, меня по телефо-ну пугают, жена разбилась, Бондаренко убили... Как ты думаешь после всего этого?! Тут любой шпионом покажется?! А в номер сегодня вернулся: выругал себя за это бабство! Нервишки просто сдают!.. Так что...
— А Интерпол тут при чем?! — спросил Будинский.
— Какой Интерпол?! Я дома у тебя о нем не говорил! — не понял Лобов. — Это я в машине, Гудку...
— Нет, я дома слышал, как ты это словцо ввернул! Это меня и разозлило!.. Я думаю: ах ты сволочь! И понесло!.. — уже словно оправдывался Будинский.
— Да это я так! — усмехнулся Лобов. — Знаю, что Интерпол есть, вот и все!.. Да посмотри на меня: какой я сыщик?! Если бы я был сыщиком, стал бы я трепаться вот так. в открытую?! Сыщики, знаешь, их не слышно и не видно!..
Будинский молчал, хмурился, не зная, верить Лобову или нет.
— Да и потом я в «Барселону» на два года собираюсь! Какой мне смысл тебя или кого-то закладывать, если я тут у тебя под боком постоянно буду?! Подумай головкой своей ватерпольной!..
Последняя тирада, видимо, подействовала. Будинский усмехнулся, развалился в кресле.
— Это ты прав насчет «Барселоны»!.. Логично!.. Ну а если сюда собираешься, какого черта ты языком весь мусор собираешь?! Ну, навариваю я немного, так это здесь, у нормальных людей, бизнес называется!.. Вам в Союзе уже все мозги этим социализмом прокомпостировали! Вы нормального бизнесмена за жулика принимаете! Скажи спасибо, что я еще тебе попался! Другой бы пришил и поминай как звали!..
— Ну, спасибо еще рано говорить, могли бы и без Кармен разобраться!.. — холодно напомнил Лобов. Отпусти ее!..
— А ее никто и не трогал! — усмехнулся Будинский. — Это чтоб ты пошустрей спустился!..
Лобов, не мигая, смотрел на Будинского.
— А вот если ты в Москве решишь отличиться, тут я ей не завидую!.. Впрочем, и тебе тоже!.. — пригрозил Будинский. — Ты меня понял!
— Понял! — Лобов поднялся и, ковыляя, дошел до телефона. Набрал номер. Ответила Кармен.
— Я тебе звоню в номер, никто не подходит! — забеспокоилась она. — Ты где?!
Будинский насмешливо наблюдал за Лобовым.
— Я у врача, массаж делали, потом мазью растирали!.. Сейчас отдохну и поковыляю к себе! Не волнуйся, до завтра!..
Лобов положил трубку, захромал к выходу. Когда он проходил мимо кабинок, то в соседней, рядом с той, в которой Будинский допрашивал Лобова, сидел с бокалом Земцов. Лобов криво усмехнулся.
— Смотри, форвард, без глупостей! — услышал он в спину реплику Будинского. Но не оглянулся.
Лобов вышел на своем этаже и, хромая, побрел к номеру. Он вставил ключ в дверь, отпер ее, но в номер не зашел. В задумчивости стоял перед дверью. Потом резко повернул ключ, заперев дверь, и пошел назад по коридору. Пройдя мимо лифта, пошел дальше и оказался около номера Гудовичева.
В нерешительности он стоял у двери чужого номера: постучать или нет? И вдруг за дверью зазвонил телефон.
— Алло, да, я, а кто же еще? — донесся из-за двери голос Гудовичева.
Какое-то время за дверью было тихо: доктор, понятно, слушал, что ему говорили по телефону. Наконец Лобов услышал, как Гудовичев орет в трубку:
— Идиот, кретин! Куриные мозги у тебя! Какой Интерпол? Кто тебя просил все выбалтывать? Тебе приказали его расспрашивать, а не трепаться! Ты же все испортил, болван, и нас обоих выдал ему с потрохами! Где он сейчас? Пошел ты к черту, дерьмо собачье!..
И там, за дверью, Гудовичев бросил трубку.
Лобов стоял, не шелохнувшись. Уйти — ведь теперь все ясно? Но разве не стало ему это ясно еще внизу, в баре? Или постучать, войти, посмотреть в глаза этому человеку?
Неожиданно дверь распахнулась, и они застыли лицом к лицу. Стояли и молча смотрели друг на друга. У обоих на лицах не было и следа злости. Только безмерная усталость. Оба понимали — или делали вид, что понимают, — их поединок подходит к концу. Или уже подошел?!
Первым принял решение старший по возрасту.
— Ну что ж, Леша, заходи. Не бойся. Ты же все слышал?! Я один в номере. Я вдвое старше тебя и втрое слабее. Со мной ты справишься, даже больная нога не помешает. Чего тебе бояться? Я же не бугай Будинский. Бугай Будинский! Неплохо звучит, а?
Ни слова не говоря, Лобов шагнул в комнату и быстро прошел вперед, обернулся. Гудовичев не спеша закрыл дверь и устало опустился в кресло.
— Спрашивай, — спокойно сказал он. — Отвечу на все твои вопросы.
Лобов молчал, стоя у окна.
— Не хочешь... Не хочешь со мной разговаривать. Твое право. Тогда слушай. Как думаешь, сколько мне лет? Я скажу тебе. Мне год до пенсии. У меня две дочери. Обе были замужем и обе разведенки. У меня три внучки. Безотцовщина. Никаких алиментов. У жены астма, еще с молодых лет. Так что считай: шесть женщин у меня на иждивении. А знаешь ли ты, что, когда врача берут на работу в Госкомспорт, он подписывает документ о неразглашении, как будто начинает работать на оборону страны. Не знаешь... То-то. А знаешь ли, что, когда тренер гандболисток Турчин защитил диссертацию, то она легла чуть ли не в спецхран с грифом «секретно»?! Ее нельзя было опубликовать. О подготовке гандболисток — и секретно, а? Потому что мы все знаем, как даются медали и рекорды. Мы знаем, чем кормим вас, спортсменов, перед чемпионатами и олимпиадами. И вот сейчас решили обходиться без допингов, без анаболиков, без переливаний крови. Ты веришь, что Грамов обойдется без них? Я не верю. Но это не мое дело. Хотят обойтись без них — пускай. Но почему я должен беспокоиться о здоровье разных испанцев, американцев и всяких прочих шведов? Все они мечтают об анаболиках и готовы платить за них бешеные деньги. А тот же Барсуков? Он же приказал мне перед сегодняшним матчем дать вам кое-что запрещенное под видом витаминов. И Веселов об этом знал. По-твоему, я должен был отказаться? Но вы-то все проглотили, и ничего, результат подходящий — он все спишет. Вот так-то, Леша.
Лобов молча вынул из кармана две таблетки и бросил на журнальный столик.
— Ах ты хитрый какой! — усмехнулся Гудовичев. — Ты их не принял. И что доказал? Остальные-то играли, и неплохо играли после этих таблеток. Пока ты будешь хромать, они снова примут, если Барсуков мне прикажет. И Грамов никогда не узнает. Потому что узнает он только о результате. И похвалит Веселова, Барсукова и меня, старика. Вот так-то, Леша. Не грусти. Помнишь, как у Лермонтова в «Тамани»: «Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?» Все. Я все тебе выложил. Как на духу. Теперь сам решай. Моя жизнь кончена. Через год на пенсию. Ты сам отец, тебе двоих ребят на ноги ставить. А мне... о жене и дочках уж не говорю... Дожить бы, чтобы погулять на свадьбах внучек. Ну, что молчишь? Скажи хоть, что делать будешь?
Лобов медленно пошел ему навстречу. Гудовичев напрягся, сидя в кресле. Но Лобов, ни слова не сказав, прошел мимо. Дверь за ним захлопнулась с легким стуком.
В Шереметьеве шел дождь.
Хотя «Полету» еще предстоял ответный матч с «Реалом», ничья на поле одного из сильнейших клубов Европы была справедливо расценена как успех, и футболистов встречали с цветами. Их поздравляли, целовали не только близкие, но и незнакомые люди.
Лобов, прихрамывая, пробивался сквозь толпу, хмуро кивал, не откликался на поздравления, уклонялся от ответов на вопросы корреспондентов. Уже подойдя к автобусу, он увидел, как Гудовичев садится в такси, а ведь обычно оставлял собственную машину на стоянке аэропорта. Выруливал на своих «Жигулях», пробираясь через забитую машинами площадку, Земцов. Его «Жигули» пристроились вслед за такси, в котором отъехал доктор.
Лобов прошел в конец автобуса, сел к окну, откинулся на спинку и закрыл глаза...
Юрка открыл дверь, бросился навстречу отцу, обхватил его за шею. Оба они не смогли сдержать слез. В прихожей появились Маша и бабушка...
Актер и Бегунок поднялись по лестнице на третий этаж, подошли к двери квартиры Лобова, прислушались. В квартире было тихо. Бегунок деловито достал отмычку, бесшумно открыл дверь, снова прислушался. Тихо, ни звука. Он кивнул Актеру, чтобы тот следовал за ним, и первым вошел в прихожую. Дождавшись, пока Актер прикроет дверь, зашел в комнату. В полумраке огляделся. Никого. Подошел к окну, достал фонарик, включил и тут же выключил его. Вздохнул, отошел от окна.
— Проходи, чего встал! — буркнул Бегунок.
Актер тоже вошел в комнату. Бегунок деловито направился на кухню, но в ту же секунду у его горла оказалось дуло пистолета.
— Руки! — приказал мужской голос.
Бегунок обернулся. Стоял с поднятыми руками и Актер, в спину которого упирался пистолет второго оперативника. Из соседней комнаты вышел Вершинин. Оперативники быстро надели бандитам наручники.
— Привет, Бегунок, — спокойно сказал Вершинин.
— Здрасьте, — скривился Бегунок, увидев Вершинина.
— У меня к обоим один вопрос: кто послал? Я знаю, кто вас послал, но мне важно, чтобы это сказали вы!.. Будем говорить?
— Ничего я не знаю, — прохрипел Бегунок.
— Ты тоже не знаешь? — спросил Вершинин у Актера.
Тот пожал плечами.
Вершинин с помощью дистанционника включил видеомагнитофон. Загорелся экран, на нем возник эпизод из футбольного матча: Лобов нанес удар по воротам — вратарь в красивом броске отбил мяч.
— Вот черт! — поморщившись, сказал Вершинин, но добавил: — Не к месту, а здорово.
И в ту же секунду изображение сменилось, на экране возникли «Жигули» с номером Т 16-16ММ. Машина подъехала к небольшой даче. Мелькнула надпись: ул. Садовая, 16. Гудовичев Н. М. Бегунок вылез из машины, пробежал через участок, вошел в дом. Вскоре он вышел из дома с набитой сумкой. В машине он открыл сумку, вытащил пачку долларовых купюр, помахал перед носом Актера. У того загорелись глаза. Бегунок спрятал пачку, закрыл сумку, завел мотор...
— Вопрос тот же, — сказал Вершинин. — Кто вас послал и зачем?
— Гудок послал, — чуть помедлив, ответил Бегунок. — Убрать Лобова!.. Как? На наше усмотрение, но... иначе, чем того...
Земцов — с ним были еще трое в штатском — позвонил в звонок над входной дверью. Открылась обитая кожей дверь, и на пороге появилась улыбающаяся молодая женщина.
— Здесь живет доктор Гудовичев? — спросил Земцов.
— Да! — кокетливо, весело ответила женщина. — А в чем дело?
К ней подбежала девочка лет шести.
— Мам, а когда торт вынимать? — спросила она.
— Сейчас и вынем, — сказала женщина.
— Я — новый массажист команды и хотел бы...
— Заходите, ребята! — перебила она его. — Доктор только что прилетел. Заходите! Мы как раз всей семьей собрались, чтобы отметить ваш успех!
Земцов заглянул в гостиную. За широким столом сидели... женщины и девочки.
— Ребята, проходите! — приветливо сказала хозяйка дома, сидевшая во главе стола. — За нашим семейным столом, как всегда, не хватает мужчин!
— А где Николай Максимыч? — спросил Земцов.
— Дедушка в ванной, — ответила другая внучка.
Земцов прошел по коридору к ванной, дернул дверь, она не поддалась. Земцов оглянулся на своих спутников. Самый плечистый из них надавил на дверь боком. Она резко открылась.
Гудовичев лежал бездыханный на полу. К ногам Земцова подкатился пустой пузырек...
Лобов подъехал на такси к своему дому. Вошел в подъезд, поднялся на третий этаж. Ключом отпер дверь.
Войдя в прихожую, машинально посмотрел в зеркало. Его усталое, серое, землистого цвета лицо застыло, точно маска. Он отвернулся от зеркала и, пораженный, замер: в большой комнате горел свет. Еще секунда, и дверь распахнулась: на пороге стояла Кармен.
— Не рад?! — грустно улыбнувшись, спросила Кармен.
Она так волновалась, что тоже не двигалась ему навстречу.
Из-за спины Кармен возник Вершинин — в фартуке, с кухонным ножом в руках.
— Почему у тебя в доме лука нет?! — набросился он на Алексея. В кои веки затеял я свои знаменитые биточки, а у тебя ни одной луковицы! Сбегай-ка к своему поклоннику на первый этаж — только не вздумай смыться через балкон! И возвращайся с луком!.. Ну что ты, как истукан?! Может, хоть обниметесь для приличия?!
Кармен, повинуясь приказу Вершинина, бросилась к Алексею, повисла у него на шее и... зарыдала.
— Только сырости нам и не хватало! — проворчал Вершинин и вернулся в комнату.
С помощью дистанционника, который достал из кармана фартука, он включил видеомагнитофон.
На экране возник Лобов. Он с разворота нанес сильный удар, и мяч по крутой дуге влетел в верхний угол ворот. Лобов вскинул вверх руку и, счастливый, попал в объятия товарищей по команде.
Роман Романцев. Родимое пятно.
Владимир Кондратьев. Частный случай.
Роман РОМАНЦЕВ. РОДИМОЕ ПЯТНО

«Плюс вовлечение несовершеннолетних», — мелькнуло у Лебедева, когда он заруливал во дворе, стараясь не задеть грязной крышей развешенное белье. Остановил «Жигули», криво усмехнулся: когда по вышке проходит одна из статей, остальные смешно считать. Посидел в машине, ощущая знакомый тревожный зуд где-то внизу живота. Всякая затея имеет смысл, если она заканчивается чисто. С вышкой он, пожалуй, загнул, хотя… В конце любой жизни — вышка; вот и желательно прожить ее так, чтобы самому себе не было стыдно за собственную нищету и бездеятельность. Все продумано, взвешено, решено; если не делать следующего шага, то и не стоило пускаться в путь… Лебедев уже поднимался по гулкой железной лестнице; поднимался уверенно, хотя и медленно.
«Проклятье, неужели я влюблен?!» — спрашивал себя Геннадий Акимович Огородников, выбирая розы. Нужно семь штук самого алого цвета. Через три трамвайных остановки по улице Вокзальной он будет у той, на которой в глубине своей холостяцкой души он уже не возражал быть женатым.
Вокзальная — это старый Серпейск, двухэтажный, темнокирпичный, с подворотнями и внутренними двориками, где крытые жестью или толем пристроечки и сарайчики, где веревки с разномастным бельем и палисаднички метр на метр, где обязательно стол для доминошников и гриб над песочницей… На второй этаж к Людмиле ведет железная тарахтящая лестница. Около — белые «Жигули», и Геннадия Акимовича кольнула мысль, что, пожалуй, это к ней на день рождения приехали. В нем уже шевелилось чувство собственника, слишком скороспелое и теперь ущемляемое; что ж, впервые он притянулся к женщине настолько, что уже воспринимал ее как часть себя, а не как нечто, почему-то обязательное для полноты жизни. Так, дверь не на замке… Геннадий Акимович приготовился поздравлять, поправил розы в букете, вошел. Квартиры в этом дореволюционном доме начинаются с большой кухни. Никого. В маленькой проходной комнате тоже пусто. Зато в зале в любимом кресле Геннадия Акимовича полулежал и, видимо, спал светловолосый усатый красавец в белом костюме. Пуговицы белой рубашки расстегнуты, белый галстук ослаблен, скрещенные ноги в белых носках покоились пятками на белых ботинках… Под боком у этого пижона прикорнул сиамский кот Шериф.
— Рита, ну скорей! Я не хочу, чтобы Огородников на Лебедева наткнулся! А нам еще за Костькой в детский сад… Смотри, не влюбись в него!
— В кого «в него»?
— В Лебедева, конечно! В Огородникова, во-первых, не получится, а во-вторых — он мой.
— Лебедева, а почему ты фамилию назад не сменила, когда развелась?
— Я не хочу, чтобы у меня о Костькой фамилии были разные.
— А вдруг он сходиться приехал?
— Нет. Говорит, случайно совпало, что в день рождения, К сыну, говорит, приехал. Два года ни слуху, ни духу, а тут вдруг явился, ясное солнышко, заскучал.
Геннадий Акимович сунул розы в вазу и сел напротив этого беспечного до наглости залетного орелика…
С Людмилой Лебедевой, учительницей истории, следователь Огородников познакомился в школе — выяснял там обстоятельства пустячного автодорожного случая. Когда-то он счел бы такую девушку слишком красивой и постеснялся бы… Но после тридцати красота потеряла для него свой ореол неприступного счастья; к тому же по ее глазам, слишком спокойным и внимательным, по налету печали в ее подчеркнутой аккуратности он определил, что она одинока, поэтому после рабочей беседы дружески улыбнулся и как бы шутя пригласил ее в кино.
После кино он узнал, что она разведена, имеет сына шести лет, живет в двухкомнатной, неудобной квартире, которая не ремонтировалась века…
Геннадий Акимович стал смотреть на розы, фиксируя в себе нарастающее раздражение. «Курите «Кент», — услышал он вдруг. Оказывается, этот пижонистый тип совсем и не спал; эх, Огородников, раздражение, да и вообще чувства — это помеха; мешают видеть, поскольку смотришь-то в себя. А сигарет «Кент» ему не встречалось уже много лет.
— Я — бывший муж гражданки, которая проживает в этой квартире, отец ее ребенка, — сказал незнакомец жестким, но не лишенным приятности голосом. Позы так и не переменил, просто открыл голубые, чуть белесые глаза. — Еду в отпуск на Кавказ, решил взять с собой пацана. То, что попал в день рождения,^— случайность, признаться, я и призабыл, Мешать, встревать или скандалить не намерен никоим образом.
— Да, да… — соглашался Геннадий Акимович, ощущая глупейшую тоску и не зная, как себя держать.
В свои двадцать семь лет Людмила не особенно сожалела о прошлом и не слишком предвидела будущее. Когда-то она училась на историческом факультете, затем в аспирантуре, но после развода перебралась на жительство в Серпейск и пошла работать в школу.
Огородников запал в ее душу крепкими, надежными плечами и глазами доброй бездомной дворняги. Сердце щемило радостью, когда он играл с Костькой, читал с ним книжку или просто возился. Но настаивать на замужестве… — даже не намекнет.
Костька обрадовался Геннадию Акимовичу, но, увидев незнакомца, смешался, тихо забрался Огородникову на колени. Тут же слез и направился к коту: «Шерифка, ты зачем дядю пачкаешь? Слезай сейчас же!» Лебедев подхватил Костьку под мышки и приподнял, улыбаясь рекламными белыми зубами: «Салют, малыш! Не признаешь? Я твой папа!» Мальчик вместо ответа потянулся за котом…
Этот пижонистый красавец изо всех сил старался понравиться Костьке. Он едва кивнул, когда Людмила и Маргарита пришли в залу, а принялся для Костькиного удовольствия подкидывать кота и кричал: «Смотри, он с любой высоты на лапы приземлится!» Костька с восторгом смотрел на ловкача-кота, но вдруг вздохнул: «Попробуем», взял на руки кота, который как раз отряхивался после очередного полета, расположил его брюшком вверх на своих ладонях, подошел к дивану и разжал руки. Кот не успел перевернуться и шмякнулся боком на диван. «А вот и не с любой!» — заявил Костька всем.
Маргарита, учительница математики, принялась восхищаться логическими способностями мальчика, ставила перед ним разные каверзные задачки… Людмила же, возбужденная присутствием двух мужчин, которые что-то значили в ее жизни, свое возбуждение и беспокойство старалась скрыть в преувеличенных заботах именинницы и хозяйки. С тем и за стол сели.
Лебедев бодро произносил пышные тосты и горячие пожелания, но все как-то без души, с заученным юмором, хотя женщины смеялись… Зато Геннадий Акимович ощущал себя почти как на работе, то есть в ситуации противодействия духовных энергий, в непонятном самому себе соперничестве с этим суперменствую-щим гостем, выдающим себя за рубаху-парня.
Лебедев тостов наговорил много, но сам выпил всего лишь рюмку. Объявил, что просит Костьку на месяцочек, мол, отдых на кавказском побережье, полезно для здоровья, мужское воспитание… Затем предложился Маргарите в провожатые, озабоченно спешил устраиваться в гостиницу, просил присмотреть краем глаза за «Жигуленком»… «Ну а завтра я приду пораньше и, если возражений не будет, уеду с Костькой на юга…»
«Заниматься с Костей индивидуально — будет академиком!» — невпопад говорила Маргарита, уже держа Лебедева под руку.
«Пацану еще шесть лет, а уже в академики записывают!» — улыбался Геннадий Акимович.
«Академик, марш спать!» — распоряжалась Людмила.
— Почему вы развелись? Муж как муж, приятный, деловой…
— О! Идеал мужчины собственной персоной!
— Вообще-то слегка пижонит, но вблизи вполне обыкновенен.
— Сначала он мне казался дьявольски одухотворенным — просто до ужаса! Молчит, загадочно улыбается, а глаза — ангельские! А заговорит — зануда занудой, — машина, дача, деньги, покупки… Поначалу думала, что это он меня разыгрывает; но слишком долго разыгрывал — я догадалась, что он пуст, точнее, переполнен шмотками и ценами. В нем ни капельки духа!
Огородников подумал: «Дух? А во мне есть дух? Какой-нибудь есть, иначе…»
— А чем он занимается?
— Спасатель в Ялте на пляже. Он даже кого-то спас — и медаль есть!
— Ого! А может, он, как говорится, сойтись хочет? А я встреваю…
— Нет, и не хочет, и я не сойдусь. Он же просто не признает мира другого человека!
— Я заметил одну неприятную черту — поводить глазами. Голову не поворачивает, а глаза эдак подвинет, словно косится на всех… Странно: работник пляжа, а отпуск вдруг среди сезона… Да и зачем Ялте Кавказ?
Лев Лебедев смотрел на мир циничными глазами честного человека. Честного в мелочах или только для себя. Пустынное шоссе шуршало под колесами его «Жигулей». Костька спал на заднем сиденье. Лебедев поклялся Людмиле, что ни на миг не выпустит Костьку из внимания. Он был предельно честен в этой клятве.
Потом утро поджарилось. В пруду придорожной станицы купались пацаны, и белые «Жигули» свернули туда. Из них вышли мужчина в белом костюме и маленький мальчик.
— Давай окупнемся, — сказал мужчина.
— Давай!
— Надо говорить: давай, папа, я же твой папа!
— Давай, папа, — согласно повторил малыш.
Мужчина сменил свои белые трусы на черные плавки. Искупались. Потом они завтракали здесь же, на бережку. Мужчина пил черный кофе из термоса, курил «Кент». Выкурил подряд две, тряхнул пачкой, где оставалось еще с десяток сигарет, небрежно швырнул ее в кусты. Затем белые одежды были свернуты и помещены в большую картонную коробку. Натянул черные, потертые джинсы мелкого вельвета, и безразмерную маечку когда-то тоже черного цвета. На ноги стоптанные, шлепающие плетенки. Коробку убрал в багажник и сказал:
— Сын, ты отлично держишься в воде! Из тебя выйдет прекрасный пловец! На море я тебя научу плавать. Давай, я тебя буду называть, как самого лучшего пловца в мире? Я тебя буду называть Кроль! Давай?
— Давай, папа, — радостно соглашался Костик. Ему нравился этот дядя, его папа, с которым так легко и весело.
Сначала было море. И еще солнце лилось откуда-то сверху, может быть, с самой высокой, белой от снега горы. Бег с передышками, когда начинало колоть в животе. Страшные собачьи пасти с огромными языками, с которых капает слюна. Спасительное платье и толстая нога — за них надо прятаться. Смех, добрая рука теребит круглую, «под ноль», голову…
Большая желтая бумажка, скользкая на ощупь. В обмен дают голубую продолговатую бумажку. От нее сердитая тетя в пиджаке и очках отрывает кусочек. Первый ряд перед экраном, а если сгонят — просто на полу. Смех до колик, до истерики, когда на экране под веселую музыку падают, получают затрещины и пинки, проваливаются в ямы, проламывают стены, пачкаются в чем попало… Так и хочется после кино влепить кому-нибудь подзатыль-ничек, какому-нибудь зазевавшемуся малышу, да чтобы ловко, чтобы он не понял, от кого и за что — так еще смешнее… Однажды, получив от матери желтую бумажку, Левка помчался в кино самым коротким, еще не изведанным путем — через решетку паркового забора. Большие пацаны лезли через верх, маленькие — между вертикальными прутьями решетки. Левка померил головой между прутьями — сдавливает немножко, но проходит, — значит, и весь пройдешь. И он, выдохнув из себя воздух, стал протискиваться. Но сдавило грудь прутьями, закололо в животе — он вдохнул и застрял. Он пыхтел, сопел, пытался выбраться назад. Но назад голова уже не проходила, она словно разбухла — и он застрял окончательно. Слезы и сопли измазали лицо, рубашка на груди под прутом уже в крови, а в кулаке — желтая волшебная бумажка. И вдруг пацан, вроде знакомый, вроде из соседнего двора: «Давай деньги, куплю тебе билет! А ты шевелись, шевелись — и пролезешь!» Разжал кулак, вынул желтую бумажку, мгновенно перебрался через ограду и помчался к кинотеатру. Левкины силы удвоились — кино уже скоро начнется — и он стал биться, дергаться.
Тут проходил какой-то дяденька в кепке и с папиросой. Он остановился, глядя на Левку, затем руками разжал прутья. Левка дернулся из последних сил — и оп! — он в парке. Смахнув сопли и слезы, он помчался со всех ног — подбежал, а возле кинотеатра уже никого. Около урны под портретом радостного, круглоголового человека лежала почти целая папироса. Левка ее подобрал. Потом он слонялся туда-сюда — вот кино кончится, он возьмет у того пацана свою желтую бумажку и вместо нее получит из окошка кассы голубую. Он даже постоял около окошка, но тетенька его не заметила. Без желтенькой бумажки он был для нее никто. Того пацана он так больше и не видел. Мать нашла у него в кармане папиросу и выпорола. Он долго всхлипывал на досках за флигелем и мечтал, что придет дядя в круглой кепке и с папиросой во рту, снимет ремень и настегает мать за него, Левку. Полностью он успокоился тем, что принялся ловить мух — опаливал им спичками крылышки и лапки.
Учился он плохо — ничего не запоминал — и учителя называли его жалостливо «тупичок». Голубой билет в кино уже давали всего лишь за блестящую десятикопеечную монетку, таких у школьной мелюзги можно было набрать много — и за так, и за фантик, спичечную этикетку, красивый камешек. Его ругали, но прощали — к тому времени у него умерла мать.
Тетка была веселая, хоть и насмешница. Иногда она варила вкуснейший борщ, а по праздникам — вареники с вишнями. Жили они в своем доме. Летом у них собиралось много незнакомых людей, угощавших его жареной рыбой. Еще он подкармливался алычой, абрикосами и шелковицей. Его матрац и одеяльце размещались на паутинистом чердаке флигеля, а внизу летом жила тетка. Спала она беспокойно, со вздохами, вскриками, но он забирался к себе по щелям и выступам стены, через окно и, едва приложив голову к подушке, засыпал.
Он обитал между чердаком флигеля и морем; на чердаке играл в Тимура и его команду, а в море представлял себя дельфином или человеком-амфибией. Записался в секцию плавания — резь в глазах от воды, нехватка воздуха, тренер-бог, курящий короткие сигаретки, друг-соперник, не дававший проходу, пока яростно не бросился в ответ на его обиды, не сцепился с ним, не ударился лицом об лицо до крови… И круглый год сырые кеды с рвущимися шнурками. К десятому классу он вытянулся, плавал почти по первому взрослому разряду и иногда для понта курил при тетке дорогие сигареты с фильтром. Как-то тетушка уехала к очередному жениху, и одинокая квартирантка, толстая блондиночка между тридцатью и сорока, целых две недели знакомила его с женскими секретами. И до того дознакомила, что тренер повел его к врачу, который констатировал: «Истощение». Так он усвоил, что мужчины служат женщинам, а не наоборот.
В армии он попал в спортроту, играл в водное поло. Забивал много мячей, применял жестко и беспричинно недозволенные приемы. Даже свои хотели как-то его побить — за жестокую, без правил, борьбу даже на тренировках.
Он демобилизовался в июне; тетка опять хотела пристроить его на чердаке, но он засмеялся и попросил квартирантов одной из комнат освободить «помещеньице». Тетка возражала и горячилась, и тогда он простецки, прямо при квартирантах сказал: «Тетушка, а ты не хотела бы заткнуться?» Через пару дней он переселил тетку в эту комнату, а сам перебрался во флигель — так было вольнее. Сказал: «Тетушка, ты всю жизнь прокантовалась без хозяина. Теперь я твой хозяин. Готов сдать пост любому, кто возьмет тебя замуж. И даже, возможно, пущу его в этот дом. А пока — чтобы первое было каждый день, будь добра…»
Тетка, подвяленная красавица тридцати пяти лет, о замужестве была готова шутить и язвить с кем угодно: «Фи, хозяин, сопля несчастная! Может, и замуж меня возьмешь?»
В сентябре он привел в дом компанейского то ли моряка, то ли летчика, предварительно обыграв его в пляжный преферансик рублей на сорок. Этот губошлепистый моряк-летчик носил белые парусиновые брюки. Своей галантной болтовней он восхитил тетушку, и через неделю она уехала с ним на Север, а белые парусиновые брюки остались Лебедю как подарок — к той поре дружки по пляжу и подружки по кафе звали его «Лебедь».
Лебедь устроился грузчиком в торг: прилежно и бессловесно сгружал, нагружал и подтаскивал, но через месяц ушел, украв напоследок два ящика дешевого коньяку. А уже затянула дождями осень, в карты обыгрывать стало некого, и он запил. Пил-гулял… продал шкаф, кровать, кое-что по мелочи, а заодно и груду досок, заросших колючками у стены флигеля. Зато приобрел кучу добрых знакомых; они-то и побили его однажды за какие-то пьяные речи. Он удивлялся и переживал, что эдакая мразь теперь запросто расправляется с ним, — и прекратил выпивки, как отрезал.
Тут в него влюбилась официантка из кафе. Высокая и тощая, она своим длинным носом и свисающими прямыми волосами походила на борзую чистых кровей; она всегда выискивала малейшие поводы, чтобы заслужить ответные чувства, — навела стерильную чистоту в доме, нашла через знакомых ему работу — сторожем-дворником в детском саду, а также сэкономила его зарплату на новые шкаф и кровать. Он почти не разговаривал с ней — она умела понимать его желания и по взгляду прикуривала и подавала сигарету, варила кофе или же переключала телевизор на другой канал. Но однажды, прогнав метлой с детсадовского асфальта весенние лужи и придя домой, он сказал: «Спасибо тебе. Ты меня, конечно, спасла, но я оттуда ухожу, а ты уходи отсюда». В,его голосе было столько равнодушия, что она ушла без слез. Тут опять объявились други-алкаши, но он просто не впустил их за калитку. Они стали грозить неуважением и тумаками. Он вышел и молча надавал всем пятерым пинков и оплеух.
Месяц Лебедь работал слесарем в автохозяйстве — он уже мечтал о собственной машине, а работенка эта как бы приобщала его к мечте, приближала ее. Но вскоре греющая душу мечта отделилась от ежедневной нужды крутить гайки, дышать аккумуляторными парами или перебортовывать тяжелые колеса, и он уволился, прихватив полезный инструмент; к тому же открывался летний сезон.
Сколотив еще два лежака из флигельного диванчика, Лебедь напустил полный дом курортников; цену поднял на полтинник с души. Организовал общий обед в складчину — очень уважал пищу домашнего приготовления. Квартирантам это было на руку, да и молодой хозяин позволял абрикосы и вишни в саду «пользовать без спросу».
Пляжные карты он забросил — заработок это небольшой и скучный. Подвернулась приличная работенка, спасателем, — определенность, уважение, да и не каждый день люди тонут. Однажды он поднял в лодку женщину, начавшую было кричать «Спасите!», и муж отблагодарил его деньгами. Лебедь потом эдак сквозь зубы говорил: «Своего бы человечка под воду; он бы за ноги, а ты вытаскиваешь, — и уважение за труды, и благодарность, а то и медаль…» Шутить он не умел, поэтому никто не смеялся.
Приехали тетка с мужем, и Лебедь кисло пошутил: «Ладно, живите. Денег я с вас брать не буду». Тетка страшно обиделась… Впрочем, ее обида рассосалась, едва она достала, чтобы похвалиться, мужнины зарубежные привозки — какие-то суперфирменные брюки и маечки, белье и прочее, а еще безделицу — горсть этикеток и бляшек с названиями громких фирм… Лебедь пораскинул мозгами и заказал в местном кооперативе два десятка молодежных штанов из дешевого материала. Затем усадил тетушку пристрочить импортные блямбочки и лэйблы, а сам, припомнив слесарные навыки, мелкими заклепками окантовал карманы и ранты на этих штанах, которые удалось распродать довольно быстро. Если не считать собственного труда, то чистая прибыль составила около тысячи рублей. Он отложил эти деньги в укромное место, а тетке сказал: «Это на машину». Уезжая, она погрозила ему пальцем: «Покупай хоть вертолет, но без меня не женись». Лебедь поморщился: «Женятся вообще только идиоты»; в ту пору он был избалован залетными красавицами с точеными фигурками.
Но все же любовь или что-то подобное существовало — это он почувствовал, когда вдруг на пляже его окружила стайка девушек. Они наперебой просили его побыть натурщиком, и каждая заглядывала в глаза с мольбой и восхищением. Эти безвиннострастные взгляды размягчили его… Он позировал студентам-художникам, и их долгие, пронзительные взгляды видели в нем что-то, что было не им, — видели в нем божество; впрочем, они и сами пребывали в ранге полубогов и полубогинь, поскольку среди них он ощутил себя в совсем иной жизни, скромной, неденежной, но все равно неущербной, но все равно праздничной. Ни с кем из девушек романа у него не получилось; да, они восхищались им и сами были восхитительны, да, любовь и праздник были вокруг, но все это было не для него, простого смертного, грубого и косноязычного — сумевшего почувствовать, но не умеющего воспользоваться…
От платы за неоднократное позирование он отказался, а попросил подарить или продать «что-нибудь свое». Ему со смехом выложили на выбор около полусотни копий «Девятого вала» Айвазовского. Лебедь взял все: «С меня — сухач народу». Один из будущих светил живописи, слишком юный для своей окладистой черной бороды, похлопал его по плечу:
— Обывательский штамп — сколько душе угодно! Пять рублей.
— Если на холсте — возьму две сотни.
— Клиент шутит! — рассмеялся кто-то и извлек еще пару ученических копий. Лебедь, не раздумывая, выложил красненькую… Через. неделю он перевозил на такси-комби маленькие, аляповатые «Девятые валы». По оказии с ним попросилась одна из студенток — на главпочтамт за переводом. Она равнодушно помогла перенести товар во флигелек, и тут он, забыв про свое меценатство, просто поделился с ней: «Минимум по чирику загоню квартирантам. Скажу: друг-художник с голоду помирает… Не смогут отказаться». Неожиданно он увидел улыбку полубогини: «А ты психолог!» — «Да нет, мне же бабки на тачку — позарез!» Потом они гуляли и даже попали на молодежный концерт; на автобус она опоздала, такси — не найти, да и дорого, и он пригласил ее к себе. Сам честно приготовился ночевать на чердаке…
Именно с того дня слово «психология» приобрело смысл для Лебедя — в нем скрывались успех и неуспех любой аферы. Иногда он принимался гадать: за что все-таки была ему та сладкая награда? И выходило: ни за что, просто прихоть небес. Ну а точней всего разгадка в том, что он, рассказывая о себе, о будущей машине, без которой он не чувствует себя человеком, раскрылся перед ней как личность. Так что правила побед — сами по себе, а он, такой цельный, упорный, — сам по себе. Первая же полубогиня, едва он открыл свое естественное лицо, одарила его; и чихать на непричастность к избранным — он выбирает сам себя.
Вспоминался и провал с художественным товаром. Квартиранты брали копии «Девятого вала» через одного. Но даже если бы все квартиранты брали по копии, за сезон продалось бы лишь двадцать штук, то есть денежный оборот растянулся бы лет на десять, а это натуральное экономическое фиаско. Сами же законы и закономерности купли-продажи, когда он прочитал о них, показались ему элементарными.
К Новому году приехала тетка, неожиданно и насовсем. Про мужа он не спрашивал, а сказал: «Теперь хоть хозяйка в доме будет». И они улыбнулись друг другу — родственной, опорной дружбы не поколеблют ни гастрольные замужества, ни залетные лебедки.
Теперь Лебедь много читал — память у него оказалась прекрасной, потому что в школе не использовалась. Менялись его интересы и хобби, но главная любовь была одна — делать деньги. Она заставляла много считать, суетиться, нервничать; какое-то облегчение он находил в самодельной философии — во фразе «маленькие радости и большие деньги» он видел смысл жизни; он тогда уже дорос до понимания того, что каждый — хочет или не хочет — живет по своей философии, необходимой для самоутверждения.
Уже стоял во дворе кирпичный гараж, а в нем — белые «Жигули», уже появилась капитальная пристройка у флигеля, куплены мебель, четыре холодильника, цветной телевизор… А сам Лебедь вдруг попал в тупую полосу раздумий. Мелькало: пресыщенность… нужна подзарядка души… отсутствует удовлетворение… Да, он овладел объемной теоретической информацией, но смысл такого владения остался для него за семью печатями… Что его жизнь? — мозги щелкают как арифмометр, торопливые, безвкусные дни, гонка в никуда… И лишь раздумья удлиняют и наполняют растрачиваемые на суету месяцы. Но больше раздумий, меньше денег…
Он прекрасно знал, что все его денежные деяния наказуемы; но ведь законы изменяются в историческом процессе — стоит ли им подчиняться, если ты Их не устанавливал, и вдобавок теперь они тебе мешают нормально существовать? К тому же против любого уголовного закона всегда найдется опора — и тоже в виде закона — закона какой-нибудь психологии или социологии. Впрочем, все эти законы — мура на палочке; он сам — вот высшая ценность. Окружающий мир уважает тебя ровно настолько, насколько ты сам себя ценишь. Ну а законы — это всего лишь общая условность, чтобы еще удобнее было пользоваться благами жизни.
Однажды в июне Лебедь нырял за каким-то молокососом из золотой молодежи Севера. Тот вместо молока насосался «сухенького» и сгоряча топился от неразделенной любви или просто с жиру. Лебедь дежурил на веслах один. Увидел, как кто-то дергаными саженками поплыл за буйки. На рупор этот «кто-то» не отреагировал, и пришлось гнаться за ним на веслах. А от причала уж и катер к ним плыл. Видя, что его настигает лодка, этот оглашенный молокосос нырнул и долго не показывался. Лебедь свечой прыгнул за ним, увидел конвульсивно дергающееся тело, нашел силы дотянуться до него, схватил, рванулся наверх… Кое-как продержались на плаву, причем утопленник уже вроде и не дышал. Его выдернули из воды на глиссер, сразу стали откачивать, погнали к берегу. А Лебедь остался один возле своей лодки; тут с ним случился обморок и кровотечение из носа — сказались и глубина, и длительная задержка дыхания, к тому же он в ту пору покуривал травку… Кто-то залез в лодку с кормы, его стащили, погнали к медпункту… Чьи-то ласковые руки обмывали его лицо водой.
В
Людмиле было нечто от полубогинь-художниц, но при этом твердое знание каких-то правил было ее преимуществом. Она резко, без жеманства объясняла и оценивала все, хотя сама оказалась недотрогой и скромницей. В нем сыграло чувство идеальной пары, и он предложил ей законный брак. Он гордился, что до свадьбы ему не позволялось ничего лишнего, — это совпадало с его идеалом. Тетушка похвалила ее, но ему сказала: «Не по себе ломаешь».
— А все же, какие алименты от него приходят?
— Ровно двадцать три рубля семьдесят копеек. Огородников, ну не мучай меня! Мой муж — белое, туманное пятно неприятных воспоминаний. Он бросил меня с ребенком. Без причины, без повода — просто устранил, выключил нас из своей жизни, будто мы вообще пустое место.
— Вроде все у вас было, все сложилось…
— Я сама так думала, когда поступила в аспирантуру. У меня была тема «Историки о роли личности в историческом процессе». Лебедев очень интересовался моими книжками, он в ту пору забросил свои темные дела и много читал. Знал массу анекдотов про исторических деятелей и авантюристов и наивно верил, что историю делает не борьба классов, а воля и расчет отдельных личностей. Читал он все подряд — и детективы, и монографии, и учебники; но однажды бросил все книжки и заявил: «Твоя история — наглый, продажный обман! Мои глаза видят другое, мои уши слышат издевательский смех обманщиков, моя душа не верит всем этим проституткам! Лучше продавать шмотье втридорога, чем идею по дешевке…» Тут он ударился в народную медицину, а вдобавок стал курить наркотики. Я испугалась, закатила ему скандал. Меня два месяца продержали в больнице на сохранении. Он приходил каждый день и клялся, что бросил, как это называется, «мастырку». Потом я родила Костьку. Он взял нас из роддома, передал тетке, а сам уехал куда-то в Сибирь — три открытки прислал за год. А когда приехал, то опять ударился в спекуляции… А вскоре мы развелись.
— На развод, конечно, подала ты. Вот я и хочу разобраться: вдруг ты и со мной на развод подашь, а я и знать не буду, какова причина.
— Ты еще не уговорил, чтобы я за тебя пошла, а уже о разводе мечтаешь.
— Я буду уговаривать не словами, а делом — пойду в отпуск, отремонтирую тебе квартиру — сразу согласишься.
— Далась тебе эта квартира. У меня все равно денег на ремонт нету.
— Смотря какой ремонт… Кстати, ну-ка, выкладывай как на исповеди: ты никогда не пыталась взыскать алименты с дополнительных доходов твоего Лебедя?.. Все, молчу. Люда, извини меня, пожалуйста, за ненужные вопросы.
В свои тридцать два года Геннадий Акимович смотрел на мир, как на поле битвы воль и спесей; собственно, спесь и воля составляют единое качество характера, направленное либо вовнутрь, либо наружу.
Частенько холостяки между тридцатью и сорока, заскучавшие от вольной жизни, начинают считать, что воля — это вернейший путь к благосостоятельному счастью. Кляня себя за прожитые годы бездействия, они принимаются эксплуатировать свою волю на различный манер, растрачивать свою становую силу на дела и заботы, причем даже удовольствия превращаются для них в накладные, отвлекающие заботы. Иногда они догадываются, что законный брак принес бы им большую пользу во всех смыслах. Но застрявшее с юности представление об идеальной любви, о суженой на всю жизнь очень мешает им, сохранившим этот наив, несмотря на собственный же опыт. Той, идеальной, они преподнесли бы себя тоже почти идеального (образ идеального себя обычно реализуется в общении с незнакомыми женщинами) — ну а ближней, естественной подруге достается то, что есть, со всеми грехами и грешками, несуразными привычками, деловым заскоком и, разумеется, волей.
Воля Геннадия Акимовича растворилась в почти юношеской влюбленности; ему хотелось устроить праздник для Людмилы из простой, ежедневной жизни. С легкой душой он взялся за ремонт и тратил свои отпускные на обои-краску-плитку — «собственноручно вил гнездышко», как смеялась Людмила. Фактически они стали семейной парой, потому что домой он теперь не уходил. Ремонт затянулся — в доме началась замена газового отопления на центральное; все у них было упаковано, укрыто газетами и сдвинуто с места, они проживали на чемоданах, словно вот-вот отправляются в счастливую жизнь. И лишь кот Шериф сохранял свою обычную ленивую снисходительность.
С деньгами образовалась напряженка, ушли огородниковские отпускные и зарплата. «Ничего, я тебя прокормлю!» — смеялась Людмила. Навестила их Маргарита, и разговор зашел про Кость-ку, мол, как он там, с Лебедевым, а Геннадий Акимович обмолвился, что странно, когда человек ездит на «Жигулях», курит чернорыночные шестирублевые сигареты, одет с иголочки — и это при двадцати-то трех рублях алиментов.
— Все равно он молодец! — заявила Маргарита; — О сыне помнит и заботится. Ему бы втолковать, что его сын — вундеркинд в математике, наверняка помог бы экономически.
Геннадий Акимович поежился:
— Упаси господь от незаконных денег.
Еще он подумал, что для Людмилы он всегда будет на втором после Костьки месте, и всегда вольно-невольно она будет сравнивать его с Лебедевым.
— Ну уж если такая горячая любовь к законности, то пора узаконивать собственные отношения, — холодно сказала Маргарита: — В математике если закон действителен в данной системе расчета, то выполняется во всех случаях.
— Да, красавица Рита, ты права. Но моя система расчета лишь возникает именно там, где пока только факты, которые требуется свести к закону. И давай не станем смешивать уголовные законы со всеми другими.
Маргарита заявила что-то вроде «все законы смешивает жизнь», но Геннадий Акимович никогда не спорил и не препирался с женщинами, хотя мог бы ответить, что наоборот — жизнь расчленяет, выкристаллизовывает законы из своего общего потока. Об этом он еще в детстве начал догадываться…
Круглый, будто набитый чем-то живот. На нем всегда торчит пуповина. Ниже — сатиновые трусы, сдвинул их в сторону — и можно безбоязненно делать «пс-пс». Далее идут грязные, разбитые коленки и круглые носы сандалет. Все это почти всегда перед глазами, которые безостановочно блуждают по земле в поисках интересненького — кусочек проволочки, ржавая пивная пробка, зеленая копеечка… Иногда мелькает смешная тень с оттопыренными ушами. Уши оттопыривались из-под промасленной, пропыленной пилотки с настоящей красной звездой. Генка добыл эту пилотку геройски — стащил у пьяного, безногого дядьки, когда тот сполз со своей тележки на подшипниках и заснул, привалившись к бочкам за пивной палаткой. Пилотка валялась рядом в пыли. Где-то наверху басили-гомонили, пускали папиросные дымы, и никто не обращал внимания, что здесь, внизу, на черных дядькиных губах пузырилась пена, когда они бормотали: «Гитлер капут. За Родину, за Сталина!..» Проскользнуть между бочек, подхватить пилотку и бежать, бежать за спасительный угол забора… А тележку увезти побоялся — слишком уж сту-чат-гремят подшипники. Военные пилотки и фуражки были у всех во дворе. Теперь и у Генки появилась.
Отец, единственный, кто никогда не бил Генку, поцеловал его в лоб и спросил, откуда пилотка. Генка промямлил, что дали поносить; он любил отца, но как-то стыдливо, с налетом презрения и жалости, все соседские отцы воевали, кровь проливали, а его прохлаждался где-то «за ура», а когда товарищ Сталин послал его на фронт, то он без всякого «ура» попался в плен — вот и пришел без пилотки и без наград. И шел долго — он однажды показывал матери на карте — через центр на розовом цвете, которым на земле покрашена самая счастливая страна. Обычно отец брал голову Генки в свои огромные ладони и целовал в лоб. И всегда становилось Генке не по себе… В тот раз отец сразу же стал хвалить его за геройский, в пилотке с красной звездой, вид. Генка заулыбался польщенно и проболтался про пьяницу с тележкой. Вдруг отцовские пальцы больно сжали ухо. Мать заступилась, но отец зло цыкнул на нее и повел Генку за ухо к пивной палатке. Не отпускал, пока не нашли того пьянчужку, опять уже переселившегося на тележку. «Он своровал, теперь возвращает», — объяснил отец, когда Генка отдал пилотку. Тот скользнул мутным, страшным взглядом, проворчал: «Тут, бляха-муха, жись своровата. На, малый, носи ее хошь век, а под пули не суйся». И вдруг заорал, завизжал, краснея и покрываясь потом: «Да в солдаты, сука, не ходи! Выколь себе глаз, отрубь руку, в землю заройся — а не ходи, не ходи!» У Генки слезы высохли вмиг, а отец уже уводил его быстро, и пилотка теперь законная. Зря только за ухо таскал, совсем зря.
Тот обычный отцов поцелуй Геннадий Акимович и сейчас иногда чувствовал на лбу — словно горячая, геройская красная звезда. А тогда, со смертью отца, ушли из его жизни стыдливая жалость и вечное ощущение вины перед всеми, толкавшее на дикие выходки и бесшабашную смелость. Остались взамен тяжелые, если не увернуться, подзатыльники старшей сестры, страшно ругачей, и нытье младшего брата, плаксивого попрошайки удовольствий и ценностей — деревянного кинжала, хорошей резинки на рогатку, змея, который летает… Мать вкладывала ума отцовским ремнем, и всегда обоим. И они дружно выли, размазывая по щекам обильные слезы, такие горькие, будто через них выходила дымная горечь сумеречных костров на свалках и пустырях, когда с гиканьем прыгали всей ватагой через высокий огонь или отливали свинцовые биты для игры в расшибок. Изредка попадало им и за школьные двойки; Генка загодя каждый раз гадал — минует их кара или нет; для этого он старался думать как мать — о подсолнечном масле и рыбьем жире, о копченых ребрах и перешиваний какой-нибудь одежки в совсем новую. Припоминал сначала плохое, потом хорошее, что повлияло бы на ее настроение, и, бывало, успокаивал братишку: «Да не скули ты! Сегодня же дядя Петя придет; лишь пожалится ему на нас — и апсай», — так у них тогда произносился футбольный «офсайд». Генку взяли во вратари за бесстрашные падения при добыче арбузов.
На длинном косогоре от Земляного моста к бору машины еле тянули по булыжной дороге. В бору старшие ребята забирались в кузов и скидывали съедобные продукты, а младшие подбирали — и с глаз долой. Картошку пекли сами, капусту, свеклу, морковку делили по справедливости. Матерям говорили: с машины упало… Но арбуз-то не бросишь — расколется, и младшим полагалось любой ценой поймать его. Генка самозабвенно бежал возле машины, растопырив руки. И вот летит сверху арбуз как булыжник. Генка мягко принимает его на свою фанерную грудь, обхватывает руками и мужественно шлепается ягодицами на пыльную обочину. Вскакивает, тащит добычу в сосенки — и опять со всех ног за машиной, по три штуки успевал поймать. Насладившись арбузами, мчались купаться, и на берегу Серпа Генка, устав загорать и возиться с товарищами, углублялся в изучение цыпок на руках, чирьев на ногах и синяков на своем худосочном, в грязных, несмываемых разводах, теле. Лишь звезда на его пилотке всегда блестела как новая.
Как новая всегда блестела и лысинка дяди Пети, который был то ли дальним родственником, то ли близким соседом; он щекотал «мальцов» и громоподобно учил жить — воспитывал по просьбе матери. Братья беззвучно дергались от щекотки и деловито уплетали его приношения — торт и арбуз. Мать доставала бутылку с красивой картинкой фрукта или ягоды, и получался у них маленький домашний праздник, даже пели иногда вместе про Щорса или про тачанку. Обычно дядя Петя ударялся в воспоминания о взаимодействии фронтов на участке от Белого до Черного морей, а когда разрезали арбуз — красный, мясистый, как его лицо, то он всегда кричал: «Что-что, а выбирать я умею!» И впрямь — этот, выбранный, почему-то всегда был сочнее и слаще тех, машинных.
Осенью оказалось, что дядя Петя все же не генерал, а тренер по борьбе. На занятиях его лицо строго темнело, по нему текли ручьи пота. Громкая доброта испарялась, и тихий, беспощадный голос требовал выложиться до конца. Через год, когда Генка уже ощущал в себе жесткую, верткую неподатливость, дядя Петя, точнее, Петр Петрович, учил их разгадывать задумки противника, замедленно демонстрируя подсечки и захваты, но повторял все время; «Противника не выбирают», и у Генки возникало недоумение: а разве мать или братьев-сестер выбирают?
Улица да и весь город заразились Фантомасом, но Генка, насквозь пропитанный историями про Шерлока Холмса и про наших самоотверженных чекистов, перебаливал манией сыщика. Однажды от делать нечего он устроил слежку за сестрой; та уже училась в трамвайном парке на кассира и переписывалась с женихом-солдатом. Генка поразился; у кинотеатра сестра встретилась с Петром Петровичем. Но когда после кино они направились к бору, его жар сыска сразу остыл — сестре же обидно, что теперь с братьями не справляется, вот она и упросила Петра Петровича подучить ее тайком борцовским приемчикам. К ним в гости Петр Петрович давно уже не захаживал. Мать иногда расспрашивала про него, и рассказывал о своем кумире младший брат; Генка отмалчивался, он же помнил, как мать гордо отвечала злой подъездной старухе с первого этажа; «Хоть год, но мой!»
Появился из армии белобрысый, улыбчивый жених Толя, и братья засекли, как Толя и сестра целовались на лавочке под акацией. Братишка развеселился тем шальным весельем, с каким еще совсем недавно они пожирали белые цветы с этого дерева, а для Генки сладковатые цветы и насмешливая радость вдруг потеряли вкус и смысл, ему томительно и стыдно тоже захотелось посидеть на лавочке с какой-нибудь девчонкой.
Ранней весной солдаты перетаскивали из автоконтейнеров мебель и узлы-ковры в подъезд соседнего дома, а она гуляла поблизости со щенком немецкой овчарки на поводке. Она старалась не наступать в ручьи и мокрый снег, но щенок мотался повсюду и наконец притянул ее к месту, где останавливалась мусорная машина.
— Хорошая собака, — похвалил Генка, выйдя на улицу с мусорным ведром.
— Двести рублей, — ответил тонкий, бесстрастный голосок.
— А как ее зовут?
— Ральф.
— А, значит, это он.
— Да, — сказала она, — сук.
Генка поморщился от неумелого ругательного слова.
— А ты вообще откуда взялась?
— Мы с китайской границы…
Она всегда так говорила, будто существовала во множественном числе, и было все же что-то китайское в ней, на Генкин взгляд, — плавность движений, прямая спина, чуть раскосые всезнающие глаза. Она занялась щенком, шлепая его варежкой по морде.
— Испортишь пса, — строго сказал ей Генка. В этот же вечер он взял в библиотеке руководство по служебным собакам. И начались три самых странных, самых горьких, самых счастливых года в его жизни — три года Нелли под знаком Ральфа (три года Ральфа под знаком Нелли). Открывала домработница тетя Саша. Ральф с радостным визгом бросался к нему, а Нелли, бывало, и не показывалась из своей комнаты, если выходила, то ее внимания и ласк доставалось больше Ральфу. Он с горячей душой взялся воспитывать пса, хотя уже и работал, и учился в ШРМе, а ее отстраненность, хотя и щебечущая, и с дружеской улыбкой, не исчезла даже когда они уже целовались — рафинированные, слегка приторные поцелуи, чем-то похожие на китайский цветочный чай. Он, забыв себя, носился с Ральфом по самодельной собачьей полосе препятствий, таскался по следам дружков через болота и свалки, прыгал через огонь и трехметровый забор, а она могла отказаться от заранее договоренного кино или дискотеки из-за легкого грибного дождичка. С псом он выкладывался и добился от него высших собачьих умений; от нее же он не мог дождаться и ласкового слова, и никогда так и не понял: то ли она всегда перед ним как на ладони, то ли душа ее для него за семью печатями. В цеху, где он слесарил, все грохотало и тряслось, но ничуть не мешало легкому, уверенному самочувствию; у нее же дома, где только ворчанье пса или звяканье тети Сашиных кастрюль, он терялся и с острой нервической дрожью ощущал себя песчинкой в пустыне.
Ее мать стала заведующей гороно, а отец был полковником; в ту пору Геннадий не знал, что полковник в Серпейске значит больше, чем два генерала где-нибудь еще, а знал только, что у него очень твердый, но будто отсутствующий взгляд. Мать же всегда улыбалась, называла их «Ральфочка, Неллечка и Геночка», но при возвращении с улицы всклоченного, грязного, прекрасно поработавшего Ральфа — Геннадий и сам бывал тогда в мыле, — она сердито выговаривала: мол, как не стыдно такую грязь в дом тащить. Первый раз Генка вспыхнул, поволок Ральфушу в ванную, но попытка эта была холодно пресечена, и надолго осталось чувство незаслуженной обиды. Во дворе их звали жених и невеста, но Геннадий, пожалуй, знал, что он скорее прислуга, паж, что-то вроде тети Саши. Он констатировал эту правду своей жизни, он не боялся видеть голые, прямые факты, он умел их видеть. Но предсказать, предугадать что-то, исходя из фактов или же предчувствия, — этого он не умел совершенно, да и не хотел никогда.
Иногда полковник брал Ральфа в свои полевые разъезды; там пса и убило электричеством на подстанции, там же его и закопали. Почти восемнадцать лет парню, а слезы были горькие, с соплями, с красными, распухшими глазами после ночи одиночества под гнилой, деревянной трибуной заводского стадиона. У Нелли тоже скатилась жемчужная слеза, когда она сказала со щебечущим горем в голосе: «Не надо было его туда пускать!»
Проводы в армию. Нелли присутствовала как его девушка. В бору удалось отделиться от всех, и они со странной внезапностью «слились в чаше» — так говорится у древних китайских мудрецов. «Бр-р, сколько комарья», — сказала она сразу после, и клятвы нежности и разлуки застыли на его губах. Потом — неизвестно когда было это «потом» — он понял: в бору случилось нечто вроде вежливого «спасибо», но за что «спасибо» — за уход или за три года или за все вместе?.. Она училась в большом городе и теперь там живет. Двое детей — мальчик и девочка, а муж — подполковник. Наверное, если бы ее выбор пал на него, он бы тоже уже был подполковником.
На Северном флоте мир прояснился от всяких интеллигентско-восточных штучек; существовала одна истина — задание выполнено; снисходительности, жалости, извинений не существовало.
Высокую мудрость какого-то главного закона жизни Геннадий ощутил на себе; впрочем, и главные законы можно переставлять на второй план, если пользоваться ими как цветками для икебаны. Еще в первые дни на корабле, когда у них в отсеке вели сварные работы, командир отсека, рыжий горлопан-весельчак, бросил ему:
— Ну-ка, дух, слетай на палубу, попроси у ребят кувалду.
— Зачем нам кувалда? — удивился Огородников.
— Не понимаете? — удивился, в свою очередь, рыжий: — Бегом наверх, кувалда на шкафуте. Действуйте.
Огородников погрохотал по трапам наверх. Там под командой старшины мыли палубу.
— Ребят, где здесь шкафут? Мне бы кувалду…
— Эге, вы что, устава не знаете? — перебил его старшина: — Бегом в отсек. Доложите командиру, что старшина Узлов приказывает дать вам наряд вне очереди.
Огородников побежал вниз, доложил, получил наряд, сказал «Есть» и вновь был послан за кувалдой. Выскочил на палубу, вытянулся строго по уставу:
— Товарищ старшина, разрешите обратиться к товарищам матросам?
— Разрешаю.
— Товарищи матросы, тут где-то в шкафуте или на нем кувалда…
— Эге, да вы не только устава, вы и корабля не знаете?! Смирно! Товарищ матрос, объявляю вам два наряда вне очереди. Бегом назад, пусть Крючков присылает других, сообразительных.
Не понимаешь — действуй! — это он усвоил крепко; усвоил, что «шкафут» — это никакой не шкаф, а часть палубы перед рубкой. Кувалдой сбивали окалину после сварки. Что окалину сбивают, он же, слесарь, знал, знал! Но ведь молотком можно было обойтись…
С четкой логической цепочкой «Не понимаешь — действуй», «Действовать — это предвидеть», «Предвидеть — это знать» вернулся он со службы. Неллины редкие праздничные открытки с видами теплых морей и словами теплой дружбы лежали среди нецветных флотских фоток. Брат готовился в юридический институт. Сестра сказала: «Если тоже будешь поступать, то прокормлю тебя до августа…» Троих он должен благодарить: брат шел флагманом, сестра совала ему рубли и трешки, Нелли служила маяком и портом назначения. Он поступал в моряцкой форме, и девушки строили ему глазки — на то и моряки, чтобы им строили глазки, на то и моряцкая воля, чтобы выполнять задания, приказанные самому себе. Брат радовался, строил планы совместной столичной жизни, а сестра при поддакивании мужа Толи пугала трудностями житья на стипендию. Мать же гордилась за сыновей, но вздыхала, что костюма Геннадию не будет, потому что деньги копятся на пальто. Тут прибежала четырехлетняя племянница, стала показывать «лопнутые» чулочки, а ведь уже два раза заштопывали… Не в форме же представать Нелли на ясные очи, а джинсы брата расползаются на нем — тоже не наштопаеться… И Огородников наказал брату оформить ему перевод на заочный, а Толю попросил завтра же поговорить о нем со своим начальством; так он стал служить в милиции — пришвартовался в порту приписки, даже не взглянув на солнце в порту назначения.
В Геленджике Лебедь снял комнату — здесь по плану неделя генеральной репетиции. На пляж они с Костькой приходили основательно, при авоське с едой. И везде он таскал этюдник, иногда раскладывал его в безлюдном месте, делал пейзажные наброски. Костька-Кроль обитал поблизости — собирал красивые камешки, играл в догонялочки с прибоем или же выкапывал ямку, наполнял ее водой и кричал: «Пап, у нас теперь будет и море, и озеро!» Даже маленькому человеку недоставало одного большого моря, а для самореализации хотелось еще и озеро. «Реализовать себя» — эта газетно-заголовочная фраза уже несколько лет служила Лебедю вершиной философии. Его призвание — делать деньги — вот он и реализовывал себя по возможности.
Неделя как сопля. Все нормалек, а тягомотина — хоть вой; каждая фигня, мелочовка колотит по мозгам как по кастрюле с дерьмом. И надо же было идиоту начитаться всяких чернильных дуроплетов. Зачем ему, простому пареньку с юга, знать про символы, предчувствия и другую прочую муру. Поди теперь разберись, что сулят ему предчувствия. Как перед глубоким, рекордным нырком — вот наберет воздуха, уйдет под воду и вдруг почему-то не вынырнет. Удача как наказание, если обязан делать ее еще удачнее! Все решалось на подъеме души, на поразительно идеальной логике, — вот когда грелась кровь; сами деньги — муть, но сделать хороший куш — вот гордость, вот смысл! Пока все нормалек, но, видно, из-за Костьки он стал кукситься, мандражировать… Слинять бы в Ялту, научить его плавать, закалить, силенку подкачать… Лебедь нервничал; мелькало ощу* щение бессмысленности задуманного, высшей, пока еще недоступной ему бессмысленности; витал призрак жалкой напрасности всей его жизни — напрасной и если нырнет, и если нет. И он поклялся завязать. Клятва как-то успокоила, будто заведомо обеспечивала успех в этот, последний, раз. Он был уверен, что последний, поскольку своих клятв он еще не переступал.
Вот уже несколько лет теткина страсть к замужествам сочеталась с пенсионными мечтами-подсчетами. Вдобавок она старательно покупала облигации, билеты лотерей и спортлото — была убеждена, что крупная сумма на сберкнижке решила бы вопрос замужества, да и пенсия страхового агента — это не фонтан. Лебедь советовал ей родить без мужа, пока еще есть порох, а к пенсии, глядишь, сынок уже и школу закончит. Но она отговаривалась тем, что в свое время Левка ей был как сынок, и укоряла: мол, он теперь как мужчина мог бы подыскать ей приличного надежного друга.
С год назад тетка уехала отдавать руку и сердце очередному претенденту, стопроцентному пенсионеру-ленинградцу с «Москвичом». Но она неправильно резала огурцы в салат и неудачно варила яйца всмятку — вот и возвращалась ни с чем. Когда поезд остановился в Серпейске, ей вдруг стукнуло, что тут где-то проживает внучатный племянник Костька; она суетливо схватила свой багажник, выскочила на перрон… Услышала: «Товарищи, кому счастье? Всего тридцать копеек! Кому счастье?..» Она взяла на червонец лотерейных билетов и вернулась в вагон. Один из них выиграл автомобиль «Волгу».
Тетка не знала про выигрыш — она была в больнице с какими-то воспалениями; он принес ей груш, а она прижимала к груди газету с таблицей и слезно просила принести ей билеты… Лебедь смотрел на стопку билетов — совершенно одинаковые, только одна-две цифирки… Он сказал ей, что один выиграл рубль. А железка — обман, вон «Жигуль» мирно гниет в гараже, ездить некуда и незачем. Сдать где-нибудь за Кавказом или за Каспием штучек за тридцать… А если всего одну цифирку… Это было вызовом судьбы. Тетка, будет тебе и сберкнижка, и женихи всмятку и вкрутую!
Три месяца он корпел в своем флигелечке: химикаты, краски, микроскоп и иголки — обыкновенные швейные иголки; он их затачивал на бруске для правки бритв и шлифовал о стекло, вставлял в зажим рейсфедера, пропилив надфилем специальный паз. Работа была мелкая и нудная — железной дубинкой уложить комки краски точно на место, да чтобы при высыхании краска эта ничуть не отличалась. Возможно, он испортил себе зрение, но на семи билетах удалось добиться, что он не замечал подделки через пятидесятикратное увеличение. Окулист сказала после осмотра, что он зря волнуется — все та же единица. Слесарь-сосед сделал ему пенальчики из нержавейки, тетка сшила кожаные мешочки; Лебедь не дурак, чтобы возить деньги с собой — сразу прятать, зарывать неизвестно насколько. А идея его была довольно проста: под видом отдыхающего снять сразу жилье в трех-четырех местах, удаленных друг от друга, через неделю-другую предложить хозяевам билет — «Волгу».
Психологическое обеспечение успеха, пожалуй, важнее технического; продавать надо стопроцентно незнакомым людям, но кто вдруг сразу выложит двадцать пять кусков человеку, взявшемуся ниоткуда; желательно выглядеть гарантированно честным лицом, лицом с адресом и фамилией. Квартирант с ребенком всегда внушит больше доверия.
За неделю он сдружился с Кролем, единственным соратником. Немножко с презреньицем была эта дружба — Лебедь не уважал простодушных; вообще-то он никого не уважал, но простодушных не уважал с презреньицем. Осознав желание удариться в отцовство и сбежать от дела, от удачи, он подумал, что это заскок, благоглупость для прикрытия слабости. Он болел этими чувствами и мотелями дня три и внушал себе, повторяя как молитву: «Сыну — его, а мне — мое. Я — не подстилка для будущего. Я живу сейчас и никогда больше. А какой кому пример из моей жизни, даже если все-все-все узнается — чихать с высокой колокольни».
Костька мгновенно привык отзываться на Кроля и говорить «папа». Ему было весело от того, что папа не стал его стричь, как велела мама, а, наоборот, всегда разлохмачивал ему волосы. И еще нравилось, что папа моет ему голову специальным детским шампунем, и пусть, что они были темные, а стали соломенно-золотистые. В зеркале Костька увидел у себя на шее большое родимое пятно, такое же, как у папы на щеке.
— Откуда у нас эти родины? — воскликнул Кроль.
— Они у нас всегда были, просто от солнца потемнели. Это у нас к счастью! — смеялся папа сквозь усы и делал Кролю «ежика» своим обросшим подбородком.
Лебедь не отпускал большой бороды — достаточно, если молодая бородка исказит черты лица; он даже подбривал щеки, но по «родине» на скуле под глазом он не брил — рыжеватый пушок обеспечит натуральность. Теперь он приучался говорить всегда писклявым возвышенным голосом, его речь кишмя кишела словами «фактура», «образ», «насыщенность мазка», изо рта не выпускалась папиросина «Казбек», на глазах — круглые солнцезащитные очки. Еще он заготовил для себя парик с косичкой, а для Кроля детские очки против солнца и большую панаму. «Ну, Кроль, три недели будем отдыхать тяжко», — сказал он, выводя машину на шоссе. Номера заготовлены московские, хотя документы самодельные; ничего, для ГАИ имелся запасец купюр отнюдь не самодельных…А потом будут искать: составят словесный портрет — надо сутулиться и ходить на согнутых ногах, почаще кашлять и сморкаться — образ болезненного человека; попытаются обнаружить отпечатки — надо следить за собой и за пацаном, особенно чтоб ненароком не сфотографироваться; и дай-то бог, чтобы Кроль не сболтнул ничего лишнего.
Вчера перед сном он читал пацану сказку. А шоссе все почему-то под гору и под гору. Может быть, любить кого-то да и вообще жить по закону легче и радостнее и даже, по высокому счету, выгоднее. Последний, клятвенно последний… Да только в каком банке, в какой валюте оплачиваются высокие счета?.. Ага, вот и подъем, только уж больно извилистый. Успеть бы все же прочитать пацану сказку про человека-амфибию.
Хозяйка и квартирант приглянулись друг другу: он — обходительностью, вежливым голоском и несколько необычной внешностью, и еще сынок при нем; она — средневозрастной упитанностью, толстыми золотыми кольцами на пальцах и чуть высокомерной оценочной рассудительностью. И еще промелькнуло у нее, что цена, может, и высока, но зато квартирантов больше нет. Художник заплатил вперед, про продукты и про где готовить не спрашивал, а извинился и уехал «весь день посвятить морю». Старый Вартан, отец хозяйки, молвил так: «С заботой человек. Хоть и отдыхает, а заботу с собой возит».
«Ура! Купаться!» — щебетал в машине Кроль, но на пляже они пробыли совсем недолго… «Главное — как можно больше быть на виду, а общаться — минимум», — думал Лебедь. Маршрут рассчитан заранее: первый заход — Батуми, Чкава, Кобулети. Начал он с середины; теперь Батуми, и на первый день достаточно… В Батуми он долго искал-выбирал, но не комнату, а условия и хозяев; наконец его устроила пожилая супружеская чета — и далеко от пляжа, и хозяин совсем недавно на пенсию ушел с большой должности в порту, и дети у них живут отдельно. Здесь он оставил машину и отправился с Кролем прогуляться. Они посмотрели какое-то кино, там Лебедь хорошо вздремнул. На обратном пути поужинали и попили гранатового соку. В стакане Кроля было снотворное, но он и так уже соловел, к тому же наелся, поэтому отпил всего два-три глотка. «Пей, Кроль, — недобро приказал Лебедь, — а то потом еще захочется». Кроль надулся до слез, но выпил. Уложив его спать, Лебедь извинился перед хозяевами, что у него дела на всю ночь, умолял присмотреть за пацаном… Хозяйка поджала губы, а хозяин что-то сказал по-своему. «Сюда никого не водить», — холодно отрезала хозяйка. Лебедь расхохотался, помахал им рукой, уходя. С семи до восьми он пил пай с дедушкой Вартаном под огромным ореховым деревом. От вина он отказывался наотрез, предпочитал послушать, что мыслит мудрый Вартан о перестройке. Решил, что тратить вечер нельзя, вскочил в машину и погнал в Кобулети. Приехал затемно; нормальным путем ничего не найдешь, тыркнулся в ресторан, куда его не пустили как без-галстучного. Сунул швейцару чирик, поднялся наверх и, заказывая минералку, спросил у бармена содействия. Тот пожал плечами, но позвонил по телефону и предложил номер в гостинице. Лебедь сослался, что у него нет паспорта — забыл, а только права и членский билет, далее достал их показать, но бармен только бросил взгляд, а брать в руки не стал. «Хорошо, — сказал он, — сиди отдыхай. Отвезешь меня к мой невеста. Его папа — председатель. Есть помещение». Они ехали по темному шоссе, как по тоннелю из деревьев, и фары выхватывали огромные запыленные листья нижних веток. Лебедь отмечал, что едут в сторону Чкавы, но потом повернули от моря; он предполагал, что придется отказаться от этого жилья, хотя папа и председатель. «Я скажу, мы вместе армия служили», — говорит Тенгиз. Несколько поворотов, и подъехали к двухэтажному дому. Залаяли собаки в округе. Тенгиз сам принес ему подушку, простыни
и вино в довольно большую, увешенную коврами комнату. Сели на диване, застеленном ковром, тост был за дружбу народов, которых Тенгиз делил на христиан, мусульман и евреев. Лебедь пригубил бокал, но не выпил ни капли. Ему нравилась красивая и богатая люстра, которая сейчас едва светила, но очень не нравилось, что у этой комнаты три двери. «За что он меня полюбил?» — думал он, засыпая… Встал ровно через четыре
часа по мелодии своих электронных. Пустынный дом, будить
никого не стоило, во дворе собачонка обнюхала и чуть не облизала
его ноги. Он аккуратно сложил простыни на подушку
и оставил записку: «Тенгиз, дружище! Извини, но срочно должен
ехать, Вечером увидимся!»
Всю неделю он не выпускал из рук баранки, мотался туда-сюда, оставляя Кроля то у одних, то у других хозяев. У Тенгизовой невесты деньги брать с него отказались; когда он заикнулся об этом Тенгизу, тот потемнел лицом и объявил: «Мне врач-еврей четыре часа аппендицит делал, кишка чистил, от смерть спасал, я люблю все народы!»; Лебедь в душе ухмыльнулся, что его приняли за еврея, папу-председателя он так и не видел, а невеста показалась ему слишком носатой и перезрелой.
За рулем он сидел, чуть наклонившись вперед, бесстрастно, не мигая следил за дорогой и уже почти заученно, привычно выполнял повороты, мастерски вписывался в виражи. Два раза его останавливала автоинспекция. В правах он держал сложенную вдвое десятирублевку. Один раз ее просто вынули, даже не раскрывая документа.
Он-то втянулся и работал как автомат, а вот Кроль, когда просыпался и разгуливался, делался очень подвижным, взбалмошным, стал закатывать истерики, по щекам у него пошла сыпь. Лебедь начал операцию на два дня раньше задуманного. Утром перед отъездом «на пляж» он понизил голос и сказал старомудрому Вартану:
— Дедушка Вартан, у меня есть лотерейный билет, который выиграл машину «Волгу». Я его продаю…
— Ага, погода хороший, хороший! — зашевелил усами старик.
Но Лебедь явно увидел: старик все понял; восприятие увидит все, если оно обострено эмоцией, хоть и подавляемой.
В Батуми он просто разложил перед хозяином таблицу, достал билет и пальцем показал номера в таблице и на билете. Сказал, за сколько отдаст. Хозяин без выражения посмотрел на него мутновато-серыми глазами и вдруг спросил, подмигнув:
— Настоящий?
Лебедь кивнул головой и подмигнул в ответ:
— Запасайтесь деньгами, микроскопом.
— Возьми бумага, напиши твой адрес, — сказал хозяин.
— Я не бюрократ, пишите сами, продиктую. Я же показывал вашему сыну-художнику свои документы, оставил ему свой адрес в Москве.
Это был прокол; Лебедь сыну хозяина назвал без запинки улицу, дом и квартиру. Он показывал и членский билет, где была длинная неразборчивая фамилия с окончанием на «ий».
Тот недавно закончил что-то художественное, мечтал о союзе, был счастлив иметь в знакомцах художника-москвича.
Кроля Лебедь из Батуми увез; будут ли они проверять адрес? Теперь если показываться сюда, то только голым.
У дедушки Вартана квартиранта ждали, помимо хозяйки, еще два ее брата, сделанных по образу и подобию старика, но налитых силой и здоровьем. «Показательный заезд, — щелкнуло в голове у Лебедя, — ну, давайте, работяги-трудяги, берите меня в оборот». Хозяйка уже выставила на стол много вина, приглашала. Братья поглядывали смирно и сосредоточенно. «Дурацких шуток здесь не будет», — уверился Лебедь и широко улыбнулся:
— Здравствуйте! Сразу видно сыновей дедушки Вартана! Честные, сильные, уважаемые люди! Извините, но пить мне нельзя — я за рулем. Вот когда вы уже пригоните и поставите у себя во дворе новый, шикарный автомобиль, то я специально приеду на ваш праздник выпить доброго грузинского вина!
Братья помалкивали. Старый Вартан курил очень дымно, и хозяйка разгоняла этот дым рукой.
— Генацвале! Давайте говорить как добрые деловые люди. Я вам — билёт на «Волгу», вы мне — двадцать пять кусков. Деньги завтра утром — билет завтра утром тоже. Деньги сейчас — билет вот он.
— Большой деньги, — крякнул старый Вартан.
— Для большой человек любой деньги маленький, — холодно заявил Лебедь.
— А билет… можно посмотреть? — кашлянул один из братьев. Лебедь расплылся в доверчивой улыбке, мгновенно извлек бумажник, а из бумажника за уголок вытянул голубенький билет. Протянул братьям: — Запишите серию, номер, дату розыгрыша, найдите таблицу, проверьте… Утром деньги — и он ваш.
Братья осторожно взяли билет за уголочек, положили на стол. Один суетливо извлек из брюк мощную лупу. Другой чуть ли не из-под себя достал пачку газет с таблицами лотерейных выигрышей. «Ого, солидно подготовились!» — удовлетворенно отметил Лебедь. Он ни капли не волновался — в «показательном» заходе демонстрировался настоящий билет. Не спуская глаз С билета, он молол какую-то чепуху о погоде; хозяйка подошла к нему с блюдом лобио, он отвлекся на миг, сделал комплимент, а когда повернулся, то скорее ощутил, чем увидел некоторую напряженность в братьях.
— Слушай, дорогой, — хрипло выдавил, один, возвращая билет за уголок подрагивающей рукой, — двадцать пять до утра трудно собрать. Давай послезавтра.
— Я заеду завтра, — отрезал Лебедь. — Ребенок у вас останется. Спит он хорошо, и пусть спит.
Отъехав от дома, он убедился, что никакой слежки за ним нету. Достал билет, внимательно осмотрел через лупу. Так и есть — в уголке наколот маленький квадратик с точкой в середине. Лебедь затер наколки ногтем. «Обижаете, ребята».
Дорога вверх-вниз, все едут аккуратно, надежно; кто отдыхает, а кто делает из дороги деньги. Сыновья Вартана делают деньги из земли, воды и тепла. Пусть через рынок, но их надо любить… Надо любить всех, кто делает деньги из земли, из железа или же из красоты, из мастерства. А уж тех, кто делает деньги из правил и законов, которые ими же
и пишутся, тех уж хочешь — не хочешь, а полюбишь.
Тенгиз профессионально налил минералки, один стакан выпил сам. После этого лицо его стало беззащитным, и он принялся жаловаться, что проверять никто и не думает. Лебедь догадался, что речь идет о проверке билета.
— Чего ты хнычешь? Пусть проверяют сколько хотят.
— Ты мой друг, — вздохнул Тенгиз, — нельзя.
— Ну проверь ты!
— Я в этих делах ничего не понимаю. Скажу, что ты уже продал, — и не надо ничего.
Лебедь пожал плечами; что это? Тонкая игра или правда? Тенгиз обслуживал клиентуру как ни в чем не бывало. Лебедь осмотрел зал, но ничего подозрительного не увидел.
— Давай что-нибудь придумаем, чтобы ты был твердо уверен, что билет настоящий, — сказал он Тенгизу.
Они пешком отправились в санаторий. Там знакомый Тенгиза, лысый, в очках и в белом халате, провел их в кабинет. Ему объяснили, в чем дело, и он показал пальцем на стол в углу, где под чехлом стоял микроскоп. Стали рассматривать билет, рассматривали долго; смотрел в микроскоп и Лебедь — как интересно!.. Лысый серьезно взглянул через очки ему в глаза, вернул билет и сказал: «Мало жить будешь». Лебедь в одной руке держал бумажник, в другой билет. Засовывая билет в бумажник, он ахнул, шлепнул себя по лбу бумажником и рассмеялся: «Что это я?! Возьми билет-то! Но только от меня ни на шаг! Твой ученый друг — свидетель».
Тенгиз вышел на улицу со светлым лицом. Лебедь не захотел ехать на своем транспорте, мол, наверняка будет вино, а ему неудобно всегда отказываться. Их довез сначала автобус, а потом грузовик; в кабине сидели тесно, Лебедь держал на коленях сумку, а Тенгиз уже в какой раз приглашал его на свадьбу, которая будет через десять дней; Лебедь обещал быть непременно. Все происходило наивно, элементарно и празднично: в комнате с коврами и люстрой Тенгиз потряс в воздухе билетом, что-то громко и быстро сказал, папа-председатель убедился, что билет соответствует таблице в газете, и Тенгиз положил билет на стеклянную полку серванта, прижал хрустальным бокалом. Женщины, которых было пять или шесть, по знаку внесли поднос; на нем двадцать пять компактных пачек. Лебедь покидал эти свертки в сумку, и тут ему вручили рог; он сначала хотел было сунуть его в сумку, но у Тенгиза тоже был рог; им налили вина. Папа-председатель держал рюмку и говорил речь, женщины накрывали на стол. Тут Лебедь понял, что от вина ему не отвертеться — будет очень подозрительно, и, до дна выпив рог, сел за стол. Ел много и быстро, вышел освежиться, по пути выпил семь стаканов воды и в туалете, засунув пальцы в рот, вызвал у себя рвоту. Засобирался к сыну, Тенгиз вызвался его проводить, но Лебедь похлопал по сумке на плече и отрицательно покачал головой. Выйдя за калитку, он пожал Тенгизу руку и с чувством сказал: «Обязательно приеду на твою свадьбу».
Он шел вдоль дороги, машин почти не было, но он и не пытался голосовать. А может, вернуться? Высыпать эту сумку, порвать этот билет на серванте, а через десять дней приехать на свадьбу человек человеком? Было нечто вроде игры — в любой момент остановился, подышал воздухом, полюбовался-поглазел, А теперь все — нырнул. Так, надо выгружаться. Но местность какая-то неприметная, бугорки да колючки. Ага, вон ручей… Он закопал пенал из нержавейки под мостом, заложил камнями. Выбрался на дорогу, легкая сумка болтается на плече, и теперь всем подряд автомобилям энергично махал рукой. Его довез молоковоз. Лебедь минут двадцать издалека наблюдал за своим «Жигуленком» и окрестностями. Наконец подбежал, вскочил за руль и рванул из этих мест… Поздно вечером он опять пил чаи и вел беседы о перестройке с дедушкой Вартаном — старик был за Сталина и против обезьяньих песен, которые за душу не берут.
— Дед, — сказал ему Лебедь, — у тебя просто нету души, она уже вся на жизнь истратилась.
Он проснулся в пятом часу, задолго до сигнала подъема. Сводил сонного Кроля в туалет, влил в него полстакана воды со Снотворным. Вдруг защемило сердце: а что, если эти дозы не пройдут пацану даром?.. Все равно надо, чтобы спал до обеда, — вдруг эти начнут его расспрашивать, выпытывать… Ничего, даже смерть, если во сне, — прекрасно. «Мало будешь жить» — вот лысый, очкарик, гад… Он отбросил все эмоции и еще раз проверил содержимое сумки, еще раз повторил свой план.
До Батуми он добрался рейсовым «Икарусом». Взял такси, заплатил вперед червонец, пообещал еще четвертной. В девять часов он был в доме своих хозяев, где были и обе дочери, и сын-художник. На углу улицы он видел какого-то мордоворота в светлом костюме, здесь, в доме, вроде еще кто-то был… Не взять пацана, не взять машину — это же мудрость… Дочери громко спорят, никого не стесняясь, — совсем необычно для местных женщин. Хозяин показался и ушел; главным был муж одной из дочерей, на лице — выражение прожженного пройдохи и бандита. «На понт берут», — со злостью подумал Лебедь. Муж-главарь встал перед ним вплотную и, постукивая по его плечу трубочкой газеты, щелкнул пальцами:
— Билет.
Лебедь в окно видел, что его таксист вышел из машины и беседует с мордоворотом; его начинало бесить, что
нужно разыгрывать слабого человека, скромного свободного художника. Он сел за стол, положил сумку на колени, кивнул устало:
— Эти пусть заткнутся, а лучше пусть у…
Женщины вмиг замолчали. Лебедь сунул главарю пепельницу со стола, стянул скатерть, бросил ее на кресло, указал бородой на полировку стола:
— Деньги.
Муж-главарь щелкнул пальцами, женщины поставили на стол большую коробку из-под обуви с надписью «Цебо». Под крышкой были увязанные разноцветные пачки и россыпью сто-пятидесяти-рублевки.
— Билет, — рявкнул главарь.
Лебедь не вынимал одной руки из сумки, щелкнул ногтем по нержавейке:
— Я не умею считать в коробке.
Сразу заговорили все, особенно кричали женщины, и все с яростью, с пеной, со сверканием глаз и маханием рук. Гвалт кончился тем, что сын-художник принялся считать, перекладывая купюры по одной.
— Теперь пачки распечатай, — кивнул Лебедь.
Опять гвалт, грозные крики… Распечатали пачки, все купюры перекладывали по одной.
— Двадцать восемь, — констатировал Лебедь, — еще две.
— Слушай, дорогой, где билет? — удивился вдруг муж-главарь: — Еще два — вот они.
И вынул из кармана две пачки, но на стол не положил. Возникла пауза, Лебедь думал, какой билет доставать… а может, уйти подобру-поздорову? Он достал поддельный, отдал главарю, стал одной рукой сгребать деньги в сумку. Главарь сверил билет с таблицей, затем стал рассматривать билет через лупу.
— Спасайся, честно, а?! — вскричал сын-художник, но Лебедь только заулыбался своими белыми зубами:
— Есть люди, они и за сорок возьмут. — Он еще больше ссутулился и вилкой наставил на главаря два пальца. Тот швырнул на стол две пачки, Лебедь опустил их в сумку и пошел медленным усталым шагом, пощелкивая в сумке ногтем по металлу.
«Волки, — думал он в коридоре, — всучили две куклы…»
Такси за калиткой не было.
Похоже, ему не добраться до Чкавы. Наверняка они думают, что у него оружие, поэтому сразу не нападают. Да и еще слишком близко к дому. На открытом месте в него выстрелят, а в толпе — пырнут ножом… По безлюдной улице проехало такси — верняк ловушка… Он ощущал: за ним наблюдают, и не вынимал руку из сумки. Куда идти? Куда бежать? «Мало будешь жить»… Навстречу шли двое спортивного типа. Лебедь побежал в гору к большим домам. Увидел, что к тем двоим подкатил желтый «Жигуль», и они стали садиться в него. У песочницы, где играли дети, лежал на боку подростковый велосипед «Орленок», Лебедь вскочил на него и, бешено крутя педали, согнувшись в три погибели, юркнул по узенькой петляющей тропинке. Упал с неловким кувырком, у сумки оборвался заплечный ремень. Из желтого «Жигуленка» выскочили двое, побежали вниз. Лебедь схватил сумку в зубы, опять вскочил на велосипед. Руль у велосипеда был свернут набок, седло тоже; теперь Лебедь не крутил педалей, а только рулил, стараясь не упасть. Он пересек улицу, поехал вниз по асфальту. Тут его догонят вмиг. Метров через триста был железнодорожный переезд какой-то одноколейной ветки. Лебедь свернул на тропинку вдоль нее. К переезду примчался «Жигуль», но их разделяло уже метров двести. Тепловоз тянул с десяток вагонов. Лебедь бросил велосипед, челюсти сводило — вот-вот сумку выпустит. Он швырнул сумку в полуоткрытую дверь вагона и сам повис на ней. Воняло навозом, он, пока переваливался в вагон, цепляясь и загребая руками, испачкался… Вроде бы один раз был звук выстрела. И еще он потерял очки. Деньги он закопал под железнодорожным километровым столбом недалеко от Чкавы. «Волки, — стучало у него в висках, — для них и билет, и деньги — туфта, а моя жизнь — подавно туфта. Продай им настоящий билет, тоже ограбили бы».
У дедушки Вартана его все ждали, но он сначала мылся, стирал свои вельветовые штаны и маечку. Надел их сырыми и не придумал ничего лучше, как обвязать голову полотенцем. Кроль капризничал и цеплялся за него, Лебедь посадил его в машину за руль, запустил двигатель, показал педаль, куда нажимать, сказал:
— Сильно не газуй, а верти баранку — в горах поворотов мно-о-ого!..
Братья и старый дымный Вартан наблюдали за ними, сидя за столом под орехом. Их билет с нужными наколками лежал в багажнике; Лебедю пришлось изобразить заботу о машине — покопался в моторе, затем в багажнике, оставил и капот, и багажник открытыми. Хозяйка принесла на стол самовар. Поверхность стола была из крашеной фанеры, в середине нарисована доска для игры в нарды.
— Не раздумал? — спросил один из братьев.
— Не знаю, устал я. Может, не будете покупать, а? Зачем вам это? Наверняка у вас есть машины. Лучше купите себе трактор, — сейчас, пока перестройка, это можно.
Вместо ответа один из братьев достал словно из-под себя два полиэтиленовых пакета с деньгами, положил их на нарды. Лебедь с изумлением смотрел на эти тугие пакеты, вверху перевязанные красной лентой; в одном — крупные деньги, в другом — пятерки, трешки и рубли, даже металлические. Он вздохнул и отдал билет. Сходил за сумкой:
— Ну что, берете?
Пакеты с деньгами без слов были подвинуты к нему. Один из братьев очень долго и подозрительно рассматривал билет через лупу. «Да вот же твои дырочки!» — чуть не показал ему Лебедь. Пили чай с халвой, и Лебедь все жаловался на усталость, собирался задержаться еще на недельку, а самого так и подмывало нырнуть в машину — и газу, газу к чертовой матери отсюда!..
— Ну, извините, если что, — сказал наконец Лебедь.
У братьев на небритых траурных скулах играли желваки, пока он собирался не спеша и опять пил чай, слушая мудрого Вартана, убежденного, что кооперативы — это говно, а просто нужен порядок, и чтобы нечестных начальников — расстреливать, а пьяниц и безработных лентяев — ссылать на станции, где атом делают. «Много будешь жить, дед», — сказал ему Лебедь на прощание. Сразу за городом, на пустынном повороте недалеко от километрового столба, за кустами на правой стороне, он засунул пенал в трещину горной породы на уровне глаз. В записной книжке поставил две четырехзначные цифры и слово «мост».
— А я очень рассудительная и правильная, — похвалилась Людочка дома.
Во дворе детского сада случилась драчка из-за совка, и его подхватила Людочка:
— Раз не умеете по очереди, тогда вместе смотрите, как я играю.
— Я тебе сейчас как дам! — сказал мальчик.
— Нельзя, — отвечала Людочка миролюбиво, — ты мне просто так дашь, а я тебе совком дам.
— А я тебе тогда голову оторву, вонючка ты этакая!
— А она у меня не отрывается.
— Ну тогда я как на танк сяду и как на тебя наеду!
— Вот и не наедешь, танк маленький, а я большая.
Техничка неподалеку выливала под кусты грязную воду, она-то и сказала:
— Рассудительная девочка.
Ну а «правильная» — это Людочка прибавила сама; она уже знала, что «правильное» — это даже лучше, чем «хорошее».
«Очень правильная и рассудительная» — сразу и надолго прилипло к ней; так ее называли и папа с мамой, и бабушка с дедушкой, и все другие взрослые; Людочка в лепешку расшибалась, чтобы оправдать уважение и доверие. Лишь бабушка, папина мама, называла ее как никто — «Люська», и всегда еще вдобавок что-нибудь обидное, бессмысленно-уничижительное вроде «Люська-пуська» или «тпруська», или даже «квакуська-побируська»… На Людкины обиды бабка ноль внимания, а ведь это же ужасно неправильно, что ее, отличницу, комсорга класса, вдруг прозывают — и ведь ни за что! — как-нибудь глупо: «Люська-испугуська»… Нет, бабка не имела права на это. Впрочем, если рассуждать здраво, бабка на многое не имела права: жить одной в деревне — жила бы у тети, своей дочери, в Серпейске, или приехала бы жить к ним, как звал ее папа, или, к примеру, зажигать огонек под иконой — она же не верила в бога! Но бабка зажигала, и Людка удивлялась: как так, не верить, но все равно зажигать?! Она устроила бабке спецопрос: почему попы пьют водку и едят мясо, когда хотят? Что есть опиум? Зачем приучать детей (то есть ее, Людку) к вере, если у них уже воспитана вера в коммунизм? Ведь лучше ничего не бывает, потому что коммунисты всегда и во всем впереди всех!
— Господь с тобой! — отбивалась бабка. — Не верю я в бога, черта намалеванного, и опий для народа я тоже не потребляю. А про попов?.. Я не учена, кто их знает, что они пьют-едят? Я с ними не едала — не пивала; небось, что и люди, ничего заморского… Да я сама при комсомоле была! И муж, твой дед, — тоже большой комсомолец в городе был!
— А иконы? А плошку зачем зажигаешь?
— Иконы-то мне вместе с избой от свекрухи перешли, не я вешала — не я и сниму; и лампадку она меня посвятила когда зажигать…
Людка тогда переспросила, что такое «свекруха», и примолкла; она почему-то стеснялась разговаривать про этого деда, хотя знала, что он погиб на войне, но не Великой Отечественной, а маленькой, финской; она видела дедов орден у бабки в шкатулке и его большую фотографию над комодом, но как-то все это было неправильно, не по-настоящему. Вот другой дедушка — это ветеран! У него и орденов-медалей полна грудь, и фотографии, и ходить с ним за руку на День Победы ух как здорово было! А этот — и буденовка косо, и чуб торчит, а китель без награды… И для деда слишком уж молодой, смотрит хитро-хитро, ехидно-ехидно, улыбочка какая-то… придурковатая. Не зря бабка говаривала, что не хотел он тогда фотографироваться, под хмельком был, да бабка заставила…
Совсем-совсем в детстве Людка прожила здесь, у бабки, два года, причем один год без родителей — отца тогда назначили на строительство в Туркмению, там пока жили в палатках, вот ее и не взяли. Она той поры ничуть не помнила и своим первым приездом сюда считала приезд с отцом после шестого класса, он тогда отгуливал три отпуска подряд. В первый приезд тоже было все неправильно, начиная с бабкиного возгласа: «Ах, ты Люська-красотуська-карапуська!», но тогда был отец, мог так ругнуть, что замрешь на месте, а душа в пятки уйдет. Они все лето вдвоем ходили по грибы-ягоды, косили сено, а еще ездили в Серпейск знакомиться с тетей и даже в Москву на целую неделю выбрались — жили у папиных знакомых, посещали театры и музеи, катались на метро. Все было ярко и празднично, ко как-то смазалось в памяти, а вот второй приезд, после восьмого класса, без папы… Во-первых, Людка отчитала бабку за то, что она вместо коровы завела козу.
— От коровы лучше пахло, — сказала Людка, — а эта коза как будто всегда сопливая.
Бабка вздохнула:
— Коли так, то подари ей носовой платок, а на нем вышей: «Козе-дерезе от Люськи-ругуськи», и духами его смочи.
— Духами не мочат, а душатся, — поправила Людка.
— Сходи-ка лучше за водой, краля ты городская, хушь по полведра принеси.
За водой — это понятно, это участие в общем труде, а вот зачем краля? За что краля?! Схватила ведра, полетела. Одно ведро, цилиндрическое, на длинной веревке, — доставать по колесику, через блок. Людка аккуратно опустила ведро в колодец, оно слегка наполнилось, но не тонуло никак. Людка стала им плюхать и упустила веревку. Тут ведро сразу и утонуло, лишь конец веревки плавал. Людка растерялась: ушла с двумя, а вернется с одним пустым?.. Мальчишка, одетый как беспризорник — деревенские пацаны часто так одевались, — это Людка помнила еще по первому приезду, — а этот еще и в зимней шапке, — заглянул в колодец, почесал за ухом:
— Ща, «кошку» туда кинем, погоди…
Он положил удочку и ушел. Может, он ненормальный? Разве кошек бросают в колодцы?.. Она терпеливо ждала, хотя не слишком-то приятно изображать деловую девочку на виду всей деревни. Мальчишка принес что-то вроде большого-большого строенного рыболовного крючка на длинной цепи, свесился в колодец и вскоре достал ее ведро, полное воды. Перелил и тут же достал еще, сказал:
— Хошь, выходи вечерком, на лошади покатаю.
Из-за его потешной серьезности Людка прыснула:
— Как же я выйду? У меня же валенков нету! — Мальчишка отнес «кошку», а потом увидел, что Людка пройдет несколько шагов и ставит ведра, отдыхает. Он взял одно ведро, второе она не отдала. Через несколько шагов он отобрал и второе ведро:
— Ты гнешься как червяк. К тому же два нести удобнее.
Она понесла удочку.
— Ого, уже и хахаля подцепила! — встретила их бабка; — Глазками похлопала — женишки притопали.
— Здрасьте, баб Мань. Вот вода, — солидно сказал мальчишка: — А будешь гудеть — оборву у тебя всю вишню, хрен ягодки найдешь.
— Ой, Витечка, не надо! — запричитала бабка: —Это я со-стару, сдуру.
— Тогда ладно, — сурово сказал Витечка-Витек: — А хошь, баб Мань, карасиков тебе принесу?
— Да за что такая милость? — всплеснула руками бабка.
— Ну как хочешь… — и он ушел.
И наступило лето сплошного праздника — праздника виноватости…
— Ой, девк, ночью-то жиров не нагуляешь, — вздыхала бабка утром, точнее, уже в двенадцать, когда Людка поднялась: — Тяжка жизня, тяжелехонька: ноги еще на месте не встали, а бока уж лежать устали…
Людка только насупилась: и обиды на бабку не напасешься, и вину все же за собой чувствовала — нет, не за позднее утро и не за долгое гуляние, а за… горячее, сладостное сидение на лошади — самое таинственное и сильное из ощущений, полное праздника и вины.
…Колготня, тусовка, бесполезное сидение на бревнах… Мальчишки, девчонки, вспышки возни, огоньки сигарет… И сидел еще взрослый парень, завернувшись в тулуп, голос грубый, насмешливо-разбитной, что ни слово — ругательство; потом он ушел, атмосфера разрядилась, девчоночьи голоса стали звончее, хотя магнитофон все выл тоскливые и разухабистые блатные песни; затем приехали из соседней деревни трое пацанов на двух лошадях; начались катания, девчачий визг, тявканье собак… Витек оказался страшно сильный; Людка только примерялась, как ей взобраться на лошадь, а он схватил ее под коленку и подкинул. Она легла животом на спину лошади, бормотала: «Без седла — это неправильно». Витек запрыгнул на лошадь и, хватая Людку за что попало, перекинул ей ногу, усадил правильно перед собой, велел держаться за гриву. И как свистнет. Они помчались; она прижалась к дергающейся лошадиной шее, кричала: «Останови!», но Витек лишь яростнее свистел и гикал, и его твердые коленки стучали сзади ей по ногам. Лошадь перешла на галоп, только тут Людка получила удовольствие от езды. Но Витек бросил понукать лошадь, та сразу же пошла шагом, а он неожиданно залез Людке за шиворот, стал нагло лапать. Она согнулась, отбилась локтями и разрыдалась. «Ты чего? Чего?» — задыхаясь, бормотал Витек. Лошадь остановилась, нагнула голову, стала фурчать в траву. И вдруг словно чиркнула спичка между лошадью и Людкой — она ощутила горячее тело под собой, и жар этот ударил в нее, наполняя сладкой истомой, и она замерла, предвкушая счастье… Потом все играли в бутылочку и целовались напропалую в щечку, а с Витьком Людка даже два раза чмокнулась в губы; раз уж здесь в деревне все совсем неправильно, то и ей приходится пожить неправильно, — так рассудила она.
Лето провалилось в эту полуночную жизнь с кострами и печеной картошкой, купаниями в туманной речке и чужими колючими садами, бесконечными играми в почту или бутылочку, страшными кладбищенскими историями и спорами о музыке и музыкантах. Как-то тот взрослый парень, который, оказалось, из тюрьмы весной вернулся, сказал, что Паша Макаров у них там в Англии заболел манией величия, попал в психушку и теперь там кричит: «Я — Иосиф Кобзон!» И тут Людка, задетая в лучшем чувстве, заявила ему: «Я не знаю твоего Пашу, а Иосиф все равно лучше! И не матерись — во-первых, некрасиво, а во-вторых, противно слушать!»
За свои идеалы Людка всегда стояла героически, ведь они у нее с детства самые правильные. Ну а смелости, геройства ей было не занимать, и примером ей служили героические женщины, известные в истории. Началось все в первом классе. Когда Людочка услышала по радио, что в космос полетела первая женщина — советская женщина! — ее охватил восторг; она стала собирать фотографии Валентины Терешковой из газет и журналов, статьи про нее, и так прониклась, что собралась в космонавтки — летать на другие планеты и делать там что-нибудь героическое. Потом ее захватила смелая Зоя Космодемьянская — ее было жалко до слез; потом она узнала о мужеству и страшной гибели молодогвардейцев — она полюбила их всех, но особенно девушек: а еще смотрела какое-то кино про Жанну д’Арк — оказалось, что такая геройская Жанна и вправду была… Людка зачитывалась книжками про исторических женщин и при этом прекрасно запоминала даты; душой и мыслями погружаясь в героику прошлого, она правильно, по-пионерски на хороших примерах закалялась как сталь, поэтому ее выбрали ответственной совета отряда за дежурства в классе. Школа укрепляла и врожденную ответственность; именно с ответственностью Людка била второгодника и хулигана Бурцева учебником «Природоведения» — лентяй Бурцев не выгребал бумажки из парт, а лишь веничком кое-как помашет да развезет шваброй воду по полу. Впрочем, после второго деревенского лета правильность ее стала убавляться. Зато прибыло ответственности — выбрали комсоргом школы. Коньком Люды стали рассудительность и убежденность, за правильность отвечали комсорги классов; главное — план мероприятий, а как они прошли — так, значит, и правильно. Истфак пединститута и бескомпромиссная коллективная постоянная война с тарака-нами-прусаками в старом, пропахшем дустом и гнильцой общежитии вытеснили из ее сердца любовь к отдельным героям; Людмила прониклась несгибаемым уважением к диалектической, главной силе истории — к борьбе классов.
Доцент-психолог из породы молодящихся мужчин панибратствовал со студентами и рисовался перед студентками, но умудрялся оставаться строжайшим экзаменатором и неприкаянным старым холостяком. Поначалу его сонно-чопорный взгляд лишь скользил по однообразно новым первокурсникам, но после, когда доцент уже выделял внимательную умненькую Людмилу, во взгляде появилось что-то хищное, недокормленно-ласковое — он углядел в ней свой любимый, довольно редкий тип — тип женщин, которые расцветают и очень к месту рядом с мужчинами значительно старше себя, а среди ровесников их блеск, женственность, красота только портятся. К концу семестра доцент уже решился жениться, поставил ей «отлично» и пригласил в театр.. Ухаживал четыре года: театры, музеи, взаимное «вы» и по имени-отчеству; цветы, восхищенные улыбки, целование рук, тонкие разговоры о проблемах семьи и демографии. Наконец он убедил ее, что она будет прекрасной подругой и сподвижницей ему, молодому ученому, и она дала согласие на брак. Путешествие в Ялту у них оказалось предсвадебным. Здесь он открылся в качестве страстного возлюбленного: его поцелуи она почему-то сравнивала с затяжными парашютными прыжками — от них кружилась голова, его руки безудержно познавали ее тело, она шептала: «Не надо…» Еще пару дней — и она бы не устояла; но случилось, что на ее глазах высокий красивый спасатель нырял с лодки за тонущим, страшно долго был под водой и все же спас человека. Уже в лодке у спасателя был обморок, хлынула кровь из носа; доцент, пыхтя, греб к берегу, а Людмила обмывала кровь на лице и груди героя…
Людмила поступила в аспирантуру. Доцент при встречах здоровался с холодной улыбкой — не простил; ходил слух, что он меняет женщин как перчатки. Однажды от него пришло письмо, подвергнутое первоначально презрению за пустословие и обидность, но уже после развода с Лебедевым, перебирая свой архив, Людмила наткнулась на него. Потом она неоднократно брала это письмо, будто судьбу свою пыталась вычитать.
«Эй, мы встретились вдруг на лестничной площадке возле деканата. Вы были сдержанны до строгости и веретенообразны, словно бы изящество Ваше достигается невидимым простому глазу сверхскоростным вращением вокруг собственной оси, а сдержанность лишь скрывает энергию этого вращательного изящества. Холодная пропасть Ваших синих глаз — и мы разбежались по нашей трудовой суете.
Дико захотелось. Захотелось написать Вам. Вам про Вас. Без ущемленного самолюбия, искренне и дружески и даже — не побоюсь этого слова — с любовью. Но моя любовь (стыдно) — это, в сущности, потребительство, пожирание… Как-то я назвал Вас «исполнительницей ролей»; теперь же я уверен в этой своей догадке. Вы не просто живете, Вы — исполняете жизненные роли.
Исполнение ролей — вот ключ ко всему. Прекрасна роль любящей, приятна — любимой; никакой приятности в роли поучаемой (да и поучаемого), бессмысленна роль исполнительницы ролей. Но… Но на этой бессмысленности строятся взаимодействия людей. Лишь исполняя роли человек — член общества. А в промежутках между ролями человек есть собственно человек — человек, познающий счастье. У Вас этих промежутков нет. Потому что нет жизненной спеси. Вы не просто бьетесь за исполнение своих желаний, то есть удовлетворяете свою, спесь, Вы исполняете беспроигрышную роль, роль исполнительницы ролей.
Я — декорация. Ваш образ меня — партнер для роли невесты… Рад, что Вы стали житейской наградой обыкновенному хорошему человеку. Но откройте Ваши очи и полюбите его истинно таковым, каков он есть. Не делайте из него партнера для Вашей роли жены.
Любая роль требует логики. Логика человека расходится с логикой жизни — это обыкновенно. Необыкновенна лишь роль счастливого человека. Любовь и счастье вполне обыкновенны для человека нелогичного.
Было бы нелогично играть роль нелогичной женщины…»
Аспирантуру Людмила бросила, переехала в Серпейск. Религиозная тетка оставила ей квартиру, сама перебралась в деревню к больной бабке. Был у Людмилы глухой, горький период, забитый школьными делами и утомительной заботой о своей внешности. Костька спасал ее от пустоты, но в поздний час бывало до слез одиноко. Праздник виноватости обманул… но ведь не лошадь же и не Витек обманули ее тогда, а она сама себя. Лебедев обманул ее огонь, знак предвкушения любви и счастья… Доцент виновен тоже — сразу, с налета не обманул, а растягивал обман четыре года; теперь-то Людмила уверена, что были у него другие женщины, какие-нибудь старинные подруги или мимоходные девочки. Зачем же она ему была нужна? Неужели как машинистка? Он ведь надоумил пойти на курсы, подарил югославскую машинку… Пожалуй, она ему с лихвой отработала машинописью подарки и прочее… хотя вряд ли… Почему же он «не срывал цветка»? Боялся обмануться? Нарушить равновесие? А может, написать ему?..
Самой странной неправильностью ее жизни было школьное мнение, что мужчин у нее тьма, что физрук разводится из-за нее, что она чуть ли не особа легкого поведения, — даже такие слышались голоса. А был как раз только сосед, починивший как-то замок и считавший своим долгом забредать по пьянке и нести всякую чепуху — мол, мужика ей надо, мол, на работе у них все-все только через поллитру… Ездила несколько раз в деревню, где хозяйствовала тетка, а бабка уже еле двигалась, хотя на язык осталась остра, лишь голос ослаб; Костька сразу же стал «Костик-хвостик», а она сама — «Люська-безмуська». Тетка же была молчалива, не снимала черного платка и регулярно опускалась на колени перед иконами. Костька боялся спать в горнице, пришлось его тихо убеждать, что бога, во-первых, нет, а во-вторых — он очень хороший и детей никогда не пугает, не обижает. Они постелились на кухне, Костька заснул… Днем возле колодца вдруг остановился трактор «Беларусь», и оттуда высунулся загорелый, веселый… Витек?! «Здорово, городская! Грят, с пацаном прикатила, мужа забыла. Вечерком приходь на речку — я как раз уже там буду косить, — побалакаем, гля, добалакаемся…»
Трактор тарахтел из конца в конец по склону, чиркая лучом фары черный небосвод, а едва Людка присела, трактор остановился и погас, продолжая тарахтеть. Подошел Витек, пахнущий слегка машиной и очень сильно одеколоном «Шипр», мгновенно собрал костерчик и выложил огурчики-помидорчики, яйца, колбасу, хлеб. Все происходило деловито, простецки. Витек предложил ей самогон, она отказалась. Он выпил, перекусил, рассказал про житье-бытье: трое детей, на заработок и на жизнь не жалуется… «Ну а ты чего? Жизня перекосилась? Хошь, подрихтую на денек-другой? Да чего я, за тобой же должок еще с того лета!..» Он был страшно сильный, впрочем, она не сопротивлялась. Потом для ласки и правильности она поцеловала его в губы, как когда-то целовал ее доцент, и спросила про жену. «От нее не убудет! — рассмеялся Витек,— Она опять уж брюхата, грит, вот самподряд наладится по правде, так сразу арендуешь полсовхоза — остальным и делов не останется, только бумагой трясти да еще нас стеречь, каб не убегли бы!» Неправильно, что тогда она не почувствовала за собой никакой вины, — кругом же виновата, не Витек же тогда ей полюбился, а запах «Шипра».
Пыталась она и самостоятельно заниматься по своей научной теме, очень злободневной теперь, в начальные годы перестройки. Она читала много периодики, но для настоящей оценки новой исторической информации ей не хватало правильности и рассудительности, полностью утерянных невесть когда. С появлением Огородникова рассудительность вроде бы помаленьку возвращалась, но какая уж правильность, если его широкая твердая грудь притягивает как магнитом, — хочетея прижаться к ней, расплакаться и забыть все-все-все. Иногда Людмила сердилась, что он забывал пользоваться мужскими жасминовыми духами, которые она ему подарила; иногда ее раздражала его скромность — сам все вылизывал, ремонтировал, деньги платил, а приходит как не к себе и очень, до самых мелочей аккуратен; этим заражаешься, сразу видишь всякую соринку-пылинку, тапочки не на месте, пуговка у Костькиной рубашки на ниточке висит… бросаешься прибирать, раскладывать, наводить лоск — душевная энергия тратится на беспокойство, выискивание непорядочков, суету, а не на любовь или науку, не на собственно жизнь; она же дома человек, а не член общества!
Высчитали с Маргаритой, что Лебедев привезет Костьку где-то через неделю. Вдруг Ритка созналась, что, кажется, влюбилась. «Вот, — она достала из сумки какой-то западный журнал мод и указала пальцем на фото — манекенщик в белом костюме, очень похожий на Лебедева: — на сутки дали». Они листали журнал, когда пришел Огородников. Его сразу вовлекли в спор: идет ли косичка мужчинам? Он внимательно разглядывал в журнале манекенщиков с косичками, затем сказал, что на Черноморском побережье некий художник, прическа с косичкой, продал два лотерейных билета, подделанных на выигрыш «Волги». Ездил на белых «Жигулях», номер поддельный; с ним был мальчик пяти-шести лет; характерная примета — родственные родимые пятна, у него — на щеке, у мальчика — на шее; все те билеты — и подлинный выигрышный, который пока не обнаружен, — распространялись в Серпейске.
…Ага, крутанули их клево, теперь бы самим не вляпаться… Свора вряд ли уже всполошилась, хотя… Еще заход — слабо, — не сконцентрирован, устал, взвинчен до шараханья от каждого в форме… Короче: не фрайериться… Лебедев остановил машину, заменил номер, снял парик, переоделся. Родимое пятно у себя на щеке долго, методически счищал ваткой, смоченной в специальном растворителе. Получилось очень заметное покраснение кожи, поэтому пришлось оставить шкиперскую бородку и бакенбарды. Без усов лицо помолодело и будто бы увеличилось. Потом разбудил Костьку и покрасил ему волосы в темно-русый цвет. А вот растворитель нужен другой, чтобы кожа не раздражалась— подозрительно, если красные пятна будут у обоих. Кость-ка хныкал, что мама никогда с утра не моет ему голову, что «шапкунь» плохой, не детский, глаза ест. Лебедь приказал не болтать — у него же ангина, — перевязал ему шею бинтом.
— А купаться можно будет? — жалобно спрашивал Костик.
— Глохни, каторга! — злобно рявкнул Лебедь, которого свербила мысль, что, мало ли, у Вартана засекли след протектора: — Пока можно только слушаться!
В Сухуми разыскал автосервис, попросил заменить все четыре покрышки. Ему с сожалением отказали; здесь люди занимались более ответственным делом, чем замена покрышек, — здесь их распределяли. Лебедь знал секреты справедливости и все же добился, чтобы ему продали три штуки за тройную цену. Была и своя запаска. На каком-то пустыре собственноручно перебортовал все четыре колеса. Затем, чтобы ублажить Костьку, повел его в обезьяний питомник. Там Костька глазел, очарованный, а его самого неприятно задел момент, когда он сам, словно передразнивая матерого, тупорылого обезьяна, машинально почесал где-то под мышкой. Экскурсовод говорила что-то о деньгах, Лебедь прислушался; оказалось: хороший самец покупается за живую валюту, вроде как на обезьянах испытывают новые лекарства… Он мрачно улыбнулся этбму показушному гнилому гуманизму: недавно читал в газете, что в Союзе 7 миллионов дебильных детей, наверняка есть брошенные, чем не материал, или вон в Афгане пацаны жизни клали… да всякий настоящий алкаш за стакан любое дерьмо сожрет или даст вколоть, а эти десять тысяч потратили бы на жилье, раз уж 20 миллионов нуждающихся накопилось. Теперь животные вызывали у него раздражение, но он терпел из-за пацана. На стекле киоска, где он покупал пластмассовую обезьянку, висел рекламный листочек мелкоремонтного кооператива «Авто», и Лебедь поехал по этому адресу. Бросив взгляд на группу людей возле легковых машин, расставленных по обочинам, он проехал мимо, повернул за угол и понес в кооператив три практически новых покрышки. Его перехватили на подходе и купили все три за двойную цену.
Лебедь вел машину и нервничал уже не из-за риска, а из-за билетов, пока и не выкинутых, и не проданных. В Новом Афоне повел Костьку в знаменитые пещеры. Экскурсовод рассказывал, что пещеры были открыты шестнадцатилетним юнцом, который первым спустился сюда по веревке. «В натуре, какой-то салажонок за смертью полез, а я что? Обкакался?..» Он купил черные очки и не стал бриться. Уже в Гагре — выбрал по застрявшим с детства словам «О, море в Гаграх» — он рассматривал в зеркальце свое лицо и отложил твердые намерения — следовало обрасти, подлечить щеку и подобрать, чем потом смывать родимое пятно. Он снял комнату на неделю и тут же сдружился с двумя другими квартирантками — возил их на пляж, вместе купались и загорали, а когда Костька укладывался спать, то опять ездили купаться и пили вино. Лебедь резонно подумывал, что ему безопаснее провернуться за пределами республики — вдруг шум уже пошел, не стоит светиться с теми номерами. Да и подружки-уралочки ему за два дня надоели — все лечили Костькину ангину и прожужжали уши своей шуткой:
— Мы — девчата нецелованные, — говорила одна, скромно потупляя глазки.
— Ниже пояса, — басом уточняла другая, и обе звонко смеялись.
Лебедь что-то спросил про Сочи.
— Мы там в прошлом году отдыхали, — сказала одна, тут же называя точный адрес.
А другая басом подхватила:
— Там через дом соседи-корейцы; они арбузы с дынями где-то выращивают — ух у них денег!
— Они на лето уезжают, остаются только старики да женщины с детьми — комнаты сдают, а домина у них ого-го! — в тон восхитилась первая.
При въезде в Сочи Лебедев сменил номера и одежду, нанес в три слоя родимое пятно себе на щеку, надел парик, снял повязку с Костькиной шеи.
— А зачем опять голову мне мыть? — удивлялся Костик.
— Это тебе головомойка, чтобы языком поменьше болтал. Короче, Кроль, ни с кем не разговаривать!
Кореянка с неопределенно молодым лицом говорила по-русски чисто и отчетливо, как дикторша ЦТ; возможно, что завтра освободится комната. Лебедь вызвался заплатить аванс, вряд ли он подыщет что-либо лучше. Нет, этого не надо, если завтра съедут, то… Одну ночь Лебедь и Кроль провели в машине и к вечеру вселились в намеченный дом за очень умеренную плату. Квартирантов здесь было много, но новые жильцы ни с кем, кроме хозяйки, в контакт не вступали, а весь день проводили на пляже. Вот где Лебедю была мука — однообразное лежание в массе голых людей утомляло, заставляло уходить в себя; и тут мерещилось всякое, хоть бросай все и срочно линяй отсюда. В воде тоже не было спасения — нельзя мочить голову, нырять — дикое, небывалое для него условие. Отвык он и жить без машины; общественный транспорт его раздражал, частника найти — везение или великий труд. Но все равно семь дней он за руль не садился ни разу.
На лето главной хозяйкой в этом доме, оставленном мужчинами, была Нора; она открыла им первый раз. Ее бесстрастное просветленное лицо и невысокая плотная фигура привлекали Лебедя — даже подумывал завести с ней шашни. Для начала намалевал пейзажик — четкие однотонные краски, голубое небо и сосна с кривой веткой, протянутой к солнцу, от солнца для символики падает золотая капля. Лебедь принес его на кухню, где Нора готовила для четверых детей, двух мальчиков и двух девочек лет восьми-десяти. Вряд ли все они были детьми Норы, впрочем, Лебедю они все казались на одно лицо. Нора поблагодарила за подарок и тут же повесила пейзажик в комнате, где стоял телевизор и где по вечерам собирались квартиранты. Эта комната отделялась от кухни довольно большой квадратной прихожей, из которой шел узкий коридор в глубь дома и лестница наверх. В коридоре висела тяжелая портьера, за нее уходила Нора укладывать детей спать. Лебедь поднимался наверх, укладывал одиноко играющего Кроля и опять спускался вниз, в полумрак телекомнаты, где шли тихие беседы и обсуждения передач. Лебедь краем глаза следил, не идет ли Нора; когда она возвращалась, он тут же приходил на кухню, делал ей комплименты, вызывался помогать и всячески пытался разговорить ее, но безуспешно. Из хозяев дома Лебедь по утрам часто видел в саду скрюченного старика корейца с вечной тяпкой в руках, и один раз на кухне мелькнула низенькая старуха в шелковом халате до пят. Нора убиралась, что-то готовила, Лебедь сидел, курил, задавал вопросы о сочинской жизни, полувал односложные ответы; затем телевизор выключался, квартиранты поднимались к себе, Нора гасила везде свет и, сказав; «Спокойной ночи», уходила за портьеру. Один раз он увязался за ней, но перед портьерой она бесстрастно сообщила:
— Дальше не ходите — мы примем меры.
На седьмой день, когда все смотрели программу «Время», Нора и Лебедь были на кухне. Тут он очень спокойно, деловито сказал ей о билете. Она чуть дольше обычного задержала на нем взгляд, затем опустила глаза;
— Хорошо. Мы решим.
На следующий день Лебедь повторил вопрос и получил ответ:
— Телеграмму я дала. Жду звонка.
Через час зазвонила междугородка. Нора при Лебеде вела разговор, и его удивляла краткая, точная бесстрастность ее слов. Она положила трубку:
— Мы посоветуемся. Завтра все скажем…
И опять был звонок, но теперь уже Нора только слушала. Лебедь сидел у окна, нервничал, курил одну за одной. Нора сказала:
— Двадцать две тысячи. Завтра. Если сможет Иванес.
Лебедю не спалось: что они? Мальчика нашли? Иванес какой-то… Да хоть сам Иисус, а за двадцать две не выгорит…
Около семи часов следующего дня подкатил обшарпанный «Жигуленок» и на кухне появился толстый, лет пятидесяти кореец с курчавыми волосами. Он потирал руки и повторял: «Вай-вай-вай!», пока Нора не увела их за портьеру в маленькую разноцветную комнату, где они сели за круглый столик. Иванес достал из портфеля микроскоп — тут Лебедь улыбнулся: до чего все однообразно в этом мире — и сказал с типичным кавказским акцентом:
— Делайте ваш ставка, друзья?
Нора сказала, что они покупают за двадцать две. Лебедь молчал. Иванес очень серьезно посмотрел на них:
— Тридцать тысяч — вот минимум. Давай твой билет, молодой человек.
Он долго рассматривал билет с микроскопом и без, держа его ногтями, затем положил на блюдце:
— Тридцать. Я ухожу, а вы договаривайтесь сами.
Лебедь взял билет и сказал Норе:
— Тридцать.
Нора кивнула:
— Завтра позвонят, мы решим.
Она уже вошла в кухню, а Иванес придержал Лебедя и тихо пообещал тридцать пять, попросил завтра приехать к нему на базу, сунул бумажку с адресом, телефоном и полным именем. Вскоре он извинился и уехал.
Остальной вечер Нора была все так же бессловесна. Утром Лебедь потащился с Кролем на пляж. Там пристроился к семейной пожилой паре квартирантов Норы. Вместе отправились пообедать в кафе. Там была очередь. Пожилой супруг принялся разглагольствовать перед Лебедем, что очередь — это безнравственно и никому не выгодно, мол, люди хотят отдать деньги, очереди тормозят оборот и прочее. Лебедь и так нервничал, не зная, идти ли к Иванесу, пока не выяснилось у Норы. А тут вдруг подумал: раз к нему вроде как очередь, то справедливее, что тот, кто платит больше, будет первым. Он попросил супругов до вечера присмотреть за Кролем (он железный молодец, на «Как тебя зовут?» отвечает: «Кроль!»), а то очень важное спешное дело покоя не дает, сунул старику двадцатипятирублевку «на кино-мороженое…» и, не дожидаясь ответа, сбежал из очереди. Таксист привез его на вокзал, далее по каким-то улочкам через многие железнодорожные переезды ехал медленно, расспрашивал прохожих и наконец остановился у ворот с короткой надписью: «База № 5». Вахтер молчал, когда Лебедь шел через проходную. Длинные склады, кучи ящиков, бочек, ряды контейнеров… Ездили грузовики, переваливаясь на колдобинах, по эстакадам ездили электропогрузчики, за складами торчала стрела крана, слышались крики работы. Лебедь вернулся, спросил у вахтера, где найти такого-то. «Это начальник базы, — сказал вахтер, — он сидит вон в том белом домике». Лебедь никакого белого домика не увидел, но пошел между складами в указанном направлении. Вышел к палисадничку, там стоял знакомый обшарпанный «Жигуль». Вдоль стены, в тени сидело на лавках десять-двенадцать грузчиков бандитского вида.
— Мужики, начальство здесь?
— Подгони закурить.
Лебедь протянул пачку «Казбека», она вернулась пустой. Не получив ответа, он вошел в дверь деревянного сарайчика, который оказался пристройкой к когда-то белой стене. В коридоре за стеной Лебедь нашел дверь с древней, с золотыми буквами и с гербом, табличкой: «Завспецбазы». За этой дверью был довольно просторный, но облезлый и захламленный кабинет с окнами в палисадник, где за столом сидел Иванес, а в кресле сержант милиции пил чай.
— О, дорогой гость! — вскочил ему навстречу Иванес. Милиционер ушел, а Лебедь был усажен в освободившееся кресло.
— Это у меня суточники работают, — объяснил Иванес: — Ну что, привез?
Он щелкнул замком на двери и достал из стола микроскоп. Лебедь помялся, протянул ему билет. Иванес взял ногтями билет и неожиданно, без разглядываний положил его в записную книжку, а ее — в карман легкого серого пиджака, висевшего на спинке стула. Тут же надел пиджак и убрал микроскоп. Взял телефонную трубку, стал набирать номер.
— Стой, — не глядя, скомандовал он Лебедю, когда тот дернулся было к нему: —Мне еще в три места позвонить надо. Не волнуйся, сейчас поедем, отдам я тебе деньги.
…Иванес названивал, Лебедь прислушивался к его речам в трубку — о вагонах, о запчастях, о зарплате какому-то маляру… Желание стукнуть Иванеса чем-нибудь тяжелым прошло. Лебедь налил себе холодного чаю. Иванес, не отпуская трубки и не присаживаясь, вынул из стола пакетик с обломками печенья.
— У нас сейчас перестройка! Быстро давайте вагон, быстро! — грозно кричал он в трубку. Наконец положил ее и спросил:
— Ну, тридцать тысяч за твой фальшивка — идет?
Лебедь в упор посмотрел на него:
— Не шути со смертью. Сорок, не меньше.
Иванес моргнул как-то обиженно:
— Не идет. Уговор был тридцать пять. Ну, поехали?
Лебедь вздрогнул, когда увидел рядом с «Жигуленком» желтый патрульный «козлик». Иванес же забрался в него, как в свою, и махал оттуда рукой:
— Садись, не стесняйся, заодно подвезут! Честный человек не стыдно здесь ехать.
Лебедь понял, что он целиком во власти простодушно-нагловатого обаяния этого человека. Их высадили где-то на пути к аэропорту, где вдоль шоссе в один ряд тянулись частные дома с садами. Иванес помахал «козлику» и повел Лебедя к маленькому дому, заросшему виноградом. Иванес шел впереди; проходя мимо дома, махнул на него рукой:
— Я здесь живу, но там делать нечего.
Он взял в сарайчике лопату и окинул взглядом сад, будто раздумывал, с какого дерева начать садовые работы. Он подошел к невысокой груше, сказал:
— Дюшес, — отмерил от нее двадцать пять ступней и вручил лопату Лебедю:
— Копай, ты молодой.
Лебедь копнул пару раз и спросил:
— Извини, дорогой, а не боишься, что я тебя вдруг стукну лопатой?
Иванес отошел, сорвал грушу, надкусил:
— Незрелый… А Норе ты не продашь. Тридцать они не дадут, они себе и так купят. Про меня молчи.
Когда лопата стала упираться во что-то твердое, Иванес отодвинул взмокшего Лебедя, сам откопал фанерный ящик, вскрыл, вынул железную коробку, а из нее кожаный мешочек и, наконец, полиэтиленовый пакет. «Все однообразно в этом мире», — думал Лебедь.
— Отойди и отвернись, — сказал Иванес.
Лебедь слышал, как что-то шлепалось на землю, затем как лопатой забиваются гвозди в фанерную крышку, затем как засыпается яма.
— Ага, забирай, — пропыхтел Иванес; на свежевзрыхленной земле у него под ногами лежали пачки денег.
Лебедь был несколько обескуражен спокойным бесстрашием этого человека.
— Посчитай, — кивнул вниз Иванес и направился к дому.
Лебедь быстро собрал пачки в черную авоську, сверху сунул несколько груш. Мелькала мысль, что надо вернуть билет, — но как? как? Надо было настаивать на сорока!..
— Так я и живу: работа — дом, дом — работа, — жалобной скороговоркой объяснял Иванес, когда Лебедь подходил; Иванесу вздумалось обкосить траву вдоль забора, и теперь в руках он держал косу.
— За мной сейчас опять друзья приедут, я бы подвез, да тебе лучше твой ход. А то закопай там, — он кивнул на сад, — приедешь как сможешь…
Лебедь выбежал на шоссе, остановил какой-то грузовик. «Облапошили! — отчаянно думал он. — Как мальца! Я, считай, полгода корячусь, глаза испортил, мозги свернул… да с лопатой в этом саду за неделю миллионщиком станешь!» Авоська жгла ему руки, когда он ехал в автобусе. «Молодой человек, вы не пробили талончик, — сердито сказала ему какая-то женщина. — Не забывайте, ведь оштрафуют. А еще с косичкой…» На остановке Лебедь выскочил как ошпаренный, сдерживал себя, чтобы не пуститься бегом… Кроль читал с женщиной детскую книжку. «Хороший у вас Кроша, — сказала она: — А вот деньгами вы нас обидели!» Она демонстративно сунула Кролю в нагрудный карман денежную купюру и какую-то белую бумажку. Лебедь схватил Кроля, помчался к себе наверх. Суматошно собрал все вещи в сумку, сурово велел Кролю не выходить из комнаты и спустился вниз, на кухню. Нора кормила детей; сказала ему: «Не курите», когда он сел у окна с папиросой. Тут позвонила междугородная. Нора коротко сообщила в трубку, что Иванес
говорил «тридцать». Затем внимательно слушала, строго глядя на расшалившихся детей… Положила трубку, взяла обоих мальчиков за уши, а Лебедю сказала:
— Двадцать четыре.
Он раздумывал, как будет она проверять, а вслух сказал:
— Двадцать пять.
Ушел опять наверх, взял свои пожитки и пацана; его усадил за руль, дав пару груш из авоськи. Вернулся на кухню. Детей уже не было, Нора мыла посуду.
— Хорошо, двадцать четыре, — сказал он.
— Завтра, когда приедет Иванес…
Стемнело, Лебедь наконец счел место подходящим. Съехал с шоссе к озерцу, сменил номера. Было прохладно. Кроль до истерики не хотел купаться или хотя бы помыть голову холодной водой. Лебедь зажал его коленками, помыл голову, затем, задрав ему подбородок, обработал растворителем родимое пятно на шее.
— Теперь спи, Константин. Завтра купим тебе танк. Мы же друзья. Ничего страшного не случилось. Просто я навел порядок, — грустно объяснял Лебедь. Костька лежал на заднем сиденье, уткнувши лицо в спинку, нервически всхлипывал. Лебедь поджег парик и швырнул его в камыши. Принялся за пятно у себя на щеке. Спирт лишь разгорячил щеку, и тогда, не обращая внимания на сильное жжение, он обработал пятно растворителем. Щека горела, но он еще раз протер ее растворителем и бросил пузырек в воду. Сменил одежду, старье облил остатками спирта и поджег. Погнал машину на север. Деньги сложил в два пенала и закопал в двух местах под мостом через какую-то речку.
В Ростове-на-Дону он задержался: поменял шины, запасся бензином; Костьке дал снотворного и выспался вместе с ним. В Серпейск они приехали ранним утром. Рассматривал в зеркальце свое лицо; щека горела и очень выделялась. Он скребанул по лбу куском кирпича — получилось вроде ссадины в пол-лица, — залепил ее длинными полосками лейкопластыря. Им открыла Людмила, расцеловала спящего Костьку, унесла его к себе, сказав: «Ложись здесь, на Костькином диване». Лебедь выкурил на кухне сигарету, напряженно припоминая подробности — так, фальшивки сжег, пеналы выбросил, документы сжег, денег при себе только мелочь на бензин… — аут, кемарь, братец. Не раздеваясь, рухнул на Костькин диван. Пахло чем-то близким, родным… — Костькой? Вчера, когда проснулись, он спросил:
— Пап, а где у тебя родина делась?
Пришлось вдалбливать и внушать, что ничего не было, что это просто Костька ошибается или запамятовал.
— А что такое «запамятовал»?
— Это когда помнится одно, а за памятью совсем другое…
Пока нормалек, Людке успел ввернуть, что Костька прибаливал…
Утром, собираясь на работу, Геннадий Акимович испытал неприятное колебание чувств хозяина и главного здесь человека.
— Опять этот белый жук… Пьяный, что ли, не разделся-то? А костюмчик не ношен, пролежал в чемодане.
Слова эти обращались к Людмиле; ей тоже к девяти в эти дни.
— Тебе кофе или чай? — спрашивала она. — За рулем же был, устал, видишь, как уткнулся.
— У нас что, семья или проходной двор? — ворчал Геннадий Акимович: — Семья — это надежная ячейка общества…
— Ничего не попишешь, — слегка улыбнулась Людмила, — но это тоже член нашей ячейки.
Она оставила Лебедеву записку, что придет где-то после часа, и чем подкормиться, когда встанут.
— Вечером чтоб его не было, — буркнул Геннадий Акимович при расставании на улице.
Вечером Людмила рассказала ему, что, когда они с Маргаритой пришли, оба Лебедевых еще спали. Им приготовили завтрак. Сразу после завтрака Лебедев засобирался уезжать, и тут Маргарита— «ее стиль!» — напросилась с ним: мол, она этим летом не отдыхала, до начала года еще неделя, а у нее отгулы за трудовую четверть, оставила Людмиле заявление для директора.
— А что твой дорогой?
— Да у него ссадина в пол-лица, он плохо себя чувствует; а она умеет водить машину и права есть.
Геннадий Акимович взялся было поиграть-позаниматься с Костькой, но тому, видно, Кавказ не на пользу — стал рассеянным и капризным.
— Ну-ка, что это красное у тебя на шее?
— А, ерунда, — поморщился Костька: — Это папка меня ногами зажал и душил. Но я не поддался.
Людмила загремела сковородкой на плите:
— Константин, не городи глупостей!
Геннадий Акимович посмотрел на нее с сочувствием:
— Что-то ты не в себе сегодня? Из-за того, что твоя лучшая уехала с твоим дорогим? Что ж, давай и ее примем в нашу ячейку.
— Это тебе он дорогой, — не глядя сказала Людмила с завершенностью женской логики; продолжила то ли задумчиво, то ли с обидой: — Лебедев, когда уходил, уже в дверях глянул на трубы и пальцами щелкнул: ты, говорит, сидишь между этими трубами как в клетке.
— Что ж, домишко еще дореволюционный, — сказал Геннадий Акимович. — Сначала вода, потом газ, теперь отопление… Короче. Приедет Ритка — пойдем в загс. Помолвку отпразднуем у моих. С принятием алкогольных веществ в малых дозах. Для начала мой заказ — девочка, мы же должны бороться за рост и укрепление…
На другой день Геннадий Акимович повел Костьку в парикмахерскую. Парикмахерша запричитала:
— И что с тобой родители творят! Прямо в девочку превратили! Да еще и покрасили!
Геннадий Акимович пожал плечами, а дома пересказал Людмиле. Та рассмеялась:
— Папочка его два раза красил! Сначала под себя — золотой блондин, затем обратно!
Эта-то мелочь и припомнилась Геннадию Акимовичу, когда в сводке упомянули, что по делу фальшивых билетов стал известен еще один случай продажи. В Чкаве хозяйка дома назвала цвет волос малыша «золотистый блондин»; а еще мальчик говорил, что он из какого-то города под Москвой, название на С. Геннадий Акимович подумал, что Серпейск — другая область; впрочем, оттуда смотреть: вся Россия — Подмосковье. Эта информация застряла в нем, несмотря на привычку отбрасывать все лишнее, не связанное с делами, которые он вел.
В Серпейск прибыл оперативник из Грузии; уже имелся отпечаток протектора «Жигулей» — потерпевшие утверждают, что там, под орехом, никогда никакой другой машины не стояло, — и подробные словесные портреты афериста и мальчика — впрочем, теперь практически все уверены, что у обоих была измененная внешность, хотя родимые пятна — настоящие. Грузинский коллега несколько дней выявлял и проверял все белые «Жигули» в городе и районе; между собой посмеивались, что коллега-то, наверное, откомандировался в эти края, чтобы заодно и в столичные магазинчики заглянуть. Геннадий Акимович никогда не соединял свой домашний мир с миром работы, но тут почему-то совпадения — белые «Жигули», одно и то же время, отец и сын примерно тех же лет… — не выходили из головы. Хотя… этот белый попугай покрасил Костьку — довольно-таки экстравагантно, для мужчины, но, учитывая его пижонство, Вполне объяснимо, — эмоции, психология определяют поступки человека. Например, Костька эмоционально перегружен предстоящей учебой в школе, поэтому он стал то взвинченно-веселый, то сонный, подавленный… — так доказывал он Людмиле, когда она беспокойно утверждала, что с Костькой что-то неладное; или вот, аферист-художник с косичкой — он сделал на лице большое родимое пятно и еще дитя с собой взял, — теперь все потерпевшие начинают его портрет с родимого пятна, далее то, что легко меняется, — очки, бородка, косичка… А вот цвет глаз, форма носа или даже рост, худощавость или упитанность, размеры плеч и т. д. — об этом у всех мнения разные; то есть наружная мишура отвлекала внимание на себя, ну и подозрений меньше — ребенок, характерная примета, как же, родимое пятно… Вот если бы он совсем в негра покрасился, тогда его ждали бы стопроцентный провал и затем дурдом.
Людмила вздрогнула, вздохнула.
— Ты чего?
— Да так, вспомнилось вдруг. Тебе будет неприятно.
— Тем более расскажи! Посмотрим, гожусь ли я тебе официально. Ведь муж обязан разделять с женой и неприятности.
Людмила прижалась к его широкой твердой груди:
— Ты правда не..? В общем, я только вышла замуж — ни дел, ни забот, сплошная любовь…
— Правильно, хочешь быть счастлив месяц — женись!
— …На улице душно, сверчки, южная ночь, звезды, а ты лежишь и знаешь: вот сейчас войдет твой любимый, красивый как бог… ну и тэ дэ. А он был в ванной; в эти минуты, может, больше всего и любишь, — короче, сам знаешь. Слышу — идет, а в комнате полумрак, призрачно, большие тени; и вот входит… негр! Я «ах!» — чуть не умерла со страху. А Лебедев говорит: для шутки обмазался кожурой грецкого ореха… В ту ночь я поняла, что даже любимого можно не любить; та ночь оказалась началом «не любить».
— Как? Разлюбила ночью?
— Не паясничай. Просто со временем я поняла: Лебедев недостоин, чтобы его любить.
— Не заслужил?
— Это другое. Он вообще не имеет права, чтобы его любили.
— Браво! А как же узнать достойного?
— Право на любовь имеет лишь тот, кто сам верит, что любовь есть и без нее нельзя. Не делай испуганного лица, ты достоин.
Геннадий Акимович поразился: женская логика не поддается осмыслению, зато выводы стопроцентные; любить, разлюбить, неуправляемое вдруг «не любить» — неужели это все настолько важно? Кстати, а у того белого павлина, оказывается, был опыт по перекраске, хоть и примитивный…
Геннадий Акимович нашел время подняться в эксперт-лабораторию и там у молоденького лейтенанта-химика спросил «что-нибудь такое, чтобы покраситься как негр». Тот потеребил свои мальчишеские усики и достал пузырек с прозрачной и жирной на вид жидкостью. Геннадий Акимович выслушал тройное химическое название, смочил ватку, помазал по запястью — образовалось темно-коричневое пятно. «Можно смыть спецраствором, а часа через четыре само сойдет», — сказал химик. Геннадий Акимович не признавал подозрений; только факты, реальные версии и их четкая проработка — много мелочной, детальной рутины, как и в любом другом деле. Но раз уж втемяшилось, что «кавказский художник» — не кто иной как первый муж Людмилы, то этот бред надо стопроцентно проверить — или бредить, или прорабатывать версию. Имеет ли он право самостийно, без ведома подключаться?.. Пожалуй, нет, он же не частный сыщик-филантроп, а офицер солиднейшего ведомства, работает только по закону и по приказу…Но имеет же он право на спокойную семейную жизнь! любовь жены! дружбу приемного сына! Тут Геннадий Акимович зло посмеялся над собой: новая особая форма ревности — предполагать матерым аферистом бывшего мужа любимой женщины. А если бы у Людки было несколько мужей? Или теперь она была бы замужем, а он вдруг воспылал к ней любовью? В коридоре Геннадий Акимович подловил капитана-грузина, стал неловко расспрашивать про дело с фальшивыми билетами. «У вас что-нибудь конкретное? В рапорте зафиксировали?» — сухо поинтересовался капитан. Геннадий Акимович уже сознавал наивность своего лепета про то, что один человек был в это же время на Кавказе на белых «Жигулях»… «Кавказ большой, Грузия большой, — несколько насмешливо сказал капитан. — Я думаю, что вся проблема в женщине, матери этого мальчика. Наверняка она-^все время была неподалеку; ей же и передавались деньги. Здесь был дальний прицел: если его возьмут, то он не сознается ни в чем и деньги в государство не вернутся. Я проверил всех в Серпейске от пяти до семи лет, у кого нету матери, так что отец-одиночка отпадает…» Капитан еще что-то говорил, но Геннадия Акимыча уже обожгла мысль: вдруг тот белый вертихвост виновен, тогда ведь и Людку вызовут на допросы — как так, по какой причине отдала мальчика, не было ли сговора… — уж этого-то не было, тогда бы гражданка Лебедева не показала бывшего мужа ему, во-первых, следователю, во-вторых, будущему…
Через День грузин улетал к себе. Огородников дал ему три мужских и три детских фотографии; среди них одна Лебедева — отрезал от свадебной, и одна — Костика. Через неделю ему позвонили из Грузии и передали, что никто из потерпевших не указал ни на одну из фотографий. И Огородников замкнулся в своих версиях.
Людмиле неудобно на жестком, узком сиденье и в то же время весело: впервые она едет в милицейском «козлике» с решетчатыми окнами. Ловили такси, чтобы ехать в загс, а Огородников вдруг: вон, ребята знакомые, заодно подвезут… Эх, Огородников, все-то у тебя будто не само по себе, а как бы заодно с кем-то, с чем-то, вроде сам и жить не умеешь; я тебя люблю — без меня же ты жить не научишься!..
Подали заявление, вернулись домой. Маргарита, как договаривались, привела Костика из школы — он отучился первые три дня в жизни, теперь выходной. Вечером у Огородниковых знакомство с невестой, помолвка. А пока Ритка весело рассказывала, как она убеждала директора, что ей действительно понадобился срочный отъезд из-за внезапной любви. «Девушка с математическим уклоном», — вздохнул директор и простил. Они рассмеялись, и на смех пришел Огородников:
— Девчат, извините, пожалуйста. Но если речь о Лебедеве, то дайте и мне послушать.
— Ревнуешь? Но мы тебя тоже любим! — воскликнула Маргарита.
Людмила улыбнулась:
— Мы любим всех… членов нашей ячейки, включая кота Шерифа.
Затем Маргарита запросто поведала, что Лебедев дал ей от ворот поворот, говорил, что собирается жениться, ну а она, как полагается, влюбилась еще больше, хотя он тюфяк тюфяком, довольно примитивный, без абстрактно главной идеи; он, кстати, слегка прибаливал, у него на лбу и на щеке болячка, Ритка готовила, наводила кое-какой порядок, он же целыми днями валялся на диване, иногда смотрел видео или телик; на пляж Ритка ходила одна, а в доме больше никого.
— А на ком он женится? Не упоминалось? — спросил вдруг Огородников.
— Я думаю, на какой-нибудь девушке или молодой женщине, — ответила Маргарита с полной серьезностью.
— Огородников! Ты прямо как бабка на скамейке! — вскричала Людмила. — Мы с тобой уже все решили! А его нету, понимаешь, просто нету! Он для меня ноль!
— Человек не может быть нолем, у него всегда есть мысли, идеи, интересы…
— Да какие у Лебедева интересы! Он же примитив! Одно время пожирал дешевые детективы, потом полез в историю…
— Ага, это что-то новенькое, а говоришь примитив.
— Собственно, не в историю, а увлекся различными историческими авантюристами и проходимцами, даже меня забивал подробностями про них, и откуда только брал… Совершенно не признавал борьбы классов и говорил, что раз в нашем обществе классов уже нет, то этот вопрос нам совсем не нужен.
— Итак, его интересовали авантюристы… А к деньгам как он относился?
— Нельзя сказать, что любил, но недостатка в деньгах у нас никогда не было. А, вот еще — он продавал копии «Девятого Бала» — очень дешево, их много было.
— Он и живописи касался!.. Кстати, Люда, а почему бы тебе не вернуться в аспирантуру? Распишемся, обживемся — и вперед, дерзай, историк!
— Нет, я не хочу играть роль умкой женщины, когда полным-полно забот о муже и о детях.
У Огородниковых их ждали, Брат Анатолий взглянул на Людмилу так дружелюбно, что ей сразу полегчало. Матушка суетилась на кухне; Людмила бросилась помогать, но ей, как невесте, не позволила жена Анатолия. Людмила видела: мать переживала за сына, который берет жену с ребенком. И хотелось сказать: «Ваш — наш! — Геннадий такой уж человек, что Костик не станет ему обузой; будь я одна — так иногда кажется, — он бы не предложил законный брак. А жена брата мужа — как это, свояченица?..» На кухню пришла беспардонная Ритка и объявила:
— Вот место, где живет хозяин.
Людмила с укором посмотрела на нее.
— А что? — не унималась та. — Спит он в проходной комнате, а там ведь не проживешь.
— Анна Васильевна, пожалуйста, не обращайте внимания на мою подругу, просто она математик, — сказала Людмила.
— Я людям не судья. Сами взрослые, ваша и жизнь, — сказала Анна Васильевна.
За столом все старались, чтобы было подружней, подомашней, но Людмила только больше смущалась — из-за Огородникова, его явно что-то тяготит последнее время, и из-за Ритки, которая держится слишком шумно, бесцеремонно, и вдобавок к ней липнут Костька и лупоглазенькая, льноволосекькая Наташа, дочка Анатолия и… и жены брата жениха.
— Людмила, а помнишь, я говорила, — ляпнула вдруг Маргарита, — что у Костьки способности к математике? Так вот: что-то они испарились; туповатый он стал, концентрироваться разучился, явно сдал. Это, наверное, на югах батюшка его подпортил.
— Ребенок как ребенок, — сухо отвечала Людмила, пытаясь тоном осадить Ритку и пугаясь, что теперь вроде бы надо объяснять «про батюшку».
— Я могу спорить, что он стал туповат! — горячилась Маргарита: — Ну-ка, ребятки, что вы там калякаете?
— Мы рисуем, — не отрываясь, отвечал Костик. — Я — море, а она — человечков.
— Надо говорить не «она», а «Наташа», — одернула сына Людмила.
Между тем Геннадий Акимович размышлял, что «художник» наверняка подпаивал малыша либо снотворным, либо еще чем, чтобы отключить сознание и память, — этим и объясняется потеря математических способностей Костьки, если, конечно, это все не придумано Маргаритой. Впрочем, она специалист… Да, но домыслы специалистов еще обманчивее, солидная теоретическая база больше впечатляет… «Браво! — воскликнула вдруг Маргарита, демонстрируя Костькин листок. — Гениальный рисунок! Изображено все побережье, дорога кругами, море-солнце и даже дождик и автомат с газировкой! Прекрасная, концентрированная абстракция! Способности возродились, ура!» Костька тоже закричал «Ура!», а заодно перекувырнулся на диване и получил за это шлепок, — Людмила сердилась и на него — стал центром разговора; и на Огородникова — насупился, примолк на весь вечер; и на себя — не умеет сразу понравиться свекрови.
Братья курили на кухне.
— Что-то не слишком ты весел на своем первом семейном празднике? — поддел Геннадия Анатолий.
— Скажи ты, прокурор, имею ли я право фактически допрашивать ребенка? — спросил тогда Геннадий. — Я же просто подавлю его личностью и навяжу ему ту информацию, которая мне нужна для моей версии!
— Версии приходят и уходят, остаются протоколы. Ты можешь ошибаться в чувствах и исправлять ошибки, но если ты ошибешься в доказательствах — это твой профессиональный провал, — гладкоречиво сказал брат, невольно подчеркнув превосходство своего очного.
Поздно ночью Геннадий Акимович выпросил у Людмилы «полистать» ее старые аспирантские записи — «те, что читал твой дорогой». Там среди прочих выводов крупным шрифтом писалось, что личность своей деятельностью и социальной направленностью всегда выполняет лишь роль носителя-проводника противоречивых общественных процессов, то есть борьбы классов. «…История дает множество примеров и доказательств того, что социальный эгоизм личности — даже в самых индивидуальных и преступных своих проявлениях, — есть конкретная форма борьбы антагонистических классов. В обществе бесклассовом социальный эгоизм имеет характер саморегуляции общества, способствует разрешению неантагонистических противоречий. Социальный эгоизм и формы его проявления взаимосвязаны с индивидуальными качествами субъекта — чем он ярче и организованнее, тем существеннее его роль в объективных общественных процессах независимо от того, на каком полюсе противоречия выступает субъект, положительном или отрицательном…»
Геннадий Акимович заснул с ощущением, что он сам как социальный субъект является лишь формой проявления каких-то противоречий. Спал беспокойно, словно противоречия эти шевелились в нем.
«Что же в нем абстрактно главное?» — с таким вопросом-сверхзадачей, достойной Маргариты, проснулся Огородников. Итак, со слов Людмилы деньги не любил, но делать умел… — женщины в этом смысле весьма точно определяют своих… партнеров по жизни. Чертовы деньги, растекаются как вода, а уже и свадьба не за горами…
— Вообще-то пляжный спасатель всегда мог подзаработать, — сказал он Людмиле, которая все еще нежилась в постели. — Грузчиком, извозчиком, раз машина есть, или еще кем; а вот как следователю подзаработать?
— Ой, ради бога, я тебя и без денег люблю, — пробормотала сквозь сон Людмила.
— Правильно делаешь! — одобрил Огородников, улыбнувшись: — Я — парень хоть куда! Да ведь мы с тобой одного поля ягодки; вот исчезнут правонарушители, знаешь, в кого следователи переквалифицируются? В учителей! Будут со школьной скамьи предупреждать преступность.
— Ой, не смеши! Во-первых, правонарушения не исчезнут; во-вторых, ни один ребенок не собирается в преступники!
— Ты права, конечно, однако есть и детская преступность, и в молодежной среде она велика. Да, я понимаю, что не доживу до полного искоренения преступности. Но такая эра обязательно придет, иначе бы мой труд не имел абстрактно главного смысла.
— Ты прямо по-Маргаритиному заговорил, то есть это не ты, а твой профессиональный эгоизм говорит; ведь вам, следователям, чем больше преступлений, тем выгоднее, — это и есть социальный эгоизм касты или ведомства.
— Ну, про выгоды ты ошибаешься, никто не считает, сколько нервов я трачу… И не могу не тратить — на суд же идут люди, судьбы, сама жизнь человеческая. Все, переступившие закон, должны предстать перед судом — это моя святая обязанность; тогда остальные смогут спокойно строить коммунизм.
Людмила занервничала: неужели ее Огородников не чувствует, что сама по себе трата сил и нервов ничего не значит; важен даже не результат деятельности, а как минимум последствия этого результата. А может, он покрывает привычной фразой свою черствую, недоразвитую душу? Он вообще последние дни не в своей тарелке — жалеет о холостяцкой свободе? Сам потянул в загс, а теперь стыдится, что чувствует обузу, что не любит чужого ребенка?.. Но ведь он совсем не такой! Или она ошиблась? Тяжка роль ошибающейся, но совсем уж безнадежно тосклива роль одинокой, никому не нужной… И она расплакалась:
— Ну в чем виноваты мы с Костькой? Почему ты в душе не с нами? Ну не молчи, не отводи глаза как обиженный глухонемой!..
Неискренними, ненатуральными показались Огородникову эти слезы и слова. А Людмила ударилась в жаркие доказательства: ей-то хватит того, что есть, но ведь Костику нужна мужская рука, нужен отец; тот папа в свое время насмехался над всякой заботой, презирал роль няньки и утверждал-клялся, что, чем больше заботы, тем больше шкурничества, мол, забота нянькам — чтобы три шкуры драть…
— Стоп! — оживился Огородников. — А какую роль он себе искал? Что ему было особенно по душе?
— Да дался тебе этот Лебедев? Он же туповатый, комплексованный спекулянт! Вечно был какой-то однообразный, очень закрытый…
Огородникову припомнилось, что по одной французской, самой большой классификации типов людей, выделяющей таковых двести восемьдесят семь, закрытые, самоуглубленные люди мыслят очень образно и детально, хотя воплотить образ или характер, сыграть роль они практически не способны. Впрочем, билетному художнику этого и не требовалось — достаточно было обозначить скромного, добродушного человека, которому повезло в лотерее, да не слишком везет в искусстве… Лебедев смог бы обозначить такой образ — изображал же он тогда рубаху-парня… Денег не любил, но делать умел — получается, из тех, кто всю жизнь занимается нелюбимым делом… Подчеркнутая тяга к белому цвету — это уже намек на условность, а условность всегда служит ширмой души и заставляет играть роль… роль супермена? Отпадает, супермен не взял бы на дело пацана, да и цену бы заламывал не в пример…
Огородников попал в разлад с самим собой: связка-версия «Лебедев — фальшивые билеты» не выходила из головы. Пока имелись лишь догадки, возникшие на совпадениях, причем об этих совпадениях он и узнал-то случайно; пожалуй, даже незаконные догадки-подозрения, хотя… могут ли догадки быть незаконными? Характеристика с места жительства Лебедева пришла ангельская; особенно подчеркивалось, что он имеет государственную награду, а ведь награждают всегда самых достойных, самых заслуженных, а не каких-нибудь, кого не знают. А вдруг из ничего на хорошего парня взъелся? Вдруг это накладка его семейственного эгоизма на его социально-профессиональный эгоизм, а ему она представляется как общественная потребность в добре и законе?
Вечером в среду брат Анатолий привел сестру с мужем, сестра шумно извинялась за себя и за мужа Толю, что на помолвку не смогли попасть, а свалились как снег на голову, совала Геннадию Акимовичу бутылку водки, целовала-тормошила Костьку, а Людмиле пожимала руку и дарила отрез какой-то ткани, от которой у них в трамвайном парке все с ума посходили; В довершение компании появилась Маргарита; ее усадили между Анатолием и Толей, и она, узнав, что сидит между тезками, сразу загадала желание: «Семейное счастье Генке с Людкой!» Анатолий возражал: такое желание недействительно, исполняется лишь то, что предназначено самому попавшему между тезок. Тогда Маргарита загадала, чтобы тот, в кого она сейчас влюблена, тоже пусть влюбится в нее, и чтобы от этого был результат. «Родить, что ли, хочешь? — спросила сестра. — А то у нас в парке есть слесарь-сантехник, хитро его зовут — Давыд, — так от него у всех дети имеются!» Рассмеялись дружно, даже Геннадий Акимович улыбнулся: в этой фразе сестры жил дух трамвайного парка — мира ее личности… Человек живет в трех своих мирах — общем, школьно-телевизионно-газетном; своем непосредственном— дом-работа; и в мире своей души, где чувства детства становятся желаниями и идеалами. Разумеется, все эти миры пронизывают друг друга и фактически неразделимы — неразделимы в личности, которая развивается волей и спесью. Познать эти три мира Лебедева — и получишь ответ на вопрос об абстрактно-главной его сущности. Допустим, что с детства он был невосприимчив к добру; история, в которой он видел череду авантюр, и детективы как продолжение истории развили в нем эту патологическую невосприимчивость; вот и стала казать-ея ему жизнь суетой, в которой, где ни копни, обман и преступление. Натура сильная, мышление слишком предметное, отсутствие нравственных опор, — и превратилась его собственная жизнь
в спектакль, где он и режиссер-постановщик, и исполнитель главной роли; актер из него никудышный, он проникается и живет преступлениями, остальное — белая мишура…
Между тем сестра объясняла-жаловалась, что хоть у нее и братья, и муж — все на страже закона, все равно безбилетников на трамваях полным-полно, из-за них и самоокупаемость никак не приживается. Геннадий Акимович видел, что у Маргариты разгорелись глаза от логических связок сестры, которая еще больше горячилась и уже принялась доказывать, что абсолютно все начинается с мелочей — оттого и перестройка буксует, что всякий так и норовит проехать и не заплатить; а уж одну-две остановки никто не оплачивает, даже самые солидные люди. Именно с безбилетников надо и начать — добиться любой ценой, чтобы уж если кто стал пассажиром и едет, то значит уж что-что, а билет при нем; отсюда, с безбилетного проезда, происходят/ все мошенничества вплоть до казнокрадства и паразитства («паразит» — самое страшное ругательство сестры еще с детства).
Сестра с мужем Толей ушли, и тогда уже Маргарита навалилась на Анатолия с символами и логикой про необходимость зла: мол, не ведая зла, не познаешь добра, мол, при виде зла всякий нормальный человек сразу понимает, какое нужно добро для ликвидации увиденного зла…
— Ликвидировать зло — это не значит сотворить добро, — несколько насмешливо отбивался Анатолий. — Ликвидировать надо причины и условия зла.
— Да, добро очень многообразно, — не сдавалась Маргарита. — Условимся, что «ноль» — это у нас норма; все, что выше, — добро, что ниже — зло. Взять, к примеру, и ликвидировать часть минуса — разве это не добро?
— Устранение всевозможных минусов — это не добро в чистом виде, а естественная необходимость развития общества, — вставил свое слово Геннадий Акимович.
— А вы хитренькие, братцы! — укоризненно покачала головой Маргарита. — Оба кормитесь на минусах; ликвидировать, ломать, запрещать — это всегда проще, чем что-то создать.
Тут наконец-то Геннадий Акимович понял особую, иногда очаровательно непосредственную странность ее разговора — Маргарита не подбирает точного слова, а сразу строит логические конструкции. А ведь Анатолий ухватил эту ее особенность вмиг — и сразу вел беседу на ее понятийном уровне. Геннадию Акимовичу оставалось лишь сердиться на свое огрубелое, слишком уж конкретное мышление. Объяснение — оправдание одно: он же, так оказать, чернорабочий юриспруденции, ему не до оттенков и не до глобальностей, ему надо, чтобы лицом к лицу… Да, надо ехать… эх, деньги-денежки. Сразу обнаружился подспудный вопрос, давно уже тянувший за душу: Костьку следует… да, сначала попытаться усыновить Костьку, потом будет поздно; кстати, усыновление — это предлог и для Людмилы, и для Лебедева… И посветлело у Геннадия Акимовича внутри, пришлось даже пристыдить себя — еще ничью душу не спас, а пока лишь свою уберег от ошибки. И он объявил как дело уже решенное, что в эти выходные они с Людой едут в Ялту — просить Лебедева отказаться от отцовства. Анатолий бросил на брата слегка удивленный взгляд, зато Маргарита одобрила:
— Правильно! Будет семья как семья! Я тоже с вами махну, заодно проветрюсь, — но тут же она в ужасе вскричала: — А ведь он согласится! Он же не моргнув глазом подпишет отказ да еще и хмыкнет: охота благородством покрасоваться — валяйте!
Выехали поездом в пятницу. Маргарита вовсю кокетничала с Огородниковым. «А еще подруга», — без обиды и ревности думала Людмила. Четвертое место в купе было не занято. Пили тихий ночной чай; тут Людмила вдруг сказала: не забыть бы отдать Лебедеву четвертной, обнаруженный у Костьки в кармане, и записку. Огородников посмотрел на нее внимательно-внимательно: зачем вдруг какая-то записка выныривает? И почему раньше?.. Людмила поморщилась:
— Я стирала, а у Костьки же всякий мусор по карманам распихан — и вдруг в летней курточке в нагрудном кармане двадцатипятирублевка и записка Лебедеву от кого-то. Я отложила, ну и забыла…
Она достала из сумочки записку, которую сначала прочитала Маргарита.
— Какой-то сумасшедший писал, — определила она, — даже запятых не ставил.
«Молодой человек!!! То что Вы поручили нам своего Кролика — это ладно, об этом беседы не имеется. Но Вы нагло сунули нам свои деньги будто они что нибудь значат. Этим обидели меня и моей жене нанесли оскорбление! Мы сходили в кино «Пионер» смотрели сказку про Кота ели мороженое и вообще пообедали и поужинали пока Вы где-то пропадали. Нам Ваши вонючие деньги не нужны. А вот за то что Вы проглотили язык для правильного и уважительного слова я бы Вам его отрезал под самый корень чтобы уж совсем не вякали!» Стояло еще число, «город Сочи» и полный адрес в Донецкой области; одной строкой было подписано: «Полный кавалер орденов Славы Григорьев».
Если смотреть на эту информацию через призму его версии, то есть основание считать, что Лебедев действовал один, пользуясь случайной помощью, не относящейся к существу дела; из-за измененной внешности при его полном отрицании всего у потерпевших возникнут сомнения, разноголосица в показаниях… — следствие может зайти в тупик… Геннадий Акимович положил записку в свой карман:
— Девчата, Лебедеву про записку ни слова, в ней же ничего важного для него. Зато у меня есть думка, что Лебедева ждет срок, уж какой — это будет зависеть от него… — И он довольно подробно пересказал свою версию.
Помолчали. Геннадий Акимович сходил к проводнику за чаем.
— Почему же его не арестуют? — ошеломленно спросила Маргарита.
— Кое-какие особенности заставляют не торопиться, — пояснил Геннадий Акимович, — он стопроцентно будет катить несознанку, а ведь важно вернуть деньги; понять бы его душу — тогда, пожалуй, удалось бы втолковать ему, что лишь раскаяние и признание спасут его…
— А как же, ты говоришь, он действовал без поддельщиков? Билеты-то фальшивые! — прервала Маргарита.
— Не поддельщики, а подельники — его напарники по этому делу, те, кто впрямую содействовал, или косвенные, кто знал, но скрывал-умалчивал, рассчитывая получить свою долю; полезно бы узнать и тех, кому в какой-либо форме могли перейти его незаконные деньги. Я, к примеру, подозреваю, что для того уровня материальных благ, который его удовлетворял, денег у него было чрезмерно; отсюда выходит, что на такое мошенничество он шел чуть ли не по идейным соображениям.
На лице Людмилы застыла недоверчивость. Зато Маргарита ударилась в рассуждения о добре и зле, о законном и незаконном счастье и т. п., а под конец своих речей воскликнула:
— Ага, вот зачем нужны преступники! Они же как микробы-заразоносители — размножаются там, где общественный организм ранен или ослаб; обнаружены где такие микробы — значит, здесь болячка, здесь лечить надо!
А Людмиле припомнился удивленный долгий взгляд Анатолия; она тогда мягко пояснила всем, что ничуть не настаивает на усыновлении, хотя от слов Геннадия у нее, конечно, потеплело на душе — сама его искренность подтверждает любовь… Собственно, брат Огородникова — это второе… Когда-то она усилием воли исключила Лебедева из своего сердца, теперь же мигом отнимает у него сына… Ее личность, ее любовь. не уберегли Лебедева для Костика, для семейного очага. Она же тогда бросила его, оставила на произвол судьбы, — это же и ошибка ее, и вина… Перестук колес, ощущение непоправимой вины, сон… сон, скользящий по редким огням в черном окне, похожий на забытье.
Лебедев присвистнул и изобразил на лице изумление: «Целая делегация! А вроде уже не сезон?» У него на щеке крест-накрест пластырем был прилеплен марлевый тампон. «На той щеке», — отметил Огородников. В довольно большой комнате, стилизованной под белое — белая мебель, шкура белого медведя на полу, белые люстра и ваза с белыми цветами и т. д., Лебедев без слов плюхнулся на диван, прикрыв голые ноги полой своего белого махрового халата. Огородников подумал, что пахнет больницей, хотя идея этой комнаты — свадебная белизна, теперь запущенная по безразличию и лени.
— Глупо стоять, когда не приглашают сесть! — прощебетала Маргарита, выпрыгивая из туфель на медвежью шкуру: —Еще глупее чувствовать себя глупо в белом царстве свободы!
— Царстве пыли и запустения, — грустно произнесла Людмила и уже деловито, с беспокойством подошла к дивану потрогать Лебедеву лоб: — У тебя температура? Что пьешь?
Лебедев утомленно поднял на нее несколько воспаленный взгляд и сказал, что раз уж притащились, то пусть к нему не лезут, а делают, что хотят. Женщины сделали кофе. Лебедев полулежал на диване, остальные расположились на шкуре.
— В общем, скоро мы с Людой заключаем законный брак. Я хочу усыновить Костю. Мы с Людой считаем, что так будет лучше для всех, — нарушил неопределенное молчание Огородников. И тут же почувствовал дремучее и презрительное равнодушие того, к кому он обращался.
Равнодушие всегда накатывало на Лебедева, когда кто-то ему особенно или нравился, или не нравился — оно инстинктивно предохраняло от преждевременных эмоциональных шагов. Этот кривоногий, широкогрудый субъект с дотошным, наработанным говором и заметными глазными мешками на довольно-таки молодом лице ему не нравился — не успел приехать, а уже вынуждает шевелить мозгами и принимать решения; Лебедь не любил решать того, что не входило в его планы: раз не входит, значит, фактически и не существует.
Людмила остро переживала каждую нотку в голосе Огородникова, каждый жест в молчании Лебедева. Для нее атмосфера этого нелепого кофепития звенела от любви. Никогда в жизни она не испытывала подобного напряжения в душе: инстинктом она любила Костьку, умом и сердцем она любила Огородникова, друга и опору, но ведь и Лебедева?! — да! да! любила! любила как юную, далекую и до беспамятства прекрасную свою жизнь!.. Ой, не упасть бы в обморок…
Маргарита тем временем взяла на себя роль хозяйки, чуть ли не лучшей подруги Лебедева, от чего поощрительная улыбка скользнула по его лицу. После бутербродов и чая Маргарита принесла из сада груши, красивой горкой уложенные на подносе; одну, надкушенную, она держала по-детски в зубах. Огородников взял небольшую зеленую: «Люблю незрелые», и мигом съел. Лебедев вздрогнул, нерешительно потянул руку к подносу, но вдруг схватил грушу ото рта Маргариты: «Уж эта не отравлена!» Маргарита опешила, краска залила ее лицо.
— Ну, скажите, скажите же! — вскричала она. — Скажите всю правду или неправду, но всю! Лебедев, ты скажи, что тебе чихать на всех, потому что ты — нравственный дебил! Огородников, а ты скажи, что ты — следователь и все знаешь про его делишки, сейчас приехал его перевоспитывать, а если не выйдет, то тогда арестуешь!
— Нечего сказать, — глухо произнес Лебедев, обращаясь к Маргарите. — У меня мелькает лишь один вопрос: он что, импо, сам не может ей ребенка сделать?
Геннадий Акимович напряг свою волю, чтобы удержаться от спесивого взрыва, от угроз арестом. Он сухо, но довольно вежливо доказал, что все равно Лебедев никогда не возьмется за воспитание сына, а если учитывать кое-что, может случиться, что анкетные данные «папеньки» обязательно когда-нибудь помешают пацану — уж лучше никакой, чем отсидевший десяток годков.
Поздним вечером Геннадий Акимович долго не засыпал — тревожила смесь запахов: настоя жаркого лета и свежего моря, случайной квартирантской необжитости… Маргарита все же допекла Лебедева; он выкатил машину, повез их в суд; уточнили юридический порядок отказа и усыновления, написали заявления — теперь требовался лишь законный брак матери ребенка и усыновителя. Вторая цель его приезда растеряла определенность — Лебедев никак не прореагировал на все явные намеки… После суда он завез их на пляж, добирались оттуда сами; пришли — он все так же валялся на диване; правда, с их приходом он смешал коктейли и включил видео — вызов ему, служителю закона, — сначала порнографию, затем что-то мерзкое, полусадистское; девчата хоть и отворачивались, и взвизгивали в ужасе, но смотреть не отказывались; сам же Лебедев был как-то болезненно апатичен…
Людмила не спала тоже, хотя делала вид. Если бы не Огородников у противоположной стены, она бы заплакала. С какой простой решимостью, сурово подавив инстинкт родной крови, отказался Лебедев от Костьки — как же он был ей ненавистен в этот миг!.. Но она же сама просила, сама уверяла в правильности такого шага… От своего дитя отказался! — это же грех, их общий грех вся эта юридическая гнусность… Никто не имеет права… Надо пойти, разобраться… Огородников спит — пусть…
Геннадий Акимович расслабленно и тщетно твердил себе: «Я один… нету никого, только я… я засыпаю, засыпаю… сплю…» Вдруг Людмила поднялась и вышла. Что-то долго… Сердце гулко застучало… Может, с Риткой заболталась? А может… Лежи, Гена, лежи как труп. Мир и справедливость даются не скандалами… Подслушать? — смешно; что и кому скажет Людка — это неважно, важно, что ты ей веришь; женщинам надо верить, а слушать их не надо.
Утром, пока еще никто не встал, Маргарита вышла в сад за грушами. Если взобраться по лестнице на крышу гаража, то увидишь и море, и горы. Она так и сделала. Огрызки груш метко кидала в бочку водослива. Внизу в белых шелковых трусах появился Лебедев — на зарядку. «Красавец, но воображала. Надо бы его пожалеть», — и Маргарита отвернулась.
Лебедев ощущал ноющую ломоту в суставах, поэтому зарядку делать не стал. «Надо температурку смерить, здоровьишко не наживешь… Те — ладно, а эта коза на крыше, со сдвинутыми мозгами, чего она-то приперлась?» Он силился понять все нюансы вчерашнего дня, особенно приход Людки ночью, пытался увидеть причину каждого слова и действия, лишь тогда можно все взвесить и выработать линию поступков и слов; он же умеет, умеет рассчитывать!.. Несмотря на лихорадочные размышления, он теперь чувствовал и болезненную апатию, его чуть-чуть подташнивало, иногда темнело в глазах… Лебедев пересилил себя и поднялся на крышу гаража с большим белым покрывалом, расстелил его, улегся и бросил довольно бодро: «Эй, позагораем?!»
Завели треп о том, о сем; он был рассеянно-любезен, и между комплиментами у него проскакивали жалобы на здоровье; «Ну а Людкин корешок нес вчера какой-то дикий бред», в общем, если им ехать, то уже в полдень следует брать курс на Симферополь… Маргарита вызвалась задержаться, подлечить его, помочь, у нее же в понедельник уроков нету. «Ой, сестрица, спасибо на добром слове; от болезни первое спасение — это жар, особенно жар души; ну а я из благодарности буду любить тебя вечно до самого отъезда, хотя ты девушка и нецелованная… ниже пояса!» — бормотал-балагурил Лебедев. И тут же взял с Маргариты слово, что сейчас поутру она куда-нибудь уведет Людмилу под благовидным предлогом, — нужен мужской разговор с ее хахалем.
Огородников поднялся поздно. Узнал от Лебедева, что «бабы на рынок слиняли» и что отъезжать им удобнее где-то в час, в два. Затем последовало взаимное молчание, и Огородникову стало не по себе: логично, если бы Лебедев расспрашивал, беспокоился, еще как-то реагировал на вчерашнюю информацию… Но тот совсем безучастно смотрел воскресные телепередачи, пока Огородников здесь же, в «белом зале», пил чай. Вдруг Лебедев заговорил неожиданным, виновато-дружеским тоном:
— Это… я, конечно, дико извиняюсь, — тут он пожал плечами, — но твоя, так сказать, супруга ночью у меня лила слезы и натрепала, что я замешан в каких-то фальшивых билетах, приплетала еще какого-то художника с косичкой — мол, вроде бы ты такую мыслю толкаешь. Короче, я ваших делов не знаю и знать не хочу, но просто ты не подумай, что ночью… старая любовь…
— А я и не думаю, — сказал Огородников. Больше никаких слов от Лебедева не последовало, и тогда Огородников сделал ход.
— Будь добр, обрисуй в двух словах свои дела двадцать четвертого — ты тогда оставил пацана пожилым супругам…
Лебедев восхищенно уставился на него: «Ну ты даешь!» Заговорил же напряженно, со скрытой злобой:
— Да ты и в самом деле?! Чего меня-то? Я, во-первых, перед тобой чист, во-вторых, в долгах не останусь!
— Видишь ли, — согласно кивнул Огородников, — при пацане цену держать трудно, всяко может повернуться… вдруг фальшивка…
— Па-ашел ты! — дико дернулся Лебедев, глядя воспаленными, злющими глазами.
Когда подопечный уже на эмоциях, его полезно остудить общей логической схемой — мол, сам посуди, как же тут иначе думать; и Огородников ровным, даже занудливым тоном стал пересказывать… Лебедев слушал вежливо, со скользящим вниманием, с каким обычно воспринимаются длинные скучновато-глуповатые детективы, но вдруг выбежал из комнаты. Огородников остался сидеть по-турецки на медвежьей шкуре; Лебедь, пожалуй, и может выкинуть финт, но опасности совсем
не чувствуется; если он — «художник», то уж явно не дурак; в дураках-то чаще честные доверчивые люди… Лебедев вернулся минут через пятнадцать и как ни в чем не бывало поинтересовался: будет ли продолжение.
Когда подопечный пришел в себя, сконцентрировался на логической защите, вдобавок, возможно, принял какой-нибудь стимулятор мозговой деятельности, здесь уже следует самому нагнетать эмоции, переходить на логику чувств. И Огородников вздохнул:
— Продолжение одно — зона, годков на восемь-десять; тут и отягчающее обстоятельство — подделка лотерейного госзнака… Хоть и неумелая подделка, но очень тщательная. Меня еще пугает, что здесь и Людка с Костькой завязаны…
Тут Лебедев заговорил чуть ли не жалобно, что — насколько он усек — никаких стопроцентных улик нету, очных ставок тоже не ожидается, что это все похоже на плод больного воображения, что коснись напрямую — у него наверняка будет алиби или еще какое оправдание… Но не хотелось бы подпадать под проверки да и вообще… хождения-допросы — у него же летом квартиранты, частенько без прописки, без учета… Короче, сколько надо, чтобы дело закрылось, точнее, чтоб от него отцепились?
— …Учти, я ведь и с Костей пошел тебе навстречу, а сам знаешь: в этом мире все вертится, — так закончил Лебедев. — Я бы предпочел без всякой бюрократии штраф выплатить. Ну, сколько?
«Ага, внедряет в меня образ честного малого… Честного, но с грешком, легким, житейским…»
«Ну, двухсотрублевый, сколько ты стоишь? Какова тебе красная цена в натуре? — нервничал Лебедев, напуская на лицо простодушную улыбочку. — Как он дознался до этих старых пердунов? Неужели Иванес залетел? Или Нора заболела бешенством и донесла?..»
«…Не сказать, чтобы тертый, но все же нестандартный. В преферансе такой ход называется армянский снос; брать нельзя — рискую поставить себя вне закона, но не брать — он сразу всполошится, начнет скрываться, убегать, а потом ни признаний, ни денег».
— Что ж, ты свое провернул, теперь я кое-что проворачиваю; короче, полтинник, то есть пятьдесят тысяч, — холодно бросил Огородников.
— Ни фига себе! Да я отродясь про такие деньги не слыхал! Слыхал по радио про миллиарды, на которые план перевыполняют, да иногда про мильоны, которые на убытки или на ущербные дела затрачены; я тебе всерьез, а ты! Пару кусков я бы наскреб, а три — это уже и не по-божески!..
— Я не занимаюсь благотворительностью, — хмыкнул Огородников.
— А сердечко не екает, что судьба тебя накажет? — с ернической заботливостью поинтересовался Лебедев.
Тут вернулись женщины. Лебедев их встретил с преувеличенным оживлением, достал даже бутылку коньяку «на отмечание отъезда дорогих гостей». «Один раз живем!» — с суетливой радостью повторял он, поочередно доливая в фужеры, пока бутылка не опустела. Правда, пить никто не стал. Женщины заметили, что мужчины возбуждены и злы: «У них самый разгар», — ляпнула Маргарита.
— Откуда берутся такие, как ты? — задумчиво спросил Огородников. — Тоже мне, лебедь Черного моря.
— А откуда такие, как ты, душеспасатель хренов?
— Мальчишки, будьте взаимно вежливы! — строго произнесла Маргарита. Людмила же была подавлена и безразлична.
— Я — человек нашего общества. Вполне соответствую. Пусть не его идеалам, но уж реальным простым гражданам — это факт.
— Я тоже человек и тоже соответствую. Даже побольше, чем ты!
— Нет, Лебедь! Ты — родимое пятно, так сказать, ошибка нашего общества, его неудача и отброс.
— Что ж, родимые пятна не выведешь. Только если с кожей срезать, а дырку шелковой ниткой стянуть.
— В том-то и проблема, чтобы вывести, но без крови и даже без следа. С твоей стороны будет очень красиво и очень мудро самому сознаться, признать вину, сдать деньги — может, условным наказанием отделаешься, а если и отгородишься на годок-другой, зато выйдешь человеком, а не родимым пятном под белыми одежами, заживешь как честный человек!
— То есть как живешь ты, да? А ты, кишка слепая, живешь и будешь жить скромно и паскудно! Я же предпочитаю жизнь пусть и паскудную, но богатую или хотя бы безотказную. Больше мне сознаваться не в чем, хотя ты, товарищ начальник, так красиво говоришь, что — ей-богу! — пошел бы и сознался!
— Прекратите эту пошлятину? — вспылила вдруг Людмила, но осеклась: ей же совсем нечего сказать — ну ни капли рассудка и правды!.. Лицо ее покрылось красными пятнами, и она заплакала покорно и беззащитно.
— Продолжайте, — деловито потребовала Маргарита, —
я насчет безотказности не поняла.
«Проклятье, эта птичка не отмечена в классификациях… Экспромтом тяжко сработать сразу правильно, а последний шанс ему надо дать… С рапортом пока успеется…»
— Мне. очень жаль, — вздохнул Огородников, — жаль, что приходится на пальцах объяснять: ты влип и у тебя лишь одна возможность выкарабкаться — чистосердечное признание…
— Признайся, Левушка! — простонала-вскричала Людмила с неожиданной силой. — Ради нашего сына!
— Ни в коем случае не признавайся! — заявила Маргарита. — У них целое министерство — вот пусть и работают, отрабатывают свое!
— Не боись, это он меня на пушку берет; ему все расскажи — вообще стольник будет выжимать. Да и полтинник — это слишком…
— Не слишком, — убежденно сказал Огородников, решив написать рапорт сегодня же. — Я же не один, а бумага про тебя уже вертится, — потребуются надежные люди, подписи начальства…
— Сколько же вас на мою бедную шею?! Или про меня уже и до министра дошло? Сколько же ему из полтинника выгорает?.. Слушай ты, нахал, ты мне нравишься! Давай, что ли, создадим кооперативчик по вымоганию, а то есть у меня на примете кореец-армяш…
— Гражданин Лебедев, пожалуйста, не язвите как мальчиш-плохиш, а прикиньте: сначала ограничение в пространстве и урезанный паек, затем следственные эксперименты, очные ставки…
— Ты что?! Я отдал тебе жену, отдал сына… не в моих же силах отдать тебе воздух, которым я дышу, или солнце, которое мне светит! Стыдно, такие, как ты, позорят нашу милицию! Я бы для вас дополнительную статью в законе нарисовал!
Огородников клял себя за неподготовленность и неопределенность позиции — то ли увещеватель, то ли шантажист; на Лебедева это все почему-то не действовало.
«Надо бы и на Людку капнуть, мол, в паре сварганили дельце, — тогда он заткнется, проглотит язык… Коза не считается — дура…»
«Впрочем, ясно: как ни уговаривай, чем ни пугай, для него я лишь вымогатель, то есть на равной с ним ступени; отсюда он абсолютно убежден, что органы от меня ничего не узнают… Он же честного человека и вообразить не способен!» И Огородников сказал:
— Ну ты, бык в натуре, я поговорю с родней покойного Вартана — старик умер от расстройства. Тебе это дороже обойдется… Через полчаса мы уезжаем, даю тебе пятнадцать минут.
В саду Огородников заставил себя сделать сотню приседаний, нервное возбуждение ослабло, на душе стало полегче. «Птичка-самородок попалась, мозги набекрень… Кстати, уточнить у потерпевших: не было ли у «художника» такой характерной особенности — головы не поворачивает, а лишь глазами зырк…»
Когда он вернулся в «белую залу», Людмила поникла на стуле, закрыв лицо руками, а Маргарита, насвистывая, делала дорожные бутерброды огромным кухонным ножом.
— Я вынужден считаться с тобой, — мрачно произнес Лебедев, — но справедливее будет сорок пять, соберу через три месяца.
— Через месяц, — твердо сказал Огородников. — А теперь мне нужны гарантии.
— Ха! Тогда давай и твои гарантии.
— Чудной ты малый, твоя философия отстает от передовой практической жизни лет на восемьдесят; моя информация про тебя — вот мои гарантии! С твоей цельной натурой ты бы мог реки вспять поворачивать или горы на ровном месте возводить, а у тебя все силы уходят, чтобы в своей сумятице копаться-разбираться.
Тут Лебедев, уже заметно сдавший в злобе и упорстве, сказал с пренебрежительным раздражением:
— Да ты читал Уголовный кодекс-то? Я-то аж изучил… И знаешь, что я усек в этой житейской библии? Что у нас всех — всех до единого! — следует посадить за решетку; даже на охранников народца не хватит, за границей придется нанимать, как сейчас, к примеру, строителей или технарей нанимают. Мне-то еще в детстве статьи четыре можно было припаять, эх… В общем, завтра я на тебя кляузу накатаю!.. За ложные обвинения и вымогательство. Интересненько, что эти бабы про нас ляпнут, когда их вызовут к твоему собрату-следаку?
— Я не баба! — гневно отчеканила Маргарита.
Лебедев принялся умолять о прощении. Огородников, краснея и покрываясь испариной, как-то неопределенно махнул рукой:
— Ну, будь… Извини, если что… А нам пора на родину отправляться. Рита, во сколько поезд?
Уехали они вдвоем; Маргарита вдруг решила задержаться на сутки — у Лебедева что-то температура, надо порядок после себя навести, ведь как-никак, а гостеприимством пользовались… Людмила весь путь промолчала, вся потухшая, потемневшая; наконец выдавила из себя вопрос: что это было? Зачем весь этот концерт? Огородников долго объяснял про психологию преступника, про совокупность косвенных улик… особенно доказывал, что моральный удар пришелся бы по Костьке и по Людмиле: «Вплоть до того, что возможно привлечение к уголовной ответственности»; «Это мне уже знакомо: всех можно…» — безразлично отозвалась Людмила. Огородников спросил, о чем же был ее ночной разговор с Лебедевым. Она вздрогнула и ответила лишь презрительным взглядом.
Во вторник Маргарита не появилась. Она отсутствовала всю неделю. Ее родителям пришла телеграмма: «Задерживаюсь неопределенное время». По поводу Маргариты у Людмилы на работе возникали трения.
В субботу Людмила закатила Огородникову натуральную истерику, кричала, чтобы он убирался к себе, а она бросит этот прогнивший, вонючий Серпейск и уедет к Лебедеву: «…лучше быть служанкой у него, цельного и в своем роде честного, чем изображать хозяйку и человека с большой буквы, будучи на самом деле дерьмом во всех смыслах…» В этот момент в дверь позвонили. Людмила бросилась на диван и разрыдалась в подушку. Костька испуганно жался в углу. Огородников, падавляя спесивую ярость, крупными шагами отправился открывать.
Это была Маргарита, лицо измученное, взгляд лихорадочно-испуганный.
— Люды нету? — тихо спросила она.
— Вон, в зале… празднует бабские заскоки.
— Пусть, — и Маргарита осторожно шагнула в квартиру.
Притворила, но не захлопнула дверь. Сказала:
— Лебедев умер.
— …К вечеру у него дико подскочила температура — почти до сорока двух. Я вызвала «скорую», его забрали без сознания. И получилось: у меня ни ключей, ни знакомых, дом открыт, машина на улице — и сказать-то некому! Правда, в понедельник ему сбили температуру и от бреда он очухался; врач посмотрел на меня мрачно: «Вы кто, знакомая?» — и больше ничего не сказал, но пропустил; Лебедь, бедненький, позеленел весь, глаза мутные, и щека у него почернела… Сказал мне про ключи, про тетку свою и дал письма, одно для тётки, другое — Людке, заставил поклясться, что я передам, хотя, говорит, это не к спеху, а на всякий пожарный… А глаза дикие!.. В общем, не могла я уехать: дом бросишь, а что пропадет, на меня же свалится. Во вторник набрала груш, прихожу в больницу, а мне говорят: умер — заражение крови… Я и в домоуправление, и в милицию бегала — умоляла, чтобы больница мне дала справку, чтобы телеграфировать про смерть. Адрес оказался верный, в четверг прилетела тетка; она в этом же доме живет, а в Мурманске в гостях была… Короче, покойницкий кооператив все сделал как надо, в пятницу мы с теткой его похоронили, на поминках всего человек пятнадцать было. Тетка дала мне денег на самолет, она же и справку из милиции выбила, что задержалась я по гражданской обязанности…
Огородников попросил письмо, которое Людке. Но Маргарита отрицательно покачала головой: «Только лично в руки». Тем временем Людмила успокоилась, пришла на кухню.
— Тебе. От Лебедева, — буркнула Маргарита, сунув ей довольно толстый конверт. Огородников попросил Людмилу ознакомиться с письмом сразу же, но та не захотела; он настаивал, она отказала наотрез. Он заговорил сердитыми, горячими словами, но тут уже яростно вступилась Маргарита:
— Кто ты такой? Какое ты имеешь право?
От мысли, что какой-то далекий мертвец морально сильнее его, близкого, у Огородникова потемнело на душе. Он отпихнул Маргариту и силой вырвал конверт у Людмилы.
— Тебе лечиться надо — брысь из моего дома! — с надменной гордостью сказала Людмила. Огородников знал, что перед женщинами надо всегда извиняться и что-нибудь обещать; сказал:
— Простите, ангельские души, простите меня, подлеца! Но призраки бродят в ваших головах, а у меня ведь одна цель — сделать жизнь счастливее и чище для вас же! Люда, так о чем же все-таки был ваш ночной разговор с Лебедевым?
— Хотя тебя это и не касается, но уж ладно, раз ты такой ревнивый и подозрительный: в ту ночь он уговорил меня, чтобы я поклялась здоровьем сына, что я обязательно прочитаю письмо, которое обязательно будет в его бумагах, если вдруг с ним что-нибудь случится.
Огородников на минуту задумался, вздохнул и сказал: он, на правах суженого супруга, освобождает ее от клятв Лебедеву; пусть вся ответственность падет на его буйную головушку… И вскрыл конверт.
Внутри был другой запечатанный конверт, на нем написано: «Люда, напоминаю, что ты поклялась сыном. Заклинаю тебя еще раз независимо ни от чего передать это письмо сыну моему Константину, как только ему исполнится двадцать один год».
Огородников поморщился… Опять запечатанный конверт. И написано: «Люда, будь проклята, если эти слова прочитает кто-то еще! Будь проклята, если не передашь этот конверт сыну!»
«Что-то уж слишком здесь клятв и проклятий…» — подумал Огородников, разрывая этот четвертый конверт. На пятом конверте четкими буквами стояло: «Будь проклят всякий, вскрывший этот конверт! Предназначено только сыну моему Константину Лебедеву по достижении им двадцати одного года!» Огородников потер указательным пальцем переносицу, взял нож и аккуратно разрезал конверт… Белый лист от школьной тетради в клетку, нервные крупные буквы, черные чернила…
«Константин, будь проклят, если забудешь, потеряешь, выбросишь эту записку. Храни и думай о ней постоянно. Может, счастье твое в воздухе, а может, в земле. Пусть мать расскажет про меня, что захочет, и пусть твоя память об этой записке станет наследством от меня. Помни, что у тебя есть двоюродная бабушка, моя тетка; сам не додумаешься — расскажи про эту записку ей, но не показывай ни в каком случае! Будь мудр и даже сверхмудр, и да помогут тебе чистая душа и фортуна».
Далее столбиком стояли две четырехзначных цифры; напротив одной стояло «А», другой— «Ж/Д»; после «А» стояли слова «мост — восток — в двух местах».
Огородников, забыв про конверты, присел с запиской к столу, включил настольную лампу… Что ж, такова судьба — прятать собственную жизнь даже после смерти… При всей своей закрученности он все же как праведник завещает свои достижения сыну… А должен бы знать, что счастье-то по наследству не передашь… Где-то на периферии сознания прозвучал встревоженный голос Маргариты:
— Людка, ты что?! Положи сейчас же сковородку!
Огородников с удивлением повернул голову… В этот миг острая боль обрушилась сверху и пресекла его размышления.
Владимир КОНДРАТЬЕВ. ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Тимур Георгиевич Салеев, 29 лет.
Заведующий мастерской по ремонту кожгалантерейных изделий.
Утро выдалось на редкость прохладным. Город, лежащий внизу, был погружен в ночной сумрак, а небо на востоке уже посветлело. В лесочке на пологом холме, проснувшись, неуверенно перекликались птицы.
Тимур шагал вдоль железнодорожной насыпи, стараясь не задевать ветви кустарника, обильно усыпанные росой. Прогромыхал пассажирский состав, навеяв желание уехать куда-нибудь подальше, отдохнуть в иных краях, забыться. В последнее время он стал уставать от мельтешни, нервотрепки. Вот и сегодня пришлось чуть свет подняться. Постоял с минуту под душем, наспех выпил чашку горячего кофе, глянул на часы и засуетился, рассовывая по карманам сигареты, права, бумажник и прочую дребедень. Нестер не любил опозданий, а сердить шефа по пустякам незачем, и так косо смотрит. Неужели что-то пронюхал про операции с валютой? Но как, откуда? Все было сделано, как никогда, чисто, комар носа не подточит. И никто не мог знать, кроме Славика, а Славику болтать не резон.
Ладно. Вот и гараж. Возле двойного ряда шлакоблочных боксов — ни души, только две собаки замерли неподалеку, настороженно глядя на человека, явившегося в такую рань.
Мягко щелкнул швейцарский замок, с шипением сработал механизм, и опять щелчок. Можно открывать. Тяжелая металлическая дверь отворилась со скрипом. Душный полумрак с настоявшимся запахом масла, краски, бензина.
Он включил верхний свет и поморщился, глядя на машину. Так и не выбрал времени помыть. Ничего, не особенно и грязная, сойдет… разве что стекло протереть хорошенько да заднее колесо подкачать.
Проехав через унылый район новостроек, Тимур включил приемник, передавали утреннюю развлекательную программу. На остановках толпились служащие, по-утреннему свежие, причесанные, озабоченно вытягивали шеи, высматривая троллейбус. Каждый день одно и то же. Приедут на службу, рассядутся за столы, уткнутся в свои чертежи-бумаги, и потянется нудный до ломоты в зубах день. Кальки, чертежи, таблицы, отчеты, перекуры на лестничной площадке, сплетни, анекдоты, обсуждение телевизионной тягомотины и поглядывание на часы — когда же всему этому конец? Брр… Все это он испытал на себе, когда после окончания института устроился в проектную фирму, занимавшуюся в основном порчей бумаги — проекты, как правило, оказавшись у заказчика, годами пылились на полках, устаревали… И что самое интересное: все об этом знали, и никто ни разу не расхохотался, выслушивая рассуждения руководителей о сроках, обязательствах, качестве и дисциплине.
Нет, что ни говори, а вовремя он встретил Нестера. Ох, как вовремя!
Вырвавшись из городской сутолоки на новое Южное шоссе, Тимур посмотрел на часы и прибавил скорость, Стрелка спидометра придвинулась к отметке 140. В приоткрытом окне засвистел ветер. Серая лента шоссе, раскручиваясь, понеслась на него.
По сторонам мелькали деревья, слегка тронутые желтизной. Скоро осень. Он и не заметил, как прошло лето, вроде бы только была весна — грозы, свежая зелень… Жизнь куда-то уходит, а ради чего? Поди разберись… Не ты один подобным вопросом задаешься, и никто еще толкового ответа не нашел. И ты перебьешься. Да, неплохо бы в сентябре съездить к морю, поваляться на гальке, слушая мерный шум прибоя.
Обогнав длинный ряд машин, он поздно заметил впереди на обочине патрульную машину службы ГАИ. Снижать скорость было уже поздно.
Сержант повернул, голову, дернул от удивления подбородком и промедлил секунду, Когда рука его с полосатым жезлом взметнулась вверх, Тимур уже поровнялся с постом и вполне мог не заметить знака. Номер запишет, подумал он, закусывая губу. Ну, да бог с тобой — пиши, сержант, пиши… Будем надеяться, что погоню устраивать не станешь. Он глянул в зеркальце заднего вида, но ничего не увидел — патрульную машину закрыл голубой автофургон.
Дальше дорога плавно поворачивала влево, огибая глубокий овраг. Метнулся, как заяц, беленький «Запорожец», уступая полосу. Тимур усмехнулся — за рулем была женщина, блондинка в черной курточке.
Не снижая скорости, он проскочил поселок, птицеферму и притормозил перед железнодорожным мостом. Впереди за шашлычной был пост ГАИ, куда уже наверняка сообщили о светлосерой «семерке», превысившей скорость. Пришлось свернуть на объездную сильно разбитую дорогу, ведущую в сосновый лес. Лавируя между рытвинами, доехал до просеки, оглянулся и не успел вывернуть руль. Машину подбросило на колдобине, царапнуло днище. Выругавшись сквозь зубы, он сбросил скорость и медленное въехал в лес. Запахло хвоей. Где-то поблизости монотонно стучал дятел.
Узкая грунтовая дорога, неизвестно в какие времена и для чего проложенная, заросла травой вперемешку с голубыми цветами. Машину плавно покачивало, и приходилось следить, чтоб не зацепиться за пни, торчавшие по сторонам.
Осторожно переехав через шаткий деревянный мостик, Тимур увидел озеро с длинным зеленым островком и крыши дачного поселка на противоположном берегу.
Объезжая озеро и глядя на заросли камыша, подумал, что со временем надо будет обязательно обзавестись дачей где-нибудь в тихом местечке со всем необходимым для отдыха. Тогда можно и жениться… Он усмехнулся, представив жену, детей. Нестер бы одобрил такой поворот в его жизни. Ладно. Еще не вечер! Он остановил машину возле металлических ворот, выкрашенных зеленой краской. Приехали.
Ворота бесшумно отворились, появилась бабка Прасковья в белом платочке и пестреньком платье.
Посреди ухоженного сада с дорожками, посыпанными крупным желтым песком, стоял аккуратный в два этажа дом из белого кирпича с открытой верандой. На крылечке прохаживался сиамский кот, выгибая спину.
— Спрашивал уже, — доверительно сообщила она. — Ступай наверх.
Хозяин дачи Нестер Матвеевич сидел у себя в кабинете за огромным письменным столом и пинцетом раскладывал в альбом почтовые марки. Взглянув на вошедшего, презрительно» фыркнул и глазами указал на стул. Несмотря на раннее утро, на нем был отличный светло-серый костюм, голубая рубашка, галстук, пышные седые волосы тщательно зачесаны.
Тимур сел, испытывая знакомую скованность, которая всегда появлялась при встречах с Нестером Матвеевичем, даже в те редкие часы, когда они вели задушевные беседы об искусстве, например. Шеф прекрасно разбирался в поэзии, вдохновенно декламировал, ценил настоящую живопись и знаком был со многими художниками.
О чем на этот раз пойдет разговор, Тимур даже приблизительно не представлял, однако готов был к самой серьезной беседе — шеф в последнее время по пустякам не беспокоил. Вспомнилось, как впервые попал в этот дом. Была обычная вечеринка с хорошим вином и девочками. Нестер Матвеевич весьма успешно разыгрывал роль этакого добряка-простофилю, радушного хозяина. Мило шутил с девушками, смешно танцевал, подергивая ногами, а когда совсем стемнело и угомонившиеся гости зажгли свечи в старинных подсвечниках и уселись в удобные кресла, взял гитару и запел неожиданно красивым баритоном: «Выхожу один я на дорогу…» В дверях стояла бабка Прасковья, кивала в такт музыке и утирала слезы краешком платка.
С тех пор прошло шесть лет, и как поразительно изменилась жизнь его, Тимура Салеева, и как изменился он сам! Иногда он задумывался, сравнивая, и становилось жаль того немного наивного, но честного парня, которого он безжалостно убил в себе. Но видимо, не до конца убил — нет-нет, да и шевельнется в груди сомнение, и такая тоска подступит к горлу, хоть плачь! Правда, случается такое все реже. И есть хорошее средство от хандры — быстрая смена обстановки. Неделя у моря или в горах, и восстанавливается вкус к жизни.
— Вчера взяли Старика, — сказал Нестер, захлопывая альбом.
— Как взяли? — от неожиданности Тимур приподнялся на стуле.
— Обыкновенно. Подробностей пока не знаю, да и ни к чему теперь подробности. Важна суть! Был он примитивным жуликом, родился таким, тут уж ничего не поделаешь. И никогда бы из него дельного человека не получилось — фантазии не хватало. Пробел невосполнимый. Ох-хо-хо… как подумаешь, с какими подлецами порой дело приходится иметь. Но без них никак не обойтись, такова жизнь, и не нам ее менять… Да, кстати, что за дела у тебя в Москве? Зачастил ты туда.
— Столица, — сказал Тимур, напрягшись.
— Терпеть не могу неопределенных высказываний. Подобным образом изъясняются либо дураки, либо хитрецы.
— Знакомая у меня там, студентка.
— Любовь?
— Вроде того.
— Значит, не любовь. Ну, а «вроде того» и в нашей провинции как собак нерезаных. Смотри, Тимур Георгиевич, узнаю, что опять с валютчиками связался… ты головой не мотай, а хорошенько на досуге подумай. Та-ак, далее. Надеюсь, со Стариком полностью развязался?
— Да, конечно! Сразу после того, как вы предупредили. В декабре еще.
— Встречались часто?
— Два раза, — подумав, сказал Тимур. — В баре у Славика… и у меня в мастерской. Предлагал очередную партию товара, я отказался.
Нестер Матвеевич неопределенно хмыкнул, достал из бара бутылку минеральной и два высоких фужера. Налил. Насмешливо посмотрел на гостя.
— Как же теперь? — Тимур взял со стола фужер, глотнул. — Если хорошо потянут…
— Чепуха! Не переоценивай возможности нашей милиции. Там такие же лопухи, как и везде. Умные разве стали бы Старика брать? Нет, они бы его держали, как приманку, а со временем бы завербовали… А они сцапали его и рады-радешеньки. Старик, само собой, расколется, тебя назовет. Ну и что? Работал он самостоятельно, связан с ним был только ты, операции мелкие, разовые… Если что, прикинешься простачком — ну, влепят выговор, в крайнем случае из мастерской придется уйти. Ле беда. И вот что — с сегодняшнего дня, Тимур Георгиевич, ты начинаешь новую жизнь, никаких левых делишек!
— Как это понимать?
— «Никаких» в данном случае следует понимать буквально — н и к а к и х! Выполняй план, или что там у вас… работай, крутись, одним словом. Глядишь, тучку-то и пронесет мимо. Теперь самое главное: про меня забудь, нет меня и никогда не было… Ясно? Понадобишься — найду.
Оставив машину возле подъезда, Тимур поднялся к себе в квартиру, постоял посреди комнаты, оглядывая бельгийскую мебель, японскую аппаратуру, иконы в нише между шкафов. Под книжным шкафом тайник с долларами… Плохо дело! Представил, как нагрянут с обыском, сильно зажмурился.
Ничего, пронесет, подумал он, усаживаясь в кресло. Я везучий. Хотя Старик скорее всего тоже так думал, лихо жил, не скрываясь.
Он закурил, взял, дотянувшись, книгу с нижней полки. Тютчев. Открыл наугад.
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Казалось бы, немудреные строки эти поразили его, и он никак не мог понять, чем именно. Поглядел в потолок, досадливо поморщился и прикрыл глаза, откинувшись в кресле. Долго сидел неподвижно, слушая, как этажом выше кто-то стучит по клавишам пианино. Потом усмехнулся, положил книгу на журнальный столик, сдул с брюк пепел, поднялся.
— Вот и все, — пробормотал, потягиваясь. — Все…
Внезапная, как приступ, навалилась тоска, заглушив прочие чувства, и он, зная по опыту, что в такие минуты лучшее лекарство — физическая работа, побрел в коридор за пылесосом. Тщательно вычистил ковры, плед, затем отправился на кухню и перемыл посуду, накопившуюся в раковине.
Тут же занялся приготовлением обеда, вспомнив, что завтрак был более чем легкий. Достал из холодильника замороженное мясо, нарезал аккуратные ломтики, высыпал на сковороду, затем накрошил в тарелку зелени.
Ел прямо из сковороды, еще шипящей и фыркающей расплавленным жиром. После обеда настроение заметно улучшилось. Прихлебывая из запотевшего фужера холодный виноградный сок, прошел в комнату, подмигнул отражению в зеркале. В голове созрел нехитрый план дальнейших действий — заехать в мастерскую, потом к Славику, а вечером махнуть в горы к Арсену. Сегодня пятница… очень даже кстати! В самый раз отдохнуть, отрешившись от дел мирских, суетных. Глядя на снежные вершины, не спеша подумать о себе, о жизни и попытаться ответить на простенький такой вопрос — как жить дальше?
Поставив пустой фужер на письменный стол, Тимур придвинул к себе телефонный аппарат, нетерпеливо накрутил нужный номер. С полминуты слушал длинные гудки, наконец трубку подняли.
— Слушаю, — сказал Славик, что-то дожевывая.
— В вашей забегаловке, сэр, приличный коньяк найдется?
— А, Тимур! Как всегда кстати… Для тебя все найдется. Когда прикажете ждать?
— Через полтора часа заскочу.
Бросив трубку на аппарат, он заторопился — выдвинул нижний ящик стола, достал четыре пачки новеньких червонцев, рассовал по карманам, дома теперь хранить опасно. Потом извлек из-под шкафа тугой сверток с долларами, подержал в руке, размышляя.
Будем надеяться, что лучшие дни настанут, подумал он. И, как бы подтверждая его надежду, стенные часы пробили полдень.
Выезжая со двора, едва не столкнулся с зеленой «Волгой», выскочившей из подворотни. Взвизгнули тормоза. Таксист злобно оскалился и показал огромный кулак.
— Козел… — процедил Тимур, сжимая руль, и вдруг рассмеялся комичности ситуации.
Таксист, сдавая назад, удивленно уставился на него и, покачав головой, широко улыбнулся, махнул на прощание рукой.
И Тимур, все еще улыбаясь, почувствовал, как холодный ком, застрявший в груди после встречи с Нестером, растаял.
«Вот так бы нам всем, — подумал он, трогая с места. — По-хорошему…»
В мастерской работа кипела вовсю, все правильно — конец месяца. Еще недели две назад прохлаждались, травили анекдоты, когда начальство отсутствовало. Да, Нестер, как всегда, прав, надо срочно наводить порядок, во-первых — качество, во-вторых — деньги, чтоб жесткая взаимосвязь… С недовольными расстаться, и вообще хорошо бы поменять команду. Ладно, не суетись.
В помещении с низкими потолками было душно, пахло клеем, краской, на зеленом облезлом линолеуме валялись обрезки кожзаменителя. Надсадно стрекотали швейные машинки.
Мастер Мамедов, сурово набычась, за что-то распекал худощавого длинноволосого парнишку. Судя по всему, парнишка был не из робких, иронично усмехался, глядя в сторону.
Собственно, один человек в мастерской, Мамедов, был посвящен во, все левые дела и сам принимал в них посильное участие. Остальные могли только догадываться. Последняя крупная партия «французских» сапожек с фирменными знаками и соответствующей упаковкой была отправлена еще в январе. Где они теперь, эти сапожки? Ищи ветра в поле! Так, далее… куртки японские… тут дело посложнее…
— Мамедов, зайдите, — сказал Тимур сухо, проходя к себе в кабинет.
И вдруг пришла ему в голову поразительная догадка, и он удивился, как раньше не подумал, не сообразил. Его прошиб озноб, и тут же на лбу выступила испарина. И в жар, и в холод бросает, подумал он с вымученной иронией.
Прикрыв за Мамедовым дверь, Тимур прошелся по кабинету, попытался отвлечься, успокоиться, однако подступившую злость унять не удалось.
— Когда в последний раз получал от Старика товар? — сказал он, с трудом разжимая челюсти. — Ну?
— К-какой товар? — Мамедов облизал губы и зыркнул на дверь. — Ничего не получал… зачем мне!
Почти без замаха Тимур ударил в ненавистное лицо компаньона. Мамедов качнулся и, налетев на стул, упал на четвереньки, быстро вскочил. Взгляд затравленный — сложный взгляд, невероятным образом смешались в нем злоба, собачья преданность хозяину и страх. Из рассеченной губы по мясистому подбородку струйкой сочилась кровь.
— Когда получал товар? — повторил Тимур, подступая на шаг.
— В начале месяца.
— Сколько?
— Двадцать пять метров.
— Та-ак… я тебя предупреждал, идиота?
— Нэ подумал, Тимур Георгиевич, — Мамедов развел руками. — Плохо сделал, понимаю. Теперь понимаю.
Тимур сел за стол, начиная сознавать свою обреченность, и тут грубо, властно предстала перед ним реальность, обозначив суть происходящего. Все ухищрения бесполезны — стремительность и необратимость событий сегодняшнего дня тому подтверждение. И спасти его может только чудо, а чудес на этом свете, как известно, не бывает… А ну-ка, хватит ныть, прикрикнул он на себя. В твоей ситуации, парень, каждый шанс надо использовать на всю катушку, потому как шанс этот может оказаться единственным… А, черт, устал! Скорее бы день кончился.
Он выдвинул ящик стола, выдернул из пластиковой папки чистый лист бумаги, положил перед мастером, настороженно наблюдавшим за его действиями.
— Пиши.
— Что писать? — недовольно буркнул Мамедов, косясь на лист.
— Заявление… по собственному желанию, — Тимур открыл дипломат, вытащил две пачки с деньгами, бросил на стол. — Здесь ровно две тысячи… и ты должен исчезнуть из города сегодня же. Желательно не заходить домой. Это прежде всего в твоих интересах, потому что приятеля твоего уж’е замели. Сообразил?
— Мало, — усмехнулся Мамедов, ладонью вытирая кровь.
— Плохо кончишь. — Тимур бросил еще пачку. — Учти! Выход один — исчезни… Страна у нас с тобой большая.
— Сдэлаю, — Мамедов сгреб со стола деньги. — Меня не поймают, не волнуйся, начальник… А с тобой еще встретимся, тогда и поговорим — всему свое время.
В баре было пусто. Через плотные красные шторы с улицы едва пробивался свет. В углу возле окна две размалеванные девицы цедили коктейль, обернулись, посмотрели на вошедшего.
Тимур прошел к стойке, сел на высокий табурет, дотянулся, включил магнитофон.
…а Россия лежит в пыльных шрамах дорог.
А Россия дрожит от копыт и сапог,—
затянул из динамиков популярный певец. Появился из-за ширмы Славик в белой рубашке с бабочкой, в черных вельветовых брюках, поставил на стойку две бутылки коньяка «Наполеон».
— Из Франции вечерней лошадью доставлено, — сказал Славик, поправляя бабочку. — Денег не надо — подарок. Что-то ты выглядишь неважно, неприятности?
— Плохо спал, кошмары мучили.
— Да ну? А мне сны не снятся. — Славик приглушил магнитофон. — Старик куда-то пропал… если увидишь, передай, что я сюрприз для него приготовил.
— Ты как Дед Мороз, — усмехнулся Тимур. — Не надоело?
— Несу людям радость, такое не надоест. Хотя, в общем-то, ты прав, бывают дни очень непростые… но это нормально. Как ты думаешь?
Он поставил перед Тимуром чашечку дымящегося кофе, Улыбающееся лицо, веселый наглый взгляд.
Тимур отхлебнул кофе, прикрыл глаза. Вспомнилось стихотворение, завораживающая мелодия — «она сидела на полу и груду писем разбирала…» На душе стало отрешенно печально, и накатилась жалость к себе, к Славику, ко всем живущим… Вечно в каких-то делах, дрязгах, заботах, в поисках смехотворно условного смысла. Зачем? Кому это нужно?
— Молитву читаешь? — хмыкнул Славик. — Только учти, бога нет. Недавно в научно-популярной книжке прочитал. В доступной форме и достаточно убедительно…
— А что если есть бог и жизнь еще одна — настоящая, а? Может, эта теперешняя жизнь — проверка на вшивость… Ты какой институт закончил?
— Университет! Специальность — прикладная математика. А ты к чему это?
— Да так…
— Ты это брось, Тимур, — насторожился Славик. — Я ведь чувствую — недоговариваешь, темнишь. Так с товарищами не поступают. Что-то случилось?
— Все в порядке, — рассмеялся Тимур, переворачивая пустую чашечку на блюдце. — Продолжай спать спокойно, математик!
— Ладно, дело твое… не хочешь говорить — перебьемся. Только учти — обмануть меня невозможно, такая уж работа. Специфика, так сказать. Посетитель к стойке подходит, а я уже знаю, что он скажет и как вести себя при этом станет. Сколько их всяких разных передо мной проходит, и у каждого что-то свое, особенное. Стоит на человека чуть пристальнее взглянуть, и многое становится понятным, да вот беда — не смотрят люди друг на друга, отвыкли. Потому сплошь обиды, недоразумения, скандалы… Времечко наше… суетное! Я, например, газеты перестал читать, телевизор не включаю, перед сном Вивальди слушаю… Да, все забываю спросить, как у тебя с этим чабаном? Арсен, кажется… Что-нибудь там проклевывается?
— Проклевывается.
— Ты, пожалуйста, поторопись, а то нехорошо получается. Обещал еще в начале весны. — Он поставил на стол еще чашечку кофе и блюдце с двумя конфетами.
— Сказал — сделаю.
— Да ты что, обиделся? — Славик глянул в зеркальную стенку и еще раз поправил бабочку. — Брось, все понимаю… Заходи вечером, Марина придет, спрашивала, где тебя можно найти…
Тимур не слушал, пил кофе и думал о том, что прежде чем ехать в горы к Арсену, надо съездить на заправочную, потом заскочить домой — взять пуховку. По вечерам в горах холодно.
Александр Андреевич Першанин, 30 лет.
Следователь прокуратуры.
Вертолет с надсадным треском взмыл вверх и скрылся за скальным гребнем.
Собаки с минуту лаяли ему вслед, потом улеглись в траву, с неудовольствием поглядывая на меня, чужака, свалившегося с неба.
Солнце уже поднялось над горами, но трава еще была мокрой, а внизу, в ущелье, лежали клочья ночного тумана. Шагая по сочной траве высокогорного луга, я на какое-то время забыл, кто я и зачем я здесь, и, когда ко мне неуверенной походкой подошел лейтенант милиции, невольно поморщился.
— Свечкин, — представился лейтенант. — Василий Семенович.
Покручивая в руках новенькую фуражку с блестящей на солнце кокардой, он коротко сообщил о случившемся. Сегодня около двух часов ночи обнаружен труп мужчины с пулевым ранением в области сердца. Ружье принадлежит хозяину коша — чабану Арсену Юсуфовичу Кусейнаеву.
Прочую информацию, сообщенную Свечкиным, я решительно отверг — пока необходимо сосредоточить внимание на главном.
Мы прошли мимо деревянного домишка с низкой крышей, дверь была распахнута настежь, на пороге валялся прокопченный чайник без ручки. Во дворике, обнесенном символической оградой из неошкуренных жердей, стоял, сложив на груди руки, небритый мужчина и отрешенно смотрел на скальный гребень, за которым скрылся вертолет. На нас он не обратил ни малейшего внимания.
— Арсен Кусейнаев, — понизив голос, сказал Свечкин. — Очень уж переживает… друзьями они были.
Недалеко от чабанского коша на ровной каменистой площадке стояла красная польская палатка. Возле нее пожилой мужчина, похожий на чудака-профессора, каких изображали в старых кинофильмах, и темноволосая девушка в белой кофточке вытряхивали спальный мешок.
— Бояров, поэт из Москвы, с дочерью, — пояснил лейтенант. — * Собственно говоря, эти трое были свидетелями, хотя какие там свидетели — услыхали выстрел, и все…
— Самоубийство?
— Мне кажется, что… нет, трудно что-то определенное сказать. — Свечкин приосанился, нахмурил лоб. — Ружье, в общем-то, короткое, так что в самый раз…
— Мне кажется, у вас сложилось определенное мнение, поделитесь…
— Нет, н-ничего такого… — Свечкин виновато развел руками. — Не сложилось пока мнение.
Василия Семеновича я видел впервые, но мог бы сказать о нем многое. Откуда взялось это знание, объяснить трудно — то ли от взгляда, осторожного, испытывающего, то ли от нелепой привычки кивать во время разговора. Во всяком случае, лейтенант мне все меньше нравился. Скорее всего он из тех людей, что в присутствии начальства преследуют единственную цель — произвести благоприятное впечатление.
— Теперь сюда, Александр Андреевич… — Свечкин пропустил меня вперед, и мы стали спускаться по узкой тропе к рыжим, изъеденным временем скалам.
Справа возле кустов барбариса поблескивал лаком новенький «уазик» оперативной группы, чуть поодаль стояла еще одна машина — светло-серые «Жигули».
— Приветствую работников следствия, — из-за скалы, отряхивая джинсы, вышел Юра Шутков.
— Надо полагать, работники уголовного розыска свою работу провели, как всегда, с блеском.
— Будем стараться, — Юра закурил, щелкнув зажигалкой.
Молча подошли к месту происшествия. Тело лежало недалеко от края пропасти, подмяв упругие ветви кустарника.
Тимур Георгиевич Салееев — вспомнил я, начиная осмотр.
Темные широко открытые глаза погибшего неподвижно смотрели в небо, по виску медленно ползла божья коровка. На оранжевой пуховке в области сердца был явный след выстрела в упор.
— Салеев стоял во-он там. — Юра показал рукой на довольно крутой склон, поросший пучками длинной травы. — Там тропа, видишь? Ведет прямо к кошу. После выстрела скатился сюда. Кустарник задержал, а то бы свалился в пропасть. Ружье осталось на тропе, вот что удивительно…
Я сделал вид, что поглощен осмотром и не слушаю. Юра хороший парень и работник толковый, но слишком уж разговорчивый. По этой причине работать я с ним не люблю. Место происшествия предпочитаю осматривать в спокойной обстановке и, главное, — не спеша. Неосторожное слово, даже взгляд сбивают с мысли.
Склон, тропу можно будет обследовать потом, метр за метром, а сейчас очень важно запечатлеть общую картину, чтоб впоследствии без труда восстановить в памяти.
— Не смею утверждать, — кашлянул медэксперт, стягивая резиновые перчатки. — Но похоже на самоубийство. Официальное заключение представлю.
— Да-да, конечно, — сказал я, рассматривая ружье. — Серьезное оружие. Известная западная фирма, два нарезных ствола — по нынешним временам большая редкость.
— Значит, ты остаешься, — сказал Юра, когда тело, уложив на носилки, понесли к машине. — Местечко, кстати, тут неплохое, в ущелье — нарзан… — Он почесал переносицу и поморщился, отвернувшись. — Не нравится мне этот случай, на Агату Кристи смахивает. Я говорил с этим… Арсеном, Бояровыми… тут все непросто. Да, совет — повнимательнее отнесись к девушке, а то у меня с ней нелепый разговор получился. Я сейчас еду в город, постараюсь выяснить все о Тимуре Салееве. Арсен сказал, что якобы работал Тимур в торговле, но где, кем, непонятно.
— Не знает, где работал его друг?
— Кто тебе сказал, что они были друзьями?
— Овечкин поведал.
— А… ну-ну! — Юра усмехнулся, расстегнул куртку. — Жарковато становится. Вот чего бы я хотел — отдохнуть здесь недельку. Горы! У Рериха есть картина, так и называется — «Горы».
— Чья там машина стоит?
— Тимура. Лихой парень был. Тут дорога — жуть! Наш шофер, ты знаешь, старый волк, чего только в горах не повидал… Так вот он заявил, что больше сюда не поедет. Пожить, говорит, еще хочется.
— Думаешь, Тимур не из тех, кто стреляется по ночам?
— Уверен! Чистейшей воды убийство. — Юра достал из кармана ключи от машины, сцепленные брелоком в виде подковки. — Держи… Ну, ни пуха тебе'.
Мы попрощались, и «уазик» умчал, подпрыгивая на ухабах, в ущелье.
Оставшись один, я еще раз внимательно осмотрел примятую траву и поднялся по тропе к кошу. Предстояло провести официальный допрос свидетелей.
Арсен отвечал на вопросы обстоятельно, стараясь быть точным. Мне нравилась его серьезность. Временами он задумывался,
глядя вдаль. Его угрюмый равнодушный взгляд невольно наталкивал на мысль о том, что этот горец знает о жизни нечто такое, до чего просвещенное человечество средь тьмы забот и суеты не скоро додумается. Что ж, может быть…
Таня рассказывала охотно и даже, как мне показалось, с увлечением. Видимо, по легкомыслию, свойственному избалованным вниманием девушкам, она восприняла трагическое событие как таинственное приключение в горах. До ее сознания скорее всего не дошло, что случилось непоправимое — погиб человек. Это и удивляло, и настораживало, потому как подобное восприятие действительности свойственно людям не очень умным. Таня же была явно не из их компании, в этом я окончательно убедился, поймав на себе ее внимательный и насмешливый взгляд. Правда, временами она становилась очень уж серьезной и зябко подергивала плечами. И я подумал, что Юра Шутков, пожалуй, прав — тут все непросто.
А вот Бояров удивил. Я, надо сказать, рассчитывал на его профессиональную наблюдательность. Однако поэт в основном вздыхал, горестно качал головой и изрекал банальные фразы вроде: «вот она наша жизнь», «жил человек — и нет его…»
В конце разговора он зашмыгал носом, махнул рукой и заявил, что если б знал, какие неприятности его подстерегают в горах, ни за что бы сюда не приехал.
Воздух был свеж, прозрачен, и хорошо было видно, как далеко на снежных склонах ветер крутит поземку.
Солнце поднялось высоко, стало жарко. Я снял куртку, повесил на ограду и, глядя на снежный гребень, некоторое время анализировал показания свидетелей, затем не спеша спустился к обрыву, сел на каменную плиту, закурил, что позволял себе крайне редко.
Вырисовывалось приблизительно следующее. Вчера около десяти часов утра на кош прилетел вертолет гляциологов и доставил гостей с рекомендательным письмом от знакомого Арсена. Василий Терентьевич и Татьяна Васильевна Бояровы. Мужчины поставили палатку, обложили камнями на случай, если поднимется ветер, выкопали яму для продуктов, что-то вроде холодильника. Таня тем временем готовила завтрак в доме, ей помогал Арсен. В полдень позавтракали, потом сходили в нарзанное ущелье — купались, загорали. Вернулись к кошу около шести вечера, а еще спустя полчаса приехал на своей машине Тимур Салеев. Приехал на выходные дни отдохнуть. Знакомы они с Арсеном больше года, за это время Тимур несколько раз наве щал чабана, однажды приезжал с девушкой. Гостил обычно недолго — два-три дня.
Итак, Тимур прибыл, привез коньяк, вино. Вечером устроили ужин, Арсен приготовил шашлыки, шурпу. Таня накрывала на стол, который выставили во двор. Было весело. Тимур рассказывал анекдоты, смешные истории, Бояров читал стихи. Выпивали. Коньяк «Наполеон» привез Тимур, вино было у Арсена. Словом, пикник как пикник. После полуночи Арсен с Тимуром легли спать в доме, а Бояров с дочерью — в палатке. Арсен почти сразу уснул. Сквозь сон слышал, как скрипнула входная дверь и послышались шаги под окном. Решил, что Тимур вышел покурить. И только задремал — выстрел. Вскочил от неожиданности, посветил фонариком справа от двери, где обычно висело ружье, — ружья на месте не оказалось.
Бояров проснулся от выстрела. Таня взяла фонарик, лежавший в изголовье, и первой выбралась из палатки. Никуда не отходила, потому что было страшно. Видела, как в коше зажегся свет. Когда открылась дверь и на пороге появился Арсен, побежала к нему. Тимура она увидела первой. Светила луна, и внизу у края обрыва хорошо была видна фигура лежащего человека. Арсен спустился по склону, убедился, что Тимур мертв, и первым делом связался по рации с поселком, сообщил о случившемся. С этого времени до утра они втроем сидели в доме, ждали.
В общем-то, первое, что приходило в голову, — самоубийство. Одно обстоятельство смущало: как мог нормальный молодой мужчина после веселого ужина в обществе симпатичной девушки, после шуток и анекдотов дождаться, когда все улягутся спать, затем взять ружье и покончить с собой. Такое трудно представить. А впрочем, много ли я знаю о Тимуре? Работник торговли… может, крупная растрата, грозило осуждение на длительный срок. Что, если мысль о самоубийстве приходила и раньше, а тут представился удобный случай — ружье на стене… Стоп! А почему заряженное? Насколько мне известно, даже перед тем, как зайти в охотничью сторожку, охотники разряжают ружья. Ладно, это мы выясним.
Часа полтора я осматривал склон, заросли барбариса, облазил скалы над пропастью. Ничего похожего на спуск обнаружить не удалось. Скалы отвесной стеной обрывались вниз, и там, на дне ущелья, шумела невидимая река. Теперь, во всяком случае, я знал: от места, где был произведен выстрел, можно выбраться только вверх, а на плоском лугу, да еще при лунном свете, остаться незамеченным невозможно.
Однако с выводами я решил пока не спешить. В моем положении неразумно было отвергать версии даже самые невероятные.
Допустим, что стрелял неизвестный — Четвертый. Тогда..* тогда получается несуразица. Тимур вышел из дома, непонятно зачем прихватив ружье, затем без борьбы отдал ружье неизвестному и преспокойно ждал, пока тот его пристрелит. И это сильный, здоровый мужчина, не оказывая сопротивления, смотрел, как к груди приставляют ружье? Нет, не укладывается в голове!
А если неизвестных было несколько? Допустим… Тимур услыхал подозрительные голоса. Вышел посмотреть, взял на случай ружье. На него напали… Парень он, судя по всему, не из хилых, отобрать ружье у него не так-то просто. Значит, на теле должны были остаться следы борьбы. Эксперт же ничего подозрительного не обнаружил. Впрочем, официального заключения пока нет, придется подождать.
Обойдя скалу, я вышел к небольшой поляке, где стояла машина Тимура. Внешний осмотр, как и ожидалось, ничего не дал. Машину давненько не мыли, сохранились следы дождя, небольшого, — позавчера такой в городе сыпал, далее — свежая царапина на правом крыле, новая шипованная резина. Все.
Я достал из кармана ключи с брелоком-подковкой, открыл дверцы. Сиденья без чехлов, на переднем небольшое темное пятно с оплавленными краями — след сигареты. На панели управления — вентилятор с оборванным шнуром. Судя по всему, хозяин без особого почтения относился к машине.
На заднем сиденье лежал черный «дипломат» с металлической окантовкой. Осмотрев его со всех сторон, я сел на траву, открыл. В дипломате лежали светозащитные очки в полиэтиленовом мешочке, пачка денег, туго стянутая резинкой, и книга в коричневом переплете. Тютчев. Полистав, наткнулся на закладку — конфетная обертка, сложенная вчетверо.
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.
Арсен рубил дрова — зло, методично. Клетчатая рубашка потемнела на спине от пота. Увидев меня, он воткнул топор в колоду, снял рубашку и бросил на поленья.
Мы сели на лавочку, закурили. Было тихо, безветренно. Попискивали в траве суслики да журчал ручей. Собаки, сомлевшие от жары, лежали за оградой. Я их пересчитал — семь. Мощные красивые псы. В здешних местах эту породу овчарок называют волкодавами. Собаки… Об этом следовало подумать раньше.
— Арсен, — сказал я с видимым безразличием. — Собаки ночью нормально себя вели?
— Как всегда, — Арсен понимающе кивнул. — Если б кто чужой… они бы не отпустили. В том году двух туристов притащили ради забавы. То есть привели… вот сюда, к кошу. Кругами бегают и ведут. Нет, чужих не было. Точно.
— А если человек им знаком, но заявился ночью?
— Не знаю… — Арсен недоуменно посмотрел на меня. — Откуда, сам подумай, тут ночью посторонние… знакомые-незна-комые?
Из палатки вышла Таня с полотенцем в руке, потянулась, поправляя волосы, и пошла к ручью. За ней, оглядываясь на хозяина, побежал угрюмый пес с густой серой шерстью.
Да, красивая девушка. Мне представилось, как вчера вечером Арсен и Тимур наперебой ухаживали, стараясь понравиться. Пока об этом никто не обмолвился ни словом.
— Арсен, — сказал я, раздавив окурок о полено. — Ружье у вас всегда на одном месте висит?
— Да, конечно. Справа от двери… я уже говорил. Если что, волки, например, ну, чтоб всегда под рукой.
— Волков много?
— Хватает. А зимой так и ходят вокруг по склонам, если очень голодные, ничего не боятся. Одни затевают драку с собаками, а другие овец тащат. Не знаешь, в какую сторону бежать…
— А где сейчас овцы?
— На нижних пастбищах. На днях должны пригнать.
— Понятно. И еще… ружье в тот вечер висело заряженным?
— Н-нет…
— Где у вас хранятся патроны?
— В ящике под кроватью.
— Значит, вы слышали, как Тимур выходил. Но до этого он должен был достать из-под вашей кровати ящик, взять патроны.
Арсен медленно поднялся, взял в руку топор и, поставив на колоду полено, хрястнул по нему так, что щепки полетели далеко в стороны.
— Откуда я знаю? — сказал он неожиданно ровным спокойным голосом. — Как я могу знать, а?
Таня шагала чуть впереди, по-детски припрыгивая. Несильный ветерок теребил темные слегка выгоревшие на солнце волосы.
Я смотрел на ее волосы, слушал и злился. Непонятно: так легко забыть ночное происшествие. Что это? Природная глупость, или, наоборот, — мудрость? Может, пустая бравада? Да нет, не похоже.
— Папа пишет ужасные стихи, — говорила Таня. — И, по-моему, убежден, что занят серьезным делом. Счастливый человек. Видели бы, какое у него лицо, когда сидит в своем кабинете. Ухохочешься! Когда я была маленькая, ему нравилось море. — Она широко развела руками и засмеялась. — Все куда-то плавал… то с рыбаками на Сахалине, то на военных кораблях, однажды в научную экспедицию напросился. Писал стихи о море. Такие… приподнято-взволнованные. Дома почти не бывал, ну, мама его и бросила. Переживал он ужасно — месяц стихов не писал. А теперь вот полюбил горы, говорит, что это последняя любовь. Вот за что я его уважаю — никогда он не писал так называемых гражданских стихов. Папа скорее всего вообще не понимает, что такое политика, все эти застои, перестройки, трудовые вахты и кооперативы. Он живет в особенном мире, иногда я ему завидую. Вы не смейтесь!
— Не буду.
— Вы случайно не читали новую папину книгу? Она большим тиражом вышла.
Книгу эту я видел, когда осматривал дом чабанов. На полке возле топчана, на котором должен был спать Тимур. «Тимуру Григорьевичу на добрую память…»
Таня замедлила шаг и посмотрела на меня, откинув рукой волосы.
— А кто вам из современных поэтов нравится?
— В наше время существуют поэты?
Мне хотелось позлить ее, чтоб хоть ненадолго вывести из того безоблачного состояния, в котором она пребывала.
— Глупо! — помолчав, сказала Таня.
И не обернулась. Шагала себе, мелькая розовыми пятками, джинсы подвернуты до колен, в руках — бело-голубые кроссовки.
— Вот бы туда! — Таня примирительно улыбнулась и показала рукой на дальние склоны, изъеденные лавинами. — Я только в кино видела, как загорают на снегу.
Мне представилась веселенькая картина — мужчины и женщины в купальных костюмах загорают на лавиноопасном склоне, и, ничего не сказав, я стал спускаться по тропе, петляющей среди валунов.
С тропы хорошо была видна жутковатого вида скала метров пятидесяти. На ее ровной верхушке можно было различить фигуру человека.
— Это папа! — обрадовалась Таня, помахав рукой. — А мы уже далеко ушли… Правда, тут здорово!
И тут я уловил фальшь в поведении девушки. Не знаю как, но уловил. И понял, что внутренне она напряжена и чего-то боится. Долго играть на таком уровне ей не удастся, сорвется обязательно. Что ж, подождем. Чего же она все-таки боится? Как узнать, докопаться, если перед тобой глухая стена?
Впервые в этот день я занервничал. Время! Уходят минуты, часы. Если я сегодня не смогу понять, что же произошло нынешней ночью, то потом потребуются недели, а может, месяцы кропотливого труда.
И все-таки я не ошибся, решившись на прогулку в ущелье. Хоть одно это обстоятельство утешало. Теперь почти все зависело от того, сумею ли я заставить проговориться девушку. Если не сумею, то грош мне цена.
Таню я догнал у водопада. Рев падающей воды оглушал. Зеленоватый поток, перерезав в верхней части скалу, падал каскадами, поднимая вокруг тучи мельчайших брызг. Над мокрыми скалами висела двойная радуга.
— Красиво! — крикнула Таня, тряхнув головой. — Кругом все такое огромное, а мы человечки маленькие, откуда взялись, куда исчезнем… А вы — сухарь, сыщик. Мне жаль вас!
Она надела кроссовки и, оскальзываясь на мокрой траве, побежала вверх, придерживаясь руками за выступы. На относительно ровной площадке она обернулась и стала что-то кричать, но, кроме рева падающей воды, ничего не было слышно. Топнув от досады ногой, она вскарабкалась на темную глыбу удивительно правильной формы, картинно вскинула голову и замерла, протянув руки к небу.
Глыба была похожа на постамент, словно специально вытесана. Я невольно восхитился точностью выбранной позы, учитывающей окружение и форму скалы-постамента. Рассматривая необычную скульптуру, я вдруг понял: что-то переключилось в моем сознании, будто резко крутнули рукоятку настройки, даже почудилось, что щелчок слышал.
Каким-то образом я ощутил, что кто-то чужой смотрит моими глазами, а может, показалось, что ощутил, и скорее всего, что показалось, но после этого с опустошающей ясностью, какой не случалось прежде, я постиг — вот именно — постиг, как через несколько десятков лет не останется на этой планете ни меня, ни Тани, ни миллионов других, живущих сейчас людей, а глыба вот эта останется, будет стоять на том же месте, как ни в чем не бывало. И горы ничуть не изменятся. А что особенного? Исчезнет поколение людей, сколько их, поколений, уже исчезло! Другие родятся, подрастут… Неужели и там, в далеком будущем, останутся преступления, убийства? Техника совершенствуется значительно быстрее, нежели совершенствуется душа человеческая. В каком-то столетии станет возможным, нажав кнопку карманного устройства, распылить неугодного человека на атомы в считанные секунды. Так что выход один — люди должны стать лучше, добрее. Иначе — тупик, бесславный конец земной цивилизации.
По скользким замшелым камням мы перебрались через ручей недалеко от водопада и, мокрые от брызг, очутились в узком ущелье с крутыми стенами. Под камнями тихо журчал невидимый ручей, на чахлых кустах из растресканных скал, коротко посвистывая, прыгали птицы, похожие на воробьев.
— Таня, — сказал я, замедляя шаг, — вы ничего особенного не заметили вчера в поведении Тимура? Существует такое понятие — женская наблюдательность…
— Нет, ничего не заметила.
— Он ухаживал за вами?
— Да! — Таня насмешливо взглянула на меня, скривила губки. — Обещал на ледник сводить, стихи читал… Что вас, гражданин следователь, еще интересует?
Я промолчал, припоминая строки, потом негромко продекламировал:
Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.
Таня остановилась, округлив глаза, и даже рот приоткрыла от удивления. На подобный эффект я, надо сказать, и рассчитывал, потому скромно потупился и зашагал дальше.
— Откуда вы… как узнали? Мы же вдвоем были, когда Тимур читал, никто не мог слышать. Никто! — Таня все еще смотрела на меня с нескрываемым удивлением. — Вы что… гениальный сыщик?
— Да, — ответил я просто.
Таня шла рядом, закусив губу. Опять она была другая. Хорошо воспитанная девушка, студентка-отличница, глаза широко открыты, словно неожиданная мысль удивила, застала врасплох.
— Вот уж не думала, что встречу настоящего профессионала среди вашего брата.
— Начитались статей в популярных журналах?
— Начиталась. Карьеристы, взяточники, халтурщики… Разве не так? Преступность растет…
— Давайте не будем повторять журнальных статей. Вы что-то хотели сказать о Тимуре.
— С чего вы это взяли?.. — Таня улыбнулась. — Ну, хорошо. Понимаете… есть люди, которые умеют подчинять себе других, подавлять чужую волю. Сила какая-то от них исходит… Нет! Очень трудно объяснить, боюсь, вы неправильно поймете.
— Тимур вам понравился.
— Да. Он смеялся, шутил, что-то рассказывал, а в глазах такая настоявшаяся печаль… — Таня поморщилась. — Нет, не то слово… Я только однажды видела такое в глазах — мой дядя был безнадежно болен, я навещала его в больнице… А иногда Тимур был как ребенок, расхвастался вдруг, потом смутился…
— Вы так говорите, словно знали его давно.
— Бывают люди, всю жизнь рядом проживешь, а сказать нечего. Тимур — другое дело.
— Странно, вы, кажется, не очень опечалены его смертью.
— Замолчите! Прошу вас… Ну что вы понимаете? Вам бы поскорее дело закрыть, а там хоть трава не расти.
Ну, вот и прекрасно, подумал я с облегчением. Теперь-то я тебя, сударыня, понял. И разговор получился содержательный, не то что утром.
— А что Арсен? Вы ему ведь тоже понравились.
— Убийство из ревности? Глупо! Да разве в наше время из ревности убивают? Ну, разве что петушиный бой возле подъезда.
— Таня, вспомните хорошенько, в котором часу вы легли спать.
— Я уже говорила вам, что на часы не смотрела. Ладно. Постараюсь вспомнить. Значит, так… папа сказал, что уже первый час, пора расходиться. Мы еще с полчаса посидели у костра…
— Арсен с Тимуром ушел.
— Вроде бы… не обратила внимание. Да, вспомнила — вместе ушли.
— А вы, Таня, сразу от костра пошли в палатку и не выходили, пока не услышали выстрела. Так?
— Именно так! — Таня гневно взглянула на меня и отвернулась.
А почему, собственно? Гнев тут совсем неуместен. Ничего… к этому вопросу мы обязательно вернемся в свое время.
Миновав узкую горловину ущелья, мы очутились на дне почти правильного цирка, образованного светло-коричневыми скалами.
Воздух здесь был пропитан запахом нарзана, отовсюду сочилась, капала, стекала струйками вода, оставляя на камнях ржавые разводы.
— Нарзан с большим содержанием железа, — пояснила Таня тоном экскурсовода. — Нарзан теплый, что-то около тридцати градусов… Арсен рассказывал, что зимой над ущельем стоят клубы пара.
Я слушал рассеянно, пытаясь обстановку оценивать трезво. Да, между нами вдруг пропало напряжение. Было и вдруг не стало. И сейчас мы были похожи на курортников, осматривающих экзотические места. Хорошо это или плохо? Пожалуй что хорошо. Пускай девушка на какое-то время забудет, что я следователь. А вот мне об этом забывать не следует.
С легким шуршанием осыпались мелкие-мелкие камни, застучали, прыгая вниз по скалам.
— Ничего не замечаете? — тихо спросила Таня, поеживаясь. — Такой взгляд в спину. Брр!..
Я осмотрелся, и мне показалось, что вверху на скале мелькнула тень.
— Обстановка изменилась, — сказал я, ободряюще улыбнувшись. — Шли по узкому ущелью, и вдруг — пространство, словно на арену вышли.
— Да-да! Очень похоже, — оживилась Таня. — Очень! Как на краю света, ужас какой-то. Представьте, во-он там, за скалой, ничего нет, вообще ничего. Ну-ка попробуйте убедить меня, что края света не существует! И потом… — Она запрокинула голову. — Небо! Почему я должна верить, что это атмосфера, а за ней космос, почему? Я вижу прекрасный хрустальный свод. Господи, какое замечательное было время, когда люди думали, что Земля плоская, верили в загробную жизнь и не сознавали себя песчинками во Вселенной. Это же унизительно сознавать себя песчинкой! — Таня взяла меня за руку и перепрыгнула через ручей. — Как вы думаете, на этих скалах есть мумие?
— Вряд ли.
— Вы, наверное, как и врачи, не верите в мумие?
— Я тут ни при чем, и врачи, пожалуй, тоже. Лишь бы больной верил… Я знал одного врача, штамповавшего таблетки из мела: для вкуса добавлял: витамины и продавал в красочных иностранных упаковках по бешеным ценам. Был он человеком смышленым, заметил, что чем дороже берет за лекарство, тем больше пациент верит в чудодейственную силу таблеток, а если верит — появляется лишний шанс вылечиться. Больные к нему толпами валили.
— И никто не догадался?
— Почему же? Догадался… суд был.
— Ага! Вы вели расследование… Лучше бы бандитов ловили. Этот врач по-своему помогал, давал облегчение, надежду. — Таня наклонилась, сорвала голубой цветок на гнутой ножке, поднесла к лицу. — Александр Андреевич, я подумала… в общем, хотите верьте, хотите нет… а может, мне в самом деле показалось. Хотя вряд ли! Было уже темно, мы с Тимуром спустились к ручью, и я вдруг увидела, как из-за скалы вышел человек. Он тут же исчез! Тимур посмеялся надо мной, но все-таки мы обошли скалу, все осмотрели — ничего не увидели. Но не привидение же это было.
Вот и появился Четвертый. Теперь надо отрабатывать и эту версию, даже если девушка ошиблась. Мало ли что может почудиться ночью в незнакомом месте. И если Таня ошиблась, то я потеряю уйму времени. Выход один — отрабатывать все версии параллельно, а это не как-то просто. В самом деле, любопытно, кто же этот Четвертый, на которого не реагируют собаки?
— Единственный холодный источник, — Таня остановилась возле белых камней, из-под которых, поблескивая на солнце, вытекал ручеек нарзана.
Возле источника на белом плоском камне лежала прозрачная канистра с остатками не то сока, не то вина. В траве валялась алюминиевая кружка.
— Это мы вчера… — сказала Таня, отвернувшись, — забыли.
Молча подошли к большой гранитной чаше, до краев наполненной нарзаном. Со дна с глухим клокотанием поднимались пузыри газа, вода словно кипела.
— Какая все-таки прелесть! — воскликнула Таня, будто очнувшись.
Она зачерпнула рукой голубоватую воду и засмеялась.
— Сколько нарзана! Я искупаюсь.
Поспешно, словно ей могли помешать, она сбросила кофточку, стянула, прыгая на месте, джинсы и осталась в мини-купальнике — крошечные лоскутки в полоску.
— Только, пожалуйста, — сказала она, закалывая волосы, — отойдите куда-нибудь, не люблю, когда на меня так смотрят.
Спустившись к холодному источнику, я долго прополаскивал канистру, пока не исчез стойкий запах вина, затем сел на камень и, зачерпнув в кружку нарзана, смотрел, как блестящие пузырьки быстро поднимаются со дна.
Положение мое было незавидным. До сих пор не удалось продвинуться ни на шаг в расследовании. У всех подозреваемых алиби — сразу после выстрела они видели друг друга. Дальше. Четвертый. Откуда он взялся среди ночи? Допустим, что Тимур каким-то образом понял, что за ним следят, возможно, у него были основания кого-либо опасаться. Возможно, он еще раз увидел Четвертого, выглянув перед сном в окно, и узнал. У них были какие-то личные счеты, поэтому будить Арсена не имело смысла. Тимур взял ружье, патроны и тихонько вышел… Все складно, но слишком уж напоминает сюжет из кинобоевика. И самое существенное — если так уж необходимо убить человека, то вовсе необязательно выслеживать его в горах. В городе все это можно проделать без лишних хлопот, но даже в горах, даже ночью, когда плохая видимость, необязательно стрелять в упор!
И еще… я прекрасно понимал, что нельзя верить до конца Таниному рассказу. Очевидно, что она не договаривает, по какой-то серьезной причине не хочет сказать всего, может, попросту чего-то боится. Ну, а если так. Бояров спал. А Тимур, Арсен и Таня, выпившие, возбужденные, дурачась, взяли ружье, кто-то нажал курок. Случайное, непреднамеренное убийство. Очень на то похоже. Из троих случайно нажать спусковой курок могла только девушка. Мужчина такую оплошность допустить не мог, даже если учесть состояние опьянения. Что за чушь! Совсем голова отказывается работать. Дурачиться, положим, они могли, но зачем для этого заряжать ружье?
Окончательно запутавшись, я умылся, затем снял рубашку и, поливая на себя из кружки, обтерся до пояса. Захотелось поплескаться в нарзане, отвлечься от неотвязных мыслей, но, посмотрев на часы, я заторопился. Необходимо было еще раз поговорить с Бояровым, тем более что у меня появилось несколько интересных вопросов к нему, затем, пока не стемнело, осмотреть скалу, где девушка увидела неизвестного.
Бояров сидел на траве, курил трубку и смотрел на вершины гребня. Любопытно, о чем можно размышлять с таким восторженным выражением на лице? «Лирические раздумья — сквозная тема поэта», так, кажется, написано в книге, вернее в предисловии.
Я свистнул, и собаки, дремавшие возле Боярова, подняли головы и замахали хвостами. Быстро же они привыкают к чужим, вот что я упустил из виду!
Первым подбежал Эльбуз, огромный волкодав с длинной шерстью, бросился на грудь, обдав горячим дыханием, затем принялся как сумасшедший бегать кругами, хватая Таню за джинсы.
Она присела на корточки, Эльбуз вильнул хвостом и, поскуливая, ткнулся мордой в колени.
— Какой же ты дурачок! — рассмеялась Таня. — С такими челюстями стыдно прислуживать.
Я отвернулся, мне не понравилось, как она сказала, и тут же опомнился — как раз для того, чтоб слушать и стараться понять хоть что-нибудь в этой истории, меня и доставили сюда вертолетом.
— Люди молодые! — Бояров помахал рукой. — Нарзанчика отведать можно?
— Идите, — хмыкнула Таня. — Пообщайтесь с поэтом.
Переложив канистру с нарзаном в другую руку, я невольно ускорил шаг. Мне не терпелось поговорить с Василием Терентьевичем.
Бояров пил с чувством, восторженно тараща глаза и как бы приглашая разделить его радость.
— Уфф! — выдохнул он, оторвавшись от канистры. — Каков напиток! А воздух… нет, уважаемый, не верю! Вот сижу, смотрю и глазам своим не верю. Красота какая! И никого, ни души — на километры. Да вы не смотрите так, поймите меня… Ах, да! Этот ужасный случай, ужасный… Но я сумел перестроиться.—
Он рассмеялся, но тут же смутился, кашлянул раз,
другой. — Поэты, знаете ли, импульсивны и впечатлительны, несмотря
на возраст. Хотя вся эта история… ох-хо-хо! Досадно,
когда вот так — молодой, в расцвете сил…
— Василий Терентьевич, а что вы можете сказать о Тимуре?
— Ну, что тут скажешь? О покойниках трудно говорить.
— И все-таки. Он ведь вам не понравился.
— Да, вы правы. Не по возрасту холоден и равнодушен к жизни, а главное — чрезмерная самоуверенность в суждениях.
Я вчера был в прекрасном настроении, читал свои стихи, а он сидит в сторонке и камешки подкидывает — жонглирует. Я спрашиваю, мол, стихи не любите? А он небрежно так — люблю, но не выношу пустословия. Это, простите, я пустослов? Мои книги… я лауреат, да и не в этом дело. — Он досадливо покачал головой. — Трудно судить, всего один вечер знакомы. Нужно быть объективным, а я не могу! У меня дочь, а он такими глазами смотрел на нее… Танюшка-то еще глупенькая, не понимает всего, вот я и стараюсь по возможности быть рядом, эту поездку организовал… Сколько сил пришлось затратить! Тут еще жара, больное сердце, да попал в метро в эти… часы «пик». Эх-хе-хе! Я согласен, человек — венец творения и звучит, разумеется, гордо… но когда человеков этих толпы, и все спешат-бегут… трудно остаться оптимистом, знаете ли.
— Обязательно оптимистом?
— Безусловно! Поэт должен быть оптимистом. Обязан! Даже если пишет невеселые стихи, даже если жизнь не сложилась. Иначе не напишутся стихи. Да вы присаживайтесь.
Бояров зачем-то подвинулся и стал раскуривать потухшую трубку. Я сел рядом, положив руку на подбежавшего Эльбуза, достал из заднего кармана пачку сигарет, подумал и отложил в сторону — курить не хотелось.
День незаметно клонился к вечеру. Еще яркое солнце косым золотистым светом цеплялось за вершины, а внизу, в ущелье, сгущался мрак, из расщелин выползал туман, оседая на склонах. Горы на глазах теряли рельефность, становились плоскими, нарисованными на гигантском полотне. Где-то далеко ухнула лавина. Эльбуз зарычал во сне, дернулся всем телом и поднял голову.
Я поднялся и пошел к скале, возле которой Таня увидела неизвестного. Собаки побежали за мной, и пока я метр за метром обследовал траву и кустарник возле скалы, с недоумением наблюдали за мной. Особенно пришлось им по душе, когда я передвигался на четвереньках. Эльбуз даже попытался затеять со мной игру.
Единственное, что удалось обнаружить, была белая пуговичка с перламутровым отливом. Я сразу вспомнил белую кофточку, в которой Таня была утром. Да, верхняя пуговица на ней была оторвана.
Бояров сидел на том же месте, глядя на красный диск солнца, медленно опускавшийся к гребню. Я сел неподалеку, посматривая в сторону коша, где Арсен складывал в поленницу дрова. Много же он их сегодня нарубил. Да, неплохой способ отвлечься. Неподалеку от изгороди прохаживался вороной жеребец, привязанный к невысокому столбу. Арсен подошел к нему, положил руку на гриву, что-то сказал и посмотрел в мою сторону. И я вдруг понял, что последний разговор у меня будет с Арсеном Юсуфовичем Кусейнаевым, и ощутил приятное возбуждение — верный признак того, что дело продвинулось. Во всяком случае, множество версий мной были отброшены, остались две, и теперь главное — сработать четко. Малейшая оплошность — и можно все начинать с начала.
— Василий Терентьевич, — сказал я. — Вы уверены, что проснулись от выстрела? Всйомните хорошенько. Может, вас разбудили?
Тут я заметил, что полог палатки неестественно топорщится. А вот подслушивать нехорошо, да и не умеешь ты, Танечка, этим делом заниматься, не научилась еще.
— Знаете, Александр Андреевич, — сказал Бояров, поморщившись. — Я вас, конечно, понимаю — служба и все такое… Но я уже все сказал!
— Вспомните, пожалуйста, это важно для следствия.
— Ну-ну… Проснулся я от выстрела, это точно. Хлесткий хлопок, я ведь охотник. Зимой, к примеру, на кабанов охотился. Но это так, к слову. Выстрел… Не знаю уж почему, но я испуга^ ея… а в самом деле, странно! Мало ли кто выстрелил? Проснулся и никак не могу сообразить, что к чему… по правде сказать, выпил немного лишнего. Да, запутался в спальнике, кое-как расстегнул «молнию». Тут уж Танюшка помогла, потом она взяла фонарик и вышла.
— Сколько примерно минут прошло, пока Таня выбралась наружу?
— Минуты три, может быть.
— Утром вы говорили, что ваша дочь сразу после выстрела вышла.
Теперь я понял свою ошибку, совершенную утром. Нельзя было допускать, чтоб Бояров присутствовал при допросе дочери. Она не могла сказать всего при отце, даже если бы захотела, а позже, видимо, неловко было признаться во лжи. Бояров подошел тогда такой разнесчастный, тихий, сел неподалеку и слушал, печально кивая. А потом механически повторил то, что сказала дочь. Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что я способен допустить такой элементарный просчет, ни за что бы не поверил!
— Утром… — сказал Бояров, запнувшись. — Я был расстроен, потрясен, это естественно, да еще бессонная ночь. А не все ли равно, уважаемый следователь, через сколько минут? Какая разница, вы что думаете… Что такое? Почему вы на меня так смотрите, кто вам дал право?
— Простите, Василий Терентьевич, — улыбнулся я. — Не хотел вас обидеть. А в каких местах вы охотились на кабанов?
— В этих краях, — недовольно буркнул Бояров. — Вы интересуетесь охотой?
— Было время — увлекся, ружье до сих пор висит.
— Вот как! А меня вообще-то не охота привлекает, какой из меня охотник. Так, побродить с ружьем, пару раз выстрелить. Главное — общение с природой, людьми. Охотники — народ особенный. С альпинистами в хижине встретились. Я вот что хочу спросить — какая необходимость в двадцатом веке взбираться на километровые скалы, используя первобытную технику и, глав-ное, — рискуя жизнью? Смысл, простите? Во всем должен быте смысл.
— Если лезут, значит, есть смысл. Никто ведь не заставляет.
— Не густо, — крякнул Бояров. — И вы туда же. Приходят, знаете ли, к Танюшке друзья и часами сидят по углам, цедят сухое вино и молчат. Прелюбопытная картина. Кстати, вы заметили, что сейчас студенты наименее активны. Ни одной студенческой демонстрации, митинга. Пошевелятся немного и затихнут… Пытался с ними говорить — куда там! Посмеиваются, не зло, нет, а снисходительно. Мол, все нам известно. А позвольте узнать, откуда известно? Из книг да журналов? В жизни еще и осмотреться не успели… — Бояров с шумом вздохнул, выбил трубку о камень, тщательно выскреб спичкой остатки пепла и продул ее, раздувая щеки. — Простите за банальность, но мы совсем не такие были — огонь! В чем тут дело? Как-то пытался расшевелить — стихи свои читал. М-мда… Смотрят они на меня, как на марсианина, а у меня мурашки по спине, знаете ли… Бога ради не подумайте, что я осуждаю. Жизнь в наши дни круто поворачивается, поди разберись, куда вынесет. Но есть же вечные истины, интересы. Да, возьмите молодых поэтов — исчезли стихи о любви. Напрочь! Смех и грех, мы, старики, скрипим, пишем, а они не хотят!
Я слушал рассеянно, поглядывая то на палатку, то на домик. Арсен растопил печь, из гнутой металлической трубы клубами валил дым. Таня не появлялась. В траве возле палатки поблескивал никелем миниатюрный магнитофон, а на растяжках сушились трусики и лифчик — «обалденный купальник».
Я подумал, что у меня до сих пор не сложился цельный образ погибшего, и это обстоятельство сильно мешает делу. И, видимо, никто из присутствующих здесь, судя по их высказываниям, так и не понял, что же за человек был Тимур Салеев. Был. Странно, весь день крутятся в голове строки стихотворения.
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.
Небо еще было ярко-голубым, но уже обозначилась белая половинка луны, а на востоке перемигивались две едва заметные звезды.
Бояров, поднялся, предложил спуститься к реке. Я поблагодарил за приглашение и отказался. Василий Терентьевич, сопровождаемый собаками, зашагал по тропе, что-то напевая под нос, а может, это он декламировал или подбирал новую строку в стихотворении о нелепой смерти в горах.
Все складывалось превосходно. Оставалось провести, если, конечно, можно так выразиться, финальную часть расследования. И тут уж ошибаться нельзя.
Подойдя к палатке, я постучал камешком о металлическую стойку. Никто не отозвался, и мне почему-то показалось, что там никого нет. Только этого еще не хватало! Сердце запрыгало, и я, поспешно глянув по сторонам, нырнул в полумрак палатки.
Палатка была пуста. В душном воздухе угадывался едкий аптечный запах. Сидя на корточках, я некоторое время тупо созерцал раскрытую косметичку, зеркальце с едва заметной трещиной, шоколад* в мятой фольге, затем, выругавшись вполголоса, выбрался наружу.
Из-за камня выпрыгнул серый кот, дико фыркнул и, вздыбив шерсть, скачками помчался к кошу. Я двинулся за ним следом. Настроение заметно испортилось, хотя ничего особенного вроде бы и не произошло. Да-а… хорош профессионал, нечего сказать. Сидел рядом и не заметил, как девчонка выбралась из палатки. Но куда она, в самом деле, исчезла?
— Арсен! — позвал я, опершись на ограду.
Из дома не донеслось ни звука. Открыв калитку, я прошел во двор и постучал в дверь. Тишина. Издалека донесся приглушенный рокот обвала, и опять тишина до звона в ушах. «Ну, знаете, друзья, мы так не договаривались», — пробормотал я, рванув на себя дверь.
На пороге стоял Арсен и, вытаращив глаза, смотрел на меня. Был на нем драный свитер, рукава засучены до локтей, ладони выпачканы в муке.
— Почему не открывал? — сказал я.
— Занят был… — Арсен отступил, пропуская в дом. — У мен* дверь не закрывается, заходи, когда захочешь…
— Таня у тебя?
— Зачем ей быть у меня? Ужин приготовлю — всех позову. Далеко не расходитесь.
— Понятно, — кивнул я и механически посмотрел на часы.
Густой туман, медленно обтекая скалы, двигался вдоль речки. Некоторое время я шагал по пояс в сырой мути, с трудом различая тропу. Выбравшись наверх, отдышался, привалившись к шершавому стволу низкорослого дерева, застегнул куртку.
Подо мной клубился теперь уже неподвижный туман, и оттуда, снизу, застывая в неподвижном воздухе, доносился приглушенный гул реки.
В который раз я мысленно прокрутил события минувшего дня и от досады пнул трухлявый пень. Опять я ничего не понимал. Слишком много белых пятен. По этой причине легко рушится любое построение, основанное на малочисленных фактах и дополненное воображением. Что-то очень важное упускал я из виду. Но что именно, что?
Продравшись через кустарник, я спрыгнул с наклонной плиты на тропу и остолбенел.
Шагах в десяти от меня неподвижно лежал человек. Таня. Возле откинутой правой руки валялась пуховка.
— Таня! — с трудом выдавил я из себя и почувствовал, как на висках выступает испарина. Послышалось всхлипывание, девушка повернула голову, быстро поднялась и шагнула ко мне.
— Что вам еще нужно от меня? — сказала она глухо.
Я вытащил пятую за день сигарету, закурил, глядя на ледник в трещинах и изломах, еще хорошо видимый в сумерках. И только теперь я понял, что изрядно проголодался и устал. Вспомнился ужин, обещанный Арсеном. И как в эту минуту хотелось забыть обо всем, сесть в траву и бездумно смотреть на вершины гор или спуститься к реке, поговорить с Бояровым о какой-нибудь ерунде, а еще лучше — собраться всем у Арсена в доме, хорошо поужинать и потом сидеть молча, слушая, как потрескивают дрова в печи.
— Таня, — сказал я как можно строже. — Когда все легли спать, вы встретились с Тимуром… расскажите об этом и, пожалуйста, подробнее.
— А вам не кажется, что задавать такие вопросы неприлично?
— Татьяна Васильевна, — сказал я с расстановкой, — когда вам врач предлагает раздеться, вы тоже возмущаетесь? И потом… вы утром сказали неправду. А это был официальный допрос со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Но я готов забыть об этом недоразумении.
С минуту Таня стояла неподвижно, опустив голову, будто что-то разглядывала в траве, затем нагнулась, подняла пуховку, набросила на плечи.
— Вы думаете, Тимура убили? — спросила она тихо.
— Уверен.
— Извините, у меня все перепуталось в голове… Значит, так… Папа сразу уснул, а я долго лежала, спать совсем не хотелось, слышу чьи-то шаги, потом шепот Тимура — просит выйти. Я выбралась из палатки… И он тут же объяснился в любви, едва я подошла к нему. От неожиданности я рассмеялась, он, в самом деле, был очень смешной в эту минуту… какой-то всклокоченный, неловкий, в руке букетик цветов, мелкие такие, возле реки между камнями растут. И когда он их нарвал? Тимур внимательно посмотрел на меня, даже наклонился, чтоб лучше видеть лицо, и тоже засмеялся, попросил прощения за беспокойство, бросил цветы и пошел в сторону ущелья. Там его машина стоит. Я подумала, что он в такую темень поедет, и испугалась, окликнула его. — Таня прижала ладони к щекам. — Простите, у вас есть сигареты?
Она села на траву, обхватила колени руками. Я тоже сел рядом и протянул пачку. Сигарету она держала неумело, и после первой затяжки на глазах у нее навернулись слезы.
— Гадость какая! — сказала она, бросив сигарету. — Рассказывать дальше?
— Я слушаю…
— Арсен, — сказал я, глядя ему в глаза. — Расскажи, как все произошло.
Не знаю, на что я рассчитывал, но сомнений не было, что он скажет правду, более того, я почему-то был уверен — не приди я к нему, он бы сам разыскал меня и все рассказал. Минуты две сидели молча. Я ждал, спешить было некуда. Теперь некуда. Ну и денек выдался!
— Мы не были друзьями, — сказал Арсен, откашлявшись. — Мне не нравилось, что он привозил подарки… Что я, девушка? А весной уговорил съездить на неделю в дом отдыха, тут недалеко — хорошее место. Тимура встречали как дорогого гостя, министра, наверное, так не встречают — отдельные номера, какой ужин в ресторане, сауна в любое время, все, что угодно…
— Вы говорите, что не были друзьями, а Тимур, может, так не считал.
Арсен поднялся, прошелся взад-вперед, что-то бормоча
вг родном языке, затем сел к столу, разорвал пачку папирос, закурил. Густой дым вытягивался легким сквозняком в окно.
— Мы не были друзьями! — повторил он, и глаза его блеснули, но тотчас потухли. — Тимур приезжал ко мне, спрашивал, как дела, сколько овец пригнали, в какое время приезжают заготовители, что-то записывал в книжке. Я спросил — зачем, говорю, тебе это знать? Он засмеялся, сказал, что хочет стать писателем, написать роман о скромных тружениках чабанах… Вчера, когда остались вдвоем, он рассказал, как можно украсть много овец, и никто ничего не поймет. Я сказал — не шути. Тогда он сказал, что все так делают. Обещал много денег. Зачем мне его деньги?
— Значит, вы не согласились.
— Не согласился.
— Теперь объясни, зачем следил за Тимуром ночью. Возле скалы.
Арсен, казалось, не расслышал вопроса, сидел неподвижно, и только веки слегка подрагивали.
За окном послышались приближающиеся голоса. Обиженно бубнил Бояров, монотонно так, будто в нем что-то заело. «Ну, вот что, папочка, — сказала Таня срывающимся голосом. — Надоело! Никогда больше ни о чем говорить не буду». Голоса смолкли. Арсен поднял голову.
— Ты есть хочешь… — сказал он, делая движение к плите. — Там мясо, лепешки.
— Не отвлекайся, Арсен, — сказал я жестко.
— Не буду… Хорошо. Я Тимуру сказал, что не хочу больше слушать, а он стал смеяться. «Ты злишься, — говорит, — из-за Тани. Зачем следил? Напугал девушку». Сам не знаю, зачем пошел за ними, с головой что-то случилось, наверное. Мне Таня понравилась, и она сначала мне симпатизировала! — Арсен ударил кулаком по столу. — Ну, зачем он приехал, зачем? Когда он сказал про Таню, мы чуть не подрались. Только я успокоился, он опять про овец. Говорю — замолчи, будем спать. Тимур опять засмеялся, назвал меня глупым ребенком, а потом оскорбил… В моем доме! Назвал дураком и трусом. Скажи, такое можно терпеть?
— Нельзя, — согласился я и, поднявшись, подошел к окну, открыл.
Было уже темно, в небе холодно искрились звезды, отчетливо вырисовывался Млечный Путь. «А мы человечки маленькие, откуда взялись, куда исчезнем?» Не такие уж мы маленькие, слишком много в нас всякого. И непонятно, хорошо это или плохо.
Я закрыл окно и вернулся на свое место.
— Тимур оскорбил тебя. И что же ты сделал?
— Выставил его сумку за дверь, сказал, чтоб убирался куда хочет. Он не послушал. Ладно, говорит, будем спать, надоел ты мне. Тогда я, чтоб напугать, зарядил ружье. Тимур ничего не сказал, не помешал мне, только посмотрел как-то так… Мы вышли, он — впереди, я — за ним. Подошли к тропе… Тимур вдруг повернулся, схватил руками ружье и сильно дернул, хотел
вырвать. Я совсем не ожидал, потому что хотел уже вернуться домой. Никак не пойму, почему палец оказался на курке… Ружье выстрелило, Тимур упал и покатился вниз, а я бросил ружье и пошел в дом. Совсем себя не помнил. Недолго посидел здесь. — Арсен показал на топчан. — Совсем недолго… и вышел. Прибежала
Таня. Я хочу спросить. — Арсен закрыл лицо руками. — Почему ты мучил меня целый день? Таня ведь все рассказала…
— Нет, Арсен, она могла только догадываться.
— Догадываться… наверное, пожалела меня. — Он замолчал, глядя в стену. — Но я же только хотел, чтоб он ушел! Зачем мне было стрелять? Понимаешь, Тимур сильно так дернул, у меня палец застрял, и ружье выстрелило.
На лице его я не заметил следов сожаления или страха. Вспомнился университет — лекции, семинары, уголовное право, Уголовный кодекс, предписания, инструкции, криминалистика. Все расписано по пунктам, как движение курьерского поезда — отправление, промежуточные станции, прибытие в пункт назначения. Только вот беда — в уголовной практике не бывает общих решений, универсальных построений следствия. Любое уголовное дело — всегда частный, единственный и неповторимый случай. Странно, что по-настоящему я это понял лишь сегодня.
— Ты мне веришь? — сказал Арсен, глядя исподлобья. — Или думаешь, что я так хотел…
Он долго еще говорил, путая от волнения слова, жестикулируя, потом замолчал, обхватив голову руками. Стало слышно, как потрескивают дрова в печи.
— Арсен, — сказал я, поднимаясь. — Мне необходимо обыскать тебя.
Он вздрогнул и медленно поднялся из-за стола.
Покончив с формальностями, я вышел из дома, набросил на плечи куртку. Я не знал, что делать дальше, и мне не хотелось видеть удивительную по красоте панораму гор в холодном лунном свете.
Авторы

Роман Викторович РОМАНЦЕВ родился в 1952 году. Окончил педагогический институт. В 1984 году в издательстве «Современник» вышла его первая и пока единственная книга прозы.
Живет в Серпухове.

Владимир Викторович КОНДРАТЬЕВ родился в 1948 году. Окончил Донецкий политехнический институт. Автор сборника рассказов «Надежная кровля», вышедшего в издательстве «Донбасс».
Живет в Донецке.
Николай Гацунаев
Григорий Ропский
ДЕЛО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Невыдуманные рассказы

 Предисловие
Предисловие
Борис Ильич Булатов, дальнозорко щурясь, пробежался взглядом по корешкам папок, аккуратно выстроившихся на полке стеллажа, отыскал нужную. Достал и протянул мне. Улыбнулся, видя мое недоумение.
— Здесь ответ на вопрос, почему вашу книжку следует назвать «Дело уголовного розыска». Это выписки из письма Центррозыска РСФСР местным Советам страны.
В папке было всего несколько машинописных страниц. «Дело уголовного розыска в России, — прочитал я, — бывшее при царском режиме в суровых тисках жандармерии и полиции, конечно, не могло быть поставлено на той желательной высоте, на которой должна находиться эта в высшей степени важная для каждого цивилизованного государства деятельность… Настало время поставить деятельность сыска на научную высоту, создать кадры действительно опытных сотрудников, научных специалистов… и обставить деятельность сыска так, чтобы ни тени подозрения не падало на доброе имя деятеля уголовного розыска, охраняющего нравственность и устои государственности».
— А теперь взгляните на дату, — вывел меня из задумчивости голос Булатова. — Письмо поступило в Ташкент в октябре 1918 года. Представляете себе, какое это было время?
Я попытался представить. Разруха, голод, гражданская война, интервенция. Молодая Республика Советов окружена кольцом фронтов. И отрезанная от нее и тоже задыхающаяся в огненном кольце фронтов — Туркестанская Республика.
Каким же мужеством, стойкостью, находчивостью, преданностью делу революции должен был обладать курьер, доставивший из Москвы в Ташкент это письмо!
— Догадываюсь, о чем вы думаете, — кивнул Булатов. — Феликс Эдмундович умел подбирать людей.
— Феликс Эдмундович? — переспросил я.
— Разумеется. Именно он стоял у самых истоков оперативной работы милиции. Вы что, не догадались по стилю, чье это письмо?
Я еще раз, теперь более внимательно перечитал машинописные страницы. Булатов был прав, — чувствовалась рука Дзержинского.
— Знаете что? — неожиданно сменил тему разговора Булатов. — Давайте встряхнемся! Прогуляемся. Воздухом подышим. Поглядим на весенний Ташкент. Погодка-то стоит что надо: май на дворе.
— Давайте, — охотно согласился я.
С Борисом Ильичом Булатовым нас связывала давняя дружба. Полковник в отставке, в прошлом начальник уголовного розыска республики, он сочетал в себе такие качества, которыми я не переставал восхищаться, еще когда мы работали вместе, и которые продолжает восхищать меня и теперь, когда он уже давно находился на заслуженном отдыхе и, казалось бы, мог позволить себе расслабиться. Подтянутый, собранный, целеустремленный, готовый в любую минуту молниеносно принять единственно верное в данной конкретной ситуации решение, он говоря газетным языком, «По-прежнему оставался в строю, на боевом посту». Отчасти так оно и было: к Борису Ильичу часто обращались за советом и консультацией работники уголовного розыска. Он преподавал в школе милиции, выступал с докладами на совещаниях, семинарах, курсах работников министерства внутренних дел.
Домашнему архиву Булатова по истории уголовного дела можно было искренне позавидовать, но куда более уникальным архивом была его поистине великолепная память. Хранящиеся в ней события, несмотря на определенную субъективность и эмоциональную окраску, были абсолютно достоверны и изобиловали множеством штрихов и деталей, как правило, остающихся за бортом даже самого тщательного и скрупулезного следствия. Не случайно, задумав написать книгу о работниках уголовного розыска Узбекистана, я уже первый вариант рукописи принес на суд Борису Ильичу.
Не дойдя до Сквера революции, мы спустились в метро и, проехав две станции, вышли на площади Дружбы народов.
Перед киноконцертным залом вокруг скульптурной группы, изображающей супругов Шамахмудовых в окружении целого взвода многонациональной ребятни, толпились туристы. Загорелый до черноты мальчуган в потрепанных шортах и безрукавке вскарабкался на постамент, деловито пощекотал бронзовую пятку одного из шамахмудовских воспитанников и ужом скользнул вниз под смех и улыбки туристов.
— Какое кощунство, — возмутилась стоявшая неподалеку от нас пожилая женщина в джинсовой юбке, шелковой кофточке и белой панаме.
— Простите? — Булатов галантно приподнял летнюю шляпу и слегка поклонился. — Чем вы расстроены?
— А вы можете спокойно смотреть на такое святотатство? — Женщина метнула в него негодующий взгляд. — Хотела бы взглянуть на родителей этого маленького хулигана!
— Так уж и хулиган, — усомнился Борис Ильич.
Я наблюдал разговор, сохраняя нейтралитет.
— А то кто же? — она говорила неплохо по-русски, только с ударениями было не все в порядке.
— Обыкновенный озорник.
— Вы находите?
— Конечно. — Булатов пожал плечами. — можно подумать, вы никогда не были ребенком.
— Была, — улыбнулась женщина. — Бог мой как же это было давно!
— И далеко отсюда.
— Что? — Она недоуменно взглянула на собеседника. — Откуда вам это… Хотя… — Женщина оглянулась на группу туристов, оживленно переговаривающихся между собой не то на чешском, не то на польском языке, понимающе улыбнулась. — Я все поняла, пан всезнайка.
Булатов тоже улыбнулся, внимательно всматриваясь в лицо незнакомки.
— Вы прекрасно владеете русским, пани Ядвига. Признаюсь, у меня глаза полезли на лоб от удивления.
Туристка же начисто лишилась дара речи и несколько мгновений, приоткрыв рот, молча таращилась на Булатова.
— Вы меня знаете? — выдохнула она наконец.
— Разумеется, пани Бельская. Вы ведь почти всю войну прожили здесь, в Ташкенте?
— Да. — Она продолжала смотреть на него с нескрываемым изумлением. — Но вам-то откуда это известно?
— Бывал на ваших концертах, — уклонился от прямого ответа Борис Ильич. — Вы все еще выступаете?
— Увы! — вздохнула она и развела руками. — Возраст.
— Ну, не скажите, — возразил Булатов. — Клавдия Шульженко в вашем возрасте продолжала петь.
— Правда? — искренне удивилась Бельская.
Между тем туристы, вдоволь налюбовавшись архитектурным ансамблем, потянулись вслед за гидом к стоявшему поодаль интуристскому автобусу.
— Мне пора, — с явным сожалением произнесла Бельская.
— Признаюсь, вы меня… — Она запнулась, подыскивая нужное слово. — …Огорошили. Я правильно выразилась? — Вполне, — усмехнулся Булатов. — Вам было неприятно?
— Совсем наоборот. — Бельская покачала головой. — Просто я не ожидала, что меня здесь хоть кто-то помнит. Столько лет спустя.
— А вы часто вспоминали Ташкент?
— Еще бы! — Она улыбнулась. — Здесь прошла моя юность. То было трудное, суровое время, хотя тогда я этого до конца не понимала. Поняла много позже… Поверьте, все, что связано с теми годами, для меня священно. Может быть, потому меня так и расстроил этот проказник… До свиданья. Я рада, что встретилась с вами.
— До свиданья, Ядвига Станиславовна.
Мы обменялись рукопожатиями, и Бельская торопливо зашагала к «Икарусу». Поравнявшись с ним, она оглянулась и помахала рукой.
— Вот так, дорогой мой, — констатировал Борис Ильич, провожая взглядом автобус. — Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Кто мог подумать, что именно сегодня я встречу Ядвигу Бельскую.
— Кто она такая? — спросил я. Булатов укоризненно взглянул на меня и покачал головой.
— Уж вам-то следовало о ней знать.
— Вот как?
— Напрасно иронизируете. Бельская так и просится в персонажи вашего рассказа «Мадам Гриша». И то, что там ее нет, на мой взгляд — серьезное упущение…
Он подождал, затем продолжил.
— Ядвига Бельская — известная в те годы варшавская певица. И здесь в Ташкенте ее выступления пользовались неизменным успехом. Польские офицеры так и вились вокруг нее. Было ей тогда лет двадцать с небольшим. Она жила в гостинице «Националь». Как говорится, горя не ведала, а вот гляди-ка «кощунство, святотатство» Кто бы мог подумать!
— Время всему учит, — сказал я и тотчас пожалел.
— То-то и оно, что всему! — вздохнул Булатов. Помолчал и добавил:- А в книгу пани Бельскую все же включите.
— Постараюсь, — пообещал я, мысленно прикидывая, как это сделать.
УГОЛ ПАДЕНИЯ
— Я думаю, мадам, рюши вам больше к лицу, чем оборки. От них вниз пойдет планка для застежки и у талии мягко скроется под плиссировкой… Это лучше, я сказал бы выгодней, очертит вашу фигуру…
— Да, кажется, вы правы. В прошлый раз я послушалась вашего совета и всем друзьям тогда понравилось мое новое платье…
Такие или примерно такие разговоры можно было услышать в доме на Стрелковой улице, третьего от угла, если свернуть с улицы Тараса Шевченко. Здесь жил известный в Ташкенте дамский портной Гурген Амаякович Абромян, личность примечательная уже хотя бы потому, что будучи мужчиной, шил женскую одежду, причем не только пальто, плащи и костюмы — тут он на приоритет рассчитывать не мог — но и платья, а это занятие, как известно, всегда было монополией женщин-портних.
Однако Абрамян был одним из тех мужчин, который не смущал заказчиц примерками, был всегда подчеркнуто вежлив и корректен. Измерив сантиметром ширину плеч и талию, он мог одним взглядом определить объем груди и бедер и никогда при этом не ошибался.
Всех клиенток он внимательно выслушивал, быстро улавливал их вкус и пожелания, подлаживался под их настроения, и никогда не навязывал своих предложений. Получалось, что заказчица уходила от Абрамяна в полной уверенности, что фасон платья — плод ее собственной фантазии.
Заказчицы фамильярно называли его не по имени, не по фамилии, а дружески-покровительственно «Мадам Гриша».
Шел декабрь 1941 года. Приток эвакуированных в Ташкент не прекращался. Трудно было с жильем, с питанием, с топливом. Только сердечная доброта, щедрость и гостеприимство местных жителей спасали тысячи и тысячи женщин, детей, стариков… Поступали десятки эвакуированных из западных областей страны предприятий, их надо было принять, построить цеха, смонтировать оборудование, пустить в ход, разместить и создать хотя бы минимально необходимые условия для рабочих, инженеров, пополнить кадры для быстрейшего выпуска промышленной продукции, необходимой фронту, стране.
Город, республика, вся страна жила одним напряженным трудовым порывом — все для фронта, все для победы!
В этих условиях «гешефт» Мадам Гриши, казалось бы, должен был захиреть: живущим впроголодь людям было не до красивой и дорогостоящей одежды. Однако портной процветал. Сказывались реклама, которую он успел себе сделать в предвоенные годы, вежливость, обходительность и умение быстро сходиться с людьми. Он не только до тонкостей знал свое дело, но и безошибочно выбирал нужных клиенток. Так, он практически даром шил и перешивал платья обретавшейся в то время в Ташкенте звезде варшавской эстрады польской певице Ядвиге Бельской, чей гардероб и манеры служили в определенном кругу образцом для подражания. Заказать платье портному, который обшивает Ядвигу Бельскую, считалось последним криком моды. Понятно, что приверженцев этой моды было в Ташкенте не так уж и много: в основном это были прибывшие в общей массе эвакуированных деляги, мелкие предприниматели, просто темные личности, а порою и уголовные элементы из недавно присоединенных к СССР западных областей Украины, Белоруссии и Прибалтийских республик. Привыкшие к легкой жизни за счет нетрудовых доходов, они старались и в необычных условиях вести привычный образ жизни, не отказывая себе ни в чем. Именно в этой людской прослойке и черпал своих клиенток Мадам Гриша.
В июле 1941 года в Лондоне было подписано соглашение между правительством СССР и польским эмигрантским правительством о взаимной помощи и поддержке в войне против гитлеровской Германии. Наше правительство выражало согласие на создание воинских подразделений из числа солдат и офицеров польской армии, оказавшихся на территории СССР после разгрома Польши фашистской Германией.
В декабре 1941 года в связи с посещением СССР генералом Сикорским, возглавлявшим эмигрантское правительство Польши в Лондоне, была подписана советско-польская декларация. Был определен контингент польской армии в СССР до 96 тысяч человек и удовлетворена просьба польской стороны о переброске армии на юг, «В теплые края», для облегчения подготовки частей и соединений к быстрейшему выступлению на фронт.
Войска под командованием генерала Андерса были расквартированы под Ташкентом. Рядовой состав содержался на казарменном положении. Зато командная верхушка, окружавшая Андерса, и офицеры «Польской двойки» были завсегдатаями Ташкента. Этими же привилегиями пользовалась шляхетская аристократия, бывшие пилсудчики, жандармы, чиновники, враждебно настроенные против Советского Союза, а также коммерсанты и спекулянты, старавшиеся использовать в интересах личного обогащения всякого рода дельцов и валютчиков из местного населения и эвакуированных, доставивших сюда золото и ценности, нажитые бесчестным путем… И не только для этого
…Квартиру Абрамяна стали посещать не только дамы-заказчицы, но и польские офицеры. Правда, в этих случаях, офицеры почему-то оказывались одетыми не в щегольские мундиры своей армии, а в обыкновенную одежду граждан среднего достатка… Причем, это были не строевые офицеры, а чины второго отдела штаба Андерса.
Зачем они приходили к «Мадам Грише»? Уж, конечно, не для пошива дамской одежды. Они появлялись обычно вслед за посещавшими Абрамяна ничем не выделяющимися штатскими лицами, когда в одном из трех окон домика, обращенных в сторону улицы, появлялся сигнал — на подоконник выставлялся цветок примулы в коричневом горшке. Это означало: «все в порядке, можно заходить…»
За крупное вознаграждение поручик Войцех Лещинский, отлично владевший русским языком, уговорил Абрамяна разрешить ему и капитану Яну Вержбицкому тайно встречаться в его домике с интересующими их людьми, разумеется, «во имя победы над врагом, во имя свободной Польши…»
Домик Абрамяна, состоявший из трех комнат, обширной передней, кухни с кушеткой для домработницы и террасы в сторону двора, устраивал офицеров «двойки». Входить можно было с улицы через парадную дверь, а уходить — через садик и проходной двор на соседнюю Чимкентскую улицу…
Нет, не во имя «победы над врагом, не во имя свободной Польши» устраивались эти встречи. Офицеры «двойки» собирали шпионские сведения в интересах врагов Польши и Советского Союза. Они интересовались заводами, фабриками, выпускающими оборонную продукцию, военными учреждениями, расположенными в Ташкенте, передвижением войск. Но об этом стало известно много позже…
Внешне Гурген Абрамян жил спокойной, размеренной жизнью. Когда-то у него была жена, тихая скромная женщина. Она мечтала о детях, но их не хотел глава семьи.
Она умерла за несколько лет до войны. А перед самой войной умерла ее мать, продолжавшая жить у зятя в качестве поварихи и уборщицы.
Соседке, которая ухаживала за ней при молчаливом безразличии зятя, она говорила: — Это изверг, страшный человек, ужасающий скряга. Это он свел в могилу мою единственную дочь… Мучил всю жизнь, попрекал куском хлеба, закатывал скандалы из-за каждой истраченной копейки.
Именно жадность, тяга к стяжательству и привели Абрамяна в руки офицеров «Польской двойки». На службе у них он проявил себя надежным конспиратором, верным исполнителем их воли…
Уже к весне 1942 года среди офицеров армии Андерса распространились слухи о том, что эмигрантское правительство в Лондоне приняло решение отказаться от борьбы с фашизмом на советско-германском фронте и вывести армию Андерса из Советского Союза на Ближний Восток в распоряжение британского командования.
А затем, один за другим стали уходить из СССР в Иран и дальше эшелоны с польскими войсками…
Перед уходом одного из последних эшелонов произошло событие, которое никто и не подумал связать с выводом армии Андерса за пределы СССР. Тогда для этого не было никаких оснований.
Джип с поднятым верхом выбрался из пригорода и, набирая скорость, помчался по дороге на Ташкент. Шофер был одет в форму польского военнослужащего. Двое сидящих позади него пассажиров — в гражданском, судя по выправке, тоже были военными.
— Войцех, — первым нарушил молчание старший из пассажиров.
— Слушаю, пан капитан!
— Вы чем-то недовольны?
— Чем я могу быть недоволен, пан капитан?
— Ну, хотя бы тем, что мы уходим в Иран.
— Ничуть, пан капитан. Это по крайней мере лучше, чем фронт.
— Вы тоже так считаете, Юзеф?
Вопрос застал шофера врасплох.
— Не могу знать, пан капитан.
— Вы разве не патриот Польши? — ехидно поинтересовался второй пассажир.
— Так точно, пан поручик. Патриот.
Шофер не отрывал глаз от дороги.
— Оставьте его в покое, Войцех. Солдат делает то, что ему прикажут. На то он и солдат. Вы хотите что-то сказать, Юзеф?
— Никак нет, пан капитан.
Впереди показалась колонна груженых автомашин. Под брезентом трудно было определить, что именно находится в кузовах, но офицеры многозначительно переглянулись и все время, пока колонна проходила мимо, внимательно всматривались в каждый грузовик.
В Ташкенте джип остановился на Жуковской, неподалеку от вокзала. Офицеры вполголоса посовещались между собой. Затем тот, которого называли капитаном, выбрался из машины и, не оборачиваясь, зашагал в сторону вокзала.
— Поезжайте прямо, Юзеф, — приказал поручик. Шофер молча тронул машину с места. Через пару кварталов поручик велел свернуть налево и, когда джип поравнялся со Стрелковой, приказал остановиться.
— Поезжайте за водкой, — сказал он, протянув шоферу пачку денег. — Заскочите на базар за зеленью. Через два часа жду вас вон в том доме. Ясно? Впрочем, погодите уезжать.
Шофер кивнул. Поручик вылез из машины и с саквояжем в руке подошел к дому, о котором только что говорил шоферу. От калитки оглянулся и кивком дал шоферу понять, что тот может ехать.
Когда два часа спустя шофер постучал в калитку из дома на стук вышел сначала пожилой сутуловатый мужчина невысокого роста с угрюмым, явно кавказского вида лицом. Увидев шофера, молча кивнул и опять скрылся за дверью.
Появившийся вслед за этим поручик был уже явно навеселе.
— Привез? Молодчина! — Забрав два полных бумажных пакета, мотнул головой в сторону перекрестка. — Отгоните туда машину и ждите. Есть хотите?
Шофер был голоден, но отрицательно покачал головой. — Тогда ждите, — повторил поручик и ногой отворил калитку. Ждать пришлось довольно долго. Уже смеркалось, когда на улицу наконец вышли капитан с поручиком и с ними девушка в элегантном шелковом платье и туфлях на высоких каблучках.
Оглянувшись на калитку, она помахала рукой и что-то крикнула. Что, шофер не расслышал, разобрал только «Мадам Гриша» и удивился так как маячившая за калиткой фигура принадлежала явно мужчине.
Подъехав шофер окончательно убедился, что был прав: возле калитки стоял давешний угрюмый кавказец. Одно из окон дома было открыто настежь и за тюлевой занавеской наигрывал патефон.
Гости в отличии от хозяина были изрядно навеселе, громко переговаривались между собой, шутили и смеялись. — Поедем ко мне, Янек. — обратилась девушка к капитану. — Я сегодня свободна, посидим у меня в номере, вспомним Варшаву…
Капитан взглянул на часы.
— Ну что ж, час в нашем распоряжении, пожалуй, есть. Как вы считаете, Лещинский?
— Все полтора! — выпалил поручик. Капитан поморщился и распахнул дверцу.
— Прошу пани Ядвига!
Теперь шофер узнал ее. Это была варшавская певица Ядвига Бельская.
— В гостиницу «Националь»! — скомандовал капитан, усаживаясь рядом с певицей. Поручик устроился на переднем сидении и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:
— Саквояж!
— Идиот! — мгновенно протрезвев, процедил сквозь зубы капитан. — Вам что, его цепью к руке приковывать надо?!
— Прошу прощения, пан капитан. Запамятовал, — пробормотал поручик, вываливаясь из машины.
— Насколько я понимаю, Янек, — язвительно заметила Бельская, — речь идет о саквояже с консервами, которыми вы обещали меня одарить?
— Консервами? — недоуменно переспросил капитан и тотчас спохватился. — Да, конечно, пани Ядвига. Не такое теперь время, чтобы разбрасываться продуктами. И все же стоило ли так горячиться из-за нескольких банок американской тушенки?
— Вероятно, вы правы. — Вержбицкий выглянул из машины. — Я действительно перегнул палку. Но порядок есть порядок. На то мы и военные. Ну что? — Вопрос относился к поручику. Тот распахнул дверцу и поставил злополучный саквояж между сиденьями. В саквояже что-то приглушенно звякнуло.
— Все в порядке, пан капитан. Можете не тревожиться. — И в ответ на не по ученный взгляд Вержбицкого добавил: — Прихвати пару бутылок коньяка. — Поручик хохотнул. — Мадам Гриша не обеднеет. Едем?
— Едем! — буркнул капитан. Машина тронулась. — Я, кажется, наговорил лишнего, пан поручик. Прошу извинить.
— Ерунда! — отмахнулся Лещинский. — А знаете, чем был занят наш портняжка? Пересчитывал деньги у открытого сейфа! Вылитый скупой рыцарь.
— Сейфа? — изумился капитан. — У этого скряги есть сейф? Есть, — кивнул поручик. — Старинной работы. Вместительный, как шифоньер. Теперь такие уже давно не делают.
— И где же он его прячет?
— В стенном шкафу, за одеждой. Видели бы вы его лицо, когда он меня узрел! С перепугу даже денег за коньяк не взял.
— Вот вам и скупой рыцарь! — рассмеялась певица. На шофера никто из них не обратил внимание. Он для них не существовал.
Вечером следующего дня капитан Вержбицкий вызвал к себе шофера.
— Поедете в Ташкент. Юзеф. По пути захватите с собой хорунжего Михальского и подхорунжего Плашкевича. Они ждут вас в казарме. Выполняйте все распоряжения Михальского. Вы меня поняли?
— Понял, пан капитан.
— Ступайте, Юзеф.
— Можно вопрос, пан капитан?
— Я слушаю.
— Мы уходим на фронт?
— Не терпится схватиться с немцами? — усмехнулся Вержбицкий. — Такая возможность вам представится. А пока что мы перебазируемся на Ближний Восток. Есть еще вопросы?
— Нет.
— По-моему вы что-то не договариваете.
— Нет, пан капитан. — Лицо шофера было бесстрастно. — мне все понятно. Разрешите идти!
— Идите, Якубович.
Капитан проводил его взглядом до двери, сел за стол и задумался. Потом досадливо поморщился, махнул рукой и, достав из ящика стола папку с документами, углубился в их изучение.
Заказчицы Абрамяна в течении трех дней не могли застать его дома. Небывалое событие! Он всегда отличался пунктуальностью и уж что-что, а заказы выполнял в срок.
— Что могло случится с Мадам Гришей? Ума не приложу! — сказала одна заказчица другой.
— Очень даже странно! — ответила та. — Может он заболел?
Спросили у соседей. Те не могли сказать ничего определенного.
Одна из заказчиц — Ида Яковлевна Брукис — обратилась в отделение милиции. На место был отправлен дежурный наряд. Дверь с улицы была заперта на ключ. Дверь на террасу закрыта на внутренний крючок. Однако соседнее с ней окно было только прикрыто…..
Оперуполномоченный уголовного розыска Сидоров влез в квартиру через окно открыл дверь, выходившую на террасу. Страшная картина предстала перед работниками милиции. Абрамян был мертв. Смерть наступила в результате удушения, однако предварительно его явно пытали. Лицо погибшего было изуродовано до неузнаваемости.
Кругом лежали разбросанные вещи. У кухонной плиты справа была поднята доска пола и сделан небольшой подкоп под плиту, откуда, вероятно, и были извлечены злоумышленниками спрятанные хозяином ценности. Это подтверждалось обнаруженной на полу, рядом с поднятой доской золотой пятирублевой монетой…
Преступники унесли все ценности, а также отрезы, оставленные заказчицами. Шкаф, в котором они хранились, был пуст.
Пуст был и сейф, замаскированный в платяном шкафу. Дверца раскрыта, в замочной скважине торчал ключ.
На столе возле тарелки с остатками салата стояла початая бутылка спирта и еще пустые бутылки из-под французского коньяка. Судя по количеству фужеров и вилок, грабителей было двое.
Экспертиза дала заключение, что смерть Абрамяна наступила за трое суток до обнаружения трупа…
Прошло четыре года. Много версий было отработано в интересах раскрытия этого преступления. Проверяли вероятных убийц. Арестованных по другим делам допрашивали с учетом возможной их причастности к убийству. Ориентировали места лишения свободы с просьбой выяснить, не причастен ли кто-то из осужденных за другие тяжкие преступления к настоящему делу…
Дело переходило из года в год в числе «нераскрытых убийств прошедших лет». К нему не привыкли, о нем думали, над ним работали. В уголовном розыске дела по раскрытию тяжких преступлений не предаются забвению.
Наступил 1946 год…
И вдруг звонок по телефону начальнику уголовного розыска республики полковнику Туманову.
Звонят из первой горбольницы. Врач кардиологического отделения Хамидов.
— Товарищ полковник, пришлите, пожалуйста, кого-нибудь из ваших работников… По-моему, это по вашей части… Да-да, подробности узнаете здесь.
«Что там у них могло случиться» — подумал Туманов, поднимая трубку внутреннего телефона.
— Срочно Разумного ко мне. Жду.
Туманов опустил трубку на рычажки, но еще некоторое время не выпускал ее из пальцев, сосредоточенно глядя прямо перед собой. В дверь постучали.
— Войдите. — Полковник встряхнул головой и только теперь снял руку с телефонного аппарата. — Такое дело, Александр Александрович, звонили из первой городской больницы. Знаете, где это?
— На Иски-Джува?
— Да. Так вот поезжайте туда. Разыщите врача Хамидова.
— Его встретил молодой человек, с интересным интеллигентным лицом и выразительными глазами.
— Вы из уголовного розыска?
— Да. — Разумный предъявил удостоверение.
— Я — Хамидов. Пойдемте.
В свежевыбеленном кабинете заведующего кардиологическим отделением навстречу им поднялась из-за стола немолодая, красивая женщина.
— Хайдарова, — представилась она, пожимая руку Разумного. — Дело вот в чем. Четыре дня назад в отделение поступил больной Юзеф Якубович. Инфаркт миокарда. Мы боремся, делаем все… А он волнуется, твердит одно и тоже: «вызовите уголовный розыск… Мне надо заявить».
Она помолчала, поправила белоснежную шапочку на голове и продолжила:
— Посоветовались с профессором Бахадыровым. Он сказал: «Медицина должна сделать все, что бы больной был спокоен, чтобы была создана обстановка, способствующая его выздоровлению». Вот мы и решили вас пригласить.
— Что известно о больном?
Юзеф Янович Якубович, 1897 года рождения, слесарь автобазы, уроженец Белоруссии, поляк… — прочла она выдержку из истории болезни.
— Понятно, — Разумный встал. — Не будем терять время. Думаю, что в беседе следует принять участие и начальник доктор Хамидов. Придется засвидетельствовать состояние больного…
На небритом, сухощавом лице больного засверкали глаза, когда врач представил ему работника уголовного розыска.
— Здравствуйте. Я готов выслушать вас, — сказал Разумный, садясь на стул. Приготовил бумагу и авторучку. Больной закрыл глаза. Через несколько секунд открыл их и произнес:
— Спасибо, что пришли. Слава божьей матери, что привела вас сюда. Хочу рассказать о себе, о моих прегрешениях. И о врагах, которые еще топчут вашу землю. Вашу и мою…
Он судорожно глотнул. Хамидов мягко взял его руки и стал щупать пульс.
— Нет, доктор, не волнуйтесь, я буду спокоен… Так вот, я родился в Западной Белоруссии. Окончил русскую школу. Отец был труженик. Честный человек. А потом… — Якубович помолчал, собираясь с мыслями.
Разумный вопросительно взглянул на врача, тот молча кивнул и отпустил руку больного. Якубович, казалось, даже не заметил этого.
— В общем, при диктатуре Пилсудского нам вколачивали в головы, что русские — враги поляков, что Советская Россия угрожает Польше, ну и так далее. За словами пошли дела. Началась травля, аресты, расправы над русскими. Отец не выдержал, вступился за соседа.
Забрали обоих, и больше мы отца не видели. А потом меня призвали в армию. Началась война с Советской Россией…
Больной опять судорожно глотнул и зажмурился. За окном прогромыхал грузовик. Якубович открыл глаза и глубоко вздохнул. Демобилизация. Возвращение домой. Бесконечные мытарства. Семья бедствовала, жили впроголодь. Казалось, хуже ничего быть не может… Но пришел тридцать девятый год. Германия напала на Польшу. Во время одной из бомбежек моя семья погибла…
— Говорите о главном, — мягко попросил Разумный. — Не отвлекайтесь на воспоминания.
— К началу нападения Германии на СССР мне сказали: ты поляк, можешь вступить в армию Андерса, будешь воевать против немцев. И я пошел. Служил шофером при штабе армии Андерса… Не раз возил капитана Вержбицкого и поручика Лещинского в Ташкент, в дом на Стрелковой улице. Чаще всего они были в штатском. Почему — я тогда не знал. Он помолчал.
— Знаете, что было в том домике? Там офицеры встречались со своими людьми. О чем они говорили, я понятно, не знал. Догадывался, но полной уверенности не было. Понял, когда узнал, что мы воевать рядом с русскими не будем, а уедем к англичанам на Ближний Восток.
Он опять замолчал, закрыл глаза и откинулся на подушку. Разумный вопросительно взглянул на врача, но больной заговорил опять:
— А мне не хотелось уезжать из Советского Союза. Я хотел воевать против фашистов. Перед самым отъездом мне пан капитан сказал, что я вечером повезу в Ташкент хорунжего Михальского и подхорунжего Плашкевича. Все должны быть в штатском… Буду ждать их, где укажут, хоть до утра, если будет нужно. А потом должен их привезти в целости и сохранности. И вот, я их повез обратно глубокой ночью. Михальский успел подвыпить, он это любил. И тогда начинал болтать обо всем, что приходило в голову.
С того самого момента, как больной Якубович произнес слова «домик на Стрелковой», Разумный насторожился и старался не пропустить ни единого слова.
— И вот я уловил слова Михальского: «…отмаялся наш друг! Вечная ему память! Вещички нам пригодятся, а золото придется отдать пану капитану…» И я понял, что совершено преступление, соучастником которого я невольно стал…
— Может быть, закончим беседу? — сказал врач. — Вы устали, больной.
— Нет, нет, я не рассказал самого главного! — быстро ответил тот. — Через два дня у меня резко повысилась температура. Пан доктор сказал: в больницу, в инфекционную больницу! У меня оказался сыпной тиф. Был между жизнью и смертью полтора месяца. А когда меня выписали, в Янгиюле штаба Андерса уже не было.
Эшелоны с войсками ушли…
Обрадовался. Хотел поступить в Красную Армию. Не взяли. Сказали — иностранный подданный. Потом хотел поступить в польскую дивизию имени Костюшко — сломал ногу, не взяли… Устроился на работу, получил жилье. Добился советского гражданства… Все хотел пойти заявить о словах Михальского. Но кого и где будут искать?.. А потом…
— Что потом? — спросил Разумный.
— Пять дней назад, вечером, возвращаясь с работы, я встретил… Михальского! Того самого Михальского! Он меня не узнал. Я сперва растерялся, ну а потом проводил его издали. Вошел он в дом номер 14 по Первому Кафановскому переулку…
Разумный быстро записывал.
— Я решил. Не теряя времени сообщить о Михальском в органы милиции. Побежал… И больше ничего не помню.
Очнулся уже здесь.
Разумный поверил словам Якубовича. Он знал, что после предательской акции польского эмигрантского правительства распорядившегося о выводе из СССР армии Андерса через Иран на Ближний Восток в распоряжение британского командования. Находившиеся в СССР польские коммунисты и другие демократически настроенные поляки объединились в «Союз польских патриотов» и с разрешения Советского правительства создали 1-ю польскую пехотную дивизию имени Тадеуша Костюшко и другие польские соединения. Это позволило к весне 1944 года создать из них 1-ю Польскую армию в СССР, которая бок о бок с Красной Армией громила гитлеровские войска и участвовала в освобождении Польши от фашистских захватчиков.
Выслушав обстоятельный доклад Разумного, полковник Туманов сразу же отправился к заместителю министра. Созвонившись от него по телефону с соответствующим отделом МГБ республики, Александр Александрович поехал туда, захватив с собой дело об убийстве с ограблением Абрамяна Гургена Амаяковича…
— Мы осведомлены о Михальском — сказали ему. — Ныне он живет под фамилией Белецкий. Оставлен польской «двойкой» в СССР с далеко идущими разведывательными целями. Живет тихо, неприметно, стараясь, не привлекать к себе ничьего внимания. Через него нами выявлялась агентурная сеть иностранных государств. Дни пребывания его сочтены.
— Вот так на пятом году дело об убийстве Абрамяна раскрыто. — сказал Туманов.
— Да это почерк «Польской двойки». Коварство, алчность, жестокость — это их стиль. Абрамян много знал, видел агентов «двойки», которые оставались на нашей земле… Его решили убрать и попутно ограбить…
На этом, собственно, можно было бы поставить точку, если бы не еще одно обстоятельство, проливающий дополнительный свет на личность Абрамяна и на его окружение.
Еще в 1942 году в ходе следствия был установлен круг постоянной клиентуры Абрамяна. В нем, в частности, значились Фокина и Матвеева, проходившие по делу в качестве свидетелей. Тогда же было установлено, что в одной из сберегательных касс Ташкента имеется вклад на имя Абрамяна на сумму девятнадцать тысяч рублей. Решение судьбы этого вклада было отложено до раскрытия убийства.
В связи с передачей материалов по делу Абрамяна в органы госбезопасности решили проверить состояние вклада, и тут обнаружилось, что все деньги получены вкладчиком… в 1945 году, то есть спустя три года после его убийства.
Экспертиза установила, что подпись получателя на расходном ордере подделана и существенно отличается от подписи вкладчика на лицевом счете.
Контролер и кассир сберегательной кассы признались, что вклад был получен ими и разделен поровну. Зная о том, что Абрамян убит, а наследников у него нет, они были уверены, что ничем не рискуют и… просчитались.
Заместитель министра внутренних дел республики, комиссар милиции Дементьев, как всегда, открыл дверь своего кабинета намного раньше официального начала рабочего дня. Здесь, на Лахути, 23, размещались управление милиции Узбекской ССР, уголовный розыск, отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, отдел наружной службы… Здесь же находилось и городское управление милиции Ташкента. Шел сентябрь 1944 года. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов громили немецких фашистов на территории Румынии и Болгарии, войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов гнали гитлеровцев с территории Польши, войска Прибалтийского и Ленинградского фронтов освобождали Эстонию, Латвию и всю Прибалтику. Свой вклад в святое дело Победы вносил Узбекистан.
Продовольствие, боеприпасы, одежда, другие виды продукции бесперебойно поступали на фронт и для нужд оборонной промышленности страны… Был налажен выпуск самолетов и авиамоторов. А хлопок? Страна получала это стратегическое сырье в объеме, удовлетворяющем потребности фронта…
Дементьев снял трубку зазвонившего телефона. — Товарищ комиссар, вы уже у себя?
— А вы что, сомневались?.. Ну, рассказывайте, как прошла операция?
— Все в порядке, — докладывал Александр Алексеевич Туманов, начальник уголовного розыска республики. — Взяли главаря банды Салима Алимова и его ближайших помощников — братьев Завалка. Все три убийства, в том числе председателя колхоза в Орджоникидзевском районе, можно считать раскрытыми. Ценности найдены и изъяты. Они хранились у сестры главаря — Алимовой Ханифы в поселке Луначарском.
— Молодцы. Спасибо. Обошлись без потерь?
— Все благополучно!
— Сколько же теперь проходит по делу?
— Вместе с Алимовым, его сестрой и двумя Завалко — тридцать два человека. Они совершили более восьмидесяти преступлений, в том числе ограбление швейного цеха в районе Узбумкомбината и убийство сторожа Атахановой.
— Надо быстрее заканчивать расследование… Отдохните и заходите ко мне.
Иван Иванович положил трубку.
Он посмотрел на часы. «Скоро начнутся звонки, пойдут текущие дела. В одиннадцать заседание бюро горкома партии. В числе других вопросов будут заслушаны доклады о мерах по укреплению общественного порядка в районе завода „Сельмаш“, где за последнее время участились квартирные кражи. Достанется…»
Мысли, мысли… В Ташкенте перед войной проживало 536 тысяч человек, а к лету 1942 года население города превысило миллион! Это за счет притока огромного числа эвакуированных с временно занятой врагом территории, в том числе, из западных областей Украины и Белоруссии, Прибалтики… Вместе с ними сюда проникал и уголовный, деклассированный элемент из ряда стран Европы… Попадались даже «Птенцы Керенского» — преступники с дореволюционным стажем. Дементьев вздохнул.
Взять хотя бы пойманного в 1942 году рецидивиста Графа Адольфа Эрнестовича, 1881 года рождения, известного еще в царские времена под уголовной кличкой «Лимончик». К моменту освобождения из петроградской тюрьмы «Кресты» в начале октября 1917 года он отбыл там уже пятый судебный приговор за грабежи. До 1940 года орудовал в прибалтийских государствах, где неоднократно привлекался к ответственности. В Ташкенте совершил ограбление квартир известного советского писателя Алексея Толстого и академика Трайнина, эвакуированных сюда из центра страны. При задержании оказал яростное сопротивление, отстреливался из двух пистолетов… Как по-том выяснилось, после этих ограблений Граф убил и двух своих соучастников. Так он поступал и раньше. В Ташкенте обезвредили его сравнительно быстро.
Или арестованный в 1943 году крупный вор-гастролер по кличке «Беня Крик», в возрасте 58 лет. Его родной брат — Винницкий, известный в 1918–1920 годах одесский бандит, под кличкой «Мишка Япончик». Винницкого тогда расстреляли за бандитизм… В беседе с работниками уголовного розыска «Беня Крик» признался, что в воровском мире с 15-летнего возраста. Он назвал астрономическую цифру краж, совершенных им более чем в 100 городах страны… Ничем от них не отличался и злобный грабитель и убийца «Лорд», он же «Мерседес», прозванный так за дорогостоящий личный гардероб и стремительность вооруженных налетов… В буржуазной Латвии он чувствовал терпимое отношение полиции, а в панской Польше вообще вел себя, как дома, легко откупаясь от всех чинов… Там он имел вооруженную до зубов охрану. В Ташкенте совершил несколько налетов, но был пойман и обезврежен… Наплыв уголовщины — вот в чем одна из причин преступности. Но к чему оправдываться? Надо действовать. Надо сделать все, чтобы обеспечить возможность людям спокойно трудиться.
…После 12 часов комиссар вернулся из горкома. На столе лежала объемистая папка с почтой…
Раскрыв папку, Дементьев стал изучать документы. Просят сообщить, что нового имеется по делу об убийстве в Ташкенте портного «Мадам Гриши». Запрашивает Москва. Стоит подпись комиссара милиции Овчинникова. Преступление еще не раскрыто… В другом документе сообщают об аресте за грабежи некоего Свиридова, ранее проживавшего в Ташкенте. Просят сообщить, не значатся ли за ним противоправные действия. Подпись начальника уголовного розыска Свердловска полковника Ташлакова. Баку сообщает, что обнаружен выданный в Ташкенте паспорт, по которому проживает другое лицо. И все — в таком же духе. Среди множества документов оказался запрос и другого рода. Он поступил из Управления контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам» — так называлась в годы войны наша военная контрразведка) Московского гарнизона,
подписанный генерал-лейтенантом. Документ уже побывал у наркома внутренних дел республики, о чем свидетельствовала размашистая резолюция…
Дементьев внимательно прочел обе страницы, отложил их в сторону. Снял телефонную трубку. Вместо Туманова ответил дежурный по отделу лейтенант Рыскиев, доложивший, что начальник будет в два часа.
— Пусть сразу же зайдет ко мне.
Отдав почту секретарю, он вновь перечитал московский документ и сделал несколько пометок в блокноте, в который заносил самые важные дела, взятые под личный контроль…
— По вашему приказанию прибыл, — сказал вошедший в кабинет полковник Туманов, крепыш среднего роста, с моложавым лицом и густой сединой в волосах. — Вас, вероятно, интересуют детали ночной операции?
— Конечно, Александр Алексеевич! Но об этом потом. Поступил очень важный документ, требующий пристального внимания и срочного исполнения… Садитесь.
Фамилия Серков вам о чем-нибудь говорит?
— Серков, Серков… — стал припоминать Туманов.
— На такую фамилию у нас, по-моему, есть розыскное дело… Кажется, оно возникло еще в довоенные времена. Тогда я служил в Москве.
— А кто, конкретно, занимался этим делом?
— Занимались им, кажется, Разумный и Якубов.
— Впрочем, сейчас…
Оба сотрудника быстро прибыли в кабинет заместителя министра. Они сообщили, что в конце 1939 года в Ташкенте была ликвидирована крупная шайка воров-гастролеров, совершавшая кражи во многих городах страны. Большинство краденых вещей преступники доставляли в Ташкент, где за полцены сбывали заведующему небольшим комиссионным магазином на Алайском рынке Серкову. Арестовать его не успели. Буквально за полчаса до прибытия оперработников в магазин Серков скрылся, не заходя домой. Был кем-то предупрежден…
Как оказалось, жил он у одинокой старушки. Вел себя спокойно, жил тихо, никто его не посещал. При обыске в комнате ничего интересного не обнаружили. Был найден только паспорт на имя Серкова Николая Петровича. Однако, как выяснилось, этот паспорт принадлежал другому человеку. Нашли настоящего Серкова, который утерял паспорт в нетрезвом состоянии. Экспертиза установила, что печать и рельефный оттиск на фотографии преступника, приклеенной на паспорт взамен снимка его владельца, были искусно подделаны…
— А какова подлинная фамилия преступника? — спросил Дементьев.
— До сих пор не установлена, — потупился Разумный. — Началась война, и…
— Да… вы даже не представляете, кого упустили! Этот мнимый Серков — крупный государственный преступник.
Разумный и Якубов переглянулись, затем, будто сговорившись, опустили глаза.
— Да, именно так! Бежав из Ташкента, этот подонок устроился заведующим нефтескладом в Аягузском районе Семипалатинской области, где, похитив крупную сумму денег, также скрылся. Перед самой войной он объявился в Воронеже в роли следователя городской прокуратуры. В обоих случаях он, как и в Ташкенте, пользовался фальшивыми документами. Как теперь стало известно, начиная с 1933 года под фамилиями Шило, Таврина, Серкова, он гастролировал на Украине, в Башкирии, Казахстане. Заглянул и в Ташкент…
Далее Дементьев изложил суть московского документа.
— В первых числах сентября этого года ночью у высохшего лесного болота в Смоленской области приземлился немецкий транспортный самолет типа «Арадо», При посадке он повредил крыло и взлететь не мог. Там его на рассвете и нашли. Ни в самолете, ни поблизости никого не оказалось. Экипаж и пассажиры скрылись. Только специальный трап да следы резиновых шин указывали, что с самолета после посадки сошел мотоцикл с коляской… В Смоленской и всех смежных областях был организован активный розыск, особенно в московском направлении. В срочном порядке были созданы опергруппы во главе с опытными работниками органов госбезопасности, милиции, офицерами местных гарнизонов. В окрестностях Ржева розыскная опергруппа обратила внимание на мотоцикл с коляской марки М-72, которым управлял некий майор. В коляске сидела женщина в форме младшего лейтенанта медицинской службы. Оба предъявили удостоверения личности и отпускные билеты. Никаких сомнений документы не вызывали. В отпускном билете майора указывалось, что Герой Советского Союза Политов следует после излечения от тяжелого ранения в сопровождении своей жены — военного фельдшера Шиловой в отпуск в Подмосковье. Золотая Звезда и боевые ордена указывали на его заслуги перед Родиной…
Иван Иванович умолк, пододвинул к себе графин, налил в стакан воды, сделал глоток и продолжал:
— Возглавлявший опергруппу капитан Терентьев из отдела контрразведки «Смерш» соединения, находившегося в Ржеве на переформировании, не удовлетворился этими данными. Он знал из розыскной ориентировки, что с немецкого самолета сошел мотоцикл советской марки М-72 и что при опросе местных жителей в районе посадки самолета удалось найти подростков, видевших, что на рассвете из леса выехал мотоцикл с коляской, в котором находились двое военных — мужчина и женщина…
Дементьев опять помолчал, затем обратился к Разумному:
— Как бы вы поступили в данной ситуации?
— Я бы осмотрел коляску мотоцикла и независимо от того, нашел бы там что-либо подозрительное или нет, задержал обоих для дальнейшей проверки…
— А вы? — спросил комиссар у Якубова.
— Конечно, именно так поступил бы и я. Уж очень совпадение явное. Дементьев кивнул, посмотрел на них с улыбкой и продолжил:
— При попытке осмотреть коляску оба схватились за оружие, но их, конечно, скрутили. Женщина кусалась, как бешеная кошка… А что, вы думаете, нашли в коляске?.. Семь пистолетов — советских и английских образцов с большим количеством патронов, радиостанцию дальнего действия и специально изготовленный реактивный пистолет под названием «панцеркнакке», стреляющий двенадцатимиллиметровыми снарядиками кумулятивного действия. Кроме того, в коляске нашли большое количество подлинных и поддельных печатей и бланков, а также 428 тысяч рублей советских денег…
— А Золотая Звезда и ордена? — не удержался Якубов.
— Они принадлежали одному из советских генералов, который в мае 1942 года в боях под Харьковом был тяжело ранен, захвачен в плен и расстрелян. С другими орденами и медалями такая же картина: их владельцы погибли в фашистских лагерях.
— Извините, товарищ комиссар, — спросил Разумный, — а какое отношение все это имеет к Серкову?
— …Всему свое время, — улыбнулся Дементьев. — В начале войны, будучи призванным в армию, он добровольно перешел на сторону врага. Там его готовили в специальной разведшколе, которая находится в ведении восточного отдела 6-го управления главного имперского управления безопасности Германии. Ему подчинен разведорган под кодовым наименованием «Цеппелин», который забросил мнимого Серкова в советский тыл, предварительно соединив его с некой Шиловой. Отец ее до войны был репрессирован за антисоветскую деятельность. Сама она работала швеей в Риге. А по шпионской деятельности-радисткой. Поднимите дело Семенченко и других, которыми мы занимались в прошлом году? Оказавшись в плену, они были подобраны и заброшены в глубокий наш тыл этим же разведорганом.
— Еще раз извиняюсь, товарищ комиссар, — сказал Разумный, — а в связи с чем поступила эта информация?
— Правильный вопрос, — ответил Дементьев. — Все дело в чудовищном задании, полученном мнимым Серковым. На допросах он показал, что это вторая его «ходка» в тыл Советской Армии. В прошлом году он уже перебрасывался через линию фронта, добрался до Москвы, где встретил своего друга детства, которого не видел с 1932 года. Его друг оказался военным водителем в Ставке Верховного Главнокомандования. Награды и офицерские погоны произвели наилучшее впечатление на старого товарища. И тот разоткровенничался, рассказал, кого и куда он возит… Фашистские главари ухватились за эту связь и поручили «Серкову» совершить террористические акты против военачальников. Управление контрразведки из Москвы просит срочно сообщить, что нам известно о связях «Серкова» по Ташкенту и, в частности, о его соучастниках, арестованных в 1939 году. Ведь не исключено, что с кем-то из них установлены шпионские связи…
— Я думаю, Иван Иванович, — вступил в разговор полковник Туманов, — в первую очередь нужно поднять из архива уголовное дело 1939 года и срочно установить место пребывания всех соучастников грабежей. Затем подготовить план оперативно- розыскных мероприятий по изучению их деятельности и связей. Поручим это дело Разумному и Якубову.
— Согласен, подготовьте ответ в Москву.
Хотя разговор был закончен, никто не собирался уходить.
— Все, товарищи… — повторил Дементьев и улыбнулся. — А… Понял.
Он встал, прошелся по кабинету, посмотрел в раскрытое окно и вернулся к столу.
— Вот уже конец сентября… Что касается самого «Серкова» то… розыск не требуется. Преступник уже пойман. В погонах майора. На том самом мотоцикле…
— Значит…
— Так точно. «Серков» — он же — Шило, он же — Таврин, он же — фальшивый Герой Советского Союза Политов…
— Помните, что было на этом месте? — спросил Булатов, указывая рукой на сверкающее стеклом и металлом административное здание рядом со станцией метро.
— Дай бог памяти… Роддом?
— Памятью бог вас не обидел, — усмехнулся Борис Ильич. — Здесь стоял роддом № 1. А вокруг — лабиринты кривых улочек, переулков, тупиков. Одноэтажные каркасные домики. Старая махалля, одним словом.
— Почему вы о ней вспомнили? — недоуменно спросил я. — Ташкент меняется на глазах…
— Меняется, — кивнул Булатов. — А о махалле я вспомнил вот почему: жил здесь одно время старшина милиции Еримбетов. Помните?
Борис Ильич лукаво прищурился.
— Еще бы не помнить! Первые послевоенные годы… Молодые, прошедшие фронтовую закалку парни надевают милицейскую форму… И среди них — гвардии сержант Султанбек Еримбетов.
СТАРШИНА
Летний вечер короче воробьиного носа- только что было еще совсем светло, но стоило солнцу уйти за крыши домов, — и словно задернули гигантскую штору, город погрузился в сумерки, засверкали звезды и вот уже заливает улицы душная темнота азиатской ночи.
Именно в это время старшина милиции Еримбетов обходит свой участок: стадион «Динамо», его окрестности, площадь Пушкина, прилегающие к зданию городской пожарной команды улицы, тупики, переулки…
Демобилизовавшись после окончания войны, он всего несколько дней побыл с родителями, младшими братом и сестрами, а затем явился в отдел кадров городской милиции. Встретили его приветливо: парень, сразу видно, бывалый — орден Славы, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Такие в милиции как раз и нужны. Кадровик скорее для проформы поинтересовался, что привело парня в милицию. Тот понимающе кивнул.
— Не сомневайтесь, не легкой жизни ищу. Командир взвода у нас был Саид Коканбаев. Под Будапештом погиб. Так вот он рассказывал, как до войны в службе порядка работал. Замечательный был товарищ — бесстрашный, отзывчивый, честный. Я еще тогда решил: останусь жив, — пойду служить в милицию.
С первых же дней служба в милиции пошла у Еримбетова гладко. Немногословный, выдержанный, дисциплинированный, исполнительный, он внушал к себе доверие и уважение. На своем участке он быстро завоевал авторитет. К его замечаниям и советам прислушивались. Даже завзятые любители побуянить по пьяной лавочке тотчас успокаивались, стоило появиться Еримбетову…
Было уже совсем темно, когда Еримбетов вышел к площади Пушкина со стороны стадиона «Динамо». Над пивным павильоном замигала лампочка. «Ашот свое заведение закрывает, — отметил старшина. — И то сказать, пора. Одиннадцатый час».
Из-за павильона вышла три темные фигуры и направились по тротуару навстречу Еримбетову. Расступились, не замедляя хода, и когда старшина оказался между ними внезапно набросились на него. Завязалась борьба. Еримбетов почуял неладное еще за секунду до нападения. Напрягся и вырвался из рук нападающих. Пригодились приемы борьбы, которым обучал своих солдат Саид Коканбаев на случай рукопашных схваток с противником…
— Мак, хватай пистолет! — крикнул кто-то сдавленным голосом, отбиваясь. Но Еримбетов левой отбился от уже двух, перехватил нападающих правой и стремясь рукой не дать третьему бандиту вырвать у него оружие.
Внезапно старшина увидел занесенную для удара руку со сверкнувшим в ней ножом и лицо, которое запомнил навсегда… Он мог перехватить нож правой рукой, но тогда преступники завладеют пистолетом!.. Нет, этого допустить нельзя! И, продолжая сжимать кобуру, он рванулся вперед. Нож, нацеленный в горло, вонзился чуть левее глаза, распорол щеку до угла рта, скользнул по подбородку и ударил в ключицу… Нечеловеческим усилием Еримбетов отбросил от себя бандитов и выхватил пистолет. Выстрелить не смог… Перед глазами поплыли оранжевые пятна. Кровь заливала глаза, лицо, одежду…
Но и преступников уже не было поблизости. Они скрылись.
Подполковник Павел Никифорович Брылько, начальник отделения по борьбе с бандитизмом уголовного розыска республики, которому была поручена работа по раскрытию разбойного нападения на старшину милиции Еримбетова, был уверен только в одном: нападение совершено с целью завладения огнестрельным оружием.
Осмотр места происшествия ничего не дал. Собака след не взяла. Все возможные следы были затоптаны рабочими расположенного неподалеку мыловаренного завода, возвращавшимися после окончания второй смены. Опрошенный Ашот Саркисян утверждал, что когда он закрыл павильон и направился в сторону Луначарского шоссе, навстречу попались трое парней, шедших по тротуару в сторону Пушкинской улицы. Он не обратил на них внимания: парни как парни.
…Еримбетов лежал в хирургическом отделении больницы. На щеку ему был наложен шов, угол рта прихвачен металлической скобкой.
— Недели через две сможет говорить, — сказал хирург. — Не раньше. Тогда и расспрашивайте. А пока — ни-ни. — Помолчал и добавил: — Молодчина, ваш Еримбетов. Настоящий боец. — И чуть смягчившись:
— Так и быть, зайдите на минутку. Поприветствуйте, успокойте. Но никаких вопросов. Договорились?
Возвратившись из больницы, Брылько столкнулся в коридоре с заместителем начальника уголовного розыска города майором Герасимовым.
— Здравствуйте, Павел Никифорович. О чем задумались, если не секрет?
— Какие секреты, Андрей Николаевич. Нападение на работника милиции, а ни одной зацепочки, — пожаловался Брылько, открывая ключом дверь своего кабинета. — Вы ко мне?
— К вам и как раз по этому вопросу, — сказал Герасимов, располагаясь поудобнее.
И он рассказал, что вчера вечером, в одиннадцатом часу, конный патруль кавдивизиона, следовавший по Пушкинской улице, обратил внимание на неизвестного, который, явно уклоняясь от встречи с патрулем, пытался спрятаться в скверике на углу улицы Каблукова. Неизвестного задержали. Он назвался Дорофеевым Олегом Николаевичем 1929 года рождения, без определенных занятий (собираюсь поступать в институт, — позже заявил он). Парень явно нервничал. Один из патрульных направил на него луч карманного фонаря и невольно присвистнул: светлая рубашка была забрызгана кровью…
Дорофеев заявил патрулю и подтвердил в милиции, что он проводил девушку из парка имени Горького на Новомосковскую улицу. Возвращаясь домой, шел по улице Урицкого и, сворачивая на Пушкинскую, увидел, как какой — то подросток, мчавшийся на велосипеде, угодил в арык. Помогая парнишке выбраться из арыка, Дорофеев, якобы, и испачкался в крови, сочившейся у того из разбитого носа…
— Любопытно! — заинтересовался Брылько.
— И мне так же показалось. Рубашку, конечно, я отправил на экспертизу для определения группы крови. А Дорофеев находится в КПЗ. Фамилию девушки и ее адрес не называет, говорит, что не знает. Только познакомился. Зовут Машей… Расстались, не доходя до ее дома. Только…
— Что только?
— Темнит парень. Живет-то он на Кашгарке. Пшеничный проезд, 8. Зачем же он, идя с Новомосковской домой, свернул по Урицкого не направо, в сторону улицы Энгельса, а налево, в сторону Пушкинской? Уж не шел ли он со стороны площади Пушкина, где совершено нападение на Еримбетова? Время-то совпадает…
— Логично.
— Вот я и послал Осипова и Матясова прочесать предполагаемый «маршрут» Дорофеева, чтобы найти нож, если он у него действительно был.
— Найдут ли? — усомнился Брылько. — Это все равно, что иголку в стоге сена искать.
— Посмотрим, — вздохнул Герасимов, — ребята настырные свое дело знают.
И ребята действительно не подвели. Они прочесали все арыки, все канавки вдоль правого тротуара, если идти со стороны площади Пушкина до улицы Каблукова.
Повторно осмотрели по левой стороне улицы. Ничего. Тщательно осмотрели сквер, где был задержан Дорофеев. Безрезультатно.
Снова начали осмотр правой стороны улицы. И в металлической трубе, проложенной под проездом к Дархан-арыку, обнаружили нож, прикрытый сверху старым кирпичом. На ноже явно просматривались бурые сгустки запекшейся крови.
Экспертиза установила, что кровь, обнаруженная на рубашке Дорофеева, относится к третьей группе. Взятая у Еримбетова в больнице кровь также оказалась третьей группы…
Что это, совпадение? Можно ли считать, что на рубашке Дорофеева оказалась кровь Еримбетова? А может быть, это кровь неудачливого мальчишки-велосипедиста, которая могла быть тоже третьей группы?! Ведь кровь всех людей, проживающих на земле, делится за редким исключением только на три группы! Значит, тут могут быть самые разные сочетания и совпадения.
И тут поступили результаты исследования крови с ножа. Она оказалась третьей группы. На пластмассовой рукоятке ножа были обнаружены два отчетливых отпечатка указательного и среднего пальцев.
Дактилоскопическая экспертиза дала категорическое заключение: отпечатки пальцев, обнаруженные на рукоятке ножа, принадлежат Дорофееву Олегу Николаевичу.
На основании этих данных была получена санкция прокурора на арест Дорофеева. Однако он продолжал настаивать на своих показаниях, упорно отрицая какую бы то ни было причастность к нападению на Еримбетова.
У дома № 8 по Пшеничному проезду на Кашгарке остановился молодой человек лет двадцати. На нем были легкие полотняные брюки, вышитая рубашка, сандалеты и тюбетейка.
Кашгарка! Лабиринты узеньких улочек, проездов и тупиков между глинобитными дувалами, каркасными домиками. Но есть и добротные дома, как, например, этот дом под номером восемь. Кирпичный фундамент, хорошо оштукатуренные стены, большие окна. Из калитки в свежеокрашенном заборе вышла стройная девушка в ярком шелковом платье. Крикнула, оглянувшись:
— До свидания, тетя Катя! Узнаю что-нибудь новое, — сразу сообщу…
Оказавшись лицом к лицу с парнем, девушка удивленно уставилась на него большими выразительны- ми глазами. Парень явно смутился, но стараясь не подавать вида, спросил:
— Скажите, Олег здесь живет?
— Какой Олег? — насторожилась девушка.
— Фамилию не знаю. На прошлой неделе в парке Победы познакомились. Он мне свой адрес дал. Велел Олега спросить. А я с дядей в Мирзачуль уезжал за дынями…
— Причем тут дыни?
— Притом, что мы с дядей дыни и арбузы продаем на базаре…
Девушка помолчала, внимательно рассматривая незнакомца.
— Нету Олега, — сказала она наконец. — Арестовали.
— Как арестовали, за что?
— А ни за что! Как теперь арестовывают?! Посадили ни за что ни про что хорошего парня!..
— И мы так думали, когда два года назад арестовали старшего брата. А на суде выяснилось, что он занимался спекуляцией.
— А вы не знали?
— Знали, что хорошо зарабатывал. Кто же будет проверять старшего мужчину в доме? Отец еще до войны умер.
— А вы чем занимаетесь?
— Да вот, на базаре помогаю дяде… Учился плохо, ушел из восьмого класса. Олег говорил, что поможет мне заняться выгодным делом.
— Выгодным? Ну что ж, давайте знакомиться: Фрида, — сказала она, протягивая руку.
— Мухтар.
Так, беседуя о том о сем, они вышли к Анхору, прошли по улице Навои до Шейхантаура. Там расстались. Прощаясь, Фрида сказала:
— Если будете свободны, приходите послезавтра в парк Горького. Я там буду с подругой…
Допросы арестованного Дорофеева не внесли сколько-нибудь существенной ясности в деле. Даже своих близких знакомых он не называл, утверждая, что живет замкнуто, ни с кем не общается.
Через десять дней после разбойного нападения на Еримбетова врачи разрешили доставить его из больницы в уголовный розыск для опознания. К этому времени швы были сняты, оставалась только металлическая скобка у левого угла рта. Рубец был заклеен широкой белой тканью.
В присутствии понятых Еримбетов сразу указал на Дорофеева, предъявленного ему в числе трех других граждан, примерно одного возраста. Едва раскрывая губы, тихим голосом Еримбетов сказал, что твердо и категорически опознал сидящего около окна, справа от двух других мужчину, нанесшего ему удар ножом.
— Выражение лица запомнил. Глаза… Брови сросшиеся… Оттопыренные крючки ушей. Я эту рожу, пока жив, не забуду. Ни с кем другим не спутаю, — Помолчав, Еримбетов добавил:
— Я бы мог перехватить руку с ножом. Но кто-то из них кинулся отнимать пистолет. Я понял, что для них главное завладеть оружием. И схватился за кобуру…
Начальник уголовного розыска республики, внимательно выслушав доклад Брылько по настоящему делу, сказал:
— По-видимому, Павел Никифорович, в данной ситуации рассчитывать на признание Дорофеева и на его помощь в деле установления соучастников, бессмысленно. Только время потеряем зря. Обычно преступник сразу после дактилоскопической идентификации отпечатков его пальцев на орудии преступления признается в содеянном. А этот то ли дурак, то ли боится чего-то.
Он побарабанил пальцами по столу и продолжил:
— Используйте все оперативные возможности для выявления и тщательного изучения связей Дорофеева. Подключите к этому делу уголовный розыск города… Кто из друзей Дорофеева носит кличку «Марк»? Подготовьте конкретный план дальнейших мероприятий, предусмотрите решение важнейших вопросов. Что дальше, потом посоветуемся…
Через две недели после знакомства с Мухтаром Фрида уже знала, что он по уши влюбился в нее.
Встречаясь с парнем чуть не ежедневно, то в парке ОДО, то в парке имени Горького, она исподволь присматривалась к нему. И пришла к выводу, что он пойдет за ней в огонь и в воду. И однажды, как бы шутя, рассказала Мухтару об «одной богатой женщине». Эта женщина, пояснила Фрида, была знакома с ее родителями еще с войны. Одинокая, она владела большим богатством: золотыми массивными цепочками, колье, брошами, кулонами, перстнями, осыпанными бриллиантами… Фрида была вхожа в ее квартиру на улице Двенадцати тополей, неподалеку от синагоги, и собственными глазами видела эти драгоценности.
Фрида в ту пору работала кассиршей в парикмахерской. У них сложилась компания: Фрида, Борис, Тамара, Олег…
— Какой Олег? — спросил Мухтар.
— Тот самый, возле дома которого мы с тобой познакомились. Ты его знаешь. Отличный парень!
И Фрида рассказала, как минувшей зимой они провели «операцию по освобождению гражданки Трахтман от излишних ценностей».
— Для этого мы целую инсценировку разыграли. Поздно вечером мы с Тамарой пошли к ней домой. Я постучала. Она спросила: «Кто?» Я ответила: «Тетя Маня, это я, Фрида, отворите, пожалуйста! Пришла проведать». «Ты одна?».
«Нет, с подругой» — ответила я. Тетя Маня открыла дверь.
Мы вошли, а вслед за нами в масках на лицах и ножами в руках ворвались Олег и Борис… Меня и Тамару связали, аккуратненько заткнули нам рты нашими же платочками, связали затем и тетю Маню… Забрали все, что нашли… Вот так-то! — закончила она.
Мухтар молчал.
— Как ты смотришь на эту операцию?
— Что я могу сказать?..
— А ты пошел бы на такое дело?
— Вас могли арестовать! — испуганно сказал Мухтар.
— Арестовать! — ухмыльнулась Фрида. — Мы тогда подняли такой гвалт-шум, что когда по вызову соседей приехала милиция, то долго не могли дознаться, кого ограбили — меня с Тамарой или тетю Маню! Ну, вызывали пару раз, допрашивали в качестве свидетелей. И все!
— А та женщина? — спросил Мухтар.
— Нынешней весной померла от инфекционной желтухи.
Фрида умышленно назначила очередную встречу только через три дня, хотела проверить, как подействовал на Мухтара ее рассказ об ограблении одинокой женщины. Но парень пришел на свидание таким же, как и всегда, и как всегда смотрел на Фриду влюбленными глазами. Они посидели в кафе, и затем пошли по аллее парка.
— Что ты молчишь? — спросила Фрида.
— Разве я молчу? — удивился он.
— Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Теперь, когда ты знаешь обо мне все… Что ты решил?
— Я от тебя ни на шаг, — ответил Мухтар, пристально глядя на нее. — Куда ты, туда и я.
Фрида засмеялась и впервые за все время знакомства поцеловала его в губы. Парень вспыхнул и зажмурился.
— Я не сомневалась в тебе. Ты надежный друг, — проворковала девушка.
Мухтар промолчал.
«Странный какой-то, — подумала Фрида. — Другой уже давно бы волю рукам дал, а этот скромничает. И неразговорчивый, каждое слово из него вытягивать надо».
Все также молча они дошли до конца аллеи и уселись на уединенной скамейке.
— А теперь слушай меня внимательно, — Фрида взяла Мухтара за руку, стиснула ее ладонями. — На днях я сведу тебя с нашей компанией. А пока…
И она рассказала, что их «компанию» возглавляет студент третьего курса юрфака САГУ по имени Марк. Это отчаянный, умный, знающий парень. С ним интересно. Сейчас они задумали одно дельце… Решили потрясти одного «Подпольного миллионера». Всю войну он занимался темными валютными махинациями. Накопил кучу золота, иностранной валюты, драгоценностей. А прикидывается бедным больным пенсионером. Выгорит дело, — вся компания на всю жизнь обеспечена. Можно жить припеваючи, ни о чем не заботясь.
Она рассказала, что они уже дважды пытались совершить ограбление этого «миллионера». Вначале хотели воспользоваться тем, что он всегда смотрит на Фриду масляными глазами. Она должна была пригласить его к себе в гости. И пока он гостит у нее, ребята проникнут в его квартиру и возьмут все, что им нужно.
Но выманить миллионера-домоседа из его берлоги оказалось не так-то просто.
Тогда Мак (так они называли между собой Марка) снабдил Фриду порошками люминала, чтобы она усыпила хозяина и затем открыла друзьям двери его квартиры. Однако, когда, разливая на кухне чай, Фрида всыпала в стакан хозяина люминал, она с ужасом увидела, что чай обрел мутно-белесый цвет. «Операция» вновь сорвалась.
И тогда они решили убить хозяина и ограбить квартиру. Спрашивается, почему такое ничтожество может иметь огромные ценности, а мы должны прозябать на копейки, — закончила Фрида свой рассказ, испытующе глядя на собеседника.
Некоторое время оба сидели молча. Наконец Фрида не выдержала:
— Как ты смотришь на этот вариант?
— Так же, как и ты, — тихо ответил Мухтар. — Что скажешь, то и сделаю.
— Спасибо… — прошептала она и опять поцеловала его. И снова, как и в прошлый раз, поцелуй не возымел того действия, на которое рассчитывала Фрида.
«Ну и выдержка! — мысленно восхитилась она. — Такой действительно на любое дело пойдет».
— Как зовут вашего миллионера-подпольщика? — безразличным голосом поинтересовался Мухтар.
— Этого подонка? Мордухай Юханов. На улице Демьяна Бедного живет.
— Что новенького по делу Дорофеева, Павел Никифорович? — начальник уголовного розыска республики жестом пригласил подполковника Брылько сесть.
— Установили кое-какие его связи, — начал тот, раскрывая папку. — Серебров Борис Семенович, 1929 года рождения, Галкина Тамара Алексеевна, 1930 года рождения, Гуревич Фрида Яковлевна, 1928 года рождения. Все трое работают. Никого по имени Мак, установить не удалось. А вот какой-то парнишка — узбек с некоторых пор вертится около них. Встречается с Гуревич: гуляют, о чем-то разговаривают. Она называет его Мухтаром… Похоже, ухаживает за ней.
— И все?
— Пока да.
— Прямо скажем, не густо. Второй месяц пошел, а сдвигов практически нет. Как дальше думаете действовать?
Ответить Брылько не успел: зазвонил телефон, и начальник угрозыска взял трубку.
— Да. Кто? Пусть войдет. — И, обращаясь к Брылько. — Еримбетов это. Оставайтесь. Вместе поговорим.
Еримбетов был в тщательно отутюженной форме. На груди поблескивали орден Славы и боевые медали, на бледном лице резко выделялся пунцовый шрам.
— Как дела, старшина? — спросил начальник уголовного розыска после взаимных приветствий.
— Ничего, товарищ полковник. От путевки в санаторий отказался. Не с моей физиономией по курортам разъезжать. Отдыхаю дома.
— Дома все в порядке?
— Что вам ответить? Была у меня невеста, Фатима…
Осенью собирались сыграть свадьбу. А вот пришла ко мне в больницу, заплакала и… больше не показывается… — Еримбетов вздохнул. — Мать говорит: «Избавил тебя аллах от плохой жены, не горюй, хорошая найдется». Так-то оно так, а сердце болит.
Несколько минут в кабинете стояла тишина. Да и что скажешь в таких случаях? Еримбетов заговорил первым.
— Товарищ начальник, я ведь к вам по делу.
— Слушаю вас, Султанбек Еримбетович!
— Еще в больнице я думал, как помочь следствию.
Я знаю, что в первый же вечер задержали преступника, проживающего на Кашгарке, нашли нож, на нем отпечатки его пальцев, а тот не признается… Ну я и поговорил с братишкой Хакимджаном. Дал ему адрес задержанного, попросил пойти туда, сдружиться с его друзьями… И он выполни мою просьбу…
— Точнее можете?
— Точнее он сам расскажет, если разрешите. Ждет в проходной…
Через несколько минут в кабинете появился молодой человек, лет девятнадцати-двадцати — младший брат Султанбека Еримбетова Хаким.
Вначале смущаясь, а затем все более уверенно он рассказал о знакомстве с Фридой Гуревич, о ее участии в ограблении «тети Мани» Трахтман, о преступной деятельности «Мака», Олега, Тамары, о подготавливаемом ограблении с убийством Юханова…
В заключение он сказал:
— Я старался войти в доверие Фриды, делал вид, что влюблен в нее, что для нее готов пойти на все… Но вы не подумайте чего-нибудь. У меня есть девушка, которую я действительно люблю. Ее Айша зовут.
Присутствующие переглянулись, пряча улыбки.
— Все в порядке, Хакимджан! — Брылько похлопал парня по плечу. — А теперь, если не трудно, повтори все для стенографистки.
Через час на столе Булатова лежало личное дело студента третьего курса юрфака Марка Евгеньевича Ковалевича, 1928 года рождения.
Все, кого назвал Хаким, были арестованы. Характерно, что первым полностью признался «столп и опора» группы Ковалевич, который заявил, что будет просить суд, снизить ему меру наказания с учетом его раскаяния и чистосердечного признания.
На очных ставках он уличил Дорофеева, Сереброва, Гуревич и Галкину. Из их числа только Дорофеев в ходе следствия не признавал себя виновным, однако на суде он раскаялся и попросил о снисхождении…
На итоговом совещании по разбору этого дела Булатов сказал:
— Инициатива старшины Еримбетова и его брата Хакима оказали значительную помощь в раскрытии ограбления гражданки Трахтен, бандитского нападения на работника милиции и в предотвращении ограбления с убийством гражданина Юханова. Рад поставить вас, товарищи, в известность о том, что сегодня получен приказ о досрочном присвоении Султанбеку Еримбетову внеочередного звания «лейтенант милиции» и о награждении его почетным знаком «Отличник милиции».
Мы поднялись по ступеням станции метро Хамида Алимпжана, пересекли Пушкинскую и, не спеша, направились по тенистой улице вниз, к парку имени Тельмана. Это был один из немногих районов Ташкента, которые не изменились за последние годы: утопающие в зелени одноэтажные домики, кирпичный особняк старого здания политехнического института. Далеко впереди угадывался шпиль бывшей лютеранской церкви.
По Карла Маркса бесконечным потоком катили нарядные автобусы с детворой. Песни, музыка, смеющиеся лица…
— В пионерские лагеря, — улыбнулся Борис Ильич. — Счастливая пора. А помните историю с «Рудиным»?
Я кивнул. Еще бы не помнить! Вот как это было.
ГИБЕЛЬ «РУДИНА»
Ребятам не везло. Неудачи буквально преследовали их по пятам. Сунулись в секцию плавания на Комсомольском озере, — широколицый, дочерна загорелый тренер в плавках и шапочке окинул их скептическим взглядом прищуренных глаз и решительно подтолкнул к выходу с водной станции.
— Какие из вас пловцы? Утопленники, это точно. Во Дворец пионеров идите, а еще лучше — в детсад!
Эрудит Женька-очкарик начал было что-то ему доказывать про Рудина, про Тургенева, но тренер слушать не стал.
— Вот иди и тренируйся у своего Рудина!
— О чем ты толкуешь? — не выдержал Федя. — Думаешь, он Тургенева знает? Да он, может, за всю жизнь ни одной книжки не прочитал!
— Брысь отсюда, шпингалеты! — рявкнул тренер. — Тоже мне грамотеи сопливые!
Оскорбленный Женька возмущался всю дорогу в трамвае и расстроенный ушел домой, а Федя с Валькой пристроились в холодке у ограды и стали соображать, как быть дальше.
— Встречу этого мордатого, камнем огрею! — хмуро пообещал Федька. — У меня батя до войны классным пловцом был, не ему чета! Днепр форсировал, а этот — отъел морду и издевается: «утопленники», «детсад»..!
— Слушай, Федь! — перебил его Валька, провожая взглядом «виллис», свернувший с дороги к одноэтажному зданию барачного типа. — А может, в тир «Динамо» подадимся?
— Это еще зачем?
— Запишемся в секцию.
— Держи карман шире! Попрут как миленьких. Попытка не пытка. Попробуем?
— А Женька не обидится, что без него?
Может, даже и лучше, что его нет. Хиляк, доходяга. Ни за что не поверят, что он в восьмой перешел.
Женька и в самом деле был самым маленьким в классе, да еще очки носил, зато считался самым начитанным: и не без оснований: литературу знал превосходно, а тургеневским: Рудиным просто бредил. Его и Женькой-то почти не называли. — Рудин, да Рудин.
В этот день ребята в тир так и не пошли из тактических соображений. А утром, прихватив с собой рослых крепышей-одноклассников Касыма и Андрея, объявились у барака, расположенного возле завода Ташсельмаш. В тире шла тренировка. Пятеро парней и девушка стреляли по мишеням. Ребята понаблюдали за ними с улицы, потом робко вошли в барак и остановились табунком возле двери позади стрелявших.
— Маузер, — прошептал Валька, не сводя восхищенного взгляда с оружия в руке девушки. — И у других тоже.
— О чем вы там шепчетесь? — инструктор наконец обратил на них внимание. Ребята смущенно переглянулись.
— Я говорю, из маузеров стреляют, — объяснил Валька.
— Почти угадал, — усмехнулся инструктор. — Действительно похоже. Только это не маузер, а пистолет Марголина. А теперь выкладывайте, зачем пришли.
— В секцию хотим записаться, — осмелел Валька. — Из пистолетов стрелять.
Инструктор смерил их оценивающим взглядом и покачал головой.
— В седьмом учитесь!
— Перешли в восьмой, — с надеждой и мольбой в голосе поправил Валька.
— Все равно рано. Перейдите в десятый, тогда приходите.
А сейчас не могу. Оружие — вещь серьезная, это вам не из рогатки по воробьям.
…На ребят отказ инструктора особенного впечатления не произвел, потому что не был новостью. Нет и не надо. Мало ли, чем можно заняться во время летних каникул! Купанье, рыбалка, походы за город. Хорошо бы, конечно, научиться стрелять из пистолета Марголина, но что поделаешь, раз годами не вышли? Один Валентин никак не мог успокоиться. Спортивный пистолет системы Марголина — на вид точная копия маузера — неотступно маячил перед глазами. Даже полированная деревянная кобура, как у маузера. Такие на ремешках через плечо носили поверх кожанок комиссары, из таких маузеров ошалело палили басмачи, удирая от красноармейцев в кинофильмах о первых годах революции. Кажется, все на свете отдал бы Валька за то, чтобы подержать в руках этот пистолет, стрельнуть из него хоть разок…
Валька замкнулся в себе, перестал встречаться с друзьями, целыми днями сидел дома, перелистывая зачитанного до дыр «Санджара непобедимого» или околачивался возле тира, не решаясь войти. Он даже скамейку себе облюбовал на противоположной стороне улицы и подолгу сидел на ней в одиночестве, с завистью наблюдая за счастливчиками, которые посещали тир. Были это в основном взрослые парни, но попадались и подростки, почти его сверстники, и тогда у Вальки начинало ныть под ложечкой и пересыхало во рту.
По вечерам, когда уходили последние посетители, полновластным хозяином тира становился пожилой узбек-ветеран с добродушным лицом и протезом вместо левой ноги. Старик некоторое время оставался в бараке, затем в окнах боковой части здания, где, как Валька успел рассмотреть, стояли пирамиды с оружием, гас свет. Старик выходил на улицу с чайником и пиалой, устраивался на скамейке неподалеку от входной двери и допоздна сидел там, попивая чай и наслаждаясь ночной прохладой. Только ближе к полуночи, он уходил в барак и запирал за собой дверь изнутри.
— У меня ЧП, Петр Федорович! Докладывает начальник двенадцатого отделения милиции майор Агаронов. В тире «Динамо» убит ночной сторож.
— Когда это случилось? — начальник уголовного розыска города подполковник Юрков досадливо поморщился: можно было и не спрашивать, вряд ли успели вызвать судмедэксперта. — Хотя бы примерно?
По-видимому, ночью. Постовой Иващенко обнаружил убитого полчаса назад. Я направил на место происшествия оперработников Матясова и Хамидова. Вызвал по телефону медэксперта, работников НТО от дежурного по городу и следователя прокуратуры…
— Все правильно. Минут через двадцать у вас будет мой заместитель майор Герасимов. Держите меня в курсе.
Юрков опустил трубку на рычажки и взглянул на часы. Стрелки показывали без двадцати семи десять. День обещал быть горячим. Последний вторник июля.
Вечером в кабинете Агаронова состоялось оперативное совещание. Капитан Матясов и эксперт научно-технического отдела старший лейтенант Хамидов подробно доложили о результатах осмотра места происшествия и опроса граждан. Сторож был найден лежащим на полу возле топчана. Смерть наступила в результате разрушения затылочной части черепа и повреждения головного мозга примерно за 9-10 часов до обнаружения трупа.
Проверка оружия и боеприпасов, хранящихся в тире, показала, что похищено пять спортивных пистолетов системы Марголина и десять пачек малокалиберных патронов удлиненного типа. Остальное оружие осталось нетронутым, включая наганы и пистолеты ТТ, общим количеством 17 стволов.
Отпечатки пальцев не были обнаружены нигде, даже на полутораметровом обрезке водопроводной трубы, лежавшем возле трупа, которым, по-видимому, был нанесен удар по затылку сторожа. Труба была ржавая, и отпечатки пальцев не сохранились.
Следов на полу было обнаружено множество, но установить по ним преступников невозможно, так как в воскресенье и понедельник в помещении тира уборка не производилась.
Попытка использовать служебную собаку оказалась безрезультатной: собака след не взяла.
Как явствует из показаний продавщицы расположенного неподалеку киоска по продаже прохладительных напитков, сторож Ибрагимов после приема дежурства не сразу же заперся в помещении, как этого требует инструкция, а еще некоторое время пил чай, сидя на скамейке под деревьями в нескольких шагах от входа в тир.
— Странно, — задумчиво произнес Герасимов.
— Не первый случай, товарищ майор! — тотчас откликнулся Матясов. — Дисциплина в ведомственной охране на все четыре ноги хромает.
— Я не об этом, — Герасимов покачал головой. — А в общем вы правы. Надо наводить порядок немедля. Особенно в тирах. Получается, мы сами подсовываем преступным элементам склады с оружием и боеприпасами. Тюкни старика сторожа и бери любое на выбор. Но я не об этом. Вам не кажется странным, что преступник или преступники польстились на малокалиберные пистолеты и не тронули привычные для них наганы и ТТ?
— Торопились? — предположил Агаронов. — А может, спугнул кто?
— Не думаю. — Герасимов по привычке стиснул пятерней подбородок. — По-моему, тут что-то другое. Ваше мнение, капитан?
— Может быть, не профессионалы?
— Исключается! — резко возразил Хайдаров. — Во-первых, сторож убит одним ударом. Убийца знал, куда бить и как бить. А, во-вторых, зачем не преступнику оружие?
— Логично, — кивнул Герасимов. — Но версию все-таки следует отработать. Итак, что будем делать, Аркадий Яковлевич?
— Поднимем материалы на тех лиц, о преступных намерениях которых имеются сигналы. Такие же указания уже даны всем отделениям милиции Ташкента. Ориентированы все участковые уполномоченные и постовые милиционеры. Приступаем к отработке возникших версий.
— Не отмахивайтесь от новых версий, которые могут появиться по ходу дела.
— Ясно. У меня все.
— Хочу добавить, — Герасимов встал и обвел взглядом участников оперативного совещания, — что аналогичные мероприятия проводятся всеми областными управлениями и управлением милиции Каракалпакии. Факт хищения огнестрельного оружия серьезен уже сам по себе. А если еще учесть, что в субботу, то есть через три дня, в Ташкенте открывается форум писателей, то времени у нас с вами, товарищи, как говорится, в обрез. Нельзя допустить, чтобы на свободе разгуливали преступники, вооруженные пусть даже малокалиберными пистолетами. Вместе со мною для участия в раскрытии убийства Ибрагимова, обнаружения и изъятия похищенных пистолетов прикомандированы еще три оперативных работника из аппарата уголовного розыска города.
Женька увидел ребят издали. Они шли со стороны реки, оживленно переговариваясь: Валя, Андрей, Федя, Касым и Саша. Женька бегом бросился им навстречу.
— Привет! Куда вы пропали все? — У Женьки запотели очки, он снял их, близоруко щурясь, принялся протирать подолом рубашки. — Я вас всюду ищу!
— Меньше спать надо, Рудин, — засмеялся Андрей. — Читаешь допоздна, а потом глаз не продерешь. Мы уже и искупаться успели…
— Рыбу поудить! — торопливо перебил Валька, наступая ему на ногу.
— Ты что? — улыбался Андрей. —
Какая рыба?
— Обыкновенная. — Валька незаметно для Рудина подмигнул Андрею. — Та, что в Чирчике водится.
— А что у нас творится! — не обращая ни на что внимания, продолжал Женька. — Милиции понаехало тьма-тьмущая! Тир опечатали, всех опрашивают…
— Да что случилось-то? — перебил Валька.
Сторожа в тире «Динамо» убили! — выпалил Женька. Как убили? — Касым изменился в лице. — Кто убил? Этого пока никто не знает. — Женька весь дрожал от возбуждения. — Но узнают обязательно. Из тира оружие украли. Говорят, на целую банду. И патроны. Участковый Иван Христофорович по всем домам ходит, расспрашивает, не заметил ли кто чего-нибудь подозрительного.
— Вот это да-а-а… — растерянно проговорил Касым. — Что же делать, а, ребята?..
— Спокойно! — Валька тоже побледнел, но старался держаться как ни в чем не бывало. — Спокойно, ребята. Ну, а что люди участковому говорят?
— Никто ничего не видел, — пожал плечами Женька. — Ахают, охают, руками разводят.
— Слышали? — обернулся Валька к ребятам. Те растерянно переминались с ноги на ногу. — Никто ничего не видел, понятно? А теперь по домам. Встречаемся завтра на том же месте. Пока!
Ребята понуро поплелись каждый в свою сторону.
— Что это они? — недоуменно пожал плечами Женя, глядя вслед удаляющимся ребятам. Валька смерил его испытующим взглядом.
— Сам же сказал — человека вот и испугались. А они тут при чем?
— Не причем. — Валька пожал плечами. — Испугались и все. А что еще участковый спрашивал?
— Вроде все… А, да, председатель домового комитета Михайловна говорила моей маме, будто он интересовался, нет ли на примете хулиганистых мальчишек.
— И что? — встрепенулся Валька.
— Нечего. Михайловна ответила, что таких мальчишек у нас нет.
— Молодчина, — облегченно вздохнул Валька. Женька удивленно уставился на него сквозь очки.
— Что-то ты от меня скрываешь, Валька. Нечестно. И вообще ты последнее время какой-то странный. Раньше, бывало, каждый день приходил к нам, а теперь носа не кажешь.
— Это ты к чему? — насторожился Валька. — Говори уж начистоту.
— И — вспылил Женя. — Тоже мне, друг! От друзей секретов не держат. Не хочешь дружить, так бы и сказал.
— Ладно тебе, — миролюбиво перебил его Валька. — Дружили и будем дружить. Не заводись, Рудин. Но Женьку уже трудно было остановить.
— «Не заводись»! А меня ты спросил, хочу я с тобой дружить или нет? Спроси, чего ждешь?
Женька весь трясся, как в лихорадке. Вальке стало не по себе. Он взял Женьку за руку.
— Перестань, ну чего ты? Успокойся. Я тебе все объясню.
Женька снял очки, протер носовым платком, водрузил на место. Очки были простенькие, с круглыми стеклами, в тонкой металлической оправе. Женька провел платком по лбу и спрятал его в карман.
Валька, молча наблюдавший за ним, наконец решился.
— Тайну хранить можешь?
— Смотря какую, — голос у Женьки был какой-то безразличный. — Может, и хранить не стоит.
— Стоит! — заверил Валька.
— Тогда говори.
— Я тебе сейчас такое скажу! — Валька воровато огляделся по сторонам и, убедившись, что их никто не слышит, выпалил: — Сторожа в тире знаешь кто убил?
— И кто же? — недоверчиво взглянул на него Женька.
— Мы!
— Вы? — опешил Женька. — Разыгрываешь.
— Мы, — повторил Валька и, пригнувшись к самому уху товарища, принялся сбивчиво рассказывать. — Понимаешь, у нас и в мыслях не было никого трогать. Я ребятам говорю: «Давайте возьмем пистолеты без спроса, постреляем, а потом обратно подкинем».
— Как без спроса? Это же воровство!
— Воровство, но слов обратно не принесешь. А так, вроде, на временное пользование. Ну вот, пришли вечером к тиру, а старик как раз смену принял. Повозился там внутри и на скамеечку вышел почаевничать. А дверь открытой оставил. Касым туда потихоньку пробрался, а когда сторож заперся изнутри и спать лег, дверь нам открыл. Зашли. Сторож на топчане похрапывает. Я возле двери остался, а ребята по быстрому пистолеты с патронами прихватили и уже было к выходу направились, и тут Федька споткнулся обо что-то, да как грохнется! Сторож вскочил, спросонья ничего не поймет, на ребят глаза вытаращил, но меня сзади не видит. Я смотрю, он сейчас заорет, схватил палку и по голове его. Старик с копыт, а мы — ходу из тира… Кто же знал, что так получится!..
— Ничего себе палка! — покачал головой Женька. — Ты его обрезком железной трубы по затылку трахнул.
— Может, и трубы. Рассматривать некогда было.
— Думать надо, а не рассматривать.
— Тебе хорошо говорить, а мне ребят надо было из беды выручать.
— Вот и выручил. Сначала на воровство подбил, а потом соучастниками убийства сделал.
— Женька, ты страшные слова говоришь.
— Я правду говорю.
— И что теперь делать? Ты у нас самый башковитый. Подскажи.
— Пойти в милицию и рассказать все как есть. Думаешь по головке погладят?
— Нет не думаю. Но другого выхода нет.
— Так уж и нет? А ты на моем месте пошел?
— Я бы пошел, — твердо сказал Женька.
Некоторое время оба молчали. Потом Валька все так же молча протянул руку. Женька машинально пожал ее и почувствовал, как дрожат пальцы.
— Не бойся, Валь, — Женька и жалел товарища и испытывал к нему неприязнь. — Лучше сразу всю правду сказать…
Валька кивнул, медленно высвободил руку и, не оглядываясь, побрел прочь.
«Неужели не пойдет? — напряженно думал Женька, глядя вслед товарищу. — Неужели струсит? Нет, не должен. Ему же хуже будет. И ребятам. Пойдет. Взвесит все и пойдет».
В голове у Вальки царил хаос. А ведь как здорово начался день! С утра все впятером отправились на пойму Чирчика, за город. Здесь, вдали от жилья, на поросших кустарником галечных отмелях кроме них не было ни души, и ребята, установив на откосе берега пустую консервную банку, принялись стрелять по ней из похищенных накануне пистолетов. Потом мишенью стала другая консервная банка, потом — найденное в кустах ржавое ведро.
Стреляли, позабыв обо всем на свете, не ощущая ни усталости, ни зноя, ни голода. Стреляли до тех пор, пока не заныли руки и не заслезились глаза. Только тогда, надежно спрятав пистолеты и оставшиеся патроны в прибрежном кустарнике, всласть поплескались в реке и отправились в город. Тут-то и встретился им ничего не подозревавший Женька-очкарик.
Валька поежился, вспоминая выражение женькиных глаз во время их последнего разговора. Было в них что-то такое, отчего на душе становилось тревожно и тоскливо: сострадание, жалость, отвращение и суровая решимость одновременно.
«Может, он и прав, — с отчаяньем подумал Валька. — Да ведь советовать легко. Не тебя в милицию загребут. А загребут, как дважды два. Сторож-то помер…»
Валька прерывисто вздохнул и только теперь почувствовал усталость.
«Подожду автобус» — решил Валька, кое-как добрался до остановки, со вздохом облегчения сел на скамейку под досчатым козырьком и закрыл глаза. Мысли одна мрачнее другой теснились в голове. Он представил себе, что приходит в милицию и начинает рассказывать, как было дело, длиннолицему милиционеру со злыми глазами навыкате. Почему милиционер рисовался ему именно таким, он не задумывался, зато отчетливо представлял, как тот, не дослушав до конца, хватает его за шиворот и по темному сырому коридору тащит в камеру-одиночку, где содержат убийц. В камере тесно, холодно. В зарешеченном окошке виднеется клочок хмурого, затянутого тучами неба. Со скрежетом захлопывается железная дверь. Гремят засовы…
Валька почувствовал, как по лбу холодными ручейками заструился пот. «Не пойду, — решил он. — Ни за что не пойду». Открыл глаза и вздрогнул: прямо перед ним стоял милиционер.
— Задремал? — добродушно — поинтересовался милиционер.
У Вальки пересохло во рту, язык словно присох к небу.
— Ну-ну, — милиционер потрепал мальчика по плечу. — Проснись.
«Сейчас арестует!» — с ужасом подумал Валька.
— Не подскажешь, как на Тезикову дачу проехать? — спросил милиционер. — Два часа мыкаюсь.
— К-куда? — запинаясь, переспроси. Валька.
— На Тезикову дачу. Корешок у меня там живет. Служили вместе. Я-то сам из Свердловска, проездом тут. А он здешний.
У Вальки отлегло от сердца. Сбивчиво, торопясь и глотая окончания слов, он принялся объяснять милиционеру дорогу. Тот выслушал и с сомнением покачал головой.
— Ты случаем не приболел, а? Перегрелся, может? Бледный весь. И пот в три ручья.
— Нет, дяденька, — Валька мотнул головой. — Все в порядке. Вон ваш трамвай идет.
— Ну смотри. А то давай до врача провожу.
— Не надо, я тут живу рядом.
— Тогда бывай здоров. Спасибо.
Милиционер помахал рукой и заторопился к трамваю. «Пронесло. — Валька вытер ладонью лоб. — До врача он меня проводит! Знаем мы этих врачей!» К остановке подкатил автобус. Валька взобрался в салон, пристроился возле окна, перевел дух. Милиционер на другой стороне улицы сел в трамвай. Автобус тронулся.
«Нет, — окончательно решил про себя Валька. — Ни в какую милицию заявлять не пойду. Пусть ищут. Все равно никого не найдут! Никто ничего не видел, никто ничего не докажет».
Он почти совсем уже было успокоился, как вдруг новая мысль заставила его похолодеть от страха: «Женька! Он все знает! Подождет день-другой, а когда станет ясно, что идти в милицию не собираюсь, — пойдет и все расскажет. А может, не пойдет? Это Рудин-то? Этот от своего не отступится. Для него принцип дороже друга. Очкарик паршивый!»
Занятый невеселыми мыслями, Валька, не заметил, как проехал свою остановку и расстроился еще больше.
«Ну погоди, Рудин! — мысленно грозил он, шагая по раскаленному тротуару. — Ты еще пожалеешь!»
Вальку душили злоба и страх. Он уже не отдавал себе ни в чем отчета. Женька-очкарик представлялся теперь ему единственной по-настоящему реальной угрозой, и он с каждой минутой ненавидел его все больше и больше.
На следующее утро все пятеро собрались в пойме реки, там где они накануне так весело провели день. Теперь настроение у ребят было подавленное. Напрасно Валька пытался расшевелить их, отвлечь от тягостных мыслей. Даже пистолеты, извлеченные из тайника, их не радовали.
— Эх, лучше бы я из пионерского лагеря не возвращался! — горестно вздохнул Сашка. Ему, единственному из всей компании, действительно повезло: мать, как вдова фронтовика, сумела выхлопотать в завкоме путевку для сына в пионерский лагерь. Пионерских лагерей в те послевоенные годы было еще мало и путевки выдавали ребятам с очень слабым здоровьем. А Сашка всю эту зиму хворал: кашлял, температурил, часто пропускал занятия.
— Там чего хочешь, все было, — продолжил Сашка тоскливо. — Волейбол, баскетбол, пинг-понг. В походы ходили… А здесь…
— Да замолчи ты! — цыкнул на него Валька. — Расхвастался!
— Я разве хвастаю? — обиделся Сашка. — Что было, то и говорю.
— А пистолеты там были? — злорадно усмехнулся Валька. — Ну, что? Были?
— Не было пистолетов, — угрюмо признался Сашка. Остальные молчали. — Век бы их не видеть!
— Ну это ты зря, — Валька хорохорился, хотя и у него на душе кошки скребли. — Пистолет это вещь. Гляди!
Он прицелился в оставшееся с прошлого раза старое ведро на высокой галечной насыпи и выстрелил. Рядом с ведром брызнули каменные осколки.
— Мимо, — вяло констатировал Федя. Касым подобрал с земли второй пистолет, зарядил и тоже приготовился стрелять.
— Погоди, — остановил его Валька. Тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок. Ведро покачнулось.
— Так-то лучше. — Валька опустил руку с оружием. — Пали, Касым, твоя очередь.
Касым несколько раз выстрелил, но, хотя до ведра было всего шагов двадцать, не попал ни разу. После Касыма стрелял Андрей, за ним Федя.
Дай и я стрельну, Валь, — не выдержал Сашка.
— Так уж и быть, — великодушно согласился Валька. — На, держи!
Ярко светило набирающее силу солнце. Неумолимо шумела река. Сашка прищурил левый глаз и тщательно прицелился. Рука дрожала то ли от волнения, то ли от тяжести пистолета.
— Локоть согни, — посоветовал Касым. Не помогло. Тогда Сашка взял пистолет двумя руками и выстрелил несколько раз подряд. Ведро подпрыгнуло и повалилось набок.
— Ну ты даешь! — удивился Валька. — Признавайся, раньше стрелял?
— Первый раз сегодня.
— Врешь!
— С места не сойти!
— Ну, значит, быть тебе чемпионом.
— Скажешь тоже, — сконфузился Сашка. — Какой из меня чемпион!
— Ладно, не скромничай. — Валька похлопал его по плечу и забрал пистолет. — Ступай, ведро на место поставь.
Сашка со всех ног кинулся к насыпи, установил ведро на прежнем месте, нагреб с боков гальки, чтобы прочнее держалось, и вернулся к ребятам.
Они стояли кружком, заряжали пистолеты, Сашка завистливо покосился и отвел глаза.
— Чего отворачиваешься? — Валька кончил заряжать свой пистолет, протянул Сашке. — Держи, пока я добрый. Залпом стрелять будете. По моей команде. Ясно? Приготовились.
На стук дверь открыла невысокая рыхлая женщина с болезненно-одутловатым лицом.
— Саша дома? — спросил Женька, поправляя очки.
— Нету. — Голос у нее был хрипловатый, усталый. — С утра куда-то убег.
— Извините, — Женька повернулся, чтобы уйти.
— Найдешь, скажи, мать велела домой идти, — уже вдогонку крикнула женщина.
— Скажу! — пообещал Женька, заворачивая за угол. «Где они могут быть? — размышлял он, шагая по тротуару. — И Вальки дома нет, и Феди». Где жили Андрей и Касым, Женька не знал, но был почти уверен, что их тоже нет дома. Валька вчера сказал завтра на старом месте. О времени ни слова, значит, раньше сговорились. Где же это их «старое место» может быть?
Женька шагал, машинально обходя встречных прохожих. Ничего не видел и не слышал, занятый своими мыслями.
«Старое место… Старое… Значит, они там уже были все вместе. Зачем собираться вместе? Теперь, когда у них есть пистолеты? Пострелять, ясное дело! А где можно стрелять так, чтобы тебя никто не слышал и не видел? Ну конечно, за городом. И скорее всего — в пойме Чирчика. От дороги далеко. Кругом кустарник — не продраться. Лучшего места не выберешь. И как это он сразу не догадался».
Женька повеселел и прибавил шагу, то и дело поправляя сползавшие с носа очки. Женька спешил. Так спешил, что не заметил идущего за ним в метрах в пятидесяти участкового уполномоченного, того самого Ивана Христофоровича, который ходил с расспросами по домам заводского поселка.
На шоссе — за городом Женьку обогнал груженный ящиками «студебеккер». Шофер увидел торопливо шагавшего по обочине мальчугана, притормозил и, высунувшись из кабины, поинтересовался:
— Далеко спешишь, хлопец?
— Не очень, — ответил Женька и спохватился:-Здравствуй те.
— Привет-привет! — усмехнулся водитель. — Садись в кабину, подвезу. — Спасибо! — обрадовался Женька и вскочил на подножку. Вышедший на шоссе Иван Христофорович вначале не сообразил, что к чему: грузовик загораживал от него мальчика. Только минутой позже, когда «студебеккер» тронулся и, набирая скорость, стал стремительно уменьшаться в размерах, с удивлением обнаружил, что мальчика на шоссе нет, и раздосадовано махнул рукой.
— А, ч-черт!
Лейтенант оглянулся в надежде увидеть какую-нибудь машину, идущую в ту же сторону, но шоссе было пустынно.
Проехав километра два, Женька беспокойно заерзал на сиденье.
— Чего тебе не сидится? — улыбнулся шофер. — Не понравилось?
— Понравилось. — Женька с сожалением обвел взглядом просторную кабину. — А машина правда американская?
— Правда, — кивнул водитель. — Хочешь за баранку посажу? Соблазн был велик, но Женька вздохнул и отрицательно мотнул головой.
— Нет. Мне слезать надо.
— Как знаешь. — Шофер притормозил и помог распахнуть дверцу. — Тебя как звать-то, шпингалет?
— Женя.
— А по отчеству?
— Алексеевич!
— Ну, бывай здоров, Евгений Алексеевич. До свидания. Спасибо вам!
— Было бы за что!
Шофер улыбнулся и захлопнул дверцу.
Здесь река круто почти под прямым углом сворачивала вправо от дороги. Женька пробрался сквозь прибрежный кустарник и пошел по еле заметной тропинке вверх против течения. Если ребята действительно отправились стрелять, то они должны быть где-то здесь, подумал он с неизвестно откуда взявшейся уверенностью.
Тропинка причудливо извивалась, то исчезая на галечных осыпях, то вновь появляясь на поросшем травой песке. Потом она юркнула в колючие облепиховые заросли, а когда Женька выбрался из них, — перед ним возвышалась насыпь примерно в два человеческих роста, и за нею слышались чьи-то негромкие голоса.
Стараясь не шуметь, Женька осторожно взобрался по склону и, не разгибаясь, прислушался. Слов было не разобрать, но голос явно принадлежал Вальке.
«Представляю, какие у них сейчас будут лица! — весело подумал Женька. — Выскочу, как чертик из табакерки! Какой дурак сюда ведро поставил? Раз… Два… Три!..»
Он резко выпрямился и в то же мгновенье навстречу ему сухо треснули выстрелы…
В кабинете начальника райотдела милиции резко и требовательно зазвонил телефон. Майор медленно поднял трубку.
— Агаронов слушает.
— Юрков говорит. Что нового? Нашли похитителей оружия?
— Да, товарищ подполковник.
— Что же вы молчите? — голос Юркова заметно повеселел. — Молодцы! В неполные три дня уложились. Молодцы! — И после паузы: — Вы чем-то расстроены, товарищ майор?
Агаронову меньше всего на свете хотелось отвечать на этот вопрос, но не отвечать было нельзя и он ответил.
— Да, товарищ подполковник.
— Есть осложнения?
— Убит мальчик.
— Мальчик? — переспросил Юрков. — Какой еще мальчик?
Агаронов скользнул взглядом по лежавшему перед ним на столе рапорту участкового уполномоченного.
— Филатов Женя, тринадцать лет, сын зубного врача. — Помолчал и уже тише: — Единственный…
Некоторое время оба молчали. Первым заговорил Агаронов.
— Никакие мы не молодцы, товарищ подполковник… Проглядели парнишку.
— Отставить! — Тон, которым было произнесено это слово, не соответствовал его назначению, прозвучала скорее просьба, а не приказ. — Через два часа жду вас у себя с подробным докладом. Ясно?
— Да, товарищ подполковник.
Агаронов опустил трубку на рычажки и медленно обвел взглядом кабинет. За окном шумел город. Надсадный гул автомобильных моторов, треньканье трамваев, звонкая перекличка детских голосов. Агаронов представил себе резвящуюся в скверике детвору и тяжело вздохнул. Как знать, если бы розыск сразу пошел по верному следу, среди этой ребятни мог сейчас быть и Женя Филатов. И не прогремели бы роковые выстрелы над Чирчиком…
Суд воздал виновным должное в строгом соответствии с советским законодательством. Были также вынесены частные определения о неправомерности действий работников спортобществ «Спартак» и «Динамо».
Но и на этом дело завершено не было, уголовный розыск тщательно проанализировал причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В соответствующие компетентные органы были направлены представления, в которых предлагались конкретные меры по улучшению воспитательной работы среди подростков, вовлечению их в спортивные секции, расширению сети пионерских и оздоровительных лагерей и баз отдыха. Особое внимание было уделено работе с подростками в каникулярный период.
Колонна автобусов наконец прошла, но тотчас же за ней хлынули заждавшиеся своей очереди трамваи, автомашины.
— Знаете, что? — тронул меня за рукав Булатов. — Улицу нам все равно раньше, чем через полчаса не перейти. Давайте автобусом воспользуемся.
— И куда же мы поедете?
— На вокзал, — усмехнулся Борис Ильич. — Вспоминать, так вспоминать.
— Караван-сарай? — догадался я.
— Он самый. От него ведь одно воспоминание и осталось.
КАРАВАН-САРАЙ
— Александр Александрович? Добрый день. На прошлой неделе я просил вас подготовить доклад о ходе работы по оставшимся нераскрытыми убийствам. Вы готовы?
— Конечно, Борис Ильич.
— Тогда я вас жду.
— Буду через три минуты.
Булатов опустил трубку и невольно покосился на часы. Начальник отделения по предотвращению и раскрытию убийств майор Разумный славился пунктуальностью. Не изменил он своей привычке и на этот раз.
Они обменялись рукопожатием. Разумный сел к приставному столу, опустил на него папки.
— Слушаю вас.
— Общее число нераскрытых убийств прошлых лет по республике значительно сократилось благодаря активизации работы наших аппаратов в истекшем 1949 году. К сожалению, некоторые преступления не только не раскрыты, но и находятся за пределами внимания отделов уголовного розыска некоторых областей республики. В Ташкенте дела обстоят лучше. Надеюсь, что убийство неизвестного на Иски-Джува, по невыясненным мотивам, и убийство Терентьева на улице Урицкого, совершенное явно с целью ограбления, будут раскрыты в ближайшее время. Идет сбор доказательств, необходимых для получения санкции на арест подозреваемых. Вот наблюдательные дела, из которых видно…
— Наблюдательные дела оставьте мне, я познакомлюсь с ними. Как с другими делами по Ташкенту?
Плохо с раскрытием убийства у Караван-сарая, на улице Фигельского против спирто-водочного завода.
— Бывшего Первушинского.
— Да, товарищ полковник.
Знакомые места. Улицу Фигельского старожилы до сих пор называют Первушинской… Так что там?
— В конце 194 7 года, при аварийном ремонте теплофикационной магистрали, идущей над Саларом, рабочие обнаружили труп мужчины, зацепившийся за одну из средних свай моста, соединяющего улицу Куйбышева с Куйбышевским шоссе.
— Помню. Я был тогда в длительной командировке и не сумел детально ознакомиться с этим делом…
— Судебно-медицинская экспертиза установила, что в легких погибшего воды нет. Иначе говоря, человек был сброшен в реку уже мертвым. Однако каких-либо наружных прижизненных повреждений, следствием которых явилась смерть, обнаружено не было. Не обнаружено ничего в сердечно-сосудистой системе, в желудочно-кишечном тракте, печени, почках. Экспертиза установила, что тело пробыло в воде не менее трех недель, и определила возраст покойного — 55–60 лет.
— И что же дальше?
— Исследованием занялся главный судмедэксперт республики Леонид Владимирович Шифрис. В результате ряда химических реакций, биолого-бактериологических анализов он установил, что смерть наступила в результате отравления цианистым калием…
Разумный полистал дело и продолжил:
— Личность покойного установить не удалось, так как никаких документов при нем обнаружено не было. Возникла версия, что смерть неизвестного произошла на территории ТашМИ, в одной из его клиник, где он отравился, или был отравлен, после чего труп был брошен в Салар. Проплыв по реке мимо Караван-сарая, тело застряло под мостом. Эта версия в различных вариантах была тщательно отработана, но не продвинула дело ни на шаг.
— Были и другие версии?
— Мы подсказывали работникам уголовного розыска города, что нужно отработать версию о возможном умертвлении неизвестного на территории Караван-сарая.
— И что же?
Разумный пожал плечами.
— Отклонили. Дескать, откуда у тамошних бродяг цианистому калию взяться?..
— Ясно… — задумчиво проговорил Булатов. — А зря. По-моему, версия заслуживает внимания. Ну, а что насчет второго убийства?
— Оно тоже связано с Караван-сараем. Труп опять-таки неизвестного мужчины, по внешнему облику и одежде типичного бродяги, обнаружен в начале лета 1948 года на улице Фигельского у самых ворот Караван-сарая. Смерть наступила от удара твердым предметом по голове.
— Понятно. Оставьте мне и эти наблюдательные дела. Прочитаю их, подумаю. Завтра продолжим беседу.
Разумный встал, положил на стол перед Булатовым оставшиеся у него две папки и сказал:
— По-моему, Борис Ильич, главная беда в том, что у отдела уголовного розыска города нет в Караван-сарае надежного человека, на которого можно было бы опереться…
— Вы, пожалуй, правы, тут есть над чем подумать. А пока до свидания. До завтра.
Утром следующего дня, предупредив дежурного, что задержится на часок, Булатов поехал по улице Карла Маркса до ТашМИ, затем направо по улице Фигельского вдоль Салара, а затем через мост по улице Куйбышева. Проехав спирта-водочный завод, он попросил остановиться и подождать его возвращения.
Никто из встречных не обратил внимания на гражданина лет сорока, в сером костюме, который шел по тротуару, внимательно приглядываясь к заводским строениям, капитальному кирпичному забору, ограждавшему заводскую территорию со стороны Салара. Остановившись на мосту, он некоторое время рассеянно рассматривал противоположный берег, как попало застроенный множеством хибарок, и теплофикационные трубы диаметром примерно 20–25 сантиметров, протянутые над рекой.
Даже самый проницательный человек ни за что не угадал бы в этом благодушном, лениво облокотившемся на перила гражданине начальника уголовного розыска республики. А между тем кое-кто из обитателей этих трущоб не без оснований предпочел бы держаться от него подальше.
Постояв некоторое время на мосту, Булатов, не спеша, прошелся по улице Фигельского, заглянул в ворота, оставшиеся еще с тех времен, когда здесь действительно располагался Караван-сарай, и повернул обратно.
В своем кабинете, прочитав, как обычно, сводку об уголовных преступлениях по республике и отдельно по городу Ташкенту, Булатов задумался…
Места, где он только что побывал, были ему памятны.
В годы войны ему довелось участвовать в ликвидации банды, созданной в Ташкенте изменником Родины немецким агентом Семенченко, который организовывал разбойные нападения и грабежи в целях создания неуверенности и беспокойства среди населения. Банда действовала по всему городу, но логово ее было здесь, в Караван-сарае.
Караван-сарай… Когда-то очень давно здесь действительно останавливались караваны. Об этом напоминают древние, тысячу раз ремонтированные и переделанные ворота. В конце прошлого века заброшенный пустырь на дальних подступах к городу стал постепенно застраиваться. Тут находил пристанище в основном пришлый люд, который по разным причинам не мог селиться в городской черте. Это были разорившиеся дехкане, мардикеры, бездомные бродяги, личности с темным прошлым.
Пустырь застраивался бессистемно, каждый строил как мог и что мог, и Караван-сарай, как по старой памяти стали именовать поселок, представлял собой скопище хибар и лачуг, немыслимый лабиринт узеньких улочек, переулков и тупиков, в котором порою путались сами аборигены.
Разруха и голод, вызванные гражданской войной, увеличили приток переселенцев в «хлебный город», численность проживающих в Караван-сарае, который еще дальше раздвинул свои границы. Еще многолюднее стало здесь во время Великой Отечественной войны, — за счет эвакуации населения из западных районов страны.
К концу сороковых годов Караван-сарай насчитывал до трехсот созданных без всякого плана жилых построек, в которых проживало более полутора тысяч человек.
В соответствующих инстанциях уже не раз поднимался вопрос о необходимости ликвидировать этот рассадник антисанитарии и преступности. Но для этого нужно было обеспечить жильем около семисот семей, что по тем временам было непосильной задачей.
Булатов выдохнул и подвинул к себе папки с наблюдательными делами. Рано или поздно Караван-сарай, конечно, будет снесен, но это дело будущего, а пока… Пока с его существованием приходится мириться и строить свою работу, исходя из реального положения вещей.
Во второй половине дня Булатов закончил изучение наблюдательных дел по двум нераскрытым убийствам, связанным с Караван-сараем, и вызвал к себе Разумного.
— Вы правы, — сказал Борис Ильич. — Для раскрытия этих преступлений нужно внедрить туда своего человека. Причем именно в гущу населения Караван-сарая.
— Рад, что наши мнения совпадают, Борис Ильич, — улыбнулся Разумный. В Караван-сарай тянутся нити многих краж, ограблений. Пора принимать решительные меры.
Булатов снял трубку.
— Наби Ходжаевич, если вы не заняты срочным делом, зайдите ко мне.
Подполковник Ходжаев не заставил себя ждать.
— Хотим посоветоваться с вами, — с ходу подключил его к разговору Булатов. — Мы тут с Разумным обсуждаем меры по раскрытию убийств, так или иначе связанных с обитателями Караван-сарая…
— Вот и не верь после этого в телепатию! — усмехнулся Ходжаев. — И я, представьте себе, о том же самом размышляю. Несколько нераскрытых краж по городу — и все упираются в Караван-сарай!
— А что если мы примем к своему производству оба дела по нераскрытым убийствам? — предложил Булатов. — А заодно и кражи, связанные с Караван-сараем?
— Это будет правильно! — кивнул Ходжаев.
— Согласен с мнением товарища подполковника, — поддержал Разумный.
— Ну вот и прекрасно.
Борис Ильич помолчал, поднялся из кресла, подошел к висевшей на стене карте города, раздвинул занавески.
— И начать придется, как мы уже условились, с внедрения работника в сам Караван-сарай. Нужно подобрать опытного оперативника, которого в Ташкенте никто не знает. Разумеется, введем его в курс дела, снабдим соответствующей легендой. Взгляните сюда. Когда-то район Караван-сарая был самой отдаленной окраиной города. Теперь город надвинулся на него со всех сторон. Широкие проспекты, светлые благоустроенные жилые массивы. Это ведь не случайно, что следы нераскрытых преступлений ведут именно в Каравай-сарай.
Направляя нашего товарища в это змеиное гнездо, мы идем на риск. Но лично я другого пути не вижу. И дело даже не в нераскрытых убийствах и кражах, — существование бандитского гнезда в Караван-сарае это постоянная угроза жизни честных граждан. И мы с вами мириться с этим не можем.
Булатов помолчал, задумчиво глядя на карту, и когда заговорил снова, голос его звучал уже спокойно.
— Придет время, и от Караван-сарая не останется и следа. Не знаю, что будет на его месте — микрорайон, бульвар, зеленая зона. Да это и не важно. Это будет. А пока мы должны очистить Караван-сарай изнутри.
Булатов вернулся к столу, налил из графина воды, отпил полстакана.
— Я тоже считаю, что это единственно правильное решение. И удачное его проведение будет зависеть только от нас! — тихо сказал Разумный.
— Да, это так… — согласился Ходжаев.
— Ну, что ж. Подготовьте, Александр Александрович, указание ОУР города о передаче в наше производство рассматриваемых дел.
Булатов помолчал и закончил:
— Вопрос о внедрении оперативного работника в Караван-сарай согласован с заместителем министра.
Внешность у парня была располагающая: открытое продолговатое лицо с высоким лбом, серые глаза, аккуратно зачесанные на пробор волосы, И никаких особых примет: нос как нос, губы как губы, подбородок как подбородок. Разглядывая сидевшего перед ним оперативного работника, Булатов мысленно прошелся по его анкетным данным. Лисунов Федор Петрович. Родился в 1924 году в Вологде. В 1943 году окончил среднюю школу, затем кратко-срочное артучилище. Сержант, командир орудия. Участник войны.
Медаль «За отвагу». Ранение. Госпиталь. В 1946 году демобилизован. Вернулся в Вологду. В 1948 году окончил среднюю школу милиции. Присвоено звание лейтенанта. Женат. В настоящее время — оперуполномоченный Андижанского уголовного розыска.
— Ну что ж, — Булатов провел ладонью по гладко выбритому подбородку. — Давайте знакомиться ближе. Знаете, зачем мы вас вызвали?
— Догадываюсь, — кивнул Лисунов.
— Легализация Лисунова проходит успешно. Он поселился в доме, — Разумный заглянул в свои записи — № 97, чуть позади домов № 76 и 89. Эта нумерация характерна для стихийной застройки Караван-сарая. Хозяйка, старая женщина, проживает на скромную пенсию. Охотно поселила его у себя. Плату за постой запросила невысокую.
— Как он себя чувствует? — спросил Булатов.
— По-моему, отлично. Держится уверенно. С хозяйкой отношения складываются самым наилучшим образом. Она вдова, муж работает грузчиком на железнодорожной станции. Умер еще в 1923 году. С преступным миром не связана, зато всю караван-сарайскую публику знает. И кто чем дышит — тоже. К постояльцу присмотрелась, относится с явной симпатией. Рассказывает много интересного.
— Что, например?
— Например, о том, как с завода спирт крадут.
— Ну, это, положим, не новость.
— Согласен, Борис Ильич. Но есть новые детали. А одна история — просто изуверство какое-то! — Разумный зябко передернул плечами. — До чего все-таки люди дойти могут!
— Не отвлекайтесь, Александр Александрович, — мягко напомнил Булатов. — Вернемся к нашему подопечному. Когда у вас с ним следующая встреча?
— Послезавтра. О нем, собственно, докладывать пока больше нечего. Вживается парень. А историю все же послушайте. Она того стоит.
Булатов взглянул на циферблат ручных часов и кивнул. — Ну что ж, рассказывайте. Только, с учетом того, что мне через полчаса к министру.
— Значит так. Спирт с завода воруют следующим образом: проносят на завод резиновые емкости, преимущественно грелки. Незаметно наполняют их и, когда стемнеет, перебрасывают через забор к реке. По берегу не подойти, все огорожено. А ночью мальчишки из Караван-сарая пробираются по теплофикационным трубам через Салар, собирают грелки и относят «хозяевам». Подрабатывают, одним словом. Так вот одна из таких хозяек, содержательница подпольного притона Игнатьевна, наняла соседского пацана, и он ей регулярно таскал грелки со спиртом. Однажды он принес грелку, в которой спирту была самая малость.
Игнатьевна естественно подняла скандал: куда подевал спирт? Мальчонка лепечет, что грелка, наверное, прохудилась и спирт из нее протекался. Показывает мокрые рубаху, брюки. А Игнатьевна ни в какую: признавайся, кому спирт продал? Мальчик опять свое. Тогда эта сволочь хватает коробок, чиркает и подносит горящую спичку к его одежде…
Разумный хрипло закашлялся. Булатов стиснул зубы и зажмурил глаза.
— Короче, вспыхнул мальчонка, как факел, а через несколько часов умер, не приходя в сознание.
— Что показало расследование? — жестко спросил Булатов.
— В том-то и дело, что расследование, вроде, и не проводилось! Убийца подкупила мать мальчика, и та объяснила гибель сына следствием неожиданного взрыва примуса. Предъявила даже какие то обломки. Мальчика тихо похоронили. И уже потом пошли разговоры, которыми и поделилась Матрена Васильевна со своим постояльцем.
— Установите точно, проводилось ли расследование. Если нет — добивайтесь санкции на эксгумацию трупа. Результаты доложите. — Булатов поднялся из-за стола и протянул руку, — мне пора. До свидания.
Ночь выдалась душная. И несмотря на открытое окно в каморке было нечем дышать. Лисунов ворочался с боку на бок, тщетно пытаясь уснуть. Несколько раз выходил в сенцы, пил воду из ведра, стараясь не шуметь, обливался по пояс под рукомойником. Наконец, не выдержав, набросил рубашку на голое тело, надел брюки и выше, во дворик.
Тут было немного прохладнее. Тускло мерцали звезды. Перекликались на товарной станции маневровые паровозы. Где-то далеко духовой оркестр исполнял вальс «дунайские волны». Лисунов прошел к врытой под акацией скамейке, сел и прислонился спиной к стволу.
Караван-сарай спал. Лишь кое-где лениво перебрехивались собаки, да со стороны дома Игнатьевны доносились неразборчивые пьяные голоса. Лисунов запрокинул голову и задумался, глядя сквозь листву на слегка подсвеченное городскими огнями небо.
Тянулась третья неделя его пребывания в Караван-сарае, а сколько-нибудь ощутимых результатов пока не было. Правда, «легализацию» как выразился майор Разумный, прошла без сучка, без задоринки. «Домком» Караван-сарая небрежно повертел справку об освобождении из Воркутлага, где владелец ее отбывал пятилетний срок заключения, и вернул Лисунову.
— Получишь паспорт, тогда насчет прописки приходи. Фатера подходящая?
— Сойдет, — буркнул Лисунов.
— После лагеря все сойдет, — философски заключил «домком». — Опять же у Васильевны не ты первый на постое. Бывай.
Он царапнул взглядом по лицу новичка, многозначительно хмыкнул и убрался восвояси. А неделю спустя у Игнатьевны, куда Лисунов забрел кинуть стопку-другую, к нему подсел здоровенный детина в трусиках и сетчатой майке, сквозь которую проглядывала густая татуировка, и как бы невзначай завел разговор о Воркуте.
В Воркутинском лагере Лисунову приходилось бывать по работе, из расспросов он понял, что тот всерьез знает те места, как свои пять пальцев, и насторожился, хотя внешне вида не подал.
Ответы его пришлись, видно, собеседнику по душе. Они распили вдвоем бутылку и расстались закадычными друзьями. Скорее всего это была проверка и он ее выдержал, потому что по ряду почти неуловимых принципов понял, что его оставили в покое.
В доме напротив негромко скрипнула створка окна. Не меняя положения, Лисунов скосил глаза. В темном проеме окна колыхнулась занавеска. «Еще кому-то не спится», — подумал Лисунов, отводя взгляд, и вдруг замер, прислушиваясь.
…— при деникинцах лучше было? — Голос звучал невнятно, но слова можно было разобрать.
— Надежда хоть была, что вас на первом столбе не повесят! — говоривший был явно пьян.
— Ты с ума сошел.
— Думаете, не знаю, как вы деникинской контрразведке…
— Заткнись, дурак!
— Как офицеры к вам в магазин на Херсонской хаживали…
— Заткнись, говорю!
— А если не заткнусь? — Пьяный откровенно издевался. — Из флакончика попотчуете, как Станислава? Или, может, камешком по головке? Как того, у ворот? Ну что вы на меня вытаращились, дядюшка? Не ожидали? А я…
Окно с треском захлопнулось. Лисунов посидел еще несколько минут и, только убедившись, что в доме напротив все успокоилось, бесшумно скользнул в сени.
Утром, как бы невзначай, спросил у хозяйки, что за люди живут напротив. Та насторожилась.
— Жогов, а тебе на что?
— Да так просто. — Лисунов безразлично пожал плечами. — Орали там всю ночь. Набухались. Видать, вот и шумели.
Матрена Васильевна облегченно вздохнула.
— Вдвоем с племянником живут. Жогова-то Константином кличут, а племянника — Николаем. Держался бы ты от них подальше, сынок. Дурные они люди. Особенно Жогов.
— Товарищ Разумный?
— Слушаю.
— Добрый вечер. Шифрис говорит.
— Слушаю вас, Леонид Владимирович. Вы откуда так поздно?
— Из лаборатории. Ну и работенку же вы мне подкинули!
— Мы такие. Знаем, кому что доверять.
— Думаете лестью откупиться? Не получится. И нечего ладонью трубку прикрывать. Все равно слышно, как хихикаете.
— И в мыслях не было.
— Честно?
— Конечно.
— Тогда слушайте. Вся эта история с примусом — сплошная липа. Может, он и взрывался, но к гибели мальчика это никакого отношения не имеет. Мальчик действительно скончался от ожогов, но ни керосин, ни бензин тут ни причем. Никаких следов сгоревших нефтепродуктов на теле покойного не обнаружено.
— Скажите, Леонид Владимирович, а спирт мог быть причиной ожогов?
— Вполне.
— А точнее нельзя?
— Точнее все будет изложено в официальном заключении. Вы его завтра получите.
— Спасибо, Леонид Владимирович.
— Хотел бы сказать «Не за что», да язык не поворачивается. Спокойной ночи.
— Покойной ночи.
Одноэтажный домик на улице Полтарацкого был выбран для встречи с Лисуновым не случайно: он стоял в глубине участка среди разросшихся деревьев, и в него можно было попасть также с улицы Павлова через калитку позади сарая, надежно скрытую от постороннего взгляда колючим кустом шиповника и облепихи. Этой калиткой и воспользовался Булатов, пройдя через соседний двор. Здесь его уже ждал Разумный. Они обменялись рукопожатием.
— Пришел? — поинтересовался Булатов.
Разумный глянул на циферблат ходиков и покачал головой — минут через пятнадцать.
На столе уютно попискивал самовар. Фарфоровая сахарница с колотым рафинадом, вазочка с вареньем, три чашки на блюдцах, нарезанные тонкими ломтиками колбаса, сыр. Каравай хлеба, накрытый вышитым полотенцем.
— Подкармливаете? — кивнул Булатов.
— Хозяева постарались.
— Они что — в курсе дела?
— Разумеется, нет. Просто по доброте душевной.
— А сами где?
— Уехали за город. Там у них огородишко.
Разговаривая, Разумный то и дело поглядывал в окно.
— Идет.
Лисунов был в вышитой полотняной рубахе, с закатанными рукавами, коломянковых брюках, сандалетах на босу ногу. Здороваясь за руку, озорно блеснул улыбчивыми глазами.
— Не опоздал?
Стрелки на циферблате ходиков показывали половину третьего.
— Минута в минуту, — усмехнулся Булатов. — Прошу к столу. Водки, правда, нет, зато закусить есть чем. Вы, кстати, как насчет спиртного?
— Никак. — Лисунов улыбнулся. — Разве что в интересах дела.
— То есть?
— Если потребуется, могу выпить сколько угодно и останусь трезвым. Алкоголь на меня не действует.
— Это вы серьезно? — удивился Разумный.
— Да, — сказал Лисунов. — У нас вся родня по отцу такая: не пьянеет. Оттого, может, и не пьют.
— Ценное качество, — вставил Разумный.
— Что именно? — хитровато прищурился Булатов. — Что не пьют или что не пьянеют?
— И то и другое, — мгновенно нашелся Разумный.
Все трое рассмеялись.
— Ваши соседи, судя по последнему рапорту Александра Александровича, такими качествами не обладают.
— Это вы о ком? — Лисунов испытующе взглянул на Булатова. — О Жогове?
— Скорее о его племяннике.
— Что верно, то верно, — согласился Лисунов. — Трезвый он вряд ли отважился бы на такой разговор.
— Ну что ж, — Булатов шагнул к столу, — прошу. Угощайтесь и рассказывайте, что новенького.
— А вы? — поколебался было Лисунов.
— И мы чайком побалуемся. Распоряжайтесь, товарищ майор.
Разумный разлил чай по чашкам.
— Значит, так, — Лисунов отхлебнул в чашке, поморщился и перелил чай в блюдце. В прошлое воскресенье в Караван-сарае была гулянка. Свадьба, так сказать. А если по существу — дикая пьянка. Некто Пантюхин дочь замуж выдавал. Пригласили и меня.
— Много выпили? — поинтересовался Булатов. — Вы, я имею в виду.
— Пришлось. Федька, это Пантюхина так — зовут, стал по пьяному делу приданым хвастать. Сундуки настежь гляди, знай накопил!
— Было на что поглядеть?
— Было. Сервизы, серебро, отрезы, вороха одежды, обуви, пуховые платки…
— Оренбургские небось? — уточнил Разумный.
— И оренбургские.
— Сто лет жене обещаю купить, — вздохнул майор. — Да разве подступишься.
— Не перебивайте, Александр Александрович, — мягко пожурил Булатов.
— Извиняюсь. Продолжайте, Федор Петрович.
— Я прикинул в уме, сколько это добро может стоить. Цифра прямо таки астрономическая получается. Но дело даже не в этом. — Лисунов отхлебнул из блюдечка и долил горячего чая. — Понимаете, я сказал «отрезы», но это неверно. Там были целые рулоны сукна, шелка, хан-атласа. На некоторых даже товарные бирки сохранились. Вот одна из них.
— Лихо, — Булатов выразительно взглянул на Разумного. — Как вам это удалось?
В общем довольно просто, — усмехнулся Лисунов. — Пьяный Пантюхин шнырял добро на всеобщее обозрение. Направо, так сказать, и налево. Одна из бирок оторвалась и отлетела под стол. Никто не обратил на это внимания. А подобрать бирку позднее, когда все перепились, не составило особого труда.
— Как сказать… Как сказать. — Булатов с силой потер подбородок. Риск был и риск не немалый. На будущее я вам категорически запрещаю поступать таким образом. Ясно?
— Ясно.
— Так-то. Федор Петрович, продолжайте наблюдения, но сами ни под каким видом ни во что не вмешивайтесь. Держите в поле зрения Жогова и Пантюхина. Почаще бывайте у Стеганцевой. Так кажется зовут содержательницу подпольного притона. Кстати ваша хозяйка права: к гибели мальчика примус отношения не имеет.
Несколько дней спустя Ходжаев и Разумный встретились возле кабинета Булатова.
— Прошу, — кивнул на дверь Ходжаев.
— По старшинству, — улыбнулся Разумный. — А я за вами, Наби Ходжаевич.
На стук в дверь ответа на последовало.
— Странно, — Ходжаев покосился на коллегу. — Вы на который час приглашены!
— На десять.
— И я на десять. Войдем?
Разумный едва заметно пожал плечами. Булатова в кабинете, как и следовало ожидать, не оказалось, и они уже хотели было покинуть комнату, когда на столе требовательно зазвонил телефон. Ходжаев переглянулся с Разумным и поднял трубку.
— Подполковник Ходжаев.
— Товарищ полковник просит вас подождать его в кабинете. Задержится минут на пять-десять, — прозвучал в трубке голос дежурного.
Расспрашивать в таких случаях не полагалось, и Ходжаев, коротко поблагодарив дежурного, опустил трубку на рычажки аппарата.
— Просит подождать в кабинете, — сообщил он Разумному. Тот кивнул и, отодвинув приставленный к столу стул, устроился, продолжая держать в руках объемистую папку. Подполковник прошелся по комнате и, остановившись у окна, приоткрыл форточку.
Ждать пришлось недолго. Булатов стремительно вошел в кабинет, поздоровался с коллегами и, извинившись за задержку, сел за письменный стол.
— Присаживайтесь, товарищи. — Он помолчал, неслышно постукивая кончиками пальцев по гладкой поверхности стола. — Не стану от вас скрывать, у меня только что был разговор с министром. Разговор, прямо скажем, не из приятных. Я понимаю министра и полностью разделяю его раздражение.
Он опять помолчал. Затем продолжил.
— Время уходит. Конец мая, а похвастаться нам, увы, все еще нечем. Если вы не возражаете, Наби Ходжаевич, давайте вначале послушаем товарища Разумного. А уже потом доложите вы. Договорились?
Ходжаев молча кивнул.
— Вот и прекрасно. Прошу, Александр Александрович. Разумный положил на стол папку, раскрыл ее и начал, не заглядывая в бумаги.
— В архивах среди документов жилищных органов Ташкента нами обнаружена запись, согласно которой в сентябре 1921 года выдано разрешение на строительство собственного дома Жогосу Костасу, 1886 года рождения, ювелиру по профессии, прибывшему в Ташкент из Одессы вместе с племянником Калогирисом Николасом, 1908 года рождения.
Разумный сделал паузу, по-видимому, ожидая вопросов, но вопросов не последовало, и он продолжил.
— Далее. В архивах органов милиции, ведавших паспортизацией в 1932–1934 годах, имеется запись о выдаче паспортов гражданам СССР Жогову Константину Николаевичу, 1886 года рождения, уроженцу города Пирея, а также Калогирову Николаю Сергеевичу, 1908 года рождения. Оба значатся русскими, хотя, на мой взгляд, идентичность Жогоса-Жогова и Калогириса-Калогирова очевидна.
— Пирей, Пирей… — задумчиво повторил Ходжаев.
— Греческий портовый город на Эгейском море, — пояснил Разумный.
— Это мне известно. А у нас в стране нет населенного пункта с таким названием?
— Нет, Наби Ходжаевич.
— Вы хорошо проверили?
— Да.
— Установили лиц, выдавших паспорта? — спросил Булатов.
— Пока нет.
— Постарайтесь установить. Что у вас дальше?
— В отделе розыска имеется запрос Иркутского областного управления милиции, датированный апрелем 1948 года. Разыскивается некто Зайончковский Станислав Ксаверьевич, 1892 года рождения, русский, заместитель председателя облпотребсоюза. По подозрению в нелегальной транспортировке и сбыте золотого песка, добываемого старателями района Ленских приисков. По имеющимся у иркутян данным Зайончковский в октябре-ноябре 1947 года отбыл из Иркутска в одну из республик Средней Азии.
Разумный снова сделал паузу, испытующе взглянул на Булатова, затем на Ходжаева и продолжал:
— Имеются основания считать, что Зайончковский и покойник, обнаруженный у Первушинского моста 11 декабря 1947 года — одно и то же лицо.
— Так-так… — Булатов потер подбородок. — Любопытно. И какие же это основания?
— К запросу из Иркутска была приложена фотография Зайончковского. Мы изготовили фотокопию размером 9X12 и передали Лисунову. Он инсценировал находку и показал домохозяйке несколько фотографий, якобы завалившихся в щель между половых досок под его кроватью. Матрена Васильевна просмотрела фотографии, на которых были изображены разные лица, и тотчас опознала в Зайончковском своего бывшего постояльца.
— Допустим, что она не обозналась, — соглашаясь кивнул Булатов. — Но ведь не исключается и ошибка?
— Ошибка исключена. — Разумный порылся среди бумаг, разыскал нужную. — Вот копия протокола судебно-медицинской экспертизы при вскрытии обнаруженного под мостом трупа. Цитирую: «…на левом предплечьи имеется отчетливо сохранившаяся татуировка: спасательный круг, якорь и слово „мама“, нанесенная вне всякого сомнения несколько лет назад». А это — розыскная ориентировка Иркутского уголовного розыска. В перечне примет Зайончковского фигурирует, в частности, и татуировка, о которой я только что говорил. Ну и, наконец, немаловажная, на мой взгляд, деталь: возраст неизвестного, убитого возле Первушинского моста, и Зайончковского — совпадают.
Разумный сложил листки обратно в папку и выжидающе помолчал. Вопросов не последовало. Булатов, задумчиво глядя прямо перед собой, катал по столу карандаш. Ходжаев молча переводил взгляд с Разумного на Булатова и обратно.
— Теперь, — Разумный прокашлялся, — приобретают конкретный смысл слова жоговского племянника о том, что тот «угостил Станислава из флакончика» и еще кого-то «камнем по голове»… у ворот Караван-сарая.
— Ну что ж… — Булатов оставил в покое карандаш. — Доводы, пожалуй, достаточно веские. Как вы считаете, Наби Ходжаевич?
Ходжаев молча кивнул.
— А что по делу о гибели того подростка? Малахов, кажется?
— Малахов. Будем возбуждать уголовное дело против Стеганцевой.
— Я бы на вашем месте повременил, — мягко возразил Булатов. — Официальных-то данных в отношении Стеганцевой у вас нет. Возбуждайте дело по факту гибели Малахова. А уж следствие выйдет на Стеганцеву и ее соучастников.
— Согласен, — кивнул Разумный. — Это будет вернее.
— Вот и отлично. А теперь, если не возражаете, я ознакомлю вас с полученным сегодня ответом управления Одесской милиции на наш запрос.
Булатов выдвинул ящик стола и достал сколотые вместе листки бумаги.
— «Среди сохранившихся в городском архиве документов, брошенных при поспешном отступлении белогвардейских войск из Одессы, имеются списки активных агентов деникинской контрразведки. В них значится, в частности, Жогос Костас, 1886 года рождения, грек, владелец ювелирного магазина на Херсонской улице. Вышеупомянутый Жогос Костас за особые заслуги по выявлению большевиков и советских активистов имеет персональные награды белогвардейского генерала Гришина-Алмазова. По имеющимся данным в 1918–1919 годах в больших количествах скупал награбленные ценности у бандитов Мишки Япончика…»
Булатов опустил листки на стол и обвел глазами слушателей.
— Так обстоят дела с Жогосом, товарищи. Сомнений на этот счет не остается. А теперь послушаем вас, Наби Ходжаевич.
— Как я уже говорил, следы нескольких нераскрытых дел о крупных кражах упираются в Караван-сарай. — Ходжаев вздохнул и машинально провел ладонью по щеке. — Теперь благодаря Лисунову картина проясняется.
— Так-так, — оживился Булатов. — И что именно?
— Например, кража из промтоварного магазина на Чорсу в ночь на 16 сентября 1948 года. Общая стоимость похищенного товара — 284 тысячи 600 рублей.
— Стоп, стоп, стоп! — Булатов откинулся на спинку стула и прищурился, вспоминая. — Если мне не изменяет память, это была не только крупная кража, но и убийство.
— Так точно, — подтвердил Ходжаев. — Преступники задушили сторожа. Отца девятерых детей.
— Так почему вы считаете, что нити тянутся к Караван-сараю? — спросил Булатов.
— Из магазина было похищено в числе прочего десять рулонов хан-атласа. Так вот, бирка, переданная нам Лисуновым, относится как раз к той партии хан-атласа, что похищена из магазина на Чорсу. Остается выяснить, как попал хан-атлас к Пантюхину.
— Пантюхин… — Булатов с силой стиснул ладонью подбородок. — Что вам о нем известно?
— Зовут Федором Евстигнеевичем. Родился в 1902 году. В 1941 году, незадолго до начала войны, осужден на 8 лет лишения свободы за разбой. Отсидел пять лет. Освобожден по амнистии. В настоящее время работает грузчиком на станции Ташкент-товарная…
Начало операции было назначено на семь часов утра 6 июня. Тщательно продуманный во всех деталях план операции был утвержден заместителем министра. План предусматривал одновременные действия двенадцати оперативных групп по 3–5 человек в каждой и двух резервных опергрупп из 5 человек каждая. Десять оперативных работников в качестве резерва оставались в отделе уголовного розыска республики. Заблаговременно были подготовлены все необходимые документы для производства обысков и ареста преступников.
Оперативные группы незаметно просочились к заранее намеченным объектам и ровно в семь часов приступили к активным действиям.
…Негромкий стук в дверь разбудил Жогова. В соседней комнате заворочался, заскрипел кроватью племянник.
— Кого там нелегкая принесла ни свет ни заря? — Жогов выругался. — Пойди, Николай, глянь, кто там.
Калогиров, чертыхаясь, прошлепал босыми ногами к входной двери, щелкнул замком и в ту же секунду был оттеснен к стене.
— Тихо! — шепотом предупредил милиционер. — Живо пулю схлопочешь.
Трое стремительно вошли в комнату Жогова и, не дав ему опомниться, подняли с постели. Вспыхнула лампочка под потолком. Один из вошедших кивнул в сторону стоявшего у стены стула.
— Садитесь. И без глупостей.
— Одеться хоть дайте, — пробасил Жогов. — В одном исподнем…
— Успеется. — Лейтенант пробежался взглядом по комнате и скомандовал. — Введите понятых.
Калогирова усадили на стул рядом с Жоговым. Вошли понятые. Установив личность хозяев дома, лейтенант протянул Жогову ордер:
— Ознакомьтесь. Это ордер на производство обыска.
Результат обыска превзошел все ожидания. В тайнике под полом было обнаружено 637 золотых монет разного достоинства: царские десяти — и пятирублевки, британские гинеи, турецкие лиры. Здесь же хранилось четыре килограмма сто тридцать семь граммов золотого песка. В двух объемистых чемоданах были обнаружены наличные деньги на общую сумму один миллион двести семнадцать тысяч рублей.
В комоде рядом с кроватью Жогова нашли коричневый флакон с притертой пробкой. Лейтенант передал флакон вошедшему в комнату Разумному. Тот вытащил пробку, поднес к носу. Ноздри защекотал легкий запах горького миндаля.
— Откуда у вас цианистый калий? — спросил Разумный.
Жогов молча пожал плечами.
…В доме Пантюхина было обнаружено и изъято несколько рулонов хан-атласа, шелка и других тканей, а также готовая одежда и ряд других товаров, похищенных, как было неопровержимо доказано позже, из магазина на Чорсу. Наличными было изъято несколько десятков тысяч рублей.
…Немалая сумма денег и большое количество спирта в различной таре было найдено в притоне Стеганцевой. Спирт и краденые вещи были обнаружены при обыске в домах ряда других обитателей Караван-сарая.
Четырнадцать человек, задержанных во время проведения операции, были доставлены в управление милиции и размещены в камерах ДПЗ.
На следствии Жогов держался уверенно, даже вызывающе и категорически отрицал свою причастность к каким-либо правонарушениям.
— Деньги? Золото? Да, они принадлежат мне! Нажиты честным трудом. Всю жизнь… Что? Требуются доказательства? Извольте. Но сначала докажите обратное. Флакон? Какой флакон? Ах тот что нашли при обыске! Ей-богу, не знаю. Стоит в шкафу уже сто лет, не мудрено и забыть, откуда он взялся. Какой калий? И не думал в него заглядывать, до самого обыска не имел представление что там внутри. И сейчас не уверен. Какой еще запах, и что за запах!..
Совсем по другому повел себя на допросах Калогиров.
— Я давно хотел прийти с повинной. Но не решился. Однажды, правда, не выдержал, наговорил Жогову всякой всячины, грозился даже пойти и во всем признаться. Потом спохватился, сказал, что передумал и никуда заявлять не пойду. Почему! Вы Жогова не знаете! Для него человека убить — все равно, что муху. Что? А, теперь мне уже все равно. Семь бед — один ответ. Калогирис моя фамилия. Николас. Грек. Родился в Одессе в 1908 году. Отец ювелиром был. Собственный магазин на Херсонской, возле кирхи. Ювелира Калогириса весь город знал, уважаемый человек, знаток своего дела и честный до скрупулезности. Фирма — одним словом. Жогов, он тогда носил фамилию Жогос, Костас Жогос, приходится мне дядей по матери. Работал в магазине моего отца, а когда в 1914 году отца не стало, — прибрал магазин к рукам. Вначале по доверенности, которую ему моя мать выдала, а после ее смерти в 1916 году — полновластным хозяином стал. В 1918–1919 годах скупал у бандитов награбленное, разными валютными махинациями занимался с офицерами британских и французских войск. Потом к нему деникинские офицеры зачастили. Я тогда мальчишкой был, многого не понимал. Помню только, что несколько раз приезжал к Жогосу деникинский генерал с чудной какой-то фамилией. О чем они между собой беседовали — не знаю. Однажды слышал, как Жогос хвастался перед кем-то, что генерал его за особые заслуги перед царем и отечеством наградил. Я еще удивился: царя-то уже не было.
А чаще всех бывал в магазине на Херсонской поручик Станислав Зайончковский, про которого говорили, будто он в деникинской контрразведке служит.
В феврале 1920 года, когда деникинцы из Одессы драпанули, Жогос вместе с ними ушел в Ростов и меня с собой прихватил. Отсюда, уже после того, как город заняли красные, ринулись куда глаза глядят. Так и очутились в Ташкенте. В годы НЭПа Жогос коммерцией промышлял, потом, кажется, в Торгсине работал, а позже на какую-то торговую базу устроился мелким служащим. Вскоре после войны, не знаю уже случайно или намеренно, Жогос встретился со своим старым другом Станиславом Зайончковским. Тот, оказывается, осел в Иркутске, работал в областной потребительской кооперации. С тех пор Зайончковский стал довольно регулярно наведываться в Ташкент и всякий раз встречался с Жогосом. Вначале Костас скрывал от меня цель его визитов к нам, но потом решил, видимо, что пора кончать секретничать. Вот тогда то я и узнал, что Зайончковский привозит Жогосу золотой песок, приобретенный у старателей с Ленских приисков, а Костас сбывает его через маклера в Самарканде. Нет, фамилии маклера я не знаю, только имя — Матвей. Как и через кого Жогос с ним сошелся, — мне не известно. Одно могу сказать: за «товаром» Матвей всегда приезжал сам. Одевался он как последний забулдыга, все латаное-перелатаное, мятое, грязное. Вероятно, для конспирации. В ноябре 1947 года Зайончковский в очередной раз привез Жогосу большую партию золота. Обговорив, как обычно, все детали, «компаньоны» спрыснули сделку. Зайончковского замутило, он вышел во двор, и Жогос, воспользовавшись его отсутствием, влил в его чашку несколько капель цианистого калия. Ничего не подозревая, Зайончковский вернулся в комнату, хлебнул из чашки и тут же свалился замертво. Поздно ночью мы с Костасом отнесли труп к Салару и сбросили в воду.
Так я стал соучастником преступления. Что? Да, конечно. Сознавал и сознаю. Ну, а что оставалось делать? Я вам уже говорил, что за человек Жогос. Выбора у меня не было: либо с Костасом, либо — вслед за Зайончковским. Я это понял окончательно после случая с Матвеем…
Он приехал к нам в июне 1948 года. Не знаю, о чем они говорили, из-за чего повздорили… Возможно, не сошлись в цене на песок. Я пришел домой поздно ночью, когда Матвей уже уходил. Чувствовалось, что оба обозлены, хотя и стараются сдерживаться. Жогос пошел провожать гостя. Вернулся скоро и потом долго мыл руки в сенцах. Я тогда не придал этому значения. А утром прошел слух, что возле ворот Караван-сарая валяется чей-то труп. Я пошел взглянуть и тотчас узнал в нем ночного гостя.
— Ну, что еще… Жогос последнее время заметно нервничал, на неурядицы жаловался, сетовал на свое положение. У меня такое впечатление сложилось, что он куда-то лыжи навострил, хотя прямо об этом и не говорил. Может, скрыться хотел?..
…Следствие установило, что в Самарканде долгие годы проживал некто Климовицкий Матвей Архипович — известный всему городу махинатор и деляга. Был он одинок, ни семьи, ни родственников не имел. Примерно год назад уехал в неизвестном направлении.
Знакомым Климовицкого были предъявлены фотографии трупа, подвергшегося перед захоронением установленной в опознавательных целях косметической подготовке, и они уверенно опознали в нем самаркандского дельца.
— Разрешите, Борис Ильич?
— Да, конечно. — Булатов поднялся из-за стола и пошел навстречу входящим в кабинет Разумному и Лисунову.
Оба они были в штатском. Лисунов держал в руке небольшой потрепанный баул. Они обменялись рукопожатиями.
— Рад видеть вас в добром здравии, Федор Петрович. — Булатов похлопал Лисунова по плечу. — Присаживайтесь, товарищи. Как настроение?
Лисунов с Разумным обменялись многозначительными взглядами и улыбнулись.
— Ишь, заговорщики! — рассмеялся Булатов. — Выкладывайте, что у вас. Нечего секреты разводить.
— Выложим? — взглянул Разумный на Лисунова. Тот кивнул и, раскрыв баульчик, достал небольшой сверток.
— Это еще что? — поинтересовался Булатов.
— Подарок от Матрены Васильевны, — пояснил Лисунов. — Моей бывшей домохозяйки.
— И что в нем?
— Четыреста двадцать семь рублей.
— Та-ак… — Булатов продолжал выжидающе смотреть на лейтенанта. — Что еще в вашем бауле?
— Смена нижнего белья.
— И?
— И паспорт настоящего владельца баула Зайончковского Станислава Ксаверьевича. — Лисунов раскрыл паспорт и продолжил. — 1892 года рождения, проживает, вернее проживал в городе Иркутске по улице Советской, 18.
— Вот это находочка! — не выдержал Булатов. — Как вам удалось?..
— Да очень просто. — Лисунов опустил баул на пол и, улыбаясь, взглянул на начальника уголовного розыска. — Пришел сегодня распрощаться со своей квартирной хозяйкой, за простой расплатиться, вещички свои забрать, а она…
— …Взяла и подарила вам на память этот баул.
— Не совсем так, — улыбнулся Лисунов, — но в общем, примерно, соответствует. Зайончковский-то, оказывается, в свой последний приезд у нее останавливался.
— На ловца и зверь бежит, — вставил Разумный.
— Не понял? — вопросительно взглянул на него Булатов.
— Знал Лисунов у кого квартироваться.
— Думаете, просто повезло? Удача привалила?
— А разве нет?
— Только отчасти. Разумеется. Матрена Васильевна могла просто-напросто прикарманить эти четыреста двадцать семь рублей, а документы выбросить. Но она — честный человек и именно этим мы прежде всего руководствовались при выборе места жительства Лисунова. И потом — Булатов встал из-за стола и прошелся по комнате. — Караван-сарай это, конечно, трущобы, дно. И все-таки неверно считать всех его обитателей законченными подонками. В этом мы уже убедились и убедимся еще не раз. А коли так, то на след Зайончковского мы бы все равно вышли рано или поздно. Верно я говорю, товарищ старший лейтенант?
— Это вы мне? — удивленно вскинул брови Лисунов.
— Вам. — Булатов подошел вплотную к Лисунову и крепко пожал ему руку. — Поздравляю вас, Федор Петрович, с досрочным присвоением очередного звания.
…Жогов упорствовал довольно долго, категорически отрицая все обвинения и только после очной ставки с Калогировым как-то сразу сник, перестал отвечать на вопросы, а еще несколько дней спустя сам заявил, что хочет сделать чистосердечное признание. Насколько оно было «чистосердечным» можно судить хотя бы по тому, что отравление Зайончковского он объяснил своей ненавистью к деникинскому офицеру, а Климовицкого по его словам он убил «как паразитирующего тунеядца».
…Стеганцева Мария Игнатьевна в ходе допросов призналась во всем. Разумеется, она не желала зла бедному Вите Малахову. Просто хотела проверить, врет он или нет, вот и поднесла спичку к его одежде. Торгует краденым спиртом? Да, торгует. А что делать? Жить-то надо. К тому же… Что? Кто перебрасывает грелки со спиртом с территории завода? Назвать фамилии? Пожалуйста…
— Малахова Анастасия Федоровна. Сын, да. Что? Следователь повторил вопрос.
— Да, конечно. Подтверждаю. Сгорел сыночек мой. Качал примус и… Что? Что вы такое говорите, товарищ следователь!.. Как же это можно… Зачем напраслину на человека возводить? Мария Игнатьевна… она…
— Прочтите, пожалуйста, показания Стеганцевой. — Следователь подвинул к Малаховой папку. — И хорошенько подумайте, прежде чем отвечать на вопросы. Речь идет о вашем сыне. О вашем покойном сыне, Анастасия Федоровна. А я вас пока оставлю одну. Решите помочь следствию, — вот бумага и ручка. Напишите все как было.
— Да чего уж там, гражданин следователь. Ваша взяла. Теперь скрывай, не скрывай — все одно. Было дело. Втроем магазин брали. Пишите: Никифоров Степан. Отчества не помню. Павлович, кажись. Вместе срок отбывали, оттуда и знакомы. А третий — шофер с мелькомбината. Наилем зовут. Фамилия Бекматов. Он возле машины ждал.
— Что? Нет, сторожа убивать и в мыслях не держал. Да и зачем? Он ведь магазин так сторожил? С вечера покрутится, а часиков в одиннадцать домой топает дрыхнуть. С утра пораньше заявится, запоры проверит и до открытия в сторожке чаи гоняет. А тут на свою беду ночью нагрянул. Степка едва успел замок сбить, а этот хмырь возьми и объявись. Ну, я его за глотку, да кляп в рот, чтоб шухер не поднял. А он, возьми и загнись. Хлипкий оказался, вот и не пожил. Ну, а дальше проще простого: подогнали машину, загрузились и ходу.
— Было еще пару раз. Втроем, ага. В том же составе. Комиссионный на Алайской и «Химчистку» на Педагогической. А больше не ходили. Они, может, сами, а я извини. Завязал. Где живут? Скажу, чего же не сказать. Они оба в законе. Подписать? Тут, что ли? Понятно. Можно и разборчиво: Пантюхин Федор Евстигнеевич.
Задержанные во время операции в Караван-сарае бандиты, воры, скупщики краденого, содержатели притонов, спекулянты после окончания следствия предстали перед судом, из них — пять работников завода, систематически похищавших спирт.
Материалы, связанные с хищением, доставкой и реализацией золотого песка с Ленских приисков, были переданы для доработки в ОБХСС республики.
Мы еще некоторое время постояли на мосту через Салар. занятые каждый своими мыслями.
«Все меняется, думая, глядя на крупные многоэтажные дома на месте прежнего скопища лачуг. Многое уходит безвозвратно. Из жизни, из человеческой памяти.
Мало кто из современных ташкентцев помнит о Караван-сарае. А ведь он был. И если не о нем, то о событиях, с ним связанных, о людях, которые приближали конец этого гадюшника, следует помнить всегда…»
— Едем! — прервал мои рассуждения Борис Ильич. Я и не заметил, когда он успел остановить такси.
— Непременно на такси?
— Да, — кивнул Булатов. — На такси.
— И куда же, если не секрет?
— На Рисовую.
НОЧНОЙ ЗВОНОК
Пожалуй, никто из завсегдатаев чайханы не мог похвастать, что видел участкового уполномоченного Икрамджана Пулатова без фуражки. Подтянутый, щеголеватый, в неизменно начищенных до зеркального блеска сапогах, младший лейтенант не расставался с нею даже в самую лютую июльскую жару. Лестные острословы утверждали, что он и спит в ней, опустив для надежности ремешок под подбородок. Утверждали, впрочем, беззлобно, так как за полтора месяца работы энергичный и добросовестный участковый сумел завоевать авторитет и уважение у аксакалов и остальных жителей кишлака, что же до детворы, — то она его просто боготворила.
Единственной каплей дегтя была злополучная фуражка. Стоило Пулатову появиться в чай хане и, поздоровавшись со всеми, подсесть к старикам, коротавшим время за чаем и неспешной беседой, кто-нибудь из них, убедившись, что настроение у участкового хорошее (а так оно чаще всего и было) издалека заводил разговор о фуражке.
Так было и на этот раз. Убеленный сединой пенсионер Саид-бобо, лукаво покосившись на Пулатова, обронил как бы невзначай.
— В такую духоту не мешало бы и голове дать подышать, а Икрамджан?
— Да ты что, Саид-бобо! — тотчас откликнулся другой старик. — Устав не знаете? Икрамджан на службе находится. Как же ему без фуражки?
— Йе? — притворно удивился Саид-бобо. — В чайхане — и на службе? А отдыхать когда? Милиционер днем и ночью на страже. — И все время я в фуражке?
— А как же? Участковый без фуражки — что дехканин без бельбога. Рахимджан-бобо вчера позабыл дома бельбог, так потом пришлось с поля возвращаться. Пять километров пешочком отоптал. Туда и обратно.
Все, кто присутствовал в чай хане, с возрастающим вниманием следили за развитием разговора. Один младший лейтенант невозмутимо потягивал чай из пиалы.
— Бельбог нужен, — согласился седобородый насмешник. — Бельбог — вещь необходимая. И кубышку с насваем в него завернешь, и оби-нон, и заварку, и парварду, и спички. Повязал на живот и шагай, куда хочешь…
— Вместо рюкзака! — подсказал кто-то из молодых, но старики игнорировали реплику.
— Ну, а фуражка?
— А вы знаете, уважаемый Саид-бобо, что у Икрамджана в фуражке? — ехидно поинтересовался собеседник.
— Голова, что же еще? — развел руками Саид-бобо.
— Вот тут-то вы и сплоховали! Государственные секреты, вот что у него в фуражке. Снимет, секреты — фыр-р-р! — и разлетелись. Понятно вам теперь? Или я не прав, а Икрамджан?
— Правы-правы! — усмехаясь, кивнул младший лейтенант.
— Скажи, сынок, — не унимался Саид-бобо, а засекреченного оружия у тебя там случайно нет? Такого, чтобы как снимешь фуражку, так все и окаменели?
— Может, и есть. — Участковый спокойно налил чаю в пиалу и поднес к губам. — Я его, пожалуй, на вашем внуке испытаю. Если сами меры не примете.
— А что мой внук? — насторожился Саид-бобо.
— Моду завел из-за дувала зелеными яблоками проходящие машины обстреливать. Председательскому шоферу глаз подсветил.
— Это вы серьезно, Икрамджан?
— Не верите, у пострадавшего поинтересуйтесь.
— Сегодня же задам трепку негоднику!
— Правильно сделаете. — Пулатов отхлебнул из пиалы и опустил ее на дастархан. — Есть еще ко мне вопросы?
— У толстяка Маннова есть, — откликнулся собеседник Саид-бобо. — Только он сам спросить стесняется.
Маннов, кишлачный парикмахер, беспокойно заерзал на месте.
— Ладно уж, сиди Маннов, — кивнул старик. — Я за тебя спрошу. Он, Икрамджан, ночами не спит, гадает, почему все односельчане к нему стричься-бриться идут, а ты — нет.
— Только и всего?
— Да шутят они! — не выдержал Маннов. — Не верьте, Икрамджан-ака!
По чайхане прокатился дружный смех.
— Товба! — возмущенно развел руками старец. — А еще бритвой орудуешь! С твоей заячьей душонкой в повара надо было идти, а не в парикмахеры! Сам же тут распинался: «Я бы участкового бесплатно стриг, лучшим одеколоном брызгал!» Все слышали.
— Когда? — вытаращил глаза брадобрей. — Кто слышал?
Чайхана покатывалась с хохоту.
— Да хотя бы Рахимджан-бобо. Вот он, кстати, легок на помине, — указал старик на входящего в чайхану пожилого дехканина. — Спроси-спроси. Я не я буду, если не подтвердит. Уж кто-кто, а бригадир соврать не даст.
Довести розыгрыш до конца не удалось. Рахимджан-бобо был явно чем-то встревожен. Отыскав глазами участкового, он подошел к нему вплотную и что-то шепнул на ухо. Икрамджан тотчас поднялся, положил на дастархан мелочь за чай, и они вдвоем направились к выходу.
Она стояла метрах в двадцати от дороги, среди смятых и искалеченных кустов хлопчатника — пепельно-серая «Победа» с шахматным пояском вдоль кабины.
— Недобрый человек это сделал! — возмущался Рахимджан-ака. — Мы за каждым кустиком, как за ребенком ухаживаем, а он… Взял и пропахал по живому. Или пьяный был, или еще что… Я сначала сам его дождаться хотел, головомойку устроить. А потом подумал: пусть лучше милиция этим займется. По закону чтобы.
— Правильно подумали, — похвалил младший лейтенант. — Самосуд до добра не доводит.
Он осмотрел машину, стараясь не наступать на и без того примятые кусты хлопчатника. Распахнул дверцу, обследовал кабину.
— Странно.
— Что? — не понял старик.
— Куда шофер мог деться, думаю. Судя по всему, машина тут уже несколько часов стоит. Бензина больше полбака, рулевое управление в порядке. Может, аккумулятор сел?
Икрамджан поднял капот и проверил аккумулятор.
— Тоже в порядке. Вот что, Рахимджан-ака, вы тут побудьте на всякий случай, а я съезжу, автоинспектора вызову. Посторонних к машине не подпускайте, ясно? И сами ничего не трогайте.
— Что, я мальчишка, что ли? — обиделся старик.
— Вот и прекрасно.
Участковый выбрался на дорогу и торопливо зашагал в сторону поселка.
Возвратился он на мотоцикле с коляской часа полтора спустя, вдвоем с лейтенантом Николаевым из ГАИ.
Оставив мотоцикл на дороге, они поспешно направились к машине.
— Здравствуйте, уртак лейтенант, — поздоровался с автоинспектором Рахимджан-ака, выходя из-за «Победы». Тот тоже кивнул и пожал ему руку. Потом достал из нагрудного кармана записную книжку, раскрыл и еще раз взглянул на номер машины.
— Ну, товарищи, спасибо вам большущее. Мы эту машину вторые сутки по всему Ташкенту ищем.
— Угон? — спросил участковый.
— По-видимому, да.
— А что с шофером? Неизвестно.
Лейтенант вздохнул.
— Вот уже больше месяца в городе какая-то банда орудует. Угоняют машины, обычно такси, совершают ограбления и бросают где попало. Шоферов как правило убивают. Одного покойника в Саларе нашли, другого на Тезиковке, третьего в Анхоре.
— Вот негодяи! — возмутился старик. — А уголовный розыск что делает?
— Ищем, — коротко бросил лейтенант, забираясь в кабину. Достал связку ключей, подобрал нужный и завел мотор. — Значит так. Я отгоню машину. А ты, Икрамджан, заканчивай дела здесь и на мотоцикле приезжай туда же. Договорились? Держи ключ.
Совещание в кабинете начальника уголовного розыска республики подходило к концу.
— Подведем итог, — Булатов встал из за стола и прошелся по кабинету. — Из всего, что здесь было сказано ясно одно: мы имеем дело с матерыми, опытными преступниками. Они действуют обдуманно, быстро, решительно, и почти не оставляя следов.
— Профессионалы… — вздохнул начальник городского уголовного розыска Юрков. — Сорок девять дней орудуют — ни одной зацепки.
— Профессионалы, говорите? — прищурился Булатов. — А мы с вами кто в таком случаи? Дилетанты? Любители? Послушать вас, — нам только и остается, что сидеть, сложа ручки, да ахать. А бандиты тем временем совершают убийства, грабят магазины!..
— Вы меня не так поняли, Борис Ильич.
— Я вас правильно понял, Петр Федорович. От вас требуются не ахи-охи, а оперативные меры по выявлению и обезвреживанию банды. Я не оговорился, сказав, что они почти не оставляют следов. Это вы, надеюсь, поняли?
— Да. — Юрков кивнул.
— Слушаю вас.
— Во-первых, почерк. Все налеты совершены с помощью угнанных машин. Как правило, это такси.
— Так… — Булатов продолжал выжидающе смотреть на Юркова.
— Все водители убиты.
— Так-так… — оживился Булатов, явно направляя мысль Юркова в нужном направлении. — Продолжайте.
— Убиты одним и тем же орудием: удавкой.
— Вот! — Булатов вернулся на свое место и опустился в кресло. — Вот вам и след.
Присутствующие недоуменно переглядывались. Юрков несколько мгновений сосредоточенно молчал, прикусив нижнюю губу, затем встряхнул головой.
— Не понимаю! — замешкался он. — Вы говорите след… Ну, разумеется, в каком-то смысле…
— В самом прямом, — прервал его Булатов. — Вспомните, удавками в свое время орудовали ОУНовцы в Западной Украине, расправляясь с советскими активистами. В практике преступников Ташкента такого орудия, насколько мне помнится, до сих пор не было.
— Вы считаете, что эта банда пожаловала к нам оттуда? — спросил заместитель начальника уголовного розыска города Герасимов.
— По крайней мере один из них, — кивнул Булатов. — И что то мне подсказывает: он у них главарь. Давайте-ка, «прокатайте» эту версию.
Участники совещания заговорили сразу же между собой. Булатов прислушивался к разгоревшимся дебатам, а затем снял трубку телефонного аппарата.
— Клавдия Петровна, Разумный у себя?
— Майор Разумный, должен быть, в Нукусе, — отрапортовал Юрков.
— Ах да, черт возьми, запамятовал. — Булатов вернул трубку на место и вдруг в упор взглянул на Юркова. — Стоп-стоп, а вам это откуда известно?
— Разве это секрет? — в свою очередь удивился Юрков.
— Секрет не секрет, а знали о предстоящей поездке всего двое: я и Разумный. Договорились вчера вечером. Кто вам мог сказать о поездке?
— Жена, — улыбнулся Юрков. — А ей сказала ваша жена. Они, как вам известно, дружат с женой Разумного.
— М-да, — Булатов потер подбородок тыльной стороной кисти. — Конспирация, ничего не скажешь.
Зазвонил телефон.
— Булатов слушает. Что? Не улетел? Вот и прекрасно. Пусть идет сюда.
Он опустил трубку на рычажки и, взглянув на Юркова, пояснил:
— В Нукусе нелетная погода. Ну что ж, — теперь он обращался ко всем присутствующим. — Юркову и Герасимову остаться. Остальные товарищи свободны. Утром жду вас с предложениями по последней версии. До свидания, товарищи.
Разумный был в штатском костюме, и Булатов поймал себя на мысли, что тому, кто не знает майора, невозможно определить его принадлежность к милицейской службе. Завидное качество для оперативного работника.
— Не улетели? — спросил Булатов, обмениваясь с майором рукопожатием. Разумный молча пожал плечами. — Это даже к лучшему, так что не огорчайтесь. Прошу.
Булатов жестом пригласил всех к приставному столу и сам сел рядом с Разумным.
— Значит, так. Сегодня, а точнее два часа тому назад поступило сообщение о том, что опять обнаружено угнанное накануне такси. Судя по всему, с помощью этой машины совершена очередная магазинная кража. Улавливаете, к чему я клоню, Александр Александрович?
Разумный кивнул.
— Почерк тот же, что и в предыдущих случаях. Труп таксиста, правда, не обнаружен. Тем не менее есть основания полагать, что действует все та же банда «гастролеров».
— «Гастролеров»? — переспросил Разумный.
— Да. Мы тут с товарищами почти единодушно сошлись во мнении, что это дело рук приезжих преступников.
— Есть веские основания?
— Есть. Но об этом позже. Сейчас я вот о чем хотел с вами посоветоваться. А что, если…
Булатов помолчал, обдумывая, как четче сформулировать мысль.
— В общем я исхожу из того, что бандиты, которых мы разыскиваем, вряд ли тесно связаны с местными преступниками.
— Я подчеркиваю: тесно. Потому что какие-то контакты, наверняка, есть. Так?
— Логично, — согласился Юрков.
— Далее, — Булатов побарабанил пальцами по столу, — между местным ворьем и «гастролерами» неизбежно должен возникнуть конфликт.
— Почему неизбежно? — усомнился Герасимов. — Может и не возникнуть.
— Конфликт неминуем, — убежденно продолжил Булатов. — Во-первых, конкуренция. Во-вторых, — зависть: уж больно удачливы «гастролеры». В-третьих, ну, скажем, женщина…
— Допустим, — кивнул Разумный. — И что из этого следует?
— Либо перегрызутся между собой, — усмехнулся Юрков, — либо «Гастролеры» заблаговременно смоются из Ташкента.
— Верно, — согласился Булатов. — Но не исключен и третий вариант. И к нему надо быть готовым. А пока отправляйтесь, Александр Александрович, вместе с товарищем Герасимовым в автоинспекцию и тщательно осмотрите угнанное такси. Прихватите с собой эксперта НТО.
В глубине двора возле светло-серой «Победы» с шахматным пояском прохаживался, нервно попыхивая папиросой, автоинспектор Николаев. Увидев приближающихся оперработников, облегченно вздохнул и затоптал окурок.
— Привет! А я уж вас заждался совсем. Обещали в два, а уже почти полтретьего.
— Эта машина? — деловито осведомился Разумный, делая вид, что не слышал упрека лейтенанта.
— Эта, товарищ майор, — уже совсем другим тоном ответил Николаев.
— Приступай, Сережа, — кивнул Разумный эксперту. — С салона начни.
Тот распахнул дверцу водителя и, слегка пригнувшись, заглянул внутрь. Затем резко выпрямился и взглянул на автоинспектора.
— Вы пригнали машину?
— Я. А что?
— Покажите подошвы.
— Что? — Не сразу понял лейтенант.
— Подошвы ваших сапог покажите.
— А-а… Пожалуйста.
Николаев повернулся спиной к эксперту, согнул в колене одну ногу, потом вторую. На кожаной подошве сапог блеснули головки медных гвоздиков.
— Так я и думал, — констатировал эксперт. — Придется за гипсом идти.
— Не понял? — недоуменно переспросил лейтенант.
— Взгляните сюда, — эксперт ткнул пальцем в открытую дверцу кабины.
Все трое подошли ближе и заглянули в кабину.
На резиновой прокладке между тормозной педалью и акселератором отпечатался четкий рисунок рубчатой подошвы.
— Вот и первая улика, — сказал Герасимов.
— Не будем спешить с выводами, — охладил его Разумный. — След еще неизвестно кем оставлен. А руль ты осмотрел, Сережа?
— Да, — кивнул эксперт. — Отпечатков много, но они скорее всего принадлежат товарищу лейтенанту.
— Ладно, ступай за гипсом. А мы пока что багажник обследуем. — Разумный взглянул на автоинспектора. — Вы открывали багажник?
— А что там может быть? — пожал плечами Николаев. — Домкрат, запаска, канистра…
Договорить он не успел. Разумный поднял крышку багажника и, мгновенно побледнев, жестом подозвал коллег.
В багажнике, скрючившись, в неестественной позе лежал человек. Руки были связаны за спиной. Ноги согнуты в коленях, подтянуты к самому подбородку и тоже скручены веревкой.
Оперработники осторожно вызволили его из багажника, развязали веревки, но он так и остался лежать на земле, сжатый в комок, словно младенец в материнской утробе, неподвижный, застывший. Казалось, он был мертв. Но когда Герасимов вытащил кляп изо рта пострадавшего, тот еле слышно, глухо застонал.
— Врача! — скомандовал Разумный. — Вызывайте «скорую»!
Через несколько минут пострадавший был доставлен в ТашМИ. Он по-прежнему не приходил в сознание. По найденным при нем документам удалось установить личность. Это был водитель такси Гурген Амбарцумян.
Лучше всего Булатову работалось по ночам. Он знал это и намеренно оставлял самые сложные дела на вечер, когда схлынет суета трудового дня, в опустевших коридорах воцарится тишина и после короткого отдыха мысль начнет работать четко, без сбоев.
Но сегодня что-то мешало ему, не давало сосредоточиться. Булатов досадливо поморщился. Скрупулезно требовательный к себе, он не терпел небрежности у других. А здесь она была налицо: халатная небрежность, едва не приведшая к гибели человека. И это — в случае, если врачам удастся его спасти. А если нет?
Булатов резким движением руки отодвинул в сторону бумаги. Ну как же можно было осмотреть машину и не догадаться заглянуть в багажник? Потерять столько драгоценного времени?! Чем быстрее пришел бы в сознание Амбарцумян, тем раньше удалось бы получить сведения о преступниках. Сведения, без которых практически розыск топчется на месте.
Булатов взглянул на часы и покачал головой: четвертый час, скоро начнет светать. Так поздно он давненько не засиживался. Пожалуй, надо отправляться домой.
Он протянул руку, чтобы убрать в сейф бумаги, но раздумал и крепко стиснул пальцами подбородок. Что-то удерживало его на месте. Что — он и сам не смог бы объяснить. Какая-то подспудная, не оформившаяся мысль, предчувствие, интуитивное ожидание чего-то… Булатов зажмурился и саркастически усмехнулся. Чуть ли не мистика…
На столе резко и требовательно зазвонил телефон. Булатов встрепенулся и рывком снял трубку.
— Слушаю!
— Поздно сидишь, начальник. — голос звучал глухо, невнятно. — Дел много, а?
— Слушаю, — уже спокойнее повторил Булатов.
— Ну, слушай, слушай, — на том конце провода помолчали. — Считай, пофартило тебе, начальник.
— Вы о чем?
— О том же, о чем и ты.
— Говорите яснее.
— Погоди спешить, начальник. Ты меня не знаешь, зато я о тебе наслышан. Хочешь, скажу, об чем сейчас маракуешь? Об налетчиках, которые таксистов гробают. Угадал?
— К делу, — отрывисто бросил в трубку Булатов. С неизвестно откуда пришедшей уверенностью он понял, что сейчас будет сказано главное. И это главное будет правдой.
— Спешишь? — в трубке хрипло прокашлялись. — Правильно делаешь, начальник. Поспешишь, всю шайку-лейку возьмешь.
Торопись до свету. Сегодня они когти рвать будут. Не поспеешь, — слиняют. Слышал?
— Да. — Булатов плотно прижал к уху трубку, ловил каждое слово.
— Ну, запоминай, коли так. Рисовая улица, в сторону Болгарских огородов первый проулок направо. Третий дом от угла. Усек? Не ошибешься. Два окна в проулок. Там все трое и Нюська с ними. Поостерегись, шпалеры у них. А за главного бандеровец у них. Зверь лютый. Нюську у меня отбил, сука. А она, стерва, и рада… Все, начальник. Действуй, не ошибешься.
В трубке щелкнуло, и пошли короткие гудки отбоя. Булатов опустил трубку на стол рядом с аппаратом и позвонил по внутреннему телефону.
— Дежурный Войтенко слушает!
— Выясните, с кем соединен мой телефон, товарищ Войтенко.
— Слушаюсь.
Не отнимая от уха трубки внутреннего телефона, Булатов облокотился о стол и закрыл глаза. Со стороны могло показаться, что он задремал. На самом же деле Булатов лихорадочно прикидывал в уме все «за» и «против». Провокация? Зачем? Отвлекающий маневр? Допустим. От чего отвлекают? От очередного грабежа? Какой смысл? Непонятно.
— Борис Ильич? — отвлек его от мыслей голос дежурного.
— Да.
— Ваш аппарат соединен с телефоном базы райпромторга.
— Где расположена база?
— На Куйлюке, Борис Ильич. Улица Рисовая, 72.
— Ясно. Номер телефона записали?
— Записал.
— Диктуйте.
Телефон базы откликнулся тотчас же.
— Охранник Гаипов слушает.
— Начальник уголовного розыска полковник Булатов. Как у вас дела?
— Нормально, товарищ полковник. Все спокойно.
— Кто только что звонил с вашего телефона?
— Кто звонил? — охранник явно тянул время, соображая, что ответить. Решился. — Тип какой-то заходил. Сказал, срочно позвонить надо. Ну я…
— Один? — перебил Булатов.
— Что один? — переспросил охранник.
— Заходил один, спрашиваю!
— Один-один, — заторопился Гаипов. — Вы не подумайте, товарищ полковник. Он только позвонил, и я сразу дверь запер. Что-нибудь не так?
— Потом разберемся. Продолжайте дежурство.
— Хорошо, товарищ полковник.
Булатов опустил трубку на аппарат и с силой прижал ладони к глазам. Глаза нестерпимо жгло. Пульсирующая боль отдавалась в висках. И так же, пульсирующими толчками, работало сознание. Так. Звонили с Рисовой. И дом, в котором, если верить звонившему, находятся преступники — тоже на Рисовой. Какая-то связь между этим есть. Какая? Решили устроить засаду? Вряд ли. Зачем это им? Где гарантия, что я отреагирую на звонок? А даже если и отреагирую, откуда им знать, какие силы будут брошены на задержание преступников?
Нет, тут что-то другое. Скорее всего человек потому и звонил с Рисовой, что спешил. Убедился, что «гастролеры» на месте, что утром собираются удрать и кинулся звонить с ближайшего телефона. И плевать, какими он при этом руководствовался побуждениями. В разговоре мелькнула какая-то Нюська. Вполне возможно, — ревность. Но это сейчас не важно. Надо решаться. Надо решаться…
— Дежурный! — Булатов вздрогнул от того, как резко и повелительно прозвучал его собственный голос. С удивлением скосил глаза на прижатую к щеке трубку телефона. Подсознательно, еще не решив окончательно, что делать, он уже начал действовать.
— Войтенко слушает, товарищ полковник!
— Сколько у нас людей в наряде?
— Сейчас только я, да судмедэксперт, товарищ полковник. — Обе опергруппы на выезде.
— И все?
— Проводник со своей Альфой. Булгаков из тринадцатого отделения в соседней комнате отдыхает. Домой идти далеко, а в семь утра ему уже заступать. Да, вот товарищ Разумный зашел, уходить собирается.
— Разумный? Отлично! Разумного, Булгакова и проводника — ко мне!
— Слушаюсь, товарищ полковник.
— Машину к подъезду.
— Слушаюсь.
— Кто водитель?
— Ковалев, товарищ полковник.
— Прекрасно. Пусть захватит оружие. Выезжаем на операцию. Как только возвратится опергруппа — пошлите на Куйлюк. Трамвайная остановка на углу Рисовой. Запомнили?
— Так точно, товарищ полковник. Выслать опергруппу к трамвайной остановке на Рисовой.
— Действуйте, Войтенко.
— Слушаюсь.
«Разумный, Булгаков, проводник, Ковалев, — рассуждал Булатов, доставая из сейфа наган и засовывая его за пояс. — Ну что ж, группа что надо. Разумный с Булгаковым — опытные работники. Ковалев — классный стрелок, призы на соревнованиях берет… А там, глядишь, дежурная опергруппа подоспеет». Он перекинул через плечо шлейку мощного электрического фонаря и захлопнул сейф.
В дверь постучали.
— Да! — Булатов шагнул навстречу входящим. — Выезжаем на операцию, товарищи. Времени — в обрез. Так что инструктаж — по дороге, в машине.
Альфа скользнула в открытую дверцу и привычно улеглась над спинкой заднего сидения. Майор Разумный, капитан Булгаков и младший лейтенант Махкамов уселись сзади, Булатов — рядом с водителем — впереди. Машина тронулась, выехала на улицу и, набирая скорость, понеслась по ночному городу.
Несколько минут Булатов ехал молча, мысленно продолжая прикидывать план предстоящей операции. «Ну, а если сообщение окажется ложным? — подумал он и зябко поежился. — Сраму не оберешься. Может, не рисковать? Еще не поздно».
Не поворачивая головы, он покосился на водителя. Выражение подсвеченного снизу сигнальными лампочками приборного щитка лица Ковалева казалось особенно решительным и суровым. Булатов поднял глаза на зеркальце заднего обзора. В полутьме смутно белело лицо капитана Булгакова. Выражение его было трудно разглядеть, но когда «Победа» поравнялась с уличным фонарем, Булатов прочел на лице капитана все ту же сосредоточенную решимость.
«Нет, — сказал он себе, — обратного хода не будет. В крайнем случае понесу наказание. Извинюсь перед хозяевами дома. И срам как-нибудь переживу. Кто не рискует, тот не выигрывает». Получилось банально и пошловато. Он поморщился и, обернувшись к спутникам, принялся объяснять суть предстоящей операции.
…Когда они подъехали к Рисовой, было еще темно, но чувствовалось, что вот-вот начнет рассветать.
— Значит, договорились, — резюмировал Булатов. — Стрелять только в случае вооруженного сопротивления и только в ноги. Ты все понял, Коля? Ты, Саша?
Спутники молча кивнули. В министерстве всем было известно, что если Булатов обращается к подчиненным на ты, значит, он сильно взволнован.
«Победа» остановилась, не доезжая до поворота. Булатов и сопровождающие его члены опергруппы вышли из машины. Вслед скользнула овчарка. Водитель тщательно запер дверцы и последовал за ними.
Поворот. Первый, второй, третий дом. Его и домом-то не назовешь: обветшалая развалюха. Два окна в переулок, одно во двор. Даже в темноте видно, какие они старые: рамы перекошены, ставни держатся на честном слове…
Последние наставления шепотом. Все заняли свои места. Гулко отдается в виске пульс, отсчитывая последние секунды. Пора!
С грохотом падает вышибленная Махкамовым дверь. Они врываются в нее почти одновременно: Альфа, Махкамов и Булатов с наганом в правой и фонарем в левой руке.
Крохотная прихожка и — комната. В ноздри ударяет затхлой сыростью и спиртным перегаром. Рычит, беснуясь, рвется с поводка Альфа. Яркий луч фонаря выхватывает из кромешной тьмы ошалелые спросонья лица трех мужчин, расположившихся на полу. У стены на раскладушке испуганно вскрикнула женщина. Не до нее!
— Ни с места! — Булатов держит фонарь так, чтобы он освещал троих на полу. — Руки!
Один из мужчин метнулся к столу. В то же мгновенье со стороны окна ударил выстрел. Взвизгнула, срикошетив, пуля. Что-то с глухим металлическим звуком упало на пол.
С треском и звоном рухнули оконные рамы. Разумный, Ковалев и Булгаков ворвались в комнату, скрутили преступников. Махкамов включил свет, нагнулся, поднял упавший за стол кольт.
В соседней комнате истошно заголосила хозяйка.
— Не моя вина!.. Силком вломились!.. Угрожали дом подпалить!..
— Спокойно, мамаша! — гаркнул Булгаков. — Разберемся!
Женщина затихла, слышались лишь ее судорожные всхлипывания. На шум из ближайших строений начали собираться соседи.
— Без паники, товарищи! — Разумный достал удостоверение, раскрыл, протянул вошедшему первым усатому мужчине, с виду рабочему. — Уголовный розыск. Прошу всех оставаться на своих местах.
Усатый скользнул взглядом по удостоверению, молча кивнул. Трое в нижнем белье стояли посреди комнаты со связанными за спиной руками. Овчарка продолжала грозно рычать, не сводя с преступников злых желтых глаз. Женщина сидела на раскладушке, прижавшись спиной к стене и придерживая у шеи лоскутное одеяло.
— Бандюги проклятые! — процедил усатый сквозь зубы и обернулся к двери, возле которой толпились соседи. — Не напирайте, ребята. Порядок. Угрозыск бандитов зацапал.
Снаружи коротко просигналила машина. Подоспела оперативная группа, высланная на место происшествия дежурным Войтенко.
Казалось бы, Булатов имел все основания быть довольным: операция прошла без сучка, без задоринки. Потерь нет.
Бандиты взяты. Как он и предполагал, возглавлял банду матерый преступник Степа Охрименко, в прошлом — один из главарей фашистско-националистических формирований бандеровцев, орудовавших на территории Западной Украины в 1943–1947 годах. Тогда Охрименко сумел ускользнуть от ареста и в течение нескольких лет безнаказанно совершал злодеяния на территории Казахстана и среднеазиатских республик. Но сколько веревочке ни виться, а конец один, — возмездие настигло бандита и убийцу.
В ходе следствия была приобщена к делу копия показаний некоего Петренко. В прошлом бандеровец, Петренко был арестован в 1948 году, осужден и, находясь в местах заключения, осознал свою вину, встал на путь раскаянья. В своих показаниях Петренко рассказал, в частности, о том, как Степан Охрименко обучал своих головорезов убивать советских активистов с помощью удавки, а если стрелять, то только сзади, в почки, чтобы жертвы перед смертью испытывали долгие и страшные муки.
Вторым арестованным на Рисовой бандитом оказался Яковлев, он же Сидоркин, он же Михайлов, имевший ранее пять судимостей. Третьим — Мещеркин, уголовник с двумя судимостями, бежавший из мест лишения свободы. Оба показали, что Охрименко обучал их, как пользоваться удавкой и на глазах у них душил таксистов.
Преступники получили по заслугам. Не ушла от возмездия и соучастница преступления «Нюська» — Анастасия Ефремова, 24 лет от роду, ведущая паразитический образ жизни и тесно связанная с преступным миром. В ходе следствия были выявлены и предстали перед судом скупщики награбленного. Изъятые при арестах деньги и материальные ценности пошли в доход государства.
Руководством МВД республики были отмечены четкие и слаженные действия оперативной группы.
Элемент случайности — вот, пожалуй, что не устраивало Булатова во всей этой истории. Не будь ночного звонка, неизвестно как бы все повернулось. А значит… Что «значит» — не понимал толком и сам Булатов. И именно это раздражало его и злило.
Обнаружить человека, который позвонил ему в ту памятную ночь и «навел» на бандитов, так и не удалось. Анастасия Ефремова, она же «Нюська», на допросах разводила руками и терялась в догадках. «Кавалеров» ей было не занимать, но никто из названных ею мужчин в уголовный розыск не звонил. Это можно было считать доказанным, так как сторож базы ни в одном из них не смог опознать звонившего.
Прямого отношения к следствию это, почти наверняка, не имело, и очные ставки проводились по настоянию самого Булатова. Подсознательно, не отдавая себе отчета, он стремился во что бы то ни стало выяснить и до конца понять причину, побудившую человека позвонить в угрозыск. Это стало мучительной загадкой, своего рода навязчивой идеей, и, наверное, еще долго терзало бы его, не явись месяца два спустя после захвата банды Охрименко в уголовный розыск мужчина лет тридцати «по личному вопросу» и «непременно к товарищу Булатову».
Первые же слова посетителя заставили Булатова насторожиться. Не слова даже, интонации. Булатов тотчас вспомнил все и пристально вгляделся в лицо посетителя.
Лицо как лицо. Скуластое, невыразительное. Утопленная переносица, близко посаженные беспокойные глаза то ли серые, то ли светло-голубые. Массивный подбородок, не гармонирующий с тонкими злыми губами.
Губы шевелились, произносили какие-то слова, но смысл их не сразу дошел до Булатова.
— …Я тогда звонил насчет гастролеров.
— Знаю, — произнес Булатов нарочито спокойно. Гость равнодушно кивнул.
— Вычислили, стало быть. Ну вот я и пришел. — Глаза на мгновенье остановились на лице Булатова и вновь забегали. — Мокрых дел за мной нет. А остальное — ерунда. Лет на пять потянет, не больше.
— С повинной, значит.
— Ну, считайте, с повинной. — Человек вздохнул. — Надоело в страхе жить. Вот и решился.
— Потому и позвонили?
— Что? — не понял гость.
— Звонили, говорю, потому что решили — зачтется, как смягчающее вину обстоятельство?
— A-а, вон вы о чем… Нет, тогда я об этом не думал.
— А потом позже?
— Была мыслишка. Только не это главное.
— Что же главное?
Мужчина опустил голову, провел рукой по коротко остриженным волосам.
— Долго рассказывать, начальник. А если коротко — понял я, что долго так не протянешь.
— А Нюська? — не удержался Булатов.
— Не забыли, — горько усмехнулся гость. — Нюська — дрянь. Конченый человек. Пробовал я ее уговорить. Брось, дескать. Давай поженимся. Поступай на работу. Отсижу, что положено, вернусь, честно жить станем. Уговорил, вроде. А тут эти… — Он помолчал и тяжело вздохнул. — Ну и она… В общем, туда ей и дорога. Бери меня, начальник. Сдавай с рук на руки. Что заслужил, то и отсижу. А вернусь, опять работать стану.
— Слышали? — толстяк Маннов так и трясся от нетерпения. — Икрамджан-ака у меня брился сегодня!
— Да что ты говоришь?! — притворно всплеснул руками Саид-бобо. — И как это он отважился? Я бы, например, ни за что.
— Это почему же? — воинственно вскинулся толстяк.
— А потому, дорогой, что ты с собственным языком совладать не можешь. А уж с бритвой и подавно!
По чайхане прокатился смешок. После яркого солнечного света парикмахер отчаянно моргал и жмурился, стараясь приучить глаза к царящей в чайхане полутьме.
Сколько здесь людей, он не видел, но, судя по смеху, народу было достаточно.
— Что ты головой вертишь, как сова? Все равно ведь ничего не видишь. Сядь посиди, пока глаза привыкнут. — Саид-бобо, не поднимаясь с места, протянул руку и помог Маннову примоститься на край дощатого настила. — На, держи пиалу.
Толстяк почти наощупь принял пиалу с чаем и повел глазами. Там и сям смутно белели расплывчатые пятна лиц. «Проклятый старик! — с досадой подумал он. — Вечно суется всюду со своим паршивым языком. Все ему, видите ли, раньше всех известно! Ну, погоди, седобородый козел, посмотрим, как ты сейчас захихикаешь!»
— Вы еще самого главного не знаете, Саид-бобо! — в голосе брадобрея звучало торжество.
— Так уж и главного? — ехидно поинтересовался старик. — И что же это?
Чайхана выжидающе примолкла.
— В моей парикмахерской Икрамджан-ака снял фуражку! — выпалил брадобрей, предвкушая триумф. Чайхана безмолвствовала.
— Вот это да!.. — откликнулся наконец Саид-бобо. — Вы слышали, Рахимджан-бобо? Младший лейтенант Икрамджан Пулатов снял головной убор перед толстяком Манновом!
— Передо мной? — опешил парикмахер. Триумфа как не бывало. — Почему п-передо мной?
— Он еще спрашивает! — Саид-бобо возмущенно хлопнул себя по коленям. — Перед кем люди снимают шапку? Перед тем, кого очень уважают.
— Или перед женщиной! — подкинул кто-то из глубины чайханы.
— Или перед женщинами, — невозмутимо подтвердил Саид-бобо. — Но к женскому полу, надо полагать, ты себя не относишь, а, мавлоно Маннов?
Дружный хохот прокатился по чайхане.
— Молчание — знак согласия, — продолжал старик. — Значит, остается одно: фуражка была снята исключительно из уважения к тебе.
Глаза парикмахера постепенно привыкли к полумраку чайханы, и он свирепо уставился в ехидно улыбающееся лицо старого насмешника, позабыв, что хотел сказать, и проклиная себя, что вообще затеял этот разговор.
— Поздравляю, Маннов-джан! — не унимался Саид-бобо. — Такой молодой, а такой уважаемый! Нас, простых смертных, участковый такой чести не удостоил. Не заслужили. А ты заслужил. Чем же это, а?
— Значит, есть чем! — огрызнулся брадобрей, повернул голову и обмер: за соседним дастарханом, добродушно улыбаясь, сидел участковый уполномоченный Пулатов. Сидел без фуражки, поглаживая рукой поросшую короткими волосами круглую голову.
Чайхана задрожала от гомерического хохота.
— Вот так инфаркт и зарабатывают, — подытожил Саид-бобо, когда хохот наконец утих, кивая на оторопевшего от изумления парикмахера. — Плесните сартарашу чайку, Рахимджан-бобо. Пусть в себя придет. А мы пока дальше почитаем.
Он водрузил на нос очки в металлической оправе и взял с коленей газету.
— На чем мы остановились? А, вот нашел: «Большую помощь в деле розыска банды оказали младший лейтенант милиции Икрамджан Пулатов и колхозник Рахимджан-ака Саттаров, благодаря которым была обнаружена последняя из угнанных бандитами автомашин».
— Вот так, — Саид-бобо снял очки и обвел чайхану взглядом. — Слышали, что про наших односельчан в республиканской газете пишут?
Он обернулся к Маннову и укоризненно покачал головой:
— А ты «фуражка, фуражка»! При чем тут твоя фуражка?
— Моя?! — вытаращил глаза парикмахер. — Да у меня сроду никакой фуражки не было!
— И не будет, — заключил старик. — Фуражку настоящие мужчины носят, не то что ты.
Саид-бобо помолчал, потом, лукаво прищурившись, взглянул на участкового.
— Ну, а все-таки, Икрамджан, почему вы до сих пор с фуражкой не расставались?
— А я и теперь не расстаюсь, — улыбнулся младший лейтенант. — Вот, она рядышком лежит.
— Нет, серьезно?
— Да так, глупости одни, — отмахнулся Пулатов. — Волосы выпадать стали. Вот я и побрил голову. А тут новое назначение, незнакомые люди. Мало ли что могут подумать.
Участковый и вдруг — плешивый. Ну и не снимал фуражку, пока волосы не отрастут.
— Только и всего? — притворно удивился Саид-бобо. — А мы-то головы ломаем! Маннов тут целую теорию развел. Кстати, где он? Маннов, ты где?
Но парикмахера и след простыл.
Маршрутный автобус довез нас с Рисовой улицы до центра города за полчаса. Мы сошли недалеко от ЦУМа и направились по засаженному молодыми деревцами бульвару. Здесь решительно ничто не напоминало о прошлом. Я хорошо помнил этот район. «Пьяный базар», «Воскресенка», «Туркменский рынок». Теперь эти названия стали достоянием истории. Булатов шагал молча, поглядывая по сторонам, но я уже давно догадался, почему он выбрал именно этот маршрут, и когда он наконец взглянул в мою сторону, спросил:
— «Вампир»?
— Он самый, — усмехнулся Борис Ильич.
ОТСУТСТВУЮЩИЕ УЛИКИ
В лагере его называли «Вампиром». Он снисходительно усмехался, обнажая два ряда острых зубов. Вид крови действительно возбуждал его, приводил в неистовство. Он знал за собой эту особенность и гордился ею. «Вампира» побаивались, с ним предпочитали не связываться. А потом он исчез.
Из ворот Туркменского рынка вышел молодой человек, помедлил, выбирая в какую сторону идти, и свернул влево. На нем была рубашка с короткими рукавами, серые летние брюки и коричневые кожаные сандалеты. Пиджак перекинут через левую руку.
Встречная женщина невольно оглянулась: симпатичный блондин, волевое лицо, стройная фигура, легкая уверенная походка…
Блондин дошел до перекрестка, остановился возле хлебного магазина. На противоположной стороне улицы возле дома с темно-бордовой вывеской стоял «виллис» с откинутым ветровым стеклом. Из дома вышел человек в милицейской форме, скользнул взглядом по стоявшему напротив, сел за баранку «Виллиса» и укатил в сторону Шелковичной улицы. Блондин прищурился, стараясь разглядеть, что написано на вывеске, прочел: «14-е отделение милиции города Ташкента», усмехнулся и повернул обратно.
Поезд пришел на станцию в третьем часу ночи. Запомнился подсвеченный циферблат станционных часов: 2 часа 35 минут. Пустынный перрон, промозглая слякоть, огни отражаются в лужах на асфальте…
В здание вокзала заходить нельзя, прямо в город надо. Город? Да. Вот она надпись: «Канск-Енисейский». Захолустье, небось. Ладно. Выбирать не приходится. Где-то должен быть выход прямо с перрона. Вот он. Теперь подальше от вокзала, от чужих глаз… Там будет видно, что делать дальше. Сейчас главное — смыться…
Ему повезло. В сквере под навесом детской площадки смачно похрапывал пьяный. Судя по одежде — не забулдыга. Для верности он слегка потормошил его: не проснется ли. Пьяный не шелохнулся.
Так… Бумажник. Паспорт, деньги. Какие-то квитанции. Кажется, повезло. Деньги и паспорт пригодятся. Бумажник обратно в карман.
Спи, лапоть. До утра не просыпайся, родимый! А может!.. Нет, мокрить нельзя. Пока нельзя. Так что повезло тебе, фраер. Спи.
Дом он узнал издали — пятый от хлебного магазина по улице Кафанова. Все совпадало с описанием, крыльцо с навесом на резных деревянных опорах, три окошка на улицу, железные ставни с прорезями в виде сережек. Потускневшая медная табличка возле двери «Венеролог Кравчук-Калияновская А.М.» Здесь. Все правильно. Он поднялся по ступеням и протянул руку к звонку. Звонок был старомодный, без кнопки, с рычажком, которым надо вращать. В ответ на еле слышное звяканье за дверью зашлепали чьи-то шаги и старческий голос спросил:
— Кто там?
— Тысячу извинений, доктор. Я по срочному делу. Дверь отворилась. «Божий одуванчик, — подумал он. — Тебе давно внуков нянчить пора, а ты…»
На старушке было простенькое домашнее платье. Седые волосы аккуратно причесаны и закреплены на затылке гребнем. Серые глаза смотрели доброжелательно, доверчиво, без страха.
— Входите, пожалуйста. Чем могу быть полезна?
В неверном свете уличного фонаря «Вампир» разглядел паспорт: Лукиных Егор Петрович. Двадцать восемь лет. Годится. И фотография подходящая. Районная продукция. Поди, разберись — шатен или блондин. Молодцы, промкомбинатовцы!
Стало быть, Лукиных… Ну что ж, привет вам, Егор Петрович. С днем рождения!
Деньжат не густо, но на шмотки хватит. Дождусь, когда магазины откроются и…
Надо спешить. Тот фраер проспится — и с ходу в милицию дунет. Нельзя судьбу искушать. Пофартило разок — и баста. Линяю.
— Проходите, что же вы?
— Если позволите, я сниму сандалеты.
— Ради бога!.. Проходите так.
— Неудобно, я все же сниму.
— Ну, тогда нате вам шлепанцы.
Через темный коридорчик старушка провела гостя в просторную, светлую комнату. На двух выходящих во дворик окнах висели тюлевые занавески. Золотисто отсвечивала полировка шифоньера, книжного шкафа, письменного стола. Убранство комнаты дополняли торшер с оранжевым шелковым абажуром, два полумягких кресла, ковер над тахтой и репродукция с картины Айвазовского в золоченой раме. В приоткрытую дверь соседней комнаты виднелся буфет, заставленный хрусталем.
Блондин окинул комнату оценивающим взглядом и прислушался. В доме стояла тишина.
— Итак на что жалуетесь молодой человек? — взгляд серых глаз хозяйки оставался по-прежнему спокойным и доброжелательным. — Я угадала не правда ли?
— Угадали, — Блондин вздохнул. Понимаете, доктор… Три недели назад случайно познакомился с женщиной… Дело было в дороге. Ну и — вагон — ресторан, отдельное купе…
Он мысленно усмехнулся: так оно, в общем, и было — ночь, купе, красивая молодая женщина…
Обзавестись костюмом, сорочкой, парой кожаных штиблет не составило большого труда. В столовой, куда он зашел перекусить, угрюмо коротал время за бутылкой вина явно чему то расстроенный красномордый субъект.
Чутье не подвело «Вампира»: уже после второй бутылки они были на ты, и красномордый снабженец по фамилии Крамер, перегнувшись через стол и обдавая винным перегаром, изливал ему свои горести:
— А ты не осуждай, что спозаранку пью. Тут кто угодно запьет! Завтра вагоны отправлять, а сопровождающий — тю-тю! Понимаешь? В больницу загудел. Гнойный аппендицит. Другого, говоришь? Да где его тут найти, в Канске? Разве что ханыгу какого-нибудь. А мне человек нужен. Во как нужен! А может, ты согласишься, а? Два пульмана в Ташкент. Бабки хорошие. Обратно — самолетом. Подумай, а? Аванс с ходу выплачу, окончательный расчет, когда вернешься.
— Ох уж мне эти случайные связи! — старушка вздохнула. — Нет, я не осуждаю. Вы человек молодой, представительный. Женщины от вас без ума. Но ведь и о здоровье нельзя забывать. Уж кто-кто, а я знаю, сколько на этой почве трагедий разыгрывается. Кстати, почему бы вам не обратиться в кожвендиспансер? Здесь недалеко, на этой же улице, возле Госпитального рынка.
— Давайте не будем, доктор, — блондин умоляюще вскинул перед собой руки. — Вы же все понимаете. Там начнутся всяческие формальности, потребуют документы.
— А я кто, по-вашему? Подпольный лекарь? У меня патент. Я тоже обязана делать записи в книге. — Старушка хитровато прищурилась. — Правда, паспорта я при этом не требую. Верю пациенту на слово. Ну что ж, раздевайтесь, я пойду руки помою. Старушка удалилась на кухню. Блондин небрежно бросил пиджак на спинку кресла и снова прислушался. В доме ни звука. С улицы доносились приглушенные городские шумы.
Аванс пришелся как нельзя более кстати. Два часа ушло на оформление документов. Повеселевший Крамер отправился в гостиницу, где они договорились встретиться вечером. «Вампир» услужливо захлопнул за ним дверцу такси. Проводил взглядом, пока оно не скрылось из виду, и только тогда остановил проезжавшую мимо «Победу»…
Под вечер ему удалось остаться в хоздворе, а затем добраться до вокзала станции Тайшет.
Старушка вошла, натягивая на ходу резиновые перчатки.
— Ну, что у вас тут, показывайте. Так-так. К свету повернитесь. Здесь не больно?
— Нет, доктор. — «В доме, похоже, никого нет. Как бы это поточнее узнать?»
— А здесь?
— Нет.
— Прекрасно. Можете одеваться.
Она отвернулась, чтобы не видеть, как он натягивает брюки.
— Ну что я вам могу сказать? Внешне как будто все в порядке. На глаз, конечно, определить трудно. Нужно сделать анализ на РВ. Реакция Вассермана. Слышали?
— Помилуйте, доктор! Вас послушать, — только и знаю, что по венерологам бегать.
— Вы правы, — улыбнулась старушка. — Извините за бестактность. Но без анализа все же не обойтись. Я бы могла его сделать, но надо брать кровь из вены. А кто мне поможет?
— Я помогу.
— Нет уж, увольте. Научена горьким опытом. Был тут до вас один пациент. С виду прямо Самсон, а как увидел кровь в шприце, — в обморок хлопнулся.
«Я не хлопнусь, — мысленно усмехнулся блондин. — Чем-чем, а кровью меня не испугаешь».
— Хорошо еще иглу вовремя успела выдернуть, — продолжала старушка. — А если бы игла сломалась? Или, не дай бог, вену порвала? Нет, родимый, приходите завтра. В это же время. Супруг дома будет, поможет. А сегодня он по делам ушел, не скоро вернется.
«Значит, она одна дома», — отметил про себя гость.
— Может, кого-нибудь из соседей позовете?
— Да что вы! — махнула рукой старушка. — Их сейчас никого нет, на работе все.
В Тайшете поезд «Владивосток-Москва» стоит считанные минуты. «Вампир» заранее рассчитал, где остановится головной вагон, и как только состав затормозил, направился вдоль вагонов прогуливающейся походкой пассажира, который вышел на перрон размять ноги и подышать свежим воздухом.
В тамбурах и у подножек вагонов маячили проводники. Станционные огни отражались в темных окнах вагонов. Не мудрено: второй час ночи. Пассажиры уже спят.
Ага, вот, наконец, то, что ему нужно: открытая дверь, в тамбуре и у вагона — ни души. Спокойно, не спешить. Он прошел еще несколько шагов и незаметно огляделся. Перрон пуст. Проводники соседних вагонов заняты своими делами. Пора!
И тут состав тронулся. «Вампир», не спеша, поравнялся с открытой дверью и на ходу вскочил на подножку.
— Жаль. — Блондин вздохнул и взял с кресла пиджак. Вынул из кармана десятку, положил на стол. Боковым зрением отметил алчный огонек в глазах хозяйки дома. — Спасибо за консультацию, доктор. Я, пожалуй, пойду. До свидания.
Он прошел коридорчик, остановился у выходной двери, прислушался: все тихо. Достал из кармана пиджака пару нитяных перчаток. Натянул на руки. Задвинул засов и вернулся в комнату.
Старушка стояла возле стола, держа в руках десятирублевку. При виде гостя удивленно вскинула брови.
— Вы что-то забыли?
— Нет, доктор.
Он достал из кармана нож, надавил на кнопку. С легким щелчком выскочил и зафиксировался стальной клинок.
— Господи, да что же это?!
— Спокойно, мадам. К делу. Деньги, золото, драгоценности — на стол. Живо! И не вздумайте валять дурака — пришью как миленькую. Пикнуть не успеете.
Несколько секунд старушка глядела на него, вытаращив глаза и беззвучно шевеля губами. «Окочурится: еще чего доброго!» — Блондин шагнул к ней и потряс за плечи.
— Спокойнее, мадам. Спокойнее. Не принимайте близко к сердцу. Велика беда — деньги. Живы будете, еще наживете. Да и на что вам они, если разобраться? Так что пошевеливайтесь. Времени у меня в обрез. Ну же, где тут у вас кубышка спрятана?
Острие ножа коснулось старушечьего подбородка, заставило запрокинуть голову. В глазах метался ужас.
— Там… — Она подняла руку и тут же бессильно уронила ее. — Там, в ящике стола… Сберкнижки… Моя и мужа.
— Да вы что, сдурели, мадам?! На черта мне ваши сберкнижки? Мне наличность нужна! Понятно? Наличность!
— Там же… — сдавленный голос хозяйки дома упал до шепота, — в ящике… Рублей пятьдесят…
У нее подогнулись колени. Блондин подхватил безвольно обвисшее тело, оттащил в кресло.
— Черт бы тебя побрал, карга старая!
Старуха лежала в кресле, не двигаясь и закатив глаза.
Вагон был международный. «Вампир» понял это, как только вошел в коридор. Мысленно выругался и торопливо зашагал по мягкой ковровой дорожке. Дверь третьего от тамбура купе была приоткрыта. Заглянуть? Он поколебался секунду и легонько толкнул дверь. Дохнуло теплом, ароматом дорогих духов. И — как гром с ясного неба — ироничное:
— Добрый вечер!
«Вампир» вздрогнул, застыл на пороге.
— Входите, что же вы!
Голос был женский, с едва заметной хрипотцой, приветливый. Щелкнул выключатель. На столике у окна засветилась лампа под зеленым абажуром. Женщина полулежала на мягком диване. Обращенное к нему лицо обрамляли волнистые тонкие локоны.
Под цветастым покрывалом угадывались очертания стройных полноватых ног. Второй диван пустовал. «Вампир» вошел и прикрыл за собой дверь.
— Ошиблись купе?
Он отрицательно качнул головой.
— Вагоном!
— Откровенно! — Уголки ярко накрашенных губ изогнулись в усмешке. — Но это вам чести не делает. Могли бы и соврать, будто искали именно меня. Хотите коньяку?
Только теперь он понял, что женщина пьяна, и пригляделся к ней более внимательно. Не первой молодости, но сохранилась неплохо. Пожалуй, даже совсем неплохо. И явно жаждет приключений.
— Так хотите или нет, рыцарь печального образа?
— Это я-то? — Он решил играть простачка.
— Вы-то, мы-то. — Женщина села, опустив ноги с дивана, и потянулась. — Хоть какое-то развлечение. Представляете? От самого Владивостока одна еду.
— Понятное дело, — поддакнул он. — Женщине одной никак нельзя.
— Сократ! — хохотнула женщина и, нагнувшись, достала из дорожной сумки початую бутылку коньяка и плитку шоколада. Кивком указала на стаканы из-под чая. Пойдут, рыцарь? Можете сполоснуть коньяком.
Старуха не лгала: он обшарил всю квартиру, но денег не обнаружил. Пробежал глазами сберкнижки. На одной значилось тридцать тысяч рублей, на другой — восемнадцать тысяч. Он скрежетнул зубами и швырнул их обратно в ящик стола. Выволок из-под кровати в спальне два чемодана, вывалил содержимое прямо на пол и принялся набивать в них наиболее ценные на его взгляд вещи: каракулевую шубу, меховую мужскую шапку, шкурку чернобурой лисицы, горжетку из песца, полдюжины серебряных подстаканников, перстень с алмазом, изящную диадему, украшенную бриллиантами, пару отрезов, дамские золотые часики-медальон. С трудом запер чемоданы, выпрямился, поднял руку, чтобы вытереть выступивший на лбу пот, и замер, почувствовав на себе чей-то взгляд. Медленно опустил правую руку в карман, нащупал нож и стремительно обернулся, готовый отразить нападение…
То была всего лишь старуха-хозяйка. По-прежнему неподвижно сидя в кресле она смотрела на него, и глаза ее были полны ужаса, мольбы и недоумения.
— Маманя, — слово сорвалось с языка непроизвольно, и он вдруг с удивлением ощутил, как шевельнулись в душе давно позабытые чувства: жалость вперемешку с презрительным состраданием. — Я ухожу, маманя. А чтобы вы тут без меня глупостей не натворили, придется вас связать. Где бельевая веревка?
— За дверью, в передней, — прошептала хозяйка.
Он отрезал от веревки два куска нужной длины, связал ей руки и ноги. Пошел в спальню, взял из разворошенной груды белья салфетку, вытер лицо. Со второй салфеткой: в руке вернулся к хозяйке.
— Откройте рот.
— Зачем? — еле слышно прошелестела старуха.
— Придется вам некоторое время посидеть с заткнутым ртом, маманя. — Проклятое слово словно приклеилось к языку. — Вдруг звать на помощь надумаете?
— Не надо, прошу вас. — Старуха умоляюще смотрела на него снизу вверх. — Я буду молчать. Обещаю вам. У меня гайморит, понимаете? И больное сердце. Пожалуйста, не надо…
Он вдруг понял, что не станет запихивать ей кляп в рот. Не сможет себя пересилить. Такое с ним происходило впервые. И, кляня себя последними словами, он, издеваясь то ли над ней, то ли над самим собой, предложил:
— Может, сердечного накапать прикажете?
— Если не трудно, — выдохнула хозяйка. — Кордиамин на кухне в аптечке. Двадцать капель.
Блондин чуть не взвыл от досады и ярости, но послушно сходил на кухню за лекарством. Поднес к побелевшим от страха трясущимся губам стакан, придержал голову, снова испытывая, казалось бы, ушедшие навсегда ощущения жалости и сочувствия.
«Какого дьявола я с ней чикаюсь? — колотилось в сознании. — Уходить надо, а я…»
С непривычки коньяк быстро ударил в голову. «Вампир» почувствовал, что хмелеет: настороженность отступала куда-то на задворки сознания, уступая место раскованности и благодушию. Кромешная тьма за окном, мерный перестук колес. Убаюкивающий приглушенный абажуром свет настольной лампы, ощущение идущего изнутри тепла от выпитого коньяка, красивая женщина рядом, влекущая и доступная… Есть от чего потерять голову!
— Знаешь. Лида, — он как бы со стороны слышал свой голос, — завяжу я к чертям собачьим. Слово тебе даю. Заживем, как люди. Ты — доцент, а я к тебе студентом пойду. Примешь?
— Приму! — как-то театрально рассмеялась попутчица. — Конечно, приму. Такого мужика разве что круглая дура не примет!
Она обняла его за шею, прижалась губами к его губам, откинулась, увлекая за собой на диван…
Он надел пиджак, взялся за ручки чемоданов. Стараясь не смотреть в сторону хозяйки, дошел до двери. Не выдержал, оглянулся. Старуха глядела ему вслед, и выражение ее глаз было все то же: недоумение, испуг, укор.
— Я пошел. — Он потоптался, не зная, что сказать еще, и сознавая весь идиотизм своего поведения. Круто повернулся и шагнул в коридор. «Хоть бы заголосила, что ли! — подумал он со злобной надеждой. — Тогда все просто: вернусь, пришью и — ноги в руки!» Остановился у входной двери, прислушался. Старуха молчала. Блондин поставил чемоданы на пол, обул сандалеты, снял и запихнул в карман пиджака перчатки. Потом отодвинул щеколду и приоткрыл дверь. Убедившись, что поблизости никого нет, взял чемоданы и вышел из дому.
Что это было? Самозабвенное забытье? Экстаз вперемешку с яростью? Нежность и ненависть рядом, бок о бок? Падение и взлет?
Он очнулся от ощущения холода на щеках. Слезы? Чьи? Его или ее? Не может быть, чтобы он плакал. Не может быть. Он даже не помнит, когда в последний раз плакал. Значит, она — Лида. Неужели он ее обидел чем-то? Хотя… Женщины плачут не только от обиды и боли. Плачут от счастья. Значит… В купе темно. Кто и когда погасил свет? Наверное, Лида. Вот она, рядом. Теплая, своя, родная…
Что он ей говорил? Не вспомнишь. А ведь говорил.
Женщина рядом заворочалась, просыпаясь. Сонно забормотала что-то. Он прислушался.
— Выдумщик… Наговорил бог знает что… Вор… Убийца… Бежал из лагеря… Ради меня бросит все, начнет новую жизнь…
— Ты о чем? — не выдержал он, чувствуя, как зарождается в груди знакомый леденящий холодок.
— Не спишь? А я сама не пойму, сплю или наяву грежу. Мысли вслух.
— Продолжай, вместе посмеемся.
— Глупый! — В темноте она мягко провела ладонью по его щеке. — Думаешь, я хоть одному твоему мужскому слову поверила? Лгунишка… Хотел меня разжалобить, да? Зачем? Или напугать решил? Тоже глупо. Разойдемся, как встретились. Дорожный адюльтер и все. Сладкое воспоминание. Так ведь?
— Да, так. — Он свесил руку и пошарил в проходе между диванами. Одежда валялась на полу. На ощупь отыскал пиджак, достал нож. — Говори, говори.
— Я потому только и отдалась тебе без оглядки, что сразу поняла: как пришел, так и уйдет. Вид у тебя такой… Ненадежный, что ли?..
Холодная ярость заполнила все его существо.
— …Не ты, так кто-то другой вошел бы. Какая разница? Лишь бы потом слюни не распускал. Взял свое и иди. Согласен?
— Согласен. — Он повернулся к ней лицом. Просунул ладонь под шелковистый затылок. — Ты права. Каждый должен брать свое и уходить.
— Правда?
— Правда.
Он отыскал в темноте ее губы. Не выталкивая лезвия, стиснул в рукаве нож, прижал чуть ниже левой груди. Подумал: «только бы не в ребро!», надавил на кнопку и по тому, как легко скользнуло в плоть разящее жало, понял — не промахнулся.
Только пройдя несколько десятков шагов, он сообразил, что идет в сторону отделения милиции, и поспешно свернул в первый попавшийся переулок. На Жуковской перехватил такси, уложил чемоданы в багажник и, усаживаясь рядом с шофером, коротко бросил:
— В Келес.
— Думаешь, гастролер?
— Почти уверен, Борис Ильич. Последний раз аналогичный случай имел место пять лет назад. Тоже среди бела дня, в центре Ташкента. — Начальник уголовного розыска города Юрков снял фуражку, промокнул лоб клетчатым носовым платком. Вентилятор не охлаждал, лишь перемешивал душный воздух кабинета. — И тоже никаких следов. Тогда кража так и осталась нераскрытой.
— Чем располагаете? — Булатов ослабил узелок галстука, расстегнул верхнюю пуговицу.
— Словесный портрет. Вот в основном и все.
— В основном? А что еще?
— Так, некоторые детали.
— Например?
— Например то, как вел себя преступник по отношению к пострадавшей. Кравчук-Калиновская чуть ли не молиться на него готова. Корректен, видите ли, обходителен. Гуманен даже.
— Понять старушку можно: с кляпом во рту она бы наверняка не дождалась прихода супруга.
— А вы что по этому поводу думаете?
— Не вижу ничего особенного. Квартирные воры, как правило, на убийство не идут. Рыцарей из себя, правда, тоже не корчат.
— Вот-вот, — кивнул Булатов. — Здесь-то, по-видимому, и зарыта собака. Либо это не профессионал, либо… Это самое «либо» нам и предстоит выяснить.
— Первое отпадает, Борис Ильич. Вор действовал профессионально.
— Значит, остается второе. Что сделано?
— Ориентированы все восемнадцать городских отделений милиции, все райотделы Ташкентской области, областные управления, органы железнодорожной милиции. Проинструктированы участковые инспекторы. Сообщены приметы преступника.
— Хорошо. Обратите особое внимание на железную дорогу. Если ваша версия верна, то следы преступника надо искать именно здесь. Постоянно держите меня в курсе дела. Выделить вам в помощь работников республиканского аппарата?
— Надеюсь обойтись своими силами, Борис Ильич.
— Ну-ну. С богом, как говорится.
На следующее утро Булатов, как обычно, начал день с просмотра срочных материалов. Первой в стопке документов лежала сводка о происшествиях по республике. Убийств и грабежей нет. Это уже хорошо, отметил про себя Булатов. Несколько квартирных краж. Две драки с применением холодного оружия. Задержание подозрительных личностей… Стоп!..
Булатов оторвался от сводки и несколько секунд сосредоточенно смотрел в окно. Потом еще раз внимательно перечитал сообщение. Лукиных Егор Петрович… Задержан на железнодорожной станции Келес… Два чемодана с ценными вещами. Драгоценности, столовое серебро, шуба, отрезы… Убедительного объяснения по поводу находившихся при нем чемоданов дать не может…
Булатов снял трубку телефона.
— Соедините меня с Юрковым. Что? На вокзал уехал? Ясно. Тогда давайте Келесский райотдел. Повреждена линия? Жаль.
Он опустил трубку и машинально попал ею по ладони. Решился. Поднес трубку к губам:
— Машину к подъезду!
Проходя через приемную, бросил секретарю:
— Я — в Келес, к Ходжаеву.
Миновав широкие центральные улицы, машина запетляла по переулкам старого города. «Задержали позавчера, — размышлял Булатов. — Обвинений, естественно, предъявить не смогли. Ориентировка и приметы преступника в лучшем случае поступили вчера. И то вряд ли: телефонной связи-то с Келесом нет. Значит, могли отпустить на все четыре стороны. Да еще извинились. А ч-черт, нескладно все получается!»
Никаких аргументов в пользу того, что задержанный в Келесе Лукиных и преступник, совершивший кражу на квартире Кравчук-Калиновской — одно и то же лицо, у Булатова не было. Действовал он скорее интуитивно, да еще, помнится, в докладе Юркова фигурировали два чемодана.
— Побыстрее можно, Набиев?
Водитель покосился, не поворачивая головы, едва заметно кивнул.
— Сейчас за город выберемся, товарищ полковник. Тогда и нажмем.
«Победа» ворвалась в поселок на такой скорости, что идущий по тротуару мужчина в милицейской форме оглянулся и предостерегающе поднял руку.
— Тормозни, — приказал Булатов.
Набиев сбросил газ, и, поравнявшись с милиционером, остановил машину. Булатов распахнул дверцу.
— Приветствую вас, товарищ
Ходжаев! Садитесь, подвезем.
— А, Борис Ильич! Здравствуйте. А я-то думаю, что за автолихачи у нас объявились. К нам?
— К вам, товарищ майор.
— Хорошо.
— Как у вас дела?
— Работаем. Я, правда, неделю дома провалялся. Ногу вывихнул. Сегодня наконец выбрался. В райисполкоме был, вот иду на работу.
— Происшествий нет?
— Особых нет.
— А не особых?
Майор пожал плечами.
— Задержали тут без меня одного.
«Сейчас скажет, что выпустили», — с досадой подумал Булатов.
— По станции с чемоданами слонялся. По виду нездешний. Если уезжать собрался, почему не из Ташкента? Ну и забрали.
— Так-так?..
— И вот уже третьи сутки держат в КПЗ.
У Булатова отлегло от сердца.
— Вы уверены?
— Уверен. — Майор сокрушенно вздохнул. — Только что с дежурным по телефону разговаривал. Приедем, разгон устрою.
— Здравия желаю, товарищ полковник! В райотделе происшествий нет. Дежурный старшина Худайкулов! — четко отрапортовал дежурный.
— Слышали? — недобро усмехнулся Ходжаев. — Третьи сутки незаконно держат человека под арестом, а происшествий нет. Худайкулов!
— Слушаю, товарищ майор!
— Приведите задержанного в мой кабинет.
— Слушаюсь!
— Отставить, — остановил его Булатов. — Пусть еще посидит немного.
— Правильно, товарищ полковник! — обрадовался старшина. — Не нравится мне этот тип. Морда у него какая-то недоверчивая.
— «Недове-э-эрчивая!» А тебя кто спрашивает? — рассердился Ходжаев. — Умник нашелся. Идемте, товарищ полковник.
Ознакомившись с обстоятельствами задержания, Булатов попытался связаться по телефону с городским уголовным розыском. Линия все еще не была исправлена, и он послал Набиева за Юрковым.
— Ничего не понимаю! — признался начальник райотдела. — проштрафились мои ребята. Накажу кого следует за нарушение. Юрков-то тут при чем?
— Нарушение, говорите? — переспросил Булатов, едва сдерживая улыбку.
— Ну! Не преступление же? Извинимся.
— Не придется вам извиняться, майор Ходжаев.
— Не понял?
— Сейчас поймете.
Булатов подвинул к начальнику отдела служебный пакет со штампом Министерства внутренних дел, лежавший поверх свежей почты. Пакет, по-видимому, доставили только сегодня утром, и он еще не был распечатан.
— Вскрывайте.
Ходжаев неохотно подчинился.
— И что там?
Ходжаев пробежал глазами машинописный текст.
— Ориентировка.
— А еще?
— Приметы преступника.
— Прочли?
— Прочел.
— Тогда прикажите привести задержанного.
Сомнения не давали Булатову покоя до той самой минуты, пока задержанный не переступил порог ходжаевского кабинета. Булатов пристально вгляделся в вошедшего и — сомнений как не бывало.
Задержанный держался уверенно, даже нагловато. «Морда у него какая-то недоверчивая», — вспомнил Булатов слова дежурного милиционера и мысленно усмехнулся.
— Я решительно протестую, гражданин полковник, — задержанный говорил спокойно. Пожалуй, даже слишком спокойно.
«Переигрывает, — подумал про себя Булатов. — Любой на его месте учинил бы скандал, да такой, что только держись!»
— Меня незаконно арестовали, незаконно содержат под стражей…
— Разберемся, — прервал Булатов. — Ваша фамилия?
— Я уже объяснял вашим товарищам: Лукиных Егор Петрович. Еду, вернее, должен был ехать с сестрой в Оренбург. Она там живет. Разминулись на перроне. Она отправилась с ребенком в медпункт. А тут поезд подошел. Толчея, суматоха. Билеты у нее. Я не знаю, какой у нас вагон. Побежал вдоль состава, думал, встречу ее. И вот, — задержанный развел руками, — поезд ушел, а я с чемоданами остался на перроне. Хорошо еще, что при ней есть деньги. Но все равно, представляете, каково ей?
«Сплошное вранье, — подумал Булатов. — Но складно. Было время продумать все как следует».
— Я бы очень просил вас, извините, не знаю вашего имени-отчества?..
— Булатов Борис Ильич. Начальник уголовного розыска республики.
Ни один мускул не дрогнул на лице задержанного.
— Адрес вашей сестры, пожалуйста.
— Зачем?
— Дадим ей телеграмму, чтобы не беспокоилась.
— Стоит ли? Надеюсь, вы меня наконец выпустите сегодня?
— Напрасно надеетесь, Егор Петрович.
— Да?
— Да. И давайте не будем терять время. Кто вас навел на квартиру Кравчук-Калиновской?
Лукиных все отрицал. Отказался давать показания. Даже когда пострадавшая Кравчук-Калиновская опознала его и принялась журить с чуть ли не материнской заботливостью, Лукиных, не моргнув глазом, заявил, что видит ее впервые.
— Как же так? — сокрушалась старушка. — Такой заботливый, предупредительный. Кордиамина даже накапал…
— Да отстаньте вы со своим протоколом! Не стану я ничего подписывать!..
Между тем следствие шло своим чередом, «досье» Лукиных пополнялось все новыми и новыми материалами. С помощью дактилоскопической карты была установлена личность «Лукиных». Как выяснилось, он четырежды отбывал наказание за грабежи, имеет за спиной три побега, последний из которых совершен в конце мая 1952 года. Семь раз менял фамилии.
Вызывая псевдо-Лукиных на очередной допрос, следователь, капитан милиции Махмудов, не только знал, с кем имеет дело, но и располагал неопровержимыми доказательствами виновности подследственного в целом ряде преступлений.
— У вас есть, что сказать следствию?
— Нет.
— Ну что ж, — следователь достал из пачки «Примы» сигарету, закурил. — В таком случае говорить буду я. Вы надеетесь на отсутствие улик, так ведь? В квартире Кравчук-Калиновской вы и в самом деле действовали очень осмотрительно. Но улики все же есть. Вот снимок отпечатков большого и указательного пальцев правой руки, оставленных вами на внутренней задвижке двери в доме Кравчук-Калиновской. А это — заключение дактилоскопической экспертизы о том, что отпечатки пальцев принадлежат именно вам. Говорить дальше?
Преступник молчал.
— Продолжаю. Вот документ из лагеря, где вы отбывали срок наказания и откуда вам удалось бежать 29 мая нынешнего года. Хотите взглянуть?
Лже-Лукиных отрицательно качнул головой.
— Ну что ж, идем дальше. Вот копия заявления гражданина Лукиных Егора Петровича о похищении у него паспорта и энной суммы денег. А здесь копии с объяснения некоего Крамера Якова Михайловича и с трудового соглашения, где красуется ваша собственноручная подпись. Растяпа-снабженец не удосужился даже сличить подписи в паспорте и на трудовом соглашении. Довольно или еще?
Махмудов сделал выжидающую паузу.
— Тогда продолжаем. В начале этого месяца в международном вагоне поезда «Владивосток-Москва» было совершено убийство с целью ограбления. Убита женщина. Проводник мельком видел мужчину, который сошел из соседнего вагона на одной из станций. Происходило это ночью, и разглядеть мужчину как следует проводник не смог, хотя тот и показался ему подозрительным.
На рассвете близ станции Филимонова машинист применил экстренное торможение, заметив впереди на рельсах упавший телеграфный столб. Тогда-то, проверяя, не пострадал ли кто из пассажиров, проводник международного вагона и обнаружил убитую вами женщину…
Впервые за все время преступник поднял голову и взглянул следователю в лицо.
— Да, убитую вами, — повторил Махмудов. — Вот фотографии отпечатков ваших пальцев на стакане и бутылке из-под коньяка, которые были обнаружены в купе убитой. А это отпечатки ваших пальцев на дверной ручке купе. Как видите, они сохранились лучше. Знаете, почему? Потому что руки у вас были выпачканы в крови. В крови убитой вами женщины. Махмудов затянулся в последний раз и загасил окурок о пепельницу. Так обстоят ваши дела, «Вампир». Да, и еще один штрих, имеющий отношение к ограблению Кравчук-Калиновской. Вас в этот день видели на улице Кафанова. И знаете, кто видел? Я. Я вышел из четырнадцатого отделения милиции и сел в машину. А вы стояли на противоположной стороне улицы. Будете отрицать?
— Нет, — хрипло выдавил из себя преступник.
— Ну, вот и отлично. А теперь выкладывайте, к кому вы поехали в Келес.
КОЛЬЕ С БРИЛЛИАНТАМИ
Конец июня 1952 года выдался необычайно знойным. По улице «Правды Востока» вдоль длинного ряда расположенных под навесом магазинов шел гражданин, одетый не по сезону в серый шерстяной костюм и такого же цвета шляпу, через руку перекинут габардиновый макинтош. Элегантно одетая женщина средних лет окинула его удивленным взглядом, отметив про себя, что человек этот явно приезжий, по-видимому, откуда-то с севера, и невольно улыбнулась, глядя на его залитое потом лицо. Мужчина встретился с ней взглядом и смущенно улыбнулся в ответ.
— Извините, — обратился он к женщине, — не подскажете, где здесь «Золотоскупка»?
— На улице Карла Маркса, рядом с ювелирным магазином.
— А это далеко!
— Три минуты ходьбы. Сверните на улицу Кирова.
— Впрочем, я тоже иду в ту сторону, могу показать.
— Буду вам очень признателен, — облегченно вздохнул мужчина.
Они вышли из-под навеса и направились к улице Кирова.
— Издалека приехали? — поинтересовалась попутчица.
— Из Сибири, — Мужчина достал из кармана платок и промокнул им лоб. — Проездом.
— И куда, если не секрет.
— В Тахиаташ. Я инженер-строитель, получил новое назначение.
— В Тахиаташ? — разочарованно переспросила женщина.
— Да, — кивнул попутчик. — А что?
— Нет-нет ничего, — спохватилась она.
— Вам не доводилось бывать в тех краях?
— Не доводилось. Но, как бы вам объяснить…
— Глухомань, — понимающе усмехнулся инженер. — Нам с женой не привыкать. Такая уж у меня профессия.
— Я не это имела в виду.
— А что?
— Жарко там, понимаете?
— Даже жарче, чем здесь?
— Намного жарче.
— Д-да… — Мужчина помолчал. — Вы меня насторожили. — Впрочем, может быть, и к лучшему, что все так сложилось.
И, перехватив недоуменный взгляд попутчицы, пояснил: — У жены вчера был приступ острого аппендицита. Ночью. Увезли на «скорой помощи» прямо из гостиницы. И сразу же оперировали. Представляете, если бы это случилось в поезде?
— Ужас какой! — всплеснула руками женщина. — Вам решительно повезло.
— Вот и я так думаю. — Мужчина отогнул рукав пиджака, взглянул на часы. — Повезло, конечно. Но теперь волей-неволей придется дней на десять задержаться в Ташкенте. А это — непредвиденные расходы. Вот и приходится идти в скупку.
— Я вас понимаю, — посочувствовала собеседница.
— Решил продать единственную нашу драгоценность. Семейная реликвия. Еще от прабабушки… Колье с бриллиантами.
Они пересекли Ленинградскую улицу. Незнакомец приостановился, опустил руку в боковой карман, извлек из него продолговатый футляр, обтянутый ярко-красным тисненым сафьяном, и открыл его…
Мириады лучей брызнули из футляра Женщина даже зажмурилась. Колье было великолепно.
— Какая прелесть! — воскликнул остановившийся рядом с ними полный мужчина, лет сорока пяти, одетый, как и полагается солидному местному жителю, в белый чесучовый костюм, легкие белые туфли и соломенную шляпу. В руке он держал коричневый со сверкавшими на солнце застежками портфель. Действительно великолепно… — не отрывая глаз от колье, вполголоса проговорила женщина.
— Надеюсь, в «Золотоскупке» возьмут… Деньги мне позарез нужны!.. — вздохнул инженер.
— Зачем же в «Золотоскупку»? — воскликнул подошедший. — Я его у вас куплю, если не возражаете. Просто грех упускать такую вещицу. Правда?
Последнее относилось к женщине. Та, продолжая любоваться драгоценностью, машинально кивнула.
— Господи, да что же это я? — спохватился вдруг он. — Простите мою бестактность, христа ради! Может быть, вы сами хотите его купить, а я… Вы уж меня не осуждайте, пожалуйста. Сам не пойму, что на меня нашло. Уж больно хорошее колье.
— Что? — женщина с трудом оторвала взгляд от раскрытого футляра. — Ну, разумеется, я куплю эту вещь. Только… Оно ведь, наверное, больших денег стоит, а у меня с собой…
Инженер страдальчески наморщил лоб.
— Вы думаете, я бы расстался с ним, не будь крайней нужды?
— Ради бога! — от избытка чувств женщина даже покраснела. — У меня и в мыслях не было торговаться. Уж если кто и понимает ваше положение, так это я, уверяю вас!
— Сколько вы хотите за колье? — деловито спросил мужчина в чесучовом костюме.
— Я даже не знаю, — смутился инженер.
— Как это не знаете? — оторопел тот. — Несете продавать вещь и не знаете, сколько она стоит?
— Представьте себе, — со вздохом кивнул инженер, закрывая футляр. — Во сколько оценят в магазине, за то и отдам.
— Ну это уже вообще ни в какие ворота! — возмутился чесучовый. — Вас же там надуют в два счета. Как миленького надуют! Нет, этого допускать нельзя! Вы берете колье?
Женщина беспомощно пожала плечами.
— Я ведь даже не знаю, сколько оно стоит.
— Значит, так, — прохожий взял инициативу в свои руки и перешел от слов к делу. — Тут неподалеку живет мой знакомый ювелир. Человек он опытный, объективный и абсолютно надежный, мы идем к нему, узнаем подлинную цену этого сокровища, и тогда уже будем разговаривать предметно. Согласны?
— Мне все равно, лишь бы побыстрее. — Инженер снова посмотрел на часы. — В больницу к жене ехать надо.
— Ну, вот и прекрасно! А теперь давайте знакомиться! Виктор Федорович Копытов, доцент политехнического института, — представился человек в чесучовом костюме протягивая руку даме, а затем владельцу драгоценности.
— Алла Сергеевна, — промямлила женщина.
— Аркадий Петрович, — назвал себя приезжий, пожал руку попутчице, доценту и опустил футляр в боковой карман.
Всю дорогу доцент, не умолкая, рассказывал приезжему о Ташкенте, его достопримечательностях, достоинствах его населения, перспективах развития. Приезжий удрученно молчал. Спутница поддакивала доценту, вначале робко, но постепенно все более оживляясь. Мысль о возможности завладеть чудесным колье, по-видимому, все больше и больше овладевала ею.
На улице Энгельса они вошли в ворота, на арке которых красовалась цифра 17. В большом дворе стояли одноэтажные дома, окруженные палисадниками. Через несколько десятков шагов навстречу им из глубины двора вышел пожилой человек в серых брюках, светлой рубашке с воротником «апаш», в пенснэ и легкой фуражке-капитанке.
— А мы к вам, Эммануил Яковлевич, — воскликнул доцент.
— Рад видеть вас, Виктор Федорович! Чем могу служить?
— У нас дело. Пожалуйста, зайдемте к вам.
— Не могу, дорогуша. Тороплюсь. — Он извлек из брючного часового кармана массивные золотые часы на толстой цепочке, щелкнул крышкой. — Но пару минут, пожалуй, могу уделить. Итак…
— Аркадий Петрович, дайте, пожалуйста, вещичку! — Доцент взял из рук инженера футляр, открыл его и протянул колье ювелиру.
Тот взглянул на украшение, извлек из кармана брюк лупу и стал внимательно его рассматривать. Все трое не сводили глаз с ювелира.
— Да это предмет, — негромко произнес ювелир.
— Цена, — хрипло выдавил доцент. — Сколько оно может стоить?
— Ну, все зависит от конъюнктуры. Во всяком случае двадцать тысяч я бы за него дал. — Ювелир полюбовался драгоценностью и протянул ее владельцу.
— Двадцать тысяч! — ошеломленно повторил доцент. — Вы не шутите?
— Молодой человек! — Ювелир поднялся и возмущенно щелкнул футляром лупы. — По-моему я вам ясно сказал — я тороплюсь. Шутить с вами не имею ни времени, ни желания.
Он взгляну на инженера и немного смягчился.
— Насколько я понимаю, эта вещь ваша?
— Да, — кивнул инженер.
— И вы хотите ее продать?
— Понимаете…
— Понимаю, понимаю. Стесненные материальные обстоятельства и все такое…
Инженер молча пожал плечами.
— Я вот, что я вам скажу. Приходите завтра часиков в пять, и я вам отсчитаю ровно столько, сколько назвал. Я живу в седьмой квартире. Видите вон тот особнячок? Так это уже там. А сегодня — увольте. Во-первых, спешу. Во-вторых, не имею привычки держать дома такие суммы.
— Нет, вы, конечно, можете обратиться в скупку. Но я сильно сомневаюсь, что они предложат вам столько же. У них там, знаете ли, свои критерии, другой подход к делу. Хотя, вам, конечно, виднее. Будьте здоровы. Адью, мадам. Мне пора.
Ювелир прикоснулся пальцами к козырьку фуражки и, подчеркнуто игнорируя доцента, пошел к воротам.
— Послушайте, — взволнованно заговорил доцент, когда ювелир скрылся из виду. — Эммануил Яковлевич — человек, разумеется, компетентный и порядочный. Но, согласитесь, ювелир есть ювелир. Кто знает, что у него на уме? Я бы на вашем месте рисковать не стал, Аркадий Петрович. Понимаете, что я имею в виду?
— Честно говоря, нет, — признался приезжий. — Что вы хотите сказать?
— Ради бога, поймите меня правильно. Вам срочно нужны деньги, так?
— Так, — нехотя кивнул инженер.
— И чем скорее вы их получите, тем лучше, верно?
— Ну да же, да! — инженер явно начинал терять терпение.
— Еще раз прошу, поймите меня правильно. Эммануил Яковлевич оценил колье в двадцать тысяч и намекнул, что в скупке вам столько не дадут.
— Чего вы от меня хотите? — не выдержал инженер. — Мне в больницу надо, я спешу…
— Продайте колье нам! — выпалил доцент.
— Вам?! — вытаращился инженер, но тут же устало махнул рукой. — А впрочем, какая уже разница! Берите вы, раз вам этого хочется.
— Но, разумеется, не за двадцать тысяч, — поспешно вставил доцент. — Столько я вам дать не могу.
— А сколько можете? — Увлеченные разговором, оба, казалось, забыли о даме. Та же внимательно следила за развивающимися событиями, нервно прикусив верхнюю губу.
— Ну, скажем, десять тысяч? — осторожно предложил доцент.
— Вы что же, за круглого идиота меня принимаете? — оскорбился инженер. — Или на моем бедственном положении сыграть решили?
— Боже упаси! — всплеснул руками доцент. — Ни то, ни другое! Просто я подумал…
— Меня не интересует, что вы подумали. — Инженер тяжело, с надрывом выдохнул и вытер лицо носовым платком. — Я вас раскусил, дорогой товарищ. Насквозь вижу. Нет уж, увольте. Пойду в скупку. Сколько дадут, за то и отдам. Все лучше, чем с аферистом связываться!
Инженер повернулся к доценту спиной и зашагал к воротам.
— Вот так, — апеллировал доцент к даме. — Хочешь человеку добра, а он… Да вам и половины этой суммы не дадут, глупец!
Инженер продолжал удаляться, словно не слыша.
— Аферист, видите ли! — продолжал возмущаться доцент. — Да настоящие аферисты, если хотите знать, в скупке сидят! Идите-идите! Они вам покажут кузькину мать! Вспомните обо мне, да поздно будет!
— Видели фрукта? — обращался он к женщине, но та решительно отмела его в сторону и засеменила вслед за инженером.
Доцент несколько секунд смотрел ей в спину, потом смачно сплюнул и выругался.
— Подумаешь, порядочная нашлась! Чтоб вам подавиться этим колье обоим!
— Хам! — не оборачиваясь крикнула женщина. — Прощелыга!
Инженера она догнала уже на перекрестке. Он стоял, растерянно оглядываясь по сторонам. Увидев женщину, нахмурился и машинально прижал руку к карману.
— Аркадий Петрович! — Она с трудом переводила дыхание.
— Я вас слушаю, — холодно отозвался инженер.
— Кошмар какой-то. — Она провела рукой по лицу, словно отгоняя наваждение. — Низость, подлость… А еще доцент!
— Доцент! — У инженера презрительно скривились губы. — Обыкновенный проходимец.
— Вы правы. — Женщина кое-как отдышалась. — Мне так неудобно перед вами.
— Вы-то тут причем?
— Спасибо. — Она с благодарностью взглянула ему в глаза.
— Не за что, — буркнул инженер, отводя взгляд. — Скажите лучше, в какую мне сторону идти. Я что-то совсем запутался. Где здесь скупка?
— Не мудрено! — улыбнулась женщина. — И не надо на меня так смотреть.
Она щелкнула замком сумочки.
— Вот мой паспорт.
— Это еще зачем? — У инженера брови полезли кверху.
— Взгляните. Фотография, год рождения. Я это или не я?
— Ну, допустим, вы, — инженер перевел взгляд с женщины на фотографию. — И что из этого следует?
— Вот отметка о регистрации брака, прописка…
— Зачем вы мне все это показываете?
— Я живу тут неподалеку.
— Да мне-то что до всего этого?!
— Пойдемте ко мне, Аркадий Петрович. — Женщина кокетливо улыбнулась. — Не беспокойтесь: муж в командировке. Я дома одна.
— Вы с ума сошли! Зачем?
Она взяла его за руку, потянула за собой.
— Я вам все объясню по дороге. Пойдемте. Некоторое время он испытующе смотрел на женщину, стараясь понять, чего она хочет. Потом покачал головой.
— Поймите вы наконец. Я тороплюсь к жене в больницу. Неужели это так трудно понять? Ни на что другое у меня просто нет времени. Говорите, что вам надо, и я пойду.
— Хорошо. — Женщина вздохнула и спрятала паспорт в сумочку. — Я решила купить у вас колье. За двадцать тысяч. Не стану скрывать, всей этой суммы у меня сейчас нет. Тысячи три наличными и еще десять тысяч облигациями трехпроцентного займа. Если вы мне верите, идемте ко мне, и я вам заплачу то, что у меня есть. А оставшиеся семь тысяч рублей я до завтра постараюсь занять у знакомых. Ну, до послезавтра, в крайнем случае… Я очень прошу вас, Аркадий Петрович! Ну какая вам разница получить все деньги сразу или по частям в два дня? А у меня будет колье… Память о нашем знакомстве, о вас…
Казалось, инженер колеблется.
— Умоляю вас, Аркадий Петрович! Соглашайтесь…
— Ладно, — глухо проговорил инженер и глубоко вздохнул. — Будь они прокляты, эти деньги. Кто их только выдумал!
— Ну вот и прекрасно! — обрадовалась женщина. — Пойдемте.
Дома Алла Сергеевна отсчитала продолжавшему угрюмо хмуриться инженеру обещанную сумму деньгами и облигациями. Тот, не пересчитывая, рассовал деньги и облигации по карманам пиджака, со вздохом раскрыл футляр, достал из него колье и, полюбовавшись им несколько секунд, опустил в подставленную хозяйкой ладонь. У женщины алчно сверкали глаза, но она старалась казаться спокойной.
— Понимаю ваше состояние, Аркадий Петрович. — Поверьте, колье попало в хорошие руки.
Инженер сокрушенно кивнул, поднялся и взял макинтош со спинки стула.
— Пойду.
— Постойте! — Женщину вдруг осенило. — Одну минуточку!
Она выбежала в соседнюю комнату и вскоре возвратилась, неся что-то в сомкнутых ладонях.
— Угадайте, что здесь?
Инженер недоуменно пожал плечами.
— Сюрприз! — улыбнулась женщина и раскрыла ладони. — Это вам на память, Аркадий Петрович.
У инженера изумленно раскрылись глаза. На ладони хозяйки лежали золотые карманные часы.
— Берите-берите, — кивнула хозяйка. — Тоже старинная вещь. И красивая, правда?
— Удобно ли? — смутился инженер.
— Конечно, удобно. Муж ими все равно не пользуется. Носите на здоровье. А за остальными деньгами приходите завтра часам к шести.
— Спасибо.
Инженер взял часы, открыл крышку над циферблатом.
Часы мелодично пробили четверть пятого.
— Такой подарок! — растроганно произнес инженер. — Знаете что, Алла Сергеевна, я, пожалуй, не приду завтра.
— Приходите послезавтра.
— Я вообще не приду. Не надо мне больше никаких денег. Вы меня и так выручили. Да еще такой подарок преподнесли. Нет уж, увольте. Если захотите увидеться, — милости прошу: гостиница Пушкинская, тридцать четвертый номер.
А теперь, извините, пойду. Рад был с вами познакомиться.
Он широко улыбнулся, поцеловал даме ручку и поспешно зашагал к выходу. Уже от самой двери обернулся и послал хозяйке воздушный поцелуй.
«Странный народ эти мужчины, — озадаченно размышляла Алла Сергеевна, оставшись одна. — Только что горевал, хмурился и вдруг — воздушный поцелуй! Непостижимо».
Она покачала головой и, подойдя к трюмо, стала примерять колье, испытывая то ли смутное беспокойство, то ли угрызения совести. Впрочем, тогда она этому значения не придала.
Оставшаяся часть дня была потрачена на визиты к знакомым. Поразмыслив над поведением инженера, Алла Сергеевна пришла к выводу, что с ним случилось что-то вроде припадка на почве нервного переутомления, и что успокоившись, он наверняка горько пожалеет о своем отказе от оставшейся части денег и явится, чтобы получить долг.
Будучи по натуре женщиной деловой и решительной, она, не откладывая в долгий ящик, поехала к знакомым и уже в девятом часу вечера возвратилась домой, имея при себе всю недостающую сумму.
Ночь Алла Сергеевна провела беспокойно. Ей снился ювелир, настойчиво разглядывающий ее сквозь чудовищно гипертрофированную лупу; супруга Аркадия Петровича, облаченная в черную амазонку, и наконец- сам доцент в напяленном задом наперед макинтоше, скалящий желтые, крупные, как у лошади, зубы и препротивно ими скрежещущий.
Алла Сергеевна пробудилась в холодном поту и еще некоторое время продолжала оставаться в постели, тщетно пытаясь унять отчаянно колотившееся сердце. Потом накапала себе валерьянки и распахнула окно. Снаружи, в тишине рождающегося дня скрежетали, заливались звонками на кольце городские трамваи…
Женщина неробкого десятка, Алла Сергеевна не питала пристрастия к суевериям. Вещие сны ее тоже не волновали. Что же до дурных примет, то она их просто-напросто игнорировала. Но кошмары, которые она испытала этой ночью… При одной мысли о них она зябко передернула плечами.
Что-то тут было не так, но вот что именно, — она не могла понять. И опять, как накануне, накатило откуда-то тревожное ощущение не то вины, не то непоправимой ошибки.
Наскоро умывшись, Алла Сергеевна достала из футляра колье и невольно залюбовалась им. Бриллианты сверкали и переливались в лучах солнца. С колье все было в порядке, но тревожное чувство не проходило.
Женщина спрятала покупку в сумочку, достала из шифоньера принесенные вечером деньги и тщательно их пересчитала. Как и следовало ожидать, деньги были в целости и сохранности. Мучительно теряясь в догадках, Алла Сергеевна надела нарядное выходное платье, привела в порядок лицо и подсела к телефону.
Узнать номер гостиницы не составило труда, но, уже набирая его, она вдруг спохватилась, что не знает фамилии инженера. Открытие не столько насторожило ее, сколько раздосадовало.
— Неважно, — решила она про себя, — номер, в котором остановились Аркадий Петрович с супругой, — известен, а фамилию она в конце концов могла и забыть. Однако последовавший затем разговор с дежурным администратором гостиницы поверг ее в недоумение.
— В тридцать четвертом? — переспросил женский голос. — Ошибаетесь, гражданка. Не проживают и проживать не могут.
Как не могут? — не поняла Алла Сергеевна.
— А никак. Это одиночный номер.
— Но ведь кто-то же в нем живет? — спросила Алла Сергеевна, не веря собственным ушам.
— Никто не живет, — злорадно отпарировала дежурная. — Номер ремонтируется.
— Простите, я, наверное, что-то перепутала, — холодея от предчувствия надвигающейся беды, пролепетала Алла Сергеевна. — Может быть, в другом номере?.. Муж с женой… Аркадий Петрович… Инженер… Проездом в Тахиаташ… Из Сибири… Жену позавчера на скорой в больницу увезли…
— В больницу, говорите? — Голос дежурной немного подобрел. — Подождите, сейчас проверю. Не вешайте трубку…
«Что я, собственно, о нем знаю? — с ужасом спросила она себя, продолжая машинально прижимать к уху повлажневшую от пота телефонную трубку. — Инженер из Сибири… Сибирь велика… Ни город неизвестен, ни организация, в которой он работает… Фамилию и ту не спросила!..»
— Нет, гражданка, — снова послышался голос дежурной. — Никого от нас в больницу не увозили. И супружеских пар среди проживающих нет. Половина гостиницы на ремонте. А в другой половине спортсмены живут. Школьники. На спартакиаду приехали.
Это было как гром с ясного неба.
Двадцать минут спустя Алла Сергеевна была в гостинице и, собственноручно перелистав книгу регистрации, воочию убедилась, что ни инженер, ни его супруга в гостинице не останавливались.
Все еще не теряя надежды, она уговорила дежурную обзвонить городские гостиницы. Это заняло полчаса, но ничего утешительного не принесло.
Еще два часа она потеряла на станции скорой помощи. За последние четыре дня было несколько десятков вызовов по поводу аппендицита, но в гостиницы ни одна из машин скорой помощи не выезжала.
…Во дворе дома № 17 по улице Энгельса седьмой квартиры не существовало, и изнывающие от жары мужчины и женщины морщили лбы, разводили руками и в один голос утверждали, что не знают никакого Эммануила Яковлевича, а ювелиры в их дворе не живут и никогда не жили.
В состоянии, близком к обморочному, Алла Сергеевна отправилась на улицу Карла Маркса и, на ходу доставая из сумочки футляр, вошла в «Золотоскупку».
Пожилой приемщик в белой рубашке с закатанными рукавами удивленно взглянул на нее сквозь стекла массивных роговых очков.
— Прекрасная вещица. Чехословацкое изделие. Третий день как поступило в продажу. Хотите приобрести еще одно? Пройдите в отдел. По-моему, пока еще есть.
…На зеленом бархате витрины они выглядели еще эффектнее — близнецы приобретенного ею накануне колье. И рядом на ценнике значилась их подлинная стоимость: двадцать шесть рублей сорок копеек.
— Знакомьтесь, — не поднимаясь, Булатов указал на сидевшую у приставного стола заплаканную женщину. — Филиппова Алла Сергеевна, начальник планового отдела Узбекболяшу.
Женщина сидела, низко опустив голову, то и дело прикладывая к покрасневшим глазам носовой платочек.
— Как вы уже, наверное, догадались, гражданка Филиппова — пострадавшая. Я вас пригласил, чтобы вы ее послушали, а уж потом посоветуемся, как и что делать. Прошу вас, Алла Сергеевна.
Приглашенных было шестеро: майор Рыбников, капитан Литвинов, оперативные работники Рощин, Аверин, Хайдаров и Юсупов. Все шестеро внимательно разглядывали пострадавшую. Женщина всхлипнула.
— Успокойтесь, пожалуйста. И повторите товарищам то, что вы мне рассказали.
Филиппова горестно выдохнула и начала свое грустное повествование, но Булатов ее уже почти не слушал. Делая вид, что изучает лежащие перед ним бумаги, он незаметно наблюдал за своими сослуживцами. Ребята были один к одному: отличные сыщики, светлые головы, честные, мужественные, преданные своему делу. Такими работниками можно было гордиться. И в том, что именно они прижились в уголовном розыске, самоотверженно несли свою нелегкую службу, — была и его, Булатова, заслуга.
Он отлично знал каждого, внимательно следил за их работой, был в курсе личных и семейных дел. Деликатно, неназойливо, без нажима поправлял, если они ошибались, всячески поощрял инициативу.
Подбирая людей в аппарат Уголовного розыска республики, Булатов предъявлял к ним высочайшие требования. Лишь немногие очень опытные оперработники проходили булатовское «чистилище». Но и это было еще не все. Каждый работник республиканского аппарата угро по твердому убеждению Булатова должен был обладать хотя бы одной способностью. Только лично убедившись в этом, феноменальной Булатов соглашался зачислить его в штат.
И теперь, незаметно наблюдая за своими питомцами, Булатов мысленно отмечал про себя: этот непревзойденный стрелок из пистолета, у этого молниеносная реакция, этот силен, как слон, и виртуозно владеет приемами самбо, этот феноменально запоминает лица, у этого нюх, которому любая ищейка позавидует, этот видит в темноте, как днем, а у этого интуиция развита так, что чуть ли не мысли читает.
Взять хотя бы Рощина. Достаточно ему раз услышать словесный портрет преступника, и он безошибочно опознает его среди тысяч людей. Однажды, собираясь в подмосковный санаторий «Кратово», куда его направили подлечиться после крупозного воспаления легких, Рощин познакомился с поступившим словесным портретом объявленного в розыске особо опасного преступника. Фотография была выслана по почте, и Рощин ее не дождался: скорым поездом уехал вместе с женой в Москву.
В Оренбурге в соседнее купе села какая-то пара. Мужчина до самой Москвы из купе не показывался, разве что глубокой ночью, когда все уже спали. Рощину это показалось странным, и уже в Москве, на Казанском вокзале, он-таки разглядел попутчика. Разглядел и тотчас узнал по словесному портрету. Ну, а дальше действовал, сообразуясь с обстановкой: жену отправил в «Кратово», а сам, прихватив «авоську», направился вслед за преступником, Приобрел в магазинчике на перроне пару пачек печенья, колбасу, батон, бутылку кефира и с видом заправского дачника сел в тот же вагон электрички, что и преступник со спутницей. В Малаховке вышел вместе с ними и без особого труда проследил их до Второй Лесной улицы, где они вошли в дом № 36…
Сорок минут спустя вызванная по телефону оперативная группа задержала преступника. У него были изъяты два пистолета, драгоценности и крупная сумма денег.
Или Хайдаров…
Телефонный звонок прервал размышления Булатова. Вызывал заместитель министра. «Как раз кстати, — с удовлетворением подумал Булатов. — Решу вопрос о командировании ребят на розыск».
Он извинился перед присутствующими и покинул свой кабинет. Возвратился Булатов минут через сорок, когда беседа уже закончилась. В ответ на умоляющий взгляд Филипповой улыбнулся и пожал плечами.
— Будем стараться. А вам впредь урок, Алла Сергеевна. Вы меня поняли?
— Да, — кивнула Филиппова. — Вы правы. На всю жизнь урок.
— Не отчаивайтесь. — Булатов проводил ее до дверей и пожал руку. — Сделаем все, что в наших силах.
Он подождал пока закроется дверь за Филипповой, и прошел на свое место.
— Итак, продолжим. Сначала новости: поступило еще два заявления об аналогичном мошенничестве. Судя по деталям, орудует все та же троица. Вчера некоей Симоновой за шесть тысяч рублей всучили латунное колечко с «алмазом» из чистопробного стекла. Сегодня утром некто Яковлева приобрела «по случаю» на вокзале «бриллиантовые» сережки за пять с половиной тысяч. На вокзале, подчеркиваю.
Пострадавшая утверждает, что перед тем, как предложить ей серьги, аферист приобрел в кассе железнодорожный билет. Разумеется, это еще ничего не значит, но… — он сделал, паузу и обвел взглядом оперативников, — что-то мне подсказывает, что преступники покинули город. Одним словом, командировочные вам уже выписаны, товарищи. Аверин едет в Самарканд, Хайдаров и Юсупов — в Бухару и Каган, Рощин — в Коканд. Коллеги на местах о вашем приезде оповещены. Зайдите к майору Герасимову — он записал приметы преступников со слов заявительниц, — и в путь. Есть вопросы?
В Коканд поезд пришел на рассвете. Поеживаясь от утренней свежести, Рощин ступил на перрон и тотчас увидел начальника уголовного розыска города. С Пименовым ему доводилось встречаться раньше, и теперь, обмениваясь рукопожатием, тот дружески подмигнул:
— Выспался? Голодный, небось. Едем завтракать.
— С этим успеется. Поехали в горотдел.
— С корабля на бал?
— С корабля на бал, — улыбнулся Рощин.
Выслушав обстоятельную информацию Рощина, Пименов одобрительно кивнул.
— Все верно, пожалуй. В столице этим молодчикам задерживаться не резон. Да и здесь тоже. Денек-другой — и дальше махнут.
— Так что давай прикинем, где они развернуться могут.
Разложив перед собой карту города, они детально обсудили план действий и точки наиболее вероятного появления разыскиваемых преступников. Это были привокзальная площадь и прилегающие к ней улицы, район гостиницы, рестораны у близлежащего сквера, парк и торговые точки у старой крепости, универмаг, городской рынок.
Затем вместе с дежурным по городу лейтенантом Тилляевым наметили оперативные группы, срочно вызвали оперработников и инспекторов службы и провели подробный инструктаж. Предупрежденные заранее члены оперативных групп пришли в штатской одежде.
Последним перед собравшимися выступил Пименов.
— Договоримся так, товарищи. Каждая группа действует по собственной инициативе, исходя из сложившейся ситуации. Но одно условие остается непременным: не выдавать себя до самой последней минуты. Задержание преступников производить только в тот момент, когда они будут все вместе обрабатывать «жертву». Ясно? Вопросы есть? Нет вопросов. Тогда расходимся по местам.
…Почему он выбрал именно привокзальную площадь, Рощин ни тогда, ни потом объяснить не мог. «Интуиция, — смущенно улыбался он. — Шестое чувство, что ли…»
Но так или иначе, первыми, кого он увидел, войдя в сквер неподалеку от вокзала вдвоем с оперуполномоченным Алимовым, была троица «гастролеров». Сидя на скамейке, полускрытой кустами шиповника, они, по-видимому, тоже обговаривали план предстоящей аферы. Оставаясь на почтительном расстоянии, Рощин незаметно пригляделся к троице. Приметы совпадали, хотя одежду любители легкой наживы успели переменить. «Продавец», правда, держал в руках все тот же макинтош, но вместо шляпы на нем была черная кепка. Костюм тоже был другой: спортивного покроя, из темного шевиота. На голове «доцента» красовалась черно-белая ферганская тюбетейка. На тюбетейку же, но только ковровую, сменил свою капитанку и «ювелир».
Вполголоса, не привлекая к себе ничьего внимания, Рощин объяснил Алимову «кто есть кто» в троице, шепчущейся на скамейке. Сам он при этом рассеянно посматривал по сторонам и даже улыбался проходившим мимо девушкам в цветастых национальных платьях.
— Ты остаешься здесь, — приказал Рощин своему напарнику и помахал вслед недоуменно переглянувшимся девушкам. — Не упускай «ювелира» из вида. Скорее всего он никуда отсюда не уйдет, пока «коллеги» не приведут очередного ротозея. Ну, а если все-таки покинет сквер, незаметно следуй за ним. Так или иначе они должны где-то встретиться. Тут-то мы их и накроем. До встречи.
И он неторопливо зашагал к выходу из газетного скверика. Остановился у только открывшегося киоска на площади. Не выпуская из поля зрения ворота, купил несколько свежих газет. Присел на скамью возле автобусной остановки и стал их просматривать.
Первым сквер покинул «продавец». Прошелся фланирующей походкой по улице, остановился, рассеянно оглядываясь, возле старинного особняка.
«Доцент» не заставил себя ждать: то и дело заслоняемая прохожими черно-белая тюбетейка выплыла из ворот сквера, двинулась вдоль ограды и уже совсем было исчезла из виду, так что Рощин поспешно поднялся со скамейки, чтобы пойти следом, но тут тюбетейка опять замаячила в толпе спешивших на работу людей, и вскоре «доцент» собственной персоной остановился возле киоска, искоса наблюдая за противоположной стороной улицы, где «продавец» выискивал очередную жертву.
Следя за «доцентом», Рощин не заметил, как вышел из сквера «ювелир».
— У вас случайно не найдется спичек? — прозвучал за спиной голос Алимова. Рощин оглянулся:
— Не курю.
— Извините.
Алимов кивнул и, как ни в чем ни бывало, зашагал по тротуару. Только теперь Рощин разглядел в спину удаляющегося «ювелира».
Пока все шло по задуманному плану. Рощин перевел взгляд на «доцента». Тот продолжал следить за действиями своего «компаньона», и по тому, как напряглось вдруг его лицо, Рощин понял: «дичь» клюнула.
«Доцент» как-то по-собачьи дернулся всем телом и торопливо пересек улицу. Следуя за ним взглядом, Рощин увидел «продавца». Стоя возле все того же особняка, «продавец» разговаривал с молоденькой миловидной женщиной. Затем он достал из внутреннего кармана пиджака какой-то предмет и протянул собеседнице. Тут к ним присоединился «доцент», а еще через несколько минут все трое зашагали по улице в том направлении, где скрылись «ювелир» и Алимов.
Рощин, не спеша, пересек улицу и зашагал следом.
Квартала через три объявился Алимов, безмятежно любующийся выставленными на витрине галантерейного магазина товарами. «Продавец», «доцент» и их будущая жертва проследовали мимо и свернули во двор.
Алимов с Рощиным вошли туда же и застали всю троицу врасплох: ювелир-самозванец разглядывал в лупу перстень, а его «коллеги» и покупательница уставились на него, не обращая внимания ни на что другое.
— Платина! — изрек наконец «ювелир». — И бриллиант. Могу предложить семь с половиной тысяч, но только завтра. Дома наличность не держу, а сберкасса сегодня закрыта. Договорились?
— Договорились-договорились! — заверил Рощин, цепко беря «ювелира» за локоть. — И без глупостей. Двор окружен.
Теперь, когда Булатов помог мне воскресить в памяти события «давно минувших дней», многое в моей будущей книге виделось в ином свете. Я понял, что над рукописью еще предстоит поработать, но книга в общем сложилась.
— Правда же, иногда бывает полезно пройтись даже с таким старым ворчуном, как я? — Булатов лукаво улыбнулся.
— Правда, — согласился я. — Все становится на свои места. Но, Борис Ильич, осталась еще одна новелла.
— Это какая же? — спросил Булатов.
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ФУРКАТА
Золотистым октябрьским утром женщина, развешивавшая белье в уютном дворике коммунального дома по улице Фурката, окликнула проходившую мимо с эмалированным бидоном соседку.
— Зухра-апа!
Соседка была глуховата и откликнулась только с третьего раза.
— Вы меня, Маша?
— Вас, Зухра-апа, кого же еще!
— Что?
Старуха поставила зачем-то бидон на землю и направилась к женщине.
— Доброе утро, Зухра-апа.
— За молоком иду, да.
Женщина досадливо поморщилась, явно жалея, что затеяла разговор, но Зухра-апа была уже рядом и волей-неволей пришлось продолжать.
— Соседку вашу что-то не видать.
На этот раз старуха услышала, да и не мудрено: женщина почти кричала. В верхнем этаже угловой квартиры распахнулось окно и мелькнула заспанная женская физиономия. Дом был двухэтажный, каркасный. Вдоль всего этажа тянулась галерея, на которую выходили двери и окна квартир. На галерею вела скрипучая дощатая лестница. Жилица крайней квартиры вышла на галерею, запахивая полы ситцевого халатика.
— Логинову-то не видать, говорите? — переспросила Зухра-апа. — Вторые сутки не показывается. Может, уехала куда.
— Вряд ли, — усомнилась Маша. — Она бы у меня ключ оставила. Дочка к ней собиралась приехать из Таджикистана.
— Приехала! — оживилась Зухра-апа. — Позавчера еще приехала. С мужем. Вы разве не знали?
— Странно, — с сомнением покачала головой собеседница. — Такая общительная, разговорчивая, а тут дочь приехала, — и никому ни гу-гу.
— Может, они вместе уехали? — предположила Зухра-апа.
— Да никуда они не
уезжали! — вмешалась в разговор женщина с галереи. — Замка-то на дверях нет. И щеколда не задвинута.
— Ну тогда, значит, дома они, — успокоилась Зухра-апа, направляясь к бидону. — Пойду, а то как бы молоко не прозевать.
Маша кончила развешивать белье, взяла таз и пошла к дому.
— Маш! — окликнула ее женщина сверху. — А ведь ты верно давеча сказала. — Странно это все.
— Ну! — оживилась Маша. — Второй день человек носу из дому не кажет, а мы тут догадки строим.
— А чего делать-то?
— Ты бы хоть в дверь торкнулась. Может, заболела Логинова, помочь чем нужно. Соседка называется.
— Так ведь у нее дочь там, зять. Все трое заболели?
— Тем более подозрительно.
— А что, может, правда постучать? — заколебалась соседка.
— Конечно, постучи.
— Идем, Маша, вместе постучим. Неудобно одной.
Дверь оказалась запертой изнутри. На стук никто не ответил. Не на шутку встревоженные женщины позвонили в милицию. А еще час спустя представители опергруппы в присутствии понятых взломали дверь.
Старший оперуполномоченный Матясов в который раз перечитал документы по делу, отложил в сторону папку и задумался.
Картина вырисовывалась следующая: в запертой изнутри квартире были обнаружены трупы Логиновой С. И., ее дочери Щукиной Р. В. и зятя Щукина В. Г. — старшего лейтенанта пограничных войск. Все трое были убиты выстрелами в голову. Как показала экспертиза, убийца пользовался пистолетом «ТТ», что подтверждалось тремя обнаруженными в комнате гильзами и пулей, которую удалось извлечь из стены.
О присутствии в комнате четвертого человека, который, по-видимому, и был убийцей, говорил тот факт, что трое убитых лежали на постельных принадлежностях, расстеленных на полу, а на диване были также постелены простыни и лежала подушка. И уже никаких сомнений в правильности этой версии не оставляла неприбранная со стола посуда: четыре тарелки, четыре вилки, недопитая бутылка водки и два стакана.
В комнате царил беспорядок, валялись выброшенные из шкафа и двух чемоданов вещи. Преступник явно что-то искал…
Матясов достал из пачки сигарету и машинально стал разминать ее, катая пальцами по столу.
…Опрос соседей на предмет установления личности убийцы ничего не дал. Никто из них не видел, как он вошел в квартиру Логиновой. По всей вероятности, человек этот был знаком с убитыми: иначе с какой стати оставлять ночевать? Зацепка, казалось бы…
Матясов усмехнулся и покачал головой. Именно «казалось бы». Попробуй-ка установи круг знакомств людей, которых нет в живых!
Но сейчас его интересовала даже не сама личность убийцы, а то, как он выбрался из квартиры: дверь комнаты была заперта изнутри, единственное окно — тоже.
В том, что преступник не был профессионалом, Матясов почти не сомневался. Об этом свидетельствовали оставленные на месте преступления гильзы, множество отпечатков пальцев на дверцах шкафа, чемоданах и других предметах. И тем загадочнее было его необъяснимое исчезновение из комнаты.
Так и не придя ни к какому выводу, Матясов отправился на улицу Фурката, чтобы еще раз осмотреть место происшествия. Здесь ему повезло: осматривая обратную сторону дома, в котором было совершено преступление, Матясов обратил внимание на валявшуюся в арыке совершенно целую на вид гладильную доску. Матясов достал ее из арыка и, прислонив к стене соседнего дома, принялся разглядывать, ища дефект, из-за которого доска была выброшена.
За этим занятием застала его словоохотливая Зухра-апа.
— Трудишься, сынок? — на память старуха не жаловалась, и Матясов запомнился ей по беседе, которая состоялась у них двумя днями раньше.
— Тружусь, — буркнул оперуполномоченный, продолжая изучать доску.
— Как? — переспросила старуха. — Громче говори, сынок. Я слышу плохо.
— Это, случайно, не вы бросили? — рявкнул Матясов.
— Аллах с тобой! — всплеснула руками Зухра-апа. — Такое добро я бы ни за что не выкинула.
— А вот кто-то бросил.
— Надо же! Постой-постой, а где ты ее нашел?
— Вот тут, в арыке.
— В арыке, говоришь? — Зухра-апа внимательно присмотрелась к доске.
— В арыке. — Матясов уже не знал, как избавиться от старухи. — Мало ли что по арыкам валяется.
— Ну, не скажи, сынок. — Старуха повертела доску, подобрала с земли щепку и соскребла грязь с верхней части доски. — А ведь я знаю, чья это доска.
— Чья? — без особого интереса, недоверчиво спросил оперуполномоченный.
— Логиновская, вот чья.
— Что? — не поверил собственным ушам Матясов.
— Логиновская доска. Я ее брала как-то у Софьи Ивановны попользоваться, да утюгом и прожгла немножечко. Вот тут, видишь?
— Вы не ошибаетесь? — тихим от волнения голосом спросил Матясов.
— Что?
— Точно логиновская?!
— Точно, — кивнула старуха.
Следующие два часа Матясов трудился, не покладая рук. Опросил для верности соседей, убедился, что гладильная доска действительно принадлежала покойной. Побывал в квартире. Открыв окно, долго изучал находившийся в метре от подоконника дувал соседнего двора. Потом примерил доску между подоконником и дувалом. Доска ложилась как раз. Прошел в соседний двор и тщательно обследовал грунт вдоль дувана. Вернулся в дом. По доске перебрался из комнаты на дувал. Внимательно осмотрел открывающуюся наружу створку окна. Удовлетворенно хмыкнул, обнаружив на внешней поверхности стекла припорошенные пылью и потому особенно отчетливые отпечатки пальцев.
Приподнял легко двигающуюся задвижку и с силой захлопнул створку окна. К общему изумлению наблюдавших за его действиями соседок снова появился с улицы, вошел в квартиру. Окно, как он и ожидал, оказалось запертым.
Заметно повеселевший Матясов, насвистывая, сбежал по ступеням, вышел на улицу и по телефону-автомату попросил прислать эксперта.
На оперативном совещании у начальника уголовного розыска города подполковника Юркова сообщение Матясова было заслушано с большим вниманием. К этому времени он успел побывать в пограничной части, где еще недавно служил лейтенант Щукин. Был он здесь на отличном счету, — образцовый офицер, пользовавшийся уважением у начальства и подчиненных. Кроме того, что лейтенант Щукин с женой отбыл в очередной отпуск в Ташкент, и затем в Москву, на заставе ничего не знали. Зато удалось выяснить, что незадолго до отпуска Щукин ездил в командировку в Ташкент, а, возвратившись, подарил жене золотые часики марки «Заря».
— Это имеет прямое отношение к делу? — спросил Юрков.
— Думаю, да, товарищ подполковник, — ответил Матясов. — В сумочке покойной Щукиной был обнаружен паспорт к золотым часам марки «Заря», приобретенным в ювелирном магазине на улице Карла Маркса в Ташкенте. Дата приобретения часов и командировки лейтенанта Щукина в Ташкент совпадают.
— Так, — одобрительно кивнул Юрков. — Продолжайте, пожалуйста.
— Мне удалось выяснить, что к Щукину на заставу дважды приезжал его бывший товарищ по училищу. Со слов жены Щукина их бывшая соседка сообщила, что зовут приезжавшего Виктор Петрович и что работает он в школе служебного собаководства.
— Вы попытались установить его личность? — спросил Юрков.
— Да, — кивнул Матясов. — В школе служебного собаководства в Нижне-Чирчикском районе работает инструктором некто Авакумов Виктор Петрович. За последнее время он дважды выезжал в командировку в Таджикистан. Далее: Авакумов действительно учился в погранучилище одновременно со Щукиным, но был отчислен.
— За что?
— За воровство.
— Так-так.
— В день убийства, — продолжал Матясов, — Авакумов находился в Ташкенте.
— Это точно установлено?
— Да, товарищ подполковник. Авакумов приезжал по служебным делам в секцию собаководства спортобщества «Динамо».
— И что же?
— Дела в секции Авакумов закончил рано, но в Солдатское вернулся лишь на следующий день.
— В школе служебного собаководства имеется оружие?
— Да. И в том числе пистолеты «ТТ». Авакумов имеет к нему практически бесконтрольный доступ.
— У вас все?
— Еще одна деталь, товарищ подполковник. После возвращения из Ташкента Авакумов подарил своей жене золотые часы марки «Заря».
— Откуда вам это известно?
— Я побывал в Солдатском. Беседовал с руководителями школы, с соседями Авакумовых.
— Ваши предложения?
— Считаю, товарищ подполковник, что Авакумова следует взять под арест.
— Ну что ж, — Юрков помолчал, взвешивая в уме «за» и «против». — Пожалуй, я с вами согласен.
В тот же день руководство спортивного общества «Динамо» вызвало Авакумова в Ташкент. Здесь он был задержан и доставлен в уголовный розыск.
Приглашенная на беседу супруга Авакумова подтвердила, что золотые часы «Заря» подарены ей мужем несколько дней назад, после его возвращения из Ташкента.
Номер на механизме часов полностью совпадал с тем, который был обозначен в паспорте, найденном в сумочке убитой Щукиной.
Поначалу Авакумов категорически отрицал свою причастность к убийству на улице Фурката, но под тяжестью неопровержимых улик вынужден был сознаться во всем. Выяснилось следующее. В день приезда супругов в Ташкент Авакумов случайно встретился с ними на вокзале. Однокашники решили, не откладывая, отметить встречу в привокзальном ресторане. И, когда подошло время рассчитываться с официанткой, заспорили, кому платить по счету. Щукин, решительно отметая возражения Авакумова, заявил, что платить будет он, потому как недавно выиграл по облигации, и теперь у него денег куры не клюют. В качестве подтверждения ткнул пальцем в золотые часы на руке жены:
— Подарок с выигрыша. А теперь в отпуск покатим, в Москву.
При этом ни лейтенант, ни его жена не заметили, как алчно и недобро сверкнули глаза их собеседника.
Застолье решили продолжить у матери Щукиной. Не дойдя нескольких десятков метров до дома, Авакумов спохватился:
— Неудобно с пустыми руками. Вы идите, а я на Бешагач в гастроном смотаюсь. Тут рядом.
Пришел Авакумов, когда уже совсем стемнело, с коробкой дорогих конфет и бутылкой водки.
— Цветов не нашел, не обессудьте, хозяюшка.
Засиделись допоздна. А потом выяснилось, что Авакумову некуда идти, и ему постелили на диване. Хозяева улеглись спать на полу.
Когда все уснули, Авакумов поднялся и, стараясь не шуметь, стал рыться в чемоданах супругов Щукиных: искал деньги, выигранные Щукиным по облигации. За этим занятием и застала его проснувшаяся Щукина. Вскрикнула, не разобравшись спросонья:
— Ой, кто это?
Авакумов выхватил из кармана «ТТ», выстрелил ей в голову и, понимая, что пути назад уже нет, выстрелами в голову убил Щукина и Логинову.
По случайному совпадению в этот самый момент в примыкающий к дому соседний двор въехал мотоцикл со снятым глушителем и грохот его мотора заглушил выстрелы…
Перерыв всю квартиру и так и не найдя денег, о которых говорил лейтенант, Авакумов прихватил сравнительно небольшую сумму отпускных из бумажника Щукина, золотые часы его жены и, воспользовавшись гладильной доской как мостиком, выбрался через окно на дувал соседнего двора.
Затем захлопнул окно и, пройдя несколько шагов по забору, спрыгнул на тротуар.
Ночная улица была тиха и пустынна. Авакумов огляделся по сторонам и торопливо зашагал прочь.
Трибунал приговорил Авакумова к высшей мере наказания.
ДЕЛО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
В очередной раз перелистывая рукопись будущей книги перед тем, как отнести ее в издательство, я вдруг поймал себя на мысли о том, что сознательно оттягиваю срок ее представления. Не давало покоя ощущение какой-то недосказанности, незавершенности; не хватало какого-то последнего, заключительного штриха, после которого можно было со спокойной совестью ставить точку.
И опять, сам о том не догадываясь, на помощь мне пришел Булатов. Однажды вечером, когда окончательно отупев от безуспешных поисков концовки своего многострадального детища, я махнул рукой и уже собирался лечь спать, утешая себя обычным в таких случаях «утро вечера мудренее», в квартире раздался телефонный звонок, и Борис Ильич, извинившись за позднее беспокойство, пригласил меня на встречу с молодыми работниками уголовного розыска, которая была у него назначена на следующее утро.
Я согласился без особого, правда, энтузиазма, скорее даже ради приличия. И… утро действительно оказалось мудренее вечера.
Стараясь не привлекать ничьего внимания к своей персоне, я вошел в зал задолго до начала встречи и, облюбовав себе местечко в последнем ряду, устроился возле окна. Зал постепенно заполнялся. На меня и в самом деле никто не обращал внимания. Я достал записную книжку, положил ее на подоконник, проверил, на месте ли авторучка, и стал ждать, незаметно приглядываясь к аудитории. Это были в основном молодые люди разных национальностей и, насколько можно судить по первому взгляду- разных темпераментов и склада характера. Возможно, чисто субъективно, я отметил при всей их несхожести и нечто общее, что объединяло их, на мой взгляд, и делало похожими. Это «нечто» я для себя определил словом «увлеченность». Увлеченность делом, которому они служат.
Между тем Борис Ильич как-то спокойно и буднично поднялся на трибуну, и встреча началась. Поначалу я не особенно прислушивался к тому, что он говорит, тем более, что, судя по первым фразам, речь шла о вещах, мне уже знакомых по прежним беседам с Булатовым. Куда больше занимала реакция аудитории. Мне и прежде неоднократно доводилось присутствовать на встречах с ветеранами и, чего греха таить, случалось порою наблюдать, как аудитория, вполне благожелательно настроенная по отношению к ветерану, слушает его с вежливым безразличием.
Булатова слушали внимательно и с интересом. Об этом можно было судить и по выражению лиц, и по тому, как в зале то и дело вспыхивало оживление.
То была не лекция и не выступление, — то была беседа, живое общение, прямой контакт с собравшимися. Контакт, дирижером и вдохновителем которого был Борис Ильич. Я успокоился и стал слушать.
— К началу нашего века в России имелась огромная армия уголовных рецидивистов со своими неписаными обычаями и жаргоном. Она продолжала расти и по-своему совершенствоваться. Вся эта преступная масса строго разделялась по категориям, которые в свою очередь входили в особые объединения.
— По какому принципу? — донеслось из зала.
— По характеру деятельности… Например, одни только воры разделяли себя более чем на двадцать пять видов, начиная от «торбовщика», то есть самого простого воришки из мешков на рынке, до «марвихера», считавшегося профессионалом высокого класса, международного вора.
Булатов отпил глоток воды из стоявшего на трибуне стакана и продолжал:
— Показатели преступности очень неприглядны. Взять хотя бы убийства. Года два тому назад я сделал выписку из официальных данных царского министерства юстиции за 1913 год. Оказывается, число умышленно убитых за этот предвоенный год соответствовало численности личного состава двух пехотных дивизий, укомплектованных по штатам военного времени! Немало убийств совершалось и в Туркестане…
— А как обстояло дело с раскрываемостью преступлений? — спросили из зала. — Что делалось по профилактике?
— О профилактике, предотвращении преступлений в те годы и не задумывались. Полиция и народ размещались на разных полюсах общества. Полиция сама толкала людей в пропасть и не думала о какой-либо помощи человеку, стоявшему на грани преступления. Что же касается защиты трудящихся от преступных посягательств на их жизнь и имущество, то этот вопрос был вообще вне сферы понимания полицейских чинов… Что же до раскрываемости, то практически каждое второе преступление оставалось нераскрытым.
— Чем это объяснялось? — вновь раздалось из зала.
— Прежде всего низкой квалификацией работников. Никаких школ полицейских кадров не существовало. Уголовно-сыскные отделения комплектовались младшими чиновниками или проштрафившимися армейскими офицерами. Они, как правило, отличались низкой общей и профессиональной подготовкой. Во-вторых, эти кадры зачастую имели за спиной темное, или даже заведомо уголовное прошлое. Неудивительно, что на сыщиков смотрели как на людей, лишенных порядочности. Приведу несколько примеров.
Булатов вынул из папки какую-то тетрадь и раскрыл ее.
— Перед самой войной, в 1914 году, в Петрограде, в самом его центре — в районе Невского проспекта и Садовой улицы участились дерзкие вооруженные налеты на рестораны. Грабители забирали денежные выручки, отбирали бумажники и драгоценности у облюбованных ими посетителей и безнаказанно уходили. В связи с этим Петроградский градоначальник генерал Балк вызвал своего помощника по уголовно-розыскной части князя Оболенского и заявил ему: «Александр Николаевич, твои антихристы обнаглели окончательно. Всякую меру потеряли. Развернулись, мерзавцы, в самом центре столицы. Больше всех кричит и плачет владелец ресторана „ОНОН“ Палкин, а его ведь посещают офицеры генштаба, вся знать! Надо навести порядок. Разгоните этот гоп к чертовой матери! Организуйте хоть „Карусель“, что ли… Пусть грабят где хотят, только не тут».
— Поясните, что такое «Карусель», — попросил один из слушателей.
— Чуть позже, если не возражаете, — кивнул Булатов. — Оболенский, как обычно отрапортовал: «Будет выполнено! Внедрим своего человека!..» Дальше за ним задержки не было. Звонит полицмейстеру Петрограда генералу Григорьеву. Встретились. Похихикали. «С кого начнем крутить, Александр Николаевич, с толстяка или с лысого?» — спросил Григорьев. Почесав затылок, Оболенский пришел к выводу: «С толстяка Палкина, пожалуй, удобнее»… «Хорошо. А роль „карусельщика“ кому поручить? Танцору или Красавчику?» «Кому хотите, только чтобы получилось как полагается»…
Вскоре Палкин на собственной шкуре испытал, что такое «карусель». Утром к нему в ресторан явился неизвестный, по виду типичный обитатель «Крестов» — питерской тюрьмы. Таинственным шепотом обращается к Палкину: «Ваше степенство! Выручите. Всего пятьсот рублей… Проигрался в доску… Хоть не показывайся в „Астории“… Пожалейте…» Обрюзгший Палкин пренебрежительно взглянул на него и рявкнул: «Вон отсюда, мерзавец!». Неизвестный мгновенно исчез.
После полуночи, когда Палкин садился в свой экипаж, запряженный парой гнедых, в карету внезапно вскочили трое верзил в масках и под угрозой наганов заставили кучера ехать не на Забалканский проспект, где жил Палкин, а в район Марьиной рощи, за Московской заставой. Там они обобрали Палкина, раздели до нательного белья и стали избивать. В этот момент появился некий избавитель с двумя наганами в руках и зарычал на грабителей: «Что происходит на моей усадьбе?» Те вмиг исчезли. Палкин изумился, узнав в своем избавителе того самого выходца из «Крестов», который утром просил одолжить ему пятьсот рублей!.. А тот говорит: «Ваше степенство, какая неприятность, очень прискорбно! Заставлю все вернуть, на коленях приползут, подлецы!..»
Палкин понял, что его «избавитель» а им оказался известный в Петрограде бандит Панаретов, под кличкой «Красавчик» является видной фигурой в преступном мире и за определенную, мзду вместе со своими дружками обеспечит его неприкосновенность и спокойную жизнь.
Таким именно путем полиция внедрила «Своего» бандита в ресторан Палкина, что обязывало всех остальных грабителей ретироваться с территории всего района. Грабежи на Невском и Садовой прекратились, но… усилились на соседних улицах. Тем не менее, полиция доложила кому следует, что ей удалось навести порядок в центре столицы.
— Борис Ильич, не располагаете ли вы данными о состоянии преступности в Туркестане в предреволюционные годы? — спросил молодой человек из средних рядов.
— В бывшем Туркестанском крае убивали, грабили, воровали ничуть не меньше, чем повсюду в России. Тут тоже были свои Панаретовы, разные другие. Подчас совершались очень крупные преступления, о которых давалась информация на страницах столичных газет. У меня и сейчас сохранились в памяти такие, например, как аналогичные вооруженные разбои.
Другая газета сообщает, что по сведениям, полученным в уголовно-сыскном отделении, в июле 1915 года в новой части Ташкента зарегистрировано более ста убийств, вооруженных ограблений и крупных краж со взломом… А ведь население Ташкента тогда составляло немногим более двухсот тысяч человек. Вот еще одно сообщение этой же газеты. «…Гастролирующий в Ташкенте самозваный князь Тимирязев Владимир Владимирович выманил под видом пожертвований в пользу раненых офицеров у доверчивых коммерсантов более пятидесяти тысяч рублей»…
Ну как тут не вспомнить высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что «…преступником является та самая полиция, которой вверено в России раскрытие преступлений».
Я смотрел на оживленные лица молодых работников уголовного розыска и, попытавшись на миг представить себя на их месте, кажется, понял причину их неослабевающего (а встреча продолжалась уже больше часа) внимания к тому, о чем говорил Борис Ильич. Разумеется, аналогичные материалы из истории уголовного розыска каждый из них мог, покопавшись в книгах и архивах, узнать и сам. Но здесь материалы эти были, во-первых, тщательно подобраны и выстроены в систему, а во-вторых, сама манера изложения их Булатовым импонировала слушателям уже потому, что была не сухая констатация фактов, а эмоционально окрашенное повествование. Людям всегда импонирует, когда об их профессии говорят неравнодушно, взволнованно, с глубоким знанием дела.
— В октябре-ноябре 1917 года в Петрограде сложилась острая ситуация, — продолжал между тем Булатов. — Всякого рода контрреволюционные элементы, белогвардейское офицерье, сомкнувшиеся с ними уголовники и, в первую очередь, «Птенцы Керенского» — матерые преступники, выпущенные в огромном количестве Керенским из тюрем, создали обстановку неустойчивости и беспокойства. По предложению соратника Владимира Ильича, члена Петроградского Военно-Революционного Комитета товарища Дзержинского Совет Народных Комиссаров назначил на должность начальника Управления охраны Петрограда всем вам хорошо известного Климента Ефремовича Ворошилова. Эта должность тогда называлась «Комиссар Петрограда». Дзержинский считал, что никто лучше него не справится с задачей по поддержанию спокойствия и порядка в городе.
И действительно, Ворошилов в короткий срок привлек к активному участию в работе Управления охраны города многих революционно настроенных рабочих, готовых отдать жизнь за революцию и ее завоевания.
— Это было до создания ВЧК или после? — спросил один из слушателей.
— Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем — ВЧК была создана Советом Народных Комиссаров 7 (20) декабря 1917 года. Председателем ВЧК, как вы знаете, был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский. К слову сказать, штат ее тогда не превышал двадцати человек. Членам коллегии, в том числе лично Дзержинскому, приходилось самим ходить на обыски и аресты, а также допрашивать арестованных. Сама жизнь подсказала целесообразность использования сил и возможностей Управления охраны города в интересах обеспечения Государственной безопасности. Договорившись с Ворошиловым по существу, а также о совместном размещении в доме, где прежде размещался петроградский градоначальник, Дзержинский сказал, что в целях организационного закрепления вопроса о контакте в работе ВЧК и органов охраны порядка, он поставит перед ЦК вопрос о вводе Ворошилова в состав коллегии ВЧК. На следующий же день в кармане Ворошилова лежало подписанное Дзержинским удостоверение ВЧК.
— Разве Дзержинский не был Народным комиссаром внутренних дел? — уточнили из зала.
Булатов кивнул.
— Да, Феликс Эдмундович в течение нескольких лет, продолжая руководить органами Госбезопасности страны, одновременно являлся наркомом внутренних дел.
— А кто возглавлял в это время ЧК в Туркестане?
— В 1918 году председателем ТуркЧК был Игнат Порфирьевич Фоменко, а начальником Управления охраны города Ташкента Фриц Янович Цируль.
Булатов внимательно оглядел лица слушателей.
— Взаимодействие ТуркЧК и Управления охраны Ташкента помогло пресечь подрывные акции американского и английского «дипломатов» Тредуэлла и Маккартнея, майора британской «Сикрет Интеллидженс Сервис» Бейли и других новоявленных послов и консулов иностранных государств, занимавшихся в Ташкенте далеко не дипломатической деятельностью. Уголовный розыск участвовал в разгроме контрреволюционной Туркестанской военной организации, ликвидировал в контакте с ТуркЧК целый ряд опасных антисоветских банд. Работники уголовного розыска не жалели ни сил, ни жизней в ходе разгрома кровавого осиповского мятежа в январе 1919 года. Здание уголовного розыска на Шахрисабзской, и Военная крепость и Главные железнодорожные мастерские, стали бастионами, которые не смогли захватить мятежники.
Булатов сошел с трибуны и распахнул окно. В зал дохнуло прохладой. Только теперь я обратил внимание, что на улице идет дождь.
— Советские республики Средней Азии рождались в ожесточенной классовой борьбе. Они вынуждены были отстаивать свое существование не только путем подавления открытого вооруженного сопротивления внутренней и внешней контрреволюции, но и путем борьбы с уголовными преступниками всех мастей, которые объединились с контрреволюционным подпольем… В то время Владимир Ильич Ленин писал: «…Все элементы разложения старого общества… не могут „Не показать себя“ при таком глубоком перевороте… иначе, как увеличением преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляции, безобразий всякого рода. Чтобы сладить с этим, нужно время и нужна железная рука».
Булатов помолчал, словно прислушиваясь к приглушенным уличным шумам, и медленно вернулся на трибуну.
— За годы Советской власти милиция прошла большой путь. Неизмеримо возросло профессиональное мастерство ее сотрудников, ее техническое оснащение. Меняется и совершенствуется структура подразделений милиции, уточняются их функции и конкретные задачи, повышаются предъявляемые к ним требования. Однако неизменными были и остаются революционный дух милицейской службы, глубокая преданность ее работников делу партии, делу народа.
Разумеется, и в уголовном розыске работают разные люди. Супермены, раскрывающие преступления, не выходя из кабинета, встречаются только в плохих детективных романах, рассчитанных на наивных читателей. Отличительная черта работников нашего уголовного розыска — это прежде всего неутомимость, самоотверженность, беспредельная преданность служебному долгу, способность подчинить ему все свои силы.
Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что важно не то, чтобы за преступление было назначено тяжкое наказание, а то, чтобы ни один случай преступления не проходил нераскрытым.
При этом жизнь подсказывает, что, наряду с непримиримой борьбой с преступниками, надо уделять все большее внимание профилактике правонарушений, предотвращению преступлений.
Нашу встречу мне хочется закончить следующими словами Карла Маркса: «…Профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие корни, если идеям, господствующим в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все наши стремления». И я убежден, что у подавляющего большинства присутствующих здесь именно такое возвышенное отношение к своей профессии, к делу уголовного розыска.

Игорь Росоховатский
Шляпколовы. У тебя есть друзья
(повести)
Игорь Росоховатский
ШЛЯПКОЛОВЫ
(приключенческая повесть)
ВСТРЕЧА НА ТЕПЛОХОДЕ

Теплоход «Поэт Пушкин», совершающий очередной рейс по Днепру, отошел от пристани. Волны, словно выплавленные из зеленого стекла, глухо зашуршали о борта. Мимо медленно поплыли живописные берега: леса, застывшие в спокойной задумчивости, будто только что снятые с картины; луга, такие ярко-зеленые, что не верилось в их естественность; размахнувшиеся до горизонта поля.
На палубу вышел человек в темно-синем костюме и, оглянувшись по сторонам, прошел сначала на нос, затем в салон. Едва успел он присесть к шахматному столику, как услышал позади голос:
— Может, сыграем?
Он посмотрел на говорившего. Это был паренек лет семнадцати — девятнадцати, с приветливым взглядом, бледным лицом и красивыми пухлыми губами. На лацкане его пиджака спортивного покроя выделялся комсомольский значок.
— Ну что ж, я не прочь, — сказал человек в темно-синем костюме.
— Меня зовут Константином.
— Кротов, — пожимая руку паренька, ответил человек в темно-синем костюме.
Константин быстро расставил шахматы на доске, и сражение началось. Кротов играл уверенно, даже чуть-чуть небрежно.
— Предупреждаю, — улыбнулся его противник и задорно тряхнул головой, рассыпав по лбу волосы, — я играю не так уж плохо!
Если вы великодушный и упорный шахматист, то собственное поражение обязательно внушит вам уважение и дружелюбие к победившему противнику. Кротов принадлежал как раз к таким людям. Первые симптомы расположения к юноше с комсомольским значком появились у Кротова после того, как он сам вынужден был признаться:
— Через два хода вы мне дадите мат. Вижу и ничего не могу сделать.
Константин снова улыбнулся и, молча передвинув коня противника, сказал:
— А если бы так?!
— Верно! Так я избежал бы мата! — воскликнул Кротов и посмотрел на юношу с явной почтительностью.
Они разговорились, и через полчаса Кротов знал всю подноготную попутчика. Константин ехал из Херсона в Киев, собирался поступать в Политехнический институт. Школу он окончил хорошо и надеялся на успех. Под большим секретом он сообщил новому знакомому, что в Херсоне ему очень нравилась Машенька из пятой школы, парашютистка и вообще «очень смелая», что и сам он не из трусливого десятка и был дружинником. Он показал грамоту за борьбу с хулиганством. Последнее обстоятельство заинтересовало Кротова, и он долго расспрашивал о работе дружинников в Херсоне.
Константин охотно отвечал на вопросы, а после реплики: «Это дело не только смелости, головы требует» — с горячностью заявил:
— Хотите докажу, что я с головой?
— Докажи, докажи, — похлопал его по плечу Кротов.
— Вы не обычный пассажир. Вы из милиции.
Кротов засмеялся:
— У вас в Херсоне все такие?
— Догадливые?
— Вот именно.
— Все, конечно. У нас в дружинники только таких и берут.
Из-за поворота как-то неожиданно открылись остроугольные и круглые башенки, трубы, золоченые купола. И вот уже виден сказочный бело- и розово-каменный город-сад — Зеленые парки, зеленые берега…
Одними из первых на берег сошли Кротов и его новый юный друг. Прощаясь, Кротов сказал:
— Ты мне позвонишь, Костя, расскажешь, как экзамены сдал, — ладно? Может, чем-нибудь помогу…
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
Девушка с тонкой шеей, прикрытой воротником из серого каракуля, шла по осеннему парку. Ее зеленое пальто и шляпа казались необыкновенно свежими на фоне желтеющих листьев. Уходящее солнце провело последними длинными лучами по верхушкам деревьев. Прошел ветерок, и листья тихо шелестели, падая на землю. Девушка легко наклонилась и подняла листок. Какой он красивый! Может быть, это солнце, уходя, оставило на нем крупинку своего золотого запаса? А вдали, на склонах, деревья отгорожены, словно тонким сизым стеклом — осенним воздухом.
Девушка остановилась. Тишина. Легкое дыхание невидимой отсюда, но близкой реки. Такая тишина, что хочется слушать ее, как музыку. Но слушать лучше вдвоем. И девушка спешит. Вот за тем поворотом на круглой цементированной площадке с балюстрадой, откуда открывается могучая река и широкая даль, ее ждет друг.
Внезапно, рассекая тишину, послышался резкий свист, и девушка, вскрикнув, схватилась руками за лицо. Она ничего не поняла, лишь ощутила резкую боль, И жалобный крик огласил парк. Стали сбегаться люди. Они окружили девушку. Послышалось участливое: «Что с вами?»

Расталкивая локтями людей, вперед пробрался подросток в расстегнутом пальто, из-под которого виднелся синий шерстяной свитер с белыми оленями. Он громко крикнул:
— Люся? Ты? Что случилось?
Девушка отняла руку от лица. Через все лицо от подбородка до лба тянулась узкая рваная рана.
У подростка в свитере задрожали брови.
— Люсенька, нужно скорее к врачу!..
…Легковой автомобиль с крестом на переднем стекле увез Люсю.
* * *
«12 октября. 15 ч. 00 м. В парке. У двух девушек неизвестным образом стащили с голов шляпки. Воров не удалось обнаружить. Девушки их также не видели».
«13 октября. 19 ч. 30 м. В парке. У гр-ки Лупич К. О. сняли чернобурку и порвали пальто. Похитителей гражданка не видела. Она услышала резкий свист и почувствовала сильный рывок. Гр-ка Лупич упала. Когда она поднялась, чернобурки на ней уже не было, а пальто в тех местах, где к нему на крючках прикреплялся воротник, было порвано…»
«13 октября. 20 ч. 00 м. В парке. Супруги М. Л. и П. Ч. Полотан присели на скамейку. М. Л. Полотан положила около себя сумочку, в которой находилась зарплата. Когда собрались уходить, сумочки на скамейке не оказалось. Поблизости никого не замечали…»
«14 октября. 18 ч. 55 м. В парке. Ученице 9-го класса Евченко Л. И. неизвестным образом и неизвестным предметом рассечено лицо…»
Младший лейтенант Кротов положил донесения в ящик стола, подпер рукой подбородок и стал смотреть в окно.
В дверь постучали. В комнату вошел запыхавшийся Костя Дереза. Это Кротов рекомендовал его в народную дружину. На бледных щеках Кости горел румянец, каштановые волосы были в беспорядке.
— Упустил! Смекалки не хватило! — с гневом крикнул он.
— Кого упустил? Расскажи толком.
— Понимаете, шла женщина. К ней подошел парень лет двадцати, взял под руку, шепнул: «Не шуми, а то кровь пущу» — снял с ее руки золотые часы и преспокойно ушел. Тогда только она закричала. Я близко был, парня того приметил, еще подумал: «Такой молодой, а под руку, с солидной дамой». Как только я услышал ее крик, сейчас же за ним припустился, На углу Пушкинской догнал. «Постойте, гражданин», — говорю. И напрасно это сказал. Он, видно, все понял — рванул по Пушкинской. Забежал в городскую кассу. Я за ним. Тут откуда-то старшина Мыкытенко взялся. Обшарили мы все помещения. Там, как на грех, уезжающих полным полно, — Костя отчаянно махнул рукой. — Не нашли, исчез!
— Да, досада, — сказал Кротов. — Но унывать не надо. В нашем деле уныние горше болезни, браток. — Младший лейтенант помолчал, а потом, взглянув на огорченное лицо юноши, принял бодрый вид и ни с того, ни с сего предложил: — Порасскажи, — как учеба?
— Ничего учеба, Иван Игоревич. Лабораторные занятия интересные.
— Товарищей завел?
— Ребята у нас в группе хорошие. А чтоб дружить, — пока еще ни с кем не подружился.
— Где разместился, живешь где, в общежитии? — заботливо спросил Кротов.
— Живу у тетки. Ко мне относится — лучше не надо.
— Ну, добре, Костя. Пойдем, я тебя немного провожу. Мне на Тимофеевскую нужно.
Они вышли из дома, миновали площадь с увядающими клумбами и направились по шумной прямой улице. Их обогнал трамвай. На ступеньке висели два мальчугана. Один из них, постарше, вдруг сбил с головы другого шапку. Тот спрыгнул за ней на асфальт. Раздался гудок автомобиля, взвизгнули тормоза, истерично закричала женщина.
Костя рванулся вслед за трамваем, крикнул на ходу Кротову:
— Догоню его на остановке!
«Горячий парнишка, сердце чистое», — подумал о Косте младший лейтенант.
В ТИХОМ СЕМЕЙСТВЕ
— С нашим Витенькой что-то неладно. Уж не заболел ли? — встревоженно говорила высокая, пышная женщина, обращаясь к мужу, сидящему за столом с газетой в руках. — Он только с прогулки пришел, а мое материнское сердце почуяло — неладно. Съежился весь, глаз не подымает. И сразу к себе — в детскую. Я заглянула в щелку. Он лежит на диване, губы стиснул и в потолок смотрит.
— Н-да, странно, — сказал мужчина, не отрывая глаз от газеты.
— Ты слушаешь, когда я говорю, или нет! — закричала пышная женщина.
— Я слушаю, — ответил мужчина и бросил на нее отсутствующий взгляд. — Ты рассказывай.
— Да что тебе рассказывать? Разве ты своими детьми интересуешься? И я, и они тебе безразличны. Тебе лишь бы Леонтий Макарович да Карп Леонтьевич были здоровы, да шахматы не ломались, да пивная на Красноармейской была открыта — больше ничего не нужно. Истукан!
В это время в столовую вошел юноша в синем свитере с оленями. Его черные глаза-угольки с явным пренебрежением остановились на родителях.
— Опять? — кивнув в их сторону, спросил он у домашней работницы. — Ну, сейчас пойдет: «Для кого я жизнь погубила?..» Правда, весело у нас, Люба?
Спор неожиданно прекратил тринадцатилетний мальчик, пухлый, с висячим двойным подбородком. Он распахнул дверь детской комнаты и крикнул, чуть не плача:
— Мама! Папа! Давайте обедать!
— Не называй его папой, Витенька. Это же бездушное животное! — прогудела женщина.
— Первое остывает, — примирительно сказал мужчина. — Примемся за еду, моя кисонька. Довольно говорить друг другу гадости.
Он первым подал пример: налил из графина вина и наколол на вилку кусок огурца.
Юноша в синем свитере решительно подошел к столу, сел и придвинул к себе тарелку с супом.
Обед прошел в молчании. Так же молча супруг удалился в свой кабинет. Жена продолжала сидеть за столом, меланхолическим взглядом следя за домашней работницей Любой, убиравшей посуду. Мальчики ушли в свою комнату.
Спустя несколько минут из детской послышался сначала стук, затем отчаянный крик: «Мама!» — и в столовую влетел Витя с трясущимися щеками.
— Мама, мамочка, мамуся! Я с тобой, мне страшно! — вопил он, оглядываясь назад.
— Что случилось, Витенька? Что с тобой? Сергей обидел? Я его сейчас…
— Мне показалось… кто-то за окном. Мне страшно! — всхлипывал мальчик.
— Я с тобой, маленький, успокойся! — Мать стала целовать Витю в лоб, в глаза, в щеки. Она вынула из глубин своего халата носовой платок, на котором красовался разноцветный попугай, и вытерла сыну слезы. — Ну, вот и всё. Теперь давай я сама отведу тебя в детскую и мы посмотрим за окно. Увидишь, там никого нет.
— Не пойду! Буду весь день с тобой! И спать буду с тобой! Пусть перенесут мою кровать! — выкрикивал сквозь слезы мальчик.
— Но, Витенька…
— Сказал: не пойду, и не пойду! Не хочу туда! Бесчувственное животное! — топал он об пол ногой.
— Откуда ты набрался таких слов?
— Я буду спать с тобой! — твердил свое мальчик.
— Ну, хорошо. Чего ты боишься?
Она прошла в детскую. Старший сын Сергей поспешно спрятал под подушку какую-то коробку.
— Почему плачет Витенька? — гневно вскрикнула мать.
— А я знаю? Он же твой любимчик, ты и должна знать; у меня своих дел хватает.
— Как с материю разговариваешь? — возмутилась она и, подойдя ближе к кровати, взялась за подушку. — Что это ты там прячешь?
— Ничего. Крючки.
— Сейчас же покажи!
— Но я же сказал. Ты что, мне не веришь?
— Ты вечно лжешь, Сергей! Я тебя знаю.
Юноша ничего не ответил матери. Он протянул ей коробку и отвернулся.
Она быстро открыла коробку. В ней лежало несколько рыболовных крючков.
— Ты должен был бы смотреть за младшим братом! Но как ты можешь это делать, если у тебя даже для занятий не остается времени! — резко сказала она и вышла, демонстративно хлопнув дверью.
Сергей встал, медленно подошел к окну и долго смотрел на осеннюю улицу. Его губы дрожали. Из окна на него укоризненно смотрело лицо Люси, обезображенное шрамом.
* * *
Подполковник Котловский остановился у двери квартиры первого этажа, на которой висел синий почтовый ящик с надписью: «Для писем и газет Шулика Б. Н.». Он позвонил и услышал за дверью женский голос:
— Люба, где вы запропастились? К нам звонят!
«Голос принадлежит той, что приходила ко мне вчера», — подумал Семен Игнатьевич и вспомнил женщину, по одному виду которой можно было определить: она выросла в деревне и тщательно скрывает это. В ушах Котловского снова зазвучал ее грудной голос. «Я женщина, мать; вы, надеюсь, понимаете мою тревогу? Мой мальчик, мой сынок в опасности».
Тогда первым желанием подполковника было выпроводить ее из кабинета, но он сдержался и выслушал ее до конца. То, что рассказывала женщина, само по себе ничего не означало, но в сопоставлении с участившимся детским хулиганством — настораживало. А когда подполковник Котловский услышал, что мальчик учится в школе, где была раскрыта группа малолетних воров и где наиболее процветало хулиганство, он сам поспешил на квартиру работника Министерства просвещения — Бориса Николаевича Шулика.
Дверь открыла домработница. За ней, на пороге комнаты, стояла хозяйка дома.
— Здравствуйте, Аделаида Фоминична, — обратился к ней Семен Игнатьевич. — Как видите, я свои обещания выполняю исправно.
— Входите, входите, — сказала женщина. — Витенька с минуты на минуту придет из школы.
Подполковник вошел в столовую. На буфете красного дерева стояло семь фаянсовых слоников; у переднего на шее был повязан огромный красный бант. На стене рядом с «Девятым валом» Айвазовского висела в золоченой рамке вышивка — два целующихся голубка.
Из коридора послышался звонок. Аделаида Фоминична встрепенулась:
Витенька, наверное…
В комнату вошел подросток, очень легко одетый, в синем шерстяном свитере, но без пальто и даже без пиджака. По недовольному выражению лица хозяйки Котловский определил, что это не ее любимец.
— А где Витенька? Почему не привел его? — спросила Аделаида Фоминична.
— Здравствуйте, — поздоровался подросток, увидев чужого, потом спокойно ответил матери: — Витя со своими товарищами задержался. Скоро будет.
— Ты вечно грубишь, Сергей! Воспитывай не воспитывай тебя — все равно толку не будет, — пророческим голосом произнесла она и отвернулась от сына.
— Это старший. Никакого сладу с ним. Непослушный, учится неважно! А младшенький мой — почти отличник! — до приторности ласковым голосом сообщила она.
Семен Игнатьевич посмотрел в черные блестящие глаза
подростка, и сердце его дрогнуло. Ясным, любопытным, как у галчонка, взглядом этот мальчик напомнил ему сына, погибшего от руки хулигана. И звали его так же — Сергей.
Боясь выдать свое волнение, Котловский подал руку пареньку и нарочито сурово сказал:
— Давай познакомимся.
Сергей улыбнулся Котловскому одними глазами: ладно, мол, знакомиться так знакомиться.
В коридоре вторично раздался звонок — длинный, заливистый, торопящий.
— Иду, иду! — крикнула Аделаида Фоминична и повернула лицо к подполковнику. — Это уж точно Витенька.
Она ввела в комнату пыхтящего мальчугана с двойным подбородком, одетого в клетчатое пальто и такого же цвета кепку. Витя бросил портфель на стол и стал раздеваться.
— Люба! Витенька пришел! Давайте на стол! — приказала она.
Пока домашняя работница подавала на стол и убирала на вешалку пальто, сброшенное Витей, Аделаида Фоминична заставила своего младшенького показать гостю дневник, где красовались пятерки, четверки и изредка — тройки, и четырежды чмокнула его в голову.
С видимым удовольствием принимая ее ласки, мальчуган тихим голосом рассказал Семену Игнатьевичу о математической олимпиаде, проходившей в их школе.
— Он взял первый приз! — гордо сказала Аделаида Фоминична.
Подполковник подождал, пока мальчики поели, и стал расспрашивать Витю о его страхах. Мальчик вдруг съежился и начал запинаться.
— Скажи все, Витенька; этот дядя из милиции, он им покажет! — подбодрила его мать, да так неудачно, — он совсем умолк.
Котловский, увидев, что от мальчика ничего не добиться, собрался уходить. Он решил поговорить с директором школы и классным руководителем.
— Так как вы думаете, моему мальчику ничто не угрожает? — спросила Аделаида Фоминична. — Он ведь такой тихий, беззащитный. Вот о старшем этого не скажу. И чего ему не хватает?
«Ласки», — подумал подполковник и стал прощаться. Вместе с ним вышел и Сергей.
— Тебе куда? — спросил его Котловский.
— На Красноармейскую.
— И мне туда же. Пошли вместе, — обрадовался подполковник.
Дорогой они говорили о школе, о занятиях, трудных и легких предметах. Семен Игнатьевич спросил Сергея, почему у них в школе и в классе такая плохая дисциплина.
— Неинтересно у нас в девятом классе. Всё — мероприятия. Культпоход — мероприятие и лыжная вылазка — мероприятие. Вот и проходят так: ничего нового. Ну и ребята шумят, бузят. А есть и другие… — Он спохватился, что говорит лишнее, и встревоженно глянул на спутника. Лицо Котловского не выражало ничего, кроме дружелюбия, но все-таки Сергей перешел на другую тему: стал рассказывать о прыжках с трамплина.
Они остановились одновременно.
— Мне сюда, — сказал Сергей, кивая в сторону трехэтажного особняка.
— И мне тоже, — Котловский прищурил глаз, словно знал об этом раньше, и спросил: — Тебе в какую квартиру?
— Тут одни знакомые… — протянул юноша. — В четвертую квартиру…
— Значит, вместе. Мне к Люсе Евченко, — сказал Котловский.
С Люсей Евченко Семен Игнатьевич говорил недолго. Она сказала, что того, кто ее ранил, она не видела и, кроме свиста, ничего не слышала. Когда Семен Игнатьевич проговорил: «Вам нечего бояться, доверьтесь, и виновники будут сурово наказаны» — она с такой болью посмотрела на него, что подполковник понял: девушка чего-то не досказывает. А когда он заметил ее взгляд, направленный на Сергея, ему стало ясно: знает об этом и он, но они ничего ему не скажут. Котловский попрощался.
* * *
С директором школы, где учились дети Бориса Николаевича Шулика, Котловский уже сталкивался, расследуя дело о группе малолетних воров. Он сразу же попросил позвать руководителя шестого класса.
Классным руководителем в шестом «б» была молодая женщина с красивой седой прядью в иссиня-черных волосах, Мария Федоровна. Она сказала:
— Витя Шулика учится в моем классе. Как же охарактеризовать его? Мальчик учится хорошо, блестящие математические способности. Ведет себя тихо, не хулиганит. Плохо лишь — наушничать любит. Да! Как ни удивительно, доносит на товарищей.
— Никаких шалостей? — переспросил подполковник.
— Он и так болезненный, малоподвижный. Где уж ему шалить? Он и спортом не занимается. Единственное увлечение — рыбная ловля. Отчаянный рыболов. Всюду со спиннингом, с крючками. Рыболовы у нас группой держатся. По-моему, там старший брат Вити руководит.
— Сергей? — заинтересовался Семен Игнатьевич. — А что он?
— О Сергее Шулика вам директор скажет, — быстро проговорила Мария Федоровна.
Директор для чего-то водрузил на длинный нос пенсне и, внимательно посмотрев на подполковника, сказал:
— Как бы вам точнее определить его?.. Озорник — выдумщик… Вся энергия уходит на выдумки, так что на учебу остается ее мало… Способный мальчик. Посмотрите его дневник. Троек почти нет. То пятерки, то — двойки. Смотря по настроению. А на выдумки горазд. Однажды в восьмом классе, в прошлом году, явился на урок анатомии и за ворот майских жуков натолкал. Во время урока рубашку расстегнул, — жуки оттуда по одному начали вылетать. В классе — смех. Какой уж тут урок? Или вот еще: купил конфет и роздал ребятам с условием — есть на уроке. Учитель вызывает отвечать, а ученики говорить не могут: конфеты липкие, в зубах завязли. Или на уроке шумовой оркестр устроил на перьях. Да чего там, всего не перечислишь! — Директор махнул рукой. — Одна лишь у него хорошая черта: правдив. Спросите его — или правду выложит, или смолчит. А с ложью не знается. Ни-ни. Если кого-то за него станут ругать, сейчас же вскочит: «Я виноват, и больше — никто!» Такой уж индивидуум. Товарищи его любят, поэтому он опаснее других. Хотели мы за хулиганство его из школы исключить, отец вступился… Он в Министерстве просвещения работает, нельзя отказать. Дали последнее предупреждение.
— Правдивый, говорите? — повторил Семен Игнатьевич. Ему было приятно еще раз услышать это.
УДАР В СПИНУ
Подполковник Котловский нажал кнопку звонка. В кабинет вошла секретарша.
— Женя! Там меня дожидаются лейтенант Рябцев и старшина Мыкытенко. Пусть войдут.
Женя вышла, и тотчас же перед Котловским появились нескладный, с длинными руками и хитро прищуренными глазами старшина и молодцеватый, подтянутый и вежливый лейтенант.
— Товарищ подполковник, к операции все готово! — отрапортовал лейтенант Рябцев.
Семен Игнатьевич коротко изложил план действий и под конец сказал:
— Едем!
Двумя крытыми машинами они выехали к месту операции. Недалеко от улицы Льва Толстого остановились. По одному, по два милиционеры выпрыгивали из машины и занимали свои места во дворе и в подъезде большого дома. Старшина Мыкытенко остался дежурить на улице, наблюдать за окнами и балконом второго этажа.
Недавно подполковнику Котловскому сообщили, что три вора-рецидивиста — Лапатый и братья Чирики, известные под кличками Потраш и Сенька Плюгавый — после разгрома их шайки в Сталино прибыли в Киев. Братья Чирики были выслежены в квартире своей дальней родственницы, возможно, и не подозревавшей о настоящей деятельности двоюродных племянников. На поимку их и выехала оперативная группа, возглавляемая подполковником Котловским.
Семен Игнатьевич и лейтенант Рябцев, в сопровождении дворника и двух оперработников, поднялись по лестнице на второй этаж, там же встретили младшего лейтенанта Кротова. Он находился на посту уже больше двух часов. Один из милиционеров постучал в дверь квартиры номер тридцать два. Рябцев стал у двери боком, так, чтобы иметь возможность как только дверь приоткроют, неожиданно проникнуть в квартиру. Кротов загораживал собой подполковника.
Из квартиры послышался женский голос:
— Кто там?
Ответил дворник.
В прямоугольнике распахнувшейся двери перед Кротовым предстала пожилая женщина в длинном халате. Увидав милиционеров, она удивилась и немного испугалась.
— Пожалуйста…
Семен Игнатьевич и Кротов вошли в комнату, тесную от мебели. Всюду стояли статуэтки, лежали альбомы фотографий. Рябцеву и его помощникам достаточно было беглого осмотра квартиры, чтобы определить: братьев Чириков и след простыл.
— Они ушли еще часа в четыре. Как только получили письмо, так и ушли, — ответила хозяйка квартиры Котловскому и тут же задала, в свою очередь, вопрос: — Скажите, пожалуйста, разве они сделали что-нибудь плохое, что вы их ищете?
Подполковник подробно ответил на ее вопрос. Женщина, побледнев, опустилась на стул.
— Не может быть, — простонала она.
— Какое письмо они получили, когда, от кого, кто принес? — спросил Семен Игнатьевич.
— Письмо заказное. От кого, — не знаю. А принес паренек, почтальон. В первый раз его увидала, наверное, новенький.
— Опишите его внешность.
Женщина смутилась.
— Извините, я не успела как следует его рассмотреть. Он так быстро повернулся… И ушел. Разве вот губы заметила: пухлые, нежные, как у девушки.
С улицы вдруг донесся короткий крик.
— Что там такое? — всполошился Кротов и первым бросился вниз по лестнице. За ним прогромыхали Рябцев и Котловский.
У стены, уткнувшись лицом в асфальт, лежал старшина Мыкытенко. Вокруг него быстро расплывалась лужа крови. В ней плавал клочок бумаги, сложенный вчетверо. На листке из ученической тетради в косую линейку, на каких учатся писать первоклассники, были крупно выведены слова: «Подарок от меня и брата. Потраш». Из спины старшины торчала рукоятка ножа.
* * *
…Возвращался домой в этот вечер Семен Игнатьевич, как обычно, пешком. Шел медленно, опустив голову. На душе было тяжело. В смерти старшины он готов был обвинить только себя: «Не подготовил как следует операцию, плохо работаю, ослабил бдительность».
Бандитов кто-то предупредил, и, сомневаться не приходилось, этот «кто-то» был в числе работников милиции, людей, окружавших Котловского. Кто же? При разговоре о предстоящей операции присутствовали только Рябцев да старшина Мыкытенко. В кабинет два раза входила Женя. За дверью, в приемной сидели младший лейтенант Кротов и Костя — парнишка, рекомендованный Кротовым. Но они сквозь дверь, конечно, не могли слышать разговора.
* * *
Семен Игнатьевич Котловский третий раз проходил по Красноармейской, хоть прогуливаться здесь ему было вовсе не нужно, и к тому же некогда. Наконец Котловский вынужден был признаться себе, что он, старый черт, подполковник из уголовного розыска бегает здесь, ища встречи с подростком, так напомнившим сына Сережу. Семен Игнатьевич решился и зашел вторично в квартиру Шулика. Ему повезло. Сергей оказался дома. Он открыл подполковнику дверь.
Котловский начал расспрашивать его о ничего не значащих вещах, время от времени вглядываясь в мальчика: он был так похож на погибшего сына! Точно так же падали на лоб волосы, такая же горькая складка появлялась изредка в уголках губ, так же порывисто двигались длинные пальцы.
— Как Люся? Боли уже не чувствует? — спросил Котловский.
— Боли нет. А вот тяжело ей, что шрам… — глухо проговорил Сергей и, взглянув в грустные глаза подполковника, едва слышно доверительно шепнул: — Лучше бы это на моем лице… Я все-таки парень…
В желании взять на себя Люсино горе Котловский почувствовал настоящую живую душу Сергея, закрытую от всех внешней грубостью, хулиганством. Добраться бы до этой юной души! Но как же найти ключ к сердцу Сергея?
Семену Игнатьевичу неудержимо захотелось погладить его мягкие волосы. Котловский посуровел и отвернулся к окну.
— О, у нас гости! Товарищ подполковник!
Котловский обернулся.
К нему подошла Аделаида Фоминична и, подавая руку, озабоченно и благодарно произнесла:
— Как хорошо, что вы зашли! А я уж собралась вам звонить. С моим Витей опять беда.
— Что-нибудь случилось?
— Он встал сегодня утром. Я глянула и ахнула: у него через все лицо от лба до подбородка — багровая полоса. Можете себе представить мой ужас! Ведь я думала — это кровь. Оказалось — краска. Но если бы вы видели, как он испугался, мой бедный малыш! Губки посинели, затряслись… Уже потом, когда мы убедились, что это краска, Витя немного успокоился. Даже в школу пошел… Как вы думаете, кто его мог измазать? Вечером я его видела — личико было чистое… Я, знаете ли, ничего не понимаю… — Она притронулась пальцами к вискам.
— Вы разрешите мне посмотреть комнату, где спят мальчики? — попросил Семен Игнатьевич.
— Пожалуйста!
Она провела Котловского в небольшую комнату, где стоял стол, две кровати, две тумбочки и четыре стула. Между кроватями находилось окно. Семен Игнатьевич осмотрел задвижки, осведомился, было ли окно утром закрыто. Он подошел поочередно к кроватям. На подушке одной из них он заметил крошечное красное пятнышко.
— Чья это кровать?
— Витеньки, — ответила Аделаида Фоминична.
Семен Игнатьевич подошел ко второй кровати, осмотрел ее. На спинке висело полотенце. Он снял его и развернул. Потом снял полотенце с другой кровати. На обоих были красные пятна.
Разглядывая комнату, подполковник остановился у шкафа, из-за которого торчала бамбуковая палка. Он вытащил ее. Это был спиннинг необычной формы. Две тонкие тростинки, прикрепленные к нему, складывались наподобие буквы «у».
Котловский в сопровождении хозяйки квартиры вышел в переднюю и как-то странно взглянул на Сергея.
— Мне пора на работу. А ты никуда не идешь? — обратился он к нему.
«Нет», — хотел сказать Сергей, но пристальный взгляд подполковника вынудил его сказать: «Да, иду».
Они вместе вышли из дома. Когда завернули за угол, Котловский спросил: -
— Зачем сделал это? За что мстишь брату?
Сергей молчал. Он сжал губы и зашагал шире. Семен Игнатьевич взял его за локоть:
— Я тебе не желаю плохого, мальчик. Почему не отвечаешь?
Сергей покачал опущенной головой.
— Не хочешь говорить — не нужно. Конечно, жаль, — признался Котловский. — Тогда ответь мне, — зачем у спиннинга приспособление. Для меткости?
Мальчик резко остановился.
— Знаете, что я вам скажу, Семен Игнатьевич. Лучше бы вы всё узнали, только все равно вы ничего не узнаете. А я сказать не могу! — почти крикнул он, круто повернулся и пошел в обратном направлении.
Семен Игнатьевич, не двигаясь с места, проводил его взглядом. Вздохнул и направился к зданию управления. В дверях он столкнулся с худеньким бледнолицым пареньком.
— Здравия желаю, товарищ подполковник! — весело приветствовал его паренек.
— Здравствуй, Костя. Как твои занятия?
Костя вынул из кармана матрикул
[1]…
"РЫБОЛОВЫ"
Два мальчика, непринужденно болтая, шли по улице. Один из них, смуглый и бойкий, нес спиннинг. Он говорил своему товарищу:
— Я вчера «Зоркий» купил. Но, понимаешь, нужно же как-то соврать старухе. Она не поверит, что семьсот рубликов валялись на улице. Что бы такое придумать?
— Скажи: в фотокружок записался, и тебе его на время выдали, — недолго думая, ответил ему товарищ в клетчатом пальто и кепке. — Потом отдашь мне, с недельку полежит у меня, и обратно его возьмешь. Чтоб никаких подозрений…
— Ну и здоров же ты врать, Витька! — воскликнул смугляк и так хлопнул товарища по плечу, что тот согнулся. — А вот на хранение тебе «Зоркого» не отдам. К твоим пальцам прилипнет — не оторвешь.
— Дурак ты, круглый дурак. Нужен мне твой «Зоркий»! У меня, если захочу, «Киев» будет. Понял, оболтус?
Слово «оболтус» показалось мальчику чересчур обидным. Он сжал кулак и нахохлился:
— Ну ты, потише!
— А то что?
— Думаешь, в морду не дам?
— Не очень-то. Видали таких. Знаешь, что тебе за это будет?
— Пацанов натравишь?
— А то благодарить тебя буду?
— Так это ж нечестно!
— А при чем тут честность? Считаешь, красть и продавать ворованное честно?
Сраженный этим доводом, первый мальчик замолчал. Они продолжали путь, не глядя друг на друга.
Под ногами зашелестели рыжие листья. Они падали тихо, кружась. Начался парк. Мальчики прошли мимо высокого здоровенного милиционера с погонами младшего лейтенанта.
— Ого, каланча! — сказал Витя и, сворачивая на боковую аллею, настороженно оглянулся. Младший лейтенант шагал в противоположную сторону. Мальчики остановились.
— Можно здесь, — определил Витя. — Тут парами редко ходят, все больше в одиночку. Скамеек нет. Это место вроде нарочно для нас придумано.
— Скажешь тоже — придумано, — проворчал второй, но возражать не стал.
— Ты полезай, а я на шухере буду.
— Опять… — насмешливо проговорил смугляк. — И трус же ты, Витька! Чужими руками жар загребать — на это ты мастак. Ну, да спорить бесполезно. Все равно побоишься.
Он сбросил ветхое пальтишко и, поплевав на руки, полез на дерево. Витя спрятал его пальто в кусты и стал прохаживаться, делая беззаботный вид и посвистывая.
— Тюлька плывет, — послышалось с дерева.
Из-за поворота аллеи медленно вышла полная пожилая женщина с плетеной кожаной сумкой, наполненной провизией. Старомодная шляпка на ее голове сбилась на сторону. Женщина ступала тяжело, с одышкой, ежеминутно перекладывая сумку из руки в руку, и часто останавливалась.
Она миновала дерево, на которое взлез мальчик. Витя пренебрежительно поглядел на ее шляпку и сделал знак своему товарищу. Его жест означал: не нужно, не стоит. Но сидящий на дереве не понял его. Раздался резкий свист, и пожилая женщина, почувствовав рывок, схватилась двумя руками за голову. Ее шляпка мелькнула в воздухе и исчезла.
Витя, кусая губы, сдерживая смех, глядел, как женщина щупает свои черные с густой проседью волосы и оглядывается по сторонам, все еще не понимая, что произошло.
Внезапно он почувствовал на плече тяжелую руку. Его крепко держал неизвестно откуда взявшийся тот самый здоровенный младший лейтенант, мимо которого они проходили.
Из кустов, где было спрятано пальто мальчика, вышел второй милиционер и, задрав голову, крикнул:
— А ну слезай!
Витя остолбенел. Откуда они взялись? Что делать? Он принял решение. Скосив глаза на огромную руку, лежавшую на его плече, он вдруг упал на землю, крича:
— А-а! Не трогайте меня, я больной! А-а!
Младший лейтенант схватил его за ворот, как нашкодившего щенка, и моментально поставил на ноги.
— Это ты брось, — беззлобно, но с гадливостью сказал он. — Над старушкой издеваться — это ты, пожалуй, еще можешь, а от меня не вырвешься, будь спокоен.
Вокруг них быстро собралась толпа. Мальчик с портфелем подошел к младшему лейтенанту, исподлобья посмотрел на него и укоризненно произнес:
— За что вы его? Может, по ошибке?
— Воровал. У женщины шляпку с головы стащили удочкой.
— Удочкой?! Вот оно что! Вор… — Мальчик решительно повернулся к младшему лейтенанту. — Я знаю обоих. Из нашей школы. Тот Генька Чаплык, семиклассник, а этот — Витя Шулика из шестого «б». Теперь понятно, за какой рыбкой они охотятся. Сегодня же соберем комитет. Мы вам полный список этих рыболовов представим. Их человек семь. Вы лишь скажите, куда принести. — Щеки мальчика побагровели от ярости и стыда. — Мы же только вчера беседу проводили: о чести школы, — тяжело вздохнул он и еще раз с презрением посмотрел на поникших воришек.
* * *
У девушки лихорадочно блестели глаза и такими же лихорадочными были движения рук. Розовый шрам, пересекающий ее лицо, побагровел.
— Успокойтесь, Люся, верьте, все будет хорошо, — сказал Котловский.
— Не нужно меня успокаивать, Семен Игнатьевич! — воскликнула девушка, взглянула ему в глаза и произнесла спокойнее: — Странное у меня сейчас чувство. Ведь вот я в милиции, в месте, которым меня пугали с детства: «Не будешь слушаться, отдадим в милицию». А пришла я сюда сама искать защиты…
— А мы как раз для этого и существуем, — просто сказал подполковник. — Но вы должны нам помочь.
— Что я могу? — с болью спросила Люся.
— Рассказать все, что знаете, ничего не скрывать.
— Я за этим и пришла. Сережа и не подозревает. Вы же его знаете. Я опять перескакиваю, Семен Игнатьевич. Ничего, я постараюсь рассказывать по порядку. С чего же начать? Вите захотелось купить у мальчика самодельный приемник. А ему только что мать фотоаппарат купила. Может, он побоялся, что мать денег не даст. А она дала бы! Ведь он у нее любимчик!.. Где взять деньги? Пошел он как-то в парк. Сел на скамейку рядом с двумя студентками. Девочки болтали между собой. Рядом лежала книга, в ней — стипендия. Может быть, они говорили о том, как бы растянуть эту стипендию… Вите нужен был приемник, а он привык не отказывать себе… Я, наверное, болтаю лишнее, но это он втянул Сергея во всю эту гадость… Он взял книжку с деньгами. Девочки ничего плохого не могли подумать о нем… Толстый мальчик в приличном костюмчике…
Витя свернул на другую аллею, и тут его схватил за локоть какой-то мужчина. Он перепугался. А мужчина так ласково спрашивает: «В милицию хочешь?» Витя в слезы: «Пустите, я больше не буду». А тот: «Ты дурак. Разве так воруют? В первый раз сошло, во второй обязательно попадешься. А я тебя научу такие штуки проделывать, что будешь в масле кататься и никто не подкопается. Согласен?» Витя начал отказываться. Мужчина и говорит: «Тогда придется отвести тебя в милицию. Выбирай — в масле кататься или садиться за решетку». Вите было нечего делать. Он же трус! Начал он так действовать, как велели. Потом и своего товарища подбил.
Он и о брате тому мужчине рассказал, о том, какой Сергей и что его хотели исключить из школы. Тот и велел познакомить его с Сергеем. Они даже подружились. Сергею нравилось, что тот умеет все выдумывать… Это Витя меня тогда в парке ранил. Не узнал со спины, хотел шляпку снять, а попал по лицу… Они стаскивали спиннингом шляпки и продавали их. Сергей этого не знал. Он думал: просто озорство. Романтика всякая… Потому что опасно. И азарт: попадешь крючком или нет, заметят тебя или не заметят, как будут реагировать? Он, когда сам стаскивал, то тут же отдавал, мол: «Тетя, у вас ветер унес шляпку, нате». Его благодарят, а он потом смеется: ловко.
А тот мужчина, видно, понял, что лучше иметь дело с Сергеем, а не с Витей. Вы же знаете, на Сережу можно положиться. И ребята в классе его уважают. Стал он через Сергея шайку шляпколовов организовывать. И организовал. Сергей слово ему дал, что никому ничего не скажет. А на днях вдруг узнал, что шляпколовы не озоруют, а воруют. Тогда он говорит тому мужчине: «Зачем вам эти шляпколовы нужны? Они ж воруют». «Ах, воруют?! — ответил тот. — Ну, я им, мерзавцам, покажу. Мне воры не нужны. А ты никому ни слова не говори. Я с ними сам разделаюсь». Сергей говорит, что ни ворованного, ни денег мужчина ни с кого не брал. Он бы и сам вам все рассказал, да не может — слово дал. А у него слово свято.
Девушка положила руки на стол и опустила на них голову.
— Знаете, Семен Игнатьевич, мне очень тяжело. Сережа мне во всем доверял, все рассказывал. А я слова не сдержала. Теперь ведь ребят поймают. Скажите, — их не посадят? Их будут перевоспитывать?
— Их уже поймали, — ответил Котловский. — А то, что вы рассказали, нам очень поможет. Так говорите, что мужчина ворованного не брал? И денег не брал?
— Нет, нет, — уверенно сказала девушка. — Разве бы тогда Сергей… Что вы?!
— А кто он такой? Где находится?
— Этого не знаю. Сергей, что хотел — рассказывал, сама я не спрашивала. Он не любит…
— Ну, спасибо вам, Люся. — Котловский крепко пожал маленькую ручку. — Будьте спокойны. И Сергей вам спасибо скажет. Вы ему — настоящий друг.
Он проводил ее по коридору и, прощаясь, у дверей подъезда, повторил:
— Будьте спокойны, Люся.
* * *
Подполковник Котловский вызвал к себе Сергея.
Сергей неуверенно вошел в кабинет. Семен Игнатьевич заметил, что вид у него какой-то нездоровый: лицо побледнело, под глазами залегли синие тени.
— Зачем вы меня вызывали, Семен Игнатьевич? — с трудом произнес он.
— Присаживайся… А что, если тот мужчина, твой руководитель, бандит и убийца? — внезапно спросил Котловский.
Брови Сергея подпрыгнули, потом медленно опустились.
— Не может быть, — произнес он и совсем тихо добавил: — Что же это такое?
— Может! — твердо сказал Семен Игнатьевич. — Больше того: я уверен. И ты должен рассказать все, что знаешь о нем. Ты ведь понимаешь: от этого зависит судьба и даже жизнь десятков таких, как ты, мальчик. Чем больше мы узнаем о нем, тем скорее поймаем его.
— Но я почти ничего о нем не знаю, — с отчаянием сказал Сергей. — Не знаю, где он живет, где его можно найти. Мне известно лишь его имя-отчество: Илья Ильич.
— Опиши его внешность. Ты знаешь, что такое особые приметы?
— У него нет особых примет, Семен Игнатьевич. Среднего роста, крепкий. Волосы каштановые. Лет ему — двадцать пять. Глаз не запомнил. Кажется, серые… или карие. Одет в коричневый костюм, иногда в серый, а однажды пришел в темно-синем. — Сергей замолчал.
— Где он назначал тебе свидания?
— Нигде. Он не назначал. Он подходил ко мне всегда внезапно. Раз встретил меня у школы, раз — в парке, потом еще — у Люсиного дома…
Сергей морщил лоб, мучительно напрягая память, припоминая подробности. Он беспомощно смотрел на подполковника. Потом сбивчиво и горячо заговорил:
— Помогите мне, Семен Игнатьевич. Только вы один можете мне помочь… У меня в прошлом году был брюшной тиф. Лучше бы я умер тогда! Честное слово. Поверьте мне, хоть вы и не должны мне верить. Но если… — У него перехватило дыхание. — Если вы все-таки хотите помочь мне, поручите мне сделать что-то такое, чтобы поймать того… бандита, чтобы я рисковал жизнью. Чтобы это было очень трудно… невозможно. Я его поймаю! Не для оправдания… Нет, для оправдания, но не перед другими. Перед собой. Чтобы я мог жить.
— Хорошо, мальчик, — сказал Семен Игнатьевич ласково и печально. — Ты прав. Только это может оправдать тебя перед своей совестью. Ты получишь трудное задание и поможешь нам. Мы сделаем так: ты скажешь, что это ты выдал шайку.
— Я не могу так сказать, — повесил голову Сергей. — Это бы выглядело как… как спасительная ложь, как ложь в оправдание.
— Нет, мальчик. Слушай внимательно. Ты скажешь, что выдал шайку и тогда Илья Ильич, если он захочет сохранить влияние на ребят, попытается отомстить тебе.
— И я сражусь с ним насмерть! — глаза Сергея снова заблестели.
— Пока нет. Пока ты будешь остерегаться его и по вечерам не выходить из дома. Это приказ. Так ты поможешь нам.
— Семен Игнатьевич, это совсем не то! Это же легко! — чуть не плача, срывающимся голосом крикнул Сергей.
— Нет, сейчас это как раз то, что нужно. Ты будешь дисциплинированным и послушным. И ты подумаешь о том, мальчик, почему бандит избрал для своих планов именно тебя.
ОБЛАВА
В кабинете Котловского находились старшина Малюк и лейтенант Рябцев. В приемной тихо беседовали между собой Кротов и Костя Дереза. Несколько раз Семен Игнатьевич вызывал к себе Женю, так что она слышала почти весь разговор, происходящий в кабинете.
— Через три часа мы начнем операцию. «Объект» — бандит Лапатый. Он обнаружен на Подоле, — подполковник громко назвал улицу и номер дома. — Все ясно? Идите готовиться.
* * *
…Младший лейтенант Кротов и Семен Игнатьевич, одетые в штатское, сидели в той самой квартире, куда, по словам подполковника, должен был прийти бандит Лапатый, и молчали. Между ними на столе, накрытом скатертью с бахромой, стоял будильник и отчетливо выстукивал секунды.
Дверь в небольшой темный коридор была слегка приоткрыта; сквозь нее с улицы доносились шаги. «Пак-пак, пак-пак», — чеканные шаги на асфальте — так ходят военные. А вот «шшарп-шшарп» — идет старик. Потом «гуп-ту-гуп, гуп-ту-гуп» — тяжелая поступь грузного мужчины…
В темном коридорчике притаились лейтенант Рябцев и старшина Малюк. Все внимательно прислушиваются к шагам, — не подойдет ли кто к двери? Вот Кротову почудилось, что стук каблуков стал громче; он невольно приподнялся со стула, чувствуя, как наливаются мускулы, натягиваются стальными струнами нервы. Глядя на его напряженное лицо, не может сдержать нервной дрожи ожидания и подполковник Котловский. Как будто все рассчитано правильно.
План Семена Игнатьевича предельно прост: состоявшийся разговор слышали те же люди, что и тогда, когда речь шла о поимке братьев Чирик. Тот из них, кто захочет на этот раз предупредить бандита, попадет в ловушку.
Подполковник взглянул в окно. В углу маленького дворика дети гоняли обручи.
Будильник стучит громко и размеренно. Ему некуда торопиться: время должно идти своим чередом. Но вот в стук будильника вливаются почти созвучные с ним и все же посторонние звуки. Это стучат каблуки. Стучат мелко, дробно. Идет парень или девушка. Кто-то останавливается у дверей. Несколько секунд тишины, и наконец раздается резкий звонок. Кротов впивается ногтями в ладони, открывает дверь в коридор и спрашивает спокойным голосом:
— Кто там?
Тишина.
— Кто там? — еще раз спрашивает он.
— Какая это квартира? — раздается за дверью ломкий мальчишеский голос.
— Вторая, — отвечает Кротов, подавшись вперед.
— А где седьмая?
— Пройдите во двор и направо. Третий подъезд.
Шаги удаляются. Семен Игнатьевич смотрит в окно.
Тот, кто спрашивал седьмую квартиру, должен пройти мимо.
— Товарищ подполковник, — шепчет вдруг младший лейтенант, бросаясь к двери. — Он почему-то не свернул во двор. Он пошел обратно, и как пошел — быстро.
Подполковник тоже бросился к двери и, приоткрыв ее, выглянул на улицу. Парень в форменном коротком пальто, с почтовой сумкой на боку, из которой виднелись газеты, сворачивал за угол.
— Кротов, за мной! Остальным оставаться на месте! — скомандовал Семен Игнатьевич. «Почему он не пошел во двор? Почему спросил, а не пошел?» Он решил догнать парня и заговорить с ним. Но, когда Котловский и Кротов вынырнули из-за угла, форма почтового работника мелькала уже на расстоянии сотни шагов, около трамвайной остановки.
«Значит, он ускорил шаги, почти бежал», — определил Семен Игнатьевич и скомандовал Кротову:
— Догнать его!
Младший лейтенант побежал к остановке, но парень уже сел в трамвай. Вагон тронулся.
Котловский оглянулся по сторонам: такси! Он махнул рукой Кротову, показывая на стоящую у тротуара легковую машину, и побежал к ней. Они прыгнули в машину, показав удостоверения и бросив шоферу:
— За трамваем!
Трамвай они догнали на следующей остановке, однако парня с почтовой сумкой в нем уже не было.
Послышался тревожный свисток регулировщика. Кротов выскочил из трамвая и побежал к нему.
— Почтальона не видел?
— Он спрыгнул на ходу и сел во встречный трамвай. Потому я и свисток дал.
Младший лейтенант бросился к автомобилю.
— Там! — показал он на удаляющийся в обратную сторону трамвай.
Машина развернулась и рванулась в погоню. И как раз вовремя. Семен Игнатьевич и Кротов успели заметить, как черная фигурка соскочила с подножки и скрылась в подъезде одного из домов. Через одну — две минуты они вбежали в тот же подъезд. Сверху по лестнице спускался старичок. Они спросили у него, не встречал ли он почтальона.
— Он зашел то ли в четырнадцатую, то ли в пятнадцатую квартиру, — ответил старичок и начал словоохотливо объяснять: — Это на третьем этаже: четырнадцатая квартира — прямо, пятнадцатая — направо. А я задумался, потому и запамятовал…
Котловский и младший лейтенант уже не слушали его объяснений. Они устремились наверх, перепрыгивая через две ступеньки.
— Вы в четырнадцатую, я — в пятнадцатую, — сказал подполковник, нажимая кнопку звонка.
Ему тотчас открыли. Из дверей в коридор высунулись головы любопытных соседей. Семен Игнатьевич осведомился, не заходил ли сюда паренек с сумкой почтальона, — получил отрицательный ответ и, убедившись в его достоверности, поспешил к Кротову. Младший лейтенант все еще стоял перед закрытой четырнадцатой квартирой, нажимая по очереди кнопки всех звонков. Увидев подполковника, он ударил в дверь носком сапога. Наконец в квартире послышалось шарканье комнатных туфель, и старушечий голос спросил:
— Вы к кому?
— Откройте, пожалуйста, — попросил Кротов, стараясь сделать свой голос тише и нежнее.
— А к кому вы?
Семен Игнатьевич прочитал под одним из звонков фамилию «Сурма» и назвал ее. Дверь отворилась. На пороге стояла ветхая старушка с накинутой на плечи такой же ветхой шалью.
— Их нету дома. Может быть, хотите что-то передать?
— А у Копеечных кто-нибудь есть? — спросил Семен Игнатьевич, прочитав фамилию над вторым звонком.
— Постучите к ним в дверь. Направо вторая будет, — раздраженно проворчала старуха. Видимо, к этим соседям она не была расположена.
Семен Игнатьевич начал стучаться к Копеечным. На стук открылась соседняя дверь, и оттуда высунулась голова Кости Дерезы.
— Товарищ подполковник, как вы сюда попали? — удивился он.
— Здравствуй, Костя. А ты что здесь делаешь? — спросил Кротов.
— Я здесь живу. У тетки. Зайдите к нам.
Котловский кивнул Кротову: посторожи, мол, у дверей, чтоб никто не вышел. Он вошел в светлую четырехугольную комнату с узорными гардинами на окнах и обратился к Косте:
— Ты не слышал, никто не входил к вам в квартиру за последние пятнадцать минут?
Парнишка пожал плечами.
— Нет. Но это легко проверить. У Сурмы никого нет. Он и жена с утра на работе. Он — в райкоме партии, она — в газоуправлении. У Копеечных сын пришел из школы, но он, наверное, во дворе. А вы на лестнице хорошо смотрели, когда подымались?
— На лестнице его не было. Да и старичок сказал, что он вошел в четырнадцатую или пятнадцатую квартиру.
— Тогда другое дело… — протянул Костя. — Но, может быть, он только звонил, а старичку показалось, что вошел? Увидел, что кто-то спускается, позвонил, а потом бросился наверх, когда старик прошел. Там еще три квартиры и чердак.
— Пошли, — сказал Котловский.
Они расспросили жильцов из верхних трех квартир и убедились, что туда последние полчаса вообще никто не проходил. Оставался чердак. Костя принес карманный фонарик. Кротов открыл тяжелую дверь. Луч фонарика заплясал по какому-то хламу, по балкам металлических перекрытий… Вдруг что-то черное, задетое лучом, метнулось в сторону. Семен Игнатьевич не успел опомниться. Костя самоотверженно ринулся вперед. Раздалось мяуканье и резкий противный скрежет.
— Черт! — с досадой крикнул Костя. — Руку оцарапал, проклятый.
— Чего ты чертей поминаешь, комсомолец? — иронически опросил Кротов, убедившись, что панику вызвала всего-навсего кошка, и смеясь над приключением.
— Кота так зовут — Черт, — пояснил парнишка.
— Ну и смелый же ты! — с восхищением оглядел его младший лейтенант. — А если бы и вправду там — бандит?
— А вы разве не рискуете? — простодушно ответил Костя.
Они внимательно обследовали чердак.
— Товарищ подполковник! Идите сюда! — позвал паренек и показал Семену Игнатьевичу на крючок люка. Он был выбит из гнезда. Котловский рассмотрел крючок. Он заржавел, — видно, его до этого давно не открывали.
Младший лейтенант приподнял крышку люка и вылез на крышу. Она примыкала вплотную к соседнему дому.
— Мог уйти по крыше. — Он устало посмотрел на подполковника. — Прозевали.
Кротов захлопнул люк и вбил крючок на прежнее место. Опять раздался тот же противный скрежет ржавого железа, и по крыше словно что-то зашуршало. Младший лейтенант мгновенно приподнял крышку люка и выглянул. Черный кот, подняв хвост трубой, важно шагал по жести.
Они попрощались с Костей и спустились на улицу.
— Славный парнишка, — сказал младший лейтенант, думая о юноше.
Семен Игнатьевич не ответил ему. Он думал сейчас совсем о другом: почему парень, услышав голос Кротова, убежал? Чем поразил его этот голос? Он звучал без особого напряжения, хоть это далось Ивану Игоревичу с трудом. Через закрытую дверь он ничего не мог увидеть. Исключая невозможное, оставалось предполагать, что голос был ему знаком, и очень хорошо знаком, если он после нескольких слов узнал его. Вспоминая его вопросы: «Какая это квартира? А где седьмая», подполковник утвердился в своем мнении: он спрашивал, чтобы еще раз услышать голос.
* * *
Темнота была вязкая, как кисель, и такая же сырая. Она выкрасила в черный цвет небо и затянула желто-серой пленкой огни электрических фонарей. В решетке дождя мелькали лица редких прохожих.
Лейтенант Рябцев, неотступно следовавший за Сергеем, пройдя театр музыкальной комедии, упустил его из виду. Ему показалось, что мальчик свернул к стадиону. Это было бы нелепо, но мало ли что может прийти в голову подростку, когда в его жизни случилась такая история. Лейтенант набавил шагу и увидел перед собой две фигуры. Одна из них принадлежала высокому широкоплечему мужчине, другая — подростку.
Рябцев шагнул вперед, отведя предохранитель пистолета и нажав кнопку карманного фонарика. Он увидел незнакомые перепуганные лица и, забыв извиниться, спросил:
— Не видели мальчика в спортивном костюме?
— Не… не видели, — запинаясь, ответил подросток.
— Не встречали, — подтвердил мужчина.
Лейтенант обежал всю площадь перед стадионом и, повернув опять на Красноармейскую, устремился к дому, где жил Сергей.
* * *
…Сергей шел медленно, заложив руки в карманы спортивных шаровар. С его непокрытых волос десятками тоненьких струек стекала вода. На бровях и на ресницах сидели рядышком блестящие круглые крупинки, и сквозь них тусклый свет электрических фонарей казался даже красивым. Под ногами изредка хлюпали лужицы, и всю дорогу жалобно всхлипывали ботинки.
Сергей не торопился. Для чего? Чтобы увидеть дома привычную картину — нахмуренные лица родителей, их косые взгляды? Их молчание тяжелее самых обидных слов, оно всегда выражает одно и то же: ты, хулиган, пропащий совершеннолетний преступник, завлек Витеньку, опутал его, а потом, чтобы спастись, выдал. И, конечно, самым плохим было не то, что Сергею не могли простить другие, — самым тяжелым было то, что он сам не мог себе ничего простить.
Домой идти надо было все равно. Сергей свернул в свой двор. У ворот горела лампочка, но в двух шагах дальше уже было темно. Сергей не спеша шел по двору, и вдруг сердце его встрепенулось и замерло. Прямо перед собой, у стены он увидел знакомую фигуру и услышал сдавленный шепот:
— Ну, здравствуй, помощничек…
Да, это был Илья Ильич. Он тихо засмеялся, и у Сергея внезапно прошел страх. Он понял: бандит боится его. Ведь он, Сергей, на своей улице, на своей земле, и стоит ему крикнуть, как все люди придут на помощь. А на что надеяться бандиту?
Сергей высвободил из кармана руку с зажатым в ней ключом. Илья Ильич заметил это движение и резко схватил его за плечи.
— На помощь! — закричал Сергей и начал отчаянно колотить бандита ключом по голове, по плечу, по зубам. Илья Ильич вдруг рванулся в сторону, и в тот же миг Сергей почувствовал острую боль в вывернутой руке. Он попробовал сопротивляться, но бандит ударил его кулаком по голове…
* * *
Иван Кротов, дежуривший у дома, где жил Сергей, укрылся от моросящего дождя под своды ворот. Полой длинной шинели он стряхнул с рукавов и плеч капли, распрямился, и тут на него едва не налетел подполковник Котловский.
— Не приходил еще? — спросил он.
— Нет, товарищ подполковник.
Котловский в сопровождении Кротова зашагал по двору и сбернул в парадное, где находилась квартира Шулика.
— Я задержусь недолго, — сказал Семен Игнатьевич, как вдруг во дворе раздался крик: «На помощь!» Младший лейтенант побежал на крик. Подполковник последовал за ним, расстегивая кобуру пистолета. Недалеко от сводчатых каменных ворот он увидел Илью Ильича и лежащего на земле Сергея.
— Стой! — приказал Семен Игнатьевич.
Бандит хотел было юркнуть в ворота, но путь ему неожиданно преградил лейтенант Рябцев.
КОСТЯ ДЕРЕЗА
Илья Ильич смело смотрел то на подполковника Котловского, то на Кротова. На его мускулистом лице не было и тени беспокойства. Взгляд его нагло говорил: «Меня поймали, но я еще не поймался».
Котловский негромко спросил:
— Фамилия, имя, отчество?
— Чирик Семен Ильич… Кличка Сенька Плюгавый.
Подполковника несколько удивила такая откровенность, но он сразу же решил, что, видимо, бандиту пока выгодно не изворачиваться, не лгать.
— Профессия?
— До недавнего времени вор, — бойко ответил Плюгавый.
Семен Игнатьевич невольно усмехнулся: интересно, до каких пор он будет правдив?
— Вы говорите: до недавнего времени… А сейчас?
— Готовился им быть опять, гражданин начальник, — цинично заявил Плюгавый.
— Объясните подробнее.
— Создавал, так сказать, условия, плацдарм.
— Точнее, — потребовал подполковник, — и без фиглярства.
— Хорошо. Я скажу. Но учтите, гражданин начальник, я сам признаюсь…
Лицо Котловского осталось безразличным. «Ты расскажешь то, что мы и без тебя знаем, — подумал он. — Всего ты все равно не выдашь, пока не убедишься, что лгать или молчать бесполезно».
— В Киеве братья Чирики не совершили ни одного противозаконного дела, гражданин начальник…
«Уже начал лгать, — подумал Котловский. — А убийство старшины Мыкытенко?»
— Мы и дальше не собирались марать свои руки. Как раз наоборот. Мы хотели ввести все в норму, в рамки. Всю здешнюю шпану объединить. Конечно, и нам выгода немалая; без этого ж нельзя, вы понимаете… А что делать? В Сталино нашу шпану застукали… В одиночку — какая работа? На хлеб и квас… Вот мы и решили… Да чего говорить теперь? Все пропало. Мы ведь еще ничего не успели сделать. Но вы не забудете, что я сам раскололся, все наши планы раскрыл?
— Значит, решили поставить дело на широкую ногу? Начать с несовершеннолетних? — не обращая внимания на последние слова Плюгавого, спросил Котловский.
Он думал: «Видно, больше никого ты не мог найти. Не было готовой стаи. Вот и решил создать ее. Искал среди воришек, среди хулиганов, а они не подчинялись тебе. И нашел ты Витю Шулика, шляпколовов, Сергея. Но и Сергей ушел от вас, еще даже не поняв, а только почувствовав, кто вы такие. Не за кого тебе уцепиться, бандит, нет для тебя среды. И это хорошо…»
— Каких несовершеннолетних, что вы? — Плюгавый изобразил возмущение.
— А шляпколовы? Для чего они нужны были?
— Шляпколовы… — Плюгавый неопределенно пожал плечами. — Это же безобидное озорство, ребячьи шутки.
— Они занимались воровством! — не выдержав, повысил голос Котловский. — И вы это
знали!
— Я денег с них не брал… — обиженно произнес Плюгавый и, сообразив, что сказал лишнее, добавил: — Это их дело.
— Адреса тех, с кем вы связаны! — строго спросил Котловский.
— Я же вам сказал: мы ничего не успели сделать…
Видя, что больше от Плюгавого ничего не добьешься, Котловский нанес ему решительный удар.
— А убить старшину милиции успели?!
— Я не понимаю, о чем вы говорите! — У Плюгавого нервно задвигался кадык. Он глотал слюну. — У вас что, недовыполнение плана по смертным приговорам? Меня на этот крючок не поймаете, гражданин начальник.
Котловский взял из папки окровавленную записку, найденную рядом с телом старшины Мыкытенко, и показал ее побледневшему Плюгавому.
— Узнаёте?
Плюгавый взглянул на записку и, откинувшись на спинку стула, как-то сразу обмяк.
— Идиот! — пробормотал он и замолчал.
— Что же вы молчите? — после небольшой паузы спросил Котловский.
— Это всё брат. Я ему говорил: не надо. Вы должны мне верить, — неожиданно быстро заговорил Плюгавый. — Виноват Потраш и…
Он вдруг умолк. Его глаза округлились от страха. Семен Игнатьевич быстро посмотрел в направлении его взгляда и заметил, что дверь кабинета приоткрыта.
— Что там такое? — громко произнес Котловский.
За дверью стояла Женя, а из-за ее плеча высовывалась голова Кости Дерезы.
— Вот Костя хочет вас видеть, — сказала девушка. — Я говорю ему: вы заняты, а он говорит: срочно.
— Что случилось, Костя? — спросил подполковник.
— Мы хулиганов задержали. У кинотеатра «Ударник» дебош устроили.
— Вы молодцы. Но сейчас я занят, извини.
Котловский перевел взгляд на Плюгавого.
— Продолжайте.
— Этой записки я никогда не видел… — тихо выдавил Плюгавый.
— Вы сказали: «Виноват Потраш и…» — напомнил ему Котловский. — Продолжайте.
— Я хотел сказать… если он писал записку, то виноват он. А я не убивал…
Семен Игнатьевич нажал кнопку звонка. Конвойный увел Плюгавого.
— Почему вы прервали допрос? — спросил Кротов.
— Он почему-то переменил решение, — задумавшись, медленно ответил Семен Игнатьевич. — Сначала решил сказать часть правды, но потом ему что-то помешало. Что же? В кабинете ничего не произошло. Только Женя открыла дверь. Значит, причиной была эта дверь, — вернее то, что за ней находилось…
Котловский ходил по кабинету. Он думал вслух:
— Почему замолчал подследственный? А он замолчал, думаю, потому… — Семену Игнатьевичу вспомнились неприметные детали: черное чердачное отверстие и бросившаяся в него фигура юноши. Потом — скрежет ржавого железа, выбитый крючок люка… И теперь — лицо в дверях. — Подследственный замолчал потому, что увидел Костю. Совершенно верно… Я начинаю подозревать, что Костя каким-то образом замешан в этих делах.
— Все его документы в полном порядке. Такой парень… — заметил Кротов.
— В том-то и дело, что все у него в порядке. Поэтому и не вызывал подозрений. А присмотреться к нему давно стоило, теперь это ясно. Если взять хотя бы такой случай: Костя и Мыкытенко заметили, что вор снял у женщины часы, и пустились вдогонку. Костя настиг вора первым и упустил. Так вот, мне теперь кажется, что Костя помог ему уйти. Ведь и в других случаях он лишь мешал. Его заслуги — задержание нескольких мелких хулиганов. И самое главное: мы преследовали парня, почтальона. Он забежал в тот дом, где живет Костя. Я думаю: не случайно забежал. Костя ему помог скрыться. Поэтому на чердаке так смело на кота бросился и в то же время незаметно крючок люка выбил, чтобы мы подумали, будто парень ушел этим ходом, и сбились со следа. Одурачил он нас тогда, надо честно признаться. Меня насторожил скрежет ржавого железа. Мелькнула смутная догадка. Но Костя был вне подозрений.
— Если это так, то во всем виноват я! — воскликнул Кротов. — Я рекомендовал его к нам в дружину.
— Подождите обвинять себя. — Котловский подошел к телефону, снял трубку: — Вызовите Херсон, городское управление милиции.
Через несколько минут начальник управления милиции Херсона был на проводе.
— Не можете ли вы охарактеризовать бывшего члена народной дружины Костю Дерезу? — спросил подполковник. — Узнайте, пожалуйста, и позвоните мне. Буду ждать вашего звонка.
Он снова заходил по кабинету. Потом сел рядом с Кротовым, закурил. Прошло минут десять. Раздался длинный звонок. Подполковник схватил трубку.
— Слушаю. Подполковник Котловский, — сказал он и минуту спустя бросил трубку на рычаг. — Из Херсона сообщили, что Константин Дереза в народной дружине не состоял и вообще в городе не был прописан.
— Не может быть! — застонал Кротов. — Я же сам видел его документы, грамоту за борьбу с хулиганством…
— Нельзя тратить времени! — перебил его подполковник и надел плащ.
* * *
Котловский, Рябцев и Кротов выскочили из машины и бросились в подъезд четырехэтажного дома. На третьем этаже у квартиры номер четырнадцать они остановились. Кротов нажал кнопку звонка. Дверь открыла низенькая полная женщина. Увидев людей в милицейской форме, она тихо ахнула.
— Ваш племянник Костя где? — спросил Семен Игнатьевич.
— Не знаю, ничего не знаю, — испуганно пролепетала она.
— Осмотреть квартиру! — приказал подполковник.
— Они спешили, как сумасшедшие, собрали чемоданы и куда-то уехали. Мне они ничего не сказали… Я ничего не понимаю… — на ходу сбивчиво заговорила женщина.
— Кто был с Костей?
— Мужчина, черный и высокий…
— Вы его раньше видели? Как его зовут?
— Он пришел вчера. Ночевал. Костя сказал, что это его знакомый из Сталино… Как зовут, — не сказал…
Они тщательно осмотрели комнату. Кротов вытащил из-под кровати почтовую сумку и показал Котловскому.
— Все ясно, — Семен Игнатьевич кивнул головой. — На вокзал! Быстро!
На вокзале они распределили свои силы. Лейтенант Рябцев и несколько человек из железнодорожной милиции направились обследовать поезд, который должен был отправиться в ближайшее время. Семен Игнатьевич, Кротов и старший уполномоченный из отдела милиции при вокзале устремились ко второму, московскому. Они начали проверку двумя группами, одновременно с обеих концов поезда.
В одном из средних вагонов Семен Игнатьевич и Кротов увидели парня с пухлыми губами, сосредоточенно смотревшего в окно.
— Чего же ты не подождал в приемной, Костя? — сдержанно сказал Семен Игнатьевич, шагнув к парнишке.
Парень продолжал смотреть в окно, делая вид, будто не замечает, что вопрос обращен к нему.
Кротов тронул его за плечо:
— Приехали, Костя! Остановка!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
У окошка кассы кинотеатра собралась очередь. Люди терпеливо ждали, когда начнут продавать билеты. Окошко открылось, и к нему, отталкивая передних в очереди, бросилась кучка ребят. Старшему из них было лет семнадцать, младшему — четырнадцать. В очереди закричали: «Безобразие! Хулиганы! Привести их к порядку!»
В вестибюль вошел юноша с девушкой в осеннем темно-синем пальто. Его черные глаза-угольки, увидев хулиганов, зажглись.
— Сережа, не надо, — попыталась его удержать девушка.
Но он уже не слышал ее, выбрал атамана ватаги и подошел к нему:
— А ну, сдай назад, спекулянт! Билеты перепродаёшь? В милицию захотел? — крикнул Сергей, проталкивая плечо между пареньком и его приятелями.
— А ты кто такой, чтоб командовать? — угрожающе спросил паренек.
— Просто школьник, — сдержанно сказал Сергей. — Но хулиганить не дам.
— Ах ты гад! — выругался атаман ватаги. — Ну держись!
Он занес кулак, но тут же взвыл от боли. Сергей вывернул ему кисть. Несколько мужчин из очереди подошли к Сергею и молча стали рядом с ним.
— Наших бьют! — закричал атаман, для устрашения вращая округлившимися от испуга глазами.
Один из его дружков хотел было броситься на выручку, но второй остановил его:
— Он, наверное, из дружины. Лучше не связываться.
— Черт! — проворчал подросток и остановился. Ватага незаметно рассеялась. Главаря, оставшегося в одиночестве, Сергей сдал подоспевшему милиционеру.
— Здорово, Шулика! — сказал тот. — Доложу начальству. Это уже третий на твоем счету.
Сергей вернулся к девушке:
— Пойдем, Люся. Очередь большая, все равно билетов не достанется.
В очереди зашумели:
— Молодец парнишка! Дать ему два билета!
— Спасибо, — ответил Сергей. — Только уж если соблюдать очередь, то для меня не должно быть исключения.
Он раскрыл дверь перед девушкой. Они вышли на улицу. Падал снег хлопьями — фиолетовыми, красными, белыми, сверкающими в электрических огнях фонарей, окон, реклам.
Они дошли до площади Льва Толстого, и тут их окликнул сутуловатый человек в форме подполковника милиции.
— Ну, как живешь, Сережа, как твои успехи? — спросил Котловский.
— С него сегодня выговор сняли, хотят даже в учком избрать, если не испортится, — сказала девушка, глядя на подполковника из-за плеча юноши.
— А вы не к нам случайно направились? — спросил Сергей.
— Нет, не к вам. Мне — на Жилянскую. Дела.
Подполковник сказал это небрежно, стараясь не выдать своих чувств. Ведь этот юноша был дорог ему не только тем, что напоминал сына…
Сергей подошел к подполковнику совсем близко и, чтобы не слышала Люся, сказал:
— Семен Игнатьевич, заходите к нам почаще. Вы нам все равно… как родной…
Котловский молча кивнул головой — мол, постараюсь, мальчик, — и быстро пошел своей дорогой.
Игорь Росоховатский
У ТЕБЯ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ
(Повесть)
ЧИЖИК РЕШАЕТСЯ
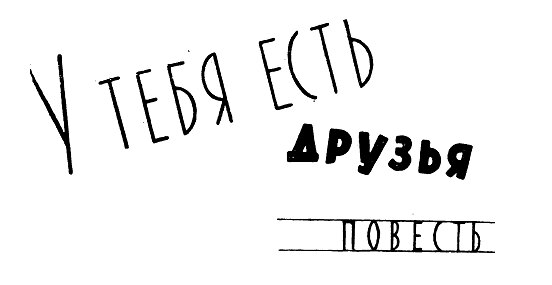
1
Чижик вышел из трамвая на площади Богдана Хмельницкого и, беспокойно оглядевшись по сторонам, направился к будке телефона-автомата. Набирая несуществующий номер, он внимательно осмотрел площадь. Все было обычным. Вздыбил коня грозный гетман, чирикали и перепархивали с места на место воробьи, фотограф готовил к съемке экскурсантов. Чижик закусил губу, и все-таки она дрожала. Неужели ему не удалось обмануть их? Он четыре раза пересаживался с трамвая на трамвай. Нёужели они все еще следят?
Чижик прижался спиной к стенке будки. Нужно выходить. Собирается очередь.
Вдруг его взгляд встретил темные глаза. Перед будкой стояли двое. Кто они? Может быть, те… Темноглазый почему-то держит руку в кармане и смотрит с любопытством. Только выйдешь, взмахнет рука с ножом. Отскочить не удастся. Слишком близко. А если схватить за руку? Тогда второй всадит нож в бок…
Недалеко остановился милиционер. Эти двое его тоже заметили. Один что-то сказал другому… Чижик толкнул дверь будки. Парень вынул руку из кармана.
В тот же миг — резкая боль в животе. Чижик вскрикнул и схватился руками за живот.
— Что с вами? — спросил парень.
Темноглазый держал наготове пятнадцатикопеечную монету.
— Ничего, ничего, — поспешно ответил Чижик и завернул за угол ближайшего дома.
Боль в животе прошла. Когда-то ему говорил веселый доктор: «Вы склонны к самовнушению, молодой человек». Он пошел быстрее, стараясь ни о чем не думать. Но блеск оконного стекла наводил на мысль о блеске металла, а тень, падавшая от дерева, напоминала тень крадущегося человека.
Он почувствовал облегчение, войдя в здание и увидев милиционеров. Подумать только, что совсем недавно Чижик их так боялся!
* * *
…Из скверика, что напротив здания, вышел приземистый паренек с длинными руками и ногами, похожий на паука. Он скользнул взглядом по окнам, сплюнул и, растерев плевок ногой, зло сказал:
— Крышка тебе, Юрка!
* * *
— «Чижик Юрий Викторович. Год рождения — 1939. Место рождения — Киев», — подполковник вслух начал читать протокол допроса, изредка поглядывая на юношу.
Юра сидел совершенно прямо. Серые глаза его были устремлены в одну точку. Большие оттопыренные уши покраснели от волнения. В школе его дразнили Лопоухим Утенком, наверное потому, что лопоухих утят не бывает.
Не дочитав, подполковник отложил листки и предложил:
— Рассказывай, Чижик.
— Сначала? — спросил юноша. Чижик говорил одно и то же лейтенанту, капитану, и они все записывали.
— Да, — сказал подполковник. — Сначала.
— Я, Чижик Юрий Викторович, в мае этого года познакомился с Гундосым и Яковом…
— Постой, постой, — подполковник улыбнулся. Улыбка была мягкой и немного грустной. — Быстро ты привык. Давай-ка, Юра, рассказывай, а не докладывай. Не арестован — сам пришел…
Юра почувствовал, как пиджак давит на плечи. Он устал. Разве можно рассказать все? Свои мысли, свое горе — чужому? Подполковник глядел сочувственно, словно понимал, как ему трудно.
— Весной я окончил десятилетку. Поступал в институт. Не прошел по конкурсу. Пробовал устроиться на работу в экспедицию — мама не пустила. Потом — в лабораторию. Не было места. На стройку или на завод не захотел. Туда надо в ученики. Думал: школу закончил — и в рабочие? Дома мать больная. Врачи говорят: плохо с сердцем…
В памяти Юры отчетливо жили те дни, но рассказывать о них было очень тяжело.
2
Болезнь матери Юру не испугала. Мать хворала часто. «Полежит несколько дней и выздоровеет», — успокаивал он себя. Но прошла неделя, месяц, а мать не вставала. Доктор твердил что-то о режиме, питании. Хотел отправить мать в больницу, но она запротестовала. Часто Юра ловил на себе ее долгий внимательный взгляд и начинал тревожиться: «Словно прощается со мной». От этого взгляда становилось тоскливо на душе. Юра уходил из дома и бесцельно бродил по городу, А матери говорил, что ищет работу.
Каждый раз, когда возвращался, мать спрашивала, где он был и что ему там сказали. Все труднее и труднее было выдумывать причины отказа в работе. В глазах матери застыла тревога. Юра понимал, что это из-за него, что не поправляется долго она тоже из-за него. Но побороть себя не мог. В душе поселилась обида: другие ребята учатся, а он должен работать.
Однажды Юра пришел домой раньше обычного. Мать лежала в постели и плакала. Сердце Юры сжалось, захотелось утешить ее, одинокую, больную. Он подошел к ней и бодро произнес:
— Можешь поздравить, мамуся. Твой сын — работник проектного института.
Теперь каждое утро ровно в восемь часов Юра просыпался по требовательному звонку будильника. Неторопливо собирался, завтракал и отправлялся на «работу». Эти утренние часы были самыми неприятными: к Игорю не пойдешь — он на занятиях в институте, в кино — рано, да и деньги нужны.
Он шел по известным ему адресам проектных институтов. После того как Юра сказал матери, что устроился в проектный институт, у него была одна цель: найти такую работу. Но свободных мест не оказывалось. Обычно ему говорили: «Опоздали, молодой человек. Вот если бы немножечко раньше. Летом мы взяли сотрудников».
Теперь Юра завидовал этим счастливцам. Он мог бы быть на их месте, если бы не пропадал летом целыми днями на пляже, если бы не мечтал о какой-то необыкновенной должности по его призванию. А в чем оно, Юрино призвание, этого никто не знал. И он сам не знал.
Прошло две недели. Завтра он должен принести маме свою зарплату. Она ждет, волнуется, радуется. Как же быть? Юра шел по улице и с тоской смотрел на объявления: «Требуются плотники, каменщики, бетонщики»… Почему он не пошел на стройку раньше? Испугался тяжелой грязной работы? Мать всегда говорила: «Будешь инженером, как твой отец». В школе его считали одним из самых способных.
Сколько бы он заработал на стройке или на заводе? Конечно, вначале получал бы немного, но это был бы постоянный заработок. Семнадцатого, в день зарплаты, у него в кармане хрустели бы новенькие деньги. Он принес бы маме ее любимых пирожных.
Можно поступить на работу и сегодня. Но денег-то придется ждать две недели. А они необходимы обязательно завтра. Сколько ни думай, сначала надо занять деньги, а потом устраиваться на работу.
К родственникам Юра не хотел идти: там придется все объяснять, откроется его обман. Забежал к школьному товарищу Игорю Соловейчику — его не оказалось дома. У нового приятеля, с которым вместе загорали летом на пляже, было всего три рубля.
Он медленно шел домой, жалкий, ожесточенный. Мимо двигались люди, занятые своими делами. Юра был одинок. Ему стало страшно. В школе он всегда знал, что о нем кто-то заботится. Постоянно чувствовал внимание учителей, рядом были товарищи. Иногда заботы взрослых казались назойливыми, и он протестовал против них. Почему кто-то загружает его делами? Какое право имеют другие люди навязывать ему свою волю, читать нравоучения, направлять его поступки? Он хотел жить самостоятельно.
И вот такая пора настала. Он должен сам заботиться о себе и о больной матери, сам искать себе занятие, — как раз то, о чем мечтал в школе. Но он никогда не представлял, что это так трудно. Его сейчас уже не так страшила работа, как то, что он должен все решать самостоятельно. Ему казалось, что это и есть одиночество.
Юра подошел к своему подъезду. Домой идти не хотелось. Мать сразу заметит его плохое настроение. Да и денег-то он не достал.
Из подъезда вышел приземистый паренек. Увидев Юру, он ухмыльнулся и спросил.
— Как поёшь, Чижик? Старуха выздоровела?
Юра всегда сторонился этого паренька, соседа; у него были слишком развязные манеры, вкрадчивый голос и неизвестные занятия. Но теперь Юра вспомнил, что у Коли водятся деньги. Он протянули ему руку:
— Здравствуй.
— Ого! — удивился сосед. — За ручку? Чем обязан?
Юре стало неудобно. Но он вспомнил о маме.
— Денег занять не можешь? Рублей сто хотя бы? — Он поспешил добавить: — Устраиваюсь на работу. Скоро верну.
Коля понимающе закивал головой:
— Рад бы. Да у самого нет.
Он посмотрел вслед прошедшему мимо мужчине, задумался.
— Подожди. Надо тебе помочь. Не пропадать же человеку. — Он наморщил лоб, словно выискивая способ, где раздобыть денег.
Молчание становилось тягостным.
Наконец озабоченный взгляд Коли прояснился:
— Придумал. Вот только… Он замялся. — Как бы тебя не затруднить. Ты, кажись, субъект деликатный, ручек марать не станешь.
— Да ты говори! — Юра думал о завтрашнем дне.
— Один хороший человек привез три пары сапог. Их надо загнать. Только осторожно. — Он посмотрел на встревоженное лицо Юры. — Не беспокойся, ничего такого. Просто они ему не нужны, а другие бы не отказались. Охотники до них всегда найдутся, особенно среди колхозников. Если их продать по магазинной цене, убытка не будет. А ты заработаешь четвертной. Потом я еще что-нибудь придумаю. По рукам?
Юра заколебался. Продавать чужие вещи… осторожно… Все это было ему не по душе. Но где же тогда взять денег? Может быть, потом Коля ему еще и одолжит…
Он спросил:
— А где продавать? На толкучке?
— Чудак жук, — засмеялся Коля. — Там сразу застукают.
Через час Юра и Коля вышли из трамвая на рынке. Остановились за углом ларька. Коля указал на двух мужчин, продававших картошку, и шепнул:
— Начинай с них.
Ноги у Юры стали непослушными, несгибаемыми. Несколько раз он прошел мимо мешков с картофелем, тоскливо глядя по сторонам.
«Надо подходить, — думал он. На душе было скверно. — Дождусь, пока он посмотрит на меня, и сразу же спрошу: «Вам не нужны ли…»
Но, как только продавец картофеля бросал взгляд в его сторону, Юра отворачивался и делал вид, будто его ничто не интересует.
Время шло.
«Подожду, пока вон тот отойдет…»
«Подожду, пока…»
«Остыну. А то красный, наверное, как свекла».
«Пора. Так ничего не выйдет. Надо решаться».
Подошел к колхознику. Тот с любопытством посмотрел на него. Юра покраснел еще гуще и выдавил из себя:
— Вам не нужны сапоги? Нам на стройке выдали. Да они велики…
Это объяснение ему пришло в голову сейчас. Все, что он придумал раньше и обсудил с Колей, забылось.
— Какие сапоги? — спросил мужчина.
— Новые, крепкие.
Юре казалось, что колхозник попался на редкость медлительный. Ну чего тут размышлять?
— Надо поглядеть. Где сапоги?
— Тут совсем рядом, у товарища.
Мужчина попросил своего соседа присмотреть за картошкой. Юра заметил, как он вынул из кармана деньги и передал тому на сохранение. «Боится», — пронеслось в голове. Хотел повернуться и уйти, да вспомнил о матери…
Колхозник мял в руках голенища сапог, чертил твердым ногтем по подошве. Когда он уплатил и ушел, Юра вытер пот со лба.
— Пугливый же ты, фрей, — ухмыльнулся Коля. — Привык в лото играть…
Потом дело пошло легче. Юра вместе с Колей продавал самые различные вещи: швейную машину, пылесос, какую-то краску, рулоны толя.
— А кто всё достает?
— Увидишь его. Парень первый сорт. Бывалый, — нахваливал Коля.
Как-то вечером они вместе отправились в кино. В фойе к ним подошел молодой человек в спортивном костюме. У него было яркое, изнеженное лицо южного типа — нос с горбинкой, большой рот с полными губами.
— Познакомься, — проговорил Коля, заискивающе глядя на подошедшего. — Тот, кто все достает, — шепнул он Юре.
— Яков, — представился молодой человек. — А что я достаю?
— Все, — быстро ответил Коля. — В магазинах, по блату.
— А? Да, да. Так тяжкий млат, дробя стекло, готовит блат, как говорил Пушкин.
Яков пошел в зал, бесцеремонно расталкивая людей. Юра шел следом за ним и смотрел на широкие, чуть покачивающиеся плечи. Ему нравились такие сильные, смелые, уверенные в себе люди.
В зале Яков вынул из кармана небольшую коробочку конфет.
— С ромом. Алкоголь малыми порциями. — Он протянул конфеты приятелям.
— Как мать, выздоравливает? — спросил Яков у Юры и окончательно покорил его. Рядом с таким человеком Юра почувствовал себя уверенно.
Спустя несколько дней они встретились снова. Долго гуляли по Крещатику. В зелени деревьев зажглись матовые луны. Воздух был теплый и мягкий.
На площади Калинина к ним присоединился друг Якова, высокий неуклюжий увалень со странным прозвищем Гундосый. Он постоянно держал глаза полузакрытыми, словно дремал. В углу его рта торчала незажженная папироса.
Два раза они измерили Крещатик из конца в конец. Коля рассказал несколько плоских анекдотов. Смеха Гундосого не было слышно, только подрагивала папироса в углу рта. Яков же хохотал безудержно и заразительно. Потом Яков рассказал «забавную», по его словам, историйку, случайно услышанную в поезде.
— Один субъект, — он улыбался, словно предвкушая веселый конец, — попал в кутузку. Субъект был хлипкий, мамин сынок. А посадили его по-дурному. Один раз спекульнул — и сразу же попался. Смехота!
Гундосый кивнул головой, будто хотел сказать: такие всегда сразу попадаются.
— Судили его, послали в лагерь. Пригляделась к нему братва, видит — негодный субъект, ферть. На допросе своих выдал. Да еще ноет: «Я должен загладить свою вину. Маме это такой удар». А братве скучно. Ну, и был там один остроумный мальчик.
— Как наш Вампир, — вставил Гундосый.
«Кто это Вампир? — подумал Юра. Он перевел взгляд на Колю: длинные руки, ноги — паук-кровосос, и только. — Не он ли?»
— Вот мальчик и говорит субъекту, — рассказывал Яков. — «Мы поможем тебе исправиться, отстрадать». Снимает он свой пояс и дает субъекту. «Слышал я, — говорит, — в старину люди себя плетью хлестали за грехи. На, пожалуйста, похлещись». Тот принял это за шутку. Но не тут-то было. С него стащили брюки и вложили как следует. Он просит отпустить, молит, маменьку вспоминает. Опять дают пояс. «Не хочешь, чтобы били, сам хлещись. И стал сам себя стегать. Смехота! Он стегает, а ребята заливаются. С того дня скуку как рукой сняло. Приходит вечер — садятся вокруг субъекта и ждут представлений. Но как-то лагерное начальство, «пираты», пронюхали про это. Атамана посадили в карцер. Остальным внушение сделали. Братва приуныла. А тут атамана выпустили из карцера. Он новое придумал. Говорит субъекту: «Как услышишь свист, ложись на землю и жди второго свиста. Ерепениться не советую». Ох, и началась потеха! Идет субъект по двору. Свист. Он ложится. Братва в окошки смотрит. Смехота! Зайдет в уборную — свист.
Коля хохотал. Папироса прыгала во рту Гундосого. Юра почувствовал, как по спине забегали мурашки. Он спросил:
— А что с ним стало?
— С субъектом-то? А что станет? Простудился и помер. Это он уже после простудился, когда братва ему воды в сапоги наливала да куски льда за шиворот опускала…
Яков заметил ужас в Юриных глазах и улыбнулся:
— Быть может, и «звонил» тот парень… Наверное, прибрехал для складности.
Юра был рад, когда распрощался с приятелями и очутился в своей комнате. Мать не спала. Он слышал, как она ворочается на кровати. Послышался шепот:
— Юраша…
Он зажег свет и присел на край постели.
Мать повернула к нему серое, словно затянутое паутиной лицо.
— Ты какой-то неспокойный стал, Юраша. И с Колей сдружился. Вид у тебя измученный. Тяжело очень работать? Не нравится? Может, неприятности какие? — Мать беспокойно заглядывала в Юрины глаза.
Юра старался смотреть в сторону и твердил одно:
— Нет, ничего. Все хорошо.
Мать тяжело вздохнула.
Юра лег на диван. Задумался: «Мать что-то чувствует. Надо кончать эти встречи и дела с Колей и поступать на работу… А может, заработать еще немного и уж тогда… Собственно, куда спешить? Успею… Подыщу подходящую работу и с Колей покончу…» Он боялся признаться себе в том, что новое «занятие» постепенно засасывает его. Он начал привыкать к легкой добыче денег. Нравилось обедать в кафе. Нравилось угощать бывших товарищей по школе дорогими папиросами и видеть удивление на их лицах. Можно было фантазировать сколько угодно и рассказывать ребятам о дяде, инженере-конструкторе, который никому, кроме него, не доверяет копирование своих чертежей.
Утром Коля сказал ему:
— Пошли. Яков зовет.
Во дворе их ожидал Яков. Он кивнул в знак приветствия и молча пошел впереди. Когда немного отошли от дома, Яков повернул голову и сказал:
— Придется поработать. Ящики разгружать. Не легко, зато оплата мировая: три ящика — в столовую, четвертый — себе.
Он скользнул взглядом по Юре, заметил настороженность на его лице. Будто вскользь, обмолвился:
— Договоренность с директором.
Коля ухмыльнулся. Юра поверил.
Они подошли к столовой, завернули во двор, где стояли два грузовика, груженные ящиками. Возле автомашин суетились три человека. Рыжий, в спецовке, подмигнул Якову, и тот подал знак ребятам.
Коля вразвалку подошел к машине, взялся за ящик и оказал Юре:
— Ну-ка, подсоби!
— А вы кто такие? — удивился шофер.
— Директор прислал вам помочь.
— У него тут работничков хоть отбавляй. Каждый день меняются, — успокаивающе сказал человек в спецовке и прикрикнул на ребят:
— Чего встали? Давай носи!
Юра и Коля внесли тяжелый ящик в подъезд. Направо была дверь в кладовку столовой. С другой стороны послышался шепот Якова:
— Ставьте. Мы внесем.
Рядом с Яковом был Гундосый.
«Откуда появился Гундосый?» — едва успел подумать Юра, как Гундосый потянул ящик к себе и подтолкнул Юру к выходу во двор. Юра поплелся к машине.
Так они перетащили в подъезд три ящика и передали их Якову. Когда внесли четвертый, Гундосый сказал:
— Шабаш. Сорвемся.
Яков проговорил, предназначая свои слова для Юры:
— Директор нас отпускает. Пошли.
Ошарашенный быстрой сменой событий, Юра вслед за Яковом, поднялся на несколько ступенек и вышел через парадную на улицу. Здесь стояла «Победа». За рулем сидел незнакомый, вычурно одетый парень. Гундосый захлопнул багажник и втиснулся на заднее сиденье рядом с Юрой и Колей. Под их ногами стояло два ящика.
Яков оглянулся по сторонам, плюхнулся рядом с водителем и скомандовал:
— Гони, пока не очухались!
Юра все понял. Он рванул дверцу, но Гундосый оглушил его кулаком.
«Победа» мчалась по улице…
Яков повернулся к Юре:
— Понял?
— Понял, — ответил Юра. — Я не хочу.
— Чего не хочешь? — поинтересовался Коля.
— Этим заниматься не хочу, вот что! — выкрикнул Юра.
— Заставим, — отрезал Гундосый.
Яков недовольно поморщился и назидательным тоном произнес:
— Дурачок ты. Чего перетрусил? Мы ничего особенного не делаем, просто берем у государства взаймы. Потом отработаем. — Яков засмеялся. — А деваться тебе от нас некуда. Одной веревочкой связаны. В случае чего, пожалуйста…
Перед глазами блеснуло лезвие ножа в волосатой лапище Гундосого. Юра на миг зажмурился. Когда открыл глаза, встретился со взглядом Якова. Тот смотрел на него в упор. Взгляд его был жестоким, «Садист», — мелькнуло в голове. Стало еще страшнее.
Утром Коля поджидал Юру на лестнице.
— Ну как, успокоился за ночь? Какие сны видел? — спросил он, и Юра понял, почему его прозвали Вампиром. Не только за длинные руки и ноги.
— Ладно. Пошли. Яков зовет, — строго сказал Коля.
Юра молчал и не трогался с места.
— Ты не дури, не дури, — быстро заговорил Коля. — Если не пойдешь, — знаешь, что будет?
Юра вспомнил сизое лезвие и жестокий взгляд. Он стиснул локоть Коли.
— Понимаешь, я не могу. Скажи им всем. Не могу. Ты не думай — я никому не расскажу. Не продам вас. Слово даю. Только и вы меня оставьте в покое. Я на работу буду устраиваться.
— А в нашем отделе кадров рассчитался?
— Не шути, Коля, Я серьезно. Честное слово, — не могу.
— И я серьезно, — в прежнем тоне ответил Коля,
Видно было, что этот разговор ему по сердцу. Нравилось выступать в роли повелителя и очень нравилось мучить. Он внимательно смотрел на Юрины дергающиеся губы и кривил рот в довольной улыбке.
— Знаешь что, — предложил он. — Скажи это сам Яше. Может быть, он отпустит.
Юра ухватился за обманчивую надежду, А вдруг Яков действительно отпустит? Какая им от него польза?
Он вместе с Колей вышел на улицу, к Якову. Поздоровался. Тот, не ответив на приветствие, бросил «пошли» и зашагал так быстро, что Юра едва поспевал за ним. Он пытался что-то говорить, объяснять, но Яков невозмутимо отвечал:
— Позже поговорим.
Они вошли в маленький грязный двор, свернули в закоулок. Юра увидел Гундосого и остановился.
— Иди, не бойся, — подтолкнул его в спину Коля.
— Говори! — приказал Яков.
Юра повернулся к нему и заговорил, все время боясь, что его не дослушают:
— Не могу я, ребята. Неправильно все это. Хочу честно жить. Никому не скажу о вас. Только нельзя мне с вами.
— Сам к нам пришел? — спросил Яков.
— Да. — Юра искоса взглянул на Гундосого. Тот стоял сбоку, спрятав волосатые руки за спину.
— Ты пришел к нам за помощью. Помогли мы тебе?
— Да.
— Мы дали тебе заработать и спасли тебя от позора?
— Но я же не знал…
— Не знал, что мы — воры?
Юра хотел ответить «да», но не решился.
— А знаешь, сколько ты нам должен?
Юра удивленно посмотрел на Якова.
— Да, должен. И не притворяйся, будто не понимаешь. Крали-то мы, а ты только продавал. Мы за тебя работали.
— Я отдам. Пойду на работу и отдам.
— Сначала отдай, потом иди на работу.
— А сколько я должен? — с облегчением спросил Юра. Ему казалось — еще немного, и это мученье кончится.
— Ты должен пять тысяч рублей.
— Так много?
— Выходит, я вру?
Юра хотел сказать, что его не так поняли, но перед глазами мелькнул волосатый кулак. Удар!.. Он покачнулся и почувствовал соленый привкус во рту.
— Подожди, Гундосый, — сказал Яков. — Может быть, субъект одумается?
Слово «субъект» напомнило о рассказе из лагерной жизни. Видно, это воспоминание отразилось как-то на Юрином лице, потому что Яков улыбнулся и спросил:
— Знаешь, кто придумывал развлечения в лагере над тем субъектом?
Юра не отводил от него взгляда.
— Я. — Яков помолчал, любуясь впечатлением, произведенным на Юру, потом снова спросил:
— Понял, субъект?
Холодный пот выступил у Юры между лопатками. Он почувствовал, как рубашка прилипает к спине. Не знал Юра, что Яков рассказывал о той «лагерной истории» не так, как она происходила на самом деле, а так, как ему хотелось бы. Не мог же он признаться, что при первой попытке к издевательству его осудили дополнительно на три года.
Яков остался доволен выражением Юриного лица. Он продолжал свои поучения:
— Вот ты выдал бы нас. Думаешь, только нас посадили бы, а тебя оставили на воле? Нет, субъект. Ты тоже сядешь. А там тебе придется не сладко. Если и не попадем в один лагерь, то дадим знать о твоей личности дружкам. Они тебя просветят.
За Юриной спиной захихикал Коля.
— Надеюсь на твою понятливость, — закончил Яков.
— Не могу я с вами! Не хочу! — закричал Юра. Ему стало омерзительно само присутствие этих изгаженных, жестоких людей. — Вы меня не заставите!
Его ударил по затылку Коля. Юра обернулся к нему и был сбит оглушительным ударом в ухо. Удары сыпались со всех сторон.
— В лицо не бейте. Лучше в живот. И не видно, и дольше помнить будет, — командовал Яков.
На шум прибежали две женщины и пожилой мужчина в вылинявшей железнодорожной форменке.
— Ворюга проклятый! — воскликнул Яков. — Он еще огрызается!
— Не смейте так бить! — вмешался пожилой мужчина. — Отведите в милицию, там разберутся.
Юра попытался обратиться к нему. Но распухший язык едва ворочался. Гундосый схватил избитого за шиворот и поволок со двора. В воротах зашипел на ухо:
— На улице цыкнешь — зарежу!
Юру подхватили под руки с одной стороны — Яков, с другой — Гундосый.
— Мы отведем тебя домой. Проспишься, завтра с нами пойдешь «на арапа». Гляди только — без фокусов. А за науку спасибо скажешь, — говорил Яков.
— Не вздумай — в милицию. Все одно не дойдешь — прирежем, — шипел Гундосый. — Никто тебе не поможет.
— Каждый человек — за себя. А за тебя — никто, — сказал Яков.
Юра долго не засыпал. Опухло ухо. Болели живот и поясница. Тяжело было дышать. Он лежал и думал. До чего дошел! Начал со спекуляции — попал к ворам. Что его ждет впереди? Если он не пойдет к ним, его убьют. Если пойдет, то станет вором, будет бояться милиции, дворников, собак, случайных прохожих, будет презирать себя. Отправиться в милицию… не дойдет… А если дойдет, то его посадят вместе с ними.
Ныло сердце, как больной зуб.
Он старался не ворочаться на постели, чтобы не разбудить мать. Но она все равно услышала. Позвала:
— Юраша.
Он подошел к ней.
— С кем ты сегодня дрался?
Юра удивился. Он был уверен, что мать ничего не заметила. Ответил угрюмо:
— Было — прошло…
Разве мог он рассказать обо всем? О том, как продавал ворованное на рынке? О краже? О ноже в руке Гундосого, о холодно вспыхнувших глазах Якова? Удары, десятки ударов в живот, в бок, в опину. А что ждет его впереди?
— Расскажи все, сын…
Он вспыхнул. Закричал на нее, на себя, пытаясь заглушить свой страх:
— Отстань от меня! Слышишь, отстань! Ты еще ко всему!..
Мать приподнялась на постели. Сын впервые так разговаривал с нею. Что это — дурное влияние? Или ему так трудно?
Материнское сердце говорило: да, ему трудно. Захотелось привлечь его к себе, пригладить вихры, спрятать на своей груди его мальчишечью, глупую и любимую голову.
У нее появилось тревожное предчувствие.
— Юрий, — сказала она. — У нас в роду все были честными людьми.
— Знаю, — буркнул он.
— Расскажи мне все и давай вместе подумаем, как быть.
— Потом, — снова буркнул Юра.
…На следующий день он пошел в городское управление милиции…
3
Подполковник Котловский слушал Юру и одновременно вспоминал… Сколько он видел таких вот юных лиц, истерзанных страхом или болью…
Семен Игнатьевич понимал людей. Движение губ, улыбка, взмах бровей и особенно руки — изнеженные или мозолистые, нервные и гибкие или тупые, с короткими пальцами, дрожь пальцев или наглое постукивание по столу — открывали ему не одну черту в характере подследственного.
Подполковник внимательно приглядывался к сидящему перед ним Юрию Чижику. И этому юноше он должен помочь стать настоящим человеком.
Смяв папиросу, Котловский спросил:
— Боишься их?
— Боюсь, — ответил Юра.
— Они сами всех боятся, — сказал Семен Игнатьевич. — Ясно?
— Ясно, — ответил Юра. Но ему было совсем ничего не ясно.
— А тебе надо лечиться, — проговорил подполковник. — Не делай больших глаз. Да, тебе нужно лечиться от страха, от лени, от эгоизма. И мы поможем тебе устроиться в лечебницу.
Он снял телефонную трубку и набрал номер.
— Приветствую тебя, — сказал Семен Игнатьевич в трубку. — Это я, Котловский. С просьбой к тебе. Есть у меня один знакомый паренек, ему срочно требуется лечение. От чего? Ну, скажем, от лени и страха. Нет, болезнь пока не запущена… Да… Так не примешь ли его в свою лечебницу?… Что? Думаю, согласится. Сейчас спрошу у него.
Он повернулся к Юре:
— Пойдешь учеником расточника на завод?
— Да я… Да я… — Юра не находил слов.
— Ясно, — сказал подполковник и проговорил в трубку: — Пойдет..
Котловский передал привет какому-то Кузьме Владимировичу, попрощался и положил трубку на рычаг. Взял листок бумаги, написал несколько строк, протянул листок Юре:
— Вот адрес завода. Завтра явишься.
— А сегодня нельзя?
Семен Игнатьевич засмеялся:
— Припекло? Смотри же, — ты — мой подшефный. Буду справляться, как работаешь. А теперь — пошли со мной. Надо же тебе на что-то жить до первой зарплаты.
Юра сделал протестующий жест.
— Стесняться тут нечего, — строго проговорил подполковник. — Думаешь, — жалею? У меня на всех таких жалости не хватит. У нас есть специальный фонд помощи. Будешь зарабатывать — отдашь. Ну, давай пропуск, подпишу.
В коридоре Семен Игнатьевич попросил Юру подождать. А сам вошел в большую комнату и направился к старшему лейтенанту, сидящему за столом в углу. Тот хотел встать, чтобы приветствовать начальника.
— Сиди, Иван Игоревич, — положив руку ему на плечо, сказал Котловский. — Деньги у тебя есть?
— Есть. На штатский костюм собрал.
— А он тебе к спеху?
— Не то чтоб очень… — замялся старший лейтенант.
— Одолжи мне сотни три, до получки.
Подполковник вручил Юре деньги.
— Большое спасибо. Как только получу зарплату, сразу отдам.
— Пока я в этом не сомневаюсь, — ответил подполковник. — Ну, иди. До свидания.
Котловский пошел обратно, к своему кабинету.
— Товарищ подполковник, — догнал его Юра, — куда мне сейчас идти?
— Как куда? Домой. Или ты очень боишься своих прежних приятелей? — Семен Игнатьевич насмешливо прищурился: — Может быть, тебе в няньки милиционера приставить?
Юра круто повернулся и вышел на улицу.
Мимо промчалась «Победа». Ему показалось, что за рулем сидит тот самый вычурно одетый парень, приятель Якова и Гундосого.
"ЛЕЧЕБНИЦА"
1
— Они следили за Чижиком, — сказал подполковник Котловский на совещании. — Они видели, что он пошел к нам, и не станут сидеть дома и ждать, пока мы явимся. Но узнать домашние адреса Якова и Гундосого все равно нужно. Необходимо выяснить также личность водителя «Победы». Этот может остаться дома, так как Юрий Чижик видел его всего один раз, улик против него нет. «Водителем» займется старший лейтенант Кротов. К соседу Чижика, Коле, пойдет лейтенант Рябцев. Юру они сейчас оставят в покое, им не до него. Но на всякий случай надо соблюдать все меры предосторожности. Возможно, они глупее, чем мы думаем.
* * *
Мать Коли, низенькая женщина с глазами-щелочками, загораживала дверь в комнату своим выпирающим животом.
— Я же говорю русским языком — его нет дома. Куда ушел, — не знаю. Он мне не докладывается. Куда хочет, туда идет… Ты меня не учи… Знаю, что — мать… Чего, чего?.. Когда у самого будут дети, воспитывай, как хочешь, а в мое воспитание носа не суй.
Подтянутый, подчеркнуто вежливый лейтенант Рябцев долго убеждал ее сам и с помощью дворника. Но женщина даже не хотела взглянуть на ордер.
— Ордер тебе даден на обыск сына. А его дела — не мои дела. Найдешь его, тогда и обыскивай.
Лейтенант Рябцев посмотрел на переминающихся с ноги на ногу понятых и, осторожно, но решительно отстранив женщину, шагнул в комнату.
Однако мать Коли была не из тех женщин, которые так просто сдаются. Она разинула рот, неожиданно ставший большим, и закричала осипшим, жестяным голосом:
— Караул! Гра-а-абят! Милиция грабит!
Очень скоро на лестничной площадке собрались соседи и стали заглядывать в квартиру.
Лейтенант Рябцев делал свое дело. Он обыскивал двухкомнатную квартиру. Попадались самые неожиданные вещи: альбомы с марками и автомобильный насос, дюжина теннисных ракеток и пишущая машинка. В кладовке, громоздясь друг на друга, стояло два мешка сахара.
— Зачем вам столько сахару? — удивился лейтенант.
— Сколько надо, столько и покупаю. На свои кровные, на рабочие денежки, потом политые! Мы — трудящие!..
Лейтенант поморщился. Мешки навели его на новую мысль. Он подошел к иконам, закрывающим угол.
— Ого! Целый иконостас! — воскликнул один из понятых.
Женщина бросилась в угол, размахивая руками и крича:
— Уйдите, ироды! Головы порасшибаю! Не троньте святого, антихристы!
Настороженное ухо лейтенанта уловило на этот раз в ее голосе нотки страха. Рябцев внимательно осмотрел иконы и стену за ними, но не обнаружил никакого тайника. Многое, однако, в этой квартире было подозрительным, и лейтенант продолжал поиски. Случайно он повернул одну из икон и увидел в ее задней стенке отверстие. Запустил в него руку и извлек три пары золотых часов на браслетах. Во второй раз улов был не менее богат — связка из двенадцати золотых обручальных колец.
Рябцев молча посмотрел на женщину. Она опустилась на стул и сказала с вызовом, но уже без крика:
— Не ворованные. Горбом своим нажила. Советская власть не запрещает…
Лейтенант не вступал с ней в опор. Он думал о мешках с сахаром.
Дальнейший обыск больше ничего не дал. Прошло три с половиной часа. Понятые устали. Когда хозяйка квартиры не смотрела на них, дворник делал знаки лейтенанту: пора, мол, уходить. Но Рябцев медлил.
В этой затхлой квартире, похожей на скупочный магазин, заполненный случайными вещами, все наводило молодого лейтенанта на мысль о нарушении законов. И сахару здесь столько не случайно.
Рябцев осмотрел кухню. Он не обращал внимания на едва плетущихся за ним понятых. Заставлял их
заглядывать под плиту, столик, приподнимать крышки кастрюль. Не обошел даже помойных ведер. Поднял одно из них, встряхнул. В ведре что-то звякнуло. Розовое лицо лейтенанта не изменило своего невозмутимого выражения. Он осторожно слил грязную воду и вынул из ведра часть от самогонного аппарата.
— Зачем это вам? — спросил он у женщины, хотя и так все было ясно.
— Сынок где-то подобрал, а я выкинула в ведро, — затараторила женщина. — Говорю ему — зачем такое барахло в дом тащить? Неужели же вы мне не верите, товарищ капитан? — В разговоре с Рябцевым она перешла на «вы» и величала его то капитаном, то майором. — Разве ж я похожа на тех, что брешут? Двадцать лет честно трудимся для нашего государства.
— Где вы работаете?
— Та не я, не я, а муж мой. Он на заводе браковщиком. Передовой человек, премии получал…
— Вам придется пройти со мной, — перебил ее лейтенант.
— Да за что, товарищ майор? Я же честная женщина. Та я ж знать не знаю, ведать не ведаю, где он ее взял — эту пакость, что в ведре!
— Вам придется пройти со мной, — вежливо, но настойчиво повторил лейтенант.
* * *
Сверкающие потоки автомобилей текут по киевским улицам. Среди них — «Победы», темно-синие, серые, зеленые, коричневые. Сотни машин с занавесками на окошках, с плюшевым медвежонком или куклой над рулем и с буквами «УЧ» перед номером. И среди этих частных «УЧ» — синяя «Победа», за рулем которой сидит вычурно одетый парень. Именно эта автомашина нужна старшему лейтенанту Ивану Кротову.
Он снимает телефонную трубку и говорит человеку на другом конце провода:
— Автомашина марки «Победа», частная, синего цвета, проезжает по центральным улицам, водитель — молодой человек лет двадцати, блондин, с длинными волосами, с пестрым галстуком, в бархатной куртке с тремя застежками «молниями».
Спустя некоторое время раздается телефонный звонок. Старший лейтенант Кротов слышит в трубке:
— «Победа» «УЧ» 75–83, владелец — гражданин Фесенко Никифор Львович, директор обувной фабрики. Интересующий вас водитель — его сын, гражданин Фесенко Никита Никифорович, студент университета, права водителя получил в июне пятьдесят шестого года.
В кабинет вошел высокий блондин с длинными волосами, взбитым коком над лбом, в галстуке, на котором были представлены почти все животные зоологического парка, в бархатной куртке с тремя застежками-«молниями».
Кротов окинул коротким взглядом его невыразительное лицо с бледными щеками и тусклыми выпученными глазами и определил: «балбес».
Никита Фесенко, или попросту Ника, тоже присмотрелся к старшему лейтенанту, оценил его глыбящиеся плечи, широкие кисти рук, тяжелый подбородок и определил: «дубина».
— Садитесь, — предложил старший лейтенант.
Ника поспешно сел, стараясь придать себе ошеломленный, испуганный вид.
«Боится балбес. Ну, с ним чем строже, тем лучше», — подумал Кротов.
— Признание может смягчить вашу вину. Расскажите о связи с шайкой атамана Яшки.
«Эта стоеросовая дубина принимает меня за идиота. Тем лучше», — подумал Ника. Он подергал щеками, недоуменно развел брови и ответил:
— Я не понимаю, товарищ начальник, — о каком Яшке идет речь? У меня есть несколько приятелей с таким именем: «Яша с белыми зубами», «Яша-победитель», «Яша с перекрестка»…
— Меня интересует Яша — атаман воровской шайки.
— Простите, но я, честное слово, впервые слышу о таком… И потом… вы говорите «шайка». У нас, простите, есть компания… — зубы Ники стучали, словно от испуга.
«Эге, а он, кажется, притворяется. Может быть, он не такой уж балбес», — усомнился в своем первоначальном мнении старший лейтенант. Он в нескольких словах нарисовал портрет Якова, и Ника с преувеличенной радостью воскликнул:
— Знаю, знаю! Это же «Яшка-штучка»! Так мы его называем. Я с ним знаком.
— Так вот и расскажите о вашем знакомстве, — предложил Иван Кротов, внимательнее приглядываясь к «балбесу».
— Пожалуйста, пожалуйста, — с готовностью произнес Ника. — Но, видите ли, знакомство у нас, так сказать, шапочное… Случайно встретились на танцах в Доме офицеров. Нас познакомил «Яша-победитель». Говорит: «Тезка мой». Ну, я и подал руку. Если бы знать, что нельзя…
— Яков когда-нибудь ездил на вашей машине?
— Пару раз.
— Он был один или с товарищами?
— Простите, я плохо помню… Может быть, с товарищами. А может быть, и один…
— Он никогда не просил вас перевезти его вещи?
— Какие вещи? — поднял редкие брови Ника. В это время он напряженно соображал: «Кто из них попался? Что знают обо мне в милиции?»
«Он хитрей, чем я думал, — определил старший лейтенант. — Хотя на вид балбес балбесом. Хочет выпытать, что мне известно. Если я заикнусь о ящиках, он поймет, что шайку выдал Чижик и что мы почти никаких улик против него не имеем. Нужно перевести его догадку на другого. Пусть думает, что попался Коля. А тот должен много знать о делах шайки. Но предварительно проведем «подготовку».
Он внимательно посмотрел на Нику. Дождался, когда тот под его взглядом опустит глаза, и назидательно произнес:
— Гражданин Фесенко, от милиции ничего нельзя утаить! Знакомы вы с гражданином Николаем Климовым?
«Колька попался. Это плохо», — пронеслось в голове у Ники.
— Да, я знаком с Климовым. Это товарищ Яши. — Ника снова подергал бровями, свел их и вдруг радостно закричал: — Товарищ начальник, я вспомнил! Яша действительно просил меня два или три раза перевезти его товары. Он же работал экспедитором на заводе. Так мне говорили. Я еще тогда отказывался: что я — грузовое такси? Но у меня характер слабый. Как отказать знакомому?
— Расскажите подробней.
Ника назвал несколько мест, откуда он вывозил «товары», и адрес, по которому их доставлял. Старший лейтенант записал адреса, ничем не выдавая своего волнения. Он опросил:
— Что это были за товары?
— Не знаю. Они же в запакованном виде… Ах, если бы знать, что вам понадобится…
Иван Кротов отпустил Никиту Фесенко. Старший лейтенант понял, что Ника притворяется, будто не знает, что товары были краденые. И он, конечно, не признаётся, что брал за перевозку деньги. Уличить его можно будет только на очных ставках с членами шайки. А для этого надо прежде всего изловить их. Но допрос не был безуспешным: Ника выдал адреса.
— До свидания, товарищ начальник, — проговорил Ника в дверях и мысленно добавил: «Прощай, дубина!»
— До свидания, — ответил Кротов и подумал: «И все-таки ты балбес».
2
Юра Чижик открыл дверь и был оглушен лавиной звуков: гулом, скрежетом, завыванием, стуком, визгом. Он переступил через порог и оказался в длинном помещении с большими окнами, уставленном станками.
Навстречу Юре шел узколицый паренек в темном берете, из-под которого выбивался черный чуб. Юра спросил у него, где начальник цеха. Паренек ответил и неожиданно улыбнулся; улыбка его была широкой и подбадривающей. Юра почувствовал себя увереннее.
Начальник цеха подвел его к пожилому человеку, стоявшему у большого станка.
— К вам, Кузьма Ерофеевич, за наукой. Ученик, в общем.
Кузьма Ерофеевич осмотрел Юру, потом опросил:
— В первый раз на заводе?
— С классом ходил, — ответил Юра.
— Ясно. Тогда постой около меня, присмотрись. В первый день положено только смотреть.
Юра отступил немного, чтобы не мешать Кузьме Ерофеевичу, и стал разглядывать станок. Вместе с толстым стержнем быстро вращалось зубчатое колесо. От заготовки летели мелкие кусочки, и то место, где прошли зубцы, становилось ровным и блестящим, «новеньким».
«Как положили на станок такую огромную деталь? Наверное, трудилось несколько человек, — подумал Юра. — Без помощников и не снять ее».
За станком на стенке висел небольшой плакатик. На нем был нарисован рабочий с поднятой рукой: «Станочник! Работай только с застегнутыми рукавами или в нарукавниках!» На другом плакатике Юра прочитал: «Станочник! Проверь, убрана ли со станка стружка и посторонние предметы!» Совсем как в парке: «Цветов не рвать!», «На траве не лежать», «Бросайте окурки и бумажки только в урны»…
Юра улыбнулся. Ему почему-то понравились эти плакатики, хотя он и не понимал, к чему они.
Кузьма Ерофеевич повернул рукоятку, и зубчатое колесо остановилось. Бросив на ходу «я сейчас!», он куда-то ушел. А вскоре вернулся. В одной руке он держал кусок толстого стального каната, в другой — продолговатую черную коробочку. Длинный шнур от нее тянулся к потолку, где двигался крючок.
Всего этого, оказывается, было достаточно, чтобы снять со станка обработанную деталь и поставить новую.
Кузьма Ерофеевич долго ходил вокруг станка, приподнимал и опускал деталь, отыскивая на ней полоски и точки.
— Разметчик хап-лап, а ты за него возись, — ворчал он.
Подошел начальник цеха. Он был озабочен:
— Торопись, Кузьма Ерофеевич. Сегодня надо окончить.
— Да уж постараюсь. Разметчик тут сплоховал.
Прошло еще минут пятнадцать. От безделья Юре стало не по себе: «Стою как неприкаянный». Подошел паренек в темном берете и остановился около Юры.
— Надо ее повернуть, — указал он на деталь.
Он помог Кузьме Ерофеевичу установить деталь в нужном положении. Почти все время паренек улыбался, и Юре показалось: это оттого, что он все знает и умеет.
— Самое трудное — настройка, — оказал он Юре. — А теперь хоть вальс играй.
Паренек пошел к своему станку.
Кузьма Ерофеевич посмотрел ему вслед и произнес:
— Ветрогон… Вот учитель…
Юре показалось, что в голосе старого рабочего прозвучала гордость.
В перерыве Юру задержал все тот же паренек с черным чубом.
— Хочешь, покажу тебе цех? — спросил он.
— Хочу.
Они пошли между рядами станков.
— Этот станок…
— Этот я знаю — карусельный, — перебил Юра.
— Точно. Вот видишь, тебе уже кое-что известно. Если что будет непонятно, давай ко мне. Меня Михаилом зовут.
Ни с того, ни с сего он перескочил на другую тему:
— Ты знаешь, как вертолет устроен? Я вчера брошюру читал. Интересно…
Михаил водил Юру от станка к станку и, пока не кончился перерыв, все рассказывал, рассказывал…
— Михаил, чего это мой ученик к тебе приклеился? — наконец услышали они ворчливый голос Кузьмы Ерофеевича и направились к нему.
— Вот он, ваш ученик, Кузьма Ерофеевич, не бойтесь, не отобью, — сказал Михаил и ушел к своему станку.
Кузьма Ерофеевич опять долго колдовал над деталью. При этом он тихо говорил, как бы про себя:
— Думаешь, небось: черепаха твой учитель; вон Михаил за это время две детали снял. А невдомек, что мне, старику, дают самые сложные детали.
— Мишка — воображала известный. Небось, и вам указания дает, — послышался голос молодого худощавого парнишки, работающего за соседним станком.
— Объявился! Без тебя бы мы не обошлись, — обрушился Кузьма Ерофеевич на рабочего. — Сумей ты дать две нормы, как Михаил, тогда и указывай другим. Выдумал тоже — «воображала»! Чтоб я таких прозвищ больше не слышал!
Кузьма Ерофеевич включил станок. Он заметил, что Юра едва сдерживает смех, и прикрикнул на него:
— Нечего уши развешивать! К работе приглядывайся!
— Вот шаблон. По нему заточи резец, — сказал Кузьма Ерофеевич и отвернулся, всем своим видом показывая, что дело он поручил самое пустяковое и не справиться с ним нельзя.
Юра пошел к точилу, обдумывая, как бы лучше выполнить задание. Ему хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы удивить всех. Пусть и Кузьма Ерофеевич и другие рабочие скажут: «Да, недаром парень десятилетку окончил, — голова, и не пустая, на плечах имеется». Юра не раз видел, как затачивают резцы, — на глаз. Незначительное отклонение от образца не мешало в работе. Он решил заточить резец точно по шаблону. Должна же для чего-то пригодиться геометрия, над которой ученик Чижик корпел в классе и дома! Юре вспомнился учитель математики Сергей Алексеевич, который говорил: «Без геометрии ни в каком деле не обойтись. Это наука точная, не стишки».
Сейчас Юре предстояло применить геометрию на деле. Он выпросил у мастера линейку и штангель. Перенес на бумагу размеры резца-шаблона. Чертеж получился хотя и грязноватый, но правильный. «Посмотрел бы сейчас Сергей Алексеевич на своего ученика. Наверняка сказал бы: «А из вас, Чижик, кажется, получится толк». От старательности Юра даже высунул язык. Теперь остается разделить угол. Нужно достать транспортир. Где? Спросил у соседа, тот посоветовал сходить к жестянщикам.
Когда Юра вернулся, Кузьма Ерофеевич встретил его недовольным ворчанием:
— Чего мудришь?
«Ладно, пусть поворчит, зато потом скажет: «Ишь ты, как в аптеке», — подумал Юра и про себя улыбнулся.
В спешке он и не заметил, как содрал мозоль. Боль почувствовал позже, когда, сравнив заточенный резец с шаблоном, понял, что резец никуда не годится.
«Как же это получилось? Ведь я чертил, измерял угол», — чуть не плакал от досады Юра.
Он стоял растерянный; резец валялся на полу, когда подошел Миша.
— Провались пропадом эта геометрия, — прошипел Юра.
— Что-о-о? — изумился Миша. — Ты что, слетел с катушек?
— Провались она, геометрия, и все, что мы зубрили в школе!
Миша прикоснулся ладонью к его лбу. Юра дернул головой.
— Не смейся. Я хотел, как лучше. На математику понадеялся.
Миша слушал Юру и делал отчаянные усилия, чтобы не расхохотаться. Поднял с пола испорченный резец.
— Ну и Пифагор! Зачем чертеж делал? У нас же есть специальный угломер. И еще школу хулишь!.. А я кончаю вечернюю. Уроки после смены, сон морит… Чудак ты. Смотри — не тот угол замерял.
Юра ваял резец, потом взглянул на чертеж. Вот оно что! Он в спешке разделил не тот угол. Вместо тупого — острый. А это — «наука точная, не стишки».
Честь геометрии была восстановлена.
Юра видел, что рабочие смотрят на него и некоторые смеются. Ему стало обидно. Он был зол на резец, на себя, на всех смеющихся. А тут еще Кузьма Ерофеевич позвал.
— Ну, как поживает твой резец?
— Испортил… — Юра со злостью швырнул резец в угол и, избегая взгляда старого рабочего, наклонился над гудящим станком. И вдруг — удар! Резкая боль. Юра схватился за щеку.
Кузьма Ерофеевич заворчал:
— Стружка ударила. Не нагибайся! Вон там аптечка, смажь щеку-то йодом…
Отчаяние и злость распирали Юру. Ничего у него не получится…
Откуда-то выскочил белесый худощавый паренек, предложил:
— Пошли в медпункт. Я тоже туда.
По пути он учил Юру:
— Тут сам на себя надейся. Никто не поможет. Учат плохо и платят гроши, а сами так хапают. Насмотрелся я тут за год-то.
Юра промолчал, он понимал, что это не так. Случай с заточкой резца показал, чего он стоит сам. Но слова белесого немного успокоили, — не он один виноват… У самой двери на стене он увидел плакатик. Там был нарисован все тот же рабочий с поднятой рукой: «Станочник! Остерегайся стружки!»
Щека разболелась. Пришлось ходить на перевязки. В эти дни Юра подружился с пареньком, вместе с которым был в медпункте. Его звали Леней. Работал он токарем и занимался на курсах технического минимума.
— И тебя погонят на техмин, — пугал Леня. Он любил сокращать слова. А еще больше любил обсуждать дела цеха, его людей.
Леня знал всё обо всех.
Однажды в клубе они увидели знакомого слесаря. На нем был дорогой костюм. На руке блестели золотые часы.
— Это еще что, — быстро зашептал Леня на ухо Юре. — У него наверняка скоро «Москвич» свой будет. А где деньгу берет? То-то. Он с начцехом в дружбе. Рука руку моет. Ему наверняка дают выгодную работу. Понял? А меня и тебя на дешевую поставят. Старая механика. Э-э… Я все их штучки изучил. Тут каждый думает только о себе…
Наслушавшись Лениных рассказов, Юра невольно стал смотреть на всех с подозрением. Он и к Мише начал относиться с опаской. Его внимание воспринимал как оскорбительную для себя опеку. Кузьма Ерофеевич опостылел ему так же, как уборка станка.
Юра все чаще вспоминал слова Яшки: «Каждый человек — за себя, а за тебя — никто», и от этого страх перед Яковом и Гундосым вырастал, как на дрожжах. Чудился смешок Яшки, сипенье Гундосого. А что, если снова встретишься с ними? В новой драке он будет таким же беспомощным, как и в первой, что была в том зловонном дворе. Никто не станет рядом с ним. Никто не вступится за него, если каждый — только за себя.
В эти дни Юра не ходил, а крался по улицам. «Все равно убьют, все равно убьют», — настойчиво стучала одна и та же мысль.
До этого он знал, что красивы киевские улицы и бульвары — просторные, с зелеными шеренгами деревьев. Теперь же он узнал, сколько на улице темных углов, где можно устроить засаду, сколько деревьев с толстыми стволами, за которыми удобно спрятаться и караулить свою жертву…
3
Лейтенант Рябцев разговаривал с отцом Гундосого, Филиппом Никандровичем Лесько, все время держась на некотором расстоянии. Этот слесарь внушал лейтенанту боязнь одной своей внешностью — угрюмым низким лбом, квадратной головой, вросшей в покатые литые плечи, руками, больше похожими на медвежьи лапы. Случайно заденет — мало не будет…
Филипп Лесько долго не понимал, о чем идет речь. «Может быть, притворяется», — мелькнуло в голове у лейтенанта, и он перешел на суровый тон:
— Ваш сын участвовал в воровской шайке. И вы этого не могли не знать.
— Мой Сева? — прохрипел Филипп Никандрович и стукнул кулаком по столу.
— Ваш Сева, по прозвищу Гундосый, — твердо ответил лейтенант, не отводя взгляда от побагровевшего лица слесаря.
Филипп Никандрович Лесько сидел на табурете. Из его горла вырывался грозный клекот:
— Как же это? Был тихий, лишнего слова не вымолвит. На заводе работал как все. Как же это? Сын старого Лесько — вор?
— Участие Севастьяна Лесько, по прозвищу Гундосый, в воровской шайке доказано, — официально сказал лейтенант.
— Да… — Лесько тяжело вздохнул и притихшим голосом сказал: — Верю… верю вам… Сам замечал — возвращается он с гулянок поздно, пьяненький. Несколько раз дома не ночевал. Думал я, — балуется, молодость в нем бродит. Перебесится — в разум войдет… — И вдруг закричал: — Но и ты пойми! Меня на этой улице каждая собака знает! Вот этими руками я завод подымал, когда с фронта вернулся. Тут пусто было, ветер свистал, а мы поставили на ноги всю махину. Два сына в моей бригаде слесарят. Мы по городу первенство держим. Привыкли работать на совесть. Старший сын во флотилии «Слава». Вот он на портрете — Федор Филиппович Лесько.
Лейтенант взглянул на портрет, висевший на стене рядом с семейной фотографией. На нем во весь рост был снят человек в морской форме с двумя орденами на груди.
Рябцеву все стало ясно: в этой хорошей рабочей семье Гундосый — паршивая овца, выродок.
— Далеко он не удрал, — успокоившись, сказал старый Лесько. — Ищите в пригородах. Там все его дружки живут. А если домой пожалует, положитесь на меня.
— Надеюсь на вас, Филипп Никандрович. — Лейтенант Рябцев крепко пожал его большую руку с твердыми рабочими мозолями и добавил: — Извините…
4
Адрес Гундосого нашли сравнительно просто. Юра Чижик указал район города и — приблизительно — улицу, где он жил. Участковые получили приметы Гундосого, и через три дня адрес стал известен.
Для выяснения фамилии и домашнего адреса Яшки пришлось посылать запрос в центральную картотеку, указав приметы и те немногие сведения, что были известны работникам Управления милиции со слов Юры. Прошла неделя, прежде чем подполковник Котловский получил толстый пакет с печатями и вскрыл его. В протоколе следствия указывалось, что Яков Черенок (кличка — Волк) был исключен из восьмого класса средней школы за хулиганство. В возрасте семнадцати лет он организовал воровскую шайку из несовершеннолетних, которая совершила свыше тридцати хищений. Шайка специализировалась на ограблении ларьков и продовольственных палаток. В характеристике, выданной Черенку, отбывшему в лагере четыре года и досрочно освобожденному по амнистии, указывалось: «Чрезмерно услужлив, коварен, жесток, совершенно беспринципен, с задатками садизма. Находясь в лагере, пытался издеваться над заключенным и был осужден дополнительно на три года».
Семен Игнатьевич долго рассматривал фотографии Яшки — Волка, откладывал их, закрывал глаза, стараясь представить себе атамана шайки, понять его. На фотографиях у Якова были большие серьезные глаза, но Котловский не видел, как они умеют недобро вспыхивать. На фотографии застыло красивое холеное лицо с чуть горбящимся носом, с четко очерченным ртом, а подполковник не знал, как умеет кривиться этот рот, обнажая хищные зубы, и не слышал, какие слова из него вылетают.
Семен Игнатьевич так и не смог представить себе, какой же Яков, и поступил так, как всегда поступал в подобных случаях — направился к людям, хорошо знавшим Якова, — прежде всего к его матери.
…Еще нестарая женщина, с бледным нездоровым лицом, встретила Семена Игнатьевича с тупым безразличием. Указала взглядом на стул. Это означало — «садитесь».
— Очевидно, вы догадываетесь, почему я пришел? — спросил подполковник.
— Догадываюсь, — ответила женщина. — Но я вам ничем помочь не смогу. Я уже больше трех месяцев не видела сына.
— Вы мать. Вы знаете сына лучше других и можете вместе с нами сделать все для его исправления или для его изоляции.
Женщина удивленно взглянула на Котловского:
— Вы предлагаете это мне, матери?
— Да, вам. Потому, что вы в первую очередь ответственны за него и за те следы преступления, которые он оставляет на своем пути. Я выражаюсь ясно?
Она кивнула.
— Чем скорее мы изловим его, тем меньше он успеет натворить. Меньше будет жертв и легче мера наказания… для него. — Последние слова подполковник выделил. — Но для этого мы должны знать многое о его привычках, поведении, о его друзьях.
— Спрашивайте, — устало сказала женщина.
— Когда впервые в поведении вашего сына обнаружились… ненормальности?
Подполковник знал, что наносит удары в открытую рану. Женщина поправила его.
— Вы хотели сказать: «Когда впервые обнаружились преступные наклонности?» В восьмом классе. Он сдружился с плохой компанией, его втянули. А до того был очень хорошим мальчиком. Отличник, общественник. Шалил, как все дети, в меру.
«Мера — понятие растяжимое, особенно материнская мера», — подумал подполковник.
— А потом он был уже запятнан. Это называется «на плохом счету». А он самолюбивый, гордый. Учителя его не любили, директор школы хотел избавиться от него любой ценой. От школы оттолкнули, он и качнулся к темным людям.
— Вы тяжело обвиняете учителей, — заметил Котловский, — и ничего не говорите о себе.
— Я не избегаю ответственности. Конечно, прежде всего виновата я. Не уследила, как его втянули. Он дружил с плохими мальчишками, они отравляли его своими манерами, учили разным гадостям. А после того как его исключили из школы, приличные родители запрещали своим детям водиться с Яшей. Ему некуда податься…
Котловский понял, что здесь ничего не добьется. Эта женщина внушала уважение своим печальным мужеством, но раздражала материнской слепотой. Подполковник представил, как она когда-то вступалась за сына, укрывала его от справедливого наказания, обвиняла учителей. А птенец вырастал в стервятника, достаточно жестокого, чтобы напасть на беззащитного, и достаточно трусливого, чтобы в минуту опасности укрыться под материнское крылышко.
— Вы все время говорите: «Его втянули». А знаете, скольких он втянул?
Женщина спокойно выдержала удар. Она попросила подполковника подождать и принесла из другой комнаты несколько бумажек.
— Вот планы. Они составлены не рукой моего сына, а его товарищами.
На листках, вырванных из тетрадей, были грубо начерчены планы улиц, перекрестков. И везде крестиками обозначены ларьки. Около некоторых — две буквы «б.с.». «Шайка специализировалась на ограблении ларьков и продовольственных палаток», — вспомнил Семен Игнатьевич строки из протокола следствия. Но что значит «б.с.»?
— Если эти планы составлены и не вашим сыном, а его товарищами, то это ничего не доказывает, — сказал Котловский. — Или доказывает только то, что вы и на этот раз хотите выгородить сына и свалить его вину на других. А вы очень помогли бы нам, указав, где он может быть сейчас.
— Не знаю, — ответила мать Якова.
— Не хотите, — сказал Котловский.
— Я мать, — печально проговорила женщина. — Если бы вы были на моем месте, то поступили бы так же.
Подполковник встал со стула.
— Если ваш сын пробудет еще долго на воле, то, пожалуй, докатится до убийства. А за убийство — смертная казнь, гражданка Черенок.
Женщина пошатнулась, оперлась рукой о стол.
— Я видела его несколько дней, назад… случайно… на вокзале. Позвала, но Яша не оглянулся. Он вскочил в вагон поезда. У него много друзей в Ирпене, в Ворзеле…
«Опять указание на пригород, — подумал Семен Игнатьевич. — Но что же такое «б.с.»?
* * *
Услышав о Черенке, директор школы приложила руку к виску, словно у нее разболелась голова.
— Вы хотите знать, почему мы его исключили из школы? Пожалуйста. Вот вам такой случай. Это произошло, когда Черенок был еще в шестом классе. С ним на парте сидел отличник Витя Мухин. Яша тогда учился неплохо, но хуже Вити. И за это он возненавидел Мухина. Потом выяснилось, что это он заливал чернилами тетради Мухина, вырывал из них листы. Когда Мухина вызывали к доске, Яша бросал в него бумажные шарики, мешая отвечать урок. Подобные пакости он причинял и другим ученикам, а те, случалось, колотили Черенка. Однажды он украл у Сени Пончика разноцветный карандаш. Тот решил посчитаться. Подкараулил Яшу по дороге в школу и поколотил его. За Яшу вступился Витя Мухин. Одним словом, завязалась драка уже между Сеней и Витей. А Яша стоял в стороне до поры до времени. Потом, улучив момент, вложил камень в руку одного из мальчиков. Думаете, в руку своего защитника? Ничуть не бывало. Чувство благодарности вовсе чуждо Якову Черенку. Так вот, он вложил камень в руку Сени, и тот в пылу драки проломил голову своему противнику. Витя Мухин после этого стал хуже заниматься. Сеню Пончика наказали, а Яше ничего не было. Он все отрицал. Тут вам весь Черенок. Я беседовала с матерью Яши, но она постоянно защищала сына.
* * *
Семен Игнатьевич Котловский созвал совещание. Старший лейтенант Кротов и лейтенант Цябцев доложили о ходе поисков.
— Итак, мы можем предположить, — сказал в заключение подполковник, — что шайка скрывается где-то в пригородах Киева, вернее всего, в Ириене или Ворзеле. Кроме показаний родителей Леско и Черенка, у меня есть такие соображения. В этих дачных поселках, куда ежедневно приезжают и откуда уезжают десятки людей, очень удобно скрываться. Затем, там много продовольственных ларьков, по которым Черенок специализировался. Нужно поехать на место; может быть, там нам станут понятными эти загадочные «б.с.»
5
В цехе часто появлялся пенсионер Кузьма Владимирович. Никто не сказал бы о нем «старик». Это был именно «старичок», маленький, бойкий, с впалой грудью, похожий на петуха с ощипанной шеей.
— Директоров любимчик, — зашептал Леня Юре Чижику, когда старичок появился и в цехе. — На пенсии, а имеет право в любое время посещать цехи. И квартиру ему дал завод. Все говорят: «Новатор!» Подумаешь, — новатор. Придумал, как лучше подлизываться к начальству. Делать ему нечего, вот и прыгает по заводу. Одного клюнет, другого…
Старичок еще издали кивнул Кузьме Ерофеевичу:
— Как живешь, тезка? Да у тебя новый ученик?! Не обижаешь? А то я тебя знаю, старый ворчун.
— Их обидишь, — обмахнулся Кузьма Ерофеевич.
Старичок остановился перед Леней, склонил набок голову, присмотрелся. Леня повернулся к нему спиной. Он чувствовал себя неспокойно под пристальным взглядом старичка.
— Чего стали, папаша? Что я, на выставке, что ли?
Кузьма Владимирович улыбнулся и спокойно сказал:
— Наслышан я о тебе. Не меняешься. Все пилось бы да елось, да работа б на ум не шла. Папаша выручит, так, что ли? Ничего, доберусь я до него, хотя он и большой начальник. — Юрины щеки вспыхнули. Он подскочил к Кузьме Владимировичу:
— Что вы к нему пристали? Если нечего делать дома, так показали бы лучше, как надо работать. А то укоряют все…
Внутри у него что-то оборвалось. «Без году неделя на заводе и уже наскандалил», — с отчаянием подумал Юра.
Но, к его удивлению, тот не обиделся, а предложил:
— Пойдем к станку, сынок. Что тебе непонятно?
Юра был готов сгореть со стыда. Он поплелся за мастером, смущенно бормоча:
— Да я… вообще… ничего…
— Вообще?.. Горяч ты, сынок. Ишь, за приятеля как вступился. Ты сколько времени на заводе?.. Маловато… Ну, если что невдомек, спрашивай меня, — и сердито глянул на Леню. — Вот этого парня не люблю, в глаза говорю — не люблю. Целый год на заводе лодырничает и всех хает. Известно, трутни горазды на плутни…
Кузьма Владимирович взъерошил хохолок седых волос и, глядя Юре в глаза, произнес:
— Только понадежней дружков выбирай.
Он пошел дальше по цеху, часто останавливаясь у станков. Краем глаза Юра увидел, как он что-то объяснял Мише, горячился, сам становился к станку.
Юре очень хотелось послушать, о чем говорил этот взъерошенный, заботливый старичок.
* * *
В субботу перед концом смены к Юре подошел Миша.
— Ты уже встал на учет в нашей организации?
— Нет еще, — ответил Юра.
— Ну, все равно. Завтра у тебя срочных дел нет? Тебе говорили, что наши рабочие коллективно строят дом? Хочешь, я нарисую план дома? Замечательный будет домище! Там завтра работает комсомольская смена. О чем тебя попрошу? Поработай пару часов на стройке. Понимаешь, мы помогаем Петровне. Ты ее знаешь — нормировщица. Не откажешься?.. Ну. и хорошо.
Миша ушел. Тотчас же к Юре подскочил Леня.
— Кто она такая — Петровна? Не знаешь? То-то. Говорит — нормировщица. Стали бы они для простой нормировщицы стараться! Не иначе, как тетка шефа или мать главинжа.
— Тогда не пойдем на стройку — и точка! — резко оказал Юра.
Леня всполошился:
— Очумел? Ты потише.
Юрины глаза стали злыми:
— Боишься?
— Тоже придумал — боюсь… Связываться неохота…
Утро выдалось пасмурное. Накрапывал дождик. В воздухе пахло пригорелым молоком.
Юра и Леня вышли из автобуса на окраине города. В Киеве есть такие окраины, похожие на села, — тихие, с зеленью садов и огородов.
Недостроенная коробка будущего здания показалась Юре похожей на сооружение из детских кубиков.
— А, Юра! Иди сюда! — закричал Миша. — Мы тут тебе учительницу выделили. Разрешите представить: каменщица-самоучка Нина Незивайко… А Леня будет работать со мной.
— Пошли, я тебе все объясню, — сказала Нина.
Юра послушно последовал за девушкой.
— Ты у нас на заводе давно? Какую школу кончал? Куда поступал? У нас тебе нравится? — так и сыпала вопросы Нина.
Они подошли к штабелю кирпичей, у которого хлопотала худенькая девушка.
— Будешь вместе с ней подавать мне кирпичи, — приказала Нина Юре. — Познакомься.
Юра ощутил в своей руке узкую, чуть шероховатую ладонь.
Как он ни старался, Майя — так звали худенькую девушку — подавала кирпичи намного быстрее. Юрино самолюбие было задето. Он заторопился и разбил несколько кирпичей.
— Фу, какие дырявые руки! — с досадой сказала Нина Незивайко.
Юра не обиделся. Очень уж дружелюбно смотрела на него Нина.
Постепенно он стал опережать Майю. Юра и не заметил, что девушка просто старается не обгонять его! Он несколько раз посмотрел на Майю. У нее были русые косы, какое-то удивительно чистое лицо, и вся она была нежная и чистая.
Он не знал, как заговорить с девушкой, и, наконец, осмелился спросить:
— Кто такая Петровна?
— Это моя тетя… и мама. Она меня удочерила, — пояснила Майя и указала глазами на пожилую женщину в клеенчатом фартуке, укладывающую кирпичи. Руки женщины двигались быстро и проворно. Видно было, что у нее любая работа спорится.
В перерыве Юра отвел в сторону Мишу и стал расспрашивать о Петровне.
— Чудак человек, как можно не знать Петровну? — удивился Миша. — На нашем заводе вся ее семья работает… и работала. До войны ее муж был лучшим слесарем. В сборочном цехе работали ее братья. А потом война началась — сам знаешь. Муж ее в ополчении был. У самого завода убит. Братья погибли на фронте. Дочь Машу и мать — бомбой… Одна осталась. После такой семьи — одна. Потом Настю к себе взяла. Родных Насти, коммунистов, фашисты расстреляли, а девочку Петровна с немецкой машины стащила…
Юра живо представил себе военный Киев, Крещатик весь в развалинах и Петровну, которая прижимает к себе девочку.
Миша продолжал:
— Когда пришли наши, вернулся из эвакуации Кузьма Владимирович. Он забрал Петровну и Настю к себе. Случайно нашлась племянница Петровны — Майя. Сейчас у них в семье еще два мальчика. Их Петровна тоже усыновила. Майя на нашем заводе работает в штамповочном, Настя — в сборочном. Вот тебе и вся биография Петровны. Ясно?
— Ясно, — сказал Юра. У него странно блестели глаза. Вспомнились Ленины слова: «Тетка шефа или мать главинжа».
А Леня тут как тут:
— Юра, пошли, курнем.
— Отстань, — процедил сквозь зубы Юра.
Леня заглянул ему в лицо и отошел.
— Белены объелся? Ну и пожалста.
«Какой же он негодяй! Клеветать на такого человека! Вот негодяй!» — думал Юра. Но, взглянув на удаляющуюся фигурку, смягчился: «Может быть, он и сам не знал?» Вспомнил, как Леня ему сочувствовал, и подумал о себе и Лене почему-то в третьем лице: «Один из них поможет другому исправиться, побороть в себе злое, завистливое, и это будет победой для них обоих…»
Юра пробыл на стройке до четырех часов. Он говорил вместе со всеми «наш дом» и научился ловить на лету кирпичи.
К автобусу пошли все вместе. Юра несколько раз оглядывался. Вон он, виднеется в зелени пока недостроенный их дом.
На площади Льва Толстого распрощались. Майя пошла с Петровной. Юра стал за деревом и смотрел им вслед.
Юра заметил у Майи легкие, как пух, волосики, — это было так трогательно. И самое главное — Яшкины слова: «Каждый за себя, а за тебя никто» — потускнели в его памяти, словно их начали вытравлять химическим раствором. Юра понял: эти люди помогут в беде. Станут рядом, как сейчас, передавая кирпичи, и он почувствует локоть Миши, коснется Майиной руки.
Страх перед Яковом, блеском ножа еще жил в его сердце, но и он отступал.
Только теперь Юра заметил, что воздух в городе не похож на воздух окраины. Здесь тоже было много деревьев и цветов, но не чувствовалось дыхания земли, скованной панцирем асфальта. Он подумал, что всегда помнил запахи ландыша, сирени, аромат цветущих деревьев, но не замечал, как неповторимо пахнет земля…
* * *
Шли дни… Уходило лето…
Как-то, идя на работу по улице Горького, Юра поднял пожелтевший листок — первую записку осени. Листок был окружен ярко-желтым сиянием. Юра спрятал его в страницы записной книжки.
Кузьма Ерофеевич, встретив Юру, как-то по-особенному, многозначительно посмотрел на него и почти торжественно произнес:
— Сегодня пофрезеруешь самостоятельно.
Показав, что надо делать, он отступил в сторону и жестом пригласил Юру к станку.
Юра взялся за рукоятку, пустил станок и принялся за дело. Вначале металл казался неподатливым, руки дрожали, а тут еще Миша дышал над ухом. «Как он не поймет, что мешает», — с раздражением подумал Юра и с надеждой взглянул на Кузьму Ерофеевича, но тот был настроен благодушно, не заворчал, как бывало: «Тут не цирк и зрителей не требуется».
Миша повернул голову, полузакрыл один глаз, прислушался.
— Нет, не поет у тебя станок, — сказал он Юре.
— Как это станок может петь? Что он — тенор? — обиделся Юра. — Гудит себе, как все остальные.
— Сказал тоже — как все остальные. Петь-то может, и не поет, а голос имеет свой особенный, — заметил Кузьма Ерофеевич. — Вот поработаешь на нем с мое, узнаешь.
От напряжения у Юры скоро заболели плечи. Еще не втянувшись в работу, он постоянно чувствовал усталость. Утром не хотелось вставать, тяжелые веки слипались, руки висели, как плети, и только после умывания сонливость немного проходила. Каждый раз, когда наступал обеденный перерыв, он с облегчением думал, что половина смены уже закончена. Но, вспоминая, как он зарабатывал деньги на рынке вместе с Колей Климовым, Юра готов был работать в три раза больше, до полного изнеможения, лишь бы никогда не вернулось то время…
— Наконец Кузьма Ерофеевич, наблюдавший за фрезой, мигнул Юре: выключай! Юра вставил вместо фрезы развертку и расчистил отверстие, расточенное Кузьмой Ерофеевичем. Миша привел тельфер и помог снять деталь.
Это была первая деталь, которую Юра обработал своими руками. Недавно она лежала ржавая и безучастная, а теперь блестит, отражает свет, станки, людей. И такой ее сделал Юрий Чижик!
* * *
В новом заводском клубе с красивыми портьерами и строгими рядами стульев начался вечер молодежи. Лектор рассказал о новостройках страны и славных делах комсомольцев.
Потом включили радиолу, и понеслось:
«Вчера говорила: навек полюбила,
А нынче не вышла в назначенный срок…»
Юра протолкался поближе к группе девушек из штамповочного. Он был уже совсем близко от Майи, но она не смотрела в его сторону.
— Майя, — тихо позвал он.
Девушка повернулась.
— Здравствуйте, Майя!
Она кивнула головой в ответ, но тут из-за ее плеча выглянуло лицо Насти.
— Пошли танцевать.
Сестры всегда танцевали вдвоем. Все попытки заводских танцоров разбить эту пару ни к чему не приводили. Майя, увлекаемая сестрой, растерянно посмотрела на Юру.
В это время его кто-то схватил за плечо.
Юра обернулся и увидел Леню.
— Пошли со мной. Выпьем за твое приобщение к рабочему классу.
Юра отказался. Леня посмотрел на него умоляюще и зашептал:
— Не напускай на себя «вид», прошу тебя. Я же хорошо знаю, какой ты на самом деле. Поэтому и прошу тебя. Другого не стал бы, а тебя прошу. Идем…
Юре вдруг стало жалко Леню. Никто с ним не дружит, все от него отмахиваются, как от слепня. Пусть он в чем-то виноват, и все же его жалко. И потом… Юре — очень хотелось услышать, — какой же он на самом деле?
— Далеко идти?
— Кафе за углом. Мы скоро.
Они выпили по две рюмки коньяку. Леня долго говорил о своей привязанности к Юре, о том, что желает ему только добра. Он говорил громко, размахивал руками:
— Ты добрый. Ты один понимаешь меня… А они не понимают… Потому что ты умный, а они… Ты, Юра, друг. Будем дружить всю жизнь. Мы такие дела совершим, что — ого! А они… Понимаешь?
Юра машинально кивал головой и ничего не понимал. Перед глазами стоял сизый туман, и сквозь него пробивался огонь люстр. Ему стало неприятно. Вспомнилось, как сидел в кафе с Колей и Яшей. Леня чем-то напоминал их… И чего он так размахивает руками?
А Леня говорил все быстрее:
— Ты как только к нам пришел, я сразу понял… Да, да. Я потянулся к тебе. Ведь больше не к кому. Что они? Ты сам не знаешь, какой ты… Понял?
Юра из всего сказанного Леней понял только то, что сам не знает, какой он. А Леня знает…
Они вернулись в клуб.
Юра шагал словно на ходулях. Все вокруг казались маленькими и расплывчатыми. Плясали лампы, кружились стены и пол. Юра блаженно улыбался.
— Кружитесь? Танцуете? Ну и танцуйте.
— Юра, ты тоже иди вальсом, — подзуживал Леня.
Юра обнял какую-то девушку и попытался закружиться с нею в вальсе, но ноги не слушались. Девушка оттолкнула его. Обидевшись, он протянул руки, чтобы поймать ее. На пути встал парень.
Подскочил Леня, засуетился, выпятил грудь и крикнул:
— Смойся, мелочь пузатая!
Парень не уходил с дороги. Юра возмутился. Да что они, с ума сошли? Ведь это же он, Юрий Чижик. Его дружбы добиваются Миша, Кузьма Владимирович. Да о нем завтра же узнает весь завод. Что завод? Весь город… Вот он какой, — он все может…
Он оттолкнул парня, а заодно опрокинул и стоявший рядом столик.
— Дай ему по зубам! А то у меня рука болит, — петушился Леня, гордо поглядывая вокруг, какое впечатление произвели его слова.
Леню и Юру схватили три паренька с красными повязками на рукавах.
— Как вы смеете? Да знаете, кто я? — кричал Леня пытаясь вырваться.
— Знаем, знаем, — насмешливо сказал один из дружинников. — Получишь пятнадцать суток за хулиганство.
Юра увидел, как противно затряслись щеки дружка. Леня захныкал:
— Я не виноват, ребята, честное слово. Я никого не трогал, это все он, и столик он опрокинул. За что меня?
— Ладно. В милиции разберутся. Получите оба.
«Пятнадцать суток? Мне?» — В голове у Юры сразу просветлело. Он вспомнил, как, услышав об указе, сам говорил: «Правильно. Так им и надо».
Он не сопротивлялся, не просил. Молча пошел с дружинниками.
Вдруг откуда-то появилась Майя.
— Отпустите, ребята. Он больше не будет.
Ребята заколебались. Все-таки дочь Петровны.
Леня воспользовался их раздумьем и исчез.
Майя взяла Юру за руку и вывела из клуба. Она ничего не говорила.
Матовый свет фонарей мягко лежал на рыжих деревьях. А над головой висела полная круглая луна, словно кто-то забросил в небо один из светящихся фонарей.
Они прошли в парк Шевченко и сели на скамейку.
Ветер шелестел в сухих листьях.
Юра прошептал:
— «В багрец и золото одетые леса…»
Свежий ветерок выдул из его головы остатки хмеля.
— Прочтите… — попросила Майя.
Он прочитал стихи об осени.
— Еще…
— О дожде. Ладно? «Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам…»
Юра читал стихи поэта Гончарова тихо, стараясь не привлекать внимание прохожих.
«Я сегодня дождь,
уйду походкой валкой,
Перестану, стану высыхать.
…А наутро свежие фиалки
Кто-то ей положит на кровать».
— Никогда не представляла, что дождь может быть таким, — задумчиво произнесла Майя, — Таким человечным.
На плечо девушки упал листок. Майя не сняла его. Глаз ее не было видно в тени ресниц.
— О чем ты думаешь, Майя?
— Так. Обо всем.
Девушка, встала.
— Я провожу. Можно? — спросил Юра.
Навстречу им, пошатываясь, спотыкаясь, шел пьяный человек и орал песню. Юрино приподнятое настроение вмиг исчезло. Он не мог отвести
глаз от пьяного. Так вот каким был он сам недавно! Это только ему тогда казалось, что он стал сильным и значительным, а другие видели его другим — жалким и слюнявым. И Майя видела…
Краем глаза он успел заметить мимолетный насмешливый взгляд девушки и опустил голову. Поняв, что творится с Юрой, Майя крепко сжала его руку.
Вдали сверкала телевизионная вышка, вся в красных и зеленых огнях, словно праздничная елка.
— Знаешь, Юра, — воскликнула Майя, — давай в первый же дождь погуляем по улицам. И — чур — без зонтика! — Она спохватилась и с досадой добавила: — Я погуляю, а ты как хочешь.
Они подошли к ее дому. Навстречу им из-за угла вышло двое парней. Юра узнал в одном из них Колю Климова.
Страх, противный судорожный страх на миг охватил его. Но или потому, что рядом была девушка или по какой другой причине, он не побежал и даже не отвернулся. Он выставил левое плечо вперед, закрывая собой Майю.
Парни, не взглянув на него, прошли мимо…
И вдруг Юра понял, что угроза Яшки и его дружков не осуществится. Они только запугивают слабонервных. «Сами всех боятся», — так сказал ему подполковник. Как же он, Юра, этого не понимал раньше? Ведь бандиты, как мелкие грызуны, только высматривают легкую добычу и вечно всех боятся: милиционера, дворника, прохожего — даже одинокого, если он смелый.
Юра пришел на завод за два часа до начала вечерней смены, — дома не сиделось. Вахтер в проходной сказал ему:
— Тебя просили, как только придешь, зайти в комсомольский комитет к Чумаку.
Юра удивился: что за официальность? Неужели Миша не может поговорить с ним в цехе? Но воспоминание о вчерашнем дне лежало тревожным грузом на сердце: «Из-за этого…»
В комитете комсомола Миша был один. Его узкое лицо еще больше вытянулось, наверное потому, что на нем не было привычной улыбки. Он указал рукой на стул, и Юра послушно сел. Миша походил по комнате, поглядывая на него исподлобья, ожидая, что он заговорит первый.
Юра молчал. Ему просто нечего было сказать.
— С какой это радости ты напился? — спросил наконец Миша.
— Ты бы хоть о нас вспомнил, — снова заговорил Миша. — Всех опозорил. Подумал об этом?
Что мог сказать Юра? Он тогда ни о ком не думал, и Миша это знает.
— Может быть, это все затея Лени? — допытывался Миша, хотя меньше всего ему хотелось, чтобы Юра взвалил вину на другого.
— При чем тут Леня? — пробормотал Юра.
«Все же я не ошибся в нем», — подумал Миша с облегчением и сказал:
— Леня остался опять в стороне. Это он умеет делать. Но мы все равно решили вызвать его отца в партком. Там с ним как с коммунистом поговорят. Попробуем еще и эту меру. А тебе придется держать ответ перед комсомольским собранием. Ребята очень злы, так что подумай обо всем как следует.
Он подошел к Юре, положил руки ему на плечи.
— Теперь иди.
Миша легонько подтолкнул Юру, и тот вышел.
Он быстро шел по улице. «Что случилось? Ничего особенного. Поговорят со мной на собрании. Подумаешь, как страшно…»
Но где-то в этих мыслях скрывалась фальшь, и Юра опять и опять спрашивал себя: «Что случилось?» Он выискивал фальшь в своих рассуждениях. И совсем это неправда, что он не боится комсомольского собрания. Ему даже страшно идти сегодня в цех: как он войдет, как поздоровается, что скажет Кузьме Ерофеевичу?.. А потом будет собрание. Его поставят одного перед всеми.
Юра представил себе строгие лица, колючие глаза, сотни глаз, устремленных на него. Там будет Майя…
От этой мысли тоскливо замирало сердце. Он не хотел думать о собрании, ускорял шаг, пытаясь уйти от воспоминаний, а они догоняли его. Юра пошел к Днепру, побродил по склонам, присел на скамейку. В сотый раз открыл свой чемоданчик, где лежал завернутый мамой завтрак. «Как рассказать ей обо всем?..»
Юра резко поднялся со скамейки и устремился к Крещатику. Но, чем дальше он шел, тем шаги его становились все более медленными и вялыми. От себя не убежишь. Нужно идти на завод… Он подумал о Мише, о Кузьме Ерофеевиче. Удалось ли утром починить сверлильный станок? Прибыла ли документация на детали?
Юра представил, как лучи солнца сверкают на металле, как рокочут станки, и Кузьма Ерофеевич тыльной стороной ладони вытирает пот. Он смотрит строго, взгляд какой-то чужой, холодный…
Ну ладно же! Не один завод на свете. Вон на «Продмаше» тоже требуются расточники. Можно хоть сегодня приступить к работе. Он придет и скажет Мише как бы между прочим: «А я ухожу на «Продмаш». Миша растеряется и забормочет…
Нет, Юра честно признался себе, что Миша не забормочет, а презрительно посмотрит на него и подумает:
«Испугался. Бежит. Скатертью дорога».
А что скажет подполковник, Семен Игнатьевич?
* * *
Комсомольское собрание было бурным и долгим.
— Чижик опозорил нас всех, — говорили молодые рабочие. — Наказать его надо так, чтоб запомнил.
— Я понимаю… — сказал Юра, глядя в пол. — Я виноват, напился, хулиганил…
С последнего ряда на него смотрела Майя. Ее губы шевелились, словно шептали что-то…
Юра получил строгий выговор с занесением в личное дело.
* * *
В Ворзеле, неподалеку от вокзала, стоял ларек. Это было ничем непримечательное строение. Ассортимент товаров в нем был более чем скромный. Однажды, к великому удовольствию дачников, к ларьку подъехала машина, до верху груженная ящиками.
У ларька никогда не было сторожа. Ведь мимо по дороге ходили люди, на вокзале дежурили милиционеры, а ларек заливала синеватым светом лампочка.
Но в эту ночь лампочка не зажглась. Вечером какой-то паренек хотел попасть камнем в воробья, но быстрый воробей улетел, а лампочка пострадала. Паренек с непомерно длинными руками и ногами был похож на паука. Он успел скрыться раньше, чем кто-либо из слышавших звон стекла понял, в чем дело.
Позднее, когда на дачный поселок спустилась ночь, к ларьку подкрались три фигуры. В их ловких руках замок даже не звякнул.
— Быстрей, быстрей! — командовал угрюмый парень, беря ящик с бутылками массандровского муската. — Сейчас Яшка приедет.
Воры вынесли из ларька четыре ящика и поставили их в два ряда, один на другой.
На дороге показался «Москвич». Он остановился у ларька.
— Ну? — спросил Яшка, сидевший рядом с водителем, в котором один из местных отставных полковников мог бы узнать своего сына.
— Лафа! — ответил Гундосый. — Товар тут. Колька на шухере…
Он не успел закончить. Вокруг них вспыхнуло кольцо холодного белого света. Яркие лучи ударили в глаза, ослепили, забегали по ящикам, по лицам и судорожно стиснутым кулакам.
— Руки вверх! — послышался голос из-за светящегося кольца.
Трое подняли руки.
— Вылезай из машины! — приказал тот же голос.
Яшка толкнул в бок водителя, зашипел:
— Стреляй!
Тот вскинул руку и выстрелил. За светящимся кольцом послышался стон. Один фонарик погас.
Яшка закричал:
— Шпана, рви когти!
Гундосый, повинуясь голосу атамана, бросился бежать, размахивая ножом. Его сбили с ног, связали.
«Москвич» рванулся с места. На повороте Яшка вывалился из кабины и пополз по траве. Он был единственный, кому удалось вырваться из ловушки, устроенной подполковником Котловским.
СТАНОК ПОЕТ
1
Приближался конец месяца.
Юру поставили на старый станок, долгое время бездействовавший, и дали самостоятельную работу — растачивать несложные детали.
— А что я говорил? — бубнил Леня будто бы себе, но так громко, чтобы Юра слышал. — Развалину дали, а не станок.
Эти слова раздражали Юру. Хотелось назло Лене приноровиться к капризному станку, заставить его работать четко. Не так-то скоро удалось этого добиться!
Однажды, когда Юра с остервенением отбросил от себя очередную испорченную деталь, к нему подошел Миша.
— Как идут дела?
— Голова пока цела, — недовольно ответил Юра.
— И то хорошо, — шутливо сказал Миша и уже серьезно добавил: — А брюзжать, как Леня, перестань — не получается у тебя… Не все сразу. Так вот… Да, кстати, знаешь, какой сегодня день?
Юра недоуменно повел плечами.
— Сегодня ты получишь свою первую зарплату, — торжественно сказал Миша.
После смены Миша взял на рабочих цеха по доверенности зарплату и стал выдавать ее. Первым подскочил Леня:
— Гони мои деньжата.
Миша поднял на него взгляд.
— Был бы ты на работу такой же скорый.
— А он и так скорый. Даже чересчур, — послышалось ворчание Кузьмы Ерофеевича. — Глядите, что натворил.
Все подошли к Лениному станку. Леня, очевидно, поворачивал резцедержатель, а отвинтить до конца рукоятку поленился. Силы же ему не приходилось занимать, и он согнул фиксатор.
— Чистый тебе буйвол по силе, а по лене — не найти равных, — вздохнул Кузьма Ерофеевич.
— Напустились! Сами будто ничего не ломали, — проговорил Леня и сплюнул под ноги Кузьме Ерофеевичу.
— А ну вытри! — угрожающе произнес Миша.
— Чего, чего?
— Вытри, говорю. — Миша подошел вплотную к Лене. Тот отступил. — А зарплату получишь позднее. Сначала попросим, чтобы с тебя удержали за фиксатор.
— Не имеешь права!
— В правах-то он разбирается, будто юрист, — проговорил пожилой рабочий.
— Идите вы все к черту! Я уйду с завода! — Леня сильно хлопнул дверью.
Настроение у всех испортилось. Особенно неприятно было Юре. Казалось, что Леня нарочно полез без очереди, чтобы омрачить ему такой день.
— А ну его, этого лоботряса, — заговорили рабочие. — Пусть уходит, если думает, что ему где-то приготовили легкую жизнь. На зависти да злобе далеко не уедет.
Миша продолжал выдачу зарплаты. Делал он это с душой. Каждому рабочему что-нибудь говорил.
Юра с волнением ждал, когда назовут его фамилию.
— Чижик, — наконец выкликнул Миша и переглянулся с Кузьмой Ерофеевичем. Тот вынул из кармана металлическую коробочку.
— Поздравляем тебя, Чижик! Теперь ты, можно сказать, настоящий рабочий.
Кузьма Ерофеевич крепко пожал Юре руку и вручил коробочку. Это была незатейливая самодельная шкатулка. На крышке написано: «Первая зарплата».
Юра растерялся. Он вертел в руках шкатулку и говорил без конца:
— Спасибо, спасибо, спасибо.
2
Юра подошел к большому зданию на площади Богдана Хмельницкого. Все здесь было так же, как и в тот день, когда он познакомился с подполковником Котловским. Смотрел вдаль грозный гетман с высоты вздыбленного коня. Прыгали воробьи, фотограф снимал группу экскурсантов.
Вспомнил Юра, с какой тревогой входил он первый раз в управление милиции, и улыбнулся. Позвонил по телефону подполковнику Котловскому и услышал в трубке знакомый хрипловатый голос:
— Слушаю вас. Подполковник Котловский.
— Это я, Чижик, — взволнованно произнес Юра и затих. Сейчас Семен Игнатьевич скажет: «А, Юра Чижик! Почему так долго не приходил?»
— Какой Чижик? — послышалось в трубке.
— Ну, Юрий Чижик, — сказал Юра, и настроение у него изменилось.
— По какому делу? — сухо спросил тот же голос. — Говорите, пожалуйста, внятно, гражданин Чижик.
Юра уныло объяснил:
— Чижик, Юрий Викторович… по делу шайки Яшки — Волка. Я вам принес деньги, долг.
— А, Юра Чижик! Заходи, заходи, — послышались долгожданные слова.
Он прошел по длинному коридору к кабинету подполковника. Из кабинета выходил высоченный старший лейтенант, и в открытую дверь Юра увидел Котловского. Семен Игнатьевич кивнул головой, и Юра подошел к нему.
В правой потной руке он держал скомканные бумажки.
— Вот долг принес, товарищ подполковник. Вы мне из фонда давали.
— Прежде всего, здравствуй, — сказал Семен Игнатьевич, протягивая ему руку.
Юра поспешно сунул деньги в карман и пожал подполковнику руку. Потом вынул деньги и положил на стол.
— Как живешь, Чижик? Кузьма Владимирович говорил, что из тебя, может быть, выйдет толк, — Он заметил недоумение у Юры на лице и спросил: — Обиделся, что не сразу узнал тебя? Бывает. Дел много.
Юра не успел рассказать о своих новостях, как раздался телефонный звонок.
— Введите, — сказал подполковник в трубку и подмигнул Юре: — Сейчас увидишь старого знакомого.
Милиционер ввел в кабинет Колю Климова. Арестованный заискивающе улыбнулся.
— Добрый день, гражданин подполковник. Вот и соседа у вас встретил. Привет, Юра!
Он протянул руку, но Юра спрятал свою в карман.
Коля не обиделся. Он жалобно подмигнул Юре и обратился к Котловскому:
— Хоть у него спросите. Я ж раньше никогда… Он меня знает…
— Знаю. А лучше бы не знать, — сказал Юра и повернулся к подполковнику: — До свидания, Семен Игнатьевич. Большое спасибо.
— До свидания. Смотри же, не подведи.
Юра мялся, не уходил. Наконец проговорил вполголоса:
— Семен Игнатьевич, знаете, как я благодарен вам! Если от меня что нужно, только скажите.
— Хорошо, — серьезно ответил подполковник.
3
На заводе Юру ожидала новость. На месте старого разваленного станка, на котором он работал; стоял новенький «СЗС», точно такой же, как у Миши и у Кузьмы Ерофеевича!
— Будешь теперь работать на нем, — сказал Миша.
— Спасибо, — Юра с силой потряс ему руку.
— Спасибо говори не мне, а Кузьме Владимировичу. Если бы не он, не видать бы тебе нового станка еще месяц. Наш старичок выступил на партийном собрании и так сказал, что все попритихли. Забыли, мол, о том, как сами начинали работать. Юнцов, которые только учатся, ставите на старые станки. А там ведь и опытный рабочий норму не вытянет. Кузьме Владимировичу никто не возражал.
— А что, его боятся, да? А он депутат? — спросил Юра.
— Он вообще замечательный человек. Старый большевик. Всю жизнь проработал на этом заводе. Когда уходил на пенсию, в приказе записали: «За безупречную долголетнюю работу занести навечно в списки коллектива завода». Навечно! Как Героев Советского Союза. Вот он какой — наш старик! А ты заметил, как с ним Кузьма Ерофеевич разговаривает? С уважением. Они друг друга давно знают. Когда-то Кузьма Владимирович был в парткоме и за нашего мастера заступился, против директора, своего друга, пошел. Он всегда за правду. Он тогда директору прямо так и сказал: «Не кричи. Правда — она говорит тихо. Ее голос хочу услышать. И помни: у нас одна правда. И для тебя, и для беспартийных».
Юра внимательно слушал Мишу и думал: «Может, и у них будет такая дружба? Чтоб на долгие годы и по-настоящему…»
— Заговорил я тебя, — спохватился Миша, — пора работать.
Юра запустил станок. Он чувствовал под рукой успокоительный холодок металла. Ему очень хотелось выработать сегодня полную норму. Но станок что-то не слушался. Сломались два резца. Вскоре из отдела технического контроля вернули забракованную деталь. Юра начал нервничать.
— Позвал бы меня, — проговорил Миша, словно выросший за спиной. — Всю жизнь учусь настраивать станок и все равно всякое бывает. Тут еще столько неизведанного.
Он остановил Юрин станок.
— Шпиндель убери, — объяснил Миша, — так ничего не выйдет. Оправку ставь в летучий суппорт. Мы пользуемся им редко, а он для этой детали — в самый раз.
Юра последовал совету товарища. Все стало на свои места. Можно легко расточить и первое, и второе отверстия. И не надо ни поворачивать стол, ни двигать деталь.
Юра снимает одну деталь за другой. Он уверен — сегодня, наконец, даст полную норму. Увеличивает обороты резца. Станок гудит все ровнее, все ритмичнее. Руки двигаются точно, словно играют. Гудение станка становится тоньше… И происходит чудо — станок поет!
— Миша! — кричит Юра. Его лицо сияет. — Миша!
— Что случилось? — спрашивает Миша.
— Послушай.
Миша обходит станок со всех сторон, тревожно говорит:
— Ничего не слышу. Перебои?
— Да поет ведь станок-то. Поет! Помнишь, я спорил с тобой. А он поет!
Миша понимающе улыбается:
— Как же это я сразу не расслышал? Конечно, поет.
Радость поселилась в Юриной груди. Теперь он сам все может. Уверенно снимает со станка тяжелые блестящие детали, которые совсем недавно были чугунными чушками. Это он, Юрий Чижик, создал своими руками девять металлических деталей!
Как-то к Юре подошел начальник цеха. За ним по пятам следовал худенький паренек лет пятнадцати.
— Это девятиклассник из подшефной, школы. Они будут проходить практику у нас на заводе, — сказал начальник цеха Юре и повернулся к пареньку: — Прикрепим тебя к Юрию Викторовичу. Поучишься у него…
Паренек быстро взглянул на Юру, потупился.
Они стояли друг против друга: растерянный лупоглазый девятиклассник и «мастер», не очень-то отличающийся от своего ученика, с ярким румянцем на щеках и со странно сосредоточенным взглядом. Но было в его лице и что-то такое, что делало его старшим — какая-то трудно добытая уверенность в себе, озабоченность.
«Учитель. Вот я и учитель. И когда только успел? — с удивлением подумал Юра. — Я, конечно, поделюсь с ним всем, что знаю сам».
Он уже волновался о судьбе ученика, видел трудности, которые ожидают его. Ну что ж, беспомощный птенец — это только птенец. Птицей станет лишь тогда, когда научится летать. Чем скорее мальчик поймет это, тем будет лучше для него. А он, Юра, постарается помочь, расскажет не только о станке…
Юра вдруг увидел весь цех — для этого теперь ему не надо было обводить его взглядом, достаточно было обратиться к памяти: ряды сверкающих рокочущих станков и умные руки людей над металлом. Он увидел всех: Мишу, Кузьму Ерофеевича и хорошую, добрую Майю… Они были рядом с ним…
Юра улыбнулся своему ученику ласково и чуть-чуть покровительственно.
— Не робей, — сказал он. — Здесь тебе будет хорошо.
Юра вышел из проходной завода вместе с Мишей. Листья шуршали под ногами, а на деревьях они были такими яркими, словно их выковал из меди умелец-кузнец. Юре показалось: если ударить легонько по листку, он зазвенит.
Свернули на бульвар. Неожиданно Юра увидел знакомое лицо. «Может быть, показалось? Неужели он?»
— Постой, куда ты? — удивился Миша, хватая товарища за рукав.
Услышав громкий разговор позади себя, человек оглянулся. У него был нос с горбинкой, густые брови, решительный рот. Глаза смотрели настороженно. При виде Юры он вздрогнул, отвернулся и заспешил, почти побежал.
— Сдурел? — разозлился Миша. — Ну и беги ко всем чертям!
— Это же Яшка Волк, атаман… — успел бросить ему на ходу Юра.
Преследуемый свернул в первый попавшийся двор. Заметался, ища хоть какой-нибудь закоулок. Но Юра и Миша уже вбежали во двор.
Яшка повернул к ним злобное лицо.
Они продолжали приближаться.
Яшка угрожающе сунул руку в карман.
Они были уже в пяти шагах…
Яшка вытащил нож.
Они были в двух шагах…
Тогда атаман отступил на шаг и предложил:
— Даю вам полкуска… тысячу… две!..
Они не остановились.
Яшка заскрежетал зубами, лицо его перекосилось. Он замахнулся ножом. Юра перехватил его руку. Несколько мгновений их руки были сплетены. Но мускулы того, кто стоял за станком, оказались крепче. Нож упал на землю.
Юра посмотрел в глаза Яшке Волку, в бесцветные глаза под дергавшимися бровями. Эти глаза, когда-то жестокие, теперь были наполнены страхом.
— Ну и трус же ты, атаман, — сказал Юра.
* * *
Впервые опубликовано в сборнике "Янтарная комната" в 1961 году в Ленинградском отделении издательства Детская литература.
Иллюстрации Сергея Спицына.
В.Саксонов, В.Стерин
Меркурий в петлице
“ГРАНИЦА ОТКРЫТА — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!”
Вышли в Рижский залив. Тугая волна с силой ударила в скулу пограничного катера. Он вздрогнул, нос его высоко взлетел, и тут же катер провалился, подняв корму.
Моторы испуганно взревели.
— Что это? — спросил Сергей.
— Винты из воды вынырнули, — видал, как бросает! — ответил рулевой.
Водяная пыль — срезанные ветром верхушки волн — ударила в лицо. Сергей невольно зажмурился. Открыв глаза, он увидел впереди все тот же тошнотворно серый качающийся горизонт, мокрую кожаную спину рулевого и справа, совсем рядом — впалые щеки старшего инспектора таможни. На щеках и козырьке фуражки капли воды, глаза прищурены — Глаузинь протирал очки. Потом надел их — и Сергей встретил спокойный строгий взгляд стариковских глаз.
Ему показалось, что Глаузинь собирается что-то сказать — может быть, ободрить… Сергей неожиданно для себя зло буркнул:
— Была погода как погода. А теперь…
— Штормит, — кивнул Глаузинь. — Осень!
За первые две недели работы Сергей Ястребов четыре раза выходил на пограничном катере встречать приходящие в Ригу корабли, но тогда и на Даугаве и в заливе было спокойно. И несколько часов пути до рейда пролетали незаметно.
Тогда, негромко переговариваясь со старшим наряда, Сергей смотрел на проплывающий мимо берег, и перед ним открывались пестрые картины жизни порта.
Разным людям один и тот же город западает в душу по разному. Сергей теперь не мог бы себе представить города без разлапистых портальных кранов, высоких бортов, белых мачт и смеющихся на ветру корабельных флагов.
Флаги были разные польские и ГДР, норвежские и греческие, исландские и бразильские, английские и финские…
Асфальтированные причалы порта были заполнены автомашинами, тракторами, ящиками с оборудованием, станками, приборами. А когда шли мимо Угольного района, с борта катера был виден берег, припорошенный черной пылью, и ковши мощных кранов, плывущие от железнодорожных платформ к трюмам кораблей. Челюсти ковшей разжимались, и в трюмы сыпался уголь. Угольная пыль, подхваченная ветром, иногда долетала до катера. Потом когда начинался новый район, горьковатый запах угля смешивался со свежим запахом досок, влажной коры, опилок. Низко сидящие в воде суда-лесовозы желтели палубами, плотно уставленными штабелями леса.
Сергей жил в Риге всего третью неделю, и, если бы вдруг уехал, она вспоминалась бы ему и грустноватым запахом желтых листьев, плавающих в черной воде каналов, и морским ветром, пахнущим солью, углем, машинным маслом и отсыревшими сваями причалов. Он вспоминал бы сигналы электропоездов, прорезающих город как метеоры, басы работяг-буксиров, лязг портовых кранов и хлопанье флагов на мачтах.
Сергей подумал о городе мельком. Сейчас для него существовали только вздыбленный морем залив, горькие брызги на губах и качающаяся мокрая палуба катера. Она казалась теперь маленькой — намного меньше, чем тогда, когда катер стоял у причала…
— Вот он, — сказал вдруг Глаузинь. — Порт приписки — Бремен. Хлопот всегда с ними…
Сергей увидел впереди корабль: светло-серый борт, чуть посветлее воды в заливе, белые мачты…
Рядом с Сергеем стоял солдат — курил, спрятав от ветра папиросу в кулаке. Как ему удалось прикурить и как удавалось стоять, не держась за поручень, Сергей не понимал. Но, поглядев на солдата, он вдруг испытал такое чувство, будто не был год назад демобилизован, а просто переведен в другую часть и продолжает службу. Правда, теперь у него в петлицах не танк, а два твердо перекрещивающихся жезла с распахнутыми крыльями — символ Меркурия, бога торговли…
И тут же Сергей с досадой подумал, что поднимется на борт западногерманского судна довольно измотанный этим непривычным “переходом”.
— Границу откроете вы, Сергей Александрович, — сказал Глаузинь. Сергей кивнул, поправил фуражку, подтянулся. Потом вцепился в поручень — при развороте катер качнуло так, что палуба ушла из-под ног.
Сергей поднял голову: медленно проплывали на корме теплохода выпуклые буквы — “Редер”…
С подветренного борта был уже подготовлен штормтрап.
Борт надвигался, рос, а когда катер подошел к нему почти вплотную, встал высокой стеной, которая то опускалась, то поднималась.
Сергей прикусил губу и покосился на свои петлицы: ему еще не приходилось шагать на трап с ускользающей палубы, а сейчас сверху склонились любопытствующие физиономии западногерманских моряков. “Забраться на подножку вагона, конечно, легче”, — подумал он, вспомнив поезд на разъезде, тихий закат над Брестской крепостью и людей в форме с незнакомой эмблемой в петлицах, поднимающихся на ступеньки вагонов.
Тогда он никак не думал, что через год сам станет таможенником.
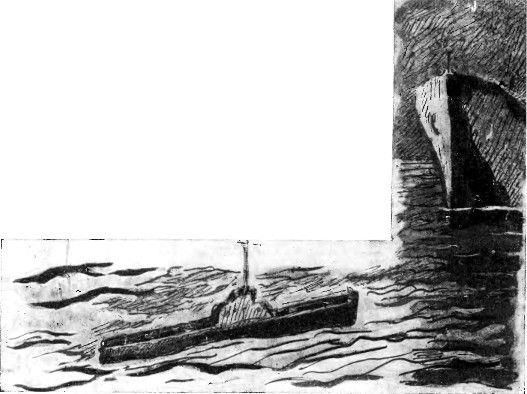
Он служил за границей и в тот вечер, когда поезд “Берлин — Москва” остановился в полукилометре от станции Брест, был счастлив, как может быть счастлив солдат, вернувшийся на Родину.
Сергей долго смотрел, как теплеет небо над Брестской крепостью.
Он бывал там и навсегда сохранил в памяти грохочущую тишину пустых казарм, каменные слезы оплавленного кирпича, застывшие судороги стальных балок.
Отсюда, где над тихим Бугом склонились ветви деревьев, начиналась родная земля.
И невысокий светлоглазый парень в форме таможенника первый сказал ему: “Со счастливым возвращением!”
Сергей спросил светлоглазого:
— А что, бывают контрабандисты?
Тот улыбнулся:
— Встречаются…
…Первым на трап вошел врач, за ним легко прыгнул лейтенант-пограничник, потом — представитель “Инфлота”, Сергей, Глаузинь и солдат. Узкий трап пошатывался. Леер, натянутый с внешней стороны, не внушал доверия. Внизу, отваливая от борта, качался катер — каким он казался крохотным!
Сергей старался подниматься уверенно, даже небрежно, не глядя вниз. Это было трудно, и к тому же здорово болело колено — неудачно прыгнул на трап.
Он ступил на палубу и оглянулся. Глаузинь чуть улыбнулся ему.
Перешагивая через высокие комингсы
[2] они прошли по узкому коридорчику к салону. Сергей думал встретить этакого морского волка, а в дверях салона показался молодой человек лет двадцати пяти, светловолосый, с румянцем на полных щеках.
— Здравствуйте, — сказал он по-русски. — Прошу!..
Распахнутый воротник бежевой рубашки придавал капитану вид благодушный, домашний, и Сергей почувствовал раздражение: по его мнению, перед государственной границей следовало одеться построже.
Они вошли в салон, сели за стол.
Отделанный пластиком, салон был убран просто и по-морскому изысканно: низкий диван под квадратными иллюминаторами, овальный стол, легкие кресла-раковины. На стене — картина: яркие цилиндры, эллипсы, зигзаги, а рядом старинный барометр в строгом черном футляре.
Сергей стал проверять документы — внимательно изучал широкие тонкие листы — коносаменты, как на флоте называют багажные квитанции.
Они были в полном порядке.
Лейтенант-пограничник просматривал пачку паспортов. Представитель “Инфлота” беседовал с капитаном: нужен ли судну ремонт, сколько требуется воды, какие продукты. Глаузинь тоже задал несколько вопросов.
В углу салона на миниатюрном письменном столике стояла игрушка: матрос в широченных клешах и берете с помпоном, сидя в гамаке, растягивал аккордеон. Под гамаком серебрилась крошечная бутылочка рома. И над всем этим — государственный флаг ФРГ.
Корабль все еще слегка раскачивался. И игрушечный матрос в гамаке не переставал качаться.
По морским традициям корабль — частица того государства, под чьим флагом он ходит. Сергей был сейчас в Федеративной Республике Германии. Он не без интереса присматривался к розовощекому капитану, от которого во многом зависит поведение команды на берегу. А Глаузинь как-то рассказывал, что в прошлый раз, когда “Редер” приходил в Ригу, двоим из его команды пришлось остаться на берегу: один был осужден советским судом за изнасилование, другой — кажется, боцман — лежал в больнице после пьяной драки со своими подчиненными.
В салоне шла вежливая неторопливая беседа, говорили на немецком. Все формальности были соблюдены, а таможенный досмотр на иностранных судах, приходящих к нам, не производится.
Сергей посмотрел в иллюминатор: корабль подходил к Экспортному району.
Капитан выдвинул вделанный в стену ящичек, достал бутылку, разлил коньяк по рюмкам:
— Прошу вас, господа…
Представитель “Инфлота” поблагодарил, выпил и стал раскуривать трубку. Лейтенант-пограничник сидел с невозмутимым лицом, словно ничего не слышал. Сергей сказал: “Благодарю”, — и принялся изучать свою записную книжку, а подняв голову, удивился: Глаузинь поднес рюмку к губам.
— Извините, господа, — встал капитан, — я должен отдать кое-какие распоряжения…
Когда он вышел, Глаузинь блеснул очками в сторону Сергея:
— Пригубите. Ничего особенного. А они из-за какой-то рюмки о “железном занавесе” кричат…
Сергей отпил, сердито подумал: “Прямо великосветский раут… Дипломатия!”
Вспомнилось, как в Москве ему сказали: “Товарищ Ястребов, нам рекомендовал вас райком партии. Согласны ли вы стать одновременно и дипломатом и часовым, или, говоря проще, таможенником?”
Он умел увлекательно рассказывать, этот человек, с которым они беседовали. Нет, советский таможенник не скучный чиновник, подозревающий в каждом путешественнике контрабандиста; настоящий таможенник — это тонкий психолог, умный и находчивый страж экономических рубежей страны. Он должен уметь точно и быстро разгадывать махинации “бизнесменов” разного толка: валютчиков, спекулянтов, фарцовщиков — этих современных рыцарей наживы.
Но пока что “дипломатия” ограничивалась вежливыми улыбками, а часовым экономических границ государства инспектор Ястребов только считался — он не раскрыл еще ни одного контрабандного дела…
В салон вошел сухощавый, невысокий моряк, поздоровался и представился: “Старший штурман”.
“Капитан прислал, чтоб не скучали”, — понял Сергей.
Старший штурман разговорился с представителем “Инфлота”. Немецкий язык Сергей знал хуже английского, но понял, что моряк спрашивает, где в Риге филателистический магазин и как связаться с местными коллекционерами.
— Хочу марками обменяться. Не угодно ли взглянуть? Флора и фауна: видите, секвойя… Американский выпуск. А вот крокодил. Думаете, какое-нибудь африканское государство? Вовсе нет — марку выпустило княжество Монако! Не забавно ли? Маленькое княжество выпускает столько марок, что доход от их продажи составляет значительную часть бюджета государства.
У старшего штурмана было несколько марок на обмен. Ему очень хотелось приобрести советскую серию “Покорители космоса”. Можно ли обмениваться марками в Риге? Где? Разумеется, не нарушая правил. Честный обмен — и никакого бизнеса.
“Чудак! — решил Сергей. — Марки — и бизнес… Всюду у них бизнес!”
— А вот, взгляните, прошу! — у старшего штурмана даже лоб покраснел от увлечения. — Очень редкая марка! Выпущена в 1903 году на острове Киттс-Невис, около Америки. Видите, Колумб рассматривает американский берег в подзорную трубу! Но трубу-то изобрели гораздо позднее… — Старший штурман рассмеялся, счастливый. — Курьез!
Вернулся капитан.
Глаузинь многозначительно взглянул на Сергея: “Пора!”
Корабль подходил к причалу.
Сергей встал. Ему опять вспомнилась Брестская крепость, разговор в Москве… Чувствуя на себе взгляды капитана, лейтенанта-пограничника, штурмана, Глаузиня — теплые, настороженные, торопящие взгляды. — он произнес торжественно и значительно:
— Государственная граница СССР открыта — добро пожаловать!
***
Глаузинь положил на рычаг телефонную трубку, протер очки:
— “Волоколамск” на подходе. Досмотр будем производить здесь, у причала.
Из окна дежурной комнаты были видны только стены портовых складов, но оба уже знали, что у всех причалов насколько хватает глаз стояли корабли.
— Где же он пришвартуется?
— Порт найдет место, — сказал Глаузинь. — Для героев найдет…
— Они спасли в Северном море команду английского танкера, а мы будем их досматривать…
Глаузинь улыбнулся.
— Положено.
Таможенники вышли из дежурной комнаты.
На большой асфальтированной площадке поблескивали лаком новенькие “Волги”, мощные “МАЗы” (такие чистенькие, аккуратные), тракторы “Беларусь”. Громоздились ящики разных размеров — на них было написано: “Рио-де-Жанейро. Советская промышленная выставка”.
“Волоколамск” встал борт к борту с пароходом “Буг”. И чтобы попасть на него, нужно было сначала пройти через первый пароход.
В кают-компании “Буга” Сергею представилось неожиданное зрелище: несколько женщин сидели на диване и в креслах. Изредка они обменивались одной — двумя фразами.
Увидев таможенников, оживились:
— Вы быстро, товарищи?
— Мы ведь из Лиепаи приехали…
— Три месяца и двенадцать дней… их не было, — запнувшись, проговорила с несмелой улыбкой молодая женщина в цигейковой шубке. И покраснела.
Это были жены моряков с “Волоколамска”.
— А героев надо встречать на рейде, — сказал Сергей.
— Конечно, — кивнул Глаузинь. — Сейчас граница уже была бы открыта. Но что поделаешь…
“Да, — подумал Сергей, — что поделаешь: раньше их пришли два корабля — из ФРГ и Норвегии. Заставить их ждать, пропустить во вторую очередь — значит нарушить законы морского гостеприимства”.
Переходя по трапу на “Волоколамск”, они увидели: почти рядом — руками можно друг до друга дотянуться — стоят двое. Стоят, смотрят, молча улыбаются. Она поднимает на руках карапуза: вот он, вот…
Между ними только борт… Между ними — состояние государственной границы…
Таможенники и пограничники старались работать быстро. Вот паспорта, вот поименный список команды, список имеющейся валюты… Глаузинь остался с капитаном, Сергей пошел по каютам: “Здравствуйте, со счастливым возвращением!” — “Спасибо”. — “Скажите, пожалуйста, какая у вас есть валюта? Хорошо, хорошо — я просто запишу”.
Радист в отутюженном костюме и накрахмаленной белой рубашке открыл чемоданы.
— Пожалуйста.
Сергеи заглянул в каждый, потом открыл шкаф, посветил фонариком по полкам, думая: “В лучшем случае я для него — надоедливый чиновник, досадная задержка перед встречей с семьей!”
— Извините, — Сергей взялся за ручку двери.
— Понятно, служба! — сказал радист и добавил нетерпеливо:
— У вас еще много работы?
— Не очень.
“А ведь это он услышал “SOS”, — подумал Сергей и ясно представил себе, как “Волоколамск”, вспарывая океанскую волну, подходит к горящему английскому танкеру…
— Разрешите?
В этой каюте жили двое. Матросы. Совсем молодые ребята.
Один водил по подбородку электрической бритвой, другой раскладывал на письменном столике иностранную валюту.
— Эти, товарищ инспектор, мои, вот — его. У обоих по пять бельгийских франков, по девять шведских крон. И все.
— Поровну, значит, тратите? — улыбнулся Сергей.
— Ага.
— А что покупали?
— Вот — по свитеру.
— Разрешите? — спросил он, открывая шкаф.
Галстуки, рубашки, два черных костюма, белье. Книги — учебники для восьмого класса…
Закрыл шкаф и еще раз огляделся. Над письменным столом висел календарь: загорелая блондинка курит сигареты “Честерфильд” над ручейком, вливающимся в синие буквы рекламы. Ниже — по-английски “сентябрь”.
— Подарок, — перехватив его взгляд, сказал обладатель электрической бритвы. — Один матрос с того танкера…
— Трудно было?
— Не легко…
— Ну, счастливо, товарищи.
— Спасибо!
В каюте третьего штурмана он сразу увидел ту, с несмелой улыбкой: ее фотография стояла на письменном столе. Иностранной валюты у хозяина каюты не оказалось.
— Сделали много покупок? — осторожно поинтересовался Сергей.
— Вот, — третий штурман слегка покраснел, выдвигая ящики шкафа. — Детские костюмчики. Игрушки.
— Извините меня, пожалуйста, — сказал инспектор, взяв плюшевого медвежонка.
Медвежонок заурчал.
Моряк улыбнулся.
— Что вы, я все понимаю!..
Сергей поднялся в кают-компанию. Глаузинь был уже здесь. Моряки поглядывали на него нетерпеливо. Сергей кивнул старшему инспектору: “Все в порядке”. И улыбнулся — так радостно Глаузинь произнес:
— Граница открыта, товарищи!
МЕСЯЦ БЕЗ ЗАВТРАКОВ
Он получил комнату в новом доме за Даугавой.
Отсюда была видна старая Рига: казалось, минувшие века, спрятавшись в узких — шириной в два шага — улочках, с удивлением глядят на современные здания, корабли на реке, мост. По вечерам эти улочки темнели первыми, а на рассвете в них еще долго таились зябкие сумерки.
Утром, открыв окно, Сергей часто видел, как туман стекает с острых шпилей, клубится в ажурных пролетах моста, тает над рекой: его словно сносило течением…
Ему нравилось идти по набережной над холодной поверхностью Даугавы, подожженной зарей, потом сворачивать в игрушечные переулочки старой Риги и выходить на перекресток, простреленный утренним солнцем, к маленькому кафе на углу. Это уже становилось привычкой.

Когда Сергей первый раз решил здесь позавтракать, официантка взглянула на него как на случайного посетителя, на новичка и, подойдя к его столику, на секунду замешкалась видно, решала, как заговорить — по-русски или по-латышски.
— У вас яичница есть? — спросил Сергей. И добавил по-латышски: — Пожалуйста.
Она улыбнулась, принесла ему яичницу и кофе.
Через несколько дней Сергей уже узнавал посетителей кафе. Сюда приходили одни и те же люди: трое крепких парней в свитерах, всегда веселые, свежие, будто только что умывшиеся ключевой водой, девушки продавщицы в черных шелковых халатах, две семьи в полном составе — с детьми, старик, похожий на рыбака.
Сергей тоже стал здесь своим, и это ему нравилось. В общем-то человек стеснительный, он чувствовал себя в этом кафе свободно.
— А чаю у вас нет? — спросил он как-то у официантки.
— Кофе лучше! — она чуть заметно пожала плечами. — Но можно приготовить и чай. Вы всегда будете пить чай? Тогда мы будем готовить для вас…
Сергей подумал и согласился:
— Кофе лучше.
Он все таки скучал без чая, особенно по вечерам, и купил небольшой никелированный чайник, а заодно и настольную лампу — надо же устраивать быт… В его комнате стояла раскладушка, два стула и ветхий письменный стол, который прежний жилец решил не брать с собой на новое место. По мнению Сергея, комната пока смахивала на караульное помещение, но с настольной лампой она все-таки приобретала “гражданский” вид.
Сергей вышел в кухню, поставил новый чайник на плиту, чиркнул спичкой.
— Здрасьте! — услышал он за спиной голос Гешки.
За несколько дней, которые Сергеи прожил в квартире, это тоже стало обычаем: как только он выходил в коридор или в кухню, появлялся Гешка, его двенадцатилетний сосед.
— Здравствуй, Гешка, — он улыбнулся.
Глаза мальчишки смотрели на него с таким доверчивым и откровенным ожиданием, словно сейчас, сию минуту, Сергей должен был проглотить шпагу или достать из-за пазухи живого контрабандиста.
— Вы мне про контрабандистов расскажете? — спросил Гешка.
Сергей вспомнил плутоватые глаза матроса с “Моники Смит”, его — даже на вид — потные руки, вытаскивающие из карманов зажигалки и нейлоновые носки. Первый “акт о контрабандном деле”, подписанный инспектором Ястребовым… Мелкое дело! Он задержал матроса, когда тот возвращался на свой корабль, — пиджак у него оттопыривался… Матрос купил фотоаппарат. Сначала твердил, что получил советскую валюту от своего капитана, а потом признался продавал в городе зажигалки и носки… Капитан заплатил штраф.
— Расскажите! — Гешка уселся на табуретке, поставив ноги на перекладину и обхватив руками худые коленки.
— Это неинтересно, Гешка. Честное слово. Лучше я расскажу тебе о “Волоколамске”. Вчера они пришли из плаванья, ты ведь знаешь, что они спасли английский танкер… — Сергей запнулся, вспомнив: Гешкин отец Гунар Мауринь пять лет назад погиб в море.
— Ну и как? — заволновался Гешка.
Но тут в кухню вошла его мать. Сергей кивнул:
— Добрый вечер, Антонина Казимировна.
— Так как же? — переспросил Гешка.
— Молодцы, всю команду спасли.
— О чем это вы? — поинтересовалась мать.
— Так, мам, о своих делах.
— А про марку ты рассказал? — Она повернулась к Сергею. — Хоть бы вы ему объяснили, Сергей Александрович…
— Кипит, — заторопился Гешка.
— Спасибо… Интересную марку купил?
— Очень. — Гешка вздохнул. — За три рубля. Но я совсем не хочу есть утром!
— Я давала ему деньги на завтраки, — продолжала Антонина Казимировна.
— Но, мама, ведь это марка…
— Колумб! — она не выдержала, улыбнулась. — Колумб, уже слышала… С подзорной трубой. Но мне от этого не легче. И я не понимаю ее ценности. Особенно, если сын не завтракает.
“Колумб! — изумленно подумал Сергей. — Такая же? Или та самая?”
А вслух сказал:
— О, это интересная марка! В каком году она выпущена? В девятьсот третьем?
— Ну да! — Гешка торжествующе посмотрел на мать: вот, мол, человек понимает — видишь, как удивился!
— А почему же он с подзорной трубой? — улыбнулся Сергей. — Ведь ее еще не изобрели, когда Колумб открыл Америку.
Гешка смотрел на Сергея широко раскрытыми глазами, потом бросился в комнату и вернулся с альбомом.
— Вот моя коллекция, посмотрите!
Сергей снял чайник с плиты.
— С удовольствием. Пойдем ко мне.
И опять подумал:
“Такая же или та же?”
Гешка положил альбом на письменный стол.
— Вот, — сказал он, — тоже интересная марка. Видите, какие Франция раньше выпускала? Это для Мадагаскара…
Сергей рассматривал бледно-зеленую марку, выпущенную метрополией для Мадагаскара: четверо “туземцев” несут развалившегося на носилках белого господина.
— Не стеснялись, — усмехнулся он. — Совсем еще недавно не стеснялись.
— А вот! — Гешка обрадованно заерзал на стуле. — Вот эта синяя марка республики Южно-Молуккских островов. Марка вышла, а самой республики никогда не было.
— Как же так?
— А так! Американцы хотели создать на части островов Индонезии эту, как ее… марионеточную республику. Даже марки выпустили, а создать… — Гешка развел руками, прищелкнул языком.
Оба рассмеялись.
— Слушай, профессор, откуда ты все это знаешь?
— Рита Августовна рассказывала. Она у нас во Дворце пионеров ведет кружок. А работает в филателистическом магазине на улице Вальню.
— В котором ты купил Колумба?
— В магазине! Там разве такую купишь? — на секунду Гешка насупился. — А вы знаете… — сказал он, оживляясь. — Недавно в Варшаве была выставка марок — международная. Там показывали
коллекцию английской королевы!
— Она тоже коллекционер?
— Ага! Рита Августовна рассказывала, эту коллекцию почти вся династия собирала… Из Лондона в Варшаву приезжал специальный лорд, хранитель коллекции. Вот где, наверное, марочки-то!
— У тебя тоже хорошие…
Гешка вздохнул, промолчал.
— Многое папа собрал, — сказал он. — А вот эти я обменял Эти Рита Августовна подарила… А вот эти купил.
— Понятно
Сергей рассматривал марку, на которой был изображен Колумб с подзорной трубой, и думал: “Если одна такая стоит три рубля, значит и марки могут быть бизнесом…”
— Все-таки “Колумб” — очень редкая марка! — сказал Гешка. — Теперь бы еще “Спартакиаду” достать. Законная серия…
— В каком смысле законная? — улыбнулся Сергей.
— Ну… хорошая.
— Да, наверно, такого “Колумба” ни у кого больше нет, правда?
Гешка задумался на минуту.
— У Рыбника, может быть?
— А кто он такой?
— Рыбник? Самый известный в Риге филателист! Он уже старый.
— А у того, кто тебе эту марку продал, пожалуй, есть еще, — сказал Сергей. — Но ты ведь его не знаешь… Иностранец наверное?
— Почему? — удивился Гешка. — Он в Риге живет, я его часто вижу…
— Так, — сказал Сергей. — А серия “Спартакиада” завтра будет в магазине! Давай-ка сходим туда вместе.
Узкая улочка Вальню — граница старой и новой Риги. Она начинается у нового здания вокзала, а в другом ее конце возвышается круглая, массивная, тщательно сложенная из кирпича старинная Пороховая башня. Большой универмаг тут рядом с крохотными галантерейными магазинами и кафе, неповоротливый троллейбус осторожно разворачивается между домами, построенными несколько веков назад…
У филателистического магазина толпился народ. Людно было и у прилавка.
— Вот Рита Августовна, — кивнул Гешка на продавщицу и тут же, увидев что-то интересное, забыл о Сергее. А тот, подталкиваемый со всех сторон покупателями, очутился у прилавка.
Продавщицу осаждали, требуя космическую серию…
Сергей терпеливо ждал.
Она вдруг спросила.
— Вы что-нибудь выбрали?
— Нет, я… собственно, не выбираю.
— Тогда зачем же…
— Дядя Сережа со мной, — невозмутимо произнес неожиданно появившийся Гешка. — Здрасьте.
— Здравствуй, Геша. У тебя появился дядя? — Девушка взглянула на Сергея. У нее были карие, с зеленоватым отливом глаза, нежное узкое лицо.
— Мы хотели купить марки, — сказал Сергей. — “Спартакиаду”.
Гешка густо покраснел, а получив конверт с марками, выпалил: “Спасибо!” — и тут же юркнул между покупателями к друзьям-мальчишкам — показать!
Рита улыбнулась. Сергей обрадовался этому не меньше, чем Гешка маркам.
— Мне бы хотелось с вами поговорить, — торопливо заговорил Сергей, — я отниму у вас пять минут. Меня интересует ваш филателистический кружок и… Простите, когда у вас в магазине обеденный перерыв?
— А я знаю, где Рита Августовна обедает! — заявил Гешка, снова вынырнув у локтя Сергея. — В кафе “Метрополь”.
— Видите, какой у вас помощник! — она усмехнулась.
— Вот о помощнике мне и хотелось поговорить.
В это время к прилавку протиснулся элегантно одетый молодой человек, снял шляпу, поклонился Рите, блеснув напомаженными волосами:
— Для меня есть что-нибудь?
Рита положила перед ним на прилавок конверты с марками. Пересчитав сдачу и поблагодарив, покупатель исчез.
— Так я вас буду ждать вместе с Гешкой в кафе.
— Мне в школу, — заявил Гешка, и Сергей чуть не стукнул его по выпуклому затылку. Рита ответила:
— Хорошо!
Когда они вышли из магазина, Гешка сказал:
— “Колумба” я у него купил.
— У кого? — не понял Сергей.
— У того, в шляпе. Сейчас спрошу у Риты Августовны, как его зовут. — Гешка повернулся было к дверям магазина, но Сергей ухватил его за рукав куртки:
— Не надо…
Прежде чем войти в кафе, Сергей быстро оглядел себя в большое зеркало, причесал густые, встрепанные ветром волосы и вошел в зал. Сидя за столиком, он нетерпеливо поглядывал на двери, ждал Риту.
Рита быстро прошла через зал, села рядом и сразу спросила:
— Гешка что-нибудь натворил?
— Да. — Сергей замялся. — Что вы будете есть? Любите хлебный суп? И взбитые сливки?
— Хорошо. Помолчали.
— Вы увлекаетесь марками? — начал Сергей.
— Да, очень, — ответила она. — Отец научил меня читать их. Он был настоящим коллекционером.
— А есть не настоящие?
— Есть. Некоторые собирают марки по узкому признаку — считают рубчики перфорации — зубчики, понимаете? Или на одной из марок какой-то серии не отпечаталась, например, какая-нибудь буква… Редкая марка. Вот ее и ищут… Но это не настоящие филателисты.
— А настоящие?
— Настоящие читают: марка всегда кусочек истории страны. Иллюстрированная история… — Рита задумалась. — Вы видели первою послереволюционную марку?
— Не приходилось.
— На ней — перечеркнутая красными стрелами эмблема Временного правительства. Дата — январь 1918 года и надпись “Совет рабочих и солдатских депутатов”. У молодого государства еще не было своего герба, да и лишних средств, чтобы печатать новые марки. А посмотрите на выпуски последних лет: спутники, покорители космоса, “Семилетка в действии”… Разве это не сама история?..
— Хорошо вы об этом говорите, — сказал Сергей — А бывают и курьезные истории, правда? Например, марка, на которой Колумб смотрит в подзорную трубу…
— Где вы видели такую марку?
— У Гешки. Он купил ее. За три рубля. Представляете — целый месяц без завтраков!

Официантка поставила перед ними тарелки.
— Да, да… А спекулянты, они и марки не оставляют в покое…
— Такую же марку я видел на иностранном корабле.
— Вы моряк?
— Нет.
Сергей замолчал.
Он так любил разговаривать с Гешкой, глядя в его чистые мальчишеские глаза, ему так легко было с Глаузинем и так свободно в маленьком кафе на углу — именно потому, что во всех этих случаях сама собой исчезала некоторая связанность.
И сейчас, с этой темноглазой девушкой, он тоже чувствовал себя свободно, легко — не хотелось, чтобы стало иначе…
— Я инспектор Рижской таможни, — сказал Сергей.
— О, это, наверно, поинтереснее, чем истории с марками?
— Знаете, как обычно пишут: “Покончив с таможенными формальностями, мы, наконец, сошли на берег”… Красноречивое “наконец”… — Сергей усмехнулся. — А работа интересная. Кстати, хотя нет, это совсем о другом: я знаю, кто продал Гешке марку с Колумбом!..
— Кто?
— Он был сегодня у вас в магазине, когда мы разговаривали. Поклонился вам.
— Неужели Куралюн…
— Он что, страстный коллекционер?
— Как вам сказать, — Рита пожала плечами. — Для меня был постоянным покупателем…
И спохватилась — взглянула на часы.
— Пора? — спросил Сергей.
Она кивнула.
— А если вас интересуют марки, — Рита поднялась, — советую сходить на филателистическую выставку Рыбника. Это здесь, рядом.
— Рита, можно вас попросить пойти туда вместе со мной?
— Почему же, — сказала она. — Завтра после работы.
СНОВА КОЛУМБ
Таможенники сдавали смену.
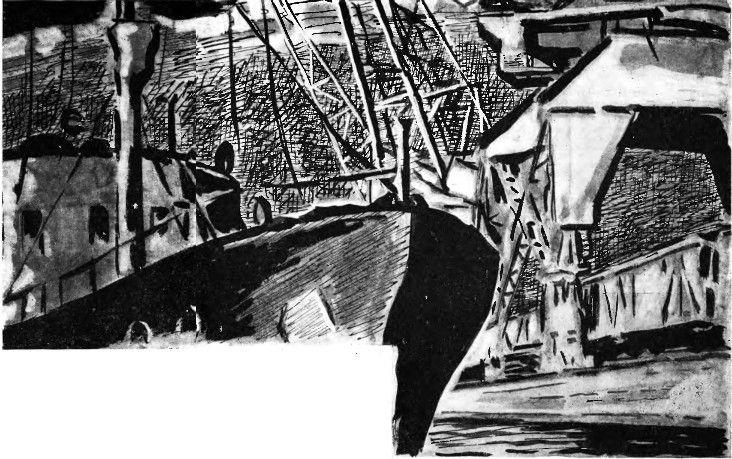
— Были приняты: греческий теплоход с грузом волокна, — говорил старший наряда, обращаясь к Глаузиню, — норвежский теплоход “Амундсен” — рыба. За рубеж ушли: пароход “Пешт” с грузом пшеницы для Германской Демократической Республики и “Даугава” — с экспонатами для нашей выставки в Рио-де-Жанейро. “Редер” скоро уходит. На подходе — судно из Исландии, польский танкер и шведский лесовоз.
— Так, — сказал Глаузинь. — Задержания есть?
— Одно, незначительное…
— Ну хорошо.
— Счастливого дежурства, товарищи!
Сдавшие смену ушли. Дверь захлопнулась.
Глаузинь достал сигарету, вставил ее в мундштук и хотел что-то сказать, но зазвонил телефон.
Сергей поднял трубку, выслушал, сдвинув брови.
— А сколько марок? Вот как! Спасибо
Положив трубку, повернулся к Глаузиню:
— Это из вытрезвителя. Там ночевал матрос Курт Гауптман с “Редера”. В носке у него оказалось двадцать пять рублей и несколько марок. Не валюта, а почтовые марки.
Глаузинь нахмурился.
— Непонятно. Но советская валюта — видимо, результат контрабанды.
Сергей рассеянно кивнул, думая о марках. Гауптман и Куралюн… Связаны они или нет? И как это выяснить?
— Где он сейчас? — спросил Глаузинь.
— Отпустили.
— Вы пойдете на корабль, Сергей Александрович.
Лицом к лицу с контрабандистом на борту “Редера”! Тут нужны находчивость и твердость. Давая понять Глаузиню, что ему все ясно, Сергей сказал:
— Пойду и потребую штраф в счет незадержанной контрабанды.
— Нет, — Глаузинь покачал головой. — Сначала вы посмотрите таможенную декларацию, заполненную этим матросом, потом спросите у капитана, не давал ли он матросу советских денег.
— Понятно.
— Будьте не просто вежливы, сверхвежливы!
— Они контрабандой занимаются, — сказал Сергей, — а с ними — сверхвежливо…
— Служба! — ответил Глаузинь. И добавил: — Мы с инспектором Красновым подойдем, попозже — оформить отход…
Узнав о причине появления таможенника, капитан приказал вызвать Курта Гауптмана и сидел молча, постукивая по столу ногтями. Сергей только теперь заметил, что они покрыты лаком.

Вошел Гауптман, встал шагах в трех от стола. Безвольно свисающие красные, в ссадинах руки, синяк под глазом, грязная роба… А на лице покорность и затаенное нетерпение: скорей бы отпустили.
— Вот видишь, Курт, — начал капитан. — Я предупреждал тебя, что тут из-за любого пустяка могут быть неприятности… — И улыбнулся Сергею.
— Судя по вашей декларации, — Сергей обращался к матросу, — советской валюты у вас не было?
— Нет.
— Вы не давали ему советских денег, господин капитан?
— Нет, не давал.
Розовощекий, сочувствующе кивнув Гауптману, добавил:
— Но я предупреждал его, что здесь не Ливерпуль. Помнишь, Курт, как славно погулял ты в Ливерпуле? И ведь никаких неприятностей не было! А здесь — сам видишь…
— Простите господин капитан, — сказал Сергей. — Мне необходимо задать матросу несколько вопросов… А потом я с удовольствием послушаю, как работают таможенники в Ливерпуле.
Розовощекий опять улыбнулся — на этот раз явно натянуто, опять забарабанил по столу.
Сергей ясно понимал, кто сейчас настоящий его противник: не юнец матрос, единственной радостью которого была, наверное, бутылка водки, а этот, с маникюром.
Сергей взглянул на Гауптмана.
— Что вы продали в городе?
— Жевательную резинку, блок сигарет, зажигалки, — в хриплом голосе матроса звучала та же покорность, что была написана на лице. Но, вспомнив, наверное, подзуживания капитана, матрос закончил развязнее: — Это все, господин инспектор!
“О марках я спрошу потом, — подумал Сергей. — Сверхвежливо… И послушаю, что вы скажете — ты и твой капитан”.
— Вот бумага. Напишите здесь, пожалуйста, что вы, Курт Гауптман, матрос теплохода “Редер”, продали в Риге столько-то предметов на такую-то сумму, — услышал Сергей свой спокойный голос и добавил жестче: — Таково правило.
Взяв бумагу, Гауптман вышел: он не смел сесть за стол в этом салоне.
— Кофе, коньяк? — капитан повернулся к Сергею.
— Благодарю вас. Если не возражаете, я хотел бы сначала закончить дело, — Сергей улыбнулся. “Можно подумать, что у нас с ним конкурс улыбок…” — А как вашему старшему штурману, господин капитан, понравилось на улице Вальню?
— На улице Вальню? — удивился розовощекий.
— Там филателистический магазин. Он ведь хотел обменяться марками…
— О! Можете себе представить, — капитан приподнял белесые брови. — Он потерял свой альбом. В Риге нас преследуют неприятности!
Появился Гауптман, застрял на пороге.
— Потерял свои марки? — переспросил Сергей и, принимая бумагу, посмотрел на Гауптмана, потом на капитана. — Весьма сочувствую.
Сергей просмотрел “объяснительную записку” Гауптмана.
— Не сходится, тут указано всего двадцать пить рублей — те, что у вас конфискованы. Но ведь вы еще пили, тратили деньги…
— Я продал еще… — хрипло начал матрос, но Сергей перебил:
— Почтовые марки, — он не спросил, он произнес это совершенно твердо.
Гауптман растерянно кивнул.
— На какую сумму?
— Десять рублей…
— Укажите, — сказал Сергей и взглянул на капитана.
От благодушия не осталось и следа. Выкрикнув что-то, он поднялся, позвал стюарда, снова сел, и все это не отрывая холодных бешеных глаз от красного лица Гауптмана.
В салон постучали. Вошел старший штурман.
— Ваши марки продал он, — все еще глядя на Гауптмана, проговорил капитан. — Господин инспектор каким-то образом заставил вора признаться…
“Вот ты как! Сразу про воровство вспомнил, — подумал Сергей. — Еще бы, покушение на частную собственность…”
Сергей мельком взглянул на остолбеневшего штурмана, усмехнулся про себя: “Законно!”, как сказал бы Гешка…” — и достал чистый бланк:
— Надо составить акт.
Коллекционер крутил головой, словно от зубной боли, его залысый лоб багровел.
— Где мои марки?!
Капитан буркнул что-то, старший штурман замолчал; поправив на коленях брюки, сел в кресло, тоже уставился на Гауптмана горящими глазами.
— Итак, вы продали их за десять рублей? — спросил Сергей. — Это правда? Одну только марку с Колумбом у вас купили за три рубля…
— О-о-о! — простонал штурман.
— Десять рублей за все, — тупо повторил матрос.
Сергей понял: “Не врет”, — и принялся составлять акт.

Он писал и слышал, как постукивают по столу ногти розовощекого, слышал разъяренный шепот старшего штурмана:
— Десять рублей!.. Я собирал эту коллекцию двенадцать лет! Где она? Где мои марки, свинья?!
— Двадцать пять и десять, — сказал Сергей, глядя на розовощекого. — Всего тридцать пять рублей. Прошу уплатить этот штраф, господин капитан, в счет незадержанной контрабанды.
— Но, господин инспектор! Он и так пропил свой заработок за месяц вперед. А теперь я должен платить мои деньги за его удовольствия? Забирайте его, пусть работает в вашем… как это называется? Есть у вас лагерь?
— В каком лагере? — удивился Ястребов.
— Ну, в этом — на пятнадцать суток…
— Таможенники охраняют экономические границы своей страны. Воспитывать иностранных моряков не наша обязанность. И… — Сергей улыбнулся, — так можно растерять команду, господин капитан!
— Я все равно выгоню его в Бремене, — буркнул розовощекий, стараясь взять себя в руки.
Гауптман отступил к двери.
“Вон!” — покосился на него капитан.
Старший штурман вскочил, бросился следом. Капитан принялся отсчитывать деньги.
… Возвращаясь с дежурства и поглядывая сквозь заплаканное окно трамвая на сонную Ригу, на мокрых голубей в карнизах озябших домов, Сергей хмурился, вспоминая, как смотрел на него Глаузинь. После “Редера”, уже перед рассветом, они оформляли отход шведского теплохода. Сергей старался быть внимательным… Ему показалось, что боцман — у этого рыжебородого было лицо прожженного плута — что-то тайком пронес в свою каюту. Оставив Глаузиня, Сергей пошел следом.
Он проверил у боцмана декларацию — только и всего. Глаузинь же, узнав об этом, извинился перед иностранцем. А Сергею, когда они сошли на берег, сказал: “Подозрительность к хорошему не приводит!”
Больше он об этом не говорил. Зато, обращаясь к инспектору Васе Краснову — третьему в их смене, — рассказал о нескольких неприятных случаях, вызванных излишней подозрительностью. Рассказывал он, как всегда, спокойно и даже невозмутимо, но по тому, как часто путал русские и латышские слова, Сергей понимал: старик волнуется.
— В прошлом году в наш порт приходили сотни иностранных кораблей, и, если подозревать, что всюду есть контрабандисты, это будет неправильно и плохо!
— Но мировая статистика считает, что только десять процентов контрабанды оседает в таможнях! — попытался возразить Сергей.
— Поэтому и надо быть внимательным, — отозвался Глаузинь.
…Вытирая в коридоре ноги о коврик, Сергей услышал, как в ванной фыркает под краном Гешка, и хотел быстро пройти в свою комнату. Но Гешка высунул из двери мокрое лицо, просиял:
— Здрасьте, дядя Сереж! Что я придумал! Вы меня в воскресенье возьмете на катер?
— Посмотрим, — сказал Сергей. И добавил: — Зайди, когда умоешься.
— А я уже! — Гешка схватил полотенце, скомкав его, стал тереть лицо.
— Вот что, — сказал Сергей. — Марка твоя с Колумбом — краденая.
— Как? — Гешка чуть не выронил полотенце.
— Понимаешь? Человек — моряк один из ФРГ — много лет собирал редкие марки. Читал их, как вот ты и Рита Августовна, а забулдыга с его же корабля украл и все пропил здесь, в Риге.
— А этот теплоход придет еще в Ригу? — глядя в пол, спросил Гешка.
— Наверное, придет…
Гешка сорвался с места, хлопнул дверью своей комнаты и через минуту вернулся.
— Возьмите, — протянул он Сергею “Колумба”, — когда придет корабль, отдайте ее хозяину. Не нужна она мне!
— И вот еще что, — голос Сергея почему-то стал хриплым, — ты, брат, не расстраивайся. У меня, честно сказать, тоже неприятности. Надо уметь их переживать. Понял?
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
Выставка известного в Риге филателиста Михаила Петровича Рыбника разместилась в конференц-зале редакции одной из газет. На стенах пестрели сотни марок. И на этом веселом ярком фоне фигура самого Рыбника, седеющего человека в потертом старомодном костюме, выглядела весьма скромно. Он стоял с указкой около стенда и, морщась от света юпитеров, что-то объяснял группе пионеров. Рядом возился кинооператор.
“Это тебе не пижон, не “оптовый покупатель”, — подумал Сергей, вспомнив Куралюна и с симпатией поглядывая на Рыбника.
Рита подвела его к стенду:
— Вот наша первая послереволюционная марка. Я вам о ней рассказывала. А здесь собраны марки союзных республик — тоже от самых первых. Видите? Армения…
Они переходили от стенда к стенду. Рита, сдержанная, несколько даже скованная вначале, увлеклась и рассказывала живо, с подробностями.
Потом улыбнулась, взглянула на Сергея.
— Вам не скучно?
Она словно не спрашивала, а говорила: “Вам ведь не может это показаться скучным, я знаю”.
— Только что подумал… Хорошо, когда коллекционер много знает. После ваших рассказов и для меня марки оказались неожиданно интересными.
Рита опять улыбнулась.
— И все-таки, чтобы вам не было скучно, давайте посмотрим марки, с которыми связаны курьезные истории. Вот взгляните, пожалуйста… В 1497 году моряк Джон Кабот открыл остров Ньюфаундленд. Через четыреста лет в честь этой даты на острове выпустили большую серию марок. Одну из них вы видите — на ней изображен корабль Кабота “Метью”. Вернее, должен был быть изображен. А это совсем не тот корабль…
— То есть как не тот?
— Не тот. Установлено, что это “Святая Мария”, флагманское судно все того же Христофора Колумба.
— Опять Колумб!
— Да. С ним вообще много курьезов, филателистических конечно. Здесь нет тех марок, которые выпущены в США в 1892–1893 годах в честь четырехсотлетия открытия Америки. Но я знаю, что на одной из них Колумб смотрит на приближающийся американский берег чисто выбритый, а на другой — сходит на тот же берег с длиннющей бородой… Художники не договорились!
…Они приближались к выходу из конференц-зала. Сергей опять увидел Рыбника. Теперь филателист разговаривал с тремя мужчинами, в которых сразу можно было узнать иностранцев.

“Швейцарская делегация, — догадался Сергей, подойдя поближе. — Вчера прилетели… Архангельский со своим нарядом их принимал”.
Рыбник укладывал в конверты марки, присыпая их белым порошком. Гости кланялись, благодарили.
— Он дарит марки иностранцам? — спросил Сергей.
— Может быть, обменивается, — сказала Рита. — Обмен марками — тоже культурные связи.
— Понятно. А зачем он сыплет туда эту пудру?
— Тальк. Чтоб марки не склеились, — ответила Рита, останавливаясь у небольшого стенда.
— И все-таки политических курьезов в филателии, наверное, больше, чем географических. Правда?
— Вот вы уже и начинаете читать марки…
— Я знаю о марках несуществующей республики Южно-Молуккских островов.
— Гешка рассказал? — ласково усмехнулась Рита. — Да, таких примеров немало. Марка Петлюры. Пока ее печатали за границей, Петлюру выгнали с Украины. Или вот… посмотрите.
— Эта? А, трофейная…
По квадратику лягушачьей расцветки с изображением Гитлера надпечатка готическим шрифтом: “Курлянд”. Фашистская марка для оккупированной территории Прибалтики…
— Идите сюда, — позвала Рита. — Эти марки выпущены уже после нашей победы.
ПАЧКИ РАФИНАДА
Через несколько дней наряд Глаузиня дежурил на почте.
Особняк, в котором находился международный отдел почтамта, стоял на тихой окраинной улочке, обсаженной шеренгой сосен.
После порта здесь показалось тесно и скучно.
В комнатах, заваленных мешками с письмами, ящиками и коробками, пахло подпаленным сургучом, валялись обрывки шпагата…
В самом большом помещении разноформатные столы с высохшими лужицами чернил образовали нечто похожее на конвейерную линию. По этому конвейеру руки девушек передвигали коробки и ящики — посылки, которые жители Риги получали из-за границы, и посылки туда, за рубеж.
Глаузинь и Сергей проверяли по описям наличие вещей, просматривали, уплачена ли за границей таможенная пошлина, и, если оказывалось, что нет, назначали ее, оценивая стоимость присланного.
На кораблях таможенник — лицом к лицу с людьми. А здесь, здесь только вещи, и трудно, может быть даже невозможно, понять, кто стоит за этими вещами.
Сергей читал имена получателей. Они ничего не говорили ему. Но те, кто их носил, почему-то не вызывали у него симпатии. Он понимал, что в этом своем чувстве не прав. Жизнь разбросала людей в разные края, а они по-прежнему близки, обмениваются подарками, иногда, на его взгляд, нелепыми, даже глупыми.
Вот например, кто-то отправляет в Швецию среди разных вещей четыре пачки рафинада. Все-таки странно…
Сергей повертел в руках пачки, прощупал, проверил упаковку. Все в порядке… Достал сигарету, закурил, повернулся к Глаузиню. Тот внимательно наблюдал за ним.
— Есть подозрение, Сережа?
Сергей кивнул, слегка оторопев от этого ласкового обращения, и, словно только теперь осознав, что надо делать, решительно положил пачки на весы.
— Правильно, — сказал Глаузинь.
— Вес больше, чем должен быть! — заволновался Сергей, пристально глядя на стрелку весов.
— Вскрывай.

“…Между кусочками сахара, — писал Ястребов в акте, — обнаружено кольцо платиновое с бриллиантами (вес платины — 5,2 г) кольцо золотое, с бриллиантом, три золотых кольца и золотые часы дамские…”
— Старый способ, — сказал Глаузинь. — Но иногда, как видишь, им пользуются…
И стал проверять новую посылку. Через минуту невозмутимый латыш тихо выругался.
— Что такое?
— Посылка лондонской компании “Хаскоба Лимитед”. Вот реклама, посмотри…
На первой странице Сергей увидел картинку — советская семья восторженно всплескивает руками над посылкой из Англии: небритый отец в допотопном пиджаке, мать в платочке, повязанном по-крестьянски, их маленькая дочь — не девочка, а какой-то хилый уродец!
— Изъять ее! А, Эвалд Августович? Давайте…
Глаузинь покачал головой.
— Оставим, пусть получатель посмотрит! Может, гордость заговорит?
— А кто получает-то?
— Рижский житель, — сказал Глаузинь, — какой-то Куралюн.
— Куралюн?
Сергей долго смотрел в окно, на кроны сосен. У него было такое чувство, будто он увидел потайную дверь, а открыть ее не умеет. А может, он действительно слишком подозрителен?
***
Сергей впервые присутствовал на оперативном совещании в кабинете начальника таможни.
Каждый инспектор, докладывая о работе за месяц, анализировал методы сокрытия контрабанды.
Начальник таможни Николай Петрович Костюков, слушая инспекторов, щурил веки и размеренно постукивал толстым цветным карандашом по сафьяновой крышке блокнота.
Говорил Глаузинь:
— Хочу обратить внимание товарищей на почтовые отправления. Недавно инспектор Ястребов обнаружил золотые вещи в пачках рафинада. Есть и еще кое-что. В последнее время часто используются детские игрушки… Кто-то нащупывает связь, испытывает нашу бдительность. Так, например, внутри детской куклы обнаружены ржавые часы. Зачем посылать негодные часы? Только для того, чтобы проверить, начеку ли таможня. И еще. В механизме будильника была обнаружена платина.
— Как обнаружили? Потрясли часы? — быстро спросил Костюков.
— Я их завел. Часы не пошли. Это вызвало подозрение, — ответил Глаузинь. — Двести граммов платины.
— Ясно, товарищи? Продолжаем!
Архангельский — инспектор, обычно дежуривший на аэродроме, открыл блокнот:
— У меня есть свежие факты контрабандного вывоза советской валюты.
Костюков кивнул:
— Рубль-то подорожал!..
— В частности, применяется сокрытие в играх. Скажем — нарды. Кубик величиной с четверть кусочка рафинада, а в него сумели вмонтировать несколько крупных купюр наших дензнаков. У одного туриста в книге было вырезано отверстие для дорожных шахмат. Спросили: зачем? Он ответил: “чтоб не потерять шахматы”. Но я вскрыл доску…
— Пошли, значит, на риск? А если бы ничего не оказалось? — улыбнулся Костюков.
— Купил бы за свой счет новые в киоске сувениров. Там их сколько угодно! — ответил Архангельский и, переждав смех, добавил: — Но мне поведение этого туриста не понравилось. И не зря. В доску были вклеены советские деньги.

Архангельский сел.
Начальник таможни посмотрел на Сергея:
— Прошу.
Сергей встал, чувствуя, что краснеет. О чем он мог рассказать? О матросе с “Моники Смит”? Или о Гауптмане?
Он кашлянул:
— Я тоже о почте…
И стал рассказывать о Куралюне.
…— Установлено, что за последние два месяца он получил шесть посылок — и все от “Хаскоба Лимитед” Нейлоновые шубы, белье, обувь…
— Это потребительские товары, оплаченные пошлиной. В чем вы усмотрели криминал?
— Но шесть посылок! И потом… — Сергей рассказал о похищении марок у старшего штурмана “Редера”, о Гешке и “Колумбе”.
Костюков задумался.
— Пока все это не связывается… Вы не узнавали в комиссионных магазинах, не сдавал ли туда вещи на продажу этот Куралюн?
— Нет.
— Проверьте. Только предупреждаю: бдительность, но не подозрительность!..
…Сергей остановился у подъезда таможни и, подняв воротник шинели, старался прикурить. Он обязательно должен распутать это дело.
ТОЛЬКО С ТОРГОВЦАМИ
И снова почта.

Увидев Сергея, девушка штемпелевавшая конверты, улыбнулась ему, как знакомому.
Она стукнула тяжелым штемпелем по конверту, от которого тотчас взлетело облачко белой пыли, хотела что-то сказать, но отвернулась и сладко чихнула.
— Будьте здоровы!
— Спасибо! А все эти заграничные отправления! — Девушка снова стукнула штемпелем и снова чихнула.
— Придется вам попросить у начальника почты противогаз.
Девушка рассмеялась, заколотила штемпелем. И каждый раз после удара взвивалось облачко пыли.
Сергей машинально читал адреса на конвертах: “Канада, Торонто, Джону Тацинскому”, “Рим, Италия, Беццуоччи”, “Мистеру Голдшлагу, Балтимора, США”. Девушка оставила штемпель вынула платок и уткнулась в него.
Сергей взял штемпель, взвесит его на ладони и пошутил:
— Уж не пудрой ли вы его нашпиговали?
— Какая пудра? Тальк. Просто мучение!
Сергей хлопнул по конверту. Поднялось белое облачко.
Глаузинь, проходя мимо, спросил:
— Новую квалификацию получаешь?
И тут Сергей вспомнил выставку Рыбника, руки, пересыпающие марки тальком.
— Эвалд Августович, — Сергей даже не мог сдержать дыхания, так он волновался, — кто у нас зарегистрирован на почтамте под абонементным почтовым ящиком 242?
Глаузинь внимательно посмотрел на него.
— Что случилось?
— Тальк!
— Тальк?
— Тальк! Вы понимаете… тальк! Им же пересыпают марки, чтобы не склеились. А этих конвертов — сорок штук!
Глаузинь набрал номер телефона начальника почтамта.
— Двести сорок второй почтовый абонементный ящик для заграничных отправлений зарегистрирован на имя Феликса Куралюна!
***
…Куралюн сложил письма в аккуратную пачку, закурил и, сидя за столом, время от времени посматривал на конверты.
Шестнадцать штук. Сегодняшняя почта. Сейчас он их вскроет и прочтет. Потом сделает необходимые расчеты и запишет все в книгу. Затем возьмется за ответы на эти шестнадцать плюс три, оставшиеся со вчерашнего дня.

Он посмотрел в окно. Люди переходили улицу на перекрестке, шли мимо, ждали на остановке троллейбус. Рабочие, служащие, студенты… А кто он? Для всех — маляр.
Да, маляр. Иначе могут быть неприятности, а они не для умных людей. Он усмехнулся и стал перебирать конверты. Письмо от “Хаскобы”. Его хочется прочитать в первую очередь. Но прежде всего дело, очередные операции. А письмо от “Хаскобы” можно положить вот сюда и, занимаясь делом, иногда на него посматривать: поднимает настроение…
Он взял ножницы, аккуратно по самому краешку надрезал пухлый конверт и долго разглаживал лист с четким штемпелем: “Артур Кинг, торговец марками”.
“Дорогой мистер Куралюн!
Спасибо за марки, которые я получил несколько дней назад. Посылаю вам обещанное Стоимость — 3 фунта 12 шиллингов 2 пенса. Это обременяет Вас кредитом в 1 фунт 13 шиллингов 2 пенса. Буду Вам обязан, если Вы в ближайшее время сможете выслать двадцать разных со штемпелем первого дня”.
Куралюн с минуту рассматривал полученные марки, потом, вздохнув, записал в графе “Должен”: 1 фунт 13 шиллингов 2 пенса.
Кто следующий?
“Рокот Стэмпс Регистр, Канада”
“Дорогой мистер Куралюн! Большое спасибо за письмо. Теперь мы будем делать большие дела…”
Большие дела!..
Большие дела он начал с маленького объявления в одном зарубежном журнале. Оно было скромным: “Филателист Ф.Куралюн, проживающий в Риге, хочет обмениваться марками с коллекционерами из других стран”. Марки в таких случаях наклеивались на конверты. Но скоро он понял, что настоящий бизнес делается иначе. Его следующее объявление в западногерманском филателистическом журнале звучало куда определеннее: “Желаю обмена только с торговцами. Могу давать новинки марок СССР…”
И количество связей сразу выросло — теперь у него 60 корреспондентов в западных странах.
“…Сообщаю Вам новые адреса, по которым можно посылать марки: мистера Джона Байера и миссис Люсиль Базине”.
Что же, он запишет. Правда, это не торговцы, а просто коллекционеры, но можно попробовать и с ними, посмотреть, как будут расплачиваться.
Следующее письмо он разворачивал со смешанным чувством надежды и робости: этот Джон Грин из Буффало был придирчив, требователен и высокомерен, черт бы его побрал! Но платил он незамедлительно и — наличными. Так и появились у маляра — Куралюн усмехнулся — солидные вклады в канадских и английских банках.
“Уважаемый господин! (Даже по имени не называет!) В своем письме от 23 августа с.г. я сообщил вам о получении ваших писем от № 1 до № 12 включительно. В письме от 28 августа я сообщал о получении писем от № 13 до № 22 включительно. В № 21 вы прислали мне пять блоков гашеных марок “800 лет Москвы” по цене 72 цента за штуку. Но я просил их у вас только негашеными. Если такие есть, возьму 5–10 блоков, но прошу не присылать больше гашеных: они у нас не идут”. (Черт тебе угодит!)
“С сегодняшнего дня прошу присылать только такой материал, за который вы посчитаете не дороже 50 центов за штуку. По этой цене возьму все, имеющие хождение…” (Грабитель! Капиталистическая акула! — Куралюн вытер вспотевший лоб.)
“…“Хаскобе” на днях я дал поручение на 160 долларов. (Вот это другой разговор!) Прошу им написать, чек я выслал. (Молодец!) Хочу на будущее иметь с Вами большие дела, поэтому постоянно, без перерыва присылайте побольше материала, ничего не упускайте”.
— Уф! — Куралюн достал еще одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Он, пожалуй, отдохнет минуты три — четыре.
А в университете его считали неуспевающим. Отчислили со второго курса. На секунду он вспоминает гулкие своды аудиторий, гомон студентов, лекции, зачеты… Потом отогнал эту картину. Ему бы собственную контору, этакий офис! И с хорошенькой секретаршей…
“Ладно, — ухмыляется он, — обязанности секретарши возьмет на себя ваша будущая супруга”.
Две лишние минуты он позволил себе подумать о Вел те и, пока думал, все смотрел на конверт “Хаскобы”. Потом вынул свернутый лист.
За окном жил город, работали и радовались люди.
А двадцатипятилетний парень, с глазами, прикрытыми петушиными веками, млел над письмом со штемпелем “Экспортеры и международная служба почтовых заказов…” Фирма-то, фирма-то какая! “М-ру Феликсу Куралюну. Уважаемый господин, в ответ на Ваше письмо с почтением сообщаем, что высылаем в Ваш адрес посылку № Р.1433…”
“Уважаемый господин! — отстучал он, заложив в машинку бумагу. — Меня только что известили, что господин Гласс и господин Грин перевели на мое имя Вам 100 и 160 ам. долларов. Я бы хотел получить от Вас как можно больше разных прейскурантов и образцов товаров, которые Вы можете мне прислать. Оборот наш был бы тогда намного больше…”
Он подумал и решил подчеркнуть эту многообещающую фразу: фирма должна знать, с кем имеет дело.
“Сегодня хочу заказать новую посылку.
Туфли дамские на высоком каблуке, самые модные…”
Куралюн улыбнулся, снял телефонную трубку, набрал номер.
— Велта? Все работаешь, бедняжка?
Слушая ее голос, он подрыгивал ногой и смотрел на носок ботинка (себе тоже надо заказать).
— Хочу подарить тебе шпильки, самые модные. Да, конечно, каблук высокий. Какой у тебя размер, крошка? Тридцать восемь? Так и запишем. Их пришлют тебе по моему распоряжению. Кто пришлет? Ха! Банк, заграничный банк! Нет, не шучу…
Чудачка Велта! А почему бы ему и не веселиться — такие отличные письма! Этот месяц вообще везучий: разве мог он рассчитывать, что удастся купить у какого-то забулдыги иностранного матроса великолепные, очень дорогие марки — и всего за десятку! А он тут же продал за трешку одну только марку — Колумба, кажется! Неосторожно, конечно. Соблазнился побочным доходом! Ну ничего, сойдет.
Он опять снял трубку и задумался: сказать ей про шубу? От кого-то из своих знакомых он слышал, что был в Европе такой политик — Талейран. Один из советов Талейрана: “Никогда не поддаваться первому порыву чувств — он всегда слишком благороден”. Сказать или нет? Ведь она не только будущая жена, а компаньон, союзница…
О, Велта еще не знает всех его козырей. Она будет боготворить своего Феликса.
За окном переходила улицу стройная быстроногая девушка. “Как я все таки обкрадываю себя!” — вздохнул Куралюн и снова сел за машинку.
***
Сначала он все отрицал. Потом начал бормотать что-то о культурных связях с зарубежными филателистами. Потом, брызгая слюной, стал клясться, что он попросту совсем мелкий спекулянт, грошовый. Начал глухо намекать на кого-то. Назвал фамилию Рыбника.
А в последний день следствия Куралюн вдруг задрал брюки и, криво усмехаясь, спросил:
— Где вы еще достанете носки такой расцветки?
Следователь Вольфсон, рассказывая об этом Сергею, пожал плечами:
— Прямо питекантроп какой-то ей-богу! Действительно, мелкий человечишка.
СЧАСТЛИВОГО ДЕЖУРСТВА!
Сергей шел по набережной, потом свернул на знакомый простреленный солнцем перекресток. И здесь на него с новой силой на хлынуло чувство, которое он испытал уже не раз. Он снова по чувствовал, как крепко и нежно любит этот асфальт и брусчатку, парки и каналы, сосны и дома, приветливую чистоту, оживленность и деловитость портового города. И вдруг он ясно, как дважды два, понял смысл категорической почти уставной формулировки: “Бдительность без подозрительносги”. В конце концов это означает одно — любить. Любить социалистическую Родину, город в котором ты живешь и работаешь, его людей. Любить — значит быть бдительным. А для подозрительности места не останется.
Сергей постучал. Услышав приглашение открыл дверь кабинета и удивился. В кресле напротив следователя сидела Рита…
— Здравствуйте, Сергей Александрович, — сказал Вольфсон. — Познакомьтесь наш эксперт Рита Озолинь. Вам будет интересно по слушать подробности.
— Здравствуйте, — сказал Сергей.
— Добрый день, — Рита опустила глаза, искоса взглянула на следователя и чуть улыбнулась. — Можно продолжать?
— Да, да, пожалуйста! Садитесь, Сергей Александрович. Впрочем, извините, Рита. Сначала я расскажу товарищу Ястребову одну историю о марках.
— Вы? — удивился Сергей.
…Утром на окраине Лиепаи было слышно глухое ворчание далекой канонады. К полудню оно уже больше напоминало рев.
На фронтовом аэродроме приземлился “юнкерс”. По приказу фюрера он доставил из Берлина окруженным войскам три туго набитых мешка. Один из мешков при выгрузке порвался, и в грязь изрядно избитого аэродрома высыпалась куча железных крестов. Потно лоснясь, они так и остались здесь — как раз в это время налетели советские “ИЛы”. Два других мешка доставили в городскую почтовую контору.
Солдат бросил их в углу комнаты, где чиновник почтового ведомства штемпелевал письма.
— Принимай. Распишись в получении.
Чиновник расписался и опять застучал штемпелем.
Солдат жадно затянулся сигаретой, сплюнул на пол и, злобно выдавив: “Капут! К черту!” — шагнул к двери. В дверях он оглянулся, посмотрел на конверты и расхохотался.
— Пишите письма! Ха!..
Дверь хлопнула. Чиновник вздрогнул, взглянул на часы. Он не решался покинуть контору до срока: его с детства отличала аккуратность, доходящая до педантизма. В конторе никого, кроме него, не было. Даже начальника. Только он, пригибая голову, когда слышались близкие разрывы работал. Штемпелевал!..
Потом вдруг взглянул на мешки в углу. Позже ему казалось, что кто-то таинственный притягивал его к этим мешкам.
Тонко заплакали стекла окон, перечеркнутые бумажными полосками.
Чиновник на цыпочках подошел к мешкам и сорвал печати. Он увидел почтовые марки. Марки только что отпечатанной в Берлине серии “Курлянд”.
Дрожащей рукой поправил на переносице очки в дешевой черной оправе. Скулы у него порозовели. “Судьба…” — прошептал он узкими, бескровными губами.
Судьба сделала его чиновником немецкого почтового ведомства. Судьба наделила его страстью к филателии. И вот теперь судьба давала ему два мешка негашеных, не бывших в употреблении и не обращавшихся марок. Он многое потерял за последние годы, многое… Но не чутье! Через несколько часов советские войска будут здесь, через несколько часов он станет единственным обладателем полной серии “Курлянд”.
“Пишите письма! Ха-ха!..”
— И он писал их — через много лет после войны. В ФРГ серия “Курлянд” пользовалась спросом, — продолжал Вольфсон.
— Этот чиновник — Рыбник? — спросил Сергей.
— Да. — Вольфсон посмотрел на Риту. — Прошу вас…
— При обыске в квартире Рыбника обнаружено шестьдесят пакетов с марками — они заняли всю машину при перевозке. Оценить все содержимое еще не успели. — Рита передохнула. — Экспертизой установлено, что пакеты с № 16 по № 28 — филателистическая коллекция, а пакеты с № 30 по № 60 — товар. “Материал”, как они его называли… Оценены четыре пакета. Стоимость марок, находившихся в них, — 6 тысяч 694 рубля 71 копейка; причем 3 тысячи 421 рубль 50 копеек — это марки зарубежные, остальные — советские.
— Покрупнее птица, чем Куралюн, а? — Вольфсон посмотрел на Сергея.
— Но как же он…
— Хитер, хитер! Скромный пенсионер! По предварительным подсчетам, его годовой “доход” от операций с марками — около восьми — десяти тысяч рублей в год.
— Новыми?
— Вот именно!
— Вот еще, как вы говорите, подробности, — вставила Рита. — Марок “Курлянд” им продано за границу на двенадцать тысяч.
— Рыбник не получал ни посылки, ни валюту за свои отправления, — сказал Вольфсон Сергею. — У ста сорока своих корреспондентов за границей он брал в обмен только марки. А потом перепродавал их нашим филателистам. Продавал по ценам, от трех до пятнадцати раз превышающим стоимость марок.
— Та-ак… — протянул Сергей и посмотрел на Риту. — Значит, еще одна история о марках, да? Оказывается, их можно не только читать, но и считать. Марки — та же валюта!..
— Грязная история, — сказала Рита.
Вольфсон кивнул.
— Грязные руки. Они из всего стараются извлечь прибыль, даже из романтического увлечения…
***
Некоторое время шли молча, потом Сергей спросил:
— Что же ты мне-то ничего не сказала?
Она тихонько рассмеялась, взяла его под руку:
— Просто меня пригласили для экспертизы совсем недавно, когда ты почти все раскрыл.
— Почти?
— Видишь ли, такое количество марок, какое они отправляли за границу, магазин в одни руки не дает. Я узнала, через кого эти бизнесмены их покупали.
Они вышли на набережную.
День выдался редкостный. В воздухе словно растворилась золотистая капелька солнца. Вода в Даугаве была спокойной, гладкой. Над ней замысловато петляли чайки и, коротко вскрикивая, садились на свои отражения.
— Приглашаю тебя на филателистическую выставку, — сказала вдруг Рита.
— Что-о?..
— “Африка вчера и сегодня”. Во Дворце пионеров. — Она улыбнулась. — Доклад будет делать Гешка. — И добавила: — Ты совсем его забыл…
— Приду, — сказал Сергей. — Обязательно приду!
***
Наряд Глаузиня сдавал смену.
— Были приняты теплоход “Черняховск” с грузом кубинского сахара, теплоход “Хорн Балтик” из ФРГ, шведский лесовоз… — говорил он, обращаясь к Сергею. — На отходе два финских судна и сейчас… — он посмотрел на часы, — через
двадцать минут надо выходить встречать пароход из Глазго…
Глаузинь рассмеялся, легонько стукнул Сергея по плечу и, снова посерьезнев, протянул руку.
— Счастливого дежурства, товарищ старший инспектор!
…Вышли в Рижский залив.
Катер зарывался носом в волну, холодные брызги кололи лицо.
Сергей закурил, глядя на качающийся горизонт — туда, где между небом и морем висел дымок подходящего корабля, и покосился на свои петлицы.
Морские таможенники всегда причастны к жизни портов, кораблей, а значит — и к романтике дальних странствий. Они шагают по трапам, которые соединяли борт корабля со многими землями, под их ногами — палубы, на которые обрушивались волны разных океанов, еще не остывший ветер дальних странствий касается их лиц…
И оттого, что их долг — охранять от грязных рук все, что светло и чисто, — это светлое им особенно дорого.
журнал “Вокруг света”, №№ 10–12, 1962 год
Эрнст Сафонов
Сейф
Повесть
I
В неясный предрассветный час, сумеречный и тяжелый, казалось, от всеобщей вселенской дремы, Чухлова встряхнул телефонный звонок. Дотянувшись до трубки, он поспешно сказал в нее сердитым, хриплым со сна голосом.
— Ну что еще... слушаю!
Тут же покосился через плечо — не проснулась ли Варвара, дьявол их забери, эти сумасшедшие, посреди ночи звонки. Можно, наверно, сто лет проработать в милиции тем же начальником райотдела, и все равно не привыкнешь к ним — неурочным звонкам, бессовестно ломающим твой сон, от которых сердце пугливо, болезненно сжимается: что на этот раз, а?!
Вчера он поздно вернулся из Чуваксина, ложился спать усталый и возбужденный. Все эти дни втайне надеялся, тревожно, как бы издалека сам в себе прислушиваясь к этой надежде, а вдруг бежавший из заключения Хрякин все ж доберется до родимых мест и они с ним встретятся? Но Хрякина перехватили в Липецкой области, и это, конечно, прекрасно, что не дали ему погулять на воле, а то бы с автоматом в руках Хрякин мог натворить таких дел — сироты бы да вдовы на его пути оставались... А теперь отгулял свое. И все-таки хотелось ему, Чухлову, напоследок посмотреть в хрякинские волчьи глаза, чтобы именно он, Чухлов, никто другой, взял бы его. Самолично...
— Товарищ майор? — резко прозвучало в телефонной трубке. Голос дежурного — недавно после окончания училища присланного в отдел лейтенанта — был нетерпелив, по-юношески звонок. — Вы слушаете?
— А что я, по-твоему, делаю?
— Разрешите доложить...
— Короче! Что?
— Из кассы мебельной фабрики похищен сейф...
«Ничего себе неделя начинается, — Чухлов положил трубку на аппарат. — Давненько такого в Доможилове не было. Свои иль залетные?»
Он снова взглянул на Варвару — та лежала недвижно, как-то неловко прикрыв лицо согнутой в локте рукой, однако дыхания ее он не уловил: не спит! Тихонько выбрался из постели, и когда умылся, прошел из ванной на кухню — жена в длинной ночной сорочке сидела уже там, а перед ней — для него — стояла кружка с простоквашей и тарелочка с пирожками. Сквозь окна сочился мутный свет, слабо проявляя из чернильно-фиолетовой наволочи кухонные предметы, тускло поблескивающую посуду в шкафу. По заспанному лицу Варвары тоже скользили темные неровные блики, старя его, превращая чуть ли не в старушечье; и может, от этих бликов или на самом деле так было — на лице жены Чухлову виделись недовольство, даже вроде бы отчужденность.
Удивляться не приходилось: вчера меж ними случилась размолвка, и Варвара, отходчивая при больших семейных ссорах, из-за пустяка, бывает, дуется на него по два-три дня. Да, впрочем, дуется ли? Точнее, вид такой делает, а по его личному определению — «страху нагоняет»! Чтоб, дескать, не забывался, помнил, что кроме его милицейской службы существуют семейные обязанности, и она, Варвара, терпит-терпит, но любое терпенье лопается... Вон дочь из Москвы сообщила — приезжает, и не одна к тому ж, а в угловой комнате обои старые, залоснились, краска на полу облезла, рама на проржавевших петлях скрипит, того гляди сорвется, — есть ли хозяин в доме? Не стыдно будет перед чужим человеком? «Год, ты понимаешь, го-о-од твержу тебе про ремонт, — досадливо говорила за ужином Варвара. — Денег тебе жалко, Чухлов, мастера позвать?»
И, прислушиваясь сейчас, не едет ли за ним машина, начиная раздражаться, что долго они там, в отделе, возятся, замечание от него водителю обеспечено, он сказал Варваре:
— Найду я тебе сегодня мастера.
А из головы все эти минуты не уходило главное сейчас для него: «Свои иль залетные?» И пока вяло — не по времени — завтракал, думал о Варваре, уже успел перебрать в памяти, как картотеку полистал, кто из своих, доможиловских, мог пойти на такое: выкрасть сейф с деньгами. Есть четыре-пять лихих удальцов на примете, всегда готовых взять, где плохо лежит, — их на месте преступления за руку хватали, судили потом... Однако предполагать, подозревать — занятие зыбкое, тут легко маху дать, окажется после, что кого имел в виду, он вовсе ни при чем, своим неверием, подозрением ты, выходит, оскорбил его... Ах, если б те, кто уволок этот фабричный сейф, хорошенько б «наследили» там, в помещении кассы, чтоб сразу можно было выйти на них! Дай-то бог, как говорится.
Варвара продолжала молчать.
Послышался нарастающий гул автомобильного мотора; на крыльце, узнав приближающуюся машину, коротко, но громко тявкнула Сильва, давая знать хозяину, чтоб выходил. Фары золотисто высветлили штакетник ограды, недвижные в сонном покое кусты сирени. Чухлов, надвинув козырек фуражки пониже, на самые брови, потоптался, покашлял в кулак, постоял посреди кухни еще полминутки, раздумывая, заговорить ли опять с Варварой иль нет, и все же не поступился своим мужским самолюбием — молча пошел к двери.
Ее голос остановил его у порога:
— Сказал бы уж хоть... надолго ль?
— Да нет, — быстро отозвался он. — Воришка один объявился...
— Стали б из-за какого-то воришки тебя из постели вытаскивать!
Он вернулся к ней, шутливо пригнул ее голову к столу: н
а тебе! Она потерлась щекой о шершавый обшлаг его форменной тужурки, сказала, как говорила уже не раз:
— Сколько я еще буду мучиться с тобой, Чухлов?
— Не так уж много нам осталось, Варя, — ответил он и хотел, чтоб легкими его слова были, но почему-то не получилось, как-то уж всерьез, по-правдашнему вышло. Попробовал исправить — добавил с фальшивой приподнятостью: — Давно ж советую: беги от меня на спокойную жизнь к какому-нибудь бухгалтеру!
Варвара почему-то вздохнула.
— Обедать приходи.
— Слушаюсь!
— Поосторожней, если что...
— Само собой!
Только открыл дверь — Сильва на грудь прыгнула, успела в щеку лизнуть.
— Ах ты, пенсионерка, ах ты, морда ласковая, а знаешь: скоро наша Таська приедет, Тая!
Овчарка, услышав близкое, приятное ей имя, радостно поскуливала, толкалась в колени.
У калитки стоял сержант-водитель по фамилии Зайцев.
— Не дождешься тебя, будешь спать на дежурстве — в пожарную охрану переведу! — то ли пригрозил, то ли пошутил Чухлов.
II
Похищенный на фабрике сейф — аккуратный, полметра на полметра стальной ящик, открывавшийся двумя нехитрыми ключами, — был «гундобинский», то бишь когда-то, тому шесть десятков лет, принадлежал доможиловскому купцу Гундобину.
Кому начавшаяся империалистическая война была в разор, дышала в лицо смрадным тленом, а предприимчивый купец усмотрел в ней возможную выгоду для своего кармана. Он быстренько заложил полукустарное, однако обширное предприятие, выторговал для племянника штабс-капитанские погоны, и тот стал подле него «военпредом», заключавшим с дядей договоры на военные поставки; и через два-три месяца в действующую армию ходко пошли крашенные в защитный цвет гундобинские изделия — обозные повозки, санитарные двуколки, артиллерийские зарядные ящики на кованых колесах, походные кавалерийские коновязи и даже складывающиеся «военно-полевые» стульчики для господ офицеров...
В восемнадцатом оставшиеся без призора мастерские Гундобина в одну ветреную осеннюю ночь выгорели дотла. Возможно, спалил их сам обезумевший от ярости и горя купец или кто-то из его многочисленной родни, живые веточки от которой до сих пор прослеживаются в Доможилове. Да и сама фамилия в трех-четырех домах сохранилась, хотя владельцы ее — далекие отпрыски разворотливого российского торгаша-промышленника — по сегодняшним представлениям вполне приличные и, правильнее будет сказать, обычные люди — рабочие и служащие местных учреждений. А один из современных Гундобиных вырос до большого музыканта, лауреата международных конкурсов, чем в Доможилове, естественно, гордятся. В краеведческом музее при Доме культуры на стенде, отведенном теме «Развитие капиталистических отношений после аграрной реформы 1861 года в Доможиловском уезде», есть пожелтевшая фотография Гундобина-старшего — хищника и эксплуататора; а на стенде, раскрывающем достижения социалистической культуры в масштабах района, законно занял свое место снимок Гундобина-правнука — известного виолончелиста и доцента консерватории... Никакого противоречия, понятно, тут нет. Старое — в прошлом, кто чего заслуживал — свое получил; молодое же — со всеми трудовыми полезными делами и талантами — в настоящем. Жизнь в вечном разумном продолжении!

Впрочем, все это припоминается к случаю, Чухлову сейчас не до исторических экскурсов, хотя — поразмыслить — ведь не по прихоти памяти, а само собой, по необходимости, всплыло в разговоре купецкое имя. Когда стали выяснять, какой же был сейф, оказалось, «гундобинский». И еще... Мебельная фабрика в тридцатые индустриальные годы поднялась на бурьянном пепелище гундобинского заводика, на пустом холодном месте. Из купеческих помещений оставался лишь маленький осанистый домик из красного кирпича — бывшая контора. Тогда она стояла на отшибе, в сторонке от пронзительного шума мастерских, и пожар восемнадцатого года не достал ее.
Теперь старинный домик, на загляденье крепкий своими массивными стенами, с железными решетками на узких оконцах, взят в окружение другими фабричными постройками, в свою очередь окольцованными грубой оградой из бракованных бетонных плит. В домике размещаются бухгалтерия и касса.
В момент ограбления сигнализация, установленная на входной двери и каждом из окон, не сработала: никакого тревожного сигнала дежурные у пульта вневедомственной охраны не зафиксировали. И это объяснимо. Преступники (а Чухлов, прикинув все, не сомневался, что тут действовал не один человек) просто-напросто «обошли» охранную сигнализацию. Они прокопали давным-давно засыпанный, забытый, казалось, всеми и поросший травой лаз в подвал, затем оттуда, из подвала, взломали половицы и через этот пролом проникли в кассу. После тем же путем, волоча за собой на веревке сейф, выбрались наружу. Дальше ящик, видимо, несли на себе — следов волочения на земле не обнаружено.
Первым, кто дал знать милиции о случившемся, был старик — ночной сторож. Во втором часу ночи он, по его словам, пошел в обход территории. Возле ног крутилась дворовая шавочка Тяпа, взятая из дому на дежурство, как объяснял дедок, «чтоб в темном ночном климате была одушевленная душа рядом, для настроения, стало быть...». Когда они, «разговаривая», проходили мимо бухгалтерии, Тяпа неожиданно прянула в сторону и — опять же словами старика — «как сквозь землю провалилась». А через минуту заливистый Тяпин лай, к изумлению и страху ее хозяина, донесся... из самой бухгалтерии, изнутри! Потом-то стало ясно — она была в тот миг в подвале, куда нырнула в проделанный грабителями лаз. Сторож, тут же заметив свежие земляные комья, а затем и саму дыру, пальнул из ружья в воздух и побежал к телефону...
Когда утром будут снимать показания с кассира Натальи Огурцовой, она угрюмо скажет:
— Какой пол-то у нас был — одни вздохи. Как Гундобин настелил его — не меняли небось. Опасались мы ноги на нем поломать, при каждом шаге половицы угинались и подмахивали, а живем, между прочим, на мебельной фабрике, посреди изобилия досок! Чего стоило этот пол сковырнуть?! А если б пол был такой, какой следует?.. Беззаботные начальнички у нас...
Старший лейтенант Сердюк — сам толстый, шестьдесят второго размера одежду носит — грубовато пошутит:
— Ладно на начальников... Вон, посмотреть, какая... гм... пышная женщина — шесть пудов весу будет. Под такими, как мы, и цементированный пол прогнется. Не приведи господь нам вдвоем на танцах оказаться!
Огурцова после этого вспыхнет, от шеи бросит ей на лицо пунцовые, словно при крапивнице, пятна, — обрежет она Сердюка:
— С женой своей зубоскальте, она у вас молоденькая, со всего засмеется! А мне не до веселого... — И, разрыдавшись, крикнет с отчаяньем: — Пятнадцать тысяч в сейфе-то было! Соображаете?!
III
За окном, во дворике — слышно было Чухлову — шофер Зайцев рассказывал что-то смешное, анекдоты, наверно, травил, потому что остальные не просто смеялись — давились хохотом, а участковый инспектор Щербаков тонко, по-бабьи вскрикивал: «Ой, мамочки!..»
Чухлов отодвинул нагретую утренним июльским солнцем штору, громко и строго сказал в форточку:
— Прекратить цирк! Всем временно свободным от дел заняться уборкой территории. Щербаков за старшего!
Кто-то там с досадой присвистнул, кто-то другой обронил: «Влопались, братцы!», а еще до слуха Чухлова донесся озорной голос Аркаши Дрыганова: «Ти-хо-о, вы! Чапай думает!»
Чухлов усмехнулся, снова подошел к форточке:
— Щербаков! Младшему сержанту Дрыганову определи по его наклонностям, поделикатнее... Пусть клумбу в порядок приведет, к лютикам-цветочкам его!
Во дворе опять в смехе грохнули: намек начальника был понят. Случай, когда Аркаша Дрыганов допустил серьезную промашку — и цветы в ней играли не последнюю роль, — был хоть давно, но еще у всех на памяти.
...В Агеевой слободке устраивали засаду, чтоб арестовать объявленного в розыск некоего Протаскина — за бродяжничество, мелкое мошенничество, злостную неуплату алиментов. Стало известно: приехал откуда-то, тут он, в своих местах, прячется возле колхозной пасеки...
И все ж в этот день Протаскин ушел от них! Задержали его лишь через сутки — в двенадцати километрах от Агеевой слободки, на глухом железнодорожном разъезде, когда он пытался сесть на проходящий товарняк. Словоохотливый Протаскин, повсюду выдававший себя то за режиссера, то за художника, в «золотых» очках, с бородкой клинышком, поигрывающий тросточкой, потом, смеясь, рассказывал, как тогда, у пасеки, миновал засаду:
«Я в обход по тропиночке — и там, боже мой, красный околыш! Гляжу на него из-за кустика — молоденький парнище, задумчивый и, что растрогало мое усталое сердце, цветочки рвет! Ромашечки белые, колокольчики синие, желтые лютики вроде бы... да-да, лютики! Я сам нежно цветы обожаю — запомнил. А этот мечтательный вьюнош, несмотря что он натуральным пистолетом отягощен, то ль букет для любимой собирает, то ль венок плетет. Не всегда, сами согласитесь, такого сентиментального стража порядка увидишь. Была б другая... творческая обстановка, на холсте б его изобразил. Обязательно. Сочными мазками! Верьте как живописцу. И картина, не сомневаюсь, на выставку б пошла, на зональную, не меньше, а там на премию бы потянула, как, заметить, уже бывало у вашего покорного слуги... Однако это уже из мира искусств, замнем для ясности, вернемся к интересующему нас моменту. Там ведь как я выглядел? Какое-то недоумение, позорный факт! Я поэтому бросил прощальный взгляд на симпатичного милиционера, все равно, рассудил, не буду понят им... шмыг, пардон, и мимо!..»
Был вечерний час, отдыхали — и Протаскина, который сидел в кабинете следователя с таким видом, как будто бы делал тому одолжение, слушали, потешаясь. А совестливый Аркаша Дрыганов тогда и после сильно переживал, хотя он, Чухлов, никакого взыскания на него не наложил, отеческим внушением ограничился... И сейчас зря напомнил! Подвернулось на язык... Но это ему за «Чапая»! Нашелся... остряк-самоучка!
За окном продолжали звучать прежние голоса, смех, но теперь глуше, на отдалении, и Чухлов, устроивший для себя эту маленькую разрядку, опять ушел в думы.
Докладывая в областное управление о случившемся, он вежливо, но настойчиво отказался от предложенной помощи, заявив, что справятся собственными силами, уже к вечеру, а самое позднее утром следующего дня он надеется доложить о конкретных мерах, гарантирующих успех в обнаружении преступников. «Что ж, поверим тебе, Григорий Силыч, — не сразу и, как почудилось Чухлову, с сомнением отозвался заместитель начальника управления. Провода явственно донесли в Доможилово, как он там, в своем огромном кабинете, вздохнул, помешал ложечкой чай в стакане. — Только не забывай, Григорий Силыч, что пятнадцать тысяч — это не стираные кальсоны с веревки украли, тут спрос с нас иной...» — «Товарищ полковник, — ответил он сухо, — я приму к сведению это ваше разъяснение». На том конце провода на какое-то время наступило тягостное молчание, Чухлов даже успел мысленно ругнуть себя: не нужно было срываться по пустяку, а теперь вот дал начальству повод для обиды... Наконец полковник — и опять провода чутко донесли — недовольно хмыкнул, отпил глоток чая и, приказав, чтоб Чухлов постоянно был на связи, заметил с укором: «Надо ж понимать, Григорий Силыч... А то ведь мы тут, в управлении, тоже с самолюбием!» И положил трубку.
Оно, бесспорно, негоже дразнить вышестоящее начальство, ведь и сам, признаться, не очень-то приветствует, когда кто-либо из подчиненных перечит, гонор показывает... Служба есть служба, и он как-никак третий десяток лет в ней завершает. Ведь ни в каком еще районе области не осталось начальника райотдела, которому за пятьдесят, да чтоб на одном и том же месте долгие годы сидел. Академия МВД, училища, школы — выпуск за выпуском! Сердюк двух лет не побыл у него заместителем — берут в управление, потому что в кармане диплом высшей специальной школы. И хоть приказ о переводе еще не поступил, в интонации, во всем облике старшего лейтенанта — Чухлов подмечает — пробивается это: покровительственно-снисходительное отношение... Не отношение — отношеньице!
А полковник — что ж, они с Чухловым давно знают друг друга, он тоже из «старичков», он всегда поймет, придираться из-за ерунды не будет. Вот если Чухлов не сдержит слова, воры с мешком денег уйдут из-под его носа, тогда держись, не жди снисхождения, тогда полковник спро-о-осит и под горячую руку прежние грехи припомнит!
Однако вся машина сыска, рычаги и приводы которой под руками Чухлова, послушны и подчинены ему, в действии. Аппарат угрозыска, ОБХСС, служба автоинспекции, дружинники — все брошено на это дело, надежно перекрыты вокзал, аэропорт, дороги. И те ребята, что сейчас, возглавляемые лейтенантом Щербаковым, метут и посыпают песочком милицейский дворик, — они тоже в состоянии боевой готовности; это две оперативные группы, которые немедленно выедут по первому сигналу...
Когда Чухлов побывал на месте происшествия, затем поговорил с работниками бухгалтерии, он уверился: проделано все кем-то из местных или, во всяком случае, наводил налетчиков кто-то из доможиловцев. Ведь нужно было знать, что в былые годы существовал открытый лаз в подвал, помнить, с какой именно стороны дома, под каким окном, а засыпали его несколько лет назад. Сколоченный из жидких досок щит, на который навалили тогда землю, сгнил, трухлявым уже стал, — как еще он земляную тяжесть выдерживал? Стукнули лопатами — рухнул. По сути, копать не нужно было; лишь дерн сняли, надавили на гнилые доски — и грунтовое покрытие поплыло в подвал, образовав при этом удобный естественный спуск. По нему сползти — как с горки.
И другое... День налета на кассу был выбран безошибочно: тоже знали, что сейф набит деньгами. На фабрике ожидалась выдача зарплаты, многие, кроме того, могли видеть, что кассир Наталья Огурцова садилась в директорский «Москвич». А такое — это всем известно — бывало два раза в месяц, когда она вместе с шофером Костей, как бы под его охраной, выезжала в банк — за крупной суммой, за зарплатой.
Работники бухгалтерии подтверждают, что кое-кто, особенно из знакомых женщин, прибегал к ним, интересовался, будет ли выдаваться зарплата. Им отвечали: «Должны выдавать, кассир в банке...» Да и мужики, самые нетерпеливые, жаждущие, слонялись под окнами — тоже в ожидании. И выдача, конечно бы, состоялась, только с запозданием: Огурцова вышла с сумкой из банка лишь в четвертом часу. Но когда она на «Москвиче» возвращалась на фабрику, случилось непредвиденное, можно считать ЧП: в лакокрасочном цехе вспыхнул пожар. А бушующий огонь там, где помимо фанеры и прочего дерева легковоспламеняющиеся да взрывоопасные красители, — это, понятно, страшно, такой фейерверк получится — не подступись.
Пламя сбили минут за десять-пятнадцать сами рабочие и свои, фабричного поста пожарные, но цех все-таки пострадал, кое-что из готовой продукции обуглилось, потеряло товарный вид, а главное, один из учеников-мебельщиков, рьяно тушивший пожар, сильно обжег руки, пришлось на «скорой» отправить в больницу... Директор был взвинчен, ругательски ругал себя, а заодно и главного инженера, начальника цеха, завхоза: ведь всего неделю назад районная инспекция государственного пожарного надзора оштрафовала администрацию фабрики за недопустимую захламленность лакокрасочного цеха порожней тарой, сурово предупреждала этим, — и теперь пиши объяснительные, оправдывайся! Когда кассир Огурцова, улучив момент, заглянула в директорский кабинет, напомнила, что привезли заработную плату, он нервически бросил ей: «В своем уме, Изотовна, лезешь с чем? Видишь, что! Опечатай до завтра...»
Улики грабители оставили — и ст
оящие! Чухлов не сомневался, что так будет. Как бы тщательно ни готовилось преступление, как бы хитроумно ни маскировалось оно — следы обязательно обнаружатся; хоть маленькие, слабенькие, как паутинка, но обнаружатся! И на этот раз скрупулезный осмотр принес плоды.
Во-первых, розыскная собака довела проводника до дощатых мостков Доможиловского озера, возле которых, у свай, владельцы лодок держат свои посудины на цепях. Лодок десятка три — и это не так уж много...
Во-вторых, в подвале нашлась затоптанная в землю латунная пуговица с выдавленным на ней якорьком — такая, что бывает на флотской одежде. И что важно — в петельке пуговицы сохранилась розовая ниточка со свежим следом обрыва...
В-третьих, на небьющемся настольном стекле, под которым Наталья Огурцова хранила разные деловые бумажки и милые ее сердцу фотографии своих дочек-близняшек, остался видимый невооруженным глазом отпечаток ладони — верхней части тыльной стороны. Его, разумеется, тут же зафиксировали на специальную пленку.
И в-четвертых, в подвале с отверстия лаза сняли зацепившуюся за обломанный кирпич прядку коротких рыжеватых волос. Оставалось выяснить, чьи они...
Старший инспектор угрозыска капитан Чернущенко высказал предположение, что обувь преступников была обернута рогожной мешковиной, оттого следы ног такие размазанные, не отчетливые, и удалось к тому ж подобрать несколько грязных рогожных волокон. Чухлов согласился: «Пожалуй!»
И когда он отказался от помощи, предложенной заместителем начальника управления, он знал, что делает. Чего зря гонять из областного центра, за двести с гаком километров, «чужих» оперативников: сам будешь словно приклеенный к ним, никакой тебе собственной инициативы... Дело, разумеется, для района не рядовое, ответственное, о нем еще много будут говорить, прошляпить, поскользнуться никак нельзя, но не зря ж, черт возьми, они тут, в Доможилове, милицейскую форму носят. Доверено им блюсти правопорядок! Неужели он, Чухлов, ничему толковому своих помощников не выучил?
Ах, Чухлов, Чухлов, да будет тебе! Припомни лучше, как любил повторять первый послевоенный начальник доможиловской милиции Иван Самма: «Мы — дворники хорошей жизни. А наша собственная жизнь — лишь эпизод...»
Чухлов положил перед собой чистый лист бумаги, стал набрасывать основные направления поиска, по которым уже работают его помощники. Прикидывал, все ли учтено, на чем еще нужно будет остановиться... Ползли из-под пера авторучки аккуратные строчки:
«1). Огурцова, сторож, бухгалтерия, шофер Константин Яшкин. Опрос рабочих.
2). Доможиловское озеро. Кто рыбалил ночью? (Сейф — по ту сторону озера, в лесу, или — на дне?) Все владельцы лодок! Осмотр, беседа.
3). Кто может быть «моряк»? (Одежда).
4). Приезжие. (Данные участковых и линейного поста ж/д станции).
5). Магазины, столовые. (Серия и №№ ден. знаков по уточненным сведениям банка).
6). Розыскная собака — снова озеро. Лес.
IV
Попросил разрешения войти капитан Чернущенко — низенький, худенький, с очень живыми, излучающими жадное любопытство карими глазами — по виду подросток, хотя ему за тридцать пять. Он из брянских металлистов, несколько лет назад с завода был направлен на работу в милицию по комсомольской путевке, успел послужить в разных местах, в Доможилове не больше года, однако Чухлову кажется, что они знакомы давным-давно. Так всегда, если человек по душе тебе, понимаешь его с полуслова, если он такой же неистовый в деле, как ты сам...
Короче, Чухлов доволен старшим инспектором угрозыска. Жениться б, конечно, капитану не мешало, все сроки пропустил, в Доможилове он под ревнивым негласным надзором засидевшихся невест и молодых вдовушек: куда пошел, с кем на улице остановился, где вечером его видели... Но жениться — тут руководящим приказом не принудишь, человеку, может, без женщины рядом лучше, спокойнее... сколько нас — и все мы разные!
Чернущенко доложил, что экспертиза показала: обнаруженные на месте преступления волосы рыжего отлива — человеческие.
— Итак, имеем, выходит, рыжеватого блондина?
— Точно, Григорий Силыч.
— А с «моряками» как?
— Потихоньку отбираем... Шесть человек на примете.
— Потихоньку, говоришь?
Чернущенко засмеялся:
— Потихоньку — терпеливо, значит, вдумчиво. А так — в темпе, Григорий Силыч!
— То-то. В семнадцать ноль-ноль мне в управление звонить.
— Я пригласил на беседу шофера директора фабрики...
— Костю? Начинай, я зайду — послушаю...
Однако ни Константин Яшкин, ни Наталья Огурцова не сказали ничего такого, за что можно было бы хоть мало-мальски ухватиться. Сами они, как возможные участники кражи, не «вписывались» ни в какую схему. Костя Яшкин — вчерашний десятиклассник, вырос в районном центре у всех на глазах, он такой же тихий, работящий, как его отец — мастер сапожной мастерской комбината бытового обслуживания. Член ВЛКСМ, дружинник. Огурцова — тоже здешняя, все ее знают, и она всех, шумливая, но добрая характером, отзывчивая, и муж у нее — председатель рабочкома совхоза «Доможиловский». Огурцова клялась-божилась, что никому не говорила о полученной в банке сумме, что деньги на ночь остались в сейфе... Однако говорила не говорила — и без ее слов многие знали, чуть ли не вся фабрика, что кассир ездила в банк. Подозревать, что пожар в конце рабочего дня был устроен злоумышленником специально, дабы сорвать выдачу денег, не приходилось. Пожарная инспекция установила: загорание возникло из-за халатной небрежности. Одна из работниц забыла выключить электроплитку, на которой разогревала клей...
— Послушай, Миша, — сказал Чухлов перебиравшему на столе бумаги Чернущенко, — ведь они безошибочно вышли на лаз, знали, где копать...
— По этой линии пощупать? Не мешает!
— А кто мог помнить о лазе?
— Бывший хозяин дома, во-первых...
— Эк куда хватил! Гундобин, что ль? Купец?
— Еще тот, кто когда-то щитом закладывал, землей засыпал...
— Это уже похоже на дело.
— Может, с фабричного завхоза начать?
— Попробуй, Миша. А лучше так... придет — вместе с ним ко мне.
V
Стрелки часов между тем показывали всего половину девятого. Утро было по-летнему пригожее, в ярком свете, без той обволакивающей тело знойной духоты, что накапливается к полудню. И что за жара стоит весь месяц! Поля вокруг Доможилова изнывают в сухом безветрии, лес до мшистой подстилки прокален солнцем: редкий гриб не успеет проклюнуться — уже червивый. В Чуваксине, где Чухлов еще вчера ночевал, жаловались: неделя-другая без дождя — урожая не видать. Зерно в хлебном колосе останется щуплым, легким, картошка будет мелкой, огурцов и помидоров вдоволь не есть... Снарядом бы встряхнуть, что ли, небесную канцелярию!
А горячие лучи с белого безоблачного неба начинают доставать сюда, в кабинет... Чухлов стянул с себя, повесил на пластмассовые плечики тужурку, отстегнул галстук, удобнее — надолго — расположился за столом. Денек разгорается, кроме главных дел, самого наипервейшего среди них на сегодня есть текущие, тоже обязательные.
Вот стопка новеньких, пахнущих клеем и краской паспортов — на подпись ему. Их вручат вечером шестнадцатилетним — в районном Доме культуры, на украшенной кумачом сцене, под торжественную музыку духового оркестра. Напутствовать ребят добрым словом придут ветераны труда, герои минувшей войны. Начальник паспортного стола и секретарь райкома комсомола — устроители мероприятия — просили, чтоб на этой праздничной церемонии непременно присутствовал и он, Чухлов, при полном параде, с орденами и медалями, тоже с продуманной или записанной на бумажку напутственной речью, поучающей и подбадривающей юных граждан государства, выросших на славной доможиловской земле... Грешно было б отказаться, перепоручить, допустим, заместителям. Они — и Сердюк, и замполит — молодые у него, военного пороху не нюхали, о тяжелых для Родины годах знают понаслышке, из книг да родительских воспоминаний, и хоть в чем-то другом башковитые, профессионально подготовленные товарищи — все же нужно им самим еще многое прочувствовать, выстрадать, чтоб когда-нибудь после могли они сказать верное,
свое слово о жизни...
Правда, тут, он, Чухлов, пожалуй, опять лишку хватил! Так рассуждать — молодым, стало быть, место только во втором эшелоне, за сутулыми стариковскими спинами... А если объективно — не молодые ли опора всему? И эти, что смотрят сейчас на него с маленьких паспортных фотокарточек, завтра, потеснив уставших и заменяя выбывших из строя по другим неумолимым причинам, надежно займут ключевые позиции в жизни. Здесь, в отчем краю, в иных районах нашей обширной страны — пути не заказаны, светлые головы и крепкие руки всюду требуются! Диалектика... Разве не так, ваше ворчливое степенство?
Так, так...
И лица на карточках — знакомые сплошь; если кого из ребятишек толком не помнит — их родителей-то, можно считать, со всех сторон знает.
Витька Сучков... Ишь, чуб начесал, глаза «со значением» прищурил! Чем не отец? В батьку своего, баяниста, форсистый, и достанется кому из девушек — ну, поди, тоже наплачется она!.. А может и так, конечно, быть: вывеской в папу, по уму — не сравнить. Дай-то бог!
А это сынок линотиписта типографии Горельцева. Всеволод, Севка... Стихи пишет, печатает их в районной газете, поэтом, возможно, станет.
С пышной косой через плечо — дочка первого секретаря райкома партии Игоря Николаевича, товарища Арбузова. Мама у нее красавица, и она такая ж — в мамку...
Длинноносый, смотрит в объектив прямо, дерзко, с усмешкой — это младший из большой семьи Урядниковых. Тоже Иван Иванович, как и отец его. А тот полный кавалер орденов Славы, лихой разведчик на фронте был, дорожным мастером работает. Восемь детей у него, парнишки ловкие, верткие, что в школьных спортивных соревнованиях, что подраться с кем иль в совхозный сад набег сделать... Отца, конечно, на вечер в Дом культуры не забыли позвать — почетный гражданин Доможилова!
А может ли он, Чухлов, в эти минуты сказать, что ждет его нынче вечером?
Ну, ладно... подписано — и с плеч долой! Так, что ли? Последний паспорт... Ого! Это что ж — у Фимки-буфетчицы такая взрослая дочь вымахала, шестнадцать ей? А глазищи-то грустные, никакой девичьей радости в них... Понять, наверно, можно. Как звать-то тебя? Ольга Максимовна. Так вот, Ольга Максимовна, мамочка, само собой, кормит тебя сладкими конфетами, в дорогие модные туфельки обувает, недавно для тебя золотой старинный перстень у пропившегося вдрызг портного Алика Воскресенского за бесценок приобрела, воспользовалась... а тебе, видишь, скучно, даже тошно. Глаза, недаром говорят, зеркало души... н-да... Помимо всего, надо думать, надоели тебе, Ольга, мамочкины... как бы поудобнее выразиться... гости-сожители, временные мужья! Один у вас в доме год живет, другой того меньше, третий вообще не больше недели, а уйдет — мамочка, смотришь, нового, прости меня, на неостывшее место за руку ведет. Сколько их было-то! И это неплохо, что грустишь, переживаешь — значит, не согласная с такой жизнью, что в родном дому наблюдается... А, Ольга Максимовна?
Набрал Чухлов номер телефона старшего инспектора Чернущенко:
— Миша! Да нет, не надо пока ко мне... Возле Китайцевой... ну, правильно — она, Фимка!.. возле нее очередной хахаль греется. Из местных родом, откуда-то из Средней Азии приехал. Хорошо, что знаешь... Такой ведь гренадер — будь-будь! Никаких сигналов на него не поступало? В райпотребсоюзе грузчиком? Но все-таки, Миша, включи его седьмым в свой списочек «моряков». Почему? Сдается мне, что я его как-то в тельняшке видел. Иду мимо — он дрова в Фимкииом дворе колет, полосатый, помню. Сейчас вдруг высветилось...
Только положил трубку — дежурный ему позвонил:
— Товарищ майор, пенсионер Куропаткин рвется к вам, спасу от него нет, кричит, что по важному вопросу.
Чухлов мысленно выругался: сто лет бы не видеть этого кляузного человека! И можно категорически отказать — пусть в установленные для посетителей часы приема приходит... Но вдруг Куропаткин что-то пронюхал, на этот раз полезным окажется? Сказал дежурному:
— Пропусти.
VI
Здесь, в кабинете, сидя за привычным служебным столом, Чухлов всем своим существом, чуть ли даже не спиной чувствовал, ощущал, как возбужден поселок, какие повсюду разговоры об украденных на фабрике пятнадцати тысячах, сколько домыслов, шушуканья и — настороженное любопытство: а милиция что — надеется найти? Уже было несколько телефонных звонков — от приятелей да знакомых: вначале, как водится, о том о сем, а потом, конечно, обязательный, из-за чего и звонили, вопрос: ну как, что-нибудь уже вам известно? Он, сдерживаясь, отвечал каждому примерно в таком духе: «О чем волноваться, когда сам факт кражи был предусмотрен нами еще неделю назад...» — и бросал трубку.
Председатель райисполкома Охотников попросил информировать его обо всех этапах расследования — в подробностях причем. «Не вижу необходимости, — напрямую возразил Чухлов. — Спрашивать с нас будешь, Эдуард Венедиктыч, за конечный результат. А такое дублирование — я тебе, ты мне — при моем вздорном и твоем властном характерах только нервотрепку создаст. И, сам понимаешь, своя, милицейская кухня у нас, свои кухонные рецепты... ты уж лучше готовое блюдо жди!» Охотников на это сказал: «Чего мы тебя такого держим, а, Чухлов? Ладно, бог с тобой, своевольничай. Однако не забывай все ж, что я как-никак над тобой посажен — держи в курсе!»
Редактор районной газеты упрашивал допустить в отдел к сотрудникам угрозыска редакционного паренька — чтоб тот, значит, наблюдал за деятельностью оперативников, «идущих по следу преступников»... «Какой репортаж будет, — уламывал редактор, и так громко, что Чухлов держал трубку подальше от уха, — представляешь, Григорий Силыч?! В нескольких номерах, под крупным заголовком, с фотографиями! Это ж, Григорий Силыч, работа на вашу популярность, для славы вашей... Лучшего нашего корреспондента — на три дня в ваше распоряжение. Ценишь, Григорий Силыч?..»
«Это какой же лучший корреспондент? — улыбнувшись, спросил Чухлов. — Сливкин, что ль? Если он еще будет ездить на редакционном мотоцикле без водительских прав да в подпитии... Да-да, не спорь!.. Мы с него строго спросим. Так и передай своему лучшему корреспонденту! И не присылай, Анатолий Степанович, ни его, ни кого другого. Я Чухлов, а не комиссар Мегрэ, ты редактор «Социалистической нови», а не какой-нибудь там «Санди телеграф»... Привет!»
И если сейчас в поселке чуть ли не все были заинтересованы главным образом тем, кто же обокрал фабричную кассу, кто из живущих рядом,
своих, доможиловских осмелился на такое, скорей бы милиция обнародовала их имена, — озабоченность Чухлова шла дальше... Выявить преступников, вернуть по назначению государственные деньги — это, само собой, первоочередная, прямая задача. Но, кроме того, в успехе ее исполнения Чухлову виделась еще одна немаловажная сторона дела — нравственная, что ли. Так ее, наверно, можно определить. Быстрое раскрытие преступления должно лишний раз убедить любого-всякого, что никакой кривой дорожкой от ответа перед законом злоумышленникам не уйти, что действительно сам он, Чухлов, все, кто служат под его началом, не просто штаны на стульях протирают, добродушными ушами хлопают... Честь мундира — не только красивые слова; Чухлов ревниво к этому относится, с самолюбием. На оперативном совещании, которое провел с личным составом отдела в шесть утра, свое короткое выступление он закончил так:
«Ни за себя, ни за каждого из вас в отдельности краснеть не хочу. У нас служба, известно, добровольная, не по принуждению. Но коли присягу дал — на время дежурства забудь себя, службу помни! Ведь кто мы?»
«Дворники хорошей жизни, товарищ майор!» — лихо вставил из дальнего угла младший сержант Дрыганов.
Все засмеялись, однако, деликатно, сдерживая себя, — не известно было, как начальник отнесется к легкомысленному выкрику молодого милиционера. Но Чухлов тоже засмеялся, разрешил: «Можно разойтись!»
Тот час — шесть утра — по сути был началом операции... Три прошедших уже часа пока ничего обнадеживающего не принесли.
«Лишь бы не просочились за пределы района, — подумал Чухлов. — И сумели ли вскрыть сейф? Отмычек если нет, ключей не подберут — автогеном будут резать?»
По коридору — слышал Чухлов — приближались к двери шаркающие шаги Куропаткина...
Раньше Куропаткин писал жалобы на его имя. В месяц два-три заявления — на продолговатых листах пожелтевшей бумаги, от которой сильно пахло затхлостью, керосином, куриным пометом... (В сарайчике, что ли, хранит он рулон бумаги?) Острыми, напоминающими готические, буквами, соединенными в тесные, набегающие друг на дружку строчки, Куропаткин пространно и как-то по-особенному злорадно описывал подмеченные им на улицах Доможилова, как он витиевато выражался, «вопиющие факты нарушения непреложных для каждого гражданина установленных правил». Эти «вопиющие факты» чаще всего или не подтверждались, или по своей незначительности не заслуживали той бумажной переписки, в которую въедливый пенсионер вовлекал должностных лиц. Ну, скажем, что можно было ответить на его категорическое требование «разыскать и наказать неизвестное лицо, изобразившее непристойности вульгарного свойства в старой, той, что не из кирпича, а из горбылей, уборной, что стоит на задах стадиона»?
Ради истины надо заметить, что иногда Куропаткин сообщал и о чем-то дельном, что, как выяснялось, впрямь требовало внимания и усилий работников милиции: о мелких хищениях, чьих-то пьяных выходках, махинациях в торговой сети... Нюх у него — дай боже! Но даже в том случае, когда заявления Куропаткина несли в себе полезную информацию, Чухлов угадывал, что за их строчками не тревога писавшего, не его искреннее желание помочь чему-то хорошему, а все то же, знакомое по прежним писулькам, торжествующее злорадство... Отчего?!
Однако это раньше Куропаткин посылал жалобы на имя начальника райотдела внутренних дел Чухлова. Теперь, вот уже полгода, с тех пор, как Чухлов отказался принять на работу демобилизованного из армии сына Куропаткина, пенсионер пишет заявления... на него, Чухлова. В райком партии, в комитет народного контроля, прокурору, в областные организации...
— Надеюсь, могу взойти? — одновременно со скрипом двери ржаво прозвучал голос Куропаткина.
— Прошу... садитесь.
— Сидят... хе-хе... пусть другие, кто этого заслуживает, — Куропаткин растянул в улыбке широкие бесцветные губы. — А мы с вашего позволеньица просто присядем на стульчик.
Чухлову казалось, что в солнечном свете, щедро заливавшем кабинет, как-то уж очень остро, коварно и холодно взблескивали круглые очки Куропаткина, его голый череп, белые и ровные, словно у молодого, искусственные зубы... Куропаткин (и это повторялось всякий раз) медленно вытащил большой носовой платок, так же медленно разложил его на коленях, затем долго вытирал им лицо, шею, опять же долго складывал платок, убирал в карман и — молчал.
Чухлов тоже молчал.
Куропаткин снова изобразил улыбку, потер одна об другую пухленькие, чужие при его широком костлявом теле ручки, вымолвил:
— До грабежей, интересно складывается, дожили.
— Как мне было доложено, вы требовали допустить вас к начальнику отдела по чрезвычайному делу... слушаю!
— Всяческие могут быть дела, всяческие, — пробормотал Куропаткин и вдруг, уставив стекла очков на Чухлова («Как слепящие фонари», — подумал тот), заговорил быстро, взахлеб, роняя капельки слюны на бритый подбородок: — А разве это что — нормально?.. Допущение кражи сейфа, чтоб пятнадцать тысяч из государственного кармана в чей-то личный... Почему спокойны, товарищ Чухлов, когда вся общественность на дыбках, невероятно возмущена? Спокойствие всегда похоже на потворство... не я так расценю — другие. Другие, товарищ Чухлов! А я, как известно, готовый, не жалея сил, помочь. Согласие, согласие б лишь ваше!..
— О чем вы? — Чухлов решительно вклинился в поток несущихся ему в лицо скользких, как мелкая рыбешка, слов. — Прошу конкретно по существу вопроса...
— Фамильная мечта, товарищ Чухлов, допустимое желание жизни... Про сына напоминаю, товарищ Чухлов! Демобилизованный воин, известно вам, Ярослав Семенович Куропаткин, воспитанный мною на большие дела... и нет, не хвалю, это точно-с! Образец! Со всех сторон без подозрений... Повторяю вам, товарищ Чухлов, что за мной и за сыном, как за каменной стеной были б!
— Ну вот что, гражданин Куропаткин, — сказал Чухлов. — Этот ежемесячно возобновляемый вами спектакль мне чертовски надоел. Кроме всего прочего я ни разу не видел здесь, у себя, вашего сына. Можно подумать, не он просится на работу к нам — вы под его именем! Пусть ваш сын придет ко мне, буду с ним разговаривать, а вы сейчас потрудитесь выйти
за дверь.
— Выгоняете?
— Это просьба.
— Показательно... о-очень! — Куропаткин встал, снова вытащил из кармана платок, с прежней медлительностью возился с ним, дряблые, в розовых складках щеки вытирал и неожиданно — с мстительной радостью — выкрикнул, будто протявкал (это — как тявканье — после ухода Куропаткина, застряв, останется в ушах Чухлова):
— Пускай! За нами право... докажем! А сейф-то... там ищете? Отмахнулись от меня? Зря! Преступно! Недальновидно!
И он, вскинув голову, пошел к выходу.
— Минуточку, гражданин Куропаткин! — Чухлов тоже поднялся со стула, уперся ладонями в край стола. — Должен вас предупредить... Если вам действительно, — он сделал ударение на этом слове, — известно что-либо о краже сейфа на мебельной фабрике, об участниках преступления, а вы скрываете это от органов правопорядка — вас можно рассматривать как пособника преступников. Предупреждаю!
— Откровенно... подумайте только! — Куропаткин держался за дверную ручку, глядел на Чухлова через плечо. — Пошлете моего сына на курсы милиционеров — не ошибетесь... точно-с!
— Я вас предупредил, — стараясь выглядеть спокойным, а на самом деле взбешенный до ноющей боли в правом боку, до черных мушек в глазах, сказал Чухлов. — И торговаться, гражданин Куропаткин... не туда пришли, не пройдет номер!
«Какая сволочь, какая мразь, — кипело все в Чухлове уже после того, как Куропаткин исчез. — И я с ним словно жвачку жевал... сразу надо было вытурить! Но ведь что-то он определенно знает, разнюхал! Всем своим поведением демонстрировал, что знает... Откуда?»
Может, кем забыто — народ ведь мы отходчивый, простосердечный, не умеем таить зла на раскаявшихся, повинившихся, — но Чухлов помнит, что сразу после войны Куропаткина, тогда молодого, долго проверяли: каковы могли быть его взаимоотношения с немцами, приказом которых он был назначен мастером на восстановленную маслобойню? Прямых улик предательства, конкретных фактов его активного сотрудничества с оккупантами не установили тогда, но что лизал он немецкие задницы — это бессомненно. За то, что кормил германскую армию первосортным доможиловским маслом, отсидел Куропаткин не то два, не то три года...
Хоть не касался он руки Куропаткина, даже в начале их встречи рукопожатия быть не могло, пошел Чухлов к умывальнику, тщательно вымыл под тугой струей ладони, а затем пошире распахнул форточки каждого из трех кабинетных окон. Остановился подле одного, выходящего на проезжую улицу, рассеянно наблюдая, что там происходит... А там шли редкие прохожие, у ограды весело болтали две молодые женщины, маляр в заляпанном краской комбинезоне, пиная ногой, катил пустую бочку, она громыхала, и совсем маленький мальчик, одетый в красивую матроску, сын, скорее всего, одной из этих, что у ограды, женщин, усевшись посреди дороги, самозабвенно обсыпал себя серой пылью. Набирал ее в ручонки, разжимал пальчики над макушкой — и пыль, как легкий дождь, падала на него... Чумазое личико сияло таким счастьем, что Чухлов, расслабляясь, невольно засмеялся, сказал, будто утешая себя:
— Нет, чем плохо? На что жаловаться-то?
И впервые осторожно кольнуло в сердце, осело в нем неизъяснимой желанной болью: мне бы такого внука, веселого, чумазого, — вот бы любил его, домой спешил к нему!
VII
— Завхоз мебельной фабрики явился, Суходольский... Тут он, Григорий Силыч, в коридоре ждет.
— Зови его, Миша.
Чернущенко приоткрыл дверь:
— Пожалуйста, Суходольский!
Фигурой завхоз фабрики был под стать капитану — такой же низенький, худощавый, с широким, как и у того, разворотом плеч, сильными на вид, с юности развитыми в труде руками. Только в облике Чернущенко зримо проглядывалось этакое горделивое достоинство, старший инспектор, чувствовалось, знает себе цену, уверен в своем нынешнем положении, в своей человеческой, если хотите, значительности... Суходольский же суетлив в движениях, глазки у него под выгоревшими белесыми бровями тревожные, вопрошающие, и, возможно, это не из-за подобострастия, угодничества — из-за желания как можно быстрее, безошибочнее уловить, чего от него хотят, как лучше выполнить предстоящую работу...
Он заметно нервничал и, не дождавшись, что скажет ему Чухлов, сам заговорил:
— Извиняюсь, конечно, но за что меня-то сюда? Товарищ Чухлов? Иль подозреваете? Да как можно!.. Я к этому делу... господи, что вы?!
Чухлов попросил его успокоиться, заверил, что у них нет никаких основании сомневаться в его добропорядочности, не вызывали (повестки-то не было) — пригласили для помощи.
— Это я готов, товарищи, это что могу — нарисую! Ах ты, господи... а я-то напереживался!
И понадобилось какое-то время, чтобы Суходольский освободился от своего прежнего напуганного состояния, взял в толк, чего от него тут хотят. Чухлов укоризненно взглянул на старшего инспектора: надо предупреждать людей, с какой целью зовут их в милицию. Чернущенко пожал плечами: кто же, мол, знал, что попадется такой. Глаза его смеялись.
— В каком же году, товарищ Суходольский, был заделан лаз в подвал? При вас это происходило?
— А как же! Позвольте задуматься... сейчас, сейчас... Ровно семь лет назад, об эту пору, летом. В тот год приступили к благоустройству территории, я только что из кладовщиков в завхозы был переведен. Ответственно подтверждаю!
— Хорошо. Почему же тогда было решено заделать лаз в подвал?
— Сейчас, сейчас... Ага! Туда, в подвал, весной, осенью, летом в дожди вода стекала. А это, знаете, сырость, запах, просто вонь, извиняюсь.
— Понятно. А кто были исполнители?
— Не уловил, о чем вы?
— Кто конкретно заделывал лаз? По фамилиям не назовете?
— Ага... Еще позвольте задуматься... сейчас, сейчас нарисую. Та-ак... Нет, давно было! Бессилен назвать, не ругайте. Не помню. Однако, помню, при этом случай произошел. В натуре! Рабочие, копая землю, нашли банку с царскими деньгами. Сотенными, четвертыми... Все тогда сбежались, разглядывали. Купца Гундобина, видно, денежки иль конторщика его...
— Только бумажные? А монет, золотых допустим, в банке не имелось?
— Ответственно подтверждаю: только бумажные! Сам видел, щупал, извиняюсь... Да их потом в наш музей отдали, там, вероятно, по сей день хранятся...
— А все же кто эти рабочие были — никак не припоминаете?
— Напрягаюсь, товарищ Чухлов... но нет! Вышибло! Если б это вчера — семь лет назад! Не обижайтесь...
— Скажите, а после... или вот совсем на днях... никто не интересовался месторасположением лаза, не спрашивал у вас о нем? Так, между делом, возможно...
— Нет...
— Что ж, спасибо, товарищ Суходольский, за разъяснения. Надеюсь, вы не будете...
— Что вы, что вы! Ни-ко-му! Как можно!
Он не вышел из кабинета — вылетел.
— Конечно, — говорил Чухлов капитану, — эта ниточка... как бы ее поименовать?.. условна очень! Про наличие лаза десятки людей осведомлены были, кроме тех, кто закапывал его... Однако не мешает дотянуть ниточку до конца. У нас кто краеведческим музеем владеет? Старик Шевардин? Пошли кого-нибудь к нему, пусть посмотрят те гундобинские деньги, поговорят... А что если старик не забыл, кто тогда банку выкопал?
— Будет сделано, Григорий Силыч. Хотя...
— Сам вижу это «хотя»! А проверить обязаны.
— Десятый час, Григорий Силыч.
— Не напоминай, Миша, вижу! Как твои «моряки»?
— Из семи четверо осталось. Трое с надежными алиби.
— Действуй дальше.
— Есть, Григорий Силыч!
Не успела за Чернущенко дверь закрыться — младший сержант Дрыганов возник в ней:
— Разрешите, товарищ майор?
— Входи!
— Разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ майор!
— По личному... выбрал времечко! Ладно, садись, выкладывай.
— А мне, собственно, нечего... Вот мое заявление, товарищ майор.
— Сейчас прочитаем... Садись, садись!
Аркаша Дрыганов примостился на краешке стула, и чем дольше начальник смотрел на поданный им листок бумаги, тем гуще краска заливала прыщеватое лицо младшего сержанта. Беззащитность, отчаянная решимость, надежда, что будет понят, — все было в этот миг в его глазах.
— Значит, прошу... или как тут?.. убедительно прошу направить на учебу в Московскую специальную среднюю школу милиции?
— Так точно, товарищ майор.
— Мы ж говорили с тобой на эту тему...
— Я помню, товарищ майор.
— Говорили, что направление заслужить надо. Примерной службой... и так далее.
— Стараюсь.
— А не всегда у тебя нормально получается, так?
Аркаша пожал плечами.
— Не всегда, товарищ младший сержант... правильно?
Аркаша молчал.
— Конечно, я вижу — стараешься. Но срывы! А как это ты однажды сказанул... вот оттого, что я напоминаю вам, требую, поучаю... нудный я! Говорил такое, что я нудный?
— Так точно, говорил. Но не совсем так. Не «нудный» говорил, а что нудно объясняете. Можно короче.
И теперь, кажется, в сузившихся глазах Аркаши блеснул вызов.
— И на том спасибо, — усмехнувшись, сказал Чухлов. — За откровенность. А теперь напомню, товарищ младший сержант, что речь у нас когда-то шла о направлении на учебу в Ленинград. Не в Москву. Есть разнарядка на Ленинград.
— В Ленинград не хочу, товарищ майор. В Москву.
Оба молчали.
Где-то неподалеку — доносилось сюда — пилили тяжелое дерево, дубовое бревно, возможно. Пила ходила в нем с натугой, рождая визгливые и сердитые вибрирующие звуки.
«Ах, как ему наша Таська, — думал Чухлов. — Только в Москву, где она учится, — и никаких. А в Москву не могу: предупредили ж, что в этом году от нас лишь в Питер. Да и Таська... у нее, куда уж тут, свое, другое, иная жизнь, она совсем теперь отдалилась от нашего доможиловского житья-бытья, от своего детства. Полтора года еще — инженер-электроник, кибернетик, где-нибудь там, возле циклотронов, синхрофазотронов будет. Жалко Аркадия, спору нет, парень он честный, душевный, с ясной головой и приработается — не из последних будет. Не только в районном отделе — и повыше... Это факт. А насчет Таськи... давал же я ему понять насчет Таськи! Однако, поди ж ты, уверенный. Какой день уже ждет, все глаза проглядел... А сегодня-завтра привезет она кого-то... как тогда?»
Младший сержант нетерпеливо скрипнул стулом. Чухлов, очнувшись от дум, проговорил со вздохом:
— Заявление твое принял. Однако сейчас, сам знаешь, не до этого.
— Разрешите идти?
— Ты вот что, Дрыганов... Ступай домой, переоденься в штатское — и на Доможиловское озеро! Потолкайся там среди отпускников и прочих загорающих-купающихся, послушай, поговори, посмотри... Ясно?
— Слушаюсь.
— В четырнадцать ноль-ноль снова быть в отделе одетым по форме.
— Есть!
— Поклон от меня Софье Брониславовне...
— Спасибо, передам матери...
Аркаша Дрыганов четко, даже с тщанием повернулся «кру-у-гом», пошел к двери. Чухлов уже в спину сказал ему:
— Послушай, Аркадий...
— Да? — младший сержант настороженно застыл на месте.
— Послушай... моя Таисия тебе писала что-нибудь? Письма... ну как меж товарищами бывает?
— А зачем вам? — И снова щеки Аркаши багрово вспыхнули.
— Я просто, Аркадий... не подумай что-то там!.. Ну ладно — иди, иди! Это я так... извини, если я вроде б как превысил...
— Раньше писала, — тихо сказал Аркаша и поспешно вышел.
«То-то и оно — раньше!»
По-прежнему долетал в кабинет противный скрежет пилы, вгрызающейся в неподатливое дерево. «Обещал я мастера Варваре, — вспомнил Чухлов. — Да пусть сама оформит заявку в комбинате бытового обслуживания. Должны ж быть там умельцы...»
Его не очень-то зацепило, что Варвара, упрекая за бездействие — когда ж, мол, ремонт начнем, — бросила с досадой: «Денег тебе жалко...» Это она, чтобы поддеть побольнее, подзадорить, с места сдвинуть! Ей ли не известно, что в чем-чем, а в скупости, скаредности его не уличишь... Лишних рублей в доме у них не бывало, но на те деньги, что имеют они в руках, он всегда смотрит легко и просто: сегодня есть — и завтра будут! Не лежебоки же, работаем. Лишь рассчитывай, Варвара, чтоб до следующей получки хватило, чтоб по соседям не ходить, в долг не брать. В долг, известно, взять не трудно, отдавать тяжело. И по-всякому может быть... Он, помнится, в пехотном училище, соблазнившись увиденным на базарной барахолке фотоаппаратом, набрал у ребят, таких же безденежных курсантов, как сам, полтинников да целковых, купил эту дурацкую камеру на треноге — и по сей день памятны ему те монеты! Не успев сделать ни одного снимка, беспризорно оставив громоздкий аппарат в училищной казарме, он, выпущенный досрочно, неожиданно, с маршевой ротой отбыл на фронт, а в записной книжке у него значилось: «Тихонов — 2 р., Клыч — 2 р. 25 коп., Витька — 1 р., старшина — 50 коп.» — и т. д. Военным вихрем разметало младших лейтенантов, как странички той самой его новенькой записной книжки, — и рад был бы отдать юношеский должок, только не докличешься никого... И не тот должок уже... Долг. Он вернулся
оттуда, а они — нет.
Он — в майорах, а они — в героях.
Тех, что
смертью храбрых.
И чем дальше время уводит, тем ближе все они ему. Это уже возрастная потребность — назад оглядываться. А они — за спиной. В лихо сбитых набекрень пилотках, локоть к локтю в тугом строю, в котором он, курсант Чухлов, ходил запевалой.
И разношенные сапоги по булыжной мостовой — бух, бух, бух! В такт ухающим ударам большого оркестрового барабана...
Так было?
Кто же спорит...
Ну, а это — ремонт угловой комнаты, — это, Варвара, мелочь! Что нам стоит дом построить!
А почему тянул-дотянул — тоже причина есть. Обклеить стены обоями, побелить потолок, полы покрасить — все хотел он сделать своими руками. Надеялся, выкроит время на это, в субботу, воскресенье... Так хочется самому, собственными руками! Чтоб гвозди забивать молотком, кистью по доскам водить, шпаклевать, тесать, землю, наконец, рыхлить! Еще что-нибудь такое... Прямо ладони зудят, требуют. Желание, равносильно другому его душевному позыву: чтобы отрешиться на время от будничных забот, пойти — свободному, не обремененному ничем — цветущими лугами, оврагами, краем курчавых дубрав, по рыжим, выжженным солнцем взгоркам... Куда? А все равно куда!
Разумеется, блажь.
Но призадуматься если: это, наверно, в нем крестьянская, вековой закваски кровь бушует, зовет к тому, что было у предков его...
А, майор?
...Снова скрип двери, она распахивается резко, по-хозяйски: это старший лейтенант Сердюк входит. Он только с улицы, с жары — шумно отдувается, красное лицо потно, форменная рубашка под мышками в мокрых разводах. А к толстой губе — без этого он не может — прилипла дымящаяся сигарета.
— Пивка б из холодильника! — говорит он.
— Нам, Павел, пиво еще заслужить нужно.
Сердюк сидит, отдыхает; сняв фуражку, обмахивает ею лицо... Сменил размокшую сигарету на новую, щелкнул зажигалкой и, сладко затягиваясь дымом, произнес с улыбкой:
— А что — наш Чапай все думает? И что дельного надумал Чапай?
— Это ты, Павел, про меня? Заглазно зовут так, Чапаем-то?
— Н-нет, пожалуй. Сегодня кто-то обронил...
— Ясно. Однако я просил бы своего заместителя не следовать дурным примерам подчиненных и называть меня, как положено. Если не по имени — по званию, должности...
— Григорий Силыч, да что ты в самом деле?!
— Только так, Павел. Ты еще не в областном управлении, чтоб меня по плечу похлопывать... здесь пока ты.
— Ну не знал!..
Сердюк развел руками, отошел к окну, стоял там, посапывая, обволакиваясь сизым дымком, смотрел на улицу. Его опущенные плечи, ссутуленная спина выражали обиду. Не оборачиваясь, он глухо, нехотя — только, дескать, необходимость заставляет! — заговорил:
— Лодочников проверили. Три посудины всего ночью, после двенадцати, на плаву были. Старик Крысин удил рыбу, еще Федор Сыромятников с Озерной улицы... они видели друг дружку, сближались на лодках: перекурить, улов посмотреть. Потом еще мальчишка Умновых, тех самых, что на молокозаводе работают, свою девчонку до вторых петухов катал по озеру. Он, я разговаривал с ним, ничего не приметил. Тоже одних этих удильщиков, Крысина и Сыромятникова, видал.
— Бледно.
— Федор Сыромятников лишь сказал, что, когда свою лодку брал и когда на место ставил, не было лодки Петра Мятлова. У них лодочные цепи на одном столбе... И вот посудины Мятлова не было. А сейчас на приколе.
— Осмотрели?
— Мокрая, чистая... ничего существенного.
— Угу... Да ты что, Павел, спиной ко мне? Давай ближе, итог подведем... Твое мнение?
Сердюк с прежним обиженным видом переместился от окна к столу, сказал:
— С Мятловым — зацепка слабая. Шалопай он, однако, из безобидных, по-моему. Голубей гоняет, заядлый голубятник, рыбу тоже ловит...
— В эту субботу свадьба у него, — продолжил Чухлов. — Зину, разносчицу телеграмм на почте, в жены берет. Вернее, кто кого берет — это еще вопрос. Зинаида — девка аховая. А он, Петька, где работает сейчас?
— В леспромхоз устроился. Кем придется. Бери больше — тащи дальше. Может, побеседовать с ним — где на своей лодке был, что видел?
— Он, Павел, скорее всего, за камышами где-нибудь сидел, подальше от других глаз. Разве к свадебному столу удочками наловишь? Промышлял Петька, факт! Браконьерил... Однако расспросить не мешает. И не густо у нас, Павел! Можно считать, совсем пока ничего не имеем...
Сердюк, кивнув, пошел к себе в кабинет.
VIII
До часу дня дважды вскидывались по сигналам, оперативники выезжали на место... Увы! В первом случае позвонили из Едрова: трое неизвестных, не остановившись ни у магазинчика, ни у колодца, торопливо, вроде б даже озираясь, углубились в лес, в сторону Горелой пади. Когда их настигли — оказалось, обыкновенные туристы, псковские ребята, один причем офицер-отпускник... В другом случае — это уже на железнодорожной станции — проверили документы у человека в обтрепанной одежде, с опухшим от пьянки, в свежих ссадинах лицом: он, расплачиваясь в буфете, бросил на стойку зеленую пятидесятирублевую бумажку. Выяснилось, что это подзагулявший техник геологической партии: из Мурманска едет в отпуск на родину, в Тамбовскую область, да отстал от поезда.
Был звонок от помощника секретаря райкома: можете ли уже доложить о чем-нибудь конкретном? Чухлов ответил, что еще рано. Арбузов, выходило, тоже — в тревоге и нетерпении — поторапливал... Хорошо, что не теребили из областного управления — выдерживая, ждали. Все равно ему, Чухлову, вечером придется сообщать туда, как да что... А как? Никак!
Пока шла утомительная черновая работа: отбор, отсев, анализ, проверка разных версий...
И вдруг — после всяких тревожных для Чухлова телефонных звонков — еще один: от Варвары, из ее сберкассы.
— Гриша, Таенька приехала!
— Ну вот, — ответил он, — а ты боялась!
И засмеялся, ощущая в себе возникновение легкого радостного озноба: наконец-то! Ждал он дочь, очень ждал...
Хотелось, конечно, узнать — одна дочь или с кем-то и кто же с ней; и не хотелось почему-то задавать такой вопрос Варваре. Даже секундная надежда — где-то далеко-далеко, в самой глубине сердца — проблеснула: а если одна, разве хуже?!
— Да я тоже ее не видела! — объясняла Варвара. — Позвонила мне из дома. Вот, говорит, мамка, чемоданы бросаем и — на озеро,
«Бросаем... значит, не одна!»
— Ты придешь обедать?
— Постараюсь.
— Ух, какой ты, Чухлов! Сухарь. По-ста-ра-юсь... Не совестно? Дочь же, да еще с молодым человеком!
— Что еще за молодой человек?
— Папина ж дочка — пусть сам отец и спросит у нее!
Варвара, смеясь, положила трубку.

Чуть позже Чухлов вышел из дверей райотдела. Его нагнал капитан Чернущенко.
Разговор крутился вокруг того же — самого главного сейчас.
— Был у меня Куропаткин. Что-то он знает, Миша. Чую!
— Не расколоть?
— Как угорь, выскользнет.
— Это да.
— Снова своего сынка подсовывал...
— А сын, между прочим, на мебельной фабрике работает.
— Давно, Миша?
— С месяц будет. Я как раз в конторе накладные проверял... И Куропаткин-младший в тот день оформлялся. По виду так себе малый, нерасторопный какой-то, без живинки...
— Но на мебельной фабрике! — Чухлов покачал головой. — Тогда Куропаткин впрямь что-то разнюхал!
За живым частоколом корявых тополей с обвисшими от затянувшейся жары листьями синело дощатое строение райпотребсоюзовской «забегаловки», известной на все Доможилово под кличкой «Голубой Дунай». Даже сюда, к дороге, несло оттуда кисловато-прогорклыми запахами — разлитого пива, подгоревших котлет, разваренной капусты.
— Ты, Миша, узнал что-нибудь про Фиминого сожителя?
— Сильно зашибает. Сегодня тоже в загуле, на работу не вышел...
— Ла-адно... Давай зайдем к Фиме, полюбуемся!

В «Голубом Дунае» стоял бестолковый гомон многих голосов, звенела посуда; Фимка — в высоком кокошнике, вымазанном в ржавчине переднике — крутилась как заведенная: наливала пенистое пиво, швыряла в протянутые ладони сдачу, с грохотом кидала на железный поднос пластмассовые тарелки с расползшимся холодцом, килькой, красным от свеклы винегретом... Да еще успевала браниться, шутить, смеяться...
Но вот буфетчица заметила их, засуетилась, голос ее стал ненатурально певучим, ласковым до приторности:
— Гости редкие к нам... самые дорогие, любезные!
И на посетителей:
— Да прекратите, дьяволы, базарить. Что за непутевый народ!
В «Голубом Дунае» вправду тише стало — при виде милицейских фуражек, наверно.
— Сигареты с фильтром есть? — спросил Чернущенко.
— «Столичные», Михаил Поликарпыч! Сколько вам?
— Пачку.
— Пивка не желаете? Только откупорила бочку-то...
— Сильно не доливаешь, — сказал Чернущенко. — А мы такие клиенты — потребуем долить.
— Уж вы скажете, Михаил Поликарпыч, в краску вгоните!
— Другие-то, кто пьет, молчат, хоть я скажу.
— Уж чем я вам не угодила, люблю вас... да не опишешь, как люблю!
А за медовостью ее голоса — пугливая настороженность глаз: сам Чухлов заглянул — зачем? Смотрит он, молчит...
Чернущенко балагурил с Фимкой, с посетителями, незаметно, однако, цепко — по привычке — присматриваясь, кто сейчас здесь. А Чухлов увидел, что впритык к пивной бочке лежит рогожный мешок — с углем, кажется, в поблескивающей антрацитной пыли поверху. «Ну и что? — мысленно возразил сам себе. — Такая тара в каждом магазине, на любом складе...» И все же сказал Фимке:
— Вот зачем, Китайцева, завернули к тебе... Груз нам надо перевезти. Не найдется ль у тебя на время, напрокат можно считать, вот такого чувала? — и он ткнул носком ботинка в мешок с углем, добавил, улыбаясь: — Вернем, не сомневайся... Кому доверять, если не нам!
— Ой, Гри-и-горий Силы-ы-ыч, — и на жирном Фимкином лице, густо обсыпанном капельками пота, отразилось неподдельное сожаление, смешанное с досадой: так, видно, хотелось угодить начальнику милиций, а не могла! — Ой, вчера б вам зайти за этим...
— Чего так?
— Был у меня, вчера был чистый рогожный куль, я, признаться, для картошки себе его припрятала. А мой охламон пришел и унес! Чтоб вчера-то вам зайти...
— Ну и выражаешься, замечу тебе, Китайцева! Это кого ж ты охламоном кличешь?
— Да Гошку своего, Георгия... ну как вам объяснить? Муж мой, Григорий Силыч. Не знаете, что ли?
— Не обижайся, конечно, Китайцева, но чтоб твоих мужей знать — надо по списку их смотреть, какой, в общем, сегодняшний, какой вчерашний! — Чухлов засмеялся, не обидно, по-свойски, как имеющий право на такое, и Фимка, махнув рукой — чего, мол, там, согласна, Григорий Силыч, — тоже засмеялась; а Чухлов, обращаясь к Чернущенко, тем же веселым тоном предложил: — Махнем по кружечке! Мешка нам не видать, хоть пива испробуем...
— Ой, шелопутный, не дай — вырвет! — то ль восхищаясь своим новым мужем, то ль жалуясь — понять было невозможно, — сказала Фимка. — С Петькой Мятловым на рыбалку собрались, в ночь, вот и взял мешок... Подстелить, что ль!
— Мятлов — тот рыбак, — уважительно заметил Чернущенко, с удовольствием потягивая пиво, не поднимая глаз от кружки. — С таким напарником наловишь. Твой Гоша с рыбалки, наверно, не только щурят да окуньков — лещей с лопату величиной приволок!
— Приволочет, жди! Из дому, но не в дом! — уже явно с досадой вымолвила Фимка и, понизив голос до шепота, пооткровенничала: — С утра, когда только успел, нализался... Приняла на свою шею, называется! Не везет мне, Григорий Силыч, на мужей. И этого выгонять буду. Выгоню! Какую-нибудь тридцатку-полсотню получит — и ту в один роздых пропивает. Зачем мне такой?
— У твоей Ольги сегодня праздник — паспорт ей вручать будут, — строго сказал Чухлов. — А у тебя в доме пьяный мужик... Как это?
— Не говори, Григорий Силыч, сама извелась... Немытой харей бы да об поганый забор его! Не я буду — завтра ж выгоню...
— Ну пока, Китайцева, спасибо за пиво. Сколько с нас?
Вышли Чухлов и Чернущенко наружу, шумно, будто сговорившись, вздохнули полной грудью — и старший инспектор возбужденно обронил:
— Эт да!
Неторопливо и, если со стороны взглянуть, даже как бы ленивой походкой не обремененных большими заботами и срочными делами людей вышагивали они к дороге, удаляясь от «Голубого Дуная». Держа Чернущенко под локоть, Чухлов тихо говорил ему:
— Допускаю, что это как раз та удачная ситуация, когда, по поговорке, на ловца и зверь бежит. Что имеем, Миша, смотри! Следы оборвались на берегу озера, собака носом в воду уткнулась. На том месте могла стоять лодка... Замечено теперь, что где-то на плаву находилась лодка Петьки Мятлова. А сейчас узнали, что с ним был Георгий... Возможно, Миша, они просто браконьерили. Тем более, что Петька Мятлов и кража — не хочется, признаюсь тебе, верить в это. Однако эмоции в сторону — что дальше знаем?
— А дальше, Григорий Силыч, только что установлено: Устюжин для чего-то запасался рогожным мешком...
— Правильно. А волокна от рогожного мешка обнаружены на месте преступления. Значит, Миша?
— Значит, необходима самая-самая и быстрая проверка!
— Дуй, Миша, в отдел. Разрабатывай. Я через четверть часа, только дочку повидаю, тоже буду у себя. Скажи, чтоб машину за мной прислали.
IX
Когда Чухлов, пересекая Озерную, сворачивал на свою улицу, имени Ивана Самма, он не мог, разумеется, видеть, каким ненавидяще-злорадным взглядом проводил его пенсионер Куропаткин. Тот стоял в палисаднике, в тени вишневых кустов, и скорее всего, при виде торопливо прошагавшего мимо начальника райотдела окончательно решился на задуманное...
Куропаткин лихорадочно перебирал в уме самые разные варианты тех своих возможных действий и разговоров, что могли бы принести ему удачу. Такую удачу, после которой даже слепым будет видно, что сотрудники доможиловской милиции спят на ходу, к настоящей работе непригодны, майор Чухлов — о чем он, Куропаткин, не раз сигнализировал в разные инстанции — примиренчески относится к фактам нарушения общественного порядка, более того — замазывает их, желая жить спокойно, не ломая устоявшихся отношений с земляками, поскольку здесь, в Доможилове, чуть не каждый третий если не сват ему, кум иль свояк, то, во всяком случае, застольный компаньон... Способен ли заевшийся на вольготных сельских харчах, близорукий и добродушный от сытости начальник райотдела внутренних дел решительно, безбоязненно обезвреживать преступников?!
И Куропаткин, довольный вот таким ходом своих размышлений, снова взглянул туда, где только что прошел Чухлов, плюнул в ту сторону, потер ладони, даже похлопал в них — как бы сам себе поаплодировал. «Выкусишь, — вслух сказал, — будет тебе!» Подумал, что в том, убийственном для Чухлова заявлении, которое он пошлет в областное управление МВД в одном конверте с другим, проливающим свет на подробности хищения сейфа с фабрики, обязательно надо будет указать, что Чухлов сознательно не принимал на работу энергичных, во всем безупречных людей, окружал себя личностями по тому же принципу — кумовства. Взял на службу ухажера собственной дочери, будущего зятя, одним словом, Аркашку Дрыганова, а его, Куропаткина, сына к милицейскому порогу не подпускает!.. Эх, был бы Ярослав, конечно, побоевей, порасторопнее, не в мать-дурочку, в их, Куропаткиных, породу... Но ничего — лишь бы устроить его, воткнуть туда, форму на него получить, а там бы он, отец, натренировал! Форма — она власть дает, и при таком, в форме, сыне и он, отец, при власти будет!..
Утром, пробившись в кабинет к Чухлову, он куда как прозрачно намекал: зачислишь в отдел сына — вложу тебе в руки кончик от поводка, который приведет, куда нужно... И вообще б поладили! Но нет — взвился Чухлов, угрожать стал. «Предупреждаю!..» А ведь можно, товарищ Чухлов, и так повернуть: к тебе зашел пенсионер-общественник, предлагал помощь, хотел изложить подмеченные тревожные факты — и был выгнан из кабинета! Точно-с! Так и надо... вот-вот. Как Чухлов будет оправдываться? Не выгонял? A-а, голубчик, выгонял, выгонял, не опротестуешь... «Потрудитесь выйти за дверь!» Было?
...Тот, кто в эти минуты мог бы тихонечко, со стороны, взглянуть на Куропаткина, подивился бы, какая страсть пылала сейчас на его всегда строгом, даже аскетическом лице! Оно было одухотворено величием идей, вскипавших, как горячие, клокочущие пузыри, в его неустанном, вечно бодрствующем мозгу. Он жаждал удовлетворения, он был уверен, что скоро получит его... Здесь, в густой тени вишневых кустов, куда солнце пробивалось робко, ложилось на землю желтыми бесформенными кляксами, отдавшими силу и жар где-то там, вверху, Куропаткин в ярком озарении видел будущее. Словно в волшебное зеркало смотрел. Он снимал с головы сына тяжелую фуражку, примерял ее на себя — и эта фуражка установленного образца, с высокой тульей, кантом, новенькой кокардой как-то очень уж ловко и непререкаемо садилась на его гладкую, безволосую голову; голове тут же — он чувствовал — делалось тепло, приятно; круглые стекла очков, прижатые сверху лакированным козырьком, смотрели вдаль по-ястребиному зорко и властно... Ах, хорошо-то как!
В юности он мечтал работать в ГПУ — чтобы носить на широком ремне кобуру с болтающимся витым шнуром, чтобы, когда улицей шел, на скрип его хромовых сапог тревожно оглядывались и он имел бы право подойти к любому — в рабочей ли кепке тот или в шляпе, по виду интеллигент — и потребовать документы... Но в ГПУ не взяли, про социальное происхождение вспомнили, что папаша, Матвей Семенович, имел собственную торговлю, да еще указали на то, что сам он, Семен Матвеевич, характеризуется на работе, в коллективе молочного завода, не как передовой строитель социализма, а как обыватель махровый...
Он тогда здорово струхнул. К счастью, тот разговор никаких последствий для него не имел... И он, тоскуя, что в жизни не все так устраивается, как мечтаешь, оправившись от испуга, сшил себе полувоенный френч с накладными карманами, купил у бывшего буденновца его польский трофей — кожаные краги и очень стал похож обличьем на ответственного работника. Мужики из деревень, приезжавшие на базар, издали кланялись, шапки стягивали...
Да чего душу воспоминаньями травить!
— Дуська, — громко крикнул жене, — вынеси мне сюда выходной китель! Да поскорей... курица!
Проворно нагнувшись, поднял обломок кирпича и ловко припечатал им крадущегося меж грядок соседского дымчатого кота — тот, коротко вякнув, свечой вверх взмыл... Не шастай по чужой территории!
Теперь уж совсем ублаготворенный, Куропаткин внутренне был готов к осуществлению продуманного плана. Он сам проведет кое-какое следствие, выявит, дознается, затем сообщит в областное управление, как твердо решил, и будут все основания указать на бездеятельность местной милиции, на служебную отсталость ее начальника. А главное — не без того, чтоб после не было благодарности ему, Куропаткину... Отметят обязательно! Пятнадцать тысяч государственных денежек — это вам не фукнуть-пукнуть, это сумма, он, Куропаткин, поможет вернуть ее в казначейское хранилище, — неужели сколько-то не отвалят за это ему самому? Клад в земле находят — и то двадцать пять процентов, четверть стоимости, дай сюда, счастливчику в руки! А тут как-никак сопряжено с опасностью, дело об ограблении, с его стороны — геройский поступок, достойный описания в газетах.
— Дуська, где китель? Тетеря!
Сейчас больше всего мучил такой вопрос: кто же
там был второй?
И хоть задумано, решился — поджилки тряслись, накапливался в нем страх, он физически чувствовал его: возникновением холодной дрожи во всем теле, тем, что внезапно замирало в груди, что-то обрывалось там, будто он в этот тягучий миг в яму летел... Однако он упорно гнал страх прочь, думал, что это временное, пока он не в деле, готовится, а как начнет — его не остановишь, закаменеет изнутри, ничто уже не испугает, не заставит своротить. Так казалось ему. Да и человек, к кому он пойдет сейчас домой, Петька Мятлов, не из каких-то там уркачей, даже, скорее, мягонький малый! И он, Куропаткин, не безмозглый дурак, чтоб о чем-то там в лоб спрашивать, с первого слова Петьку к стене припирать... Не-е-ет, легонечко, хитренько нужно, как паучок к застрявшей в паутине мухе: быть близко, рядышком, накалывать и терпеливо ждать, когда жертва сама устанет трепыхаться, готовенькой будет...
Но кто же минувшей ночью был рядом с Петькой, кто этот другой — вот бы выведать!
Ведь как все случилось-то... Воистину не знаешь, где найдешь.
Вчера перед вечером, когда всюду работа заканчивалась, он, гуляючи, прошел на территорию мебельной фабрики, чтобы разыскать на пилораме своего Ярослава, вместе с ним домой, к ужину, пойти. А пока ждал, когда освободится сын, ходил вокруг да около; увидел, что в бетонном заборе дыра, словно снарядом тут прошибло, в размах рук шириной, — и вылез через дыру наружу, прицелился в ближних кустиках нужду справить. Не особенно глубоко забрался в чащу, так, шага на два, на три — вот те раз, находка! В траве, прикрытые поверху сорванными лопухами, успевшими побуреть, лежали разного формата брусочки, доски, натуральные и те, что прессуют из опилок. Мебельные заготовки. Иные даже полированные, с аккуратными дырочками для шурупов. Кто-то из цеха натаскал, приготовил...
Ночью, уже в постели он лежал, эти заготовки не давали покоя, заснуть никак не мог. Оделся, снова направился к фабрике, крадучись, сам как вор. Рассчитывал, конечно, что, если никто не забрал товар, он тогда возьмет, сколько дотащит, все равно ведь уже не фабричное, за оградой, какие могут быть претензии.
Был у него за пазухой мешок с веревкой.
И оказалось, тут они, дощечки-планочки, не наведывался к ним еще никто, его дожидались... Ночь выпала темная, как на заказ, луна за облаками сидела. Он, торопясь, наполнял мешок — скорее, скорее, а там пустырем, овражками, задами огородов на свое подворье... И вдруг зашумело-зашуршало рядом, малость в сторонке; зат
аившись, распознал он, что краем кустов идут люди, двое, тяжело дышат, несут что-то... Не сюда ли, где он?! Нет, мимо! Слава те, господи... Но что, кто? Выглянул, навострил слух. Ага, одного узнал, Петька Мятлов это... Волокут вдвоем какой-то груз, невеликий по размерам, однако не совсем легонький, видать. Пыжатся. И в бег норовят, словно погоня сзади. Тот, другой, было слышно, хрипло сказал: «Ну, Петух, тут на все пять лет...» Петька, задыхаясь, отозвался: «Погоди, по десять припаяют!» Неизвестный злобно выругался, одернул: «Заткнись, не каркай! На пять лет веселой жизни, понял...»
Все остатние часы ночи, ворочаясь на кровати, Куропаткин не спал, жгло и корежило нетерпение узнать, что же такое сотворил Петька Мятлов, если он сам себе определил срок в десять лет. Уже тогда знал, что пойдет к Петьке, хоть посмотрит на него, постоит возле... А утром, только за калитку вышел, нате вам — на мебельной сейф с деньгами уперли! Ай да Петька-голубятник, новоявленный жених!
X
На пути к дому повстречал Чухлов Зинаиду, разносчицу телеграмм. Как всегда, она проворно крутила педалями велосипеда и была прямо-таки ослепительной: в белоснежной блузке, белых носочках, с тремя нитками хрустальных бус на шее, вспыхивающих удивительными огоньками, да еще ко всему этому от никелированного руля и велосипедных спиц отскакивали веселые солнечные зайчики — поневоле зажмуришься!
При виде Чухлова притормозила и, поравнявшись, спрыгнула со своего звонкого самоката.
— Григорий Силыч, не забыли, что приглашала? Свадьба у меня, так что прошу... В субботу!
— Благодарю за приглашение, Зинаида. Красавица ты. Не вру, не льщу. Верь слову, так сказать, незаинтересованного лица... Где жить-то с Петром будете?
— Так у него ж домина — хоть отряд солдат на постой определяй. Вдвоем с матерью всего. А у нас, иль не знаете, орава какая... К нему!
— А спрошу тебя, Зинаида, по-соседски... Замуж выйти — это, понимаешь, потом жизнь вдвоем мыкать. Как он, Петр, сейчас? Кроме голубей да рыбы... повзрослел? За воротник шибко не закладывает, в картишки на монету не поигрывает? Как тебе будет с ним, думала?
— Один ли день, Григорий Силыч, думала! — Скуластое личико Зинаиды стало очень серьезным, с грустинкой. — Он ведь душевный, Григорий Силыч, теплый характером. Послушный должен быть. Но мамка избаловала его, на всем готовеньком, сладком рос у нее, нужды-печали не ведал, сколько лет одни голуби да рыбалка с охотой... Все давно мужики, а он вроде б как парень, мальчик при мамке своей...
— Так, — поддакнул Чухлов и свое вставил: — Однако мальчик-то мальчик, а винцо прихлебывал, по канавам спал. Тебе, Зинаида, тут строже надо быть.
— Дай срок, Григорий Силыч, справлюсь! — Зинаида задорно передернула худенькими плечиками.
— Желаю тебе, Зинаида...
— Справлюсь, — вновь пообещала она и пожаловалась: — Этот еще прилип сейчас, Фимкин новый деятель... чтоб его разорвало! Гошка Устюжин! С картами своими...
— Все-таки, значит, поигрывает Петр? На деньги?
— Кто их разберет! На интерес вроде, на кружку пива...
— Плохо, Зинаида!
— Чего ж хорошего! Сейчас вот заезжала, Петр под шубой лежит, озноб его колотит, мать горячим молоком с медом отпаивает. На рыбалке с этим проклятым Гошкой были — лодка у них перевернулась, чуть, говорит, не утонул...
— Простыть сейчас мудрено, Зинаида, особенно рыбаку, дружному с природой. Это он от испуга.
— Я, Григорий Силыч, и говорю ему: погоди, дурачок, твой Гошка совсем тебя утопит, голову тебе отвинтит.
Она поехала своей дорогой, и он пошел дальше. Под ногами взбивалась пересохшая пыль, в ближнем дворе крякали утки, из открытого окна вылетал на улицу заливистый девичий смех, чьи-то невнятные слова доносились оттуда же, а из другого дома рвался наружу четкий голос диктора: «...Соревнование механизаторов за высокопроизводительное использование техники с каждым днем приобретает все более массовый характер...» Небо напоминало необъятный выцветший шатер с остатками позолоты на нем, и под этим шатром застарело копилась духота, густела, неоткуда было взяться ветру.
Чухлов оглянулся, но Зинаиды уже не было видно, свернула в переулок. Размышлял о непутевом Петьке Мятлове, а в мыслях обращался к ней, Зинаиде: «Вот уже, Зинаида, я вполне допускаю, что свадьбе вашей в назначенный день не бывать. Рано, разумеется, на все сто утверждать такое, но Петька твой, сдается мне, хоть сбоку, однако причастен к делу».
Дома Сильва встретила его громким лаем, ухватила за брючину, силясь увлечь за собой на веранду; всем своим видом выражала восторг и радость, и он, конечно, понимал, отчего старая собака с ума сходит: Таська, ее любимица, хозяйка ее последних лет, приехала. А на веранде знакомый Таськин чемодан, мягкий, в крупную клетку, с замком-«молнией», — и Сильва тянет Чухлова к нему, облаивает этот чемодан, в ошалелых глазах овчарки вопрос к нему: видишь?!
— Сколько еще в тебе прыти, старая! — смеется Чухлов, треплет Сильву за уши. — Что приехала — вижу!.. Отстань, руки помою...
Рядом с чемоданом дочери — другой, покрупнее, из стандартно-ходовых: жесткий, обклеенный коричневым дерматином, с металлическими угольничками. А возле него лежит обшарпанная гитара, изрисованная поверху чем попало: головки девушек с распущенными волосами, купола церкви с повисшей над крестами грачиной стаей, вислоухий заяц в порванных штанишках, а над ним примелькавшаяся фигура ухмыляющегося Волка из мультфильма «Ну, погоди!..».
«Гитарист, — неприязненно подумал Чухлов. — Из длинноволосых, что ль! — И тут же возразил себе: — Что, у Таськи глаз нет, чего это я в самом деле...»
Варвара, хоть сама звала обедать домой, почему-то припаздывала.
— Денек такой — о-хо-хо! — разговаривал Чухлов с Сильвой, неотступно бродившей за ним из комнаты в комнату. — Не каждый день в Доможилове ограбление, правда? Лет пять, считай, такого не было, с того года, как ночью пол-универмага вывезли. Но тогда залетные гастролеры действовали, мы их машины со всей добычей в Староглинском районе настигли, красиво взяли... Помнишь, старая, такой случай? Иль ты ничего уже не помнишь, кроме того, что стрелял в тебя Хрякин...
Услышав это — «Хрякин», — овчарка вздыбила шерсть на загривке, глухо и злобно заворчала.
— Не психуй, морда ласковая, нету больше Хрякина. Был — привет вам! Да... Так о чем мы? О том, что у нас с тобой сегодня. Если, предположим, все же этот самый... как его!.. Фимкин Гошка брал сейф, с Петькой Мятловым на пару, то куда они его спрятали? Могли — через озеро и в лес! Я послал ребят пошарить по ближним лесам, но ведь это что иголку в стогу сена искать, согласна?..
Раздался телефонный звонок — длинный, требовательный.
— Это, Григорий Силыч, я, Чернущенко...
— Слушаю, Миша.
— Появилось еще кое-что...
— Понятно. Сейчас буду. Где машина?
— Выехала за вами.
Он взял с письменного стола лист бумаги и крупно вывел на нем красным карандашом:
«ТАСЬКА, ТЫ БЕССОВЕСТНАЯ, ПРО ОТЦА ЗАБЫЛА. УСТЫДИСЬ И ПОЗВОНИ 1-13!»
Подумал, дописал:
«И ТЫ, ВАРВАРА, ХОРОША! ТАК ГОЛОДНОГО МУЖА ОБЕДОМ КОРМИШЬ?»
XI
Вот когда закрутилось все!
Чухлов вслух — в присутствии других — сказал Чернущенко:
— Силен ты у нас, Миша, и не в обиду остальным замечу — всем бы такими быть!
Лишний раз убеждался он в способностях и находчивости старшего инспектора угрозыска, его умении быстро, профессионально грамотно принимать самостоятельные решения, верно действовать в сложившихся обстоятельствах.
Оказывается, вот что произошло, когда он, Чухлов, расстался с капитаном неподалеку от «Голубого Дуная»...
Чернущенко возвращался в отдел. И вдруг увидел, что вдоль улицы, впереди него, идет Георгий Устюжин. Хоть Фимка говорила, что он с утра наклюкался, Гошка, будто нарочно опровергая своим видом ее слова, вышагивал ровно, прямо, одет был чисто — брюки с аккуратными стрелками, свежая тенниска, начищенные до зеркального блеска полуботинки.
Загорелый, мускулистый, молодой — Фимке-то все сорок пять, а ему не больше тридцати.
Остановился Гошка у киоска, купил районную «Социалистическую новь» и «Советский спорт», быстренько, на ходу, просмотрел их и свернул к парикмахерской — маленькому подслеповатому домику, окруженному зарослями акации и бузины.
Чернущенко, потрогав на затылке отросшие волосы, чуть выждав, прошел туда же.
Парикмахер, которого все в Доможилове зовут Вадиком, хотя у него уже дети — школьники, как, впрочем, и его брата, портного, величают в поселке на такой же манер, Аликом, заканчивал брить старика. Гошка, дожидаясь, стоял у окна, опершись ладонями о подоконник, смотрел во дворик парикмахерской, где девушка развешивала на просушку выстиранные простыни и салфетки. Чернущенко, входя, заметил, что при виде его в Гошкиных глазах мелькнул испуг, однако он тут же совладал с собой, стал по-прежнему, равнодушно и скучающе, наблюдать за Вадиковой помощницей...
Затем побрившийся старик расплатился с мастером и освободил кресло; Гошка галантным жестом предложил капитану занять его:
— Моя милиция меня стережет... битте!
— Спасибо, — Чернущенко как можно приветливее улыбнулся, — не спешу. Зачем очередность нарушать!
И когда Вадик принялся обрабатывать буйную Гошкину шевелюру, роняя с ножниц на пол клочья рыжих волос, Чернущенко снял фуражку и осторожно положил на подоконник. Он прикрыл ею отпечаток ладони, оставленный Гошкой на пыльной крашеной поверхности. А сам, небрежно привалившись к дверному косяку, стоял и слушал разговор Гошки и Вадика.
— Что пил? — спросил мастер. — По запаху — «Стрелецкую».
— На той неделе, Вадик.
— Утром, Гоша!
— Ну, Вадик, профессор ты. А вроде сам не поддаешь, сознательно непьющий?
— Зачем брата моего спаиваете?
— Я? Алика? Проснись, Вадик! Хоть бы когда, гад буду, сто грамм вместе...
— Не дергайся, Гоша, прическу испортим... Не ты — супруга твоя. Он к ней в буфет — она наливает. Ему ж нельзя!
— У нее свое, а я по-своему, — зло обрезал Гошка. — Уловил, Вадик?
— Я уловил, Гоша. — Маленькое и желтое личико Вадика, такое, будто его когда-то вымазали йодом и после не отмыли как следует, тоже приобрело злое выражение. — Я лишь не уловил, Гоша, как это можно за бутылку... пусть за две, три... взять у Алика золотой перстень. Старинной работы, с камнем. Пользуясь, что человек себя не помнит...
— Прекрати, Вадик, — уже спокойно, даже устало сказал Гошка. — Не уловил ты, вижу, ни хрена. Это свое — не ко мне адресуй. Мне до лампочки. Вон милиция за спиной, при милиции не могу культурненько послать тебя, куда нужно... но ты догадайся, Вадик.
— Поодеколонить?
— Перебьемся, не разбогател я, Вадик.
Выходя из парикмахерской, насмешливо бросил капитану:
— Пока, охрана!
— Пока, гражданин Устюжин!
На счастье, проезжал мимо на машине, возвращаясь с обеда, сержант Зайцев, и Чернущенко махнул ему рукой: давай ко мне! Распорядился, чтоб немедленно сюда, в парикмахерскую, прибыл эксперт-криминалист — зафиксировать след ладони... Кроме того, Чернущенко поднял с пола и завернул в бумажку прядь Гошкиных волос.
Вадик лишь глазками оторопело хлопал...
В общем, когда Чухлов прибыл из дома, ему уже могли доложить: отпечатки ладоней правой мужской руки, взятые на сравнительный анализ с места преступления и в парикмахерской, идентичны. Совпадение полное.
Занимались изучением волос — тех, обнаруженных в подвале фабрики, и этих, из Гошкиной шевелюры. Процесс затяжной, не одного часа...
А тут явился участковый инспектор Щербаков — и еще одно косвенное подтверждение!
Щербаков побывал у методиста Дома культуры Шевардина, увлеченного изучением истории родного доможиловского края, возглавляющего на общественных началах местный краеведческий музей. Шевардин сказал участковому, что он не помнит, кто именно семь лет назад нашел банку с дореволюционными деньгами на территории мебельной фабрики, возле бывшей конторы купца Гундобина. Однако есть книга учета поступающих в музей экспонатов — там, вероятнее всего, фамилии указаны. Нашли эту «книгу» — толстую прошнурованную тетрадь, и в ней действительно указывалось, что такой-то клад такого-то числа в таком-то месте был обнаружен рабочими фабрики X. А. Севрюжкиным и П. М. Мятловым.
Щербаков вскочил на мотоцикл и помчался на фабрику, где поднял по счастию не отправленные в архив приказы семилетней давности. В одном из них упоминалось, что П. М. Мятлов зачисляется в штат фабрики разнорабочим...
Следовательно, Петька Мятлов, тогда еще восемнадцатилетний, мог по поручению завхоза закапывать лаз в подвал, хорошо знал о нем. А Харитон Севрюжкин, человек в больших годах, помер, как выяснилось, минувшей зимой.
— Что ж, Григорий Силыч, пора брать у прокурора санкцию на арест Устюжина и Мятлова, — торопил Чухлова Сердюк. — Операцию по задержанию разрешите возглавить мне.
— Давай, Павел. А что, ответ на наш запрос об Устюжине не поступил еще?
— С часу на час должен быть.
— Однако запрос запросом, а что медлить-то?
— Объявляю готовность, Григорий Силыч!
— Пора.
Едва закрылась дверь за Сердюком — звонок от Варвары:
— Гриша, ты не ругай его!
— Кого?
— Аркашу Дрыганова.
— Не понимаю. И с каких это пор работникам сберкассы позволено вмешиваться в дела райотдела внутренних дел? Очнись, Варвара-а!
— Ладно тебе, Чухлов... но не ругай его, прошу...
— Да за что ругать — не ругать, черт побери!
— Ты на кого кричишь, Чухлов? На правонарушителя?.. Не я — ты очнись. Остынь. Таенька не звонила тебе еще?
— Дождешься, как же... И обедом вашим сыт.
— Не ворчи, Гриша. А дочь позвонит.
— Выкладывай, что там, да покороче: занят очень.
— Тут такое дело... он вообще-то не виноват...
— Только факты, Варвара! Выводы сам сделаю.
Слушал Чухлов жену... Смеяться?.. Сердиться?
Но, во-первых, еще до рассказа об Аркаше Дрыганове он наконец-то со слов Варвары узнал, кого это Таська за собой на буксире приволокла. Парень из ближнего, Староглинского района, тоже в Москве учится, в физкультурном.
— Прыгун, метатель молота, футболист! — едко заметил Чухлов. — Ай да Таська!
— Брось, Чухлов, он стройный, высокий, приглядный... увидишь! Кириллом зовут...
— Там как? — помедлив, спросил Чухлов. — Проездом? В гости? На смотрины? Иль по-родственному уже?
— Ох, и подозрительный ты, Чухлов, ничего легко и просто не воспринимаешь, — Варвара возмущалась. — Это ж надо сказать так: «по-родственному уже»... «прыгун»... Тебе, наверно, кажется, что все вокруг не просто живут, ходят, ездят, дружат, любят друг друга, пусть даже так, а обязательно какие-то дела замышляют, ничего без определенного далекого умысла не делают!..
— Мне кажется другое: мы заболтались, — Чухлов был недоволен и собой, и тем, что именно Варвара вздумала по проводам ему высказывать. — Про Аркадия — слушаю!
И это уже, об Аркаше Дрыганове, было во-вторых...
Из телефонного повествования Варвары, обильно сдобренного восклицаниями и всякими там «ахами» и «охами», вырисовывалась следующая картина...
Младший сержант Дрыганов, отправленный на дежурство на озеро, к своей великой радости, повстречал там долгожданную Таисию Чухлову. И в первые минуты встречи не было, наверно, более счастливого на свете человека, чем он, Аркаша Дрыганов. Таська уже здесь, в Доможилове!
Но кто это с ней? Подожди, подожди...
— Знакомьтесь, ребятки!
— Да мы знакомы...
Не раз в школьные годы на доможиловском футбольном поле и на староглинском стадионе выходили они с мячом друг против друга — неизменный центральный нападающий команды «Красный луч» Доможиловского района Аркаша Дрыганов и капитан «Звезды» из Староглинки Кирилл Слободин. Какой уже год ревниво и упрямо, подогреваемые земляками-болельщиками, борются за победу, за первенство эти две районные команды, постоянно обновляющие свои составы!
— Ну что вы, мальчики, странно даже... как чужие!
— Ты где сейчас?
— В институте физкультуры... А ты?
— Недавно из армии.
— Он, Киря, ты не шути, — в милиции!
— Ух ты, растут люди! Постовой иль, может, как там у вас... сыщик!
— Аркашка, давай купаться с нами!
— Что ты! О чем ты! Ему, Тая, нельзя, он при исполнении!
— Ки-ря! Помолчи!
— Замолк!..
Как там дальше было — темный лес; и после, разговаривая с дочерью, Чухлов так и не прояснит для себя главного момента: почему же парни, в конце концов, сцепились, кто начал? Короткая схватка самбистов, по существу замаскированная драка: не кулаки — силовые приемы... Таисия увидела это с воды, когда уже далеко от берега отплыла. Кирилл бросил Аркашу через себя, тот ударился о землю грудью, раскровянив нос, содрав кожу на лбу...
У Кирилла Чухлов ничего не захочет спрашивать.
А пока, в этот момент, Варвара говорила в трубку:
— Они ж еще мальчики, Гриша, два задорных петуха. Тебе б совсем лучше не знать, да люди на озере видели, скажут, а ты не разберешься, сразу крутые меры...
— Я разберусь, — сердито пообещал он и оборвал разговор, дежурному приказал: — Дрыганова — быстро!
«Утром заявление на стол положил, а! В Москву его! Как передового, дисциплинированного... А тут хоть лычки с погон снимай. Молокосос! В часы несения специального дежурства... привлекая внимание... на виду у публики... из-за девчонки, стервецы! Вот потеха, представляю, была, сплошной цирк. Ну, Таська, ты тоже тут не сбоку, не в стороночке! Отца позоришь. Что народ скажет?..»
Разволновался — и потяжелело в правом боку. Подумал, что сейчас на виду у младшего сержанта порвет его заявление и обрывки в корзину бросит. Получай! И два-три слова, за недостатком времени не больше, однако потяжелее какие, скажет. Чтоб понял... Подробная беседа — завтра. В присутствии двух заместителей.
Дрыганов, войдя, тихо доложил, что прибыл.
Распухшее лицо, под козырьком фуражки пластырь чуть не во весь лоб...
И глаза... Такая тоска, даже мука в них, что Чухлов, проникаясь внезапным сочувствием, отвел свой взгляд в сторону, понимая, какой первородной и сокрушительной силы боль в сердце парня: он любит — и он отвергнут!
Что перед этой болью гнев начальника?! Все слова как издалека будут.
Таська, Таська!..
Прокашлялся Чухлов, сказал:
— Мне, разумеется, приятно было узнать, что моих сотрудников запросто кладут на лопатки... Можете быть свободным, товарищ младший сержант.
Дрыганов вышел.
Вбежал Чернущенко:
— Григорий Силыч, хоть экспертиза формально еще не завершена, но уже без сомнения: волосы из подвала — Гошки Устюжина!
Следом — Сердюк. Возбужденный, потрясая листком бумаги.
— Ну, мужики, поступил ответ на наш запрос. Интересный ответ! В шестьдесят шестом Устюжина судили за грабеж в Чарджоу, три года провел в заключении.
— С опытом, смотри-ка! — заметил Чернущенко.
— Который час?
— Половина пятого, Григорий Силыч.
— Во сколько в Доме культуры начало вечера по вручению паспортов шестнадцатилетним?
— В семнадцать.
«В шестнадцать тридцать Ольги Китайцевой наверняка дома уже нет, — решил Чухлов. — Пусть она спокойно получает свой паспорт. И что будет в их доме — ей лучше не видеть...»
XII
Позже, спустя долгие недели, уже на суде, Петр Мятлов заявит, что все происшедшее с ним представляется ему затянувшимся кошмарным сном, и пусть поверят ему граждане судьи — это впрямь было какое-то дикое наваждение: «Я выполнял волю Устюжина, как загипнотизированный...» На это судья бросит реплику: «А не во хмелю»? Петька согласится: «И это, конечно. А еще страх. Я очутился во власти чужой силы...» И судья снова перебьет: «А страха перед наказанием не чувствовали?»

На остриженной Петькиной голове как-то уж очень нелепо и беззащитно торчали в стороны большие вислые уши, и весь он казался тоже нелепым, нескладным — длиннорукий, с узкой грудью, но раздавшийся в бедрах, с толстенькими короткими ножками, и при мясистых губах слабый, словно сдавленный, подбородок... Раньше, когда Петька ходил по улицам Доможилова в кожаной куртке и модных брюках, из-под берета кудрявился каштановый чуб, он беззаботно насвистывал или, если бывал в подпитии, пел свое коронное: «Я ль виноват, что тебя, черноокую, больше, чем душу, люблю!..» — не замечалось, как беззаботно и безответственно слепила его природа. А вот сняли с головы кудри, перерядили в простенькую одежонку, поставили перед сотней глаз, чтоб на него смотрели, а он ответ держал, — и тем, кто хорошо знал его, удивительно стало: Петька ли Мятлов?!
Он все жадно выискивал глазами кого-то в зале... Не мать. Знал, что та слегла, в больнице находится. Зинаиду, скорее всего... И не видел. Ни в первый день суда, ни во второй, ни в третий. Не было в зале Зинаиды, не пришла. И Петька вдруг забился в истерике, так что конвойные вынуждены были подхватить его под локти, крепко держали. А он неистово рвался к Гошке Устюжину, кричал сквозь рыдания:
— Ты жизнь мою погубил же, злодей! Ты погубил!..
Пенилась кровь на покусанных губах, зубами скрежетал, выбил ногой несколько точеных столбиков решетчатого барьера, отделявшего скамьи подсудимых от зала... Председательствующий вынужден был объявить, что заседание суда переносится на другой день.
А потом Петька был тих, на Устюжина не обращал никакого внимания, смущенно и заискивающе ловил вопросы судей, охотно отвечал на них, говорил много, припоминал подробности, иногда даже снова возвращался к какому-нибудь уже рассказанному им и запротоколированному эпизоду: «Извиняюсь, однако вот что мы упустили...»
Он старался — и никаких темных мест в разбираемом деле для суда уже не оставалось.
— ...Пятый или шестой вечер, — показывал Петька, — мы играли в карты, в «китайского дурака», или еще такую игру называют «хлюст». Я уже к тому времени, после того, как мне вначале очень везло, проиграл и те сто восемьдесят рублей, что Зина дала на подготовку к нашей свадьбе, и те девяносто, что у матери взял. А тут азарт, стеснение в груди, как в тумане... Вот, думаешь, придет тридцать очков, даже тридцать одно, случается такое, и если не в выигрыше будешь, хоть свое назад возьмешь! Ведь держал же в руках до этого четыреста рублей! А Гошка, то есть Устюжин, подзадоривает: тут, Петух, обманчиво — сейчас мне фартит, через минуту тебе будет... Хорошо, я опять!.. Покороче об этом? А если покороче — наступает невыносимый момент, когда Устюжин говорит мне: или цвет в натуре, что означает «покажи наличие», или прекращаем игру! А у него уже двести семьдесят моих, два обручальных золотых кольца, что матерью к свадьбе куплены — мне и Зине, да еще кое-что по мелочи. В процессе игры пили — голова у меня по этой причине была легкая, а вообще-то дурная. Вскочил — и домой к себе. У матери на дне сундука, знал, пятьсот рублей лежало. Глянул: тут! Она с парниковыми огурцами в Архангельск ездила, на северном рынке полтыщу выручила... И с этих пятисот рублей мне опять стало везти, я дрожал, помню, да деньги по карманам рассовывал!
...Мы сидели у Китайцевых в задней комнате, в чулане, можно считать. Дверь Устюжин на крючке держал, чтоб Фима нос не совала. Они к тому ж в ссоре были... Мне по-прежнему фартило. Было часов семь-восемь, еще не смеркалось. Слышим — за стеной, за перегородкой вернее, разговор. К Фиме кто-то пришел. Это Наталья Огурцова была, кассир с фабрики. И опять же слышим, как Фима рассказывает ей, что ее ждут в универмаге, надо выкупить какую-то там дорогую шубу, а у нее ста рублей не хватает. Я еще в своем тогдашнем картежном дурмане, помню, подумал: «Какие деньги — сто рублей!» А Наталья Огурцова ответила, что у нее дома ста рублей нет, должна была она сегодня выдавать зарплату, но помешал пожар в цеху, и ее кровные заработанные тоже остались в сейфе, в кассе... «Вот где цвет
[3], — шепнул мне Устюжин, — вот бы нам его, чтоб совсем красиво развернуться!..» Я же, повторяю, выигрывал, все во мне пело, клубилось, я добрый и болтливый тогда был. И принялись мы вроде бы шутейно обсуждать, сколько может быть денег в сейфе, не мешало б сейчас этот железный ящик поставить меж нами, ставки б тогда космические были... Так глупо шутили, развлекались, я уже золотые кольца себе на палец надел, настроение радостное продолжалось, и, не отрицаю, сказал Устюжину: «Была б охота, а сейф оттуда вытащить — плюнуть! Лаз в подвал есть, пол там, видать, до сих пор не перебирали, ломиком поддеть — и готово!
СУДЬЯ. Получается, что мысль подали вы?
— Шутейно говорил, однако, чего ж, говорил... Устюжин, посмеиваясь, стал расспрашивать, что да как, откуда знаешь. Я, помнится, расхвастался окончательно. Как же, хвастаюсь, не знать, сам лаз закапывал, а, если хочешь, тот дом мне не совсем чужой, купец Гундобин — он мне по матери прадед...
СУДЬЯ. Это правда?
— Да к делу отношения, по-моему, не имеет, хоть правда, так оно и есть. А Устюжин, он уж тогда, понимаю, прицелился, намерение затаил, говорит мне: «Сейф возьмешь — как наследство получишь!» Я даже засмеялся, очень смешно стало. А он так и сказал: «Наследство...» А я меж тем вовсю катился вниз — опять Устюжин в удаче торжествовал. На этот раз особенно ловко у него скроилось: полчаса не прошло, как я уже вдругорядь кольца с пальца снял... «Хватит, — сказал Устюжин, — поиграли!»
...Хоть в петлю лезь, душа на части разрывалась, гиблое было мое состояние. Уже ничего не могло нравиться, стакан водки выпил, будто воду. Я раньше играл как? Десятка, от силы четвертной — весь солидный выигрыш-проигрыш. А тут, кольца посчитать, тыща рублей! В кино такое можно увидеть — а тут сам, я, своим желанием!.. Понятно, гражданин судья, буду короче, по существу... А короче — Устюжин вроде как сжалился и отдал мне одно кольцо, однако заявил: играть с тобой на него не буду, потому что кольцо тебе для свадьбы потребуется. Сказал он мне так, я про свадьбу вспомнил — и заплакал. Стыдно признаваться, но плакал, как малый ребенок. Устюжина просил другое кольцо отдать, а он, Гошка, говорит: «Не отдам. Что выиграно — свято. Тебя ж никто не неволил...» И предложил он: надо, мол, успокоиться, проветрить головы, поедем на озеро, рыбу половим, а там, глядишь, придумаем, безвыходных положений не бывает. Я за веслами к себе во двор пошел, ничего кругом не видел... И встретились на озере. У Гошки... то есть Устюжина... был под мышкой сверток, а в нем, я после увидел, рогожный мешок и четыре бутылки «Стрелецкой». «Зачем мешок?» — спросил я. «Ноги им оберну, они у меня от сырости на воде мерзнут», — ответил он.
...Весь я уже безответственный был, соображал плохо, считал, что человек я гадкий, дерьмо, ломаной копейки не стою, у матери и Зины прощенья мне не заслужить, а потому, выпив из горлышка «Стрелецкую» до дна, пока одну бутылку, я фактически дал согласие Устюжину. «Пропадать — так с музыкой!» — сказал я. «А мы не пропадем, — сказал он, — мы на белых конях гарцевать будем!» Про белых коней точно помню, хоть, возможно, подумаете, что много выпил я тогда, преувеличиваю. Я вроде бы удивился в тот миг: зачем нам на белых конях, что мы, цыгане какие? Полководцы?
...Когда мы переправили сейф на тот берег, схоронили его на торфяном болоте и снова возвращались, я уже без разговоров понимал, что измарал себя так — ничем не очиститься, сидел в жидком, как говорится, по грудку, а теперь со всей макушкой. «Дурак», — сказал я сам про себя Устюжину. Он ударил меня кулаком в лицо, а другим ударом вышиб из лодки. Я плавал, он бил меня веслом, куда попадя, я чуть на дно не ушел. Потом Устюжин поймал меня за волосы, втащил, избитого и нахлебавшегося воды, в лодку, сказал: «Сделал — молчи. Я ведь и убить могу. Уловил, козел?» Достал из-под куртки обрез от охотничьего ружья и больно ткнул им мне в губы. Я попросил у него прощенья. За что, спрашиваете... Не знаю. Я был подавлен морально и физически.
...Когда из нехороших намеков пришедшего ко мне Куропаткина я понял, что он знает про нас, я, больной весь, с температурой, встал с постели и сказал ему: «Пойдем!» Куропаткин предупредил меня, что оставил записку, в которой написал, что пошел ко мне и я с сообщником могу даже убить его. «Так что, Петр, смотри, — предостерегал он, — не делай глупостей...» Я привел его к Устюжину. У Гошки глаза сделались как у волка, ведь он предупреждал, чтоб мы на людях не встречались, но я вслух быстро сказал: «Этот старик, Гоша, выследил нас!» Устюжин прыгнул к Куропаткину, схватил его за горло, крича при этом: «Его тогда кончать надо!» Куропаткин захрипел, стал синеть, мне было боязно и безразлично одновременно, вроде как это не рядом происходило, не в моей жизни, и я отвернулся к окну. Потом вспомнил про записку и сказал: «Он, Гоша, записку оставил...» Повторяю, что я температурил в тот период и сильно это на себе чувствовал. Устюжин стал выводить старика из обморока, чего-то спрашивал у него, интересовался, старик отвечал, умолял пощадить его, я догадался, что убийства не случилось, очень был доволен этим. И тут увидел в окно: милиция! «Гоша, — сказал я, — за нами идут!» Он тоже выглянул в окно, заметался по комнате и со словами: «Заложил, паскуда!» — ударил старика Куропаткина табуреткой по голове. «Чего стоишь, — крикнул мне, — заложи дверь на засов!»
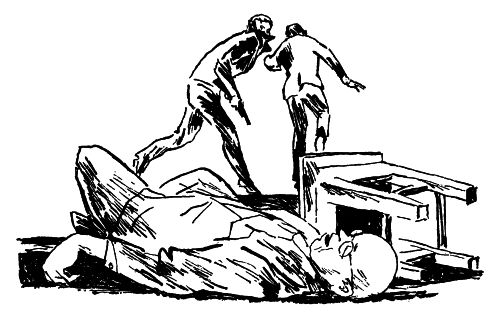
...Куропаткин лежал убитый, а я ждал, чего Устюжин сделает дальше. От температуры и ужаса я был весь огненный. Устюжин выскочил из чулана, вооруженный уже знакомым мне ружейным обрезом шестнадцатого калибра и финкой. Приказал: «На чердак!» Я вот так — видите? — отрицательно покачал головой, это означало: я никуда не пойду. Тогда Устюжин крикнул: «Ты чего — покажешь им, где сейф? А ведь покажешь, козел!» И он споднизу воткнул мне финку в живот. Но я отдернулся и рухнул на пол, как смертельно пораженный. На самом деле финка вошла неглубоко, не причинив мне большой беды. Устюжин наступил на меня и помчался на чердак, потому что в дверь уже стучали: «Открывайте!»
...Мы считали, что в сейфе должно быть не меньше пятидесяти тысяч. Устюжин сказал, что мне причитается одна четвертая часть, и то я должен быть доволен, а остальное — ему одному. Я, опасаясь, что он опять меня изобьет, молчал.
СУДЬЯ. А что — обидным представлялось, что Устюжин обделяет вас?
— Не отрицаю. Было обидно. Очень!
Под тяжелыми старинными сводами голос Петьки Мятлова звучал тонко, с надрывом; Петька, как умел, каялся, винился, то с истовой правдивостью, будто безоглядно исповедуясь, то с внезапной хитрецой, выставляя себя беззащитной жертвой Устюжина, — и тогда громко кричал, какой он трусливый, безвольный, никудышный человек, как Гошке Устюжину было просто завладеть им!
Гошка Устюжин редкие слова пропускал через неразмыкающиеся губы, едва шевеля ими, и чтобы получить от него простые «да» или «нет», членам суда требовалось терпение и выдержка. На Петьку он изредка взглядывал не с презрением, а, пожалуй, с брезгливостью; весь был как затвердевший, после обжога, слиток, который никак невозможно расколоть. И лишь когда был зачитан приговор: «...Устюжина... к исключительной мере наказания...» — он издал короткий стон, жесткое лицо расслабилось и сделалось потным.
Когда же Устюжина вели к спецмашине с зарешеченными окошками, ноги плохо повиновались ему, не гнулись в коленях, а старшему конвоя, рослому прапорщику с напряженным взглядом холодных, не подпускающих к себе глаз, казалось, что осужденный нарочно идет медленно, упирается, — и он торопил: «Живее, ну!»
Так все будет.
Но прежде чем это
будет, Чухлову и его помощникам предстояло пройти через непредугаданные события, которые навсегда останутся в памяти, как то, что
было.
XIII
Те, последние оставшиеся до выезда минуты, как всегда, тянулись долго, подстегивали нетерпением, и все поглядывали на часы и на Чухлова. Офицеры, назначенные Сердюком в оперативную группу, сидели в кабинете начальника; рядовые и сержанты находились во дворике у машин. Чухлов объявил, что поедет тоже, и хоть операция по задержанию никому не представлялась особенной, сопряженной с непременной опасностью, — Чухлов, после того, как его заместитель весьма подробно расписал обязанности каждого, счел нужным предупредить сотрудников о повышенной бдительности и осторожности. Характер, замашки Георгия Устюжина неведомы, и кто знает — а вдруг он вооружен, вздумает оказать сопротивление! Да и у Петра Мятлова — пусть он, само собой, размазня, маменькин сынок — двустволка в доме имеется...
— Сколько времени Устюжин живет в Доможилове?
— Около трех месяцев, товарищ майор.
— Почти три месяца! — Чухлов с укором посмотрел на участкового Щербакова и на капитана Чернущенко. — Тут такой минус нам — с оглоблю. Новый человек, а кто — иди к Фимке спрашивай! Так?
— Паспорт-то у него чистый был, — попробовал оправдаться Щербаков. — А что пьет — это знали, товарищ майор.
— Честь по чести, — передразнил Чухлов. — Ты, Щербаков, участковый инспектор, у-част-ко-вый... вдумайся! Не паспорт, холодную бумагу, а живую душу видеть и знать обязан. Ясно?
— Из улик лишь флотская пуговица пока не подтверждена ничем, — напомнил Чернущенко.
— Как одежду посмотрим, в которой они за сейфом лазили, так и подтвердим, — сказал Сердюк.
— Что ж, с богом, Павел! — встал из-за стола Чухлов.
Все поднялись.
— Еще раз проверьте оружие, — посоветовал Сердюк.
У него самого и Щербакова пистолеты были в кобурах, на поясе; Чернущенко положил свой в карман брюк; Чухлов, как обычно делал в таких случаях, достал из сейфа старый любимый наган с именной пластинкой на облезлой, круто изогнутой рукоятке: «Герою беспримерного партизанского рейда...». Облачился в тужурку, и наган занял привычное ему место — у сердца, ближе к подмышке, стволом вниз. Сердюк уважительно произнес:
— Это пушка! Всякий раз смотрю — приятно. Были б только патроны!
— На мою службу, Павел, хватит. А лучше на пенсию уйти, совсем ни разу не выстрелив!
Все к двери потянулись — и телефонный звонок. Весь день трезвонят непрестанно.
«Таська», — подумал он, снимая трубку.
— Папка, я тебя целую в твои колючие щеки! К тебе можно? Какая я соскученная... ужас! Человек ты мой!..
— Так я и поверил всяким коварным речам, — сдерживая радость в груди, ответил он. — Слух докатился, что ты теперь вообще своих игнорируешь.
— Врут, папка! Но с Кириллом хочу тебя познакомить...
— Игнорируешь, а старый друг, не забывай, лучше новых двух.
— Это ты у меня старый и лучше всех! Зайдем мы к тебе?
— Напрасно подлизывалась. Нельзя, занят. До встречи за ужином!
Шел к машине, а голос дочери звончато жил в нем, и сержант Зайцев, предупредительно распахнув дверцу, сказал:
— Так улыбаетесь, словно дело уже сделано, товарищ майор. Извините, конечно.
— Не сделано, Зайцев, сделаем.
Выехали на двух машинах.
Езды до нужной улицы, Тракторной, пять минут.
Не доезжая, остановились в старом бесхозном саду. Младший лейтенант Щербаков и младший сержант Дрыганов быстро побежали в обход домов, чтобы в случае необходимости отрезать Устюжину путь для отступления по огородам. Другая группа под началом капитана Чернущенко направилась к дому Петра Мятлова. Чухлов, Сердюк и Зайцев, помедлив, давая возможность Щербакову и Дрыганову занять позицию, пошли к кирпичному особняку Китайцевой.
Зайцев острыми молодыми глазами с расстояния разглядел, что в окне маячит чей-то силуэт.
Петька Мятлов!
— И этот здесь, — тяжело дыша, бросил Сердюк, с трудом поспевая за Чухловым и Зайцевым.
Когда открывали калитку палисадника, явственно услышали, как лязгнул засов входной двери. Не хотят впускать!
— Тут с сюрпризом будет, — опять подал голос Сердюк и расстегнул кобуру.
— Зайцев, — сказал Чухлов, — останься у калитки, за деревом укройся, с окон глаз не спускай.
— Есть!
— А мы, Павел, прямо... Такую дверь плечом не вышибешь!
Цеплялись за брюки колючие веточки крыжовника, угасающее солнце второй половины дня стелилось по оконным стеклам и белой цинковой кровле.
«Отгрохала Фимка коттеджик, — подумал Чухлов, — пока наш ОБХСС спит!..»
— Стучи, Павел, не жалей кулаков.
— Открывайте!.. Мятлов, и тебя касается!
«Через заднюю дверь будут уходить, — не сомневался Чухлов. — Заперлись, чтоб минуты выиграть, хоть на сколько-то нас задержать. Но Петька куда удирает, обалдел совсем, щенок!.. Не растерялись бы Щербаков с Дрыгановым...»
— Павел, продолжай тут с Зайцевым... А я — за дом, со двора!
Только за угол метнулся — сверху, над головой, по цинковой крыше рассыпалась дробь шагов. «Из чердачного окна вылезли...» Отбежал в сторону, запрокинул голову, чтобы увидеть, кто там: оба, один? На фоне небесной синевы ухватил взглядом вороненую сталь в вытянутой руке Гошки Устюжина, упал на землю, и тут же, секундой позже, грохнул выстрел. Не пистолетный — тот, как хлопок, а этот густой, ухающий, и сыпануло вокруг, словно горохом. «Обрез, картечью... сволочь! Как бы со второго раза не достал меня!»
Но Устюжина на крыше уже не было.
«Спрыгнул!»
Услышал Чухлов звон разбиваемого стекла, голос Сердюка:
— Зайцев, в окно! Я прикрываю!
И опять раздался прежний, из обреза выстрел, уже в саду, и одновременно с ним — голос Щербакова:
— Сто-ой, бросай оружие!
«Теперь Гошке не перезарядить, — отметил Чухлов, — не успеет. Не задел ли кого из моих?»
Он бежал по грядкам, с хрустом ломалась ботва под ногами, струился, обжигая глаза, пот из-под фуражки; силился понять он, отчего это ребят не слышно, никакого шума, только в висках у него невыносимо стучит, какой-то резкий металлический перестук, больно отдающийся в сердце, и сверлящая мозг мысль: «Неужели уйдет?» Черт те какие заросли крыжовника, всюду этот крыжовник! А Петьку Мятлова Сердюк, надо думать, уже взял. В доме. Возможно, во дворе иль на чердаке. На крыше Устюжин один был... А Петька стрелять не будет, нет.
У яблони, привалившись к ней спиной, сидел Щербаков, лицо его страдальчески кривилось.
— Ранен?!
— Ногу, по-моему, сломал...
— Выбрал время! В кого выстрел был?
— В Дрыганова.
— И что?
— Не знаю.
— А!..
— В той стороне, товарищ майор...
— Потерпи, Щербаков!
Опять бегом. Выскочил за садовую ограду, обрывающуюся на краю узкого, размытого вешними водами оврага. Слева кусты, справа тоже, еще гуще, на километр будут, а за их зеленой грядой желтое совхозное поле, пшеница, и хоть низкая — ползком по ней можно. Он по войне отлично знает, как бывало спасительным такое вот поле... Группе Чернущенко подоспеть бы, где они, маму их спросить бы, возятся!
И что Аркадий?
— Дрыгано-ов!..
Пересохший рот и какой-то клокочущий, чужой, лишенный необходимой звучности голос...
И вдруг...
Увидел!
Почти перед собой, малость наискось, метрах в двухстах, на срезе крутого овражного склона. Они только что выкарабкались со дна оврага, нет у них сил бежать, или Гошка Устюжин видит, что так не убежит, — напрягшись для прыжка, поджидает он медленно приближающегося к нему Аркадия. Шаг, другой... Где твой пистолет, Аркадий, у него ж, гляди, нож в руке! Нож, Аркадий!
Сколько потребуется минут, чтобы осилить овраг? Пять-семь, так?
Чухлов поднял руку с наганом, выстрелил в воздух. И еще... А сам тут же скатился в овраг, успев заметить, что его выстрелы сыграли свою роль: Гошка Устюжин испуганно оглянулся, на какой-то миг был сбит с толку — и Аркадий рванулся к нему... Лишь бы успеть, лишь бы продержался Аркадий эти пять минут. А может, три?
Ну и склон, чтоб его!.. Хватался руками за траву, она выдиралась с корнем, обсыпая лицо рыжей землей, и кожаные подошвы скользили по травяной поверхности, словно по укатанному снежному насту. Упирался локтями и коленями — до радужных, сумасшедше крутящихся кругов в глазах, таких, как в детском калейдоскопе, который немыслимо быстро вращался...
Выбрался, замер для рывка — и в колеблющемся перед ним мареве сразу же увидел светлые вихры Аркадия, его коричневое тело, проглядывающее сквозь спущенную лоскутами форменную рубашку. Сидел Аркадий на Гошкиной спине, круто заломив ему руки, отчего носом и губами Гошка утыкался в землю... Оба были перемазаны кровью.
— Вставай, Аркадий, — глухо сказал Чухлов. — Отпусти его. А будет баловаться — подстрелю. Ты слышишь, Устюжин!
Аркаша поднялся, покачиваясь, улыбался белыми губами.
Ревели моторы несущихся сюда машин...
Гошка сидел, опустив голову, ощупывая и потирая плечи, шею... Узкая, длиной в ладонь финка с плексигласовой наборной ручкой валялась в траве, притягивая к себе веселый солнечный свет.
Чухлов хотел поднять ее, но передумал: пусть ребята, когда подъедут, посмотрят...
Аркаша Дрыганов по-прежнему улыбался белыми губами, щурился, следил взглядом за крошечным сизым облаком, плывущим, будто дирижабль, над разномастными крышами Доможилова.
Из подошедших машин выскакивали милиционеры.
— Мятлов уже в КПЗ, — сообщил Чухлову Сердюк и, наклонившись к Гошке Устюжину, скомандовал: — Руки, ты, быстро!
Гошка вытянул перед собой руки. Щелкнул замок наручников.
— Встать!
Гошка неловко, боком, с колен, вставал на ноги.
Чернущенко сказал:
— Он, Григорий Силыч, пенсионера Куропаткина убил.
— Да ты что, Миша?!
Чухлов подошел вплотную к Гошке — тот отвернулся.
— Смотри на меня, — приказал Чухлов.
Встретились взглядами. Гошкин — исподлобья, затравленный.
— В нас стрелял — понять можно. За что ж, гад, старого человека? Молчишь? А глаза бегают! Жалкие. У всех у вас, подонков, они бегают. Сколько ищу — ни одного с твердыми глазами не встречал. Уведите его в машину!
— Где фуражка ваша, Григорий Силыч? — спросил Чернущенко.
— В овраг, что ли, укатилась...
— Сержант, спуститесь в овраг, отыщите фуражку начальника!
— Слушаюсь, товарищ капитан.
— Павел, раскололся Петька, деньги где?
— С первого слова, Григорий Силыч. Деньги в сейфе. А сейф на торфяных выработках.
— Что ж, заедем за Петькой, в машину его — и за тем ящиком, будь он неладен!
— Двинулись...
— С Щербаковым, Павел, что?
— Железная балка в траве — не видел. Об нее. То ли закрытый перелом, то ли сильный ушиб, вывих... Отправили в больницу.
— Ваша фуражка, товарищ майор.
— Спасибо, Зайцев. А где Дрыганов, не вижу?
— Ему кисть руки перевязывают, товарищ майор, там, за «газиком»...
— Порезался?
— Нож выбивал — зацепило.
«Кто именинник сегодня — это он, Аркадий! — радостно и с благожелательной завистью старшего вспыхнуло в Чухлове; почувствовал, как жарко, до испарины на лбу, прошлась по телу некая неведомая волна, снимая с мускулов напряжение, а с души — тревогу. — Именинник, факт! И разве плохо... превосходно это: молод и, нужно если — принимаю бой! Из обреза чуть не в упор, ножом пощупали — а он все ж наверху, не сробел, не поддался. Один раз такое выдержишь — дальше, случись снова, вообще легче будет... По себе знаю».
Аркаша Дрыганов, уже с перебинтованной рукой, действительно стоял за машиной, перебрасывался словами с товарищами; он стащил с себя изодранную в клочья рубаху, был в одной майке, всегдашний юношеский румянец снова прилил к его щекам. Увидев приближающегося начальника, он подобрался, сказал смущенно:
— Товарищ майор, до дома переодеться не во что... поэтому так я.
— Геройски действовал, — опережая Чухлова, проговорил Сердюк, похлопывая младшего сержанта по плечу. — Если б не замечания по службе, к медали б можно было!
— Почему не стрелял? — спросил Чухлов. — Он — в тебя, а ты — предупредительный бы, вверх! Почему? Впрочем, ладно, все равно разбор проводить будем, на разборе объяснишь. Как рука? Немедленно к врачу надо... Укольчики — а как же! Опасность заражения и прочее... — И, помолчав, Чухлов закончил: — Доволен я тобой, Аркадий.
— Да?! — вырвалось у младшего сержанта, и с таким неподдельным восторгом и удивлением это прозвучало, будто он, Аркадий, не мог даже надеяться на подобное, не мог мечтать об этом, — все, кто подле стоял, за животы схватились. Га-га-га!..
А Чухлов серьезно добавил:
— И какие грехи, Аркадий, были за тобой — будем считать: их не было.
Сердюк зычно крикнул:
— Кончаем тары-бары... по машинам!
— Павел, не спеши, — вполголоса, чтоб не слышали другие, сказал Чухлов заместителю. — Командую пока я. Но ты прав — вперед!
Селиванова Елена.
Без белых роз

Слово от автора
В этой книге я рассказываю о том, что мне, как адвокату, стало известно из конкретных судебных дел. В некоторых очерках изменены только фамилии героев. А там, где изменять их не имело смысла, как в очерке «Спасибо вам, люди», поставлена дата первой публикации.
Подзаголовок книги «Записки адвоката» обязывает меня хоть немного приоткрыть двери лаборатории защиты.
Литература, кино и телевидение, как правило, освещают работу следователей, реже судей, и почти никогда не касаются деятельности адвоката, почетной и звонкой в прошлом. Этот пробел подрывает авторитет адвокатуры. Я уж не говорю о том, что помещения, где работают адвокаты, обычно самые скверные в городе. А ведь в юридические консультации люди обращаются постоянно. Обращаются за помощью и советом.
«В семье тяжелая ситуация. Пьянствует и буянит муж, а теперь и старший сын стал пить. Что делать?» — спрашивает одна. «Отказалась работать сверхурочно — уволили с работы. Как быть? А у меня двое детей. Муж ушел к другой женщине», — чуть не плачет вторая. Много дел у адвоката, но основная его работа в суде, где решается судьба человека, бывает, потерпевшего, а чаще подсудимого.
Адвокат защищает человека, но не его преступление. Скорее всего, он призван научить человека защищать себя по всем правилам социалистической законности в том случае, когда тот невиновен или когда он меньше виновен в том, в чем его обвиняют.
В книге более тридцати очерков и зарисовок. О чем они? О равнодушии — сестре жестокости, о зле, зависти и добре. О том, что надо всегда спешить на помощь человеку, оказавшемуся в беде, спешить делать доброе людям. Через все очерки проходит мысль: что легче поддержать падающего, чем поднять упавшего, а потому надо бороться за человека, даже по своей вине попавшего в беду. И в этой борьбе не должно быть посторонних, равнодушных, думающих, что беда может прийти в чей угодно дом, только не в их.
А беда может постучаться в любой дом. Заглянет вроде на минутку, да и останется надолго. В настоящее время жить по принципу: «моя хата с краю — ничего не знаю» — невозможно.
Мы, люди старшего поколения, ответственны за то, чтобы наша молодежь стала значительно лучше нас. Хорошее воспитание — залог здорового общества. Но надо помнить, что воспитание — это радость, а не тяжелое бремя, которое взваливается на того, кого хотят воспитать. И в этом деле есть золотая истина: меньше надо читать морали, лучше наглядным примером показывать, как нужно честно, по-человечески жить.
В очерке «Хозяева поселка» ставится большой социальный вопрос об отношении к постаревшему фронтовику. Вместо того, чтобы помочь погорельцу, односельчане измываются над старым человеком, который вдруг поселился в их поселке и живет своей жизнью: водки не пьет, в гости ни к кому не ходит и к себе не зовет, да еще и ставни держит закрытыми. Доведенный до отчаяния, старик совершает преступление.
О накопительстве, жадности рассказывается в судебных очерках «Дом на косогоре», «Сторож… с двумя дипломами». В некоторых очерках ставится вопрос о борьбе с нетрудовыми доходами. В то время, когда у нас ведется по-настоящему революционная борьба за оздоровление общества, это особенно важно.
В судебных очерках «Одна на качелях», «Димкина беда» и других показана творческая лаборатория защиты подростков… Бывает, что подросток попадает в трудную ситуацию. Он оказывается как в дремучем лесу, из которого ему нелегко выйти одному. Нужен человек, которому он поверит. Ему тяжело. Его предали самые близкие люди, и кажется, что нет выхода из создавшегося положения. В такую минуту опытный преступник может завести куда угодно и его руками совершить любое преступление.
Как важно, не сюсюкая, поговорить с ним, посидеть рядом, пока судьи совещаются, может, даже помолчать. В такое время он, как сжатый комок нервов. Девчонкам легче, они не стесняются поплакать — напряжение сразу снимется. Парни только зубы сожмут до хруста.
Кто виноват, что они дошли до скамьи подсудимых? Статистика показала, что основная причина, которая приводит подростков к преступлению, — пьянство родителей. Вернулся мальчишка из школы — обеда нет, в доме пьяный угар или скандал… Терпит, терпит, а потом убежит из такого дома… Да разве можно вообще назвать домом то жилище, где собираются пьяные компании, где процветают брань и разврат?
В связи с усилением борьбы с пьянством резко сократилось количество дел о хулиганстве, но, к сожалению, еще немало подростков, которые не только по своей вине, но и по своей беде пойдут в воспитательно-трудовые колонии для несовершеннолетних. А что с ними будет дальше? Выйдут ли они на ту дорогу, по которой идут все честные люди, или сломается вся их жизнь — трудно сказать.
Конечно же, нам надо стремиться к тому, чтобы ни один человек не пропал для общества. Кто окажется рядом с подростком и куда того заведет — пока сказать никто не может. Остается одно: не оставаться равнодушным и бороться за человека. Бороться по всем правилам нашей законности и морали!
Эту книгу я назвала «Без белых роз», так как написала в ней все без прикрас о том, что было в нашей жизни, что, к сожалению, пока еще есть и чего не должно быть.
Федор Лукьянович
Робко перешагнув порог кабинета начальника Челябинского управления Министерства юстиции, я почувствовала себя перед ним совсем маленькой.
Казалось, и комната ему тесна. Малы стол и кресло. А когда он еще и заговорил басом: «Не с адвокатуры надо начинать. Иди в судьи!» — я совсем растерялась.
— Чего молчишь? Боишься?
— Боюсь.
— Вот это по-честному! Только виду не подавай, что боишься. Думаешь, мне не страшно было, когда меня, кузнеца, избрали народным судьей? А у тебя диплом ленинградского института. Что значит — говорить не умеешь? Если есть о чем — скажешь.
Он откинулся на спинку кресла. Сдвинул брови. От того, что он поймал меня на слове, стало неловко. Захотелось поскорее уйти из кабинета: если он уговорит меня, то конец давнишней мечте стать адвокатом. В то время я и не предполагала, что он станет моим учителем и наставником на всю жизнь. Тогда думала только об одном: поскорее бы уйти.
— Не торопись. Говорить научиться несложно, а вот слушать… Будешь ли ты адвокатом или судьей,
главное — умей выслушать человека! Придет он с горем или обидой, с вопросом государственной важности или с просьбой взыскать алименты на детей — выслушай. Для него это вопрос жизни. Пришел он за помощью и советом. Помоги, если сможешь! А нет — разъясни почему. Только никогда не отписывайся и никогда «не гони зайца дальше». Поняла?
— Конечно! — осмелела я.
— Ну вот и договорились. Не боги горшки обжигают, — широко улыбнулся Федор Лукьянович. Глаза его подобрели.
С легкой руки моего наставника в двадцать три года я стала членом областного суда. Однажды рассматриваем сложнейшее дело по спору, кому из родителей оставить на воспитание единственного сына. Открывается дверь, и входит Федор Лукьянович Токарев. Я встала и поздоровалась с ним. Послушав одну-две минуты, он вышел. Досталось же мне потом за мое поведение.
— Ты же судья! — гремел Федор Лукьянович. — Именем Республики выносишь решение, а вскочила как школьница. Когда идет суд, хоть черт, хоть дьявол зайдет — нельзя отвлекаться. Судьбу людскую решаешь. Не забывай!
А потом уже мягко добавил:
— Бусы убери. Они, конечно, красивые. Только к месту и ко времени…
— Какой из меня судья, Федор Лукьянович? — насупилась я. — Вчера старушка на прием пришла. «Мне, — говорит, — миленькая, к судье бы надо». Я — ей: «Слушаю вас, бабушка». Она отвечает: «К судье мне, а не к тебе!» — «Так ведь я и есть судья!» — «Ты?! — удивилась она. — Ну вот! Молоко на губах не обсохло, а уж людей судить вздумала!» Махнула рукой и ушла. А мне каково такое слушать?
— Возраст и житейская мудрость — дело наживное. А бусы все-таки сними. И неплохо бы в суде быть в строгом костюме. Тогда бы старая женщина не отмахнулась.. У меня у самого не только сын есть, но и две дочки. Так что это я тебе не как начальник — как отец советую.
…Очень дорожу одной фотокарточкой. Там, где теперь в Челябинске Вечный огонь горит, много лет назад собрались местные юристы проводить Федора Лукьяновича в Казань: его избрали председателем Верховного суда Татарской АССР.
Потом уже центральные газеты принесли новость: Ф. Л. Токарев стал вначале заместителем министра юстиции, а затем заместителем Председателя Верховного суда РСФСР.
Много лет он был депутатом нашего областного, а затем Верховного Совета Татарии. Но, как говорится, высокий пост не вскружит голову умному. Федор Лукьянович остался прежним. Случайно попадаешься ему на глаза в Верховном суде и сразу слышишь:
— Зайдите ко мне, как освободитесь. Хоть на пять минут.
И пройдет, статный, стройный. И снова покажется, что для него и высокие потолки низки.
Как-то назначили меня на прием к нему по надзорному делу. Дело хозяйственное, связанное не только со злоупотреблением служебным положением, но и с хищением государственного имущества.
— Читал жалобу твою. Читал, — Токарев поморщился.
— Плохо написана?
— Нет! Но дело все-таки не истребую. — Прошелся по кабинету и, остановившись против меня, продолжал: — Сколько эти прохвосты разворуют, если им поблажку дать? Посмотри на это дело с государственных позиций, а не только с точки зрения хороших характеристик. Терпеть не могу добреньких. Человек должен быть справедливым.
Мне стало как-то не по себе. Токарев это заметил:
— Знаешь, а ты приди ко мне с делом, где настоящему человеку помочь надо. Честное слово, помогу, а за воров, расхитителей просить не ходи!
Много лет назад, уже персональным пенсионером союзного значения, Федор Лукьянович работал начальником приемной Верховного суда РСФСР. Со всех концов республики приезжали к нему люди за помощью.
Как-то в пятницу в кабинет Токарева пришел пожилой мужчина.
— Я Шаталин из Саратовской области. Хочу похлопотать за сына. Не то чтобы он не виноват, но потерпевшие сами не ангелы.
Стоит взволнованный. В одной руке — шапка, в другой — целый ворох бумаг:
— Жалобу мою отклонили. Хочу к самому председателю попасть.
— Сразу к председателю? И заместителю его даны большие права, — мягко поясняет Федор Лукьянович.
В дверях появляется секретарша.
— Проводи этого товарища к заместителю на прием. Не будем же человека до понедельника держать!
— Спасибо, товарищ Токарев! — говорит Шаталин, пятясь к двери.
— Да не за что! Решать-то буду не я, а заместитель. Только вы и у него не вздумайте спиной дверь открывать, когда уходить будете. Вы же рабочий человек! А у рабочего чувство собственного достоинства всегда должно быть. Как, впрочем, у каждого человека.
— Опозорил сын-то меня, вот и согнулись плечи. Сын-то мой, а ум-то свой, выходит, — сказал посетитель, закрывая за собой дверь.
…В приемной людей поубавилось. Только слышно, как одна посетительница советовала соседке:
— Ты прямо к Токареву иди. Он не отмахивается, на другого не перекладывает. Первый раз прихожу к нему, начинаю от царя Гороха. Он слушал-слушал, да и сказал напрямик: «Что, мол, у вас случилось сейчас-то?» — «Сейчас-то, — говорю, — дети обидели. Для всех у меня было место — и на полатях, и на печке, когда росли; теперь и я у них во всех ордерах значусь, а жить негде. Нужна была, пока внуков нянчила, а нынче один к другому посылает». Вмешался Токарев. Уж не знаю, что он там сделал, только детей моих как подменили. Теперь живу спокойно.
— Сегодня-то зачем пришла? — вмешалась вторая соседка.
— А спасибо сказать надо? — рассердилась старушка.
И вспомнились мне слова Федора Лукьяновича: «Житейская мудрость — дело наживное! Было бы желание понять человека и помочь ему. Было бы желание выслушать».
…Немало лет прошло с той поры, но и по сей день благодарна я Федору Лукьяновичу за то, что он, мой учитель, научил меня по-настоящему слушать чужую беду.
Дом на косогоре
Стоит на косогоре добротный двухэтажный дом. Низ — каменный, верх — бревенчатый. Двор под навесом. Во дворе сарай с сеновалом, гараж. Высокие тесовые ворота.
Перейдешь по мостику, а там рукой подать до многоэтажного городка автомобилестроителей с Дворцом культуры, кинотеатрами, рестораном, стадионом. Яркие плакаты призывают хранить деньги в сберегательных кассах.
А Нагина Зарипова и без этого призыва хранит их там. Вернее, хранила. Ежедневно, придя с работы, подоив коров и напоив телят, она загоняла скот в сарай и, закрыв ворота на засов и замок, поднималась на второй этаж дома. Плотно сдвигала занавески и садилась подсчитывать, сколько процентов набежало от всего ее капитала. Она любила срочные вклады. Положишь десять тысяч. Незаметно пробежит год. Глядишь, а тебе, как с неба, триста рублей в карман. Для нее, стрелочницы на железной дороге, это трехмесячный заработок.
Последние годы, когда дочь с сыном, окончив техникум, уехали из дома, они с мужем никуда не ходили. Ни они к соседям, ни те к ним.
— Чего зря лясы точить? Работы, что ли, дома нет? Лучше пуховый платок на продажу свяжу. Оно доходней и сплетен меньше, — рассуждала Нагина.
Муж ей не перечил и в ее дела не вникал. Он знал свое: убрать за скотиной, заготовить сено, принести воды и ежедневно покупать в магазине несколько буханок хлеба. Остальное в доме было свое: парное молоко, творог, сметана, масло, мясо, картошка и разный там шурум-бурум, как говорил он про овощи и фрукты.
При доме сад — десять соток. По весне, как расцветут яблони и груши, вишня и слива, кружит голову медовый запах. Обнимет Хабир жену, как когда-то в молодые годы, и ничего и никого ему больше не надо.
— Уж дочь на выданье! Постеснялся бы, — незлобно упрекала жена, но руку мужа с плеч не снимала.
— А что, есть жених?
— Да какой-то детдомовец. Видела раз. Вроде ничего. Высокий, плечистый, мордастый. Да что толку, коль ни кола, ни двора.
— Наживут! У нас с тобой тоже ничего не было. А теперь вон какими деньжищами ворочаешь. И процентики идут…
— Тише ты, охламон! За забором соседи. Услышат — в долг придут просить. А ведь, как говорится, в копнах — не сено, в долгу — не деньги.
— Ой, Нагина, ты, Нагина! — засмеялся Хабир. — Можно подумать, что ты дашь взаймы. Заревешь — да не дашь. И зачем все копишь-копишь? Другие хоть одеваются, по курортам, заграницам ездят, а ты дальше своей стрелочной будки да базара не была. Фуфайку драную, которая навозом пропахла, не снимаешь. Да и мне на люди стыдно показаться: кто теперь ходит в старых рубашках с перевернутыми на другую сторону воротниками?
— Ладно, в эту зарплату куплю тебе сразу две рубашки. А накопим тысяч пятьдесят, на море тебя повезу. Говорят, шибко полезно в морской воде купаться.
…Но на море они не съездили и пятьдесят тысяч накопить не успели. А вот отговорить дочь от замужества с любимым мать смогла.
Поплакала-поплакала Танзиля, а против матери не пошла. Вон брат женился без согласия родительницы, так она его третий год на порог не пускает. Даже внучку не захотела посмотреть, когда сноха в гости приехала.
Вышла замуж Танзиля за сына «состоятельных» родителей, которые на свадьбу единственного сынка не глядя три тысячи бросили. Весело было на свадьбе, да горько после нее. Не пришла любовь в дом. Верно говорят: счастье никаким золотом не купишь. Остался на руках Танзили в память об этом браке слабенький сын-заика.
— Да, Нагина, видно, маху ты дала со своими советами. Лучше бы за детдомовца дочь выходила. Не пьет парень, не курит.
— Я разве хуже своей дочке хотела? — вздохнула жена, не отрывая глаз от проворных спиц. Она вывязывала кайму шали и боялась сбиться со счета.
— С тобой не наговоришь! — махнул рукой муж.
— Лучше пойди быкам сена подбрось! Телкам пойло приготовь, а говорить ночью будем…
— Так ведь уже полночь на дворе, — проворчал Хабир. Но тут постучала в окно кухни соседка:
— Айдате мыться! Баня жаркая, воды много. Мы все искупались. Айдате!
— Сейчас, сейчас! — заторопилась Нагина.
Утром нашли ее в бане недвижимой, на полу валялся веник… Вызвали милицию.
На похороны приехали сын и дочь. Стали искать паспорт умершей и случайно в старом шерстяном носке обнаружили двадцать три сберегательные книжки на тридцать одну тысячу рублей.
У сына язык отнялся: откуда такие деньги? У матери, бывало, копейки не выпросишь. Всегда только и говорила: «Не обижайся, сынок, денег нет. Большой расход на скотину. Одного хлеба — шесть булок в день».
Забыв про похороны, наследники кинулись в сберкассы, где им сказали, что около девятнадцати тысяч завещано дочери, семь с половиной тысяч сыну, а срочные вклады не завещаны никому.
Похоронили Нагину по-мусульмански, без гроба на деревенском кладбище за шестнадцать километров от дома, где когда-то были захоронены ее родители.
На третий день справили скромные поминки. На седьмой помянули усопшую добрым словом: о покойниках плохо не говорят. И начали думать, как разделить наследство.
— Мне от вас ничего не надо. Возьму только девятнадцать тысяч, которые мать мне завещала, — сказала Танзиля.
— А мне завещанного мало. Я с семьей перейду в дом. Отец пусть низ займет, а я с семьей буду жить наверху. Нас трое — он один, — заявил сын.
— Ишь, как хорошо! А отец горб гнул всю жизнь, ему шиш с маслом!
— Тебя же никто из дома не гонит, папа! Бери еще двух коров, двух быков, двух телочек, ковры и все остальное имущество, — рассудила дочь.
— Вам, значит, деньжища, а мне разный шурум-бурум! — возмутился Хабир.
Получив завещанные вклады, уехала Танзиля из родительского дома, не простившись ни с братом, ни с отцом.
Потерял сон Хабир. Что делать? С досады даже напился.
Обидно Хабиру, что жена так с ним поступила. Жили душа в душу. Ни словом, ни делом ее не обижал никогда. А теперь сын хуже врага стал, да и дочь хлопнула дверью и была такова.
Думал-думал и решил, что без суда их спор никто не решит. Подал он исковое заявление в народный суд. На уплату госпошлины пришлось продать корову. Написал он так:
«Жили мы с женой почти тридцать лет. Накопили тридцать одну тысячу рублей на двадцати трех сберкнижках в трех сберегательных кассах. Мне она ничего не завещала, а почти все деньги оставила детям. Я прошу эти завещания признать недействительными и взыскать с детей в мою пользу половину всех сбережений».
На суд, как на похороны, съехалась вся родня. Кто из Казани, кто из Ферганы, кто из Челябинска. Собрались до суда поговорить, но поссорились и даже передрались.
Первый суд отложили, так как Танзиля подала встречное исковое заявление о разделе дома, гаража, скота и другого имущества. Не забыла и про ковры.
— Надо оценивать дом, скот и вещи и оплатить госпошлину шесть процентов от той суммы, на которую вы претендуете, — сказал судья и как бы про себя добавил: — Откуда такое богатство у людей!
— Как откуда? — воскликнул Хабир. — Мы с женой печки клали в поселке. Одна печка — пятьдесят рублей. После отела коров жена надаивала молока чуть не по сорок литров.
— Шали пуховые мама вязала, продавала и складывала копеечку к копеечке, — вставила слово Танзиля.
Ей не хотелось упускать из рук завещанного богатства, но и тратить деньги на госпошлину было жалко. И решила она пойти за помощью и советом в коллегию адвокатов. Там должны были подсказать, как выйти из положения. Мать всю жизнь учила: «Деньги есть — ты человек. Нет денег — ты никто». И вот у нее, Танзили, теперь много денег, а никакого душевного покоя.
…Занесло снегом камень, под которым лежала мать. Не найти его на кладбище зимой. Отец же сказал, что весной приедет и плюнет на могилу жены, а дети ему теперь стали хуже заклятых врагов. Раздор, посеянный разделом наследства, вытравил из памяти все хорошее…
Трагедия в доме № 49
Произошел редчайший случай. Сын поднял руку на отца. Кого не возмутит это?! Устроить самосуд, когда тут же, рядом, в центре большого города, — милиция, суд, прокуратура. В конце концов, если тебя обидели, позови на помощь соседей — тебе помогут.
— Почему же ты не позвал на помощь?
— Не мог…
— А бить отца мог? — спросил подсудимого прокурор.
— Я виноват и не прошу оправдания.
Оправдать его, действительно, невозможно. Но как произошла трагедия в доме № 49? И один ли подсудимый в этом виноват?
…Жестянщик Баранов слыл на кондитерской фабрике отменным специалистом. Со стороны смотреть, как он работает, — глаз не оторвешь. За мастерство и прощали ему многое. После очередной выпивки приходил в цех хмурый, ни на кого не глядел. Только ворчал, ни к кому конкретно не обращаясь:
— Вырастил сыночка на свою голову… Вчера две бутылки водки в унитаз вылил! Молокосос! Попробовал бы заработать. Техникум закончил, диплом получил. Грамотеем стал. Так что, от отца лицо воротить надо?! Кто одевал, обувал, кормил? Мать?! Много она на свою зарплату сделает! А тоже заступница выискалась: «Повышенную стипендию Вася получает…» Подумаешь, стипендия… Да я ее за два дня халтуры заработаю…
— Ты с кем разговариваешь, Михаил Петрович? — подошел начальник цеха.
— Раз один, значит, с собой! А что, нельзя?
— Почему нельзя? С умным человеком всегда поговорить приятно. Но ты после смены загляни ко мне. Есть разговор с глазу на глаз.
— Знаю я эти разговорчики! Что, опять премии лишите, а то цеховое собрание созовете? Мол, незачем было Мишку-пьяницу в четвертый раз принимать на фабрику — только коллектив позорит… Так уж гоните сразу. Меня везде примут. А почему? Да потому, что работу свою твердо знаю и товар лицом завсегда покажу.
Он с ожесточением схватил лист железа, продолжая ворчать что-то под нос.
«Что же делать? — размышлял начальник цеха. — Легче всего уволить за прогул. В мае и июне по четыре дня не выходил на смену. И домой к тебе людей посылал и сам даже ходил — толку никакого. Лечиться отправляли, на собрании обсуждали… Да и уволить сейчас нельзя — на носу ремонт цеха. Хорошего жестянщика иногда труднее найти, чем инженера».
Посмотрел он, как тот ловко расправляется с железом, и, ничего не сказав, пошел в контору.
Потом на суде начальник цеха вспомнит одно из собраний, когда Михаила Баранова обсуждали в последний раз. Как обычно, жестянщик пришел с толстой тетрадкой, которую он именовал «черным списком». В ней в алфавитном порядке были записаны грешки тех, кто вместе с ним работал в цехе. Только скажут о нем плохо, он сразу начинает листать тетрадь и прямо с места охрипшим голосом:
— Ты наперед про себя скажи, за что тебе жена чуб драла?
Люди захохочут, выступающий растеряется:
— Какой чуб? Я ведь лысый…
— Но ведь был же у тебя до лысины чуб? И вообще регламент соблюдать надо. Женщин вон детишки дома ждут. Плачут.
На суде свидетели скажут, что в цехе не на шутку опасались «черного списка». Где и надо выступить — помалкивали. Никому не хотелось быть принародно оплеванным. А пьянице только того и надо.
После очередной проработки не пришел жестянщик на фабрику совсем. Целую неделю пьянствовал и, вытирая пьяные слезы, кричал на весь подъезд:
— Как они ко мне, так и я к ним! Никуда не денутся. Без меня ремонта не сделают. Вот и пусть ждут, пока я пропьюсь в доску. Пей, Анна! Сбегай-ка, Васенька, принеси три бутылки вина, чтобы на опохмелку хватило. Уважь отца!
— Уважь его, — просила сына мать.
Спустя полчаса, подавая стакан вина семнадцатилетнему Василию, отец снова сказал:
— Уважь отца!
— Да уважь ты его! — в угоду мужу повторила мать.
От выпитого у сына закружилась голова, потянуло ко сну. Он, не выключив телевизора, не расстилая постели, лег на диван.
Проснулся от страшного крика матери. Даже не сразу понял, где она: на балконе или на кухне. Опять, наверное, дерутся! Когда это кончится?
Крик повторился:
— Вася, сынок! Убьет ведь!
Побежал на кухню, схватил занесенный кулак отца, скрутил ему руки и, не помня себя, начал бить.
Позже судебно-медицинский эксперт скажет: можно было спасти Баранова-старшего, если бы в течение трех дней, пока он жил, ему была бы оказана медицинская помощь.
На суде выяснилось, что жестянщик гонялся за женой с топором, сломал ей ребро, избил до сотрясения мозга. Но об этом говорили свидетели. А Василий никакой тени не бросил на отца. Твердил одно и то же: «Виноват я!»
А наказание грозило, с учетом несовершеннолетнего возраста, до десяти лет лишения свободы.
— За что ты так жестоко избил отца?
— За то, что он маму бил. Она сильно кричала.
Коллектив кондитерской фабрики выдвинул общественного защитника, наказав ему строго-настрого: «Проси суд, чтобы не лишали свободы. Так и скажи: «Довел пьяница-отец парня».
Поступило в суд и письмо от коллектива автотранспортного техникума. Вот это письмо:
«В суде находится дело Василия Баранова, нашего выпускника. В техникуме он учился хорошо, получал повышенную стипендию. Он комсомолец. Это дисциплинированный, скромный, застенчивый подросток. Не было ни одного случая нарушения им трудовой дисциплины. Не было у него с товарищами конфликтов, в группе его уважали.
Но мы все знали, что дома у него тяжелая обстановка: отец и мать алкоголики. И Вася стыдился этого, замыкался в себе. Преподаватели сочувствовали ему, старались помочь. Особенно он стал переживать в последний год, когда надо было готовить и защищать дипломный проект. Не раз мы беседовали с матерью.
Мы думаем, что преступление, совершенное Васей, — это результат длительного, систематического расстройства нервной системы, сильного душевного волнения. Мы просим отнестись к Василию гуманно, не лишать его свободы».
Это письмо прислала классный руководитель техникума, а до этого она сама пришла в прокуратуру и очень просила следователя, чтобы ее допросили в качестве свидетеля.
— Не под силу подростку выдержать такую обстановку, которая сложилась в доме Барановых. За три года учебы мы не слышали от Василия даже бранного слова… Все, что с ним произошло, — результат нервного срыва…
Учительница очень волновалась, говорила так, будто на скамье подсудимых не бывший ученик, а очень близкий, родной ей человек.
И опять притихший зал слышал слово, которое в суде повторяли один за другим все одиннадцать свидетелей, выступавших по делу.
— Довели! — говорит сестра потерпевшего.
— Довели! — утверждает бабушка подсудимого. — Вася писал нам в деревню: «Приезжайте скорее. Они опять пьют».
С подобными просьбами обращался он и к другим родственникам. Эти короткие письма, написанные крупным почерком, взывали о помощи. Вот, может быть, тогда и надо было изолировать мальчишку от родителей, чтобы не отравляли они его детство. Но родственники, в лучшем случае, приезжали, журили пьяницу-отца и стыдили мать и уезжали, оставляя Василия без помощи.
И он замкнулся, замолчал: стоит ли писать, на кого-то надеяться, если все остается по-прежнему?.. Добавлялись лишь отцовские упреки: «Зачем писал, щенок! Не они, а я тебя кормлю!»
В центре большого города, в многоэтажном доме, произошла эта трагедия. Кто в ней виноват? Я ищу ответа на вопрос в показаниях соседей — тех, кто жили с Барановыми на одной лестничной площадке, за стеной их квартиры или в одном подъезде. Люди как люди. Николай Васильевич из соседней квартиры — заместитель директора одного из заводов. Человек степенный, солидный. Он авторитетно заявил суду:
— На месте Василия никто не выдержал бы. Парень он тихий, скромный. Если бы не он, то кто-нибудь из родителей давно погиб бы в пьяной драке. Василий разнимал их, уговаривал, упрашивал…
Мария Федоровна, проживающая этажом ниже, рассказывала, что неоднократно поднималась к Барановым, стыдила: «Почему у вас постоянный шум и стук? Потолок наш уже в трещинах…» Жестянщик издевался: у него, мол, очень болит желудок, вот он и бегает по квартире, чтобы облегчить боль. Жена его молча отходила от дверей, а Василий все реже и реже показывался на глаза соседям. Ему было стыдно за родителей.
Судьи удалились в совещательную комнату для вынесения приговора. С опущенной головой сидел на скамье подсудимых Василий. Высокий, худой, очень похожий на мать, сидящую на другой скамье. Такой притихшей и оробевшей ее раньше никто не видел.
Долго совещались судьи, обсуждая все, что было против подсудимого и за него, и пришли к выводу, что преступление совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Учтя все это, суд приговорил Василия Баранова к двум годам лишения свободы условно.
…Истории, происшедшей в доме № 49, могло бы и не быть, если бы на защиту подростка коллектив техникума, где он учился, родственники, которым он писал, и близкие соседи встали значительно раньше. К сожалению, все, что творилось в доме Барановых, многие из них считали «сугубо семейным делом».
Одна на качелях
«Здравствуй, мама! Твое письмо получила. Больше писем в таком духе не пиши. Отвечать не буду. Я веду себя хорошо. Не балуюсь. Мою руки перед едой. Когда перехожу улицу, смотрю налево, потом — направо. Не играю со спичками. Не пью холодной воды. Марина».
Это письмо мать передала судьям. Когда его читали, подсудимая, уставившись в потолок, усмехалась. Мол, стоило такую галиматью везти из Краснодара на Урал? Да и кто поймет, что вложила она, Марина, в эти строки? Надо было читать между строк, а не то, что написано черным по белому.
Марина перевела взгляд на мать. Зло сверкнули суженные глазки.
…Марину из Краснодара отправили в далекое уральское село к тете: пожить, поостыть от бед-неурядиц. Все поначалу шло неплохо. Только вдруг по селу прошел слушок: ночевала в доме парня из своего класса…
Подружка, потупив глаза, сказала:
— Марина! Мама не разрешает мне с тобой дружить. Ей учительница посоветовала: «Лучше бы ваша дочь держалась подальше от этой новенькой… Ну и что — отличница? Про нее тут говорят всякое. Зря не скажут».
— А что ты ответила подруге? — спросил подсудимую один из народных заседателей.
— Дуры, — сказала, — и ты, и мать. И учительница тоже набитая дура!
Не заходя в дом тетки, она села на первый проходящий автобус и уехала в город на вокзал. Решила вернуться в Краснодар к матери.
— А почему не зашли попрощаться к тете? Ведь вы прожили у нее больше двух месяцев, — поинтересовался заседатель.
— Вот еще! Чего с ней прощаться, если она на меня руку подняла. Да зачем вам все знать? Вы судите меня, что я украла транзисторный приемник и девчонку порезала. Виновной себя признаю… Что вам еще от меня надо?..
Марина замолчала. Длинной показалась ей эта минута. Кто знает, о чем она думала? Может, о том дне, когда отец, оставляя семью и уезжая на Север, пообещал привезти белого медведя. Не игрушку, а настоящего… Может, о том, как, получив от него письмо, мать приняла какие-то таблетки и, крепко прижав дочь, стала несвязно говорить:
— Мне плохо. Если умру, не вздумай поехать к отцу! Он нехороший человек. Он бросил нас. Лучше иди в детский дом или к любой из бабушек, только не к нему.
— Отец не хуже тебя! Из-за того, что будет платить алименты, он машину купить не сможет.
— Доченька, я умираю!
Марина опомнилась, когда мать упала на пол.
Мать долго лежала в больнице. Ее навещали соседи и сослуживцы, даже свекровь приехала из другого города.
— Горюшко ты мое, горе! Я сразу говорила, раз жизнь не идет — лучше разойтись, не мучить друг друга и дите не калечить…
— Ну, ладно тебе, бабушка, распричиталась. Папка тоже хороший гусь. И при мне мать ругал, и перед отъездом приказал: «Не слушай ее!»
— Оба хороши! Да ты кушай, кушай! На вот тебе куриную ножку. Похудела-то как! Осунулась… Поди, учиться-то стала хуже?
— Уже две четверки в табеле. Научишься с ними. Так они мне, бабулька, надоели, эти родители…
Мысли подсудимой прервал судья:
— Так почему же вы решили вернуться к матери, если перестали ее уважать?
— А куда мне деться? Куда? Я обиделась на всех. И на тетку: нашлась воспитательница с кулаками. Выдеру, говорит, тебя, как сидорову козу. На все село кричит: «Я тебе, шлюха, покажу, как письма блатные получать!» Разве я виновата, что мне прислали письмо: «Мы тебя под землей найдем! Тебе осталось жить немного». Если бы тетка умной была, она бы за меня заступилась, а не набросилась с кулаками… Вот и приехала я на вокзал, а денег на билет нет… Решила пойти по квартирам с тетрадкой, как будто выясняю, нет ли первоклассников, а если хозяева отвернутся или в другую комнату уйдут, то украду денег на билет в Краснодар. В квартире, где живет вот эта девочка, я взяла приемник. А когда она меня укусила, я схватилась за ножик… Перед отходом поезда меня задержали…
Подсудимая замолчала. Вроде сказала все. Что еще от нее ждут? В это время, как в школе, подняла руку потерпевшая:
— Я ее укусила потому, что она мне руки веревкой хотела связать.
При задержании у Марины нашли два письма. Написанные разными почерками и разными карандашами, они начинались одинаково: «Здравствуй, Мурка!»
В одном письме угрожали:
«Не забудь про левую руку! Если ответа от тебя не дождусь, то будет все, как я обещал. Дормидон приедет после 2 февраля, только не знает, как найти тебя, девочку-паиньку, как до тебя добраться».
— Что вы скажете в последнем слове? — спросил Марину судья после того, как выступили прокурор и адвокат.
Она бы сказала много. Несколько ночей не спала, думая, о чем просить суд в последнем слове. Даже половину ученической тетрадки исписала. Соседка по камере уговаривала начать так: «Прошу прощения у потерпевшей и у своих родителей…»
Такое начало Марине не понравилось. Ни она у них, а они пусть просят прощения, что натравливали друг на друга. Может, назло им, дорогим родителям, она и пошла в компанию Дормидона, Генки и Андрея, закурила там первую папиросу и выпила первую рюмку водки, а потом до утра бродила по городу, хоть и хотелось пойти лечь в свою постель. Мать была аккуратной и любила в доме порядок. Как ей хотелось вывести родительницу из себя и добиться, чтобы та ее оскорбила! Тогда бы нашелся повод уехать к отцу на Север. Подальше от дома и от этой компании подонков. Пугать надумали. Руку обожгли, добиваясь клятвы, что никому не расскажет о их грязных делишках. Вспомнила, как они хохотали, узнав, что она хочет стать следователем. Добились своего: кто ее теперь, с судимостью, примет в юридический институт?
— Да скажи ты ей, чтобы попросила судей не лишать свободы! — крикнула мать отцу, сидевшему на другой скамейке у окна.
— Пусть получает, что заслужила!
Эти слова услышали судьи, и Марина тоже. Вот тогда она и произнесла свое последнее слово:
— Что заслужила, то и получить должна — папа прав.
Ее приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних.
Отец в тот же день уехал на Север. На свидание пришла мать.
Ничего не сказала ей дочь: ни здравствуй, ни прощай. Сидела молча, опустив глаза. Только когда конвоир позвал ее, сообщив, что свидание окончилось, мать увидела, как вздрогнули плечи девочки, как она закрыла ладонью рот.
Мать успела крикнуть:
— Я обжалую приговор! Я еще приеду. А ты пореви, легче будет.
Попросив адвоката написать жалобу и выступить с защитой в областном суде, мать осужденной вылетела с Урала в Краснодарский край. Областной суд назначил слушание дела через восемнадцать дней, а ее ждала работа.
Отец… Он пожал плечами: «Плачу алименты немаленькие. Причем аккуратно. А что там произошло между матерью и дочкой, пусть сами разбираются. Я-то тут при чем?»
…Признаюсь, дело Марины ошеломило меня. Ей четырнадцать лет! С одной стороны, одаренная девчонка, с другой — разбойница. Не укладывались в голове сплошные пятерки со строчками письма: «Здравствуй, Мурка!» Как будто она на качелях, то вверх полетит, то вниз и сердце замрет — вдруг оборвутся качели.
Если областной суд снизит наказание, что будет с ней дальше? К тетке в деревню она не поедет — даже на свидание к ней не вышла. Отец отказался чем-либо помочь дочке: «Пусть получает, что заслужила!»
Мать? Но между ней и дочерью стена отчуждения. Как разрушить эту стену?
С этими мыслями я шла в областной суд выступать по делу Марины. Очень волновалась, как будто она была не подзащитной моей, а дочерью, попавшей в беду. Мне хотелось не только подать руку ей и вытащить из болота, но и отмыть ее от грязи. Как это сделать?
Нас пятеро. Судьи, прокурор и я.
Прокурор считает приговор правильным. Говорит, что народный суд учел вину родителей, натравлявших осужденную друг на друга, учел и то, что девчонка совершила тяжкое преступление, учел и возраст, определив наказание минимальное.
Надо было отложить суд и вызвать мать. Может быть, когда она приедет к Марине и станет перед девчонкой с опущенными руками, тогда растает лед, и Марина скажет: «Здравствуй, мама!»
Нет, законных оснований просить отложить дело не было. Но что может быть важнее судьбы человека? Дело отложили на несколько дней, а я побежала на почту. Даю телеграмму женщине в далекий Краснодар. Прошу ее приехать, так как судьба дочери во многом зависит от ее приезда.
…Рано утром, в тот день, когда было вторичное рассмотрение дела в Челябинском областном суде, раздался звонок.
— Говорит мама Марины. Я из аэропорта…
И вместо того, чтобы толково рассказать, как проехать в областной суд, я, рискуя разбудить семью, кричу в трубку:
— Здравствуйте, мама!
…Через три дня Марина, длинноногая, в короткой юбке, с завиточками на лбу, ухватив мать под руку, подошла к зданию областного суда. Она несколько раз заглядывала в зал, чтобы посмотреть на судей, которые освободили ее, снизив наказание и применив указ об амнистии. Но зайти не решилась, боялась помешать. Ведь там, в зале суда, решалась еще чья-то судьба…
Быть может, навсегда.
Они уехали вместе, мать и дочь. У них впереди нелегкая дорога, и прежде всего — друг к другу.
Отец и сын
Не могу спокойно смотреть, когда на скамье подсудимых — подростки. Всегда волнует один и тот же вопрос: почему это случается? Подростки. Еще не мужчины, но уже и не мальчики. Иногда тупой взгляд исподлобья, чаще опущенные глаза. И почти у каждого одинаковое последнее слово перед тем, как судьи уйдут в совещательную комнату решать его судьбу.
— Я глубоко понял, что поступил неправильно. И больше так делать не буду.
И судьи тоже задумываются: почему этот парень оказался на скамье подсудимых?
…Шестнадцатилетний Николай Малин убегал из дому. Его возвращали, а он снова убегал. Последний раз задержали в Чебоксарах, поместили в Челябинский детприемник. Потом Николай избил человека…
Классный руководитель Коли в характеристике написала:
«Семья у Малиных большая — восемь человек. Отец с семьей не живет, постоянно нигде не работает. Приедет в месяц раз и пьянствует. Николай в шестом классе остался на третий год».
Мать подростка, оставив четырех детей в Карабаше, приехала на суд в Челябинск. Она пытается сдержать слезы, нервно мнет платок в руках: «Я хотела как лучше. А отец пил, гулял. Сына выгонял из дома. А теперь ревет, говорит: «Погубил Кольку».
Жаль, что нет закона, который дал бы право посадить вместе с сыном на скамью подсудимых отца. Если бы отец украл вещь, его бы наказали. Если бы он бил детей, тоже привлекли бы к ответственности. А этот детей не бил. Он «просто» украл у них детство.
Бывает и по-другому. Отец не обижает жену, не пропивает зарплату. Он даже любит сына. Иногда, по настоянию жены, сходит на собрание в школу. А в праздник посадит рядом с собой парня, похлопает по плечу, мол, помощник вырос, подаст рюмку-другую красненького. Посмеется при сыне над учительницей, что домой пришла пожаловаться:
— Делать нечего, вот и ходит. Подумаешь, вместо урока мальчишка сбегал в кино!
А вскоре сын не пошел в школу, пропустив все уроки. Однажды по каким-то причинам в классе не состоялся туристический поход. Ребята выпили в «честь» такого происшествия полбутылки водки. Валерию это было не вновь: пробовал с отцом, да и каждому досталось всего по половине рюмки. Кажется, мелочь. Стоит ли об этом говорить? Но на второй раз каждый выпил стакан, на третий — целую бутылку.
Поступил сын в техникум. Первая стипендия. «Надо обмыть! — сказал отец. — Пейте, ребята! Пейте! Взрослые уже, не малолетки!»
…А потом сын ударил прохожего в лицо. Только за то, что тот сделал справедливое замечание. И вот шестнадцатилетний подросток уже перед судом.
Говорят, до этого за Валерием ничего плохого не замечали. Даже музыкой увлекался парень. Семья хорошая… И отец как отец — в меру ласков, в меру строг. А почему все-таки сын ударил человека? Случайно ли это?
Обращаюсь к вам, отец. Давайте вернемся на несколько лет назад. Возможно, все началось тогда, когда впервые при сыне сказали: «Подумаешь, пропустил урок — вот трагедия!» И сын пропустил целый день. Это вы, отец, протянули первую рюмку вина. Первую — вы. Последнюю перед преступлением сын выпил уже без вас, сам с друзьями.
Конечно, ни один отец не хочет видеть на скамье подсудимых сына. Но только не хотеть — этого мало. Необходимо, чтобы каждый родитель, оставшись один на один со своей совестью, почаще спрашивал бы себя: «Все ли я сделал, чтобы сын мой был хорошим человеком?»
…Владимир Шевцов обожал своего отца. В свою очередь, Парфен Андреевич был доволен сыном, гордился его успехами. В пример его ставили в школе.
Так было до шестого класса. И вдруг… Как выстрел из-за угла прозвучала чья-то недобрая фраза:
— Вовка, чего ты их слушаешь? Они ведь тебе неродные!
Володя не поверил. Полез драться. А слух все полз и полз. «Неродной!» — говорили соседские ребята.
— Батюшки! — судачили кумушки у ворот. — Не кричит на парнишку — боится! На своего-то и прикрикнул бы, и подзатыльник бы дал, а чужого не смей!
«Неродной, неродной», — шептали вокруг. И захотелось Володьке узнать, где же его родные. Разузнал. И потянуло его в дом родной матери. В дом, где жили его сестры и братья.
Так и началось: если отец прикрикнет — уходит в другую семью. Жил на два дома, везде с ним заигрывали — боялись оттолкнуть.
Потом появились «дружки». Если перед ними Парфен Андреевич закрывал калитку, Владимир вел друзей в дом матери. Та принимала.
Вскоре «друзья» угнали автомашину. Володька попал в колонию. Когда вернулся, не захотел работать.
— Иди, сынок, устраивайся, — уговаривал Парфен Андреевич. А сын, лежа на диван-кровати, басит:
— Родного не посылал бы! А меня тебе жалко, что ли?
И опустились руки у Парфена Андреевича.
В шестнадцать лет Володька стал пить, бывать в ресторанах, встречаться с девицами нестрогого поведения. Словом, покатился вниз.
…Да, нелегкое дело быть отцом. И право носить это имя имеет не каждый. Ведь есть среди них и так называемые родные — платят алименты, живут спокойно в Тамбове, Воронеже или в Челябинске. Как живет сын, как учится, с кем дружит? Нет дела. Вызовут такого горе-папашу в суд, а он ухмыльнется:
— Меня-то зачем? Вызывайте мать! Она алименты получает, пусть и отвечает за него.
Имеет ли право называться отцом и тот, кто, как родитель Николая Ма́лина, крадет у детей детство?
…Сгорбился Парфен Андреевич, ночами не спит. Все думает, а не лучше ли было не заигрывать с парнем, не бояться, что уйдет к родной матери, а по-взрослому поговорить с ним:
«Разве тебе жилось хуже, чем кому-то из твоих одноклассников? Разве хоть раз я несправедливо поступил с тобой? Если плохо тебе у нас, иди к родным! Но раз и навсегда определи, где твой дом!»
Больно, если бы сын ушел, зато не сидел бы он сейчас перед судом.
Без белых роз
— Уродство — нетипичное явление, и писать о нем не следует, — заметил редактор газеты, подняв на лоб массивные очки.
Когда Владимир Туманов узнал, что газета о нем писать не собирается, он даже обрадовался. И не потому, что скромен от рождения и не любит славы. Он знал славу, любил ее и когда-то с гордостью читал свое имя в газетах и на афишах.
Протянув редактору на прощание руку, украшенную золотым перстнем и ярким маникюром с черной каемкой под ногтями, он с апломбом поблагодарил:
— Мерси!
И, раскланявшись с величием короля, небрежно захлопнул дверь кабинета.
Редактор в явном замешательстве поморгал глазами, поднялся со стула и долго стоял у окна, пока не скрылись из вида широкие плечи, помятая шляпа и стоптанные туфли. Образ ушедшего геркулеса, бывшего артиста, бывшего художника, стоял перед глазами, отвлекая от важных дел.
А тем временем…
В ресторане, осушая очередной бокал, Туманов рассказывал случайному соседу о белых розах, которые преподносили ему благодарные зрители сперва в небольшом периферийном, затем в Московском Малом, потом в областном театре.
Низким, охрипшим голосом, блаженно прикрыв глаза и артистически откинув руку, он запел: «Были когда-то и мы рысаками…» Потом остановился и, задумавшись, долго глядел в одну точку.
— Я знал славу, — почти прошептал он. — Какие женщины преклоняли голову перед моим талантом!
И вдруг совсем трезвым голосом спросил:
— Вы не верите мне? Не лгите только. Знаю, не верите. Думаете: пьяница, обычный базарный пьянчужка. А в этом городе меня знали другим. Взгляните на картины, что украшают этот зал, что висят в вестибюле гостиницы. Моя кисть писала их. Взгляните на подпись.
И кто знает, был ли бы конец его рассказу, если б сосед не распрощался, ссылаясь на служебные дела.
Обедали и уходили люди. Каждый чем-то занят. Некуда было торопиться только Туманову.
У него, действительно, был талант. Перед ним открывались широчайшие перспективы. От него требовалось только одно: честно и добросовестно трудиться. Но трудиться Туманов не любил. Сын истинных тружеников вдруг проникся барским пренебрежением к труду. Он без зазрения совести нарушал дисциплину, срывал работу всего коллектива. Из уважения к таланту с ним нянчились. Что только не делали, чтобы помочь ему встать на ноги? Помогали, уговаривали, обсуждали на собраниях, записывали выговоры, брали шефство. Он приходил на работу пьяным и уверял всех, что не может ничего поделать с собой. Но когда его заставляли лечиться, он упрямо отказывался. Наконец, нянчиться с ним надоело. Ведь помочь можно только тому, кто сам хочет встать на ноги. И Туманова увольняли. Его увольняли по три раза в год. Но в трудовой книжке пестрела написанная разными почерками и всевозможными чернилами одна и та же формулировка: «Уволен по собственному желанию». Иногда в пьяном угаре Туманов даже гордился, что уходит только по собственному желанию и что не родился еще на свет такой человек, который уволит его на другом основании.
И вот снова не у дел.
Последний раз (а впрочем, может, и не последний) сыграл он блестяще, хотя никто не бросал к его ногам букетов роз. Некуда и некому было бросать цветы. Не было сцены. Был длинный коридор общей квартиры. Крепко спали жители после трудового дня, и только в одной комнате пожилая женщина поворачивалась с боку на бок, борясь с бессонницей.
В дверь постучали.
— Гражданка Львова здесь живет? — раздался густой голос.
Подумав, что сын прислал поздравительную телеграмму ко дню рождения, спутав, как всегда, на неделю этот день, старушка засуетилась, еле нащупала в темноте дверной крючок.
Не сказав ни слова, вошедший смело направился в комнату, дверь которой была приоткрыта. Неторопливо расстегнув полевую сумку, достал бумагу и карандаш. Ничего не понимая, смотрела Львова на незваного гостя.
— Паспорт! — повелительно произнес он. — Львова Авдотья Ивановна… Так, так… Сядьте.
Ошеломленная старушка присела на край стула и смотрела, как внимательно изучают ее бессрочный паспорт.
Затем так же внимательно гость изучил морщинки на лице хозяйки. И, наконец, спросил:
— Сколько лет занимаетесь ворожбой?
— Что ты, голубчик! — взмолилась Авдотья Ивановна. — Тебе кто-то наврал. Ей-богу, наврал. Карты, правда, есть. Но гадаю только о сыне, да так иногда пасьянс разложу. А чтоб посторонним или за деньги — никогда. Нет, нет! — И старушка обиженно поджала губы.
— Пригласите в качестве понятых двух соседей, я буду производить обыск. Деньги и ценности можете положить сами на стол.
Он издали показал близорукой женщине обложку какого-то удостоверения.
Львова положила на стол сберегательную книжку. Наличных денег не было. Составив протокол обыска и отпустив понятых, незваный гость строго наказал бабке прекратить ворожбу. Он удалился, второпях положив в карман старый будильник, который давно уже никого не будил и отставал на четыре часа в сутки.
Погасив свет, старушка подошла к окну и
долго смотрела, как по широкому асфальтовому полотну, залитому огнями электрических фонарей, двигались сгорбленные, но еще широкие плечи, помятая шляпа и стоптанные лаковые туфли.
Это была последняя игра артиста Туманова.
За высоким забором
Поздно ночью, когда семья Бочаровых крепко спала, а в ставни стучал дождь, раздался лай собаки. Зинаида подумала, что вернулся из командировки муж, и, встав, пошла к двери. У входа стояла женщина в легком платье, насквозь промокшая.
— Пустите, пожалуйста… Плохо мне… Начинаются роды…
— Заходите скорее, — пригласила хозяйка.
…Прошел год.
Однажды к Бочаровой пришла молодая женщина и, смущенно улыбаясь, спросила:
— Не узнаете?
— Нет. А кто вы?
— Помните, ночью, в дождь, вы меня пустили? Дочку я у вас родила…
— Неужели это ты? — изумилась Зина. — Мне казалось, пожилая женщина была, а ты вон какая верба! — И она невольно залюбовалась, окидывая взглядом стройную, миловидную женщину. — Да что мы стоим-то? Пойдем в дом. Чаем угощу.
Долго сидели они за столом, разговаривая, как подруги, не видевшие друг друга много лет.
— Двух детей я похоронила. В ту ночь, когда пришла к вам, выгнали меня свекровь и муж, — смахнув слезы, тихо рассказывала Варя. — Вот так и живу. Три снохи до меня не выдержали… Ушли. А я все боюсь дочь без отца оставить. Упрекают меня без конца: то не так выстирала, не так обед сварила, то не так прошла, взглянула не так.
— Почему же ты молчишь?
— Попробуй скажи им. Кроме оскорблений, ничего не услышишь. Квартирантов и тех держат в страхе. Поздно не приди, рано не встань. Дом ведь почти в центре, а люди на окраину переезжают, только бы не терпеть унижений. Прокопий ей не прекословит. Что мать сказала — все. Сколько раз я ему говорила: «Уйдем, Прокоша, на квартиру! Сам видишь, нет больше сил терпеть». Ответ у него всегда один: «Вас много, а мать одна. Не нравится — уходи. Держать не будем. Только алиментов не жди, не получишь». С получки всегда пьют. Вдвоем пьют, гостей не зовут. Тут лучше сразу убегай. Если успею, схвачу дочку, и в чем была — из дома. То у соседей переночую, то на чердаке. Только так от побоев и спасаюсь.
Не зная, верить ли услышанному, Зина недоумевала:
— Да как ты живешь с ними? Здоровьем не обижена, сама работать можешь, а терпишь. Ради чего? Зачем?
С тех пор они встречались часто. Вместе с Бочаровыми ездила Варя за ягодами. Собрав по ведру малины, останавливались у ручья. Холодная вода снимала усталость.
Ночевали в деревне на сеновале. По вечерам варили варенье и долго, пока не гасли последние угольки костра, разговаривали. Встречались и в городе. Иногда, идя на рынок или в магазин, Варя забегала к Бочаровым, но ни разу не приглашала Зину к себе.
И вдруг Варя внезапно исчезла. Зина заволновалась: не случилось ли чего? И очень пожалела, что не знала адреса и фамилии подруги. Сходила бы к ней или старшую дочку послала. Что же делать? Город большой. Много здесь живет женщин с таким именем. Как разыщешь?
Решила пойти в городской роддом. Оказалось, что в тот месяц, когда Варя родила дочь, двадцать одна женщина с тем же именем стала мамой.
Восемнадцать адресов выписала Зина. Три адреса и писать не стала — мальчики там родились, а у Вари — дочь.
Каждый день Зинаида с младшей дочкой на руках отправлялась на поиски. Одних Варвар она встречала дома, к другим приходилось заходить на работу, но все напрасно. Той, которая нужна, все не было.
И, наконец, еще один дом. Закрытые ставни, высокий забор. На калитке дощечка с надписью: «Злая собака». Сколько ни стучала Зина в ворота и ставни, никто не отзывался. Решила прийти еще раз. Только перешла дорогу, неожиданно услышала скрип калитки, из которой в низко повязанном белом платке вышла старуха.
— Бабуся, — обратилась к ней Зина, — где Варя? Мне письмо ей нужно передать.
— Давай сюда. Я передам…
— Мне ее лично нужно.
Старуха, колюче взглянув из-под бровей, буркнула:
— Не живет она здесь. Со шпаной уехала. А мне нянчиться с ее выродком приходится. — И прошла мимо, ни одним взглядом не удостоив больше Зину.
«Врет, старая. Не могла ей Варя дочку свою оставить», — подумала Зинаида и пошла к соседям. Может, они что-нибудь знают о подруге?
То, что она услышала, насторожило и заставило ее обратиться в прокуратуру.
Нашли Варю мертвой через несколько месяцев. Ее останки извлекли из озера, заросшего камышом. На чердаке дома, где столько лет прожила она в боли и унижении, обнаружили бархатное платье, подаренное Варе ее матерью к свадьбе. Только в суде узнала Зина, что за день до смерти подруги стоял в доме Приданниковых настоящий содом. Свекровь буйствовала, гнала Варю из дома. «Не уйдешь сама — убью, если этот дурень не решится!» — кричала она, швыряя в сноху чем попало.
Муж замахнулся утюгом, но отошел, увидев, что жена не прячется, не плачет, как обычно, а с презрением смотрит на него. Смотрит и молчит. Такого взгляда не видел он раньше: она всегда была смирной, робкой.
Варя пошла к плачущей дочке, взяла ее на колени, приласкала, успокоила. Задумавшись, долго сидела, не слыша колючих и бранных слов свекрови. Переполнилась чаша. Хватит! Ничего хорошего не видела она в этом доме.
Тихо вышла с ребенком из дома. Все! Больше терпеть не будет. Дочь сама воспитает. Неправда, не пропадет! В ясли устроит. На работе всегда пойдут ей навстречу. Комнату дадут со временем…
Ее мысли прервал запыхавшийся от быстрого бега Прокопий.
— Куда ты, Варька? В суд жаловаться пошла, а? Посадить, значит, хочешь? Смотри, Варвара!
Взглянула она в его бегающие глаза и твердо ответила:
— Нет, сначала к врачу схожу. Пусть он синяки посчитает да посмотрит, сколько ребер ты мне сломал, а в суд завтра успею. С меня довольно. Рассчитаться с тобой надо.
Трусливо оглядываясь по сторонам, муж стал уговаривать:
— Брось, Варвара! Давай лучше уедем в другой город. Жить будем, как люди. Дочь у нас. Чего людей-то смешить?
Поверила. Вернулась. Беспокойно пролежала до утра. А утром, вымыв пол и приготовив завтрак, Варя надела бархатное платье, собралась к отъезду. Вышла на улицу, за ворота, ожидая Про копия.
Соседка, увидев Варвару, пошутила:
— Не на бал ли, Варечка, снарядилась с утра пораньше?
— Не говори! Мы с Прошей решили уехать. Ой, Настенька, неужели я из этого ада выберусь? Даже не верится.
— Зря ты ему веришь! Тех двух твоих детей, которые умерли, заморила старая ведьма, умышленно простудила. Каши сварить и то не хотела. Холодной водой поила, а молоком торговала. Все ей, кулачке, богатства мало. Ты в роддоме лежала последний раз, я твоему-то возьми, дура, да пожалуйся: так, мол, и так. А он на меня же накинулся: что, говорит, в чужое семейное дело суешься? Зря промолчала тогда. Надо было в прокуратуру сходить.
— Что ты, Настя, — вступилась за мужа Варя, — девочки-то от воспаления легких умерли!
— Холодной водой поить, как не будет воспаления? Звери они, а не люди. Уходи ты от них совсем!
Из калитки выглянула свекровь, и Варя быстро отошла от Насти. Больше никто Вари в городе не видел. На станцию она и Прокопий опоздали, а ближайший поезд отправлялся через пять часов.
— Пойдем, Варвара, пешком. До Чебаркуля всего пятнадцать километров. Дорога лесом. По пути два озера. Выкупаемся, отдохнем, — предложил муж.
И она пошла, взяв его за руку. С самой свадьбы не ходили они так.
Даже непривычно было Варваре.
— Жалко, дочку не взяли. Хорошо-то как! Я бы ее сама всю дорогу несла. Озеро бы она посмотрела, ни разу ведь не видела, — сказала Варя.
Прокопий молчал.
У озера присели. Варя разложила хлеб, колбасу, сыр. Он достал из кармана пол-литровую бутылку водки, привычным движением выбил пробку и начал жадно пить через горлышко, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание.
— Ну, чего глаза пялишь? — неожиданно и резко сказал Прокопий. — В суд надумала пойти? Жить с тобой все равно не буду. Мне мать похлеще тебя бабенку высватала… Думаешь, алименты получишь? А вот этого не хошь?! — и он с яростью ударил бутылкой ей в висок. А потом, сняв с мертвой бархатное платье, поволок труп в камыши, зайдя по пояс в озеро с вязким дном…
Когда судьи ушли совещаться, в зале воцарилось тягостное молчание. Одни думали о погубленной молодой жизни, другие — о предстоящем приговоре, а те, кто знал Варю, — о том, что в гибели ее есть доля их вины. Разве они, соседи, не знали, что происходит за высоким забором Приданниковых? Разве не видели они следы побоев на лице Вари? Не к ним ли с ребенком на руках, ночью, в одной сорочке, прибегала она, спасаясь от озверевшего мужа и его матери?
Не оборвалась бы жизнь молодой женщины, если бы все, кто знал, что происходит за закрытыми ставнями, за калиткой с надписью «Злая собака», подняли в защиту ее свой голос.
Сторож… с двумя дипломами
Разные люди приходят в юридическую консультацию. С бедами и горестями, за помощью и советом. Разные судьбы у них и беды разные. Однажды, во время моего дежурства, зашел очередной клиент и отрекомендовался:
— Александр Криволапов. Работаю сторожем в ресторане.
— Очень приятно, но что же из этого следует?
Криволапов долго мялся, протирал роговые очки, а потом ошарашил меня признанием:
— Вообще-то, у меня два диплома — инженера-механизатора сельского хозяйства и биолога…
Вот, думаю, сейчас начнет об изобретениях, об авторском праве, бюрократах-зажимщиках. Внутренне приготовилась, доставая из стола гражданский кодекс.
Но, переходя на доверительно-задумчивый тон, он говорит совсем о другом. Его вызывают в качестве свидетеля в суд, где хотят делить его библиотеку, стоимостью в пять тысяч рублей. Оказалось, отчим подал исковое заявление о расторжении брака с его матерью, о разделе дома и книг, хотя все книги куплены не супругами, а им, моим клиентом.
— У вас такая библиотека?, — изумилась я. — Вы же в институтах учились почти десять лет. Когда же и на какие средства успели купить столько книг?
Уловив в моем тоне изумление и любопытство, Криволапов снисходительно улыбнулся и поучительным тоном изрек:
— Жизнь — это искусство наживать деньгу…
Эта мысль была не новой, но как-то странно было слышать ее от человека с двумя дипломами… К сожалению, я обязана выслушать его, выполнить свой профессиональный долг.
И я слушаю исповедь молодого преуспевающего дельца.
Оказывается, чтобы уметь «добывать деньгу», прежде всего надо обзавестись домом с большим огородом. Посадить около двух тысяч корней клубники и помидоров, а затем провести систему орошения. Охраняя ресторан, Криволапов ночью бегал проверять очередь… за подпиской на Гейне, а вздремнув перед рассветом часика три, отправлялся к своим помидорам.
Все больше увлекаясь рассказом, мой собеседник загибал один палец за другим:
— Во-первых, питаюсь в ресторане бесплатно. Во-вторых, какая мне разница, где спать, — дома или на ресторанном диване? Не подумайте, что в антисанитарных условиях! — предупредил он. — У меня там и простынка, и пододеяльничек припрятаны в целлофановом мешке. Я все же не какой-то там сторож в овчине, — брезгливо поморщился клиент и продолжал поучительным тоном: — В-третьих, выгоднее всего хранить деньги в облигациях трехпроцентного займа, а вклад в сберкассе иметь только срочный. Понимаете, это — беспроигрышное дело. Проценты идут хорошие…
Чувствую, начинаю цепенеть от его «инструкций», и поэтому не очень вежливо прерываю:
— В силу статьи 36-й Кодекса о браке и семье РСФСР вам следует подать заявление в народный суд, чтобы одновременно с делом о расторжении брака вашей матери не рассматривался вопрос о разделе библиотеки, на которую вы претендуете. Процессуально вы не свидетель, а третье лицо, заинтересованное в исходе дела.
— Поймите меня, — просит клиент. — Я со школьной скамьи собираю книги. Каждый год подписываюсь на них.
— Вы так много читаете?
— Когда мне читать? Вы знаете, что сейчас ценится больше всего? — говорит он полушепотом: — Хрусталь и книги… Правда, хрусталь — относительно: легко бьется. А книги! Вот у меня есть книга «Лекарственные растения СССР», стоит всего три семнадцать, а продать можно за восемьдесят рублей. Не преувеличиваю — выхватят с руками!..
Ничего не скажешь: дважды дипломированный предприниматель хорошо осведомлен о конъюнктуре рынка… К какому социальному типу можно отнести его? К тунеядцам не причислишь — работает, хотя не по специальности. Не бывает в медвытрезвителе (с достоинством подчеркнул, как отрезал: «Не пью и не курю»). У него другая страсть — накопительство.
Зачем, ради какой цели? Закончив два института, мог бы приносить пользу в совхозе — в специалистах сельского хозяйства острая необходимость. Мог бы преподавать и биологию в школе. Криволапову за тридцать пять, мог бы растить и собственного сына.
— Мог бы, — соглашается Александр. — Где-то есть у меня задумка завести сына-помощника. Но ведь для этого надо столько потратить! — Мне показалось, в глазах его проступило смятение, даже испуг при одной мысли о каких-то расходах, даже для предполагаемого наследника. — Недаром говорят: если к сорока годам денег нет, то их вообще не будет… А безденежный человек — что он значит среди людей?..
Клиенту, видимо, надоело «просвещать» меня, и он без всякого перехода спросил:
— Так вы возьметесь вести мое дело?
— К сожалению, я занята.
В связи с этой историей мне вспомнилось одно дело о наследовании. Жил в Челябинске в однокомнатной квартире скромный пенсионер, бывший главный бухгалтер. Жил одиноко. Питался скромно. Перелицованное пальто лет десять таскал, не снимая. А когда умер, в его документах нашли адрес дочери и бывшей жены, которым он ежемесячно посылал почтовым переводом по… пять рублей. Осталось же после его смерти на десяти сберкнижках около ста тысяч рублей… Дочь и бывшая жена приехали на похороны, но нисколько не обрадовались огромному наследству.
— У меня тяжелая хроническая болезнь. Врачи говорили, что спасти могло только регулярное лечение на Минводах, — с горечью поделилась со мной дочь умершего. — Отец знал об этом, но не дал на лечение ни копейки. А теперь, когда и операция ничего не дала, вряд ли мне могут помочь все его накопления… И памятника отцу ставить не буду: не достоин он памяти…
…Очень напомнил мне сторож с двумя дипломами этого бывшего главбуха.
Отцовский подарок
Жил Володька, как все мальчишки. Играл в футбол, ходил в кино, читал книжки про войну и втайне мечтал стать моряком. Только отцу мог он открыть свой секрет. Разве мать поймет? Начнет ворчать: «У всех дети как дети, а этот что-нибудь да придумает… Море ему надо!» Нет, тут нужен мужской совет, настоящий разговор. Но отца нет. После фронта не вернулся домой, уехал во Львов.
Очень тосковал сын об отце, а тот платил алименты, иногда присылал поздравительные телеграммы. Однажды, оказавшись в Челябинске, побывал у Володьки и подарил ему немецкий пистолет, привезенный с фронта.
— Не забывай, сынок, береги отцовский подарок.
О подарке на второй день узнали все соседские мальчишки. Один из них, Юровин, попросил показать пистолет своему приятелю.
— Выдумал тоже! — возразил Володька.
— Так он же взрослый, заслуженный человек! Настоящий капитан! У него два ордена, а медалей сколько, если б ты видел! Он не важничает, как все взрослые, а дает закурить. Меня даже в ресторан водил. Пирожным угощал. Денег у капитана — куры не клюют. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?
Володьке очень хотелось познакомиться с таким человеком, но он стеснялся. Капитан же, узнав о пистолете, сам предложил дружбу, назвав Володьку «настоящим парнем». Так мальчишку еще никто не называл. «Лучше, конечно, если бы отец услышал, что такой заслуженный человек считает меня «настоящим парнем», — подумал он. — Правда, есть выход — можно отцу написать об этом. И целый вечер подросток сочинял письмо, то и дело заглядывая в орфографический словарь.
Отправить письмо не удалось, так как отец забыл, видно, оставить адрес. Это возмутило парнишку:
— Ну ладно, сменял нас с тобой на какую-то Фыру Ивановну рыжую! Но адрес-то мог оставить?! — в сердцах говорил он матери.
— Да ты, сынок, не огорчайся. Завтра запросим адресный стол и узнаем его адрес.
— Так когда он получит?
— Недели через две, — прикинула мать.
…Однажды летом, когда Володя, лежа в кровати, перечитывал Жюля Верна, в дом ввалились соседские ребята — целая ватага.
— Через час отправляется поезд на Дальний Восток. Раздумывать некогда. Хочешь поступить в морское училище — собирайся! Только на всякий случай возьми пистолет и аккордеон! — скомандовал Юровин.
Володька растерялся.
— Пошли, ребята! — сказал кто-то из компании. — Это же маменькин сынок. Разве он поедет? Его же мамочка не пустит!
Все захохотали и направились к двери. Кровь бросилась Володьке в лицо. Это он-то маменькин сынок?! Да его сам капитан назвал «настоящим парнем»! Нет, он еще докажет всем, какой он смелый и решительный, и смеяться над собой никому не позволит.
Володька положил пистолет в карман, достал со шкафа аккордеон, разбил копилку и, набив мелочью полные карманы, побежал догонять ребят. На вопрос, сколько стоит билет на Дальний Восток, они только рассмеялись.
— На что нам роскошь? Залезем в товарняк — доберемся не спеша, — сказал Юровин.
В товарный поезд вскочили почти на ходу. Володька старался поудобней улечься на уголь. Кто-то из ребят уже успел выкрасть в другом вагоне пять меховых телогреек.
Мелькали озера, реки, перелески. Когда поезд остановился на небольшой станции, неожиданно раздался звук открывающейся двери и — голос:
— Эй, кто там, слезайте!
Все притихли.
— Ваши документы! — обратился милиционер.
Юровин огрызнулся:
— Паспортов еще не получили.
— А ну, слезай! Все, все слезайте! Ишь, путешественники беспаспортные. Телогреечки захватите с собой! Как инкубаторные, у всех одинаковые.
— А они не наши. Здесь лежали, в вагоне, — соврал старший из парней.
— Там разберемся, кто их вам под бочок положил…
По пути в отделение милиции один из ребят выстрелом из пистолета ранил милиционера…
Три дня скрывались подростки в лесу, а потом решили добираться пешком до Челябинска. Шли по путям. На разъезде их задержали, а Юровину и Володьке снова удалось убежать в лес. Спали ночью в шалаше, прижавшись друг к другу. Вот тогда и рассказал Володьке Юровин под большим секретом, что капитан вовсе не капитан и никакой он не заслуженный, что ордена и медали у него краденые, что с ним не один грабеж совершили ребята. И еще Юровин сказал, что есть такая статья в уголовном кодексе, когда все, кто состоит в банде, отвечают друг за друга.
— Вот ты и я были с бандитами, ранили милиционера, бежали от милиции. Мы с тобой тоже бандитами стали. И никуда теперь не деться. Нам с тобой, как и капитану, грозит расстрел, — объяснил «дружок».
Володьке хотелось кричать, что он не такой, что он не бандит. Но кричать было бесполезно. Здесь, в лесу, его мог услышать только Юровин.
* * *
Через несколько дней, в дождливую, ветреную ночь, усталый, голодный и оборванный, постучал Володька в окно родного дома. Мать, не спросив кто, сразу открыла дверь.
Пока горели в печи его лохмотья и грелась вода для мытья, он жадно ел кашу. Всю ночь сидела у его кровати мать. Он рассказал все: как бежал, как на станции продали аккордеон и, наконец, то, что узнал в лесу о Юровине и «капитане».
— Завтра они придут за мной. Теперь я у них в руках. Что делать, мама? Что делать?
— Спи! Завтра решим. Я пойду пистолет в реку брошу, пока темно. Додумался подарочек мальчишке преподнести!
Утром в окно постучали. Сквозь сон Володька слышал, как мать громко говорила кому-то, что сына дома нет, что его на «скорой помощи» увезли в больницу, а в какую, она сама еще не знает.
Пока Володька спал, закрытый на замок, мать впервые в жизни стояла на толкучке, продавая все, что можно унести из дома в двух чемоданах, — пальто, часы, платья. Лихорадочно работал мозг. Только бы успеть, только бы «дружки» не встретились с сыном. К вечеру она пришла домой. В кармане — билет и двести рублей.
— Вставай, сынок, скоро отходит поезд. Поедешь к отцу во Львов. В адресном столе узнаешь адрес. Вот, я записала все об отце — где и когда родился. Пусть он тебя в морское училище устроит или к кому-нибудь из родни пошлет. А я отсюда тоже уеду. Ты мне писем не пиши. Перехватят письмо и узнают, где ты, — тихо говорила мать, хотя в комнате, кроме них, никого не было.
* * *
Отец встретил сына неприветливо:
— Откуда адрес узнал?
Дождавшись ухода мачехи, Володька, сбиваясь, рассказал о беде.
— Зачем матери сказал о пистолете? Дурак! Отца родного продал! Знаешь, что меня из-за тебя, щенка, посадить могут? — Лицо отца перекосилось. — Если тебя арестуют и спросят, скажешь, что пистолет нашел. Понял?
Да, сын понял. Понял, что мог простить отцу многое, но только не трусость. Может быть, в ту минуту умерла в нем слепая любовь к родителю. Может быть, в тот день и решил, что обязательно сменит отцовскую фамилию.
— Какая противная у тебя фамилия! — сказал он утром. — В учебнике зоологии сказано, что пасюк — это вид какой-то крысы.
— Лучше носить крысиную фамилию, — злобно ответил отец, — чем связаться с бандитами.
Володьке, как тогда в лесу, захотелось крикнуть, что он не бандит, что им не был и не будет никогда. Но разве этот чужой человек мог понять его? Нет! Володьке могла поверить только мать. Всю ночь он не сомкнул глаз. Было ясно: оставаться в доме отца нельзя. «Пойду учеником на завод. Общежитие дадут», — решил парень.
«Прощай, отец! За беспокойство извини. Из первой получки вышлю тебе все расходы на меня за ту неделю, что жил у вас. Только учти, что никогда не буду тем, кем ты назвал меня. А сыном меня не считай. За пистолет не бойся. Я не подлец, чтобы выдать того, кто когда-то был мне отцом».
— Баба с возу, кобыле легче, — сказал жене отец, прочитав эту записку.
* * *
Без отрыва от производства окончил Володя девятый и десятый классы. Потом служил в Военно-Морском Флоте. Заочно учился в институте.
На корабле его любили. Никто не мог так хорошо играть на аккордеоне, никто не мог состязаться с ним за шахматной доской. Многим казалось, что все ему дается легко, что он прямо-таки звезды с неба хватает. Удивляло одно — ему никто не писал писем.
— У тебя нет родных? — спросил как-то Владимира командир.
Помрачнело лицо парня. Несколько дней он ходил темнее тучи, а потом сам пришел к командиру и обо всем, что было на душе, рассказал.
— А теперь сообщите обо мне прокурору. Если вы этого не сделаете, вам грозит судебная ответственность. Есть такая статья в уголовном кодексе.
— Брось, друг, дело тут не в статье. Дело в том, что невозможно всю жизнь носить на сердце такой груз. А потом мать? Почему ты о ней не подумал?
— Мать жалко… Как вспомню о ней, так тоска гложет. Сам в прокуратуру не раз ходил. Иногда до самых дверей дойду, очередь отстою, но как прочитаю табличку с надписью «Прокурор», так поворачиваю обратно.
— Трусишь, Пасюк? — командир положил руку на его плечо.
В тот день в кабинет прокурора вошли двое. Высокий юноша, сняв бескозырку, отрапортовал:
— Владимир Пасюк, старший матрос, явился с повинной…
* * *
Первое письмо от сына мать получила после многих лет разлуки. Пришло письмо в Челябинск, куда она вновь вернулась. Тысячи раз перечитывала долгожданные строчки.
«Ты говорила, мама, что я твоя надежда. Я не подвел тебя. Как демобилизуюсь, приеду к тебе. Есть у меня мечта стать прокурором. Я не дам жить бандитам. Не позволю, чтобы они калечили ребят, обманом втягивали их в грязные дела. Целую тебя, мамочка».
В том же конверте лежало письмо командира. Мать с волнением читала его. Незнакомый человек сообщал о сыне много хорошего. И дело, конечно, было не в том, сколько почетных грамот и наград получил Владимир, а в том, что он не пропал, стал честным человеком.
«Кого благодарить мне за тебя, сынок?» — размышляла мать, склонившись над ответным письмом сыну.
«Кого благодарить?..» — думал сын, читая весточку от матери.
Очень много хороших людей встретилось на его пути. Каждый из них помог от чистого сердца.
С тех пор, как Владимир парнишкой уехал из Челябинска, прошло много лет. После службы на флоте он встретился с матерью. Долго целовал ее морщинки, долго гладил ее седую голову, просил простить за прошлое.
До рассвета сидели они, перебирая документы, рассматривая фотографии. Среди них снимок жены Владимира и его дочки Иринки.
На улице совсем рассвело. Проснулся город, побежали трамваи и троллейбусы.
О многом переговорили мать и сын в эту ночь, а ей не давал покоя еще один вопрос. Владимир чувствовал это и сообщил:
— Да, я сменил фамилию. И вовсе не потому, что пасюк — вид какой-то серой крысы. Просто не хочу носить фамилию отца…
«Хозяева» поселка
Когда он пришел в юридическую консультацию и дал прочитать обвинительное заключение, мне стало не по себе. Всякое встречала за свою адвокатскую практику, но чтобы трезвый пожилой человек, отец семейства, вдруг плеснул в соседей серной кислотой — такого не бывало. Я молча положила документ перед собой.
Молчал и обвиняемый, не поднимая глаз. По тому, как нервно дергалась его щека, поняла, что разговора не получится.
— Я изучу дело, а завтра с утра вы подойдите ко мне в суд.
— Ладно, — тихо ответил он и тяжелой походкой направился к двери. Остановился, вернулся. Положил на край стола пачку документов, фотографию какого-то дома с разбитыми окнами: — Может, пригодятся?
О чем рассказали документы? Воевал. В конце сорок второго в бою получил сквозное ранение лица с повреждением челюсти и лицевого нерва. Два извещения о его «гибели» пришли к родным. Семь правительственных наград. Сорок пять лет трудового стажа… Трое детей.
…Невелик поселок Смолино. Четыреста домов на берегу соленого озера. Берег — мелкий песок, и дно такое же. Вода, как в море, но когда оно не штормует, а спокойное, доброе.
Сосед моего клиента, слесарь, родился и безвыездно живет в этом поселке. И фамилию носит, как зовутся озеро и поселок.
Две его сестры и зять живут по соседству. Фамилии у них другие, но дело не в этом. Они тоже считают себя хозяевами поселка.
Когда моему клиенту, плотнику по профессии, предоставили участок под строительство дома, кто-то из старожилов высказал недовольство:
— Дорогу перегородил, да и кто он такой, чтобы здесь ему строиться разрешили?
— Он участник войны, — объяснили в сельсовете.
— Один, что ли, он — участник?! — ворчали соседи.
А дом тем временем рос и рос. Плотничье дело Николай Романович знал хорошо, строился основательно — жить в доме собирался до конца дней. Дом получился светлый, просторный, хватит детям и внучатам. Так рассуждал он, а сосед думал иначе. И нашла коса на камень… Чуть не двадцать лет назад.
Постоянно в доме били окна, пробивали камнями крышу. То мотоцикл со двора уведут, то молодые саженцы с корнем вырвут. Может, и не виноват сосед, да только плотник думает, что это дело его рук. Больше врагов у него нет. Сколько можно ругаться: нервы как оголенные провода!
Закрыл окна ставнями. Семь лет не открывает их. Опять плохо: прозвали кротом. Дочки на пляж с полотенцем побегут, а вслед: «Кротовое отродье»…
Девчата, как вербы, стройные, пышноволосые, румяные, а их все равно «кротовыми дочками» зовут. И сказали, и та, что родная, и та, что удочеренная (отец их не делил, и платье, и туфельки — все одинаковое, не хуже, чем у людей. Считал, что девчонок надо хорошо одевать. Васька — сын, ладно, он парень, ему и подешевле брюки можно купить… А девчат надо и одевать, и обувать), сказали в один голос:
— Папка, уйдем из дома!
Вот тогда и купил он на Северо-Западе Челябинска кооперативную квартиру. Рассудили они с женой так: дочки выйдут замуж — им квартира. А Василий из армии вернется — сразу женить, пока не избаловался, и пусть живет с ними в доме.
— Видимо ли, чтобы один человек две квартиры занимал? — кричал сосед на всю улицу. А родня его «подъезжала»: мол, продай дом. Мы тут все свои, а ты между нами как бельмо на глазу.
— Не продам! Сам буду здесь жить и умирать здесь буду!
А вскоре, когда хозяин дома был на работе, случился пожар. Посчитали, что от электропроводки загорелось, но эксперты экспертами, пожарники пожарниками, а чуяло сердце старого плотника, что дело неслучайное и не обошлось оно без рук заинтересованных лиц…
Из его жалобы в Москву:
«Почему из четырехсот домов стекла бьют только в моем доме? Крышу всю камнями пробили, кругом текло, а теперь вот пожар, и мотоцикл украли».
Милиция нашла воров и мотоцикл ему вернула.
Стал хозяин отстраиваться вновь. Днем на заводе, а ночью допоздна восстанавливал свое жилище, проклиная соседей-злодеев.
— Побурчи у меня, побурчи! Я из тебя отбивную сделаю! — грозил сосед.
Что с ним говорить? Сожмет Николай Романович покрепче зубы и на запор ворота закроет. Долго терпел он, ох, долго!
Не от силы, а от бессилия плеснул кислотой в сторону соседей.
— Это он глаза нам хотел выжечь! — зашумели они.
— Да не хотел я им ничего выжигать, сам себя не помню, как в ссоре схватился за бутылку с кислотой. Больше нечем мне было от них защититься. Они все здоровые — кровь с молоком, а я израненный весь.
Один только посторонний свидетель и был, так и то издали ссору их видел.
Заявила я ходатайство перед судом допросить прораба и заместителя директора завода, где работал плотник. Не вызывали их — пришли сами и протокол собрания коллектива принесли. Люди отзывались о Николае Романовиче исключительно тепло. Скромный он и безотказный, и добросовестнее его трудно найти рабочего. Мог бы на пенсии отдыхать, но не уходит: он еще такую работу преподнесет, что залюбуешься, и молодежи свой опыт передает.
Заместитель директора, поддержав ходатайство коллектива, повернулся к потерпевшим и не сказал, а выкрикнул:
— Эх вы, люди, люди! Здоровущие такие, а бессовестные! Кто вы по сравнению с этим старым воином?! Довели вы его, довели!
— Свидетель! — прервал его повелительным тоном судья. — Суд сам разберется, кто кого довел.
Именем республики приговорили подсудимого к двум годам лишения свободы условно, с передачей на поруки коллективу.
— Вам понятен приговор? — обратился судья к осужденному.
То ли не поняв вопроса, то ли не расслышав его, Николай Романович вслух подумал:
— Все. Вот и все! Не жить мне больше в поселке. Заклюют. Выживут. Чужой я им.
…Посмеиваясь, вышли из зала суда потерпевшие: брат, две сестры и зять. Шли они здоровые, спокойные — «хозяева» поселка. Глядя им вслед, я думала, в какие дебри может завести зло человека. Заведет незаметно, а попробуй выбраться!
Челябинский областной суд утвердил приговор, отклонив кассационные жалобы потерпевших. Можно было поставить на этом точку, но через несколько дней снова вызвали осужденного в суд, теперь уже не в качестве обвиняемого, а как потерпевшего. Нашли трех парней, которые обокрали его дом. Воров осудили, обязали возместить ущерб от кражи.
Теперь снова соседи поднялись: нас подозревал, пусть отвечает за клевету, нашей вины нет, а он опозорил нас своими подозрениями. И началась свара вновь. И конца ей не видно. Сколько занятых людей будут втянуты в ненужный и затянувшийся конфликт между соседями! Сколько времени и нервов потратят сами жалобщики на составление бумаг, жалоб, заявлений!
Вот бы собрать всю эту энергию да восстановить от пожара дом. Пусть живет инвалид спокойно и не жалуется, что соседи у него плохие.
Трудно вырвать корень дерева. Еще труднее вырвать корень зла. Но вырвать его все равно надо!
Достал «Жигули»
— Ну, достаньте мне «Жигули», — просил всех родных и знакомых Виктор Петрович Мамаев, преподаватель музыки. Одни честно говорили, что не имеют связей, другие напрямик спрашивали, что они «с этого будут иметь», третьи просто издевались: мол, «Жигули» — не лунный камень, их надо не доставать, а покупать. «Наивные люди пешеходы, — размышлял Мамаев. — Можно подумать: зайди в автомобильный магазин, выбей чек и садись за руль рубиновых «Жигулей».
Желание достать автомобиль с каждым днем вырастало в столь жгучую и неуправляемую потребность, что он лишился сна, а когда засыпал, то даже во сне перебирал разные варианты, с помощью которых, чтя уголовный и гражданский кодексы, мог бы обойти их или еще лучше объехать. Наконец фортуна послала ему председателя колхоза Ивана Ивановича, который оказался человеком, тоже нуждающимся. Нет, не в «Жигулях», а в том, чтобы его Петька, которому Виктор Петрович давал уроки музыки, смог потрясть мир игрой на скрипке.
— Достану я тебе талон на машину, если ты сможешь устроить Петьку в консерваторию, — поставил условие председатель колхоза.
Почесал Мамаев затылок: задача нелегкая, консерватория в другом городе и знакомых там никого нет…
— Может, для начала в музыкальное училище? Оно хоть в нашем городе, — закинул он удочку.
— Только в консерваторию! Или я тебя не видел, а ты меня не слышал! — отрубил Иван Иванович.
— Ну зачем так сразу: «Не видел, не слышал»? Дай срок!
В срок единственный сын председателя колхоза сдал экзамены и поступил в консерваторию, пройдя большой конкурс. Возможно, поступил бы и без договора двух людей, жаждущих «владеть». Парень не без таланта, да и не знал он, не ведал, о чем за его спиной договаривается родитель. Но вот в руках Виктора Петровича Мамаева долгожданный талон на «Жигули». Две тысячи теща дала, полторы тесть подкинул, а остальные деньги свои. Мечта его сбылась: на «Жигулях» цвета морской волны выплыла чета Мамаевых. За рулем — сам, рядом супруга Элла Ивановна.
Два года наслаждался жизнью на колесах Виктор Петрович, отгоняя изредка посасывающую тревогу: ездит-то он по доверенности, а собственником «Жигулей» числится какая-то знатная свинарка, которой выдали талон на автомашину за то, что десять лет не было падежа поросят, а хрюшки как на дрожжах росли и жирели. Но зря тревожился Мамаев: знатная свинарка даже забыла, как однажды председатель колхоза спросил ее мимоходом, надо ли ей автомашину.
— На кой она мне? От усадьбы до свинарника, что ли, на ней ездить? — засмеялась тетя Даша.
— Мое дело — предложить, твое — отказаться, — быстро согласился Иван Иванович.
На том и расстались. И невдомек было Дарье Сергеевне, что в тот самый день на ее талон купит автомашину некий Мамаев Виктор Петрович, которого она и в глаза не видела, а что с этого момента она станет собственницей «Жигулей». Доверенность на покупку и вождение от ее имени заверил сам председатель колхоза, а подпись учинил на доверенности сам Мамаев.
Но беда все-таки пришла… И кто бы мог подумать, что солидному мужчине, работнику культурного фронта, строгому отцу семейства, задурит голову вертихвостка-секретарша Аллочка: «Женись да женись!»
— Закон запрещает иметь двух жен, — как мог оборонялся Виктор Петрович. — А я чту законы.
— Витенька! Ну и чти их на здоровье, — ласково щебетала она, привалившись к его руке и мешая управлять автомашиной цвета морской волны. — Все сделаем по закону. Ты расторгнешь брак со своей старухой, и мы зарегистрируемся. Я же расторгла брак со своим кашалотом! Это очень быстро делается и совсем не страшно.
Всю дорогу в лес и обратно Аллочка инструктировала, как безбоязненно надо расторгать браки. Это было так интересно, что, заслушавшись, Виктор Петрович чуть было не наехал на невесть откуда появившуюся тещу… Женщину строгих правил…
Дома жена устроила скандал. Тесть потребовал вернуть полторы тысячи, между прочим, заработанные, а не найденные… Теща намекнула, что и две тысячи она подарила не для того, чтобы всяких там потаскушек он возил на автомашине. Сказала больше для порядка, считая, что небольшой скандальчик отрезвит зятя. Но дело этим не кончилось.
Не без совета Аллочки этим небольшим скандалом и воспользовался Виктор Петрович: умело инсценируя смертельную обиду, назавтра подал заявление о расторжении брака по причине частых ссор и несходства характеров. Знал бы, что из этого получится, — повременил бы и до сих пор ездил на «Жигулях». А так снова превратился в рядового пешехода…
Элла Ивановна попросила на примирение шесть месяцев, приведя в суд тринадцать свидетелей, досконально знавших, что жили супруги душа в душу много лет и что до покупки автомашины сходство характеров у них было даже очень полное. Но прошел месяц — не идет муж домой для примирения, катается туда-сюда на автомашине, и все не один. Жена Мамаева не была леди Макбет, но и у нее терпение истощилось — взяла да и спрятала паспорт, технический талон и доверенность с поддельной подписью. Что тут было!..
Побежал Мамаев в суд, чуть не со слезами развода досрочно просит. Без машины — хоть пропадай… Тут-то и выяснилось, что «Жигули» не принадлежат супругам, а значит, и делить их в бракоразводном процессе нельзя. Виктор Петрович — к председателю колхоза, а тот на курорте в Крыму. Ну а кто, кроме него, станет поддельную доверенность выправлять? Вернулся Мамаев ни с чем. А супруга тем временем села в поезд и прямехонько в колхоз. Так, мол, и так, рушится семья из-за этой проклятущей автомашины. Кто здесь Дарья Сергеевна? Пусть заберет свои «Жигули», а деньги за них отдаст за минусом процента износа.
Народ в колхозе отзывчивый. Нашли свинарку, не ведающую, что уже два года она — собственница автомашины. Припомнила разговор с председателем, да только по доброте душевной подводить его не захотела. Узнают — позора не оберется. За поддельную подпись еще и к прокурору потянут. А он — человек работящий, черт его, видать, попутал…
— Ну, а если машины не будет — вернется, думаешь? — спросила приезжую свинарка.
— Почти двадцать лет без машины душа в душу жили. Все зло в этой голубой каракатице! — причитала Элла Ивановна.
Дарья Сергеевна накормила поросят, попросила, чтобы за ними последили, а сама пошла переодеваться.
— Раз я хозяйка «Жигулей», мне и решать, что с ними делать. А сделаем мы вот что. Я тебе дам доверенность на их продажу. К чертям эти машины, коли от них разврат один!..
Как порешили, так и сделали. Приходит однажды Виктор Петрович к гаражу — хоть полюбоваться автомашиной, а гараж пустой. От «Жигулей» и след простыл. Он — в милицию, в прокуратуру, в суд. А там ему сразу вопрос: «А вы кто такой?..»
И теперь, как только промелькнут мимо него «Жигули» цвета морской волны, хватается он за сердце и кладет под язык валидол.
На широкую ногу
Дело рассматривалось третью неделю. За окнами судебного зала ярко пылало солнце. Ветерок еле-еле шевелил притихшую листву деревьев.
— После процесса поедем на озеро, — шепнул молодой конвоир старшему.
Этот шепот невольно услышал один из подсудимых — широкоплечий атлет Арунас и на миг вспомнил такой же солнечный день на золотом пляже Ялты. Он долго загорал тогда, а потом уплыл далеко-далеко в море.
Аромат свободы, его не замечаешь, как воздух, без которого не прожить и нескольких минут. И только последние полгода — сто восемьдесят дней — и все двадцать четыре часа в сутки, даже тогда, когда спит, ему снится свобода. Он вспоминает соревнования в Сочи, Минске, Вильнюсе и в Москве, в Лейпциге и Берлине.
Пятьдесят восемь дипломов и грамот вручили ему. Были аплодисменты, кубки, шум больших стадионов и много-много цветов. А среди них — розы. Он любил приносить эти цветы девушкам, и матери тоже. Тогда глаза мамы светились от гордости за своего старшего сына. Младший тоже приносил дипломы, и тогда в доме был праздник. Мать стряпала, приглашала соседей поделиться радостью за своих детей.
Теперь она сидит с опущенными плечами в третьем ряду — так, чтобы было видно всю скамью подсудимых, где сидят ее два сына по обе стороны от своего отца, ее бывшего мужа. Тревожные глаза ловят взгляды сыновей. Ей хочется кричать от отчаяния. Раньше, даже тогда, когда ее бросил муж, она не знала, что можно кричать ночами и грызть подушку, ожидая, как подарок, несколько минут сна. Уснуть бы и забыться. Рано утром к пяти часам она должна сесть за руль троллейбуса. Вначале будет мало народа, а потом люди поедут на работу, станут спешить, толкаться в дверях.
— Осторожно! Закрываю двери, — машинально и тихо скажет она, забыв объявить следующую остановку. Раньше такого с ней не бывало.
Когда они разошлись с мужем, Арунасу было восемь, а младшему, Раймондасу, всего четыре года. Мальчики жили то у нее, то у бабушки, то у отца. Они не любили вторую жену отца, скрепя сердце терпели третью жену, которая была всего на десять лет старше Раймондаса. Немного смирились, когда в доме появился третий ребенок отца, что ни говори, а малыш не виноват, что их общий отец любил менять женщин.
Если отец с молодой женой уходили в гости или просто шли ужинать в ресторан, они оставались с малышом, купали его, убаюкивали на руках или катали в коляске по ночному городу.
В суде мать допрашивали как свидетеля, хотя о преступлении она ничего не знала. Суду нужно было разобраться, как ее сыновья, спортсмены в недалеком прошлом, вначале бросили институт, потом лодырничали и докатились до позорной скамьи подсудимых.
— Это хорошо, что меня вызвали на суд в Челябинск. Ничего, что далеко было ехать. Я почувствовала несчастье после Нового года, когда сыновья уехали к бабушке и пропали. Передумала бог знает что! Знаете, ведь когда несчастье, то на все можно подумать, — доверительно сказала она суду. Довольно еще молодая и миловидная судья понравилась ей сразу. Народные заседатели также были женщины. Может, у них тоже сыновья, и они должны понять ее, мать.
— Я на бывшего мужа хоть и обижаюсь, но никогда не могла подумать, что он втянет сыновей в свою компанию. Ну, меня, жену, он разлюбил, бросил — это можно понять и даже простить, но ведь детей-то он по-своему любил. Их бы пожалел! Я всю жизнь боялась за сыновей, старалась, чтобы они делом занимались и — спортом. Один в пединститут поступил, другой — в физкультурный. Я радовалась за них. Потом вдруг бросили институты. Я плакала, уговаривала… Но что можно сделать, когда сыновьям за двадцать? Как говорится в народе, сын мой, а ум свой. Но что мои сыновья станут спекулировать шубами,
повезут их в Челябинск, Свердловск и Куйбышев вместе с отцом и его молодушкой — этого я не могла представить. Посмотрите, у сыновей шестьдесят дипломов и грамот, а вот я привезла журнал «Легкая атлетика». В нем фотография Арунаса и под фотографией написано, что он, мой Арунас, рекордсмен по толканию ядра среди юношей. Вы поймите меня правильно, я знаю, что он тоже очень виноват. Но можно учесть все, что было хорошего, и сыновей моих не лишать свободы, дать им возможность на свободе искупить вину…
Женщина боится заплакать, но глаза заволокли непрошеные слезы. Упала с трибуны ручка, которой свидетельница расписалась за то, что будет говорить только правду.
Правда была в том, что она сказала. Но она, мать, не знала, как молодая мачеха, расхаживая по квартире в роскошном халатике, рассказывала ее взрослым сыновьям, что главное в жизни — деньги. На них можно купить все и с ними можно жить на широкую ногу.
— Только одни умеют делать деньги, — говорила она, надевая на пальцы золотые кольца, — а другие…
— Другие, — продолжал отец, — как ваша мать, например, очень сознательные. Она восемь часов крутит баранку своего троллейбуса и получает за это ну двести или там двести пятьдесят, когда я, палец о палец не стукнув, могу в месяц получить хоть тысячу рублей, а захочу — и три тысячи.
— Ты не тронь мать! — нахмурил брови старший сын.
— Поделись опытом, отец! — перебил брата младший.
— Привозим в Куйбышев, скажем, двадцать пять шуб и получаем на сто — сто двадцать рублей больше, чем она стоит у нас в Каунасе. Кладем в карман за минусом дороги — подсчитай сколько. У тебя же, правда, незаконченное, но почти высшее образование…
И вот позади Куйбышев, Свердловск. В Челябинске их задержали с поличным.
Молодой жене отца не помогло и то, что приехала она с чужим паспортом.
— Где вы достали столько шуб? — строго спрашивает судья у нее.
Валентина Петровна, дело в отношении которой было прекращено по амнистии, допрашивается только как свидетель. Она, поправив нарядную кофточку, откровенно рассказывает о своих поездках, а затем о том, куда тратились деньги. Как сорила она ими налево и направо, как ездила на юг. Откуда столько имущества и денег?
— Мебель я купила еще в семидесятые годы. Хрусталь и две тысячи мне подарили на свадьбу, когда выходила замуж первый раз. В Куйбышев мы привезли всего двадцать шесть шуб, а сколько в Свердловск и Челябинск — не припомню… Мой муж Ионас знает, у него феноменальная память, — говорит она, бросая взгляд на мужа. Господи, как постарел он и поседел, как осунулся! Куда делась гордая осанка! Рядом со своими красавцами-сыновьями выглядит стариком в свои-то сорок восемь лет.
На миг она представила, если бы не амнистия, то вот сейчас она могла бы сидеть рядом с мужем, на скамье подсудимых. Ей стало не по себе. Она глотнула воздуха, поперхнулась, помолчала минуту и решила сказать правду, все как было, чтобы не привлекли ее к ответственности за дачу ложных показаний. Амнистия прошла. Жди теперь, будет ли она еще, а привлечь к уголовной ответственности за ложные показания могут. Судья сказала, что ответственность за ложные показания до семи лет.
— Я предложила Арунасу спекулировать. Не хотела, чтобы он жил с нами. Думала, получит много денег — уйдет от нас или квартиру кооперативную купит. Где доставала шубы? Их мне достать было легко. Я закончила торговый техникум и имела хорошие связи. Я и кустарные шубы могла достать. У меня полно знакомых. А почему я должна работать, когда мой муж сидел дома? Он говорил: «С меня хватит». А ведь он и прорабом был, и старшим инженером. И даже при мне немного трудился. Мы ведь четыре года живем…
— Устали, бедные! — зло сказал кто-то с последних рядов.
Свидетель повернулась на голос:
— Не думайте, что спекулировать легко. Езди, трясись, чтобы не задержали, живи под чужим паспортом. Муж деньги перепрятывал. Ночами не спал. Все боялся, что придут за ним. К каждому стуку прислушивался ночью…
— Вредные условия труда! За вредность надо было молоко получать, как мы, шахтеры, — съехидничал стоящий у двери мужчина.
Судья постучала по столу. В суде должна быть тишина: решается судьба людей, хотя и позабывших вкус трудовой копейки, нужно не только наказывать их, но и вернуть обществу.
…Когда подсудимым предоставили последнее слово, Ионас Косто долго молчал. Может, в эти минуты вспомнил, как поторопился расстаться с первой женой, матерью его сыновей. Но и она хороша: подумаешь, не пришел ночевать домой! Обиделась! Можно было и не раздувать кадила! Жили бы да жили, — размышлял он. А может, вспомнил, как, гладя посеребренные виски, Валентина, тогда еще не жена, сидя на его коленях, ласково ворковала: «Мы с тобой заживем на широкую ногу. Для себя будем жить!» Зажили…
И тогда, глядя куда-то в точку, сказал свое последнее слово:
— Жена втянула меня в преступление. Меня и сыновей. Но моя вина перед сыновьями тоже есть. Прошу смягчить мне меру наказания, так как у меня еще маленький ребенок, которому нет и двух лет. Прошу учесть, что у меня престарелая мать. Но самое главное, о чем прошу суд, — не лишать свободы сыновей моих. Они были моей гордостью, а теперь мы делим с ними позор.
Он тяжело опустился на скамью подсудимых.
— В эти годы у людей внуки двухлетние, — вслух подумал шахтер у двери и вышел из зала.
Вторым дали слово Раймондасу. Ему никогда не приходилось слышать, как говорят последнее слово, и потому он начал издалека:
— Я учился в пединституте, но специальность мне не нравилась. Жил у матери. Она мне помогала. К отцу приезжал редко, потому что любил мать и не любил отцовских жен. Живя у мамы, с одиннадцати лет стал заниматься конным спортом. А недавно приехал к отцу. Его жена Валентина посоветовала поехать в Челябинск, продавать шубы. Я и поехал: кому деньги мешают?! Прошу не лишать меня свободы. Буду работать, учиться и заниматься спортом.
— А я хочу извиниться перед мамой. Я очень виноват перед ней! — сказал Арунас в последнем слове.
Больше он ничего не мог добавить: что-то сдавило ему горло.
— Сыны мои, что вы натворили! — вырвалось у матери. Чтобы не закричать, она закрыла рот руками. Только бы не упасть, только бы сдержаться.
…Три дня совещались судьи. Три дня и три ночи просидела возле суда женщина, одетая в черное платье, с черной косынкой на голове.
Судьба изменника
Став полицаем, Епифанов исправно служил фашистам, беспрекословно выполнял все их приказы. Нужно достать тройку лошадей — достанет, нужно узнать, где находятся партизаны, — постарается, а если узнает, сам доведет карателей одному ему известной дорогой, какой, бывало, еще в детстве ходил вместе с дедом на дальний покос.
За услугу гитлеровцы платили услугой. Просил, чтобы дочь Анну и ее мужа Матвея не угоняли в Германию — оставили их дома. Собственно, и Матвей по воле немцев жив остался. Правда, список комсомольцев полицай дал им сам, не думая, что парней могут расстрелять. А когда в дождливый осенний день их, обреченных на смерть, вывели за околицу к оврагу, Епифанов увидел и своего зятя Матвея, хотя в том списке его имя не значилось.
За колонной бежали женщины. Одна из них — Дарья — кричала особенно громко:
— Не убивайте его. Один он, разъединый на всем белом свете у меня остался. Васенька, сынок мой! Ох, лучше стреляйте в меня! В меня стреляйте!..
Она схватилась за ружье конвоира, но тот ударом приклада отбросил Дарью на обочину дороги. Василий и Матвей бросились на охранника. В этот момент к Матвею подбежал полицай Епифанов и, заслонив его своим телом, стал говорить конвоиру, что зять среди юношей оказался случайно. Просил доставить Матвея в комендатуру — там разберутся.
Вместо ответа конвоир так ударил Матвея в плечо, что правая рука сразу повисла плетью. Потом хладнокровно разрядил автомат в Василия, упавшего в овраг.
По ночам Анна успокаивала мужа:
— Скажи спасибо, что живым остался. На двоих три руки в наше время счастье.
— Какое там счастье! Все сейчас говорят, что, мол, неплохо пристроился за спиной тестя. Угрожают: «Погоди, вот придут наши, вздернем этого фашистского холуя на старом дубу».
— Что им от отца надо? — недоумевала Анна. — Ведь не от хорошей жизни пошел он в полицаи. Каждому жить хочется…
— А в списке том, — продолжал Матвей, — значился мой двоюродный брат Данила. Его и должны были расстрелять, а он в лес к партизанам подался. Вот меня вместо него и взяли.
* * *
Когда к селу Матвеевка Понырского района Курской области стали приближаться советские войска, гитлеровцы в панике бежали. Увидев у здания комендатуры грузовую автомашину, Епифанов ухватился за задний борт. Но комендант, гаркнув «Пошел вон!», ударил полицая по рукам.
Машина тронулась, вслед за ней побежал Епифанов. Стараясь не отстать, он на ходу кричал, что оставаться ему в селе нельзя — убьют односельчане. Неожиданно рядом разорвался снаряд. Откуда стреляли — Епифанов не понял. Упал в дорожную пыль, а потом кое-как дополз до ближайшего болота. Отдышавшись, начал петлять лесными тропами, держась в стороне от дороги. Куда он шел, к кому — не знал.
Выйдя на опушку леса, увидел убитого красноармейца. Переодевшись в его форму и забрав документы, направился навстречу нашим войскам. Оказавшись в расположении одного соединения, сказал командиру, что отстал от своей части, а номер ее не помнит — вследствие контузии полностью лишился памяти. Ему поверили. Красная Армия продвигалась на запад, и особенно разбираться не было времени.
Учитывая возраст и тяжелую контузию, Епифанова определили телефонистом. За отличную службу его даже наградили медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны демобилизованных солдат ждали родители, жены, дети. А бывшего полицая никто не ждал, и не было у него дома. О возвращении в родное село не могло быть и речи.
Решил поехать на Урал, подальше от Курска. В Челябинске устроился на завод. Считал, что здесь, в большом коллективе, можно скрыть свое позорное прошлое.
И надо же было случиться такому — на одной из улиц города Епифанова встретила та самая Дарья, которая приехала в Челябинск повидаться с родственниками после долгой разлуки. Никогда не забудет эта женщина, как упал в овраг сын, сраженный вражеской пулей.
…Судил Епифанова военный трибунал. На суде Дарья выступала и как свидетель, и как потерпевшая.
Подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы.
* * *
Из мест заключения бывший полицай вышел седым, но еще крепким стариком. Борода по грудь. Белые густые брови прикрывают тяжелый и злой взгляд.
Где бы в послевоенные годы ни скитался Епифанов, тоска по родному селу не покидала его. И вот теперь, отбыв наказание, решил, что имеет право туда вернуться. Купил билет в Курск, пересел здесь на попутную машину и доехал до Матвеевки. Ее он узнал не сразу. Красивые двухэтажные жилые дома, клуб, магазин, большое здание школы, добротные производственные помещения колхоза… А вот и родной дом. Открыл калитку, уверенно зашел во двор, затем в комнату. В переднем углу телевизор, рядом радиоприемник, на подоконниках, украшенных красивыми занавесками, цветы. Провел по широкому листу фикуса — ни пылинки. «Аккуратная, как мать-покойница», — подумал о дочери.
Выйдя во двор, напоил скотину, бросил корове охапку сена.
Но где же хозяева — дочь и ее муж? А впрочем, почему именно они хозяева? Ведь в приговоре военного трибунала не говорилось о конфискации дома. Значит он, Епифанов, как был, так и остается его законным хозяином.
Но дом, который Епифанов считал своим, не принадлежал ни ему, ни дочери. Его приобрел у Анны специалист сельского хозяйства, приехавший работать в село. Он и сообщил Епифанову, что Нюра, теперь уже Анна Васильевна, вместе с мужем и двумя детьми живет в Курске, что ее дочь учится там в институте.
* * *
— Явился! — только и сказал Матвей, увидев тестя. — Тебя ж никто не звал.
— Знаю. Но не за куском хлеба пришел. Свой капитал имею, хотя чужие дома и не продавал.
— Пойди у Гитлера спроси, где твой дом. Но места тебе здесь нет и не будет. С фашистом под одной крышей жить не хочу.
— Перестань, Матвей, — прикрикнула вошедшая женщина, похожая скорее не на Нюру, а на ее покойную мать. — Пусть в ванне помоется с дороги, чаю попьет. Человек ведь он, а не волк.
— Да ты волка не погань! Этот зверь не погубит столько людей, сколько их погубил твой отец. Тебе он нужен, так забирай его и уходи из дома.
И Епифанов стал собираться в Челябинск. Пожалев отца, решила поехать туда и Анна. Подумала: грех бросать старика. А Матвей, если не хочет жить с ним, пусть остается в Курске. Пенсию получает, жилье имеет, а дети уже взрослые, обойдутся без нее.
В Челябинске Анна поступила на завод. Купили кооперативную квартиру, обзавелись мебелью. Вечера коротали у телевизора.
В один из таких вечеров в дверь постучали. На пороге стоял Матвей.
— Принимай, если хочешь, — сказал он Анне. — Не примешь — не обижусь.
Несмотря на возражения отца, поселился Матвей в квартире. Начал работать. Все бы ничего, только вот никак не налаживались отношения между стариком и зятем.
— Ты что все время меня фашистом называешь? В Красной Армии уже во время войны медаль заслужил…
— Наверное, украл, а не заслужил. Поди с мертвого снял, когда свою полицейскую шкуру спасал.
— Может, не только свою, но и твою жизнь спас.
— А ты с моей рукой поживи, узнаешь, каково мне.
— Будет вам, — вмешивалась Анна. — Уж много времени прошло после войны, а между вами все мира нет.
— И не будет! — отвечал Матвей.
— С таким ублюдком, как ты, и говорить не хочу. Не забывай, кто тогда за тебя заступился!
Одна из таких перепалок закончилась дракой. Тесть ранил зятя ножом. Врачи приложили все силы, чтобы спасти Матвея.
Когда Епифанова судили за нанесение тяжких телесных повреждений, потерпевший признал, что ссору затеял он. Ответчика приговорили к четырем годам лишения свободы, а вскоре после амнистии его, как награжденного медалью «За боевые заслуги», освободили из-под стражи.
Но покоя в семье так и не наступило. Теперь уже Матвей стал утверждать, что он спас тестя, приняв в суде вину на себя. Иначе, мол, пришлось бы вновь отправиться старику в места отдаленные. Отношения между тестем и зятем все больше обострялись. И однажды Епифанов снова набросился на Матвея.
…Суд, уже областной, определил убийце суровую меру наказания. На этот раз на свидание к осужденному дочь не пришла.
Юлька
Недалеко от вокзала затерялся маленький домишко. Стоит он где-то в конце двора. Ставни дома глухо закрыты не только от людского глаза, но даже от солнечных лучей.
Вот уже, пожалуй, года два не видели соседи раскрытых окон, не слышали песен Юльки. А ведь, бывало, с утра до ночи как колокольчик звенел голос девчонки. Звенел, переливался — и вдруг замолк.
Где ты, Юлька? Почему не слышно твоих веселых песен? Кажется, совсем недавно вбегала ты в калитку и, прыгая на одной ножке, кричала:
— А у меня пятерка, а у меня опять пятерка!
И щеки горели, и в глазах прыгали бесенята.
А отец выходил тебе навстречу сияющий. Всем казалось, что в такие минуты он даже ростом становился выше.
И ты, Юлька, захлебываясь, рассказывала ему, как отвечала урок и как учитель при всем классе сказал:
— Молодец, Юля, умница!
— Умница ты моя, — хвалил в тот вечер тебя и отец.
Когда это было? В последний или предпоследний день? Нет! Я не буду спрашивать Юльку об этом. Какая разница, в какой день это случилось. А у девчонки опять слезой заволокутся глаза, опустятся плечи и задрожат губы.
Не надо, Юлька! Я ни о чем не спрошу тебя, девочка, и не назову твоей фамилии. Мне не хочется, чтобы ты снова уставилась большими глазами в одну точку и, закусив губу, неподвижно сидела, думая о чем-то далеком-далеком. Может, даже о том, как в первый раз тебя одели в школьную форму и вплели белые капроновые бантики. Помнишь? Ты одну косичку дала заплести маме, а другую — отцу и уверяла всех, что папин бантик совсем не хуже маминого.
Из школы ты шла счастливая между родителями и, размахивая портфелем, уверяла, что в вашем классе самая лучшая учительница.
В тот вечер сестра отца, твоя любимая тетя, даже руками всплеснула, а потом вынула из старого альбома фотографию, где она в твоем возрасте была, как две капли воды, похожа на тебя. А когда ты, Юлька, шла по улице с ней, то очень гордилась, что все считали тебя ее дочкой.
У бабушки и дедушки ты была любимой внучкой. Во-первых, ты единственная из всех внучат носила их фамилию, а во-вторых, с самого дня твоего рождения они нянчились с тобой, играли, ласкали тебя.
Почему ты не постучишь в дверь их дома? Посмотри, они стали совсем старыми. Натруженные руки деда уже не могут шить тебе пальто, а сколько он их сшил за свою жизнь! Бывало, бабка, надев очки, вдевала ему нитку в иголку, а теперь и очки не помогают.
Пойди, Юлька, к старикам! Глаза у тебя острые, силы молодые, ты и иголку вденешь, и пол помоешь, и воды принесешь. А когда войдешь, то, как прежде, улыбнись старикам и снова назови бабушку: «Буничка моя!»
Кроме тебя, ее никто так не звал. Но почему перед твоим носом закрылась дверь и этого дома? Почему?
— Да мы тут ни при чем! — оправдывается бабка. — Разве не мы ее нянчили, не мы ее лелеяли? Единственное солнышко была она и сыну нашему. Только вот сказали ему, что дочка-то не его. А раз не его, так и нам не нужна!
— Коли враг лютый мне сказал, что она не моя дочь, я бы не поверил, а то кум сказал. Он же крестный отец Юльки, ему врать нет смысла, — рассуждает отец.
Давно захлопнулась дверь отцовского дома. И хоть не оставили в беде Юльку с матерью чужие люди, но разве можно залечить глубокую рану на сердце? Чужие люди им стали родными, а вот родной отец отвернулся.
— Уходи от меня! Я тебе чужой! — крикнул он дочке.
Не поняв даже, что говорит отец, Юлька снова пыталась обнять его, как делала это все годы, как помнит себя.
— Уходи из дома, чтобы я ни тебя, ни твоей мамочки не видел!
А случилось это после того, как, выпив изрядно и поссорившись с Юлькиным отцом, кум крикнул уже с порога:
— Не хозяин ты! И не отец! Черт тебя побери! — ляпнул спьяна, хлопнул дверью и пошел пьяной походкой восвояси. Шел, песни орал, к прохожим приставал. И дела ему мало, что сдуру столько горя сделал.
Всю ночь в доме не спали. Наутро пошел отец к куму. Чтобы разговор откровенней был, купил пол-литру. Обрадовался кум водке. С похмелья голова трещала так, что с кровати не смог подняться.
— Скажи, Александр, чья Юлька? Скажи, положа руку на сердце! Целую ночь не спал я, утра дожидался, чтобы тебя спросить об этом.
У кума как рукой хмель сняло. Он спустил с кровати босые ноги и даже рот разинул. Долго смотрел мутными глазами на Юлькиного отца и еле выдавил:
— Так разве она не твоя?!
— Да ты же сам вчера мне сказал, что не моя!
— Я?! — искренне удивился кум. А потом, уж не на шутку рассердившись, крикнул: — Да ты что, лиходимец, напраслину на меня льешь!
Взял шапчонку Юлькин отец и медленно пошел домой. Но дома не извинился перед женой и дочерью, а велел не показываться ему на глаза.
В тот день, как выгнал семью из дома, закрыл плотно ставни да и живет впотьмах до сих пор. Идет ли на работу, с работы ли возвращается, а мысль одна гложет: «А вдруг родная мне она! Вдруг свое родное дите, как собачонку, из дома выгнал? Вроде на мою родню похожа… Так мало ли бывает, что и чужие на одно лицо? Вроде жена всегда вовремя с работы приходила… Так опять неизвестно, где была в обеденный перерыв. Все знают, что кум болтун. Опять-таки не трезвым он это сказал, а спьяна. А всем известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке…»
С этими мыслями ложится, с ними же встает. Живет он, как в берлоге. Истопил печь — ладно! Не истопил — тоже ничего. Осунулся, похудел, сгорбился. На работе удивляются люди: что с человеком стало? Столько лет в месткоме был, на Доске почета красовался — и вдруг ничто ему не мило. Инструменты, и те из рук валятся.
Медленно идет он с работы — нечего торопиться, никто не ждет.
Ждет ночи. Может, опять приснится Юлька. Только не такой, как прошла мимо вчера, даже не взглянув в его сторону… Сбитые волосы, каблучок шпилька, два учебника в руках. А такой, какой вбегала на одной ножке в дом и сияющая кричала:
— Папка, у меня опять пятерка!..
Вечный жених
Василий Максимович любил свататься. Быть женихом стало его потребностью — такой же, как у других людей работать, иметь домашний очаг, воспитывать детей.
Он ездил от одной невесты к другой. Его хорошо принимали, ему верили с полуслова. Будущие тещи, заглядывая в его томные глаза, угощали какими-то особыми тортами, поили вишневой настойкой, а в кухне шептали соседкам, что лучшего зятя днем с огнем не сыщешь.
— Жених! — говорили о нем с завистью женщины, выглядывая из окон, когда он вел под руку очередную невесту.
Никому и в голову не приходило, по какой такой причине Василий Максимович был вечным женихом. Сменив только за год пять жен, он приехал в наш город.
…Сняв фетровую шляпу и поставив пустой чемодан возле черноокой и розовощекой лоточницы, бойко торговавшей горячими пирожками, Василий Максимович для начала съел шесть пирожков, нахваливая и товар, и продавщицу.
Когда лоток опустел и продавец стала считать выручку, складывая деньги по купюрам, гость сделал пробный шаг:
— Неужели все женщины вашего города так прекрасны, как вы?
В пятьдесят лет не каждой даме говорят такие слова. И хотя покупатель по возрасту годился ей в сыновья, она согласилась встретиться с ним в тот же вечер. От нее он узнал, что она вдова, к тому же самостоятельная и серьезная. Эти качества были оценены по достоинству, и жених тут же предложил ей руку и сердце, сказав, что верит в любовь с первого взгляда.
— Муженек! Лаюшка! — ворковала новоиспеченная жена. — Я с работы пришла. Есть хочешь? Будешь пить шампанское?
Он не хотел ее огорчать, а потому ел и пил все подряд: и шампанское, и коньяк «пять звездочек», и даже вина без всяких звездочек.
Днем, пока она торговала, он спал, уходил из дома только на почту, чтобы отправить письма женам и невестам. Содержание их было разным, но заканчивались все его послания одинаково:
«Люблю, помню, живу надеждой встретиться. Вышли на билет рублей двадцать. Вечно твой Вася».
Целый месяц ел, спал и любил письменно и устно. Изрядно отдохнув, решил посвататься к соседке по дому. Она была кассиром ресторана и владелицей сверкающей лаком автомашины. Перенести вещи из одного подъезда в другой большого труда не составило, хотя чемодан жениха заметно потяжелел от добротного костюма, дубленки и других вещей. А вот с лоточницей получился конфуз. Обидевшись, она решила отомстить за опозоренную «вдовью» честь и с досады попортила Василию Максимовичу нос.
Две недели пришлось пролежать в больнице. Выписавшись с заметным шрамом, он первым делом поспешил в универмаг и там рассказал молоденькой продавщице о том, как на пожаре, спасая ребенка, получил травму.
А на почте его ждал перевод и два письма. Получив деньги, он небрежно распечатал письма и, читая, несколько огорчился.
«Ты — муж?! — вопрошала законная жена, по-видимому, забыв поздороваться. — Нет, ты никогда им не был, хотя сто раз женился и разводился. Нет у тебя ни стыда, ни совести. Остался от тебя один футляр под фетровой шляпой. Двадцать рублей от меня не жди. Хватит и того, что я, дура, содержала тебя целый год. Высылай развод, мы чужие…»
— Вот хамка! — процедил сквозь зубы он и, смяв письмо, бросил его в урну вместе со вторым недочитанным.
Не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, он отправился в народный суд с заявлением, но пока не о разводе.
В его заявлении говорилось:
«Прошу привлечь к уголовной ответственности лоточницу Каретникову за то, что она пыталась оставить меня без носа, чуть не обезобразив мое лицо», — прочитал судья и, поправив очки, невольно взглянул на жалобщика. Любезно подставив под судейский взор травмированную часть лица, посетитель просил наказать виновную по всей строгости закона и взыскать с нее расходы на курорт и дополнительное питание.
…А в это время в универмаге юная продавщица бойко обслуживала покупателей. Настроение у нее было под стать погоде — весеннее. С волнением вспоминала она слова своего жениха: «Дело не в регистрации, Верочка. Регистрация — это форма. Важно содержание!» «Конечно, важна не форма, а содержание», — вторя любимому, мысленно повторяла она, обмирая в предвкушении счастья.
И невдомек ей было, что она — очередная жертва «вечного жениха».
Ланка
Ее звали Ланка, Лана. Такого имени не было ни у одной девчонки в школе. Впрочем, не было и таких серо-зеленых глаз под длинной бахромой черных ресниц. И пепельных кос таких тоже не было. Даже самые лучшие мальчишки не решались предложить ей дружбу. Боялись — поднимет на смех. Просмеять кого-нибудь ей ничего не стоило.
Все платья у Ланки были комбинированные. Шила сама, перешивая все то, что можно было перешить.
В отличницах она не ходила, но задачи решала быстрее всех в классе, писала интересные сочинения, хотя и не без грамматических ошибок.
Никогда не списывала с чужих тетрадей домашние задания, а свои давала всем, кто попросит, — жалко, что ли… Но однажды, решая контрольные задачи, перепутала синус с косинусом. Трое девчонок, списавших у нее, повторили ошибку, что очень возмутило математичку. Пол-урока она выясняла, кто у кого списал, но так ничего и не узнав, предложила всем четырем завтра прийти в школу с родителями.
— А если у меня нет родителей? — поинтересовалась Ланка.
— У тебя есть мать, пусть она и придет.
— Но я же вам сказала, что не списывала, — стояла на своем Ланка.
— Тогда скажи, кто у тебя списал.
— Ну, вот уж этого-то я вам не скажу. Выдать друзей только подлец может. Если не пустите без мамы, то я вообще брошу школу. Не бойтесь — не пропаду!
— Ложное у тебя представление, Лана, о дружбе. А если ты еще хоть раз позволишь себе говорить с педагогом таким тоном, мне придется попросить тебя выйти из класса.
— Вам не придется просить меня об этом. Я сама уйду.
Собрав тетрадки и книжки в портфель, Ланка выбежала, стукнув дверью. Она не пришла в класс ни завтра, ни послезавтра. Ее документы получил брат, объяснив директору, что сестра устроилась ученицей в швейную мастерскую, а учиться будет в вечерней школе.
…Спустя три месяца началась война. Все мальчишки из 10 «Б» ушли на фронт. Вернулись домой не все. А тот, кто вернулся, услышал о Ланке страшную историю.
Была у нее задушевная подружка Галка, кассир одного из заводов. Познакомились они на танцах. Увидев на Ланке нарядное платье с оборками, Галя спросила:
— Кто тебе так хорошо шьет? Познакомь меня с твоей портнихой.
— Хочешь, тебе такое же сошью?
Они дружили — водой не разольешь. Вместе ходили на танцы, часто ночевали друг у друга, ездили в деревни менять платья на картошку, сдавали кровь. На донорскую карточку получали ежедневно по 800 граммов хлеба. Время было такое.
На танцах Галка познакомилась с красивым парнем. Он проводил ее домой, назначил свидание, а через неделю сделал предложение.
— Но ты же его так мало знаешь, — сказала подруге Ланка.
— Он такой хороший, такой необыкновенный! Его отец был другом Сергея Есенина. Он мне даже стихи посвятил.
— Кто — отец или твой Сергей?
— Мой Сергей посвятил мне. Что ты понять не можешь? Послушай только, что он написал:
«Тебе лишь двадцать лет.
У вас своя дорога.
Вы можете смеяться и любить…
А я… Я пережил так много…»
— Врет он! Это не его стихи, — перебила подругу Ланка.
— А я говорю: Сережины стихи! — не на шутку рассердилась Галка. Ни о чем, кроме замужества, она в последние дни не говорила, считая не только часы, но и минуты до встречи с будущим мужем.
Между тем жених не спешил с регистрацией брака. Оттого, наверно, с каждым днем Галина становилась все мрачнее и раздражительней. Ланка жалела ее, помогала, чем могла.
Как-то ночью прибежал Сергей. Ничего не объясняя, сказал, что погибнет, если к часу дня не достанет тысячу рублей. Он просил помощи, намекнув, что заводская касса не обеднеет, если на два дня (только на два дня!) он возьмет в долг всего тысячу рублей.
— Так касса же не сойдется. Что я скажу бухгалтеру?
— Галчонок, ты просто не хочешь меня выручить… А значит, не любишь. Зачем тогда без любви выходить замуж?
Жених объяснил ей, как и что нужно подделать, чтобы недостачу не обнаружили.
Ночь они провели вместе. Это была их первая и последняя ночь.
В обеденный перерыв Галина принесла деньги. Вечером они встретились. Он нежно целовал ее, гладил руки, просил еще немного подождать до свадьбы. Она проводила его на вокзал. Долго махала вслед уходящему поезду.
Прошел месяц, а Сергей не возвращался. Бухгалтер Мария Петровна при первой же ревизии выявила недостачу и потребовала немедленно внести тысячу рублей, иначе дело передаст прокурору. Испуганная кассирша написала расписку, что погасит долг за три дня. Едва набрав пятьсот рублей, девчата отчаялись.
«Остается последний день. Послезавтра бухгалтер всем скажет, что Галка — воровка, начнется следствие. Стыд-то какой!» — думала Ланка, переживая за подругу.
— Ну чего ты ревешь, Галочка? Надо выход искать, а не выть. Давай уговорим бухгалтершу, чтобы она еще несколько дней повременила. Ты ее завтра приведи ко мне. Мы отдадим ей пятьсот, остальные внесем постепенно. За то, что она подождет, я всю жизнь бесплатно ей буду шить.
Назавтра Галка привела Марию Петровну к Лане. Услышав, что деньги собраны только наполовину, та и разговаривать не стала, заявив, что сообщит о краже директору.
Напрасно подруги уговаривали подождать хотя бы еще три дня, напрасно безутешно рыдала Галина.
— Ты пойми меня правильно, — объясняла Мария Петровна. — Я тебе сегодня тысячу прощу, а ты завтра две украдешь.
— Не украдет! Она не воровка! — заверила Ланка.
— Ну уж позвольте! Тот, кто залезает в чужой карман, со времен Адама считался вором.
— Я ни у кого ничего не украла. Я временно взяла на два дня! — закричала вдруг Галка.
— По какому праву ты со мной так разговариваешь? — возмутилась женщина.
— Потому что я не воровка, потому что меня обманул один человек, а может, не обманул, а с ним что-то стряслось.
— Ничего с ним не стряслось, миленькая. Наверное, где-нибудь еще одну дуру сватает.
— Так что я, по-вашему, и воровка и дура? А ты безжалостная тварь тогда! — лицо Галки исказилось от злости.
Потом все было словно во сне. С ужасом смотрела Ланка, как набросилась подруга на бухгалтершу, как, схватив молоток, стала бить женщину по голове, по лицу. Ланка хотела кричать, звать на помощь — не смогла… Хотела бежать — не шли ноги. Вскоре все было кончено…
— Ты куда? — испуганно спросила Ланка Галину, когда та направилась к выходу.
— Домой.
— А я как? Скоро придет мама. Что я ей скажу?
— Говори, что хочешь. Я у тебя не была и ничего не знаю. Если следы не смоешь, а труп не уберешь — скажут, ты убила. А я ни при чем.
На мгновение Ланка представила ужас положения, в которое ее поставила Галка, та самая, что была ее лучшей подругой.
— Уйди, подлая! Пусть меня расстреляют! Но ты-то знай, что я не такая, как ты! Я не стану валить на тебя, не пойду и доказывать. Только уходи и никогда не показывайся мне на глаза, а то я сама тебя убью! — наступая, говорила Ланка.
Но Галина не ушла. Молча, не глядя друг на друга, они спустили труп в подпол. Лихорадочно стали замывать следы крови. Когда пол был отмыт, Галина обнаружила, что дверь не заперта на крючок.
— Теперь все равно! — махнула рукой Ланка. — Уходи быстрее и чтобы я тебя больше не видела на своем пороге! — выталкивая подругу за дверь, наказала она.
Ночью вернулась с работы мать. Квартира блестела чистотой, а пол добела отскоблен ножом. Ничего не напоминало о страшной трагедии.
* * *
Ланка ни днем ни ночью не находила себе покоя. Оставлять труп бухгалтерши в подполе опасно, тем более, что со дня на день к ним должны были поселить эвакуированную семью. И Ланка решила, когда мать находилась в ночной смене, сбросить труп в глубокий колодец. Но его там все равно обнаружили.
Пока не показали Галке ее расписку, найденную в сейфе бухгалтера, она вообще не признавала своей вины, а потом стала твердить, что виновата лишь в том, что не сообщила об убийстве, очевидцем которого была.
Ланка сидела, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Ей было смертельно стыдно. Судебный процесс проходил в заводском клубе. Народу было много.
Когда в качестве свидетеля допрашивали Сергея, которого все-таки удалось разыскать, Галка пристально смотрела на него. Казалось, ждала в нем спасения, но он заявил, что никаких денег от нее не получал, а что подсудимая заинтересована его оговорить, так как он отказался встречаться с ней.
— Вы женаты? — спросил Сергея судья.
— Да.
Галкино лицо залилось румянцем. Может, в эту минуту она подумала, что он ее считает женой. Но тут же сникла, услышав, что его жена и двое детей живут в Саратове.
Ланка же твердила, что она одна убила бухгалтершу.
…Пока шли следствие и суд, много томительных дней и ночей провела Ланка в камере. Много передумала о своей короткой жизни, о своих ошибках. Если б можно было начать жизнь снова! Не оставила бы она школу из-за пустяка и в подруги бы себе не выбрала кого попало. Когда-то, еще в девятом классе, она выписала в свой заветный дневник строки из сборника Омара Хайяма: «Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало». Теперь эти слова не выходили из ее головы. Они стали как клятва, как девиз.
От одной стены до другой — семь шагов. Она повторяла их, чтобы прогнать угнетающие ее мысли. По двести и триста раз одно и то же, одно и то же. Только бы не сойти с ума!
«Ради чего я все это делала? Кому помогала? Кого выручала?» — эти вопросы не давали ей покоя. Ей страшно было умирать в двадцать лет, а еще страшнее сознавать, что она осуждена несправедливо, ведь не она убивала бухгалтершу.
Но жалобу на приговор суда Ланка писать отказалась. Верховный Суд РСФСР рассмотрел ее дело по жалобе адвоката.
Расстрел Ланке заменили десятью годами лишения свободы (Галка так и не призналась в совершенном ею убийстве).
Прошло десять лет. Потом еще пять. Как-то случайно я встретила Лану в одном из ателье мод Челябинска. Она уже вышла замуж. Имела сына.
— Лучший мастер! — отозвалась о ней заведующая.
Смотрю на Лану и глазам своим не верю. Те же серо-зеленые глаза, та же бахрома ресниц. Только много мелких морщин возле глаз да волосы не пепельные, а седые.
«Прилетай скоростью звука»
Вскоре после Нового года из Челябинского универмага было похищено золота и денег больше чем на сто тысяч рублей. Работники уголовного розыска сбились с ног в поисках преступника. На помощь челябинским коллегам прилетели прославленные муровцы. Никто еще не знал, что ценности уже переправлены в соседний Копейск, а преступник Заров распивает чаи в одном из купе фирменного поезда «Южный Урал» и путь его лежит через Москву в Тулу.
На первый взгляд могло показаться, что хищение совершили либо матерый вор, либо крупная банда: вскрыты сейф и 23 кассовых аппарата. Преступники (или преступник) не оставили никаких улик. Почему-то не сработала и сигнализация. А ушли похитители через окно второго этажа магазина — оттуда свисала веревка.
Экспертиза установила, что контакты сигнала замкнуты проволочной перемычкой, чем и выведены из-под охраны фасад второго этажа, охранная блокировка сейфа с ювелирными изделиями.
Возникла версия: не причастны ли работники универмага к краже? Инженер, он же электромонтер Шуналов, признался, что поставил перемычку, так как была неисправность в сигнализации. Собирался устранить недостаток, а потом забыл…
В то время, когда работники уголовного розыска выясняли все обстоятельства, связанные с кражей, в один из дней на городской телеграф Копейска пришла женщина. В телеграмме, отправленной ею в Семипалатинск, было всего три слова: «Прилетай скоростью звука». Сотрудники телеграфа, знавшие женщину, спросили сочувственно: «Не умер ли кто?»
— Любопытные все нынче стали… С чего бы это? — беззлобно сказала она, кокетливо поправив прическу двумя пальцами, на которых сверкнули дорогие кольца.
Между тем милиция задержала в Туле двух парней по подозрению в бродяжничестве. Паспортов у них не оказалось. Стали «устанавливать личность», попросили назвать адреса родителей. Оказавшись в одной камере с бродягами, парни потребовали, чтобы им оформили явку с повинной. Так появилось признание двадцатилетнего Леонида Зарова:
«С 3 на 4 ноября в Семипалатинске я совершил кражу из ЦУМа. Унес шесть с лишним тысяч рублей и товар, который впоследствии выбросил с правого берега Иртыша.
В ночь на 20 января я ограбил кассы и вскрыл сейф в Челябинском универмаге, взяв золота на 130 тысяч. Золото спрятал в подполе дома, где живет моя мать».
Он не знал еще, что переправленное им в Копейск и спрятанное там золото уже обнаружили работники уголовного розыска в подвале многонаселенного дома, на первом этаже которого жила его родительница. Не знал, что за два дня до прихода милиции мамаша начала разбазаривать драгоценности налево и направо и что из подвала уже украли золотых колец на пять с половиной тысяч рублей. Не думал, когда принес похищенное к матери и сказал: «Мама, это пахнет вышкой!», что во время очередной попойки она запросто подарит незнакомой уборщице два золотых кольца и серьги с дорогими камнями, а та за бесценок попытается продать их.
Не предполагал и того, что мать, решив упрятать золото в Семипалатинске, дала телеграмму своему брату. Тот не заставил себя долго ждать. Прилетел и тут же был задержан работниками уголовного розыска.
…Вначале, когда отец и мать Леньки расходились, они не могли решить, с кем мальчику жить. В конце концов он оказался у бабушки по линии матери, которая увезла его в Копейск. Муж бабушки был артистом кукольного театра, а когда умер, паренька определили в интернат. Но в каком городе — мать на суде никак не могла вспомнить.
За кражи из двух универмагов и другие хищения суд приговорил Леонида к пятнадцати годам лишения свободы. Надо было видеть, как горько плакала в суде мать! Но не она ли виновница того, что ее сын стал вором? Не она ли помогала прятать похищенные им ценности?
Есть в деле заключение судебно-психиатрической экспертизы Леонида. В заключение подчеркивается, что в условиях ненормальной семейной жизни у мальчика развился комплекс неполноценности. До трех лет не говорил. С трех лет заикается. По характеру общительный, драчливый, вспыльчивый, всегда старался держаться «героем». Нередко от него слышали: «Теперь обо мне узнают все!»
Он всю жизнь хотел самоутвердиться, показать, что не хуже других. Увлекался многим: шахматами, стрельбой, ездой на мотоцикле. Получил права шофера, стал радиолюбителем. Но настоящим человеком так и не стал.
Свидетель из Семипалатинска сказала: «Строго его надо судить, потому что он не только вор, но и пакостник. Весь город возмущался, когда ребятишки на обмелевшем берегу Иртыша нашли почти семьдесят штук часов. Их выбросил в реку Заров».
Судья спросил Леонида, чем объяснить этот бессмысленный поступок? Не сразу рассказал подсудимый все, как было. Из Семипалатинского ЦУМа он украл денег и ценностей на десять тысяч рублей и принес в дом дяди Толи — двоюродного брата матери. Тот взял 5600 рублей, а часы, чтобы милиция не раскрыла преступления, велел выбросить. Вот его-то, своего родственника, выдавать Леонид и боялся: того уже неоднократно судили — могут признать особо опасным рецидивистом. Да и мать на процессе утверждала, что после нее и бабушки двоюродный брат — самый родной сыну человек.
Не хотел Леонид рассказывать и о том, что он и дядюшка в ресторанах деньги пропивали и знакомым девицам часы-браслеты дарили.
Долго выяснял истину следователь Зайцев.
— Вспоминай, Леня, кому еще давали?
В Копейск следователь ездил сам разыскивать, не запрятано ли в подвале еще что-нибудь. По Челябинскому универмагу не досчитался золотых изделий на 4800 рублей, а по Семипалатинскому ЦУМу — и того больше. Радовался, что удалось вернуть государству на 123 тысячи рублей, как будто свое добро нашел. Так и сказал: «Как это не свое, Леня? Можно сказать, кровное, свое. Все государственное — это наше, общее».
— Значит, и мое? Так за что же меня будут судить?
Другой бы возмутился, а Зайцев спокойно взял листок бумаги и давай считать. Подсчитал, сколько за три года трудового стажа мог заработать Ленька и сколько у государства взял. Баланс, конечно, оказался не в пользу обвиняемого.
В последнем слове подсудимый сказал:
— Раскаиваюсь я! Простите!
Но простить его суд не мог. Мог только учесть, что признал свою вину и что народное добро в основном возвращено, и то благодаря неутомимым поискам следователя.
Спасибо вам, люди!
Бывают в жизни человека такие минуты, которые хочется вычеркнуть из памяти. Таких минут у Ивана Черных было немало.
До войны работал он пекарем. Запах свежего хлеба кружил голову. Вынутые из печи розовощекие булочки радовали глаз.
Провожая девчонку с танцев, он с гордостью говорил о своей профессии:
— Пекарь, если хочешь знать, важнее летчика. Пропадет человек без хлеба. Без хлеба и летчик не летчик.
Потом, взявшись за руки, они молча бродили по улицам, до утра целовались на лавочке.
И снилась девчонка Ивану в холодных окопах на фронте, когда стихал гром орудий, а он, усталый и голодный, валился как сноп на дно окопа, прижимая винтовку.
Храбро дрался с врагом рядовой стрелкового полка Иван Черных. Не жалел жизни. Наградами гордился — зря не дадут.
В февральскую ночь сорок третьего, в одной из атак, был тяжело ранен. Только под утро нашел Ивана санитар. Думал, мертвого подобрал, но нащупал слабый пульс.
Очнулся раненый в госпитале. Вместо правой ноги — короткая культя.
Напрасно, сжав кулаки, ругал хирурга. Не было у врача другой возможности спасти жизнь.
Потом шли письма то в один, то в другой госпиталь. Писал брат, сестры писали.
Коротко отвечал им Иван: «Пока жив. Опять будут оперировать». Не отвечал он лишь той, чьи письма по нескольку раз в день читал и перечитывал.
После третьей операции вернулся в Челябинск. О прежней работе нечего было и мечтать — с костылями у печи много не сделаешь. И с тоски ли, от безделья ли запил Иван, втягиваясь в пьянку все больше и больше.
Опухший и грязный, сидел он у рынка, разложив карты. Охрипшим голосом зазывал зевак:
— Игра проста, от полста до ста и выше ста! Замечай глазами, получай деньгами!
Находились простачки — проигрывали свои трудовые рубли.
Пенсия тоже шла на водку.
Однажды так напился, что чуть не замерз под забором. Это было в тот день, когда среди толпы увидел ее, чьи письма до сих пор хранил в кармане старой гимнастерки.
Не все можно было прочитать на истершихся листочках, но среди едва заметных слов он безошибочно мог найти: «Очень жду. Приезжай хоть каким, любимый!»…
…Смеялись над девушкой подруги, отвернулась родня, но увела она свою любовь от позора, думала вернуть к жизни.
— Жалеет она тебя. Из жалости только и вышла за тебя! — шептал при встрече «дружок» по картам.
— А ты ей в морду дай, чтоб не смела жалеть! — кричал, брызгая слюной, второй приятель.
В тот вечер впервые он поднял руку на жену. Таскал за волосы, бил.
«Легче бы было, если б выгнала она или хотя бы ударила», — думал Иван, когда в полдень, встав с постели, увидел на столе завернутый горячий завтрак.
Не было только записки, какую обычно, уходя на работу, оставляла жена. Потом, когда снова и снова пьяный гонялся за испуганной женщиной, норовя попасть костылем в нее, не заставал на столе не только записки, но и завтрака.
Напрасно уговаривал вернуться. Напрасно обливался пьяными слезами. И тогда… запил опять.
Дожил до того, что и жилье потерял, и родные от него отказались:
— Хватит нас позорить!..
Как-то, спустя лет десять, встретил свою бывшую жену. Шла с мужем. Две нарядные девочки рядом. Сжалось сердце у Ивана. Отошел в сторону, долго смотрел вслед. Боялся, что кто-нибудь из семьи оглянется. И так тяжело стало на душе и таким противным себе показался, что свернул Иван в менее людный переулок, не хотел попадаться на глаза людям.
В кармане нащупал открытку из райсобеса. С досады плюнул сквозь зубы. И чего надо? Он — инвалид второй группы, работать ему необязательно. Так нет — надо вызывать человека, лишний раз беспокоить. «К людям тебе надо, Черных, в коллектив! — сказала как-то Ивану заведующая райсобесом Металлургического района Рубцова. — Твое спасение в работе!» Думает, без нее не знаю, в чем мое спасение. Подумаешь, воспитатель нашелся. Да какое она имеет право меня воспитывать? Я за нее кровь проливал, а она учить меня будет, как жить.
С таким настроением перешагнул порог райсобеса Иван Черных, Ни на кого не глядя, сел на стул в приемной. Чуть не сорвал зло на старушке в черном платке, которая, припав ухом к двери кабинета, прислушивалась. Она то садилась, то вставала, теребя кончики платка, завязанного у подбородка. Не успела бабка глазом моргнуть, а он шмыгнул перед нею:
— Я на одну минутку!
— Чего с тебя спросишь, забулдыга несчастный! — проворчала старая.
О чем шел разговор в кабинете, бабка не слышала, но когда Иван выскочил оттуда, как из парной, не стерпела, съехидничала:
— Дала, видно, тебе Августа Тихоновна перцу! Так тебе и надо — не лезь без очереди!
— Много ты знаешь, старая! — огрызнулся Иван. — Перцу вы все мастера давать! А она мне не перцу, а две путевки в дом отдыха дала. Отдыхай, говорит, приведи себя в порядок, а там на работу пойдешь. Комнату, говорит, тебе похлопочем. А ты — «перцу»!..
Как шальной, бродил весь вечер по городу. Много думал о том, что услышал от Рубцовой. Не верилось, что в райсобесе решили выдать путевки именно ему. А когда вспомнил, что ни костюма, ни туфель нет — не стерпел, свернул к магазину.
Как потом попал в вытрезвитель — сам не помнит. А на следующий день такое письмо поступило в райсобес:
«Возвращаем путевки. Считаем, что Черных недостоин их. Он систематически пьянствует на рынке и у магазинов, валяется под забором и на улицах, вызывая возмущение граждан. Только в вытрезвителе Металлургического района за одиннадцать месяцев был восемь раз. Видимо, в районе есть инвалиды, более нуждающиеся в лечении и отдыхе, чем Черных, который помощь государства использует как источник пьянства».
Знала Августа Тихоновна, что, конечно же, есть и другие, но ведь и Черных так просто не вычеркнешь из жизни. Сколько спорила она, с кем только не ругалась, пока не добилась решения — именно его послать по этим путевкам, может, оттает сердце инвалида, может, совесть заговорит…
В дом отдыха поехал другой пенсионер. Долго еще обходил Черных райсобес стороной. Не дай бог попасться на глаза Рубцовой — со стыда провалишься. Если бы не так совестно было, пошел бы к заведующей и рассказал, что две недели не пьет и что не такой уж он потерянный… Да что ходить, разве поверит?
Нет, обижаться он не мог! Сам себя довел до этого, люди обходят его стороной, и вторая жена не выдержала его кулаков да пьяного угара — ушла. Все говорят, надо лечиться, но он не считает себя алкоголиком.
А что если взять и доказать всем, что он не тряпка и не хуже других?..
И начал Иван Черных, бывший рядовой 812-го стрелкового полка, борьбу с Черных Иваном, дрянненьким пропойцей и картежником.
Тяжелой была эта борьба. Даже пустая бутылка, и та вызывала лихорадочную дрожь…
А потом легче стало. Решил пойти за советом к Якову Гурвичу, начальнику цеха Челябинской обувной фабрики. Слышал он про этого человека много хорошего, многому верил и не верил. Говорили, будто под Тихвином ранило в обе ноги. Вернулся в Челябинск, с каким трудом учился ходить, а сейчас даже танцует на протезах. Говорили, что врачи первую группу инвалидности пожизненно определили ему, а он работать пошел и теперь вот начальником цеха трудится уже много лет. И вот к этому-то человеку и решил обратиться Иван Черных.
Состоялся между бывшими солдатами мужской разговор. И честно признался Ивану Яков Гурвич, что боится брать его на работу: нет никакой гарантии, что не подведет. И все же пошли они на фабрику. По душе пришлась Ивану затяжка дамской модельной обуви.
Попросил Яков Израилевич лучшего мастера Ивана Васильевича Шильникова, депутата городского Совета, взять к себе в ученики Ивана. До дела довести. Взглянул мастер сначала на новичка, затем на начальника цеха. Так взглянул, что у Ивана кровь в жилах застыла. Почти не отрываясь от работы, тихо сказал:
— Если поручишься за него сам — приму, мастером хорошим сделаю, а не поручишься — пусть проваливает!
— Ручаюсь! Больше того, беру под свою ответственность.
…С тех пор не употребляет спиртного Иван Черных. Бывает, встречаются его бывшие приятели, приглашают, обещают угостить. Ну нет, хватит! Не будет больше в его жизни тех черных дней, когда он под заборами валялся, а люди брезгливо, с отвращением обходили его стороной.
Сдержала слово и Августа Тихоновна — помогла выхлопотать хорошую комнату, с балконом.
Соседи не нарадуются на Ивана. Хороший, говорят, сосед. Тихий, спокойный, душевный. А пироги, говорят, печет лучше любой хозяйки. Уютно в квартире, где живет Черных. Будто не три, а одна дружная семья поселилась в ней.
Приезжали к Ивану сестры, приходил брат. К себе звали.
— Желанным гостем будешь, братан, приходи. Зла не держу на тебя, и ты не таись! — говорил брат, любуясь новым удостоверением Ивана на права водить мотоколяску.
С уважением отзываются о Черных и на Челябинской обувной фабрике:
— Человек он добросовестный, старательный. И с дисциплиной у него все в порядке. А что было раньше, зачем вспоминать?
Может, и действительно, не надо было рассказывать эту историю? Экая невидаль — человек исправился! Не он первый, не он последний.
И все-таки я решила написать. Надо, чтобы пример Ивана Черных, поборовшего в себе страшный порок, нашедшего в себе силы снова стать человеком, послужил уроком для тех, кто еще не опомнился и катится в пропасть по наклонной.
И хотя в сорок лет трудно все начинать сначала, верю, что постучит счастье и к Ивану, и будет у него семья…
Сидит передо мной человек в отглаженном сером костюме. И просит, чтобы от его имени сказала я спасибо всем, кто помог ему и вовремя поддержал. Это — Августа Тихоновна Рубцова, Яков Израилевич Гурвич, Иван Васильевич Шильников.
Выполняя его просьбу, хочу сказать:
— Спасибо вам, люди! Спасибо за ваши добрые сердца и за то, что теперь твердо убежден Иван Черных: самая важная после пекаря — профессия сапожника.
— Сами подумайте, — говорит он, — без обуви человеку никак нельзя…
1962 г.
Седая прядь
Желающих послушать этот процесс было много. Люди стояли в проходах, на лестнице, в коридорах.
Заметно волновался судья. За тридцать лет работы ему впервые пришлось рассматривать подобное дело.
В сопровождении конвоиров в зал вошла женщина среднего роста, худощавая, лет сорока. Серый в черную полоску сарафан ладно облегал стройную фигуру. Подсудимая теребила длинные рукава черной шелковой блузки, и вначале казалось, что она ищет своих детей: сына и дочь. Но взгляд ее остановился на одном из мужчин, стоявшем недалеко от окна. По тому, насколько элегантно, со вкусом был одет этот высокий человек, можно было подумать, что он пришел в театр, а не в суд, где ему предстояло выступить в качестве основного свидетеля.
Через пять дней все присутствующие в зале услышали последнее слово подсудимой Валентины Голенко:
— Я виновата, очень виновата, совершив преступление, какое, возможно, никто не совершал. Я убила ребенка и своим преступлением ранила самого близкого мне человека, его семью. Я опозорила свою мать и коллектив, где работала много лет. Сама изуродовала детство и юность моих детей. Никогда не говорила последних слов и не слышала, как их говорят. Мое последнее слово может быть действительно последним и прощальным. Но если вы будете гуманны к моим детям, то сохраните мне жизнь. Верю, что суд вынесет справедливый приговор.
После этих слов, к которым все присутствовавшие в зале остались равнодушными, суду предстояло определить меру наказания.
…Из подъезда дома вышла в котиковой дохе женщина. За ней бежала трехлетняя девочка:
— Те-тя! Те…
Внезапно девочка упала. Из ее рта шла пена. Напрасно подоспевшие трясли ребенка, напрасно щупали пульс. Безжизненное тело распласталось на слегка подтаявшем снегу.
Собрались люди. Одна из женщин, очнувшись от оцепенения, громко сказала:
— Да это же Галочка, из нашего детского садика, в одной группе с моей дочкой. Она и живет со мною по соседству.
Следственным органам необходимо было выяснить, отчего умерла девочка. Эксперты установили, что смерть наступила мгновенно от быстродействующего яда.
Молодая воспитательница детского сада сообщила, что в конце дня за ребенком пришла женщина в котиковой дохе.
— Галочка, папочка уехал. Он скоро приедет и привезет тебе самую красивую говорящую куклу. А сейчас пойдем домой.
В это время раздался телефонный звонок. Воспитательница ушла в соседнюю комнату. Когда вернулась, ни девочки, ни той, которая пришла за ней, не оказалось. Почему отдала ребенка? Да потому, что работает в садике только третий день и еще не знает всех родителей в лицо.
Начались поиски женщины, приходившей в детсад.
Мать Галочки уверяла, что ни у нее, ни у мужа, уехавшего в командировку в Киев, нет недоброжелателей.
Женщина, опознавшая умершую девочку, сказала, что семью Галочки знает плохо, но однажды был случай…
— Впрочем, случилось это давно и не имеет, очевидно, значения… Я бы не хотела и говорить, а то скажут — сплетничает. В прошлом году на дневном сеансе в кинотеатре я встретила отца девочки с одной женщиной…
— Она была в котиковой дохе? — прервал майор-следователь.
— Нет, в нарядном летнем светлом платье. Сидели они впереди меня, переговаривались. Даже сосед им замечание сделал. Кончился фильм. Я поздоровалась с Юрием Семеновичем. Он кивнул мне. Сделал вид, что не знает сидевшей рядом с ним, и пошел в другую сторону. Я удивилась. Даже мужу рассказала об этом.
— Что вы можете сказать о внешности женщины?
— Ничего особенного, если не считать, что в черных волосах седая прядь.
Работники милиции, несмотря на поздний час, встретились с начальником отдела кадров научно-исследовательского института, где работает отец девочки. Что можно сказать о Юрии Семеновиче? Ничего плохого. Сотрудники его уважают. Инженер он опытный. Полностью сдал кандидатский минимум. Скоро будет защищать диссертацию. Есть ли у него друзья в институте? Есть.
В двенадцатом часу ночи позвонили одному из приятелей Юрия Семеновича.
— Что из милиции? Безобразие! Какая седая прядь? Кто вам дал право беспокоить ночью? — раздался ответ и в трубке послышались короткие гудки. Пришлось позвонить вторично, а затем еще раз, пока человек, наконец, поверил, что ему действительно звонят из милиции по очень важному, не терпевшему отлагательства делу.
— Вас интересует преподаватель английского языка? Знаю, что она работает в институте и помогала моему другу подготовиться к сдаче кандидатского минимума по английскому языку. А вот как звать и где живет — точно сказать затрудняюсь. Если не изменяет память, имя ее Валентина. У нее вроде бы седая прядь…
Вскоре удалось установить место работы и адрес этой женщины.
— Подсудимая! Кто-нибудь знал о ваших близких отношениях с отцом погибшей девочки? — спросил судья.
— Только сестра. А дети думали, что он приходит заниматься ко мне, что я ему даю уроки. Чтобы не мешать, сын всегда уходил из дома, а дочка была в садике, или я ее отводила к сестре.
Никто не догадывался, что Валентина живет второй жизнью, каждый раз с трепетом ожидая встречи с любимым, с нетерпением ждет от него писем, если он в командировке или с женой на курорте. Никто не мог предполагать и того, какие нежные письма пишет она и какие ответы приходят на эти письма…
Как-то, когда он успешно сдал кандидатский минимум, они поехали на озеро. Загорали, плавали, катались на лодке. А потом до рассвета сидели у костра. Сидели молча. Им было хорошо. В такие минуты не нужны слова.
Подбросив в костер хворосту, она мечтательно сказала:
— Вот так бы всю жизнь!..
— Можно бы и всю жизнь, если бы не Галочка. Ее я оставить не могу!..
Сказано это было так, между прочим, но ей запомнилось…
Потом в бессонные ночи ее сверлила мысль: «Если бы не Галочка…» Идя в институт, думала: «Если бы не Галочка…»
«Может, я схожу с ума? Может, необходимо обратиться к врачу? Невропатолог говорил, что надо подлечить нервы. Даже пошутил: «Бальзаковский возраст!» Посоветовал уметь владеть собой. Сказал, что человек сам может завести себя в такие дебри, из которых трудно выбраться…»
— Ты стал холодней ко мне! — все чаще упрекала она любовника. — Почему ты не разрешаешь проводить тебя в Киев до самолета? Ты боишься, да? Ты — эгоист! Думаешь только о себе, а не видишь, как я страдаю!
Он видел все, но не мог оставить семью. И не потому, что любил жену, а просто привык к уже заведенному ритму жизни, когда все идет ровно и спокойно, как часы. Ему казалось, что так будет продолжаться очень долго, без конца… И, конечно же, при этом не приходила мысль о трагической развязке. Боялся он и того, что разрыв с семьей повлияет на его будущее — приближалось время защиты диссертации.
…Суд приговорил Валентину Голенко к двенадцати годам лишения свободы.
«Доверенное лицо»
Заявление: «Прошу принять меры к розыску Мильтова Бориса Александровича. Он занял у меня 11 тысяч 700 рублей и скрылся». Далее следуют приметы и адрес…
Ответ судебного исполнителя: «…взыскать с Мильтова указанную сумму по свидетельству, выданному нотариальной конторой, не представляется возможным, так как должник по указанному адресу не проживает, хотя и прописан. Много лет он не работает. От органов следствия скрывается».
Дорого обставленная квартира несколько месяцев стояла на замке. Словоохотливая соседка охарактеризовала Бориса Александровича как «очень-очень солидного человека», который, как все ответственные работники, почти всегда в командировках, а дома бывает редко…»
У следователя же возник естественный вопрос: «Зачем нигде не работающему проходимцу дали в долг такую крупную сумму?»
— Но он был в кожаном пальто! На своих «Жигулях» привез меня к себе домой, а в квартире — шикарная мебель, цветной телевизор. Молодая жена с сыном лет семи, — рассказывал потерпевший. — Кто бы мог подумать, что такой солидный человек способен обвести вокруг пальца…
История весьма банальна. Купив за 13 тысяч в комиссионном магазине под Москвой автомашину «Волга ГАЗ-24», инженер-автогонщик Борис Иванович, живущий под Челябинском, вскоре понял, переплатил за нее — машина выпуска 1978 года оказалась с дефектами. Спустя год решил продать ее, для чего и подъехал к автомобильному магазину № 2 Челябинска. И тут же попал в поле зрения «солидного человека» в черном кожане. Это и был Борис Александрович Мильтов.
— Продаете?
— Да, хотел бы вернуть свои 13 тысяч…
— Мой родственник спит и видит «Волгу». С ходу заплатит 15 тысяч.
— Зачем мне пятнадцать? Я не спекулянт!
— Ну хорошо-хорошо, не волнуйся, — перешел на приятельский тон Мильтов. — Пусть тебе тринадцать, а мне всего две… Покупатель железный — когда скажешь, тогда к нему и поедем. А сейчас ставь машину на стоянку, покажу, где я живу, — предложил Мильтов.
…Поездка в райцентр к «родственнику» успехом не увенчалась, поскольку родственника не существовало. Но время поджимало, и хозяин машины согласился оформить в нотариальной конторе договор, по которому он передает Мильтову «Волгу» для продажи, а тот обязуется вернуть вырученные деньги. В нотариальной конторе, однако, разъяснили, что такие сделки оформлять не положено. Договор о займе — пожалуйста, можно. На том и порешили. Сошлись на сумме месячного займа — 11 700 рублей.
«Продавец» решил: не будет машины — вернут деньги по договору займа. Остальное известно: «доверенное лицо» исчезло, удивляясь доверчивости компаньона.
…Меж тем Мильтов добрался до одного из совхозов Кустанайской области, где нашел покупателя на «Волгу» — некоего Томаева. Сторговались на сумме 11 630 рублей. Оставался пустяк — оформить сделку. Покупатель отдал продавцу свой паспорт, а автомашину закрыл на три замка.
В Челябинске Мильтов с чужим паспортом и техническим паспортом машины привел в автомагазин № 2 случайного человека с базара, с которым сговорился за бутылку водки, и представил его как покупателя Томаева. Работники магазина вместе с директором даже не поинтересовались, где автомашина, за продажу которой взыскивается семь процентов комиссионных. Все оформили по бумагам и со слов «доверенного лица», в том числе и техническое состояние «Волги», и процент ее износа. Стоимость автомашины определили «с потолка» в девять тысяч рублей.
Так было заведено, и старший продавец, оформившая справку-счет на куплю-продажу, пояснила в суде: «Я смотрю только в паспорт, чтобы человек был похож. На остальное нет времени: у нас же уйма машин проходит. План товарооборота и премия зависят от семи процентов комиссионных…»
Немудрено, что в таких условиях жуликам и тунеядцам — раздолье. На суде выяснилось, что фигура Мильтова уже давненько примелькалась. Не раз он оформлял доверенности то на куплю-продажу автомашины, то на права их вождения. Но никому и в голову не пришло поинтересоваться сомнительной личностью. Вот и разъезжал Мильтов по городам и деревням страны, пока не закончил свои путешествия на скамье подсудимых в суде Советского района Челябинска.
Денег, полученных за автомашину с Томаева, у мошенника, конечно, не оказалось. «Украли, — беззастенчиво объяснил он суду. — Целый вечер пили коньяк, утром проснулся в степи — без гроша…»
…За мошенничество суд приговорил Мильтова к шести годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и возмещением ущерба потерпевшему инженеру-автогонщику.
Димкина беда
За окном шумел ветер. На соседнем балконе стучали о перила привязанные к санкам лыжные палки.
Ноет плечо, болят суставы ног. Лечь спать? Может, как в прошлую ночь, приснится Димка. Не тот, что стоял бритый перед судьями. А давнишний Димка, что, прибежав из школы, швырял портфель, хватал лыжи и до вечера уходил с мальчишками в лес. Возвращался румяный, весь в снегу, и еще с порога кричал:
— Батя! Есть давай! Мы сейчас с Витькой в кино пойдем.
— А уроки?
— Чего ты опять с уроками? Я в классе все запоминаю.
— А стихи?
— Перед сном выучу.
Вернувшись из кинотеатра, он дважды вслух прочел стихотворение и вытащил из-под подушки толстую потрепанную книгу.
— Думаешь, дам до утра читать?
— Да я только часик один почитаю, честное пионерское!
— Знаю я твой часик с гаком!
Иван Васильевич задергивает шторку на окне и гасит свет, ловя себя на том, что разговаривает сам с собой.
Нет сейчас с ним Димки. Только ветер шумит за окном, да стучат проклятые палки. Сколько раз просил Витькиного отца убрать их с балкона. Да этому пьянице хоть говори, хоть не говори. И сынок-дылда весь в отца.
Права была жена-покойница, когда даже на порог Витьку не пускала. А умерла — отбился Дима от рук. Особенно, когда в доме появилась мачеха.
— Уроки? Ты их сам учи с молодой женой, а мне они осточертели! Работать на завод с Витькой пойду, чтобы твой хлеб не есть!
— Тебя кто хлебом-то попрекает?
Не выдержал отец, схватился за ремень, а сын за дверь, да так ею хлопнул, что штукатурка полетела. Больше домой не появлялся.
А вскоре Димку и Витьку судили. Первого за убийство в драке, второго за изготовление финского ножа. Спрашивали на суде Ивана Васильевича, как сын дошел до такой жизни. Развел он руками: мол, ума не приложу.
На свидании наказывал строго-настрого:
— Работай получше! Зубоскаль поменьше! Чего ты на всех обозлился? Дома мачеха тебе мешала. Радуйся теперь! Ушла. Один как бобыль живу. Заболею — некому стакана воды подать.
— Сижу-то я за Витьку. Это он убил, а я лишь драку разнимал да его нож из раны вынул.
— Почему на суде об этом не сказал?
— Витьку пожалел. Он говорил: «Ты шкет. Тебе больше десятки не дадут, а меня могут в расход пустить!»
— Значит, пожалел?
— А ты бы нет?
— Нет!
— Рассказывай байки, батя! Знаю я тебя. Ты, наверное, о жёнушке молодой плачешь больше, чем о маме?
— О них не грех и поплакать. Обе они женщины хорошие были. Но об убийце плакать, да еще сидеть за него только дурак станет.
— Мы с ним на пересылке в одну камеру попали. Я его, подонка, пожалел: передачей поделился и свитер с себя снял. Он меня отблагодарил: спер мои шерстяные носки, которые еще мама вязала.
— Какой спрос с подлеца?! Друзья-то твои школьные, кто в институте учится, кто в армии служит, а двое в моем цеху работают — Петька-рыжий и Серега. Все о тебе спрашивают. Писали они письмо прокурору. Это, говорят, Витькина работа. Дима не мог убить.
— Неужели писали? А я на руке две пословицы латинские наколол: «Верный друг — редкая птица» и «Человек человеку — волк».
…Два месяца не писал отец сыну. Решил сам ходатайствовать за него. Несколько раз переписывал жалобу. Все казалось не так. Мучило, что не все сказал и не все знал по делу. Даже пожалел, что в свое время бросил учебу. Теперь бы вот как пригодилось. Тридцать лет кочегарил. У печи меньше потел, чем над жалобой. И все равно вроде бестолково получилось. Придя с работы, заглядывал в почтовый ящик — не пришел ли ответ… Наконец увидел долгожданный конверт. От волнения не сразу достал из кармана очки. Не сразу одел их — тряслись руки. Не сразу понял, что в жалобе отказали.
На следующий день отправился Иван Васильевич к адвокату. Понес приговор, адрес сына и адрес колонии, в которой отбывал наказание за новое преступление Витька. Очень просил:
— Поезжайте в Москву сами. Скажите там, что по глупости наговорил на себя сын. Лет-то ему всего шестнадцать было. Какой ум? Да и товарища решил спасти горе-герой… Тот нанес удар, сын лишь нож вынул.
Уходя, Иван Васильевич натянул на лоб шапку-ушанку, помялся немного и попросил:
— Если не затруднит, узнайте в Москве, пожалуйста, как можно свести с рук наколки.
…Прошло еще два месяца. Адвокат явно не торопился с поездкой. Изучал дело. Съездил к Димке. Разговаривал с начальником отряда колонии. Ждал-ждал отец — да не выдержал. Даже слова, которые скажет в коллегии адвокатов, придумал:
— Не пойму я вас, товарищ защитник! Если не хотите дело вести, скажите прямо. Я тогда сам поеду или к другому адвокату обращусь.
Но, придя в коллегию, не застал адвоката на месте. Сказали, что в суде выступает. Пришел второй раз — говорят, в прокуратуре. Ну, а когда в третий раз пришел и, наконец, застал его, все обидные слова забыл, тем более тот показал Димкино письмо, в котором подробно описывалось, как было дело, как возникла драка, как он разнимал дерущихся, как выдернул из раны потерпевшего нож, не предполагая, что это может вызвать большую потерю крови.
— Вот хорошо, что он прислал вам это письмо! — сказал Иван Васильевич, пряча очки в карман. — Мне на работе отпуск за два года дали. Ехать некуда. Может, вместе в Москву поедем, а? Либо поездом, либо самолетом.
— Хорошо! У меня билет в кармане. Покупайте для себя на утренний рейс. И завтра же успеем с вами в Верховный суд на прием!
Купив билет, отец собрал все письма сына. Может, пригодятся для дела. Особенно последнее, в котором обычно скупой на слова Дмитрий писал:
«Ты прав, батя, что злоба может завести человека далеко. Но уж очень сильно меня обидел Витька, ведь я за него не только свободы лишился, я готов был даже на смерть идти. Так я ему верил! Меня здесь допытывал адвокат, почему я взял вину на себя. Почему да почему? И сказал я ему то, в чем и себе признаться боялся. Рассказал, как лютой ненавистью ненавидел мачеху и решил тебе за нее отомстить. Пусть, думаю, не только я, но и отец мучается, раз на двадцатый день после смерти мамы привел в дом жёнушку. Все во мне тогда вскипело! Да разве может быть новая мама? Не судья я тебе, отец, да и ты часто повторял в те дни: «Яйца курицу не учат!». Но обида у меня была кровная.
До сих пор не могу простить тебе этого. Может, с годами смирюсь. А пока не могу. Только ты знай, что совесть моя перед людьми чиста. Вот перед защитником неудобно было — не знал, куда руки деть. По глупости разукрасил их латинскими пословицами. Мальчишество прошло, а наколки остались. Я постеснялся признаться, что изучил латынь в колонии. Не сказал, что десятый класс заканчиваю на одни пятерки и сапожное дело изучил. Неудобно было об этом говорить — еще подумает, что хвастаюсь».
* * *
В Москве адвокат остался по второму делу, а Иван Васильевич выехал в Челябинск. Не терпелось увидеть сына и сообщить ему о том, что дело затребовал сам председатель Верховного суда республики.
Вскоре освободили Димку из-под стражи. Подошел он к дому и удивился, какими высокими деревья стали. Взглянул на окно, завешенное пожелтевшими газетками, и через три ступеньки помчался на пятый этаж.
Неопознанный отец
Николай Семенович, как шахматный конь, всю жизнь ходил кривыми дорогами. Много ли, мало ли разбросал он детей по белому свету, только от первой жены росло у него шестеро детей. Как жили они, чем питались, во что были одеты-обуты на скромную пенсию матери, инвалида второй группы, он не ведал.
Однажды дошел до него слух, что года два-три назад умерла его жена. К тому времени он зарегистрировал новый брак и поселился у новой супруги, став ее постоянным иждивенцем. Работать теперь он уже не мог, а скромного стажа не хватало для пенсии.
Стал он разыскивать детей. Может, откликнутся, помогут престарелому отцу. Ведь не чужие они, а его плоть и кровь. Долго вспоминал, как звали дочерей. Нину и Тамару вспомнил, а от сына Анатолия узнал, что остальных зовут Вера, Мария и Людмила.
Но узнал об этом в суде Советского района Челябинска, когда рассматривали его исковое заявление о взыскании алиментов на содержание с сына Анатолия, старшего научного сотрудника одного из научно-исследовательских институтов. Ожидая суд, они сидели в коридоре друг против друга, не ведая, что в их жилах течет одна кровь.
Николай Семенович даже внимания не обратил на еще молодого модно одетого мужчину с дипломатом на коленях. Мало ли их, безбородых и бородатых, встречалось ему, исколесившему вдоль и поперек всю Россию. Сын же, видевший отца последний раз очень давно, даже не подумал, что старик с мешками под глазами и толстой палкой в руке мог быть его родителем. Когда их вызвали в судебный зал, ответчик долго рассматривал синюшный нос истца, заросшее лицо, но никак не мог опознать отца. И сказал суду:
— Я не знаю точно, он или не он. Может, он и мой отец, но опознать его не могу. Мой-то был высокий, в плечах шире, волос волнистый, и голос хриплым у моего не был.
— Годков-то немало прошло. Оба мы изменились. Я-то тебя тоже сопливым помню, а ты, на вот, теперь Франт Петушков стал, — отпарировал неопознанный отец.
— Прошу суд вызвать моих сестер: Нину, Тамару, Веру, Марию и Людмилу. Все они живут в Московской области. Может, они узнают, он это или не он. И прошу запросить детские дома и интернаты, где мы все воспитывались. Была у нас в Полетаевском интернате нянечка Евдокия Анисимовна. Она теперь на пенсии, но я знаю, где она живет. Может, она признает в этом человеке моего родителя.
Отложили суд, разыскали всех. И вот что сказали дочери.
Людмила: В восемь месяцев меня определили в дом малютки в Карабаше, потом перевели в Еманжелинский детский дом № 1. Отца я ни разу не видела. Возможно, это и мой отец, а точно не знаю. Видела его сестру — тетю Марию из Полетаева. Она мне сказала, что у него еще две жены и четверо детей. Живу я в Московской области. Живу хорошо, но ни одной копейки не дам на такого отца, если даже он мой родитель.
Нина: Отец постоянно пил, хулиганил, гонял мать, его не раз забирала милиция за такое поведение. Когда мы были еще маленькие и самой младшей сестренке было только шесть месяцев, отец бросил нас и ушел из семьи. Так как мама болела, нас всех шестерых направили в детский дом. Ни одного из нас он ни разу не навестил. Мы его не знаем и никакой связи с ним не имеем. Я не признаю его за отца. Старший брат Анатолий грузил вагоны, чтобы как-то прожить. Он работал, а вечерами учился в институте… Все мы вышли в люди, но в этом заслуга только государства.
Вера: Я в детском доме была с пяти лет. Отца не знала и не видела. И теперь не хочу о нем знать. Все детство я прождала его. Думала, он навестит меня, пусть даже не принесет гостинцев, но хоть на руки посадит, дочкой назовет… Ничего у меня нет для этого человека — ни любви, ни жалости, и даже ненависти нет. Чужой он мне человек.
Примерно то же самое сказали Тамара и Мария.
По своей инициативе суд истребовал и огласил документы из детских домов и интернатов и вынес такое решение:
«Истец, когда был здоровым и трудоспособным, в воспитании и материальном содержании детей не участвовал и уклонялся от уплаты алиментов, а поэтому не приобрел права на взыскание средств на содержание со своих шестерых детей. В иске ему отказать».
Куда только не подавал жалобы неопознанный отец, но решение народного суда все инстанции признали правильным…
Прошло два года. Я почти забыла об этой истории, но совсем недавно из далекого города мне пришло письмо от одной из дочерей истца. Женщина писала: мучает ее совесть, что не согласилась платить по десять рублей.
«Живу обеспеченно, все у меня есть. Чужим людям даю больше. Очень прошу разыскать истца и сообщить его адрес».
Разыскала я квартиру на улице Курчатова в Челябинске. Постучала в дверь, надеясь встретить старика с мешками под глазами и большой палкой в руке, но дверь мне открыла еще шустрая женщина, последняя жена его. Она мне и рассказала, что умер ее муж и что никто из десяти детей от двух прежних жен не приехал его хоронить.
…Прожил человек жизнь, походил по ней кривыми дорогами, украл детство у своих детей и себя обворовал.
Здравствуйте, я Куку!
Дверь правления колхоза шумно отворилась, и в комнату ввалились два молодца.
— Здравствуйте, я Куку! — представился один из них. — Кто хозяин? Ты хозяин? Какой ты хозяин, когда вон три кучи борон ржавеют?
Поскольку на представителей народного контроля гости не походили, заместитель председателя колхоза не растерялся:
— Паспорта есть?
— Тебе что, паспорта нужны или бороны? — обиделся один из пришельцев. — Если бороны, то по рукам. Наш ремонт — твой рупь двадцать за штуку. Бригадой мы мигом сделаем.
— Без договора — ни копейки! — отрубил бухгалтер колхоза.
— Зачем без договора? Только с договором! — поддержал финансиста Куку, доставая из фуражки два стареньких паспорта.
С трудом разобрали, что старший Плешков, а у второго фамилия действительно Куку… Составили договор на ремонт борон, и никому в голову не пришло составить дефектную ведомость, чтобы точно было известно, сколько борон надо отремонтировать и какой ремонт требуется.
Не прошло и десяти дней, как все 682 бороны вышли из ремонта.
— Хозяин, принимай работу! Назначай комиссию! Акты уже составлены, — постучал в окно правления Куку, протягивая листы исписанной крупными неровными буквами бумаги.
Назначили комиссию. Председатель — главный агроном, члены — главный инженер, механик, три бригадира и три их помощника. Пересчитали количество борон и, не глядя, подмахнули росписи под длинной помятой бумагой, именуемой актом.
Главбух колхоза схватился за голову, когда ему поднесли ведомости для оплаты:
— Ведь я своими глазами видел, что работало не больше десяти человек, а в ведомости значится сто двадцать три. Не буду платить!..
Тогда Плешков с Куку стеной пошли на зампредседателя:
— Договор подписывал?
— Вы же говорили, по рубль двадцать за борону, а требуете почти по тринадцать рублей! — возмутился тот.
— Что мы говорили — никто не услышит, а что ты подписал — любой грамотный увидит! — резонно заметили члены бригады Куку.
Потом на вопрос суда, как он, руководитель колхоза, подписал платежную ведомость на зарплату, в которую были включены даже грудные дети, заместитель председателя колхоза только руками развел:
— Какое-то затмение нашло. Подумал, не подпишу — так цыганский табор, который расположился за деревней, не только правление разнесет, но и колхозный табун угонит.
Экспертиза показала, что от деятельности Куку и его компании колхозу причинен значительный ущерб. При стоимости бороны в 4 рубля 73 копейки за ремонт было выплачено по 12 рублей 83 копейки за штуку. Всего «бригада» положила в карман 11 471 рубль.
Оказалось, что записанный в ведомость грудной ребенок того же Куку «заработал» за десять дней больше, чем иной профессор за месяц.
Вот и вся история. Может, и не стоило бы о ней писать. Но подумалось, а вдруг и сейчас где-нибудь в правлении колхоза с шумом раскроются двери и прозвучит знакомое:
— Здравствуйте, я Куку…
Ведь растяп на его век у нас еще с избытком.
Возмездие
Вначале они разводились. Он просил народный суд расторгнуть брак с женой, так как она встречается с другим, а дочку Ниночку, двух лет, передать ему. У него порядочная мать, хорошие характеристики с работы и из вечернего института, и он, конечно, лучше воспитает дочь.
Что можно ждать от женщины, которая в своем письме к подруге пишет, что тогда, когда муж с подарками ждал ее 8 марта дома, она «напилась вусмерть, танцевала до утра, а потом целовалась и где бы ты думала? В стенном шкафу. Знаешь, милая, везде меня целовали: и на балконе, и на лестнице, и в парке, и в саду, но чтобы в шкафу… Ха-ха-ха! Вот такого еще не было!»
Муж подруги прислал это письмо ему и красным карандашом наложил резолюцию: «Неужели и такое простишь, олень северный?»
После очередного скандала решили разойтись.
— Возьми машину, все вещи возьми, только оставь мне Ниночку! — говорил он уже охрипшим голосом.
— Никогда!
— Ты же молодая, и у тебя еще будут дети, а я уже больше не женюсь. Хватит, обжегся. Ты же знаешь, что у нас все в роду однолюбы.
— А я тут при чем! Претензии предъявляй к своим предкам. И не ори так громко! Опять ребенка разбудишь.
— Завтра я иду в суд.
— Зачем завтра? Можешь даже сегодня. Я не буду возражать против развода. Такой муж, как ты, — не большая ценность!
— А чем я хуже других?
— А чем лучше? Днем у тебя работа, вечером — институт, в воскресенье ты пишешь контрольные, а я сижу с твоей мамой дома. Я за нее или за тебя замуж выходила? Тебе-то что? А мне двадцать три года. Я хочу жить! Хочу на каток, в компанию, на танцы, ну просто хочу сходить в кино… Имею я на это право или нет? Я тебя спрашиваю? — сжала она кулаки.
Мужа передернуло от ее перекошенных глаз. Впервые пожалел, что не курит. Хлопнув дверью, он вышел в сени в одной майке. Сразу продрог, а возвращаться не хотел. Мать вынесла теплый пиджак.
— Накинь, Сереженька, а то опять воспаление легких схватишь!
— Иди, мама, спи! Я сейчас…
…В суде их примирили. Когда же Сергей узнал, что в отпуск она поехала с Рустамом, с которым встречалась, то решил разойтись окончательно.
— Нечего людей смешить! Любишь его — уходи к нему! — кричал он вне себя, выбрасывая чемоданы и вещи в прихожую.
…Прошел месяц, за ним другой. Раз двадцать подходил Сергей к дому родителей жены. Хотелось узнать: у них ли живет его супруга или к Рустаму ушла. Да и о Ниночке соскучился. Купил дочке сандалики и плитку шоколада. Опять пошел. Постоял у калитки, войти не решился. Еле-еле повернул домой. Хоть бы уснуть… Раньше времени не было на сон: только коснется голова подушки — и сразу как проваливается в бездну, утром жена добудиться не могла. А теперь за всю ночь хоть бы на часок сомкнул глаза.
На работе ругали его:
— Да ты что? Свет, что ли, клином сошелся на твоей вертихвостке? Ты моли бога, что отделался от нее легко. Горе-то не у тебя, что она ушла, а горе тому, к которому пришла. Месяц-другой — и ему рога наставит.
— Не наставит… Она его любит! — заступился Сергей за жену.
— Сергей Иванович! — крикнула секретарша. — Вас к телефону!
Сердце у него забилось. Может, она… Звонила не она, а ее отец:
— Сергей! Ты что на меня, дружок, сердишься, что ли? Почему не заходишь? Давай в выходной на зайца сходим, а?
— Можно, да вот только ружье барахлит.
— А ты приноси, я посмотрю, и в субботу мы с тобой пару зайчишек Ниночке на дошку принесем. Она о тебе соскучилась. Как только дверью стукнут, со всего духа бежит: «Папа плисол! Плисол папа!» Приходи, ладно!
— Ладно, если выберусь, — пообещал Сергей.
Он подошел к чертежной доске, присел. Уставился в одну точку, да так и просидел до конца рабочего дня. Медленно убрал чертеж. Закрыл шкаф. Отдал ключ от кабинета уборщице тете Нюре и пошел домой. Заниматься в институте уже не было сил.
Мать встретила новостью:
— Любкина мать приходила. Выпивши немножко. Говорит, почему Сергей не приходит. Ниночка-то тоскует так, что сердце разрывается. Только и разговора: «Где папа? А баба та, моя баба, где?»
— А ты ей что сказала?
— Сказала, чтобы трезвой приходила.
— Зачем так резко? Она-то в чем виновата?
— А у тебя все не виноваты! Давай, беги снова! Обрадовался, что позвали… Ты ведь не волчица, чтобы тебя ребенком приманивать.
Ночью побрел Сергей к Любиному дому, заглянул в окно. Люба в одной сорочке накручивала бигуди. В трусах и майке, мурлыча что-то под нос, с одеялом в руках прошел из одной комнаты в другую Рустам.
В голове застучало… Как открыл дверь, как произвел один за другим три выстрела из охотничьего ружья — не помнит. Даже последнего крика жены не слышал. Опомнился на полу, закрученный в одеяло.
…А потом был суд и — лагерь за колючей проволокой. Очень боялся сойти с ума. Лучше бы расстреляли, чем эти давящие на голову думы, чем бессонные ночи и редкие тяжелые сны. Стоит закрыть глаза, как приходит она, Любка, не та, что ругалась с ним до исступления по ночам, а та, что сидела в последний вечер своей жизни с другим. Сидела такая счастливая, а то накручивала бигуди в одной сорочке, что он привез ей, когда в последний раз ездил в командировку в Москву. И дочка снилась, как он ее на руках нес из родильного дома. Люба потом еще упрекала:
— Жмот! Не мог на такси приехать.
Тогда они еще на очереди стояли за машиной «Москвич».
Прошло шесть лет. Он вернулся домой. Глазам не поверил, какой в Челябинске выстроен вокзал, Дворец спорта, бассейн. А рядом с их полуразвалившимся домом стоял девятиэтажный. Еще незаселенный, но готовый встретить жильцов.
— Такой город стал, что и уезжать жалко! — вздохнул Сергей.
— Что ты, Сереженька, куда же мы поедем отсюда! — запричитала мать, гладя седую голову сына. — Здесь могила отца, да и с завода уже два раза приходили, о тебе спрашивали. Говорят, возьмут тебя снова в конструкторский отдел, только пониже должность дадут. Да уж, бог с ними, лишь бы взяли… И дом наш снесут, а квартиру мне обещали в этом доме. Только вот я не соглашаюсь на девятый этаж, хоть и лифт будет работать. С такой-то высоты голова закружится в окно смотреть. Привычная я к земле.
— А как в глаза людям смотреть буду? Вдруг встречу дочь?
— Ну, что теперь-то об этом думать? Раньше надо было. Машину ты сватам отдал, алименты с тебя все эти годы взыскивали…
— Эх, мама, разве в этом дело? А ты дочку-то видела? Большая, наверно, стала, в третьем классе…
— В четвертом уже. Когда выборы были, я в ее школу заходила, с учительницей разговаривала. Ничего, говорит, хорошая девочка растет. Думает, что дед с бабкой — родители.
— Я ей каждый праздник открытку посылал. Только не подписывался никак. Больше всего на свете боюсь разговора с ней. Что могу сказать? Если узнает, то с ненавистью будет смотреть… Хоть бы одним глазком на нее взглянуть, только чтобы она не знала.
…Давно переехали они на девятый этаж. Давно работает он на другом заводе. А нет-нет, его можно встретить возле школы. Зайти не решается. Раздался
звонок. Замерло сердце. Выскочили мальчишки с портфелями. За ними девочки с косичками, с бантиками, а среди них, наверно, и она, Ниночка. Если б она была похожа на мать, он бы сразу узнал. Мать-то красивая была, черноглазая, брови — вразлет. А ведь когда он Ниночку еще на руках носил, все говорили: «Вылитая отец — дочка!»
Фамильная честь
После допроса Юрия отвезли в следственный изолятор. Объяснили правила режима: это нельзя, этого тоже нельзя… Его душили слезы. Дожил! Такого унижения он никогда не испытывал.
Отец, капитан дальнего плавания, твердил ему: «Главное — фамильную честь высоко неси! Никому не давай ее пачкать!»
Ему вдруг вспомнился их дом в приморском городе, уютная четырехкомнатная квартира. Вся стена его комнаты была увешана грамотами — за учебу, за спорт. Семнадцать штук — в одинаковых изящных рамочках, а в центре — Почетная грамота за первое место в конкурсе. За эту награду отец привез ему из Японии магнитофон и фотоаппарат. Преподнес неожиданно для всех в день Юриного семнадцатилетия, когда гости сели за стол. Только мать все испортила. С грустной улыбкой покачала головой:
— А не рано ли, отец, такие дорогие подарки дарить? Без того слишком нос задирает перед товарищами — все у него «серости» да «тупицы»… Зазнается Юрка совсем…
Его словно кипятком ошпарило. При гостях! В день рождения! Он выбежал из комнаты: «Не надо мне ничего! Будет попрекать каждый день…»
Отец вернул именинника за стол и, жестко поглядев на мать, сказал веско и отчетливо, обращаясь к гостям:
— Рос я безотцовщиной. Отец с фронта не вернулся. Страшно завидовал тем, у кого отцы были. Вот и хочу, чтобы сыновья мои чувствовали, что такое родитель. Тем более дома редко бываю. А что касается «тупиц» и «серостей», — он опять строго взглянул на жену, — к сожалению, их немало вокруг нас. Что же, перед каждым шапку ломать? Не-е-ет, мать! — снисходительно-ласково обнял он ее. — Что ни говори, а сын у нас — голова.
«Что же было потом, после дня рождения?» — вспоминал Юрий.
На следующий вечер по телевизору транслировали футбол.
— Завтра рано всем вставать, а у брата еще и сочинение…
— Ну и пусть себе спит, — огрызнулся на мать Юрка.
— Пусть Юрий смотрит! Он же спортсмен, ему это надо, — заступился отец.
Мать сорвалась:
— Делайте что хотите! Надоел мне этот вундеркинд до чертиков! Стыдно в школу показываться…
Телевизор все-таки выключили. Обиженный и злой, Юрий уткнулся головой в подушку, но в приоткрытую дверь из соседней комнаты доносились обрывки фраз. Мать, время от времени всхлипывая, стучала пузырьком о стакан: капала свой корвалол… Юрий догадывался: рассказывала отцу о конфликте, который произошел у него в спортивной школе. При первом же поражении хоккейной команды он, ведущий игрок, центр нападения, заявил при всех, что не намерен больше играть с этими «бездарями». Тренер, много лет гордившийся своим воспитанником, перворазрядником, кандидатом в мастера, молча подошел и дал ему пощечину…
Тренеру предложили уйти «по собственному желанию». Он подал заявление, а в ответ ребята на общем собрании заявили, что не желают быть в одной спортивной школе с неблагодарным зазнайкой и эгоистом. Напомнили Юрию все. И как оскорбил капитана команды, и как однажды, сославшись на занятость, не явился на ответственную игру, поставив под удар команду. И как советовал тренеру не принимать в секцию двух мальчишек, сказав в их присутствии: «Спорту нужны личности, а не серые середнячки».
Обо всем ребята и напомнили Юрию на своем собрании — без тренера. Юрия раздражала их прямота: «Завидуют моему таланту, вот и выживают! Поглядим, как без меня обойдутся…» А мать? Ну надо же такое сказать? Ты, говорит, должен попросить прощение и у ребят, и у тренера. Признать свои ошибки… Какие ошибки? Унижаться перед ними? Ни за что!
Так и сказал матери. Она пристально и долго смотрела в глаза сына и медленно произнесла:
— А ведь из тебя отпетый негодяй может получиться. И как отец этого не поймет?
Юрий вспыхнул, оскорбленный до глубины души, и тогда с жестокой холодностью с языка соскользнула фраза, услышанная или вычитанная им где-то:
— Дети — это сберкнижка: что положишь, то и возьмешь!
Он не знает, чем в тот вечер закончился разговор родителей. Не слышал, как отец уехал в порт — его теплоход уходил в очередное плавание. Сейчас, в камере следственного изолятора, забываясь временами тревожным сном, представил, как мать прочитала записку:
«Ты сказала, что этот «вундеркинд» надоел тебе до чертиков. Я освобождаю тебя от обузы. Проживу один. Двадцать рублей верну из первой зарплаты».
Одному прожить оказалось под силу лишь несколько дней. Маршрут он продумал заранее: к бабушке в Крым, где не раз гостил в летние каникулы. Денег хватило только до Челябинска. А здесь, оставшись без копейки, впервые голодным и одиноким, он, «талантливый» ученик, «золотые руки», «восходящая звезда» на спортивном небосклоне, забыв про фамильную честь, опустился до грабежа: выхватывал в подъездах сумки у женщин. Главным образом, у пожилых. Такие не догонят…
Уже на суде он узнал, что мать попала в больницу с инфарктом. На суд приехали отец и классный руководитель Зинаида Сергеевна — с письмами. Одно — от комсомольцев школы, другое — от ребят и бывшего спортивного тренера. Судья зачитывал письма, а по щекам Юрия текли слезы. Авторы осуждали его за преступление, за самонадеянность и зазнайство, оскорбительное пренебрежение к окружающим. В то же время самокритично сознавали, что, может быть, и они погорячились, потребовав исключить его из спортивной школы. И с верой в доброе начало Юркиной души просили не лишать его свободы.
Зинаида Сергеевна сказала на суде:
— Ученик — из числа первых. Это бесспорно. Но вот что настораживает. За все годы учебы у него никогда не было близких друзей. Даже из числа тех, кому он постоянно давал списывать. Проглядели мы парня! У нас, учителей, все внимание двоечникам да неблагополучным семьям. А тем временем вполне благополучный Юрин папа воспитывал из своего сына черствого, самовлюбленного эгоиста.
Сидевший на передней скамье в морской форме человек резко повернулся в сторону учительницы, в глазах его мелькнуло недоумение, потом лицо покрылось красными пятнами. Помог судья:
— Вы не согласны? Хотите что-то сказать?
Отец встал, не похожий на себя, ссутулившийся, произнес с горечью и обидой:
— За что ты, сын, опозорил мою фамилию?!
Его и тут волновала лишь «фамильная честь», выставленная сейчас на всеобщий позор.
Приговорили Юрия к трем годам лишения свободы, но условно, с испытательным сроком. Теперь все будет зависеть от него самого: поймет ли он, что нести высоко фамильную честь — это значит служить честно людям, согревать их добротой своей души.
Семейная ошибка
В камере следственного изолятора ее невзлюбили сразу. Все были стриженые, а она — с косой. Дернули — думали, приплетенная, а Танзиля повернулась и дала по рукам.
— Ух ты, принцесса на горошинке! Даже потрогать нельзя! — фыркнула бойкущая девчонка с наколкой на руке. «Люблю Колю», — прочитала про себя Танзиля и отвернулась к стене. Больше к ней вроде бы не подходили, но утром она проснулась без косы. Кто отрезал ее, чем и когда — никто «не знал» и «не ведал».
Она пыталась сдержать слезы. Стиснула зубы, чтобы не закричать от обиды, но жаловаться не стала. Что от них ждать? Синявки…
На суд она пришла с коротеньким, перевязанным тряпочкой хвостиком.
Увидя ее, мать крикнула:
— Коса?! Где коса?
Больше ничего не успела сказать, так как секретарь судебного заседания громко сказал:
— Встать! Суд идет!
Всех свидетелей и даже отца подсудимой удалили из зала, а мать оставили, назвав ее представителем несовершеннолетней дочери. Оставили в зале и потерпевшую, учащуюся техникума из Свердловска.
Все было для Танзили как во сне. Она не успевала вставать и садиться. Ее спрашивали, доверяет ли она суду и есть ли у нее ходатайство. Что означало это слово «ходатайство», она не совсем понимала, но на всякий случай сказала, что ничего у нее нет.
Наконец судья начал читать обвинительное заключение о том, как 31 августа, находясь на втором этаже вокзала станции Челябинск, она познакомилась с девушкой из Свердловска и, войдя к ней в доверие, похитила чемодан с вещами и сетку с продуктами на сумму триста рублей, о том, что в тот же день была задержана спящей на вокзале, в юбке и кофточке, принадлежащей потерпевшей.
Она слушала и смотрела на мать. Никогда та не носила черных косынок, а тут, как на похороны, явилась в трауре. Вся в черном. Худая, бледная и какая-то совсем-совсем чужая, она смотрела в рот судьи, боясь пропустить хоть одно слово.
Танзиле на какой-то миг стало жаль мать, но вдруг она снова вспомнила ее перекошенное гневом лицо, когда та била ее веревкой, била, не жалея сил. Даже на плече след от побоев остался — темная полоса.
Об этом она, Танзиля, суду, конечно, не скажет, но и матери не простит… Как тогда мать добивалась, чтобы она хоть слезу выронила, прощения попросила или, наконец, убежала от побоев. Не дождалась и в бессильном гневе пошла на завод. В тот день работала она во вторую смену.
Отец не бил, но грыз поедом:
— Зачем бросила техникум? Люди попасть не могут! Ну что ж, что завал по физике? Можно было пересдать!
И снова одно и то же… одно и то же…
«Скорее бы получить паспорт и уйти куда глаза глядят из этого ада!» — думала она тогда. Слепые родители! Ну, зачем ей пересдавать физику, которую она терпеть не может, и зачем учиться в техникуме, где ей совсем неинтересно? Вот работать воспитательницей в детсад она бы пошла. Стала бы водить детишек на прогулку гуськом, по двое за ручку, стала бы им рассказывать сказки, украшать елку. И делала бы им праздник. И самой было бы радостно. А тут учи про физический маятник, амплитуду колебаний — скука! Это же они, родители, выбрали для нее техникум, а ей хотелось в педагогическое училище. Смешно вспоминать, как она рвалась домой из общежития на воскресенья. Мать всегда, бывало, состряпает ее любимые шанежки, а из подвала достанет кринку холодного молока. Любимое блюдо — румяная пышная шанежка с молоком.
— Мечта поэта! — говорила Танзиля и целовала мать в щеку.
Когда это было? Казалось, давным-давно…
А в день получения паспорта она вымыла полы в доме, ножом добела выскребла крыльцо, постелила половичок домотканый и в чем была уехала из дома с бутылкой из-под шампанского, полностью набитой десятикопеечными монетками. Их она копила больше двух лет.
У старушки сняла угол за двадцать рублей в месяц без прописки, а на работу устроиться не смогла. Работы было много, но везде требовали паспорт с пропиской да еще трудовую книжку. Утром все соседи — на работу, а она — в кино да в столовую… Слонялась по городу, где до нее никому не было дела. Хозяйка квартиры стала подозрительно поглядывать на нее и все на ключ запирать: ящики комода, старый сундук.
И тогда ушла Танзиля ночевать на вокзал, где и совершила кражу.
— Это все случилось из-за техникума! — начал давать показания отец.
— При чем здесь техникум? — спросил свидетеля судья.
— Как же при чем? Она не любила физику, не хотела учиться в техническом…
— Не любила физику, так что, воровать надо? — возмутился судья.
— Она хотела работать воспитательницей! — пояснила мать с места.
Судья сделал ей замечание и предупредил, что за нарушение порядка процесса она будет удалена из зала.
Мать замолчала.
Суд вынес приговор: направить Танзилю в колонию для несовершеннолетних сроком на два года. Областной суд предоставил осужденной отсрочку исполнения приговора. Кассационную жалобу Танзиля прислала, исписав крупным почерком целую ученическую тетрадь. Просила поверить ей, что исправится.
Сейчас она ходит вместе с матерью на завод. Учится работать у станка и твердо верит, что поседевшая в последнее время мать больше никогда не поднимет на нее руку, а отец не упрекнет за прошлое. Дорогой ценой заплатила семья за свою ошибку.
Ехал солдат домой
Тяжело шоферу на дорогах Тянь-Шаня. Непросто взять подъем или преодолеть крутой спуск. Но не это волновало солдата. Если б генерал узнал о прошлом своего шофера, то, наверное, ездить бы с ним не стал. Родителям и особенно брату Борису Николай строго-настрого наказал никому не давать его адрес. Уж очень дорого ему было доверие человека, прошедшего фронтовыми дорогами от Москвы до Берлина, доверие военачальника — одним словом, их генерала.
Дорожил он и службой в рядах Советской Армии. Помнил все время, как не хотели призывать его в армию. Райвоенком прямо сказал:
— Служба — почетная обязанность, а ты имеешь судимость… Ну и что — наказание условно?..
Дело дошло до областного военкомата. Трижды сам Николай приходил — не помогло. Многие просили за него. Даже бабушка, старая учительница, пошла к военкому. О чем говорила она — никто не скажет. Может быть, рассказала, каким невозможным был один из ее учеников, сколько перетерпела она от него, а теперь вот живет на улице, носящей имя этого Жени, геройски погибшего на фронте. Наверное, рассказала, что в ее квартире рядом с портретом погибшего сына висит портрет этого ученика в летной форме. Он погиб 17 января 1943 года, а фотокарточку прислал своей учительнице незадолго до гибели. Она всегда повторяла, что за человека надо бороться, так как дороже человека нет ничего.
Вот и внук Коля запутался, заврался. Родителям говорил, что пошел ночевать к бабушке, а сам — кражи совершал. Но ведь это от мальчишеской несерьезности, у него есть и хорошие задатки.
…Звонили телефоны на столе военкома, в приемной ждали люди. Какой-то молодой лейтенант проворчал: «Ходят тут всякие, мешают работать. Сидели бы дома. Из-за такой вот бабули машина простаивает».
Спокойно ждал своей очереди немолодой капитан. У него тоже было важное дело, но он считал, что если облвоенком долго и внимательно слушает, — значит, дело говорит эта женщина. Спешим, торопимся — всем некогда. А ведь человека тоже выслушать надо, пусть он откроет душу. Не каждый день кричат о помощи. Вот и бабушка, может, ночь не спала, чтобы решиться отнять время у такого занятого человека, а тут говорят: машина ждет, простаивает… Ничего, пусть подождет машина!
…С тех пор прошло два года. За несколько минут до отхода поезда демобилизованный солдат увидел идущего по перрону генерала. По привычке вытянулся в струнку:
— Разрешите обратиться, товарищ генерал! Я что-нибудь забыл сделать?
— Все нормально, Николай, просто пришел проститься с тобой. Спасибо сказать за верную службу, за старание, за то, что всегда был на высоте… А что, у брата твоего, Бориса, тоже испытательный срок?
— Так вы о нас все знали?
— Знал! Только ждал, когда ты сам мне расскажешь про свой «остров сокровищ».
— Стыдно было, товарищ генерал!.. И боялся, что откажетесь от меня.
— Ну, боялся напрасно, а вот что стыдно — это уже хорошо! Очень прошу: не осрами нашу честь. И брат твой пусть тоже к нам просится…
Поезд тронулся. Застучали колеса. Николай вскочил на подножку предпоследнего вагона, успев крикнуть:
— Спасибо!
…Стучат колеса: «ку-да-ты, ку-да-ты?..»
Едет солдат домой на Урал, где его ждут родители, бабушка и Борька, с которым когда-то они выдумали в подвале соседнего дома открыть «остров сокровищ». Чего только потом не нашла милиция на этом «острове»!.. Были там и краденые велосипеды, и старые ружья, даже порох был. Попади нечаянно спичка — и взлетел бы дом на воздух. Теперь-то ему, взрослому человеку, все ясно, а несколько лет назад, когда «ветер гулял в голове», все казалось просто интересным. Не думали, что могли и сами погибнуть. Спокойненько сидели на ящике с порохом, покуривали потихонечку, обдумывая, где бы украсть хорошее ружье и отправиться на охоту.
На этом же ящике, при свете карманного фонаря Колька заполнял дневник:
«Операция № 1. Началась в 9.00. Изъяли порох и гильзы у отца. Операция прошла благополучно. Все изъятое хранится на «острове сокровищ»… Операция № 3. Начало в 2.30. Не удалась. Погнался мужик. Еле смылись».
Дневник хранится в качестве вещественного доказательства в уголовном деле…
А началось его падение совсем по-глупому, даже стыдно вспоминать. Но… слов из песни не выбросишь. Училась в его классе девчонка, красивая и гордая. После занятий спешила в музыкальную школу, потом на уроки фигурного катания, и не оставалось у нее времени даже взглянуть по-доброму на Кольку. Чего только он ни делал, чтобы обратить ее внимание. Как-то во время контрольной даже отрезал у нее косу. Страдать так страдать! Пусть выгонят его из школы, но она узнает: из-за нее все!
Но Галка дома не сказала о его поступке, а сделала модную стрижку и стала еще красивее. И Николай решился на последний шаг: он наврет на себя, его посадят в тюрьму. Будет суд. Он в последнем слове гордо скажет: «Каждый должен получить по заслугам. Я прошу строго наказать меня и не хочу снисхождения».
Решено — сделано. Узнав, что на стройке рядом с домом кто-то поранил сторожа, он закрылся в своей комнате и, делая вид, что готовит уроки, сочинил письмо:
«Товарищ прокурор! На стройке выключил свет я и порезал сторожа тоже я. Прошу оформить явку с повинной. Вы, наверное, думаете, что я выгораживаю Юрку, а я думаю так: каждый должен получить по заслугам».
Написал он и второе письмо — Гале. Пришлось переписывать дважды: до того было жалко себя, не мог удержать слез. Особенно его разжалобили слова:
«Да, недолго мне осталось гулять на свободе. Ведь когда ты уходишь, закатывается для меня солнце».
Не вышло «пострадать» — разобрались, установили, что оговорил себя. Только Николай уж не остановился, «острову сокровищ» требовалось пополнение — и он украл велосипед…
Он многое понял тогда, на суде. Но больше всего задуматься заставила борьба за его дальнейшую судьбу, которую вели незнакомые раньше люди: следователь, судья, адвокат, сотрудники милиции. Наказание ему дали условно, и он сделал все, чтобы не подвести тех, кто поверил в него.
…Ну что за характер у этой Галочки?! После суда стала еще презрительней смотреть на него. И от этого взгляда просыпался он в холодном поту даже тогда, когда был солдатом. Борис писал, что учится теперь она в консерватории, будет скрипачкой. Фотографию Николая брать отказалась, но долго-долго смотрела на нее и сказала Борису: «Красивый стал твой брат! Военная форма очень идет ему».
Это письмо, зачитанное чуть ли не до дыр, до сих пор в кармане солдатской гимнастерки. Втайне хранит он желание показаться Галине в форме со всеми значками. Может, увидит его настоящим солдатом и сыграет для него на скрипке вальс Штрауса. И польется эта красивая мелодия для него, Николая.
За каменной стеной
— Свидетель Бобнев Сергей, сколько вам лет?
Сережа съежился. Его еще никогда не называли на «вы». Посмотрел в зал клуба, где почти не было свободных мест, стушевался и каким-то чужим голосом ответил:
— Четырнадцать.
Потом спрашивали еще о чем-то, а он отвечал, смотрел то на судью, то на отца, по обе стороны которого сидели два милиционера.
…Бил ли отец мать? Еще как! Заставлял ее или нет вставать на колени перед ним и произносить клятву? А то нет?.. Видел ли на лице матери синяки? Синяки-то что? Посчитали бы рубцы на спине, сколько их было, когда папка лопатой дрался!
— Подсудимый Бобнев, у вас есть вопросы к сыну? — спросил судья.
— Есть!.. Скажи-ка, сынок, сколько у тебя двоек было?
— Были двойки, а теперь, как тебя забрали, даже четверки появились!
— А почему при мне плохо учился?
Правое веко мальчишки дернулось. Он волчонком взглянул на отца:
— По ночам гонял нас из дома, какая там учеба! Без тебя у нас, как в раю.
Потом Сереже велели идти в школу. Седьмой класс — не шутка. Пропускать уроки нельзя.
Сережина сестра Галя старше его лишь на два года, а выглядит совсем девушкой. Только платье, из которого она выросла, да некоторая угловатость говорили, что свидетельница — девочка.
Она волнуется тоже. На отца старается не глядеть. Он сегодня жалкий какой-то. Бритый. Ростом вроде меньше стал. И лицо все в красных пятнах.
Таким ей не приходилось его видеть. Ей знакомо перекошенное лицо отца, когда глаза налиты кровью. В минуты ссор лучше не попадаться ему на глаза. Ни с того ни с сего молоток схватит или что другое под руку попадет. Ей-то что? Она ловкая. Кофтенку в руки — и поминай как звали! К соседям ночевать убежит, а вот матери стоит замешкаться — чем попало достанется. Один раз он при соседке в мать утюг бросил. Хорошо, в тот раз не попал, а вот двадцать восьмого декабря…
Лучше не вспоминать этот день… Она, конечно, может рассказать, если судьи про этот день спрашивают…
Утром собралась в училище. Голова сильно болела, так как отец всю ночь спать никому не давал. А утром с похмелья за матерью с молотком погнался.
— Батя! Ты же ее убьешь!
— Ты мне еще поори! — прицыкнул отец, не выпуская молотка из рук.
На улице ее догнала мать:
— Не уходила бы ты, дочка, боюсь я с ним оставаться…
Ей бы не пойти, может, не было бы беды, а она со зла брякнула матери:
— Надоел мне этот проклятый дом! Кончу училище — дня в нем не буду жить!
А когда вернулась, застала всю комнату в крови: и кровать, и пол… Жена брата Галина сообщила, что мать с проломленной головой увезли на «скорой». Сказали, что ее жизнь в опасности.
Потом они стояли под окнами больницы. Спрашивали у медсестер, есть ли надежда? Вернулись домой поздно. Со слезами смывали кровь с пола.
— Барана зарезал! — острил отец. — Пусть еще скажет спасибо, что «скорую» вызвал, а то бы одела белые тапочки.
Умелые руки хирурга сделали свое. Через два месяца еще одна операция, и в апреле мать выписали.
— В милицию заявишь — вторую заплату на голове сделаю и всех порешу, чтобы не было в доме ни галок, ни ворон! — грозил отец.
А как-то вошел в раж, так и сноху избил. Свалил с ног, пинал. Проснулся внук, закричал:
— Мама! Ма-ма!
Простили и это. А он с каждым днем все хуже и хуже. Теперь уж всем грозить стал:
— Заплаты на голову поставлю! Убью! Зарежу! Выгоню!
Оставаться в доме стало страшно, и только тогда мать пошла в милицию.
Девочка взглянула на задумавшуюся мать. Та сидела и безучастно глядела в одну точку.
Вспомнилась, видно, ей закутанная в снег деревня и как ее, шестнадцатилетнюю, такую вот, как сейчас дочка, пришли сватать.
Жених приехал из города. Деревенские сваты расхваливали его, как могли: «У вас не девка — верба! Да и у нас неплохой товар! Не смотрите, что ростом не вышел. Электромонтер хороший. Как за каменной стеной девка проживет жизнь. Нам не раз спасибо скажете!»
Наде даже смешно стало: «Ни разу в жизни не видела — и на тебе! Муженек!»
— Что зубы-то выставила! — прикрикнула на нее мать. — Беги в горницу, приоденься получше да шаль пуховую из сундука достань! А я мигом самовар поставлю, на стол накрою.
…На свадьбе гуляла вся деревня. Мужики брагу пили. Бабы песни орали. А Надя плакала.
Подружки Надины в школу собираются, а она мужа на работу провожает. Ничего не попишешь — жена.
Вскоре началась война. Проводила и она мужа на фронт. Платочком махала, как другие. За поездом тоже бежала. И осталась в семнадцать лет ни девка ни баба.
Потом, когда Николай вернулся, стали на одном заводе работать. Троих детей нажили.
На работе ей хорошо. Бригада дружная. Люди добрые. А дома? Стыдно сказать: одни попреки да синяки.
Больше молчала, а по ночам думала над своей судьбой. Что бы им не жить, как другие? И дети хорошие. Юрий уж в армии служит. Сынишка у него растет — крепыш. Может, думает, сама подхода к мужу не найду. Может, поласковей надо — тогда отойдет.
И приласкалась было к мужу. Он брюки гладил. Повернулся, взглянул на нее зверем.
— Ты что, одурела? — И замахнулся на нее горячим утюгом, а как ударил — она не помнит. Потеряла сознание.
От утюга на всю жизнь остался след на голове. Дорого обошлась ей та ласка.
Стоит она перед судом. Голова платочком завязана, почти до бровей. Белозубое лицо без морщин. Стройная, подтянутая, в синей шерстяной кофточке.
Да, да. Все свидетели говорили правду. Что уж бил, так бил, пусть не отпирается. Вот три письма сына. Сами прочтите их. Никогда не жаловались. На заводе работали вместе. Только никто не знал, что так плохо живем. Не таковская, чтобы жаловаться. Увидят синяк — скажет, что дрова колола и ушиблась, а то о косяк ударилась. Зачем людям о беде своей говорить? Уж такое семейное дело! Двое знают — третий не должен знать. Откуда взяла это? Да такой неписаный закон в народе. Все ждала — одумается муж. Чуть не тридцать лет прожили. Как наказать? Да уж сами решите! Вы судьи, вам виднее…
Суд зачитал и три солдатских письма Юрия Бобнева, адресованные матери, отцу, жене.
«Батя! — писал сын. — Ты исковеркал жизнь всей нашей семье. Что мы тебе плохого сделали? Зачем ты всю жизнь добиваешься, чтобы семья перед тобой дрожала? Или тебе кажется, что ты от этого сильней становишься? Так вот знай: ты трус, отец, потому что сильный не будет обижать тех, кто слабее его. Посмотри на Серегу! Он же забитый. Никто из-за тебя в семье радости не видел. Ты плохо спать будешь, если никого не обидишь. Посмотри на себя и подумай! Голова стала седой, а все поступаешь так. Не смей бить мать! Не обижай Галину и Сережу, и мою жену с сыном не обижай! Слышишь, отец?! Ты не хотел поговорить со мной, когда я из армии в отпуск приезжал. Давай поговорим письменно, как мужчины».
«Мама, а ты не плачь и не жалей его! Пойди в суд, и пусть его посадят. Нечего больше терпеть! Ты пишешь, может, развестись. А что даст развод такому человеку? Пусть получит то, что заслужил. Через год я отслужу и буду помогать тебе. Не терпи больше, мама!»
…Народный суд Ленинского района Челябинска вынес строгий приговор. Четыре года — срок немалый, чтобы подумать Николаю Бобневу о своей жизни. Подумать, почему на работе он был как человек: голоса не повысит, услужить всем рад, сделает дело — никто не обидится. Но вот заходит он за порог своей трехкомнатной квартиры, в свою вотчину. Здесь он хозяин! Сам пан, сам дурень, как говорят в народе. Здесь ему не перечь! Слово не так сказали — пощечина. Сделали не так — синяк под глаз получай. И все безнаказанно с рук сходило. «Другие жен хвалят — дураки. Их, жен-то, вот как в руках держать надо! — рассуждал он. — Так-то, если подумать, его Надежда ничем не хуже остальных баб: и образование, не как у него четыре класса, а семилетка все же, да и на лицо не хуже других. С молодости бил потому, что редкий прохожий пройдет — на нее не взглянет, а то еще и обернется. Старше стала — вроде еще лучше. На заводе про нее говорят: «Не баба — ягода». Как скажут так, словно по сердцу косой ударят. И кричит он с похмелья жене:
— Эй ты, Надежда! Чего мордой воротишь? Сбегай за пивком!
Было все так. Был дом. Был в этом доме хозяин. Все дрожали перед ним. А теперь сидит Николай Бобнев, опустив седую бритую голову, сидит и думает, кто же виноват в том, что надели на него наручники.
Мошенник с неустановленным лицом
Начальнику Центрального РОВД Челябинска поступил рапорт:
«Докладываю, что 14 декабря в 21.30 в ресторане «Южный Урал» был задержан гражданин Деловери Георгий Викторович, 1954 года рождения, у которого были обнаружены поддельные паспорта и бланк удостоверения ответственной организации».
Несколько дней спустя на имя этого же начальника райотдела милиции поступило заявление не менее тревожное:
«С 9 по 11 декабря в отделениях связи Челябинского почтамта произведена выплата денег по подложным доверенностям, заверенным гербовой печатью первой Челябинской нотариальной конторой. 260 рублей Веселовский Анатолий Петрович по паспорту, прописанному в Хабаровске, получил в 5-м отделении связи, а по 100 рублей этот же человек получил в почтовых отделениях №№ 80 и 92. Предварительной проверкой установлено: воспользовавшись тем, что в общежитиях института культуры, медицинского и политехнического института не обеспечена сохранность извещений на денежные переводы, поступающие студентам, Веселовский изъял извещения и получил крупные суммы по поддельным доверенностям. Эти доверенности были оформлены в соответствии с требованиями почтовых Правил, а потому и беспрепятственно была произведена оплата. Просим принять срочные меры».
Через несколько часов в Хабаровске разыскали Веселовского, который из своего города не выезжал, в Челябинске никогда не был и даже близко не походил на того красавца с фотографии похищенного у него паспорта. Впрочем, такая же фотография красавца-мужчины была и на паспорте Игнатенко В. П. А на двух остальных паспортах, выданных на имя Кононова В. А. и Валеева М. Ф., были фотографии другого, еще «не установленного лица».
Увидев перед собой ряд заключений экспертиз, Деловери письменно просил приобщить к делу его «чистосердечное признание». Ему не отказали. И он крупными буквами написал:
«Я, Деловери Георгий Викторович, 1954 года рождения, уроженец Киева, имеющий среднее образование и две судимости, совершил преступление, предусмотренное ст. 196 части 2 и ст. 93 части тоже второй Уголовного кодекса РСФСР, хочу сообщить, что следователю известны мои преступления, совершенные лишь в Челябинске, Хабаровске, Новосибирске, Омске, Свердловске и Казани. Я добровольно дополняю, что еще совершил преступления в городах Улан-Удэ, Иркутске и в Горьком. Все преступления совершил с сообщником, которого знаю как Володю, но ручаться за точность имени этого неустановленного лица не могу».
Адрес матери обвиняемого удалось разыскать в Киеве. Она характеризовала своего сына как неуравновешенного, вспыльчивого и раздражительного, который все время пугал ее самоубийством. Она предполагала, что у него имеется какое-то генетическое отклонение.
Генетика — наука серьезная, и следователь занялся ею основательно. И в деле появилось заключение судебно-психиатрической экспертизы из больницы имени Павлова, заканчивающееся словами:
«Ничто не мешает Деловери отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Он вполне вменяем».
Заключение экспертизы подписал доктор медицинских наук. Другая бы мама обрадовалась: нормальный сын лучше ненормального. А мать обвиняемого расстроилась: третий раз судят и никакой скидки на наследственность, а еще говорят о какой-то генетике.
Провели еще одну экспертизу и пришили ее на листы дела.
Допросили 99 свидетелей. Подсчитали материальный ущерб, нанесенный им государству, — 8894 рубля 74 копейки.
Выяснилось на следствии и в суде, что работники почтамта Свердловска и Новосибирска выдали по подложным паспортам 4201 рубль.
Как нетрудовые деньги пришли, так они и ушли. Немалые деньги — почти девять тысяч, но по ресторанам, дорогим номерам гостиниц, где он их тратил вместе с неустановленными лицами, они рассеялись «как дым, как утренний туман».
Когда народный суд Советского района Челябинска именем республики объявил приговор: Деловери Георгия Викторовича лишить свободы на девять лет с присоединением неотбытого срока наказания в шесть месяцев, — осужденный возмутился и решил настрочить кассационную жалобу.
«Почему поторопились? — писал он. — Я бы вам открыл тайну неустановленного лица (речь идет о другом мошеннике, с которым Деловери совершал свои аферы. — Е. С.). Я бы нашел его, если б мне сделали снисхождение».
Челябинский областной суд, рассмотрев эту жалобу, оставил приговор без изменения. Следственные органы решили установить «неустановленное лицо» без помощи афериста.
Гаражи феи Ушановой
Все началось с того, что у деда (фамилия его Зайков) были деньги, а у внука нет. Не было у него и возможности приобрести гараж в кооперативе «Градский». И вдруг, как с неба, явилась добрая фея — Федосея Ушанова. Считая, что родители дали ей немодное и неблагозвучное имя, она представилась дедову внуку Евгенией Ушановой.
Народный суд Советского района Челябинска вернул подсудимой ее настоящее имя, указав в приговоре, что родилась она в 1947 году в селе Алексеевка Бугурусланского района Оренбургской области.
Впрочем, обо всем по порядку. Начнем с того, как однажды явилась Ушанова в гости к внуку Зайкова и предложила ему приобрести шлакоблочный гараж в кооперативе «Градский». Потупив глаза с подкрашенными ресницами, заявила, что ее дядя служит там самим председателем. После этого сообщения Юрий вместе с женой Ларисой, прервав задушевное чаепитие, обратились за помощью к деду. Пообещали возить его по ягоды и грибы и даже на рыбалку, которую дед почитал поди еще с ребячьего возраста.
Сердце старика не камень, и он, охая и ахая, снял со своей сберкнижки 670 рублей, оставленные на похороны. Трижды, слюнявя пальцы, пересчитал их и, вручая, строго-настрого наказал:
— Принесите мне документ с круглой печатью и штампом, чтоб я знал: деньги мои в дело ушли! Каждая копеечка у меня трудовая и бросать на ветер ее не буду!
С дедом шутки плохи, потому супруги честь по чести представили ему решение исполкома о принятии внука в члены кооператива и даже приходный ордер о принятии на счет 670 рублей.
Дед прибрал документы со словами: «Подальше положишь — поближе возьмешь!»
Шло время, а к строительству гаража внук не приступал. Съездили в отпуск за тридевять земель, пора и честь знать: для чего субботы и воскресенья, как не для стройки?
Дед потребовал, чтобы показали ту свистулю, что денежки забрала, документ выдала, а место для строительства гаража не дала.
Дед настырный. Он не клюнул на красноречие Ушановой, а потребовал:
— Байками мне мозги не компостируй, а пойдем, милая, к председателю кооператива. Или сегодня место под гараж, или верните деньги, которые у меня не на простом, а на трехпроцентном вкладе лежали!
К председателю кооператива «Градский» Александру Титовичу стояла и сидела большая очередь. Старику одна сознательная гражданочка уступила место, а Ушанова там временем прошмыгнула в кабинет без всякой очереди.
Через несколько минут дверь приоткрылась, и она пальчиком пригласила деда зайти.
Не поднимая глаз от вороха бумаг, важный председатель заверил, что завтра в адрес деда перешлют 670 рублей.
— Вот и хорошо, вот и ладненько! — согласился и на это старик и, чтобы не отнимать больше времени у занятого начальника, побрел восвояси ждать-пождать перевода.
Досада его брала, что про три процента от 670 рублей не обмолвился, авось, и их вернули бы. Но вспомнив, сколько ждал гаража и как боялся, что и эти деньги не вернут, успокоил себя пословицей: «С поганой овцы хоть шерсти клок!»
Прошло еще полгода, а перевода нет как нет. Почтальонка стала избегать старика. Думала: «Не рехнулся ли старый?» Изо дня в день с одним и тем же вопросом: «Куда дели мой перевод на 670 рублей?» Сто раз повторяла, что ни у кого еще не терялся на их почте не только перевод или посылка, но даже открытка с поздравлением к празднику. Старик покостылял на почту. Не мог, говорит, такой важный начальник наврать про перевод.
Перепилил дед шею и внуку:
— Ты привлеки мошенников к суду! Или выложи мне все до копеечки мои похоронные деньги! Вдруг завтра смерть придет, а меня не на что будет хоронить.
— Не волнуйся, дедушка, мы на свои похороним, — успокаивала Лариса, внукова жена.
— А ты, вертихвостка, не встревай, когда мужики толкуют. Да и запомни: последнее дело — похороны за чужой счет!
После этого неприятного разговора появилось в милиции заявление старика о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество Евгении Ушановой.
А та плечиком повела:
— Смотрите, ордер выдан Евгенией Ушановой, а я Федосея. Посмотрите, посмотрите! Вот мой паспорт.
На помощь пришлось вызвать эксперта, чтобы узнать, кто же выписал приходный ордер и кем были сделаны выписки из решения о приеме в кооператив.
Экспертиза показала, что поддельные документы Федосея Ушанова напечатала на пишущей машинке «Башкирия» в конторе «Металлургпродторга», на машинке «Оптима» в ремонтно-строительном управлении № 1 треста «Челябводстрой» и на пишущей машинке типографии Челябинского университета, где, как выяснилось, она была когда-то инспектором отдела кадров. Там же она работала и печатником, но ее уволили за прогулы.
Когда не работаешь, много свободного времени, и в голову лезут разные идеи. Вот и Федосею осенила идея — открыть в сберкассе 6980/01 счет и печатать письма желающим получить индивидуальный гараж для автомашины. В своих письмах она предлагала первоначальный взнос переводить на счет 140211, открытый на имя Федосеи Ушановой. Отправила их в разные адреса. Одно такое письмо получила и Абдрахманова. Хотела было сразу перевести 640 рублей, но замешкалась, а потом позвонила в кооператив «Градский» и узнала, что номер счета кооператива совсем другой. Но такой бдительной она оказалась лишь одна из всех жертв совсем не доброй феи Ушановой.
А супруги Тамесниковы — Евгения Николаевна и Виктор Иосифович — сразу отдали 700 рублей в руки Ушановой, так как она им очень даже понравилась. Вот как они охарактеризовали ее:
— Она приходила к нам в гости всегда веселой, общительной. А 31 января во время беседы, между прочим, сказала, что ее дядя работает председателем гаражного кооператива и запросто может выделить нам место под строительство гаража. Причем строить нужно только две стенки и ставить ворота. Сосед выстроит тоже две стенки — и гараж готов. Мы ей отдали семьсот рублей с радостью. Никак не можем поверить и сейчас, что такая женщина окажется мошенницей…
— Никакой я ей не дядя, знать ее не знаю и знать не хочу! — отмахнулся от родства председатель кооператива.
— А кто мне сказал, что мои 670 рублей по почте завтра вышлете? — соскочил с места дед.
Судья призвал старика к порядку, а в отношении председателя кооператива вынес определение о возбуждении дела за укрывательство преступлений Ушановой.
Почесал затылок председатель. Он-то хорошо знал, какая мера наказания предусмотрена статьей 189 Уголовного Кодекса РСФСР.
Поздно, но все-таки пришло раскаяние и к Федосее Ушановой. Она просила суд учесть это. Сквозь слезы едва можно было разобрать:
— Да, я полностью виновата. И раскаиваюсь, что не сразу рассказала правду, как брала деньги у граждан якобы для приобретения кооперативных гаражей. Я подделывала документы и давала их всем моим «клиентам». Со временем я верну им деньги…
— Черта два с тебя получишь! — натягивая кепку дрожащими пальцами, проворчал дед Зайков.
Ему было и жалко своих кровных денег, и обидно, что своими руками пустил их на ветер, и досадно, что его, старого, провели буквально на мякине.
«Святая» Прасковья
— О, святая Прасковья! Лопни мои глаза, если я еще где-нибудь видела такой шикарный вокзал!
— Впервые в Челябинске, бабуся?
— Не то, чтобы впервые, — ответила старушка, расстегивая пальто. Присев на край скамьи, она сняла с головы серый шерстяной платок, перекрестилась. Огляделась. Достала из бокового кармана небольшую иконку и стала молиться.
Потом наспех сунула иконку на прежнее место и затеяла с соседкой по скамье разговор о том, о сем: «Куда едете? Не вместе ли путь держать будем? Не помочь ли вещи в камеру хранения отнести? Оставлять их опасно без присмотра. Народ на вокзале сами знаете какой. Не успеешь глазом моргнуть — утащат!..»
Время в ожидании поезда тянется медленно. И пассажирка рада забавной старушке. С такой не уснешь и не соскучишься. Бабка всю страну исколесила — от Одессы до Крайнего Севера…
— А где теперь живете?
— На родину потянуло, в Тульскую область. Места там отменные, а ягод-грибов — тьма-тьмущая! Зимой отдыхаю. Телевизор смотрю. Надоест — шаль, носки, варежки вяжу. Вот на вас шаль пуховая. Сотни, поди, две стоит?
— За триста две шали купила. Одну себе, а вторую дочке на свадьбу везу.
Бабка Прасковья сходила в буфет, угостила соседку горячим пирожком с ливером. Потом, оставив свое пальто, пошла в ресторан пообедать. Вернулась довольная, раскрасневшаяся.
— Пивка даже выпила. Лимонаду нет, а пивцо свежее. Грех на душу взяла, кружечку хлебнула. Народу — никого. Сходи пообедай. Щи украинские с мясом, со сметаной, прямо как домашние! А я посижу. Может, насчет вещичек сомневаешься?
— Да что вы, бабушка?! — поднялась пассажирка. — Только смотрите в оба. Я мигом вернусь.
Посидев минут пять, старушка зорко посмотрела по сторонам. Взяла чемодан и отправилась, вначале спокойным, а потом ускоренным шагом к трамвайной остановке. Проехав до центра города, пересела в автобус, потом в троллейбус.
К вечеру с пустым чемоданом, перевязанным полотенцем, слегка покачиваясь, подошла Прасковья Прокофьевна к билетной кассе, чтобы купить билет в Тулу через Москву. Тут ее и прихватила хозяйка чемодана. Старушка рассердилась не на шутку:
— Ну чего орешь? «Мой чемодан! Мой чемодан!» Бери, коли твой! При чем тут милиция?
— Вы, бабушка, милицию звали? — внезапно подошел дежурный милиционер.
— Да что ты, гражданин начальник?! Сроду такой привычки не имею, — замахала руками старушка. — Это вот баба ненормальная свой чемодан трясет и орет на весь вокзал, а я ее впервые вижу, лопни мои глаза.
— Не надо шуметь, гражданки! Пройдемте в дежурную комнату, там разберемся.
…Разобрались. Составили протокол. Пустой чемодан отдали пассажирке, Прасковье — только крестик и иконку. Обнаруженные у нее деньги были конфискованы.
— Плакали мои денежки! — сокрушалась Прасковья, и лились слезы по ее морщинистым щекам, и рвала она на себе и без того реденькие волосы.
И вдруг — слез как не бывало.
— Гражданин начальник, порви квитанцию, бог с ней! Деньги себе возьми, а меня отпусти! Сяду на поезд и в свой дом престарелых поеду.
Из села Половинки Тульской области подтвердили, что Прасковья Прокофьевна проживает в доме престарелых уже несколько лет. Уехала погостить к двум братьям в Тулу.
— Как же это вы, мамаша, вместо Тулы в Челябинск забрели? — поинтересовался следователь.
— Про новый вокзал наслышана. Решила посмотреть. Да и стариной тряхнуть на старости лет
захотелось.
…А потом сидела бабка не за тульским самоваром и не в гостях у братьев. И даже не в ресторане вокзала, а в более скромном месте.
Получил следователь справки из архивов и затребовал восемь приговоров на бабку-мошенницу. Кем только она не была! И Анной, и Альбиной, и Альвиной. Была Ивановой, Худяковой, Розенблат и Адринюк. Была Станиславной, Васильевной и Прокопьевной… Судили ее и в Харькове, и в Бресте, в Вологде и Перми, в Крыму и Москве, на Севере и на Юге.
Первый раз судили в 1932 году, а теперь в народном суде Советского района Челябинска — уже в девятый раз. И опять клялась она:
— Поверьте, граждане судьи! Это в последний раз!
И снова лились слезы ручьями. И просила она об одном, чтобы отпустили ее в дом старости, где жила она припеваючи, где сытно кормят и где мягкая постель. И пальто-то там с меховым воротником. И всегда жалели Анну, Альбину, Альвину и Прасковью.
И на этот раз немного пожалели: дали всего полтора года лишения свободы в колонии общего режима.
— Подвела ты меня, «святая Прасковья»! — швырнула иконку осужденная. Потом одумалась, подняла ее с пола и засунула в пустой карман зимнего пальто: «Может, еще сгодится!..»
Селиванова Елена
Трагедия в доме № 49

Трудно вырвать корень дерева, но еще труднее вырвать корень зла, хотя далеко не всегда он имеет под собой почву. Доброта может поднять человека до высот горы, а зло завести в такие дебри, из которых одному, без помощи, трудно выбраться.
О равнодушии, о зле и добре рассказываю я в этой книге. Я адвокат. У меня трудная профессия — быть поводырем заблудившегося. Ведь тонет не тот, у кого меньше сил, а тот, кто потерял надежду выплыть. Адвокат обязан оказать юридическую помощь, т. е. научить бороться за свои права по всем правилам социалистической законности. Обязан вернуть надежду, что справедливость восторжествует.
Всегда легче поддержать падающего, чем поднять упавшего. Особенно, если это подросток, уже не мальчик, но еще и не мужчина. Бывает, что на скамью подсудимых он попадает не только по своей вине, но и по беде. А самая страшная беда, когда пьянствуют и скандалят родители, не давая покоя ни себе, ни детям.
Чтобы были лучше дети, должны быть лучше родители. Но пап и мам не выбирают. Кому уж какие достались.
Порой мама радуется, что научила детей учиться, а то, что они совсем не умеют трудиться, ее мало тревожит. Но когда человек не хочет трудиться, забывая основной наш принцип «Кто не работает — тот не ест», — тогда недалеко ему и до скамьи подсудимых.
В судебном очерке «Иск не по адресу» рассказана история бывших молодоженов, бывших влюбленных. Прожита жизнь, выращены дети. Давно ушли из дома и любовь, и уважение друг к другу. Остались двое чужих людей под одной крышей. Можно и нужно разойтись по-хорошему, не втягивая детей в ссору. Если мать сегодня скажет сыну, что его отец худший из всех живущих, а завтра сын услышит такой же отзыв о ней, то вряд ли от этого вырастет авторитет обоих родителей.
Равнодушие… Это ядовитый корень, из которого вырастают подлость, трусость, жестокость. Равнодушного ничего не интересует, кроме собственного дома, собственной семьи, своих забот. Какое ему дело до чужого горя? До чужих забот, до интересов коллектива, интересов государства? Его кредо «Моя хата с краю». Из равнодушных и трусливых рождаются предатели. Таков Епифанов в очерке «Судьба изменника».
Трудно вырвать корень зла, но вырвать его надо. Вот почему и родилась эта книжка.
АВТОР
ТРАГЕДИЯ В ДОМЕ № 49
Произошел редкий случай. Сын поднял руку на отца, учинил скандал. Кого не возмутит это?! В конце концов, если тебя обидели, позови соседей — они помогут.
— Почему же ты не позвал на помощь? — спросил подсудимого прокурор.
— Не мог…
— А бить отца мог?
— Я виноват и не прошу оправдания.
Оправдать его, действительно, невозможно. Но как произошла трагедия в доме № 49? Почему? И один ли подсудимый в этом виноват — надо еще разобраться.
…Жестянщика Баранова знали на кондитерской фабрике как отменного специалиста. Смотреть со стороны, как он работает, — глаз не оторвешь. За мастерство и прощали ему многое. После очередной выпивки приходил в цех хмурый, ни на кого не глядел. Только ворчал, ни к кому конкретно не обращаясь:
— Вырастил сыночка на свою голову… Вчера две поллитровки в унитаз вылил! Молокосос! Попробовал бы заработать. Техникум закончил, диплом получил. Грамотеем стал. Так что, от отца лицо воротить надо?! Кто тебя одевал, кормил?! Мать?! Много она на свою зарплату сделает! А тоже еще заступница выискалась: повышенную стипендию Вася получал, видите… Подумаешь, стипендия… Да я ее за два дня халтуры заработаю…
— Ты с кем это разговариваешь, Михаил Петрович? — подошел начальник цеха.
— Раз один, значит, с собой! А что, нельзя?
— Почему нельзя? Ты после смены загляни ко мне. Есть разговор с глазу на глаз.
— Знаю я эти разговорчики! Что, опять премии лишите, а то цеховое собрание созовете? Мол, незачем было Мишку-пьяницу в четвертый раз принимать на фабрику — только коллектив позорит… Так уж гоните сразу. Меня везде примут. А почему? Да потому, что работу свою твердо знаю и товар лицом завсегда покажу.
Он с ожесточением схватил лист железа, продолжая ворчать.
«И что с тобой делать? — думал начальник. — Легче всего, конечно, уволить за прогул. В мае и июне по четыре дня не выходил на смену. Домой к тебе и людей посылал, и сам ходил — толку никакого. Лечиться отправляли, на собрании обсуждали… Да и уволить сейчас никак нельзя — на носу ремонт цеха. Хорошего жестянщика иногда труднее найти, чем инженера».
Посмотрел он, как у Баранова работа спорится, и, ничего не сказав, пошел в контору.
Потом на суде начальник цеха вспомнит одно из собраний, когда жестянщика обсуждали в последний раз. Как обычно, пришел сюда Баранов с толстой тетрадкой, которую сам именовал «черным списком». В ней были записаны грешки всех, кто работал вместе с ним.
Только скажут о нем плохо, он сразу начинает листать тетрадь, и прямо с места охрипшим голосом:
— Ты наперед про себя скажи, за что тебе жена чуб драла?
Люди захохочут, выступающий растеряется:
— Какой чуб? Я ведь лысый…
— Но до лысины он ведь у тебя был. И вообще регламент соблюдать надо! Женщин вон детишки ждут. Плачут.
На суде свидетели скажут, что не на шутку опасались «черного списка». Где и следовало выступить, помалкивали. А пьянице только того и надо.
После очередной проработки не пришел Баранов на фабрику совсем. Целую неделю пьянствовал, громко кричал на весь подъезд:
— Как они ко мне, так и я к ним! Никуда не денутся. Без меня ремонта не сделают. Вот и пусть ждут, пока я пропьюсь. Пей, Анна! Сбегай-ка, Васенька, принеси три бутылки вина, чтобы на опохмелку хватило. Уважь отца!
— Уважь его! — просила сына мать.
Спустя полчаса, подавая стакан вина семнадцатилетнему Василию, отец снова сказал:
— Уважь отца!
— Да уважь ты его! — в угоду мужу повторила мать.
От выпитого у сына закружилась голова, потянуло ко сну. Не выключив телевизора, не расстилая постели, он лег на диван.
Проснулся от страшного крика матери. Даже не сразу понял, где она: на балконе или на кухне. Опять, наверное, дерутся! Когда это кончится?!
Крик повторился.
— Вася! Сынок! Убьет ведь!
Побежал на кухню, схватил занесенный кулак отца, скрутил руки и, не помня себя, начал бить.
Позже эксперты-медики скажут: Баранова-старшего можно было спасти, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь.
На суде выяснилось, что Баранов неоднократно избивал жену, гонялся за ней с топором, Об этом сообщили свидетели. А Василий ничего плохого не сказал об отце. Говорил только одно: «Виноват я!»
А наказание грозило, с учетом несовершеннолетнего возраста, до десяти лет лишения свободы.
— За что ты так жестоко избил отца? — задал вопрос судья.
— Маму он бил. Она сильно кричала.
Коллектив кондитерской фабрики выделил общественного обвинителя, наказав ему строго-настрого: «Пусть осудят, чтобы другим неповадно было, только проси суд, чтобы не лишали свободы. Так и скажи: «Довел пьяница-отец».
Поступило в суд и письмо работников автотранспортного техникума. В нем говорилось:
«В суде находится дело Баранова Василия, нашего выпускника. В техникуме он учился хорошо, получал повышенную стипендию. Он комсомолец. Это дисциплинированный, скромный, застенчивый подросток. Не было ни одного случая нарушения им трудовой дисциплины, его уважали в группе.
Но мы все знали, что в доме у него тяжелая обстановка: отец и мать алкоголики. И Вася стыдился этого, замыкался в себе. Преподаватели сочувствовали ему, старались помочь. Особенно он стал переживать в последний год, когда стал взрослым, когда надо было готовить и защищать дипломный проект. Не раз мы беседовали и с матерью.
Мы думаем, что преступление, совершенное Васей, — это результат длительного, систематического расстройства нервной системы, сильного душевного волнения. Мы просим отнестись к Василию гуманно, не лишать его свободы».
Письмо принесла классный руководитель, а до этого сама пришла в прокуратуру и просила следователя, чтобы ее допросили в качестве свидетеля и вызвали в суд.
— Не под силу подростку выдержать такую обстановку, которая сложилась в семье Барановых. За три года учебы мы не слышали от Василия даже резкого слова… Все, что с ним произошло, — следствие нервного срыва…
Педагог очень волновалась, говорила так, будто на скамье подсудимых не бывший учащийся, а близкий, родной ей человек.
И опять притихший зал слышит слово, которое в суде повторяли один за другим все одиннадцать свидетелей, выступавших по делу.
— Довели! — говорит сестра Баранова-старшего.
— Довели, — подтверждает бабушка подсудимого. — Вася писал нам в деревню: «Приезжайте скорее. Они опять пьют».
С подобными письмами обращался он и к другим родственникам. Эти короткие письма взывали о помощи. Вот, может быть, тогда и надо было изолировать мальчишку от родителей, чтобы не отравляли они детство единственного сына. Но родственники, в лучшем случае, приезжали, журили пьяницу отца, и стыдили мать, и уезжали, фактически оставляя Василия наедине с собой.
И он замкнулся, замолчал: стоит ли писать, на кого-то надеяться, если все остается по-прежнему… Добавлялись лишь отцовские упреки: «Зачем писал, щенок! Не они, а я тебя кормлю!»
В центре большого города, в многоэтажном доме произошла эта трагедия. Кто в ней виноват? Я ищу ответа на вопрос в показаниях и соседей — тех, кто жил с Барановыми на одной лестничной площадке, за стеной их квартиры или этажом ниже. Люди как люди. Николай Васильевич из соседней квартиры — заместитель директора одного из заводов. Человек степенный, солидный. Он авторитетно заявил суду:
— На месте Василия никто не выдержал бы. Парень он тихий, скромный. Если бы не он, то кто-нибудь из родителей давно погиб бы в пьяной драке. Василий разнимал их, уговаривал, упрашивал…
Мария Федоровна, проживающая этажом ниже, рассказала, что неоднократно поднималась к Барановым, взывая к их совести:
— Почему у вас постоянный шум и стук? Потолок у нас уже в трещинах.
Баранов-старший издевался: у него, мол, очень болит желудок, вот он и бегает по квартире, чтобы облегчить боль. Жена его молча отходила от дверей, а Василий старался все реже и реже показываться на глаза соседям. Ему было стыдно за родителей.
* * *
Судьи удалились в совещательную комнату для вынесения приговора. Низко опустив голову, продолжал сидеть на скамье подсудимых Василий. Высокий, худой, очень похожий на мать, сидящую на другой скамье. Такой притихшей и оробевшей раньше ее никто не видел.
Долго совещались судьи. Тщательно взвесив все то, что было за и против подсудимого, они пришли к выводу, что он совершил преступление в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Учтя все обстоятельства дела, суд приговорил Василия Баранова к двум годам лишения свободы условно.
Трагедии, происшедшей в доме № 49, могло не быть, если бы родственники подсудимого, соседи Барановых не считали все, что происходило в семье Василия, чисто «семейным делом».
ЕХАЛ СОЛДАТ ДОМОЙ
Тяжело шоферу на дорогах Тянь-Шаня. Непросто взять подъем или преодолеть крутой спуск. Но не это волновало солдата. Если б генерал узнал о прошлом своего шофера, то, наверное, ездить с ним не стал. Родителям и особенно брату Борису Николай строго-настрого наказал никому не давать его адрес. Уж очень дорого ему было доверие человека, прошедшего фронтовыми дорогами от Москвы до Берлина, доверие крупного военачальника — одним словом, их генерала.
Дорожил он и службой в рядах Советской Армии. Помнил все время, как не хотели призывать его в армию. Райвоенком прямо сказал:
— Служба — почетная обязанность, а ты имеешь судимость…
Дело дошло до областного военкомата. Трижды сам Николай приходил — не помогло. Многие просили за него. Даже бабушка, старая учительница, пошла к военкому. О чем говорила она — никто не скажет. Может быть, рассказала, каким невозможным был один из ее учеников, сколько перетерпела она от него, а теперь вот живет на улице, носящей имя этого Жени, геройски погибшего на фронте. Наверное, рассказала, что в ее квартире рядом с портретом погибшего сына висит портрет этого ученика в летной форме. Он погиб 17 января 1943 года, а фотокарточку прислал своей учительнице незадолго до гибели. Она всегда повторяла, что за человека надо бороться, так как дороже человека нет ничего.
Вот и внук Коля запутался, заврался. Родителям говорил, что пошел ночевать к бабушке, а сам — кражи совершал. Но ведь это от мальчишеской несерьезности, у него есть и хорошие задатки.
…Звонили телефоны на столе военкома, в приемной ждали люди. Какой-то молодой лейтенант проворчал: «Ходят тут всякие старушенции, мешают работать. Сидели бы дома. Из-за такой вот бабули автомашина простаивает».
Спокойно ждал своей очереди немолодой капитан. У него тоже было важное дело, но он считал, что если облвоенком долго и внимательно слушает — значит, дело говорит эта женщина. Капитан подумал: «Спешим, торопимся — всем некогда, А ведь человека тоже выслушать надо — пусть он откроет душу. Не каждый день кричат о помощи. Вот и бабушка, может, ночь не спала, чтобы решиться отнять время у такого занятого человека, а тут говорят — машина ждет, простаивает… Ничего, пусть подождет машина!»
…С тех пор прошло два года. За пять минут до отхода поезда демобилизованный солдат увидел идущего по перрону генерала. По привычке вытянулся в струнку: «Разрешите обратиться, товарищ генерал! Я что-нибудь забыл сделать?»
— Все нормально, Николай, просто пришел проститься с тобой. Спасибо сказать за верную службу, за старание, за то, что всегда ты был на высоте… А что, у брата твоего, Бориса, тоже условное наказание?
— Так вы о нас все знали?
— Знал. Только ждал, когда ты сам мне расскажешь про свой «остров сокровищ».
— Стыдно было, товарищ генерал… И боялся, что откажетесь вы от меня.
— Ну, боялся напрасно, а вот что стыдно — это уже хорошо! Очень прошу — не осрами нашу часть. И брат твой пусть в нашу часть просится…
Поезд тронулся. Застучали колеса. Николай вскочил на подножку предпоследнего вагона. Успел крикнуть:
— Спасибо!
…Стучат колеса: «ку-да-ты, ку-да-ты…» Едет солдат домой на Урал, где его ждут родители, бабушка и Борька, с которым когда-то они выдумали в подвале соседнего дома открыть «остров сокровищ». Чего только потом не нашла милиция на этом «острове»!.. Были там и краденые велосипеды, и старые ружья, даже порох был. Попади нечаянно спичка — и взлетел бы дом на воздух. Теперь-то ему, взрослому человеку, все ясно, а несколько лет назад, когда «ветер гулял в голове», все казалось просто интересным. Не думали, что могли и сами погибнуть. Спокойненько сидели на ящике с порохом, покуривали потихонечку, обдумывая, где бы украсть хорошее ружье и отправиться на охоту.
На этом же ящике, при свете карманного фонаря Колька заполнял дневник:
«Операция № 1. Началась в 9.00. Изъяли порох и гильзы у отца. Операция прошла благополучно. Все изъятое хранится на «острове сокровищ»… Операция № 3. Начало в 2.30. Не удалась. Погнался мужик. Еле смылись».
Дневник хранится в качестве вещественного доказательства в уголовном деле…
Началось его падение совсем по-глупому, даже стыдно вспомнить. Но… слова из песни не выбросишь. Училась в его классе девчонка, красивая и гордая. После занятий спешила в музыкальную школу, потом на уроки фигурного катания, и не оставалось у нее времени даже взглянуть по-доброму на Кольку. Чего только он ни делал, чтобы обратить ее внимание! Как-то во время контрольной даже отрезал у нее косу. Страдать так страдать! Пусть выгонят его из школы, но она узнает: из-за нее все.
Но Галка никому не сказала о его поступке, а сделала модную стрижку и стала еще красивее. И Николай решился на последний шаг. Он наврет на себя, его посадят в тюрьму. Будет суд. Он в последнем слове гордо скажет: «Каждый должен получить по заслугам. Я прошу строго наказать меня и не прошу снисхождения».
Решено — сделано. Узнав, что на стройке рядом с домом кто-то поранил сторожа, он закрылся в своей комнате и, делая вид, что готовит уроки, сочинил письмо:
«Товарищ прокурор! На стройке выключил свет я и порезал сторожа тоже я. Прошу оформить явку с повинной. Вы, наверное, думаете, что я выгораживаю Юрку, а я думаю так: каждый должен получить по заслугам».
Написал он и второе письмо — Гале. Пришлось переписывать дважды: до того было жалко себя, не мог удержать слез. Особенно его разжалобили слова:
«Да, недолго осталось мне гулять на свободе. Ведь когда ты уходишь — закатывается для меня солнце».
Не вышло «пострадать» — разобрались, установили, что оговорил себя.
Только Николай уж не остановился, «острову сокровищ» требовалось пополнение — и он украл велосипед…
Он многое понял тогда, на суде. Но больше всего задуматься заставила борьба за его дальнейшую судьбу, которую вели незнакомые раньше люди: следователь, судья, адвокат, сотрудники милиции. Наказание ему дали условно, и он сделал все, чтобы не подвести тех, кто поверил в него.
…Ну что за характер у этой Галочки?! После суда стала еще презрительней смотреть на него. И от этого взгляда просыпался он в холодном поту даже тогда, когда был солдатом. Борис писал, что учится теперь она в консерватории. Будет скрипачкой. Фотографию Николая брать отказалась, но долго-долго смотрела на нее и сказала Борису: «Красивый стал твой брат. Военная форма ему очень идет».
Это письмо, зачитанное чуть не до дыр, до сих пор в кармане солдатской гимнастерки. Втайне хранит он, желание показаться Галине в форме со всеми значками. Может, увидит его бравым солдатом и сыграет для него на скрипке вальс Штрауса. Польется мелодия для него, Николая.
ОТЦОВСКИЙ ПОДАРОК
Жил Володька, как все мальчишки. Играл в футбол, ходил в кино, читал книжки про войну и втайне мечтал стать моряком.
Только отцу мог он открыть свой секрет. Разве мать поймет? Начнет ворчать: «У всех дети, как дети, а этот что-нибудь да придумает… Море ему надо!» Нет, тут нужен мужской совет, настоящий разговор. Но отца нет. После фронта не вернулся домой, уехал во Львов.
Очень тосковал сын об отце, а тот платил алименты, иногда присылал поздравительные телеграммы. Однажды, оказавшись в Челябинске, побывал у Володьки и подарил ему немецкий пистолет, привезенный с фронта.
— Не забывай, сынок, береги отцовский подарок.
О подарке на второй день узнали все соседские мальчишки. Один из них, Юровин, попросил показать пистолет своему приятелю.
— Выдумал тоже! — возразил Володька.
— Так он же взрослый, заслуженный человек! Он настоящий капитан! У него два ордена, а медалей сколько, если бы ты видел! Он не важничает, как все взрослые, а дает закурить. Меня даже в ресторан водил. Пирожным угощал. Денег у капитана — куры не клюют. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?
Володьке очень хотелось познакомиться с таким человеком, но он стеснялся. Капитан же, узнав о пистолете, сам предложил дружбу, назвав Володьку «настоящим парнем». Так мальчишку еще никто не называл. «Лучше бы, конечно, если бы отец услышал, что такой заслуженный человек считает меня «настоящим парнем», — подумал он. Правда, есть выход — можно отцу написать об этом. И целый вечер подросток сочинял письмо, то и дело заглядывая в орфографический словарь.
Отправить письмо не удалось, так как отец забыл, видно, оставить адрес. Это возмутило парнишку:
— Ну ладно, сменял нас с тобой на какую-то Фыру Ивановну рыжую! Но адрес-то мог оставить?! — в сердцах говорил он матери.
— Да ты, сынок, не огорчайся! Завтра запросим адресный стол и узнаем адрес.
— Так когда он получит?
— Недели через две, — прикинула мать.
…Однажды летом, когда Володя, лежа в кровати, перечитывал Жюля Верна, в дом ввалились соседские ребята — целая ватага.
— Через час отправляется поезд на Дальний Восток. Раздумывать некогда. Хочешь поступить в морское училище, собирайся! Только на всякий случай возьми пистолет и аккордеон! — скомандовал Юровин.
Володька растерялся.
— Пошли, ребята! — сказал кто-то из компании. — Это же маменькин сынок! Разве он поедет? Его же мамочка не пустит!
Все захохотали и направились к двери. Кровь бросилась Володьке в лицо. Это он-то маменькин сынок?! Да его сам капитан назвал «настоящим парнем»! Нет, он еще докажет всем, какой он в самом деле смелый и решительный, и смеяться над собой не позволит.
Володька положил пистолет в карман, достал со шкафа аккордеон, разбил копилку и, набив мелочью полные карманы, побежал догонять ребят. На вопрос, сколько стоит билет на Дальний Восток, они только рассмеялись.
— На что нам такая роскошь? Залезем в товарняк — доберемся не спеша, — сказал Юровин.
В товарный поезд вскочили почти на ходу. Пока Володька старался поудобней улечься на уголь, кто-то из ребят успел выкрасть в другом вагоне пять меховых телогреек.
Мелькали озера, реки, перелески. Когда поезд остановился на небольшой станции, неожиданно раздался голос:
— Эй, кто там, слезайте!
Все притихли.
— Ваши документы! — обратился милиционер.
Юровин огрызнулся:
— Паспортов мы еще не получили.
— А ну, слезай! Все, все слезайте! Ишь, путешественники беспаспортные. Телогреечки захватите с собой! Как инкубаторные, у всех одинаковые.
— А они не наши. Здесь они лежали, в вагоне, — соврал старший из парней.
— Там разберемся, кто их вам под бочок положил…
По пути в отделение милиции один из ребят выстрелом из пистолета ранил милиционера…
Три дня скрывались подростки в лесу, а потом решили добираться пешком до Челябинска. Шли по путям. На разъезде их задержали, а Юровину и Володьке снова удалось убежать в лес. Спали ночью в шалаше, прижавшись друг к другу. Вот тогда и рассказал Володьке Юровин под большим секретом, что капитан вовсе не капитан и никакой он не заслуженный, что ордена и медали у него краденые, что с ним не один грабеж совершили ребята. И еще Юровин сказал, что есть такая статья в Уголовном кодексе, когда все, кто состоит в банде, отвечают друг за друга.
— Вот ты и я были с бандитами, спали на краденой телогрейке, видели, как ранили милиционера, бежали от милиции. Мы с тобой тоже бандитами стали. И никуда теперь не деться. Нам с тобой, как и капитану, грозит расстрел, — объяснил дружок.
Володьке хотелось кричать, что он не такой, что он не бандит. Но кричать было бесполезно. Здесь, в лесу, его мог услышать только Юровин.
* * *
Через несколько дней, в дождливую, ветреную ночь, усталый, голодный и оборванный постучал Володька в окно родного дома. Мать, не спросив кто, сразу открыла дверь.
Пока горели в печи его лохмотья и грелась вода для мытья, он жадно ел гречневую кашу. Всю ночь сидела у кровати сына мать. Он рассказал все — как бежал, как на станции был продан аккордеон и, наконец, то, что узнал в лесу о Юровине и «капитане».
— Завтра эти бандиты придут за мной. Я теперь у них в руках. Что делать, мама? Что делать?
— Спи! Завтра решим. Я пойду пистолет в реку брошу, пока темно. Додумался подарочек такой мальчишке преподнести!
Утром в окно постучали. Сквозь сон Володька слышал, как мать громко говорила кому-то, что сына нет дома, что его на «скорой помощи» увезли в больницу, а в какую, она сама еще не знает.
Пока Володька спал в квартире, закрытой на замок, мать впервые в жизни стояла на базаре, продавая все, что можно было унести из дома в двух чемоданах — пальто, часы, платья. Лихорадочно работал мозг. Только бы успеть, только бы «дружки» не встретились с сыном. К вечеру она пришла домой. В кармане были билет и деньги.
— Вставай, сынок, скоро отходит поезд. Поедешь к отцу во Львов. В адресном столе узнаешь адрес. Вот, я записала все об отце — где и когда родился, место рождения. Пусть он тебя в морское училище устроит или к кому-нибудь из родни пошлет. А я отсюда тоже уеду. Ты мне писем не пиши. Перехватят письмо — и узнают, где ты, — тихо говорила мать, хотя в комнате, кроме них, никого не было.
* * *
…Отец встретил сына неприветливо:
— Откуда адрес узнал?
Дождавшись, наконец, ухода мачехи, Володька, сбиваясь, рассказал отцу о беде.
— Зачем ты матери сказал о пистолете? Дурак! Отца родного продал! Знаешь, что меня из-за тебя, щенка, посадить могут?
Лицо отца перекосилось в злобе.
— Если тебя арестуют и спросят, скажешь, что пистолет нашел. Понял?
Да, сын понял. Понял, что мог простить отцу многое, но только не трусость. Может быть, в ту минуту умерла в нем слепая любовь к родителю. Может быть, в тот день решил сын, что обязательно сменит отцовскую фамилию.
— Какая противная у тебя фамилия! — сказал он утром. — В учебнике зоологии сказано, что пасюк — это вид какой-то крысы.
— Лучше носить крысиную фамилию, — злобно ответил отец, — чем связаться с бандитами.
Володьке, как тогда в лесу, захотелось крикнуть, что он не бандит, бандитом не был и не будет никогда. Но разве этот чужой человек мог понять его? Нет! Володьке могла поверить только мать. Всю ночь он не сомкнул глаз. Было ясно: оставаться в доме отца нельзя. «Пойду я лучше учеником на завод. Общежитие дадут!» — решил парень.
— Буди своего лоботряса! — услышал бы Володька голос мачехи, если бы не ушел ранним утром из отцовского дома навсегда, оставив на столе записку:
«Прощай, отец! За беспокойство извини. Из первой получки вышлю тебе все расходы на меня за ту неделю, что жил у вас. Только учти, что никогда не буду тем, кем ты назвал меня. А сыном меня не считай. За пистолет не бойся! Я не подлец, чтобы выдать того, кто когда-то был мне отцом».
— Баба с возу, кобыле легче! — сказал жене отец, прочитав записку.
* * *
Без отрыва от производства окончил Володя девятый и десятый классы. Потом служил в военно-морском флоте. Заочно учился в институте.
На корабле его любили. Никто не мог так хорошо играть на аккордеоне, никто не мог состязаться с ним за шахматной доской. Многим казалось, что все ему дается легко, что он прямо-таки звезды с неба хватает. Удивляло одно — ему никто не писал писем.
— У тебя нет родных? — спросил как-то Владимира командир. По тому, как помрачнело лицо парня, как сжались кулаки, командир понял, что у него на сердце горе.
Несколько дней ходил Володя темнее тучи, а потом сам пришел к командиру и обо всем, что было на душе, рассказал.
— А теперь сообщите обо мне прокурору. Если вы этого не сделаете, вам грозит судебная ответственность. Есть такая статья в Уголовном кодексе.
— Брось, друг, дело тут не в статье. Дело в том, что невозможно всю жизнь носить на сердце такой груз. А потом мать? Почему ты о ней не подумал?
— Мать жалко… Как вспомню о ней, так тоска гложет. Сам к прокурору много раз ходил. Иногда даже до самых дверей доберусь, очередь отстою. Но как прочитаю табличку с надписью «Прокурор», так ухожу обратно.
— А может, трусишь, Пасюк? — спросил командир, положив руку на плечо Володи.
В тот день в кабинет прокурора вошли двое. Высокий юноша, сняв бескозырку, отрапортовал:
— Владимир Пасюк, старший матрос, явился с повинной…
* * *
Первое письмо от сына мать получила неожиданно после многих лет разлуки. Письмо пришло в Челябинск, куда она вновь вернулась. Тысячи раз перечитывала долгожданные строчки.
«Ты говорила, мама, что я твоя надежда. Я не подвел тебя. Как демобилизуюсь, приеду к тебе. Есть у меня мечта стать прокурором. Я не дам жить бандитам. Не позволю, чтобы они калечили ребят, обманом втягивали их в грязные дела. Целую тебя, мамочка».
В том же конверте лежало письмо командира. Мать была счастлива, читая его. Незнакомый человек сообщал о сыне много хорошего. И дело, конечно, было не в том, сколько почетных грамот и наград получил Владимир, а в том, что он не пропал, стал честным человеком. А ведь могло быть все иначе.
«Кого благодарить мне за тебя, сынок?» — шептала мать, склонившись над ответным письмом сыну.
«Кого благодарить?..» — думал сын, читая весточку от матери.
Очень много хороших людей встретилось на пути юноши. Каждый из них помогал от чистого сердца.
С тех пор, как Владимир парнишкой уехал из Челябинска, прошло много лет. Недавно он встретился с матерью. Долго целовал ее морщинки, долго гладил ее седую голову, просил простить за прошлое. А она? Какая мать не простит?!
…До рассвет» сидели они, перебирая документы, рассматривая фотографии. Среди них снимок жены Владимира и его дочки Иринки.
На улице совсем рассвело. Проснулся город, побежали трамваи и троллейбусы.
О многом переговорили мать и сын в эту ночь, а ей не давал покоя еще один вопрос — последний. Владимир чувствовал это. И он сказал:
— Я принял фамилию жены. И вовсе не потому, что пасюк — вид какой-то серой крысы. Я не хочу носить фамилию своего отца потому, что право быть отцом имеет не каждый, даже если преподносит подарки и платит алименты.
ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ
Поздно ночью, когда семья Бочаровых крепко спала, а в ставни стучал дождь, раздался лай собаки. Зинаида подумала, что вернулся из командировки муж, и, встав, пошла к двери. У входа стояла женщина в легком платье, продрогшая и насквозь промокшая.
— Пустите, пожалуйста… Плохо мне… Начинаются роды…
— Заходите скорее, — пригласила хозяйка.
* * *
…Прошел год.
Однажды к Бочаровой пришла молодая женщина и, смущенно улыбаясь, спросила:
— Не узнаете?
— Нет. А кто вы?
— Помните, ночью, в дождь, вы меня пустили? Дочку я у вас родила…
— Неужели это ты? — изумилась Зина. — Мне казалось, пожилая женщина была, а ты вон какая верба, — и она невольно залюбовалась, окинув взглядом стройную, миловидную женщину. — Да что мы стоим-то? Пойдем в дом. Чаем угощу.
Долго сидели они за столом, разговаривая, как подруги, не видевшие друг друга много лет.
— Это первые роды у тебя были?
— Нет! Двух детей я похоронила. А в ту ночь, когда пришла к вам, выгнали меня свекровь и муж, — смахнув слезы, тихо рассказывала Варя. — Вот так и живу. Три снохи до меня не выдержали… Ушли. А я все боюсь дочь без отца оставить. Упрекают меня без конца: то не так выстирала, не так обед сварила, то не так прошла, взглянула не так.
— Почему же ты молчишь?
— Попробуй скажи им. Кроме оскорблений ничего не услышишь. Квартирантов, и тех держат в страхе. Поздно не приди, рано не встань. Дом ведь почти в центре, а люди на окраину переезжают, только бы не терпеть унижений. Прокопий ей не прекословит. Что мать сказала — все. Сколько раз я ему говорила: «Уйдем, Проша, на квартиру. Сам видишь — нет больше сил терпеть». Ответ у него всегда один: «Вас много, а мать одна. Не нравится — уходи. Держать не будем. Только алиментов не жди, не получишь». С получки всегда пьют. Вдвоем пьют, гостей не зовут. Тут лучше сразу убегай. Если успею, схвачу дочку, и в чем была — из дома. То у соседей переночую, то на чердаке. Бегством только от побоев и спасаюсь.
Не зная, верить ли услышанному, Зина недоумевала: «Неужели есть еще в наше время такие люди?»
— Да как ты живешь с ними? Здоровьем не обижена, сама работать можешь, а терпишь. Ради чего? Зачем?
С тех пор они встречались часто. Вместе с Бочаровыми ездила Варя за ягодами. Собрав по ведру малины, усталые и довольные, останавливались у ручья. Холодная и прозрачная вода снимала усталость.
Ночевали в деревне на сеновале. По вечерам варили варенье и долго, пока не гасли последние угольки костра, разговаривали. Встречались и в городе. Иногда, идя на рынок или в магазин, Варя забегала к Бочаровым, но ни разу не приглашала Зину к себе.
И вдруг Варя внезапно исчезла. Зина заволновалась, не случилось ли чего? И очень пожалела, что не знала адреса и фамилии подруги. Сходила бы к ней или старшую дочку послала. Что же делать? Город большой. Много здесь живет женщин с таким именем. Как разыщешь?
Решила пойти в городской роддом. Оказалось, что в тот месяц, когда Варя родила дочь, двадцать одна женщина с тем же именем стала мамой.
Восемнадцать адресов выписала Зина. Три адреса и писать не стала — мальчики там родились, а у Вари — дочь.
Каждый день Зинаида с младшей дочкой на руках отправлялась на поиски подруги. Одних Варвар она встречала дома, к другим приходилось заходить на работу, но все напрасно. Той, которая была нужна, не было.
И вот, наконец, еще один дом. Закрытые ставни, высокий забор. На калитке дощечка с надписью: «Злая собака». Сколько ни стучала Зина в ворота и ставни, никто не отзывался. Решила прийти вечером. Только перешла дорогу, неожиданно услышала скрип калитки, из которой в низко повязанном белом платке вышла старуха.
— Бабуся, — обратилась к ней Зина, — где Варя? Мне письмо ей нужно передать.
— Давай сюда. Я передам…
— Мне ее лично нужно.
Старуха, колюче взглянув из-под бровей, буркнула:
— Не живет она здесь. Со шпаной уехала. А мне нянчиться с ее выродком приходится, — и прошла мимо, ни одним взглядом не удостоив больше Зину.
«Врет старая. Не могла ей Варя дочку свою оставить», — подумала Зинаида и пошла к соседям. Может, они что-нибудь знают о подруге?
То, что она услышала, насторожило ее и заставило обратиться в прокуратуру.
* * *
Нашли Варю мертвой через несколько месяцев. Ее останки извлекли из озера, заросшего камышом. На чердаке дома, где проживал убийца, обнаружили бархатное платье, подаренное Варе ее матерью к свадьбе. Только в суде узнала Зина, что за день до смерти подруги стоял в доме Приданниковых настоящий содом. Свекровь буйствовала, выгоняя Варю из дома. «Не уйдешь сама, убью, если этот дурень не решится», — кричала она, швыряя в сноху чем попало.
Муж замахнулся утюгом, но отошел, увидев, что жена не прячется, не плачет, как обычно, а с презрением смотрит на него. Смотрит и молчит. Такого взгляда не видел он раньше. Она всегда была смиренной, робкой. Съежился Прокопий, как-то сразу став меньше.
А Варя пошла к плачущей дочке, взяла ее на колени, приласкала, успокоила. Задумавшись, долго сидела, не слыша колючих и бранных слов свекрови. Переполнилась чаша. Хватит. Ничего хорошего не видела она в этом доме.
Осторожно положила дочку на кровать, прикрыв пуховым платком. Тихо вышла из дома. Все! Больше терпеть не будет. Дочь сама воспитает. Неправда, не пропадет! В ясли устроит. На работе всегда пойдут ей навстречу. Комнату дадут со временем…
Внезапно ее мысли прервал запыхавшийся от быстрого бега Прокопий.
— Куда ты, Варька? В суд жаловаться пошла, а? Посадить, значит, хочешь? Смотри, Варвара!
Посмотрела она в его бегающие глаза и твердо ответила:
— Нет, сначала к врачу схожу. Пусть он синяки посчитает, да сколько ребер ты мне сломал посмотрит, а в суд завтра успею. С меня довольно. Рассчитаться с тобой надо.
Трусливо оглядываясь по сторонам, муж стал уговаривать:
— Брось, Варвара! Давай лучше уедем в другой город. Жить будем, как люди. Дочь у нас. Чего людей-то смешить?
Беспокойно пролежала она до утра, не зная, верить или нет этому обещанию. А утром, вымыв пол и приготовив завтрак, Варя надела бархатное платье, собралась к отъезду. Вышла на улицу, за ворота, ожидая Прокопия.
Соседка, увидев Варвару, пошутила:
— Не на бал ли, Варечка, снарядилась с утра пораньше?
— Не говори! Мы с Прошей решили уехать. Ой, Настенька, неужели я из этого ада выберусь? Даже не верится.
— Зря ты ему веришь! Тех двух твоих детей, которые умерли, заморила старая ведьма, умышленно простудила. Каши сварить и то не хотела. Холодной водой поила, а молоком торговала. Все ей, кулачке, богатства мало. Ты в роддоме лежала последний раз, я твоему-то возьми, дура, да пожалуйся, так, мол, и так, а он на меня же накинулся: что, говорит, ты в чужое семейное дело суешься? Зря я промолчала тогда. Надо было в прокуратуру сходить.
— Что ты, Настя, — вступилась за мужа Варя, — девочки-то от воспаления легких умерли!
— Холодной водой поить, как не будет воспаления? Звери они, а не люди. Уходи ты от них совсем!
Из калитки выглянула свекровь, и Варя быстро отошла от Насти. Больше никто Вари в городе не видел. На станцию она и Прокопий опоздали, а ближайший поезд отправлялся через пять часов.
— Пойдем, Варвара, пешком. До Чебаркуля всего пятнадцать километров. Дорога лесом. По пути два озера. Выкупаемся, отдохнем, — предложил муж.
И она пошла, взяв его за руку. С самой свадьбы не ходили они так.
— Жалко, дочку не взяли. Хорошо-то как! Я бы ее сама всю дорогу несла. Озеро бы она посмотрела, ни разу ведь не видела, — сказала Варя.
Прокопий молчал.
У озера присели. Варя разложила хлеб, колбасу, сыр. Он достал из кармана поллитровую бутылку водки, привычным движением выбил пробку и начал жадно пить через горлышко, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание.
— Ну, чего глаза пялишь? — вдруг неожиданно и резко сказал Прокопий. — В суд надумала пойти? Жить с тобой не буду. Мне мать похлеще тебя бабенку высватала… Думаешь, алименты получишь? Фигу!.. — и он с яростью набросился на Варвару.
Разбив висок бутылкой и ударив в лицо сапогом, Прокопий еще долго глумился над безжизненным телом. А потом, сняв с мертвой бархатное платье, поволок труп в камыши, зайдя по пояс в озеро с вязким дном…
* * *
Когда суд закончился, в зале воцарилось тягостное молчание. Одни думали о погубленной молодой жизни, другие — о предстоящем приговоре, а те, кто знал Варю, — о том, что в гибели ее есть и доля их вины.
Разве они, соседи, не знали, что происходит за высоким забором Приданниковых? Разве не видели они следов побоев на лице Вари? Не к ним ли с ребенком на руках, ночью, в одной сорочке, прибегала она, спасаясь от озверевшего мужа и его матери?
Да, не оборвалась бы жизнь молодой женщины, если бы все те, кто знал, что происходит за закрытыми ставнями, за высоким забором, за калиткой с надписью «Злая собака», подняли в защиту ее свой решительный, общественный голос.
„СВЯТАЯ“ ПРАСКОВЬЯ
— О, святая Прасковья! Лопни мои глаза, если я еще где-нибудь видела такой красивый вокзал!
— Впервые в Челябинске, бабуся?
— Впервые, — откликнулась старушка, расстегивая пальто. Присев на край скамьи, она сняла серый шерстяной платок, перекрестилась. Огляделась. Достала из бокового кармана пальто небольшую иконку и зашептала слова молитвы.
Потом наспех сунула икону на прежнее место и затеяла с соседкой по скамье разговор о том, о сем: «Куда едете? Не вместе ли путь держать будем? Не помочь ли вещички в камеру хранения отнести?»
Время в ожидании поезда тянется медленно. И пассажирка была рада забавной старушке. С такой не уснешь и не соскучишься. Бабка всю страну исколесила — от Одессы до Крайнего Севера.
— А теперь где, бабушка, живете?
— На родину потянуло, в Тульскую область. Места там отличные, а ягод, а грибов — тьма-тьмущая! Зимой отдыхаю. Телевизор смотрю. Надоест — шаль можно вязать, носочки, варежки. Вот на вас шаль пуховая. Сотни, поди, две стоит?
— За триста я две шали купила. Одну себе, а вторую дочке на свадьбу везу.
Бабка Прасковья сходила в буфет, угостила соседку горячим пирожком с ливером. Спустя некоторое время, оставив свое пальто, пошла в ресторан, пообедать. Вернулась довольная, раскрасневшаяся.
— Пивка даже выпила. Лимонаду нет, а пивко свежее. Грех на душу взяла, кружечку хлебнула. Народу — никого. Да и ты сходила бы пообедать. А я посижу. Может, насчет вещичек сомневаешься? Не беспокойся.
— Да что вы, бабуся?! — поднялась пассажирка. — Только смотрите в оба! Я мигом вернусь.
Посидев минут пять спокойно, старушка зорко оглянулась по сторонам. Взяла чемодан и отправилась, вначале спокойным, а потом ускоренным шагом к трамвайной остановке. Проехав до центра города, пересела в троллейбус, потом в автобус.
К вечеру с пустым чемоданом, перевязанным полотенцем, слегка покачиваясь, подошла Прасковья Прокофьевна к билетной кассе, чтобы купить билет на Тулу через Москву.
— Ну, чего ты орешь? «Мой чемодан, мой чемодан!» — возмущенно сказала она внезапно появившейся хозяйке чемодана. — Бери, коли твой. Причем тут милиция?
— Вы, бабушка, милицию звали? — неожиданно подошел дежурный милиционер.
— Да, что ты, гражданин начальник! Сроду такой привычки не имею, — замахала руками старушка. — Это вот баба ненормальная чемодан трясет и кричит, а я впервые ее вижу, лопни мои глаза! И чемодан ее не знаю, кто сюда поставил.
— Не надо шуметь, гражданки! Пройдемте в дежурную комнату. Разберемся.
…Разобрались. Составили протокол. Пустой чемодан отдали пассажирке, а Прасковье — только крестик и иконку. Деньги за проданные вещи положили на квитанцию.
— Плакали мои денежки! — сокрушалась Прасковья, и лились слезы по ее морщинистым щекам, и рвала она на себе и без того реденькие волосы.
И вдруг — слез как не бывало: «Гражданин начальник. Порви квитанцию. Деньги себе возьми, а меня отпусти! Вот те крест. Сяду на поезд и в свой дом престарелых поеду. Вот те крест!»
Из села Половинки Тульской области телеграфно подтвердили, что Прасковья Прокофьевна проживает в доме престарелых несколько лет.
Уехала погостить к двум братьям в Тулу, а оказалась на Урале.
— Как же это вы, мамаша, вместо Тулы в Челябинск забрели? — поинтересовался следователь.
— Про новый вокзал наслышалась. Решила посмотреть. Да и стариной тряхнуть на старости лет захотела.
…А потом сидела бабка не за тульским самоваром и не в гостях у братцев. И даже не в ресторане вокзала, а в милиции и вспоминала про свое житье-бытье и про грибочки, и про цветочки. А ягодки-то были впереди.
Получил следователь справки из архивов и восемь приговоров. Оказалось, что судили старушку не раз и не два…
Кем только не была «святая» Прасковья! Была Анной, Альвиной, Альбиной. Была Ивановой, Худаковой, Андринюк. Была Станиславовной, Прокопьевной и Прокофьевной… Судили ее в Харькове и Бресте, в Вологде и Перми, в Крыму и в Москве, на Севере и на Юге. Первый раз предстала перед судом еще в 1932 году, а последний, девятый раз, ее дело рассматривал нарсуд Советского района Челябинска. Здесь, как и прежде, снова клялась:
— Поверьте, граждане судьи! Это в последний раз! — и опять лились ручьями слезы. И просила она об одном, чтобы отпустили ее в дом старости, где жила она припеваючи, где сытно кормят, где мягкая постель. И пальто теплое с меховым воротником. И всегда жалели Анну, Альвину, Альбину, Прасковью. И на этот раз немного пожалели: дали всего полтора года заключения в колонии общего режима.
— Подвела ты меня, «святая Прасковья»! — швырнула иконку осужденная Прасковья. Потом одумалась. Подняла, иконку с пола и засунула в пустой карман зимнего пальто:
— Может, пригодится.
ОТЕЦ И СЫН
Не могу спокойно смотреть, когда на скамье подсудимых вижу подростков. Меня всегда волнует один и тот же вопрос: почему это случилось? Вопрос не дает покоя. Подростки. Еще не мужчины, но уже и не мальчики. Иногда тупой взгляд исподлобья, чаще опущенные глаза. И почти у каждого одинаковое последнее слово перед тем, как судьи уйдут в совещательную комнату решать его судьбу.
— Я глубоко понял, что поступил неправильно. И больше так делать не буду.
…Шестнадцатилетний Николай М. убегал из дома. Его возвращали, а он снова убегал. Последний раз задержали и поместили в Челябинский детприемник. Выдали паспорт, но работать не пошел. Затеял драку, избил человека…
В характеристике, выданной школой, говорилось:
«Семья у Николая большая — восемь человек. Отец с семьей не живет, постоянно нигде не работает. Появится в месяц раз пьяный, нашумит, за ремень возьмется и вновь отправляется шабашничать. Николай в шестом классе остался на третий год. Заявил, что учиться не будет, а как паспорт получит — пойдет работать».
Когда был суд, мать Николая, оставив малолетних детей одних, приехала в Челябинск.
Она пытается сдержать слезы, нервно мнет платок в руках:
— Я хотела как лучше. А отец пил, гулял. Сына выгонял из дома. Теперь хватился, говорит: «Погубил Кольку».
Жаль, что нет закона, который дал бы право посадить вместо сына или вместе с сыном на скамью подсудимых такого родителя. Если бы отец украл вещь, его бы наказали. Если бы бил детей. — тоже привлекли бы к ответственности. А этот детей не бил. Он просто их пугал. И «просто» украл у них детство.
Бывает и по-другому. Отец как отец, не обижает детей, не пропивает зарплату. Он даже любит сына. Иногда, по настоянию жены, сходит на собрание в школу. А в праздник посадит рядом с собой парня, похлопает по плечу, мол, помощник вырос, подаст рюмку-другую красненького. Посмеется при сыне над учительницей, что домой приходила жаловаться:
— Делать нечего, ходит. Подумаешь — вместо урока мальчишка сбегал в кино!
А вскоре Валерий не пошел в школу, пропустив все уроки.
Однажды по какой-то причине в классе не состоялся туристский поход. Ребята выпили в «честь» такого происшествия полбутылки водки. Каждому досталось всего по половинке рюмки. Кажется, мелочь. Стоит ли об этом говорить? Но на второй раз каждым был выпит стакан, в третий — еще больше.
Поступил Валерий в техникум. Первая стипендия. Отец принес вино:
— Пейте, ребята! Пейте! Взрослые теперь!
…А потом. Удар в лицо. Еще удар! Еще! Только за то, что прохожий сделал справедливое замечание. И вот перед судом шестнадцатилетний подросток.
Говорят, до этого за Валерием ничего плохого не замечали. Даже музыкой увлекался. Семья хорошая. И отец — как отец — в меру ласков, в меру строг. А почему все-таки сын ударил человека? Случайно ли это?
Давайте вашу руку, отец! Вернемся на несколько лет назад. Возможно, все началось тогда, когда вы впервые при сыне сказали:
— Подумаешь, пропустил урок — трагедия!
Назавтра сын совсем не пошел в школу. Это вы, отец, протянули первую рюмку сыну. Первую — вы. Последнюю, перед преступлением, он выпил сам.
Конечно, ни один отец не хочет видеть на скамье подсудимых сына. И вину с самого подростка снять нельзя. Но только не хотеть — мало. Необходимо, чтобы каждый родитель, оставшись один на один со своей совестью, почаще спрашивал себя:
— Все ли я сделал, чтобы сын мой был достойным человеком?
…У Владимира Шилова был хороший отец. Парфен Андреевич гордился успехами сына. Парня везде ставили в пример. Так продолжалось до шестого класса. И вдруг… Как выстрел из-за угла, прозвучала чья-то недобрая фраза:
— Вовка, чего ты их слушаешь? Они ведь тебе неродные!
Мальчишка не поверил. Полез драться. А слух все полз и полз.
— Не родной! Не родной! — дразнили соседские ребята.
— Батюшки! — судачили кумушки у ворот. — Не кричит на парнишку — боится! На своего-то и прикрикни или подзатыльник дай, а чужого не смей, не моги!
Изменился парнишка. Стал пропускать занятия. Искал родных. А когда нашел адрес родной матери, потянуло к ней в дом.
Так и началось: когда отец прикрикнет — уходит в другую семью. Жил на два дома, везде с ним заигрывали — боялись оттолкнуть.
Потом появились «друзья». Если перед ними Парфен Андреевич закрывал калитку, Володька вел их в дом матери. И она принимала.
Вскоре «друзья» угнали чужую автомашину, потом вместе обокрали магазин. Финал этих «похождений» был закономерным — всех лишили свободы.
Освободившись из заключения, Владимир работать не захотел.
— Иди, сынок, к нам на завод. Я договорился. Тебя примут, — уговаривал его отец.
А сын, лежа на диван-кровати, басил:
— Родного не послал бы! Родного устроил бы в институт. А меня, не родного, тебе что, жалко, что ли?
И опустились руки у Парфена Андреевича.
В семнадцать Владимир стал пить, посещать рестораны… Покатился вниз и вновь не обошел скамью подсудимых.
…Сгорбился отец. Ночами не спит. Все думает, а не лучше ли было не заигрывать с парнем, не бояться, что он уйдет к родной матери, а по-взрослому поговорить:
— Разве тебе, Володя, в нашей семье плохо жилось? Разве хоть раз мы поступили с тобой несправедливо? Или ты одет, обут был хуже других? Если плохо тебе у нас и мы для тебя чужие, иди к родным! Но раз и навсегда определи, где твой дом. У человека должен быть один дом.
Больно, если бы сын ушел, зато не находился бы вторично на скамье подсудимых в свои семнадцать лет.
ПОДЛОСТЬ
Утро пришло веселым. В раскрытое окно ворвалось солнце, и ветер заиграл с тюлевой шторкой.
Настроение в семье Малиных было приподнятым: Раиса Ивановна готовилась к предстоящему концерту в клубе, где она много лет была руководителем художественной самодеятельности. Михаил Петрович подшучивал над женой, уверяя, что сегодня ей не 56 лет, а два раза по 28 и что румянец у нее не обычный, а такой, как сорок лет назад, когда они встретились впервые.
— Вам телеграмма! — раздался голос с лестницы.
И не успела девушка-почтальон показать, где надо расписаться, как будто плетью повисли руки женщины, подкосились ноги. Рухнув на пол, вскрикнула:
— Женя! Доченька!
Собрались соседи. Из рук в руки стал переходить бланк со словами:
«Умерла Женя похороны 27 Галя».
Трудно дважды пережить подобное горе. Когда погиб сын летчик, Михаил Петрович, долго успокаивая жену, еще мог найти слова утешения. Но что он мог сказать ей, потерявшей единственную дочь, сейчас?
Много людей отозвались на беду Малиных. Кто-то сбегал на работу и оформил им отпуск, кто-то долго звонил на вокзал, договариваясь о билетах на первый поезд, кто-то дал телеграмму-молнию из Караганды в Челябинск, чтобы задержали похороны до приезда родителей. Телеграмму эту получила… сама Женя, со дня на день ожидавшая первого ребенка. Забыв о строгом предупреждении врачей не уходить далеко от дома, она обошла всех родных и знакомых, чтобы выяснить, кто умер. И невдомек ей было, что чья-то злая рука похоронила при жизни ее, Женю.
Когда она увидела постаревших и осунувшихся родителей и поняла, кого они приехали хоронить, то забилась в тяжелом приступе. Врачи едва привели ее в чувство.
Кто мог так «подшутить» над беременной женщиной, надругаться над ее родителями? Почему, во имя чего?
Прокуратура установила, что телеграмму дала не «Галя», а Зинаида Карагина, подписавшаяся чужим именем. Познакомившись с заключением графической экспертизы, она не стала отпираться. Да, это она послала ложную телеграмму. Да, она знала, что родители, конечно, приедут из Казахстана на Урал на «похороны» дочери. Знала, что причинит им горе. И говорит об этом хладнокровно. В прищуренных, глазах — злоба.
— Что я вам сделала плохого? — спросила ее Раиса Ивановна.
— Ничего, — отрывисто отвечает Карагина. — Но вы не волнуйтесь! За ваши билеты я как-нибудь рассчитаюсь, если суд присудит. Однако учтите, что платить я не обязана, так как в телеграмме нет слова «Приезжайте». Ну, а если вы будете настаивать, чтобы меня судили в уголовном порядке, то и пяти рублей не получите! Понятно?
Деньги? Да разве в них дело? Деньги можно вернуть, а кто излечит травму, причиненную безжалостным, бездушным человеком?
— И все-таки почему вы так поступили? — спросил прокурор.
— Я просто разозлилась и решила отомстить. Я такая по натуре, что всем мщу! — с вызовом заявила Карагина.
— За что же вы мне мстите? — вырвалось у Жени.
— Подумай и вспомни! Тебе что, трудно было привезти костюм для моей дочери? Или боялась, что я тебе денег не отдам?
— Но я же не обещала… Да и денег свободных у меня не было.
— Обещала — не обещала… Какое это имеет теперь значение? В следующий раз будешь обещать, — процедила сквозь зубы Зинаида.
Непостижимо, что столь ничтожная причина могла породить такую дикую злобу. И тогда сослуживцы Карагиной вспомнили: замкнутой была Зинаида, никогда общей радости не радовалась, чужой беде не сочувствовала. Всегда завидовала успеху других.
* * *
Коллектив цеха, где работала подсудимая, направил в суд общественного обвинителя.
— Нельзя прощать подлости, — сказал он, обращаясь к судьям. — Человек, посягнувший на наши нравственные устои, должен нести строгое наказание.
…Подсудимая отказалась от последнего слова. Что она могла сказать? Подлости нет оправдания.
ДИМКИНА БЕДА
За окном шумел ветер. На соседнем балконе стучали о перила привязанные к санкам лыжные палки.
Ноет плечо, болят суставы ног. Лечь спать? Может, как в прошлую ночь, приснится Димка. Не тот, что стоял бритый перед судьями. А давнишний Димка, что, прибежав из школы, швырял портфель, хватал лыжи и до вечера уходил с мальчишками в лес. Возвращался румяный, весь в снегу, и еще с порога кричал:
— Батя! Есть давай! Мы сейчас с Витькой в кино пойдем.
— А уроки?
— Чего ты опять с уроками? Я в классе все запоминаю.
— А стихи?
— Перед сном выучу.
Вернувшись из кинотеатра, он дважды вслух прочел стихотворение и вытащил из-под подушки толстую потрепанную книгу.
— Думаешь, дам до утра читать?
— Да я только часик один почитаю, честное пионерское!
— Знаю я твой часик с гаком!
Иван Васильевич задергивает шторку на окне и гасит свет, ловя себя на том, что разговаривает сам с собой.
…И нет сейчас с ним Димки. Только ветер шумит за окном, да стучат проклятые палки. Сколько раз просил Витькиного отца убрать их с балкона. Да этому пьянице хоть говори, хоть не говори. И сынок-дылда весь в отца.
Права была жена-покойница, когда даже на порог Витьку не пускала. А умерла, отбился Дима от рук. Особенно, когда в доме появилась мачеха.
— Уроки? Ты их сам учи с молодой женой, а мне они осточертели! Работать на завод с Витькой пойду, чтобы твой хлеб не есть!
— Тебя кто хлебом-то попрекает?
Не выдержал отец, схватился за ремень, а сын за дверь, да так ею хлопнул, что штукатурка полетела. Больше домой не появлялся.
А вскоре Димку и Витьку судили. Первого за убийство в драке, второго за изготовление финского ножа. Спрашивали на суде Ивана Васильевича, как сын дошел до такой жизни. Развел он руками: мол, ума не приложу.
На свидании наказывал строго-настрого:
— Работай получше! Зубоскаль поменьше! Чего ты на всех обозлился? Дома мачеха тебе мешала. Радуйся теперь! Ушла. Один как бобыль живу. Заболею — некому стакана воды подать.
— Сижу-то я за Витьку. Это он убил, а я лишь драку разнимал да его нож из раны вынул.
— Почему на суде об этом не сказал?
— Витьку пожалел. Он говорил: «Ты шкет. Тебе больше десятки не дадут, а меня могут в расход пустить!»
— Значит, пожалел?
— А ты бы нет?
— Нет!
— Рассказывай байки, батя! Знаю я тебя. Ты, наверное, о жёнушке молодой плачешь больше, чем о маме?
— О них не грех и поплакать. Обе они женщины хорошие были. Но об убийце плакать, да еще сидеть за него только дурак станет.
— Мы с ним на пересылке в одну камеру попали. Он меня отблагодарил, что я его от смерти спас: спер мои шерстяные носки, которые еще мама вязала. Я его, подонка, пожалел: передачей поделился и свитер с себя снял..
— Какой спрос с подлеца?! Друзья-то твои школьные, кто в институте учится, кто в армии служит, а двое в моем цеху работают — Петька-рыжий и Серега. Все о тебе спрашивают. Писали они письмо прокурору. Это, говорят, Витькина работа. Дима не мог убить.
— Неужели писали? А я на руке две пословицы латинские наколол: «Верный друг — редкая птица» и «Человек человеку — волк».
…Два месяца не писал отец сыну. Решил сам ходатайствовать за него. Несколько раз переписывал жалобу. Все казалось не так. Мучило, что не все сказал и не все знал по делу. Даже пожалел, что в свое время бросил учебу. Теперь бы вот как пригодилось. Тридцать лет кочегарил. У печи меньше потел, чем над жалобой. И все равно вроде бестолково получилось. Придя с работы, заглядывал в почтовый ящик. Не пришел ли ответ… Наконец увидел долгожданный конверт. От волнения не сразу достал из кармана очки. Не сразу одел их — тряслись руки. Не сразу понял, что в жалобе отказали.
На следующий день отправился Иван Васильевич к адвокату. Понес приговор, адрес сына и адрес колонии, в которой отбывал наказание за второе преступление Витька. Очень просил:
— Поезжайте в Москву сами. Скажите там, что по глупости наговорил на себя сын. Лет-то ему всего шестнадцать было. Какой ум? Да и товарища решил спасти горе-герой… Тот нанес удар, сын лишь нож вынул.
Уходя, Иван Васильевич натянул на лоб шапку-ушанку, помялся немного и попросил:
— Если не затруднит, узнайте в Москве, пожалуйста, как можно свести с рук наколки.
…Прошло еще два месяца. Адвокат явно не торопился с поездкой. Изучал дело. Съездил к Димке. Разговаривал с начальником отряда колонии. Ждал-ждал отец — да не выдержал. Даже слова, которые скажет в коллегии адвокатов, придумал:
— Не пойму я вас, товарищ защитник! Если не хотите дело вести, скажите прямо. Я тогда сам поеду или к другому адвокату обращусь.
Но, придя в коллегию, не застал адвоката на месте. Сказали, что в суде выступает. Пришел второй раз — говорят, в прокуратуре. Ну, а когда в третий раз пришел и, наконец, застал его, все обидные слова забыл, тем более тот показал Димкино письмо, в котором подробно описывалось, как было дело, как возникла драка, как он разнимал дерущихся, как выдернул из раны потерпевшего нож, не предполагая, что это может вызвать большую кровопотерю.
— Вот хорошо, что он прислал вам это письмо! — сказал Иван Васильевич, пряча очки в карман. — Мне на работе отпуск за два года дали. Ехать некуда. Может, вместе в Москву поедем, а? Либо поездом, либо самолетом.
— Хорошо! У меня билет в кармане. Покупайте для себя на утренний рейс. И завтра же успеем с вами в Верховный суд на прием!
Купив билет, отец собрал все письма сына. Может, пригодятся для дела. Особенно последнее, в котором обычно скупой на слова Дмитрий писал:
«Ты прав, батя, что злоба может завести человека далеко. Но уж очень сильно меня обидел Витька, ведь я за него не только свободы лишился, я готов был даже на смерть идти. Так я ему верил. Меня здесь допытывал адвокат, почему я взял вину на себя. Почему да почему? И сказал я ему то, в чем и себе признаться боялся. Рассказал, как лютой ненавистью ненавидел мачеху и решил тебе за нее отомстить. Пусть, думаю, не только я, но и отец мучается, раз на двадцатый день после смерти мамы привел в дом жёнушку. Все во мне тогда вскипело! Да разве может быть новая мама? Не судья я тебе, отец, да и ты часто повторял в те дни: «Яйца курицу не учат!». Но обида у меня была кровная.
До сих пор не могу простить тебе этого. Может, с годами смирюсь. А пока не могу. Только ты знай, что совесть моя перед людьми чиста. Вот перед защитником неудобно было — не знал, куда руки деть. По глупости разукрасил их латинскими пословицами. Мальчишество прошло, а наколки остались. Я постеснялся признаться, что изучил латынь в колонии. Не сказал, что десятый класс заканчиваю на одни пятерки и сапожное дело изучил. Неудобно было об этом говорить — еще подумает, что хвастаюсь».
* * *
В Москве адвокат остался по второму делу, а Иван Васильевич выехал в Челябинск. Не терпелось увидеть сына и сообщить ему о том, что дело затребовал сам председатель Верховного суда республики.
Вскоре освободили Димку из-под стражи. Подошел он к дому и удивился, какими высокими деревья стали. Взглянул на окно, завешенное пожелтевшими газетками, и через три ступеньки помчался на пятый этаж.
„ПРИЛЕТАЙ СКОРОСТЬЮ ЗВУКА“
Вскоре после Нового года из Челябинского универмага было похищено золота и денег больше чем на сто тысяч. Работники уголовного розыска сбились с ног в поисках преступника. На помощь челябинским коллегам прилетели прославленные муровцы из Москвы. Никто еще не знал, что ценности уже переправлены в соседний город Копейск, а преступник распивает чаи в одном из купе экспресса «Южный Урал» и путь его лежит через Москву в Тулу.
На первый взгляд могло показаться, что хищение совершили либо матерый вор, либо крупная банда: вскрыты 23 кассовых аппарата и сейф. Преступники не оставили никаких улик. Почему-то не сработала сигнализация. А ушли похитители через окно второго этажа магазина — оттуда свисала веревка.
Экспертиза установила, что контакты сигнала замкнуты проволочной перемычкой, чем и выведены из-под охраны фасад второго этажа, охранная блокировка сейфа, где хранились ювелирные изделия.
Возникла версия: не причастны ли работники универмага к краже? Инженер, он же электромонтер Шуналов, признался, что поставил перемычку, так как была неисправность в сигнализации. Собирался устранить недостаток, а потом забыл…
В то время, когда работники уголовного розыска выясняли все обстоятельства, связанные с кражей, в один из дней на городской телеграф Копейска пришла женщина. В телеграмме, отправленной ею в Семипалатинск, было всего три слова: «Прилетай скоростью звука». Сотрудники телеграфа, знавшие женщину, спросили сочувственно: «Не умер ли кто?»
— Любопытные мы нынче стали… С чего бы это? — беззлобно сказала она, кокетливо поправив прическу двумя пальцами, на которых сверкнули дорогие кольца.
Между тем милиция задержала в Туле двух парней по подозрению в бродяжничестве. Паспортов у них не оказалось. Стали «устанавливать личность», попросили назвать адреса родителей. Оказавшись в одной камере с бродягами, парни потребовали, чтобы им оформили явку с повинной. Так появилось признание двадцатилетнего Леонида Зарова:
«С 3 на 4 ноября в Семипалатинске я совершил кражу из ЦУМа. Унес шесть с лишним тысяч рублей и товар, который впоследствии выбросил с правого берега Иртыша.
В ночь на двадцатое января я ограбил кассы и вскрыл сейф в Челябинском универмаге, взяв золота на 130 тысяч. Золото спрятал в подполе дома, где живет моя мать».
Он не знал еще, что переправленное им в Копейск и спрятанное золото уже обнаружили работники уголовного розыска в подвале многонаселенного дома, на первом этаже которого жила его родительница. Не знал, что за два дня до прихода милиции мамаша начала разбазаривать драгоценности налево и направо и что из подвала уже украли золотых колец на пять с половиной тысяч рублей. Не думал, когда принес похищенное к матери и сказал: «Мама, это пахнет вышкой!», что во время очередной попойки она просто подарит незнакомой уборщице два золотых кольца и серьги с дорогими камнями, а та за бесценок попытается продать их.
Не предполагал и того, что мать, решив упрятать золото в Семипалатинске, дала телеграмму своему брату. Тот не заставил себя долго ждать. Прилетел и тут же был задержан работниками уголовного розыска.
…Вначале, когда отец и мать Леньки расходились, они не могли решить — с кем мальчику жить. В конце концов он оказался у бабушки по линии матери, которая увезла его в Копейск. Муж бабушки был артистом кукольного театра, а когда умер, паренька определили в интернат. Но в каком городе — мать на суде никак не могла вспомнить.
За кражи из двух универмагов и другие хищения суд приговорил Леонида к пятнадцати годам лишения свободы. Надо было видеть, как горько плакала в суде мать! Но не она ли виновница того, что ее сын стал вором?! Не она ли помогала прятать похищенные им ценности?
Есть в деле заключение судебно-психиатрической экспертизы Леонида. В заключении подчеркивается, что в условиях ненормальной семейной жизни у мальчика развился комплекс неполноценности. До трех лет не говорил. С трех лет заикается. По характеру общительный, драчливый, вспыльчивый, всегда старался держаться «героем». Нередко от него слышали: «Теперь обо мне узнают все!»
Он всю жизнь хотел самоутвердиться, показать, что не хуже других. Увлекался многим: шахматами, стрельбой, ездой на мотоцикле. Получил права шофера, стал радиолюбителем. И вдруг начал воровать.
Свидетель из Семипалатинска сказала: «Строго его надо судить, потому что он не только вор, но и пакостник. Весь город возмущался, когда ребятишки на обмелевшем берегу Иртыша нашли почти семьдесят штук часов. Их выбросил в реку Заров».
Судья спросил Леонида, чем объяснить этот бессмысленный поступок? Не сразу рассказал подсудимый все, как было. Из Семипалатинского ЦУМа он украл денег и ценностей на десять тысяч рублей и принес в дом дяди Толи — двоюродного брата матери. Тот взял 5600 рублей, а часы, чтобы милиция не раскрыла преступления, велел выбросить. Вот его-то, своего родственника, выдавать Леонид боялся: того уже неоднократно судили — могут признать особо опасным рецидивистом. Да и мать постоянно утверждала, что после нее и бабушки двоюродный брат — самый родной сыну человек.
Не хотел Леонид рассказывать и о том, что он и дядюшка в ресторанах деньги пропивали и знакомым девицам часы-браслеты дарили.
Долго выяснял истину следователь Зайцев.
— Вспоминай, Леня, кому еще что давали? Для тебя же стараюсь все найти.
В Копейск ездил сам разыскивать, не запрятано ли в подвале еще что-нибудь. По Челябинскому универмагу не досчитался золотых изделий на 4800 рублей, а по Семипалатинскому ЦУМу — и того больше. Радовался, что удалось вернуть государству золота на 123 тысячи рублей, как будто свое добро нашел. Так и сказал: «Как это не свое, Леня? Можно сказать, кровное, свое. Все государственное — это наше, общее».
— Значит и мое? Так за что же меня будут судить?
Другой бы возмутился, а Зайцев спокойно взял листок бумаги и давай считать. Подсчитал, сколько лет работал Ленька. Сколько за три года трудового стажа мог заработать и сколько у государства взял. Баланс, конечно, оказался не в пользу обвиняемого.
В последнем слове подсудимый сказал:
— Раскаиваюсь я! Простите!
Но простить его суд не мог. Мог только учесть, что признал свою вину и что народное добро в основном возвращено.
КЛАД
Никто не помнил, когда они поселились на главной улице старого города в бревенчатом, на высоком фундаменте доме, крытом железом.
Иван Митрофанович чуть свет уходил на работу. Анна Петровна провожала его до калитки и начинала готовить завтрак детям. Так было каждый день, пока не началась война.
Пусто стало в доме. Парни ушли в армию, дочь поступила в институт, а Ивана Митрофановича мобилизовали на строительство автомобильного завода.
Когда стало ясно, что враг скоро будет разбит, Анна Петровна, ожидая сыновей, выбелила все комнаты, кухню, сени и даже чулан.
А вскоре приехали Петр и Алексей. Не трудно представить, как радовалась мать, увидев сыновей здоровыми и невредимыми. Вернулся домой и Иван Митрофанович.
Втроем мужчины перекрыли крышу, покрасили ее зеленой краской, новый тесовый забор поставили. Жизнь здесь потекла своим чередом. Но вот наступило время, когда глава семьи стал собираться на заслуженный отдых. Проводили его с почетом. Директор завода, вручая Ивану Митрофановичу именные часы и Почетную грамоту, сказал:
— Спасибо, дорогой наш человек, за то, что в трудные для страны годы все силы ты отдавал ей. Спасибо и за то, что добрых сыновей вырастил и к нам на завод привел. Будет здоровье, не забывай нас! Приходи за помощью, если понадобится, да и секретами своими с молодежью поделись!
— Это какими еще секретами?! — Иван Митрофанович даже покраснел. — Нет у меня от людей никаких тайн, кроме того, что без работы жить не могу. С малолетства к труду приучен.
Придя домой, сложил аккуратно в комод все подарки, а через несколько дней занемог. Бывало, утром выйдет на крыльцо и, закурив, все время неотрывно смотрит в одну точку, о чем-то своем думает.
— Что с тобой, отец? — спрашивала жена, Нам бы только жить да радоваться. А у тебя словно камень на душе. Ты откройся мне… Может, полегчает…
— Рано еще открываться. Вот начну умирать, тогда скажу. Только прошу, не вздумай звать попа исповедоваться. Не знаешь кому он служит: богу или черту.
— Господи! Да ты что богохульничаешь? Ума, что ли, лишился?
— Нет, мать, я еще в своем уме. Только вот ума не приложу, как мне с умом-то поступить.
Призадумалась Анна Петровна над этими словами, но даже с дочерью Марией своими мыслями не поделилась. А как стало совсем плохо мужу, про секрет напомнила:
— Отец! Пока не поздно тайну-то мне, про которую велел напомнить, скажи. Вдруг язык потеряешь али сказать не успеешь…
— Дома-то кто есть?
— Никого.
Откашлявшись, Иван Митрофанович после короткого молчания промолвил:
— Золото у нас во дворе зарыто.
— Да ты что? Какое золото? Всю жизнь копеечку считал… Откуда оно?
— Не спрашивай откуда. Пить дай! В горле пересохло.
Вернувшись с водой, Анна Петровна застала мужа мертвым, так и не узнав до конца его тайну.
Двадцать лет хранила женщина то немногое, о чем поведал ей Иван Митрофанович на смертном одре. И только незадолго перед кончиной открыла она душу дочери Марии.
После смерти Анны Петровны дом записали на имя Марии и старшего сына Петра. Младший, Алексей, наотрез отказался от наследства. Даже нотариусу заявление написал, что оно ему не нужно: есть у него двухкомнатная квартира со всеми удобствами.
— Что ты хочешь от него, малахольного! — махнул рукой Петр. — Из родительского дома в общежитие ушел — радовался, комнату в бараке дали — счастлив был со своей Надеждой. А уж квартиру получил, совсем в раю себя считает.
— Пусть живет, как хочет. Ты не осуждай Алексея. Может, он чище нас с тобой!
— Что ты, Мария, говоришь? Мы чем себя опозорили? Ты людей лечишь. Я автомобили собираю. Ничем память родителей не запятнали.
— Память — это хорошо. Но только вместе с памятью отец еще и золото зарыл. А сколько его, откуда оно, об этом не успел сказать матери.
…Полтора года втайне от людей искали золото брат и сестра. Не спали ночами. Убрали все доски со двора. Огород перерыли. Даже яблоньку, посаженную отцом, вырвали, а клада как не бывало. Но вот, наконец, в сарае на большой глубине они нашли эмалированный чугун, закутанный в сгнившее тряпье. В нем оказались пять больших золотых слитков, золотые кольца, золотая цепь.
Кольца взяла себе Мария, цепь — Петр. Слитки перепрятали.
Спустя некоторое время после этого решил Петр купить автомашину, а денег не хватает.
— Махнуть бы нам слиточки, сестра, сразу бы пятнадцать «Жигулей» приобрели!
— А зачем тебе столько? На твой век и одной машины хватит.
— Ты, как хочешь, Мария, а я буду искать покупателей.
…Покупатель нашелся неожиданно. Приехал из Херсона, выложил восемь тысяч рублей, но просил продать только один килограмм, за остальным приедет позже.
— Вы с ума сошли, — почти закричала Мария. — Какое золото? Прямо-таки бред шизофреника… Что вы тут свои деньги разложили?
Одним махом смахнула она со стола купюры и произнесла не своим голосом:
— Вон отсюда! Вон!
— Что вы так расшумелись, мадам?! Я даю вам хорошие деньги. Если вы поднимете такой шабаш, так мы, простите, можем оказаться с вами за решеткой. Подумайте хорошенько!
Петр и Мария не спали всю ночь, а когда наутро обнаружили в почтовом ящике письмо, им стало страшно. Незнакомым почерком сообщалось, что если в установленный день в два часа не будет обещанного золота, то пусть потом пеняют только на себя — в соответствующие органы поступит заявление.
Сложив все золото в хозяйственную сумку, Мария решила поехать к Алексею.
На остановке ее догнал Петр:
— Маша! Будь благоразумной. Давай вернемся и решим, что делать. Жизнь длинная, может, самим еще пригодится.
— Жизнь может оказаться намного короче, чем ты думаешь.
…Алексея встретили у заводской проходной. Рассказали обо всем. Приоткрыв крышку, посмотрел он на золотой клад, взвесил на руках сумку и прикинул:
— Тут, пожалуй, килограмма три наберется. Пойдемте в банк или в милицию и сдадим. Пусть государство возьмет, а вам процентов двадцать за находку дадут. Мне это барахло не надо. Не семеро по лавкам.
— Тебе не надо, а нашим нечего распоряжаться. Пойдем, Мария!
— Подождите! — сказал Алексей. — Я позвоню начальнику цеха. Отпрошусь на пару дней.
В электричке ехали молча. Петр и Мария рядом, напротив — Алексей. Он почти год не видел сестру, хоть и жил в одном городе. Только теперь заметил, как она постарела. Ему захотелось подсесть к ней, обнять, успокоить. Он даже привстал, но Петр так посмотрел на него, что брат сел на свое место, махнув на все рукой: «Будь что будет!»
…Марию и Петра задержали в магазине, куда они пытались сбыть по себестоимости все золото. Алексея с ними не было. Он вернулся домой.
Принимая во внимание первую судимость и то, что они отказались продать благородный металл валютчику, а принесли его в магазин, хотя надо было обратиться в банк или в милицию и получить здесь то, что причиталось за находку клада, Марию и Петра не лишили свободы.
Выходя из суда, Петр сказал Алексею:
— Запомни, у тебя нет брата!
— Переживу! Пойдем, сестра!
И они направились твердой походкой к автобусной остановке. Петр долго смотрел им вслед.
СЕДАЯ ПРЯДЬ
Желающих послушать этот процесс было много. Люди стояли в проходах, на лестнице, в коридорах.
Заметно волновался судья. За тридцать лет работы ему впервые пришлось рассматривать подобное дело.
В сопровождении конвоиров в зал вошла женщина среднего роста, худощавая, лет сорока. Серый в черную полоску сарафан ладно облегал стройную фигуру. Подсудимая теребила длинные рукава черной шелковой блузки, и вначале казалось, что она ищет своих детей: сына и дочь. Но взгляд ее остановился на одном из мужчин, стоявшем недалеко от окна. По тому, насколько элегантно, со вкусом был одет этот высокий человек, можно было подумать, что он пришел в театр, а не в суд, где ему предстояло выступить в качестве основного свидетеля.
Через пять дней все, присутствующие в зале, услышали последнее слово подсудимой Валентины Голенко:
— Я виновата, очень виновата, совершив преступление, какое, возможно, никто не совершал. Я убила ребенка и своим преступлением ранила самого близкого мне человека, его семью. Я опозорила свою мать и коллектив, где работала много лет. Сама изуродовала детство и юность моих детей. Никогда не говорила последних слов и не слышала, как их говорят. Мое последнее слово может быть действительно послед ним и прощальным. Но если вы будете гуманны к моим детям, то сохраните мне жизнь. Верю, что суд вынесет справедливый приговор.
После этих слов, к которым все присутствовавшие в зале остались равнодушными, суду предстояло определить меру наказания.
…Из подъезда дома вышла в котиковой дохе женщина. За ней бежала трехлетняя девочка:
— Те-тя! Те…
Внезапно девочка упала. Из ее рта шла пена. Напрасно подоспевшие трясли ребенка, напрасно щупали пульс. Безжизненное тело распласталось на слегка подтаявшем снегу.
Собрались люди. Одна из женщин, очнувшись от минутного оцепенения, громко сказала:
— Да это же Галочка, из нашего детского садика, в одной группе с моей дочкой. Она и живет со мною по соседству.
Следственным органам необходимо было выяснить, отчего умерла девочка. Эксперты установили, что смерть наступила мгновенно от быстродействующего яда.
Молодая воспитательница детского сада сообщила, что в конце дня за ребенком пришла женщина в котиковой дохе.
— Галочка, папочка уехал. Он скоро приедет и привезет тебе самую красивую говорящую куклу. А сейчас пойдем домой.
В это время раздался телефонный звонок. Воспитательница ушла в соседнюю комнату и сняла трубку. Когда вернулась, ни девочки, ни той, которая пришла за ней, не оказалось. Почему отдала ребенка? Да потому, что работает в садике только третий день и еще не знает всех родителей в лицо.
Начались поиски женщины, приходившей в детсад.
Мать Галочки, когда ее привели в чувство, уверяла, что ни у нее, ни у мужа, уехавшего в командировку в Киев, нет недоброжелателей.
Женщина, опознавшая умершую девочку, сказала, что семью Галочки знает плохо, но однажды был случай…
— Впрочем, случилось это давно и не имеет, очевидно, значения…
— Что вы имеете в виду? — насторожился майор милиции.
— Я бы не хотела и говорить, а то скажут — сплетничает. В прошлом году на дневном сеансе в кинотеатре я встретила отца девочки с одной женщиной…
— Она была в котиковой дохе? — прервал майор.
— Нет, в нарядном летнем светлом платье. Сидели они впереди меня, переговаривались. Даже сосед им замечание сделал. Кончился фильм. Я поздоровалась с Юрием Семеновичем. Он кивнул мне. Сделал вид, что не знает сидевшей рядом с ним, и пошел в другую сторону. Я удивилась. Даже мужу рассказала об этом.
— Что вы можете сказать о внешности женщины?
— Ничего особенного, если не считать, что в черных волосах седая прядь.
Работники милиции, несмотря на поздний час, встретились с начальником отдела кадров научно-исследовательского института, где работает отец девочки. Что можно сказать о Юрии Семеновиче? Ничего плохого. Сотрудники его уважают. Инженер он опытный. Полностью сдал кандидатский минимум. Скоро будет защищать диссертацию. Есть ли у него друзья в институте? Есть.
В двенадцатом часу ночи позвонили одному из приятелей Юрия Семеновича.
— Что? Из милиции? Безобразие! Какая седая прядь? Кто вам дал право беспокоить ночью? — раздался ответ и в трубке послышались короткие гудки. Пришлось позвонить вторично, а затем еще раз, пока человек, наконец, поверил, что ему действительно звонят из милиции по очень важному, не терпевшему отлагательства делу.
— Вас интересует преподаватель английского языка? Знаю, что она работает в институте и помогала моему другу подготовиться к сдаче кандидатского минимума по английскому языку. А вот как звать и где живет — точно сказать затрудняюсь. Если не изменяет память, имя ее, кажется, Валентина. У нее вроде бы седая прядь…
Вскоре удалось установить место работы и адрес этой женщины.
— Подсудимая! Кто-нибудь знал о ваших близких отношениях с отцом погибшей девочки? — спросил судья.
— Только сестра. А дети думали, что он приходит заниматься ко мне, что я ему даю уроки. Чтобы не мешать, сын всегда уходил из дома, а дочка была в садике, или я ее отводила к сестре.
Никто не догадывался, что Валентина живет второй жизнью, каждый раз с трепетом ожидая встречи с любимым, с нетерпением ждет от него писем, если он в командировке или с женой на курорте. Никто не мог предполагать и того, какие нежные письма пишет она и какие ответы приходят на эти письма…
Как-то, когда он успешно сдал кандидатский минимум, они поехали на озеро. Загорали, плавали, катались на лодке, А потом до рассвета сидели у костра. Сидели молча. Им было хорошо. В такие минуты не нужны слова.
Подбросив в костер хворосту, она мечтательно сказала:
— Вот так бы всю жизнь!..
— Можно бы и всю жизнь, если бы не Галочка. Ее я оставить не могу!..
Сказано это было так, между прочим, но ей запомнилось…
Потом в бессонные ночи ее сверлила мысль: «Если бы не Галочка…» Идя в институт, думала: «Если бы не Галочка…»
«Может, я схожу с ума? Может, необходимо обратиться к врачу? Невропатолог говорил, что надо подлечить нервы. Даже пошутил: «Бальзаковский возраст!» Посоветовал уметь владеть собой. Сказал, что человек сам может завести себя в такие дебри, из которых трудно выбраться…»
— Ты стал холодней ко мне! — все чаще упрекала она любовника. — Почему ты не разрешаешь проводить тебя в Киев до самолета? Ты боишься, да? Ты — эгоист! Думаешь только о себе, а не видишь, как я страдаю!
Он видел все, но не собирался оставлять семью. И не потому, что любил жену, а просто привык к уже заведенному ритму семейной жизни, когда все идет ровно и спокойно, как часы. Ему казалось, что так будет продолжаться очень долго, без конца… И, конечно же, при этом не приходила мысль о трагической развязке, которая может наступить в тот день, когда Валентина, придя в детский сад, уведет Галочку. Боялся он и того, что разрыв с семьей повлияет на его будущее — приближалось время защиты диссертации.
Суд приговорил Валентину Голенко к двенадцати годам лишения свободы. Верховный суд РСФСР отклонил протест прокурора на мягкость наказания.
ОДНА НА КАЧЕЛЯХ
«Здравствуй, мама! Твое письмо получила. Больше писем в таком духе не пиши. Отвечать не буду. Я веду себя хорошо: не балуюсь. Мою руки перед едой. Когда перехожу улицу, смотрю налево, потом направо. Не играю со спичками. Не пью холодной воды. Марина».
Это письмо мать передала судьям. Когда его читали, подсудимая, уставившись в потолок, усмехалась. Мол, стоило эту галиматью везти из Краснодара на Урал? Да и кто поймет, что вложила она, Марина, в эти строки? Надо было читать между строк, а не то, что написано черным по белому.
Марина перевела взгляд на мать. Зло сверкнули суженные глазки.
…Дочки-матери. И когда вы научитесь читать письма друг к другу, понимать взгляд и даже молчание? Ведь ближе вас двоих нет на свете людей. Близкие когда-то, далекие теперь. Когда вы стали чужими? Когда ошиблись? Может, тогда…
Марину из Краснодара отправили пожить у тети в далекое уральское село после того, как разошлись родители, пусть девочка придет в себя после пережитого. Все поначалу шло неплохо. Только вдруг по селу пополз слушок: ночевала в доме парня, с которым учится в одном классе…
Подружка, потупив глаза, сказала:
— Марина! Мама не разрешает мне дружить с тобой. Ей учительница по химии сказала: «Лучше бы ваша дочь держалась подальше от этой новенькой… Мало, что она хорошо учится. Про нее тут говорят всякое. А раз говорят — зря не скажут».
— Что же вы ответили подруге? — спросил подсудимую один из народных заседателей.
— Я ей сказала: «Дуры и ты, и твоя мама, и химичка тоже!» И сразу же, не заходя в, дом тетки, села на первый проходящий автобус и уехала в город на вокзал. Решила вернуться в Краснодар к матери.
— А почему не зашли попрощаться к тете, ведь вы прожили у нее больше двух месяцев? — поинтересовался заседатель.
— Вот еще! Чего с ней прощаться, если она на меня руку подняла. Да зачем вам все знать? Вы судите меня, что я украла транзисторный приемник и девчонку порезала. Виновной себя признаю… Что вам еще от меня надо?..
Марина замолчала. Длинной показалась ей эта минута. Кто знает, о чем она думала? Может, о том дне, когда отец, оставляя семью и уезжая на Север, пообещал привезти белого медведя. Не игрушку, а настоящего… Может, о том, как, получив письмо, мать приняла какие-то таблетки и, крепко прижав дочь, стала несвязно говорить:
— Мне плохо. Если я умру, не вздумай поехать к отцу! Он нехороший человек. Он бросил нас. Лучше иди в детский дом или к любой из бабушек, только не к нему.
— Отец не хуже тебя! Из-за того, что будет платить алименты, он машину купить не сможет.
— Доченька, я умираю!
Марина опомнилась, когда мать упала на пол. Вскоре прибыла машина «Скорой помощи».
Мать долго лежала в больнице. Ее навещали соседи и сослуживцы, даже свекровь приехала из другого города.
— Горюшко ты мое, горе! — ласково обращалась она к внучке. — Не раз говорила я отцу и матери, что если жизнь не идет — лучше разойтись, не мучить друг друга и дитё не калечить…
— Ну ладно тебе, бабушка, распричиталась. Папка тоже хорош! При мне мать ругал, и перед отъездом сказал: «Не слушай ее!»
— Да ты кушай, кушай! На вот тебе куриную ножку! Похудела-то как! Осунулась… Поди, и учиться-то стала хуже?
— Научишься с ними! Как они мне, бабуся, надоели, эти родители…
Мысли подсудимой прервал судья:
— Так почему же вы решили вернуться к матери, если перестали уважать ее?
— А куда мне было деться? Я обиделась на всех. И на тетку: нашлась воспитательница, кроме кулаков ничего не
признает. Выдеру, говорит, тебя как сидорову козу. На все село кричит: «Я тебе покажу, как письма блатные получать!» Разве я виновата, что в письме мальчишки написали: «Мы тебя под землей найдем! Тебе осталось жить немного!» Если бы тетка хорошей была, задумалась бы, как меня от этих хулиганов защитить, а не бить… Вот и приехала я на вокзал, а денег на билет нет… Зима. Холодно… Хотела на вокзале погреться, да там дустом пахнет. Я этот запах не переношу. Решила пойти по квартирам с тетрадкой, будто выясняю, нет ли там первоклассников, а если хозяева отвернутся или в другую комнату уйдут, то украду денег на билет в Краснодар. В квартире, где живет потерпевшая девочка, я взяла транзисторный приемник. А когда она меня укусила, схватилась за ножик. Перед отходом поезда меня задержали…
Едва подсудимая закончила говорить, как подняла руку потерпевшая девочка:
— Я ее укусила потому, что она мне руки веревкой хотела связать.
Работники милиции, задержав Марину на вокзале, обнаружили у нее два письма. Написанные разными почерками, они начинались одинаково: «Здравствуй, Мурка!»
В одном письме угрожали:
«Не забудь про левую руку! Если ответа от тебя не дождусь, то будет то, что я обещал. Дормидон приедет после 2 февраля, только не знает, как найти тебя, девочку-паиньку, как до тебя добраться».
— Что вы скажете в последнем слове? — спросил Марину судья после того, как выступили прокурор и адвокат.
Она бы сказала о многом. Несколько ночей не спала, думая, о чем просить суд в последнем слове. Даже половину ученической тетрадки исписала. Соседка по камере советовала начать так: «Я прошу прощения у потерпевшей и у своих родителей».
Такое начало Марине не понравилось. Не она у родителей, а они у нее пусть просят прощения за то, что сделали ее такой. Может, назло им, дорогим родителям, она и пошла в компанию Дормидона, закурила там первую папиросу и выпила первую рюмку вина, а потом до утра бродила по городу. Мать была аккуратной и любила в доме порядок. Как ей хотелось вывести родительницу из себя и добиться, чтобы та ее оскорбила. Тогда бы нашелся повод уехать к отцу на Север. Подальше от дома и от этой компании мальчишек. Пугать надумали, левую руку обожгли, добиваясь клятвы, что никому не расскажет об их делишках. Вспомнила, как они смеялись, когда сказала, что хочет стать следователем. А кто ее теперь примет в юридический институт, если есть судимость?
— Да скажи ты ей, чтобы попросила судей не лишать свободы! — крикнула мать отцу, приехавшему на процесс. Отец сидел недалеко от матери на другой скамейке у окна.
— Пусть получает то, что заслужила! — ответил он.
Эти слова услышали судьи, и Марина тоже. Вот тогда-то она и сказала свое последнее слово:
— Что заслужила, то и получить должна — папа прав.
Марину приговорили к четырем годам лишения свободы.
Отец в тот же день уехал на Север. На свидание к дочери пришла мать.
Ничего не сказала ей Марина: ни здравствуй, ни прощай. Сидела молча, опустив глаза. Только когда конвоир объявил, что свидание окончено, мать увидела, как вздрагивают плечи девочки.
— Я обжалую приговор! А ты поплачь, поплачь — легче станет, — услышала Марина голос матери.
Попросив адвоката написать кассационную жалобу и выступить в областном суде, мать вылетела из Челябинска в Краснодарский край, к месту работы.
Отец… Он еще на суде пожал плечами: «Плачу алименты и немаленькие. Плачу аккуратно. А что там произошло у вас — разбирайтесь сами. Я тут при чем?»
…Признаюсь, дело Марины ошеломило меня. Ей четырнадцать лет! С одной стороны, одаренная девчонка, с другой — разбойница, связывающая руки восьмилетней девочке. Не верилось, что школьнице-отличнице могут писать: «Здравствуй, Мурка». Как будто она на качелях, то вверх взлетает, то вниз… А вдруг оборвутся качели?
Если областной суд оставит приговор без изменений, кто знает, как сложится ее дальнейшая судьба? А если приговор будет изменен и определено условное осуждение, куда она денется? К тетке в село не вернется — даже от свидания с ней отказалась. Отец вряд ли возьмет к себе: «Пусть получает то, что заслужила».
Осталась мать, но между ней и дочерью стена отчуждения. Как разрушить эту стену?
С этими мыслями я шла выступать по делу Марины. Очень волновалась, как будто она была не подзащитной моей, а дочерью, попавшей в беду. Мне от души хотелось подать ей руку помощи, сделать для нее все, что в моих силах. Но как?
Нас пятеро. Судьи, прокурор и я. Прошу суд отложить дело и вызвать мать осужденной. Прокурор возражает, ссылаясь на то, что в народном суде есть ее показания, и суд учел все: и возраст, и тяжесть преступления, назначив наказание ниже низшего предела, предусмотренного Уголовным кодексом РСФСР.
Судьи, посовещавшись, отложили дело на несколько дней, чтобы вызвать мать. Об этом телеграфно и авиаписьмом я сообщила ей в Краснодар. Просила приехать в областной суд — на тот случай, если дочери будет определено условное наказание, кто-то должен увезти ее домой.
…Рано утром, в тот день, когда было назначено вторичное рассмотрение дела в областном суде, у меня на квартире раздался звонок.
— Говорит мама Марины. Я из аэропорта… Приехала по вашему вызову.
И вместо того, чтобы толково рассказать, как проехать в суд, я, рискуя разбудить семью, кричу в трубку:
— Здравствуйте, мама!
…Через три дня Марина, держа мать под руку, подошла к зданию суда. Поднялась на второй этаж и несколько раз заглянула в зал, чтобы посмотреть на судей, которые, изменив приговор, освободили ее из-под стражи. Зайти так и не решилась. Боялась помешать. Ведь там, в зале, решалась еще чья-то судьба…
Они уехали вместе, мать и дочь. Впереди была нелегкая дорога, и прежде всего — друг к другу.
ЮЛЬКА
В глубине двора затерялся маленький домик. Ставни его закрыты наглухо.
Вот уж, пожалуй, года два не видели соседи раскрытых окон, не слышали песен Юльки. А ведь бывало, с утра до ночи, как колокольчик, звенел голос девочки. Звенел, переливался и вдруг замолк. Где ты, Юлька? Почему не слышно твоих веселых песен? Кажется, совсем недавно вбегала ты в калитку и радостно кричала:
— А у меня пятерка, а у меня пятерка!
Отец, счастливо улыбаясь, выходил тебе навстречу. Казалось, в такие минуты он даже ростом становился выше.
И ты, Юлька, захлебываясь, рассказывала ему, как отвечала урок и как учительница при всем классе сказала:
— Молодец, Юля, умница!
— Да умница ты моя! — похвалил тогда тебя папа.
Когда это было? Лучше не спрашивать девочку об этом — опять задрожат от обиды губы. И словно замрет она, думая о чем-то далеком. О чем же, Юлька?
Может, о том, как в первый раз надели на тебя школьную форму и вплели в косы белые капроновые ленты, как из школы ты шла счастливая с родителями и, размахивая портфелем, без конца повторяла, что в вашем классе — самая лучшая учительница?!
В тот вечер твоя тетя, сестра отца, увидев тебя, даже руками всплеснула, а потом торопливо вынула из старого альбома пожелтевший снимок, где она была сфотографирована в твоем возрасте, и долго смотрела то на тебя, то на пожелтевший снимок: ты похожа на нее, как две капли воды.
У бабушки и дедушки ты была любимой внучкой. Посмотри, они совсем состарились. Пойти бы тебе, Юлька, к старикам! Глаза у тебя острые, энергии много. Ты и нитку в иголку вденешь, и пол помоешь, и воды принесешь.
Но почему перед тобой закрылись двери их дома?
— Мы тут ни при чем! — оправдывается бабка. — Разве не мы ее нянчили, не мы ее лелеяли? Единственным солнышком была она и сыну нашему. Только вот, сказал ему кум, что дочка не его. Ну а коли не его, так и нам зачем она? Не нужна она нам!
— Не нужна! — вторит ей дед.
— Если бы лютый враг сказал, что она — не родная дочь, я бы не поверил, а то ведь кум сказал. Ему врать нет смысла! — рассудил отец Юлии Михаил Григорьевич.
Так захлопнулась перед дочерью дверь отцовского дома. И хотя не оставили в беде девчонку с матерью соседи, можно ли залечить глубокую рану в сердце? Чужие люди им стали родными, а вот родной человек отвернулся.
— Уходи от меня! Я тебе чужой! — крикнул Юльке отец. — Уходи из дому, чтоб я ни тебя, ни твоей матери не видел!
А случилось все после того, как, изрядно выпив и поссорившись с отцом девочки, кум с порога крикнул:
— Не хозяин ты! И не отец! Черт тебя побери!
И, хлопнув дверью, пошел пьяной походкой восвояси.
Всю ночь Михаил Григорьевич не сомкнул глаз, а наутро пошел к куму. Прихватил пол-литра водки. Обрадовался кум — снова можно выпить.
— Скажи мне, Александр, чья Юлька? Скажи, положа руку на сердце.
— Как чья? А разве она не твоя? Мы же с тобой за ней в роддом ходили.
— Но ведь вчера вечером ты сказал, что она не моя. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
— Я сказал?! — искренне удивился кум. И, рассердившись, крикнул:
— Да ты что, лиходей, напраслину на меня возводишь?
С тех пор, как выгнал Михаил Григорьевич жену и дочь и закрыл ставни, прошло немало времени. Идет на работу или с работы — одна мысль его гложет: «А вдруг Юлька родная мне? Ведь на мою родню похожа…» С этими мыслями он ложился спать и вставал. Затопил печь — ладно, не затопил — тоже ничего. Осунулся, похудел, сгорбился.
— Ты что переживаешь? — стали говорить ему сослуживцы. — Подай заявление в суд — там разберутся, наврал твой кум или правду сказал. Выгнать счастье из дома — большого ума не требуется. Попробуй вернуть его обратно. Жена у тебя хорошая, дочь еще лучше.
…Когда за клевету судили кума, он бил себя в грудь: «Поверьте, люди добрые, сказал я все спьяна. И сам не знаю, что сказал. Но зла не хотел сделать. Не подумал, что Михаил так близко примет к сердцу мои слова».
Сболтнул человек напраслину, но до сих пор обходит свой отчий дом Юлька.
НА ШИРОКУЮ НОГУ
Дело рассматривалось третью неделю. За окнами судебного зала ярко пылало солнце. Ветерок еле-еле шевелил притихшую листву. Один из подсудимых, широкоплечий Арунас, на миг вспомнил такой же солнечный день на золотом пляже Ялты. Он долго загорал, а потом уплыл далеко-далеко в море. Свободу не замечаешь, когда пользуешься ею. А теперь он мечтает о ней, она снится ему каждую ночь. И еще вспоминаются спортивные соревнования в Сочи и Минске, в Вильнюсе и Москве, за рубежом. Были аплодисменты, кубки, дипломы и грамоты, многочисленные поздравления. Брат Раймондас тоже считался отличным спортсменом. И мать радовалась за своих сыновей, гордилась ими.
А вот сейчас, низко опустив плечи, смотрит она на скамью подсудимых, где по обе стороны от своего отца, ее бывшего мужа, сидят два ее сына. В эти минуты перед ней мысленно проходит их жизнь. Кажется, совсем недавно один поступил в педагогический институт, другой — в институт физкультуры… Годы учебы, участие в состязаниях, когда старший, Арунас, оказался сильнейшим среди юношей страны в толкании ядра. Его портрет опубликовал журнал «Легкая атлетика».
Когда ее оставил муж, Арунасу было восемь лет, а Раймондасу всего четыре года. Мальчики жили то у нее, то у бабушки, то у отца, который, часто меняя спутниц жизни, не баловал детей вниманием.
На суде мать выступала в качестве свидетеля.
— Я почувствовала неладное после Нового года, — сказала она, — когда Арунас и Раймондас уехали к бабушке и словно в воду канули. Передумала все. Но то, что они могут участвовать в спекулятивных махинациях — такая мысль мне не приходила. Даже и сейчас, когда факты неопровержимы, в это трудно поверить…
И вот теперь судьям предстояло установить, как юноши, в недавнем прошлом хорошие ребята-спортсмены, студенты, встали на путь преступления.
Конечно, ни мать, ни судьи не знали, как молодая мачеха, расхаживая по квартире в роскошном халате, доказывала неродным сыновьям, что главное в жизни — деньги.
— Только одни умеют делать их, — говорила она, надевая на пальцы золотые кольца, — а другие…
— Другие, — продолжал отец, — как ваша мать, например, восемь часов крутят баранку троллейбуса и получают за это не больше ста пятидесяти. А я вот в месяц могу иметь тысячу рублей, а то и три.
— Не тронь мать! — нахмурил брови старший сын.
— Поделись опытом, — перебил его младший.
— Привозим мы в Куйбышев, допустим, двадцать шесть шуб и получаем за каждую на сто — сто двадцать рублей больше, чем она стоит у нас в Каунасе. Не так уж трудно подсчитать прибыль… У тебя же почти высшее образование, — лукаво подмигивает отец.
И вот поездки в Куйбышев, Свердловск. В Челябинске их задержали с поличным. Выяснилось, что товар доставала мачеха.
— Где вы приобрели столько шуб? — спрашивает у нее судья.
Валентина Петровна допрашивается в качестве свидетеля. Поправив нарядную кофточку, она рассказывает о том, как сорила деньгами, ездила на юг, о приобретении мебели, хрусталя и других дорогостоящих вещей.
— Прошу вас, — обращается судья к свидетельнице, — говорить более конкретно по существу дела.
— В Куйбышев мы привезли всего двадцать шесть шуб, а сколько в Свердловск и Челябинск — не припомню… Мой муж, — кивает она в сторону Ионаса, — знает. У него хорошая память…
— Да, я предложила Арунасу спекулировать, — продолжает Валентина Петровна. — Не хотела, чтобы он жил с нами. Думала, будет у него много денег, купит кооперативную квартиру. Где доставала шубы? Это для меня не составляло труда — имела связи. Да и кустарные могла достать…
Суд тщательно выясняет все, что связано со спекулятивными махинациями подсудимых. В ходе разбирательства все более становится очевидным, как отец развращал сыновей. Ведь именно он поручил им первое «дело» — продать в Свердловске несколько шуб.
Подсудимым предоставили последнее слово. Ионас Косто долго молчит, неподвижно глядя в какую-то точку на стене. Быть может, он сожалеет, что поторопился расстаться с первой женой — матерью его детей, трудолюбивой женщиной?
— Во всем виновата моя нынешняя жена, — произносит, наконец, Ионас. — Она втянула меня в преступление. Меня и сыновей. Но и моя вина перед ними тоже есть. Прошу смягчить мне меру наказания, так как у меня двухлетний ребенок. И еще престарелая мать. Но самое главное — прошу суд не лишать свободы моих сыновей.
Он тяжело опустился на скамью подсудимых. Потом говорил Раймондас. Начал он издалека:
— До 1974 года я учился в пединституте, но специальность мне не нравилась. Жил с матерью. С одиннадцати лет стал заниматься конным спортом. А в январе этого года приехал к отцу. Его жена Валентина посоветовала поехать в Челябинск продавать шубы. Вот и поехал. Прошу не лишать свободы. Буду работать и учиться.
— А я хочу извиниться перед мамой. Очень виноват перед ней! — сказал Арунас в последнем слове. К этим словам он больше ничего не мог добавить — сдавило горло.
И вот оглашен приговор. Ионас Косто и его младший сын были приговорены к лишению свободы, а Арунаса суд счел необходимым направить на стройки народного хозяйства.
ЛАНКА
Ее звали Ланка, Лана. Такого имени не было ни у одной девчонки в школе. Впрочем, не было ни у одной и таких серо-зеленых глаз под длинной бахромой черных ресниц. А мальчишки не знали, блондинка она или брюнетка — ее косы были пепельного цвета. Никто из ребят не решался предложить ей дружбу. Боялись — поднимет на смех. Она такая. Просмеять кого-нибудь ей ничего не стоило. Любила носить комбинированные платья, шила сама, перешивала все то, что можно было перешить.
В отличницах Ланка никогда не ходила, но задачи решала быстрее всех в классе, писала самые интересные сочинения, хотя и не без грамматических ошибок.
Она никогда не списывала с чужих тетрадей, а свои охотно давала всем, кто попросит. Однажды, выполняя контрольную задачу, перепутала синус с косинусом. Трое девчонок, списавших у нее решение, повторили ошибку. Это возмутило учительницу математики. Пол-урока она выясняла, кто у кого списал, но так и ничего не узнав, предложила всем четырем завтра же пригласить в школу родителей.
— А если у меня нет родителей? — спросила Ланка.
— У тебя есть мать, пусть она и придет.
— Я же сказала, что я не списывала, — стояла на своем Ланка.
— Тогда скажи, кто у тебя списал? — попросила учительница.
— Я друзей своих выдавать никогда не буду. Маме ничего не скажу. А если без нее не пустите, то вообще оставлю школу, — вспылила девушка.
— Ложное у тебя, Лана, представление о дружбе. Но если ты когда-нибудь еще будешь разговаривать со мною таким тоном, придется тебя просто попросить выйти из класса.
— Вам не придется просить меня об этом. Я сама уйду. — Собрав тетради и книги в портфель, Ланка быстро вышла.
Она не пришла в класс ни завтра, ни послезавтра. Ее документы получил брат, объяснив директору, что сестра устроилась ученицей в швейную мастерскую, а учиться будет в вечерней школе.
…Спустя некоторое время началась война. Все мальчишки из десятого «Б» пошли на фронт. Вернулись домой не все. А тот, кто вернулся, услышал о Ланке страшную историю.
Была у нее задушевная подружка Галка, кассир одного из заводов. Познакомились они на танцах. Увидев на Ланке нарядное платье, Галина спросила:
— Кто это тебе так хорошо шьет? Познакомь меня с твоей портнихой.
— Я сама шью. Хочешь, тебе такое же сошью.
Девушки подружились — вместе ходили на танцевальные вечера, часто ночевали друг у друга, вместе сдавали кровь для раненых фронтовиков.
На одном из танцевальных вечеров Галину пригласил интересный парень. Потом проводил ее домой, назначил свидание, а через неделю сделал предложение.
— Но ты же его мало знаешь, — ответила Ланка, когда подруга поделилась с ней этой новостью.
— Он такой хороший, такой необыкновенный! Его отец был другом поэта Есенина. Он мне даже стихи посвятил. Правда! — уверяла Галина.
— Кто: отец или твой Сергей?
— Мой Сергей, конечно! Ты только послушай, что он написал:
«Тебе лишь двадцать лет.
У вас своя дорога.
Вы можете смеяться и любить…
А я… Я пережил так много».
— Это не его стихи, — перебила подругу Ланка.
— А я говорю его, Сережины, — сердито ответила Галина. В последние дни она только и говорила о замужестве, с нетерпением ожидая каждодневной встречи с будущим супругом.
Между тем Сергей не спешил с регистрацией брака. Оттого, наверное, Галина с каждым днем становилась все мрачнее и раздражительней. Ланка жалела ее, помогала чем могла.
* * *
Как-то к Галине прибежал Сергей. Ничего не объясняя, сказал, что к часу дня ему необходимо достать тысячу рублей. Он просил помощи, намекнув, что заводская касса не обеднеет, если на два дня, только на два дня, она возьмет в долг всего одну тысячу.
— Касса не сойдется. Что я тогда скажу бухгалтеру?
— Галчонок, ты просто не хочешь меня выручить, а значит, не любишь. Раз так, зачем выходить за меня замуж?
Сергей объяснил, как и что нужно подделать, чтобы недостачу не обнаружили.
В обеденный перерыв Галина принесла деньги. Вечером они встретились. Он нежно целовал ее, гладил руки, просил еще немного подождать до свадьбы. В тот вечер Сергей сказал Галине, что на несколько дней уезжает в командировку. Оба поехали на вокзал. Долго махала Галина вслед уходящему поезду.
Прошел месяц, а возлюбленный не возвращался. Бухгалтер Мария Петровна при первой ревизии выявила недостачу и потребовала немедленно внести недостающую сумму, иначе дело будет передано в прокуратуру.
Испугавшись, Галина написала расписку о том, что в течение трех дней погасит задолженность. Едва набрав пятьсот рублей, она и Ланка пошли к Сергею. Но дома его не оказалось — еще не вернулся.
«Остается последний день. Послезавтра бухгалтер всем скажет, что Галка — воровка, начнется следствие. Стыд-то какой!» — думала Ланка, переживая за подругу.
— Ну чего ты плачешь, Галочка? Надо искать выход. Давай уговорим бухгалтершу, чтобы еще несколько дней повременила. Ты завтра ее приведи ко мне. Отдадим пятьсот, остальные внесем постепенно. А я за то, что подождет, всю жизнь буду бесплатно ей шить.
Назавтра Галина привела Марию Петровну. Услышав, что собрана лишь половина суммы, бухгалтер не стала разговаривать, заявив, что сообщит директору завода о краже.
Напрасно подруги просили подождать хотя бы еще дня три. Напрасно рыдала Галина.
— Ты меня правильно пойми, — объяснила Мария Петровна. — Я тебе сегодня тысячу прощу, а ты завтра две украдешь!
— Не украдет! Она не воровка! — горячо возразила Ланка.
— Тот, кто залезает в чужой карман, — вор.
— Я ни у кого ничего не украла, взяла только на два дня, — закричала Галина.
— По какому праву ты со мной так разговариваешь? — возмутилась Мария Петровна.
— Потому что я не воровка. Я хотела помочь своему жениху, но с ним, видимо, что-то случилось.
— Ничего с ним не случилось, милая моя. Наверное, где-то еще одну такую, как ты, глупую сватает.
— Так я по-вашему воровка и дура? — Лицо Галины исказилось от злости.
Потом все произошло словно во сне. С ужасом смотрела Ланка, как набросилась подруга на Марию Петровну, как, схватив молоток, начала бить женщину по голове, по лицу. Ланка хотела кричать, звать на помощь — не могла. Вскоре все было кончено…
— Ты куда? — испуганно спросила Ланка Галину, когда та направилась к выходу.
— Домой.
— А я как? Скоро придет мама. Что я ей скажу?
— Говори, что хочешь. Я у тебя не была и ничего не знаю. Если следы не смоешь, а труп не уберешь, скажут, ты убила. А я ни при чем.
На мгновение Ланка представила весь ужас положения, в которое поставила ее Галина, та самая, которую она считала близкой подругой.
— Уйди, бессовестная! Пусть меня расстреляют! Но знай, я не такая, как ты! Я не стану сваливать вину на тебя, не пойду доказывать. Только уходи и никогда не показывайся мне на глаза, а то я сама тебя убью, — произнесла. Ланка, ошеломленная поступком подруги.
Но Галина не ушла. Труп спустили в подпол, лихорадочно стали замывать следы крови. Когда пол был отмыт, Галина обнаружила, что дверь не заперта на крючок.
— Теперь все равно! — махнула рукой Ланка. — Уходи быстрее и больше чтобы я тебя не видела, — сказала она, выталкивая бывшую подружку за дверь.
Ночью вернулась с работы мать. Квартира блестела чистотой, а пол добела отскоблен ножом. Ничего не напоминало о страшной трагедии.
* * *
Любое преступление не остается безнаказанным. Труп обнаружили в колодце, куда его позднее спустила Ланка.
Пока не предъявили Галине ее расписку, обнаруженную в сейфе бухгалтера, она, в ходе следствия, вообще не признавала своей вины, а потом стала утверждать, что виновата только в том, что не донесла об убийстве, очевидцем которого была.
Когда на суде в качестве свидетеля допрашивали Сергея, Галина пристально смотрела на него. Казалось, ждала в нем спасения, но он заявил, что никаких денег от нее не получал, что подсудимая клевещет на него, так как он отказался с ней встречаться.
— Вы женаты? — спросил судья.
— Да, — ответил Сергей.
Лицо Галины залилось румянцем. Может, в эту минуту она подумала, что он считает ее своей женой. Но тут же сникла, услышав, что его жена и двое детей живут в Саратове.
Ланка же уверяла, что только она одна убила бухгалтера.
Пока велось следствие, а затем шел суд, много думала Ланка о своей короткой жизни, о своих больших ошибках. Если б можно было начать жизнь снова! Не оставила бы она школу из-за пустяка, не выбрала бы себе в подруги кого попало. Когда-то, еще в девятом классе, выписала она из сборника стихов Омара Хайяма такие строки:
«Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало».
Всю глубину этих слов Ланка поняла только сейчас. Они не выходили из головы, она повторяла их бесчисленное количество раз, отмеряя семь шагов от одной стены тюремной камеры до другой.
— Ради чего я все делала? Кому помогала? Кого выручала? — мысленно сквозь слезы спрашивала себя Ланка. Ей страшно было умирать в двадцать лет, а еще страшнее сознавать, что и умирать должна не как человек, а как соучастница убийства.
Высшая судебная инстанция, всесторонне проанализировав все обстоятельства дела, сочла возможным заменить Ланке высшую меру наказания десятью годами лишения свободы.
Прошло десять лет. Потом еще пять. Как-то случайно я встретила Ланку в одном из ателье. Она была замужем. Имела сына.
— Лучший мастер индивидуального пошива! — отрекомендовала ее заведующая.
Передо мной стояла Ланка. Те же серо-зеленые глаза, только возле них много мелких морщинок, да волосы не пепельные, а седые. Видимо, немало пережила она за эти годы.
МАЧЕХА
Казалось, все было хорошо в этой семье. Жена родила двух сыновей. Вначале Сереженьку, потом Сашку. Мальчишки на загляденье — здоровые, красивые.
Отец носил их гулять, сам выбирал в магазинах ползунки, костюмчики.
Долго ухаживал Владимир за больной женой. Чувствуя, что дни ее сочтены, она просила мужа:
— Володенька, не себе жену ищи, а детям мать. Крошки они. С мачехой пропадут. Мать им ищи!
После похорон отвел детишек в детский дом. В заявлении указал:
«Временно сыновей определяю. Не с кем их дома оставить; работаю шофером, все время в командировках».
Прошел месяц, за ним второй, третий…
Как-то вечером постучали в двери. Потом звонок раздался. Опять, наверное, соседка со своими байками про женитьбу. Так и есть: Да еще не одна, а с женщиной какой-то не очень молодой, на вид не красавицей.
— Чего не приглашаешь пройти?
— Да неудобно как-то гостей принимать, когда в доме не прибрано.
— А ты не стесняйся! Мы с Валентиной мигом порядок наведем. Она хозяйка отменная, ребята твои с ней горя знать не будут. Она им не мачехой, а матерью станет.
Как в воду смотрела соседка. Навела ее подруга в квартире такую чистоту, что хозяину и не снилось. И сама потребовала, чтобы мальчишки из детдома вернулись домой. День и ночь от них не отходила. Шила, перешивала, кормила вкусно, одевала красиво. Вначале они звали мачеху мамой Валей, а потом просто мамой стали звать…
Валентина не настаивала, чтобы Владимир юридически оформил с ней брак. Понимала, что жену ему забыть сразу трудно. Не упрекала, что подолгу на работе задерживался, не обижалась, что альбом с фотокарточками часто в руки брал.
Сама Сережу в первый класс повела. Помогала готовить уроки, аккуратно посещала родительские собрания. Гордилась отметками мальчика. Ласкала его, на занятия по фигурному катанию водила.
Мимо магазина, бывало, не пройдет, чтобы конфет не купить. Продавцы, завидев ее, спрашивали:
— Чего сегодня ваши сынки желают?
А когда с мужем на работе стряслась беда — оторвало четыре пальца правой руки — как за младенцем ухаживала. И руку перевязывала, и другие врачебные предписания помогала выполнять. Не ждала, что отблагодарит. Только однажды сестре проговорилась:
— Эх, сестренка, видно, правду старые люди говорят, что когда нет любви, ее не вымолишь.
Прошел еще год. Сережа перешел во второй класс, Саша в среднюю группу детского сада ходил. Втроем коротали вечера. Радовались, когда соседка забежит.
— Чего это твоего все дома нет? Больно длинные у него командировки стали… Уж не завел ли себе другую?
— Не знаю. Может, и так. Мне ничего не говорит.
…В ту ночь Владимир пришел поздно. Постелил себе на полу. Валентина присела на краешек постели. Так до утра и просидела. Только утром, приготовив завтрак, решила спросить:
— Сегодня опять к ней пойдешь?
— Пойду. Ничего с собой сделать не могу. Да ты не серчай, мы тебе квартиру оставим. Заберу только кое-какие вещи и уеду с ней к моей матери на Кавказ.
— Думаешь, примет?
— А куда денется. Мать ведь родная, не мачеха.
— А я — мачеха? Детям твоим я мачеха, да?
Слово за слово — и начался скандал. Владимир стал бить не только Валентину, но и детей. На крик Сережи прибежали соседи.
…А потом был суд. За избиение Валентины и сыновей Владимира приговорили к полутора годам лишения свободы.
Он попросил адвоката:
— О мальчишках моих позаботьтесь. Ведь что стало? Ко мне от мачехи не идут. Родную мать мамочкой не звали, а ее зовут…
Да, не всякая неродная мать — мачеха.
ПОСЛЕ ДОПРОСА
После допроса Юрия отправили в следственный изолятор. Объяснили правила режима: это нельзя, этого тоже нельзя… На сердце было тяжело. Дожил! Такого унижения он никогда не испытывал.
Отец, капитан дальнего плавания, часто напоминал: «Главное — фамильную честь высоко неси. Никому не давай ее запятнать!»
Юрию вдруг вспомнились приморский город, где проживает семья, уютная четырехкомнатная квартира. Всю стену его комнаты украшали грамоты — свидетельство успехов в учебе и спорте. Особое место среди них занимала почетная грамота за первое место в конкурсе знатоков родного края. Отец по-своему отметил успех сына, подарив ему ко дню рождения магнитофон и фотоаппарат, привезенные из Японии. Подарки вручил торжественно, когда гости сели за стол. Только мать все испортила. Грустно улыбнувшись, она, выбрав момент, тихо сказала мужу:
— Рано парню такие дорогие подарки преподносить. Ему исполнилось семнадцать, а он уже нос перед товарищами задирает — все у него «серости» да «тупицы»… Зазнается совсем… Плохую услугу Юрию оказываем…
Услышав эти слова, юноша, не обращая внимания на гостей, демонстративно вышел в другую комнату. «Не надо мне ничего! Будет попрекать каждый день…»
Иван Петрович вернул именинника обратно и, сурово взглянув на жену, веско и отчетливо произнес:
— Рос я без отца. Он не вернулся с фронта. Очень завидовал тем, у кого отцы остались живы. Вот и хочу, чтобы дети мои чувствовали, что такое родитель. Тем более, дома бываю редко. А что касается «тупиц» и «серостей», — он опять строго посмотрел в сторону супруги, — к сожалению, их немало вокруг нас. Перед каждым заискивать? Не-е-ет! Так не пойдет.
— Что же было потом, после дня рождения? — вспоминал Юрий. На следующий вечер по телевидению транслировали футбольный матч. С интересом наблюдал он острый поединок двух известных московских команд. В это время в комнату вошла мать.
— Тебе завтра рано вставать. Надо выключить телевизор.
— Пусть смотрит! Он же спортсмен, ему это необходимо, — возразил отец.
Ирина Васильевна возмутилась:
— Делайте, что хотите! Надоел мне этот вундеркинд! Стыдно в школу показываться…
Просьбу матери пришлось все-таки выполнить. Обиженный и злой, Юрий лег в постель, но в приоткрытую дверь слышались отдельные фразы из разговора родителей. Догадывался: мать рассказывала отцу о конфликте, который произошел у сына в спортивной школе. Когда хоккейная команда потерпела первое поражение, он, ведущий игрок, центральный нападающий, при всех заявил, что не намерен больше выступать вместе с этими «бездарями». Тренер, ранее гордившийся своим воспитанником, перворазрядником, кандидатом в мастера, оборвал Юрия, сказав немало резких слов…
Тренеру предложили уйти «по собственному желанию». Тогда ребята заявили на общем собрании, что не хотят заниматься в одной школе вместе с зазнайкой и эгоистом. Обо всем напомнили они тогда Юрию: о том, как оскорбил в свое время капитана команды, как однажды, сославшись на занятость, не явился на ответственную игру, не посчитавшись с интересами коллектива, как советовал тренеру не принимать в секцию двух мальчишек, сказав в их присутствии: «Спорту нужны личности, а не середнячки».
Не понравился этот суровый разговор Юрке.
— Завидуют моим талантам, вот и выживают! Посмотрим, как без меня обойдутся, — сказал он.
А мать советовала: ты говорит, должен попросить прощения и у ребят, и у тренера. Признать свои ошибки…
— Какие? Унижаться? Ни за что!
Пристально и долго всматриваясь в глаза сына, мать, наконец, медленно произнесла:
— А ведь из тебя, не ровен час, и негодяй может получиться. И как отец этого не поймет?
Юрий вспыхнул и холодно, жестоко произнес:
— Дети — это сберкнижка: что положишь, то и возьмешь!
Он так и не знал, чем закончился в тот вечер разговор между родителями. Не слышал, как отец уехал в порт — его теплоход уходил в очередной рейс. Сейчас в камере следственного изолятора, забываясь временами тревожным сном, представил, как мать прочитала записку:
«Ты сказала, что этот «вундеркинд» надоел тебе. Я освобождаю тебя от обузы. Проживу один. Двадцать рублей верну из первой зарплаты».
Однако прожить самостоятельно оказалось под силу несколько дней. Тогда Юрий решил отправиться к бабушке в Крым, у которой часто гостил в дни летних каникул. Но когда доехал до Челябинска, деньги кончились. Забыв про фамильную честь, он начал заниматься грабежом: выхватывал в подъездах сумки у женщин. Главным образом у пожилых. Такие не догонят…
Выступая на суде, классный руководитель Зинаида Сергеевна, специально приехавшая из приморского города, сказала:
— Юрий — один из лучших учеников нашей школы, талантливый спортсмен. Но за всем этим мы, учителя, к сожалению, не заметили в нем другие проявления таких качеств, как черствость, эгоизм, больное самомнение. И, как ни странно, немалую роль в моральном падении сына сыграл отец, потакая всем его прихотям.
Сидевший на передней скамье человек в морской форме, лицо которого выражало недоумение, резко повернулся в сторону учительницы. Это заметил судья. Обратившись к нему, он спросил:
— Вы что-то хотите сказать?
Мужчина, взглянув на подсудимого, горько произнес:
— За что ты, сын, опозорил мою фамилию?!
Учитывая ходатайство школьного коллектива, суд не счел нужным применять в отношении Юрия суровую меру наказания. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Теперь все зависит от него самого: поймет ли, что высоко нести фамильную честь — значит, быть настоящим человеком, уважать достоинство других.
КАПИТАЛЬНАЯ СТЕНА
Ждет человек очередь на квартиру. Подходит время получать долгожданный ордер, а ему говорят:
— Иван Алексеевич! Ты у нас сознательный…
Впрочем, все по порядку. В цехкоме распределяли квартиры в новом доме. Первая очередь была у слесаря завода Ивана Алексеевича Морина. Вот-вот — и он станет владельцем отличной квартиры.
И как раз в это время администрация предприятия передала в цехком заявление пенсионера Ивана Ивановича Микулина:
«Много лет я проработал на заводе. Сейчас тяжело болен, а у меня трое детей. Возьмите мою часть дома по ул. Конвейерной в г. Челябинске, а моей семье дайте благоустроенное жилье. К тем, кого поселит завод в мою часть дома, от моей семьи не будет никаких претензий».
Тихо стало в цехкоме. Мол, понять — понимаем, да только нас-то тоже понять надо. Все с облегчением вздохнули, когда Морин махнул рукой и сказал:
— Была не была! Пусть Микулин «первую очередь забирает», а моя семья в эту самую часть его дома пойдет.
Так пенсионер Иван Иванович Микулин с тремя детьми и женой поселился в трехкомнатной квартире благоустроенного дома, и Иван Алексеевич Морин стал печь топить в комнате-кухне и воду носить с водопроводной колонки, которая находилась далеко.
За стеной в комнате проживала дочь Микулина от первого брака — Лидия с сыном. Соседство это Морина никак не беспокоило, пока не умер Иван Иванович Микулин и Лидия не узнала, что отец так и не оформил юридически свою часть дома за заводом, хотя неоднократно обращался по этому поводу в нотариальную контору. Но там оформлять документы отказались, поскольку обменивать частные дома на государственную квартиру по закону вообще запрещено.
Показывал тогда Микулин и письмо директора завода. В письме говорилось:
«На Ваше заявление сообщаем, что Вам будет предоставлена благоустроенная квартира с условием, что Вы безвозмездно передадите свою жилплощадь работнику завода, не имеющему жилья».
Предъявлял Иван Иванович и документ, подписанный помощником директора, — просьбу к органам милиции прописать семью Морина в этом частном доме, так как «бывшему рабочему завода Микулину И. И. предоставляется заводское жилье, а его собственный дом передается заводу безвозмездно».
Администрация предприятия понимала, что не все в этой «операции» оформлено, как положено, да не удалось найти другого выхода, чтобы помочь больному человеку не в ущерб интересам завода.
Когда Лидия узнала, что ей, как и сестрам, брату и мачехе, принадлежит по наследству комната-кухня отца, тут же предложила своим родственникам: во-первых, долю их наследства передать ей, а она выплатит им деньгами… Во-вторых, через суд выселить Морина.
Но родственники категорически отвергли оба предложения: в наследственной части дома должен жить Морин и никто другой, то есть как решили на заводе, предоставляя им квартиру вне очереди.
— Ах так! — воскликнула Лидия Ивановна. — Но я-то свое не уступлю.
Она получила свидетельство о наследовании на одну треть той части дома, в которой спокойно жила семья Морина. Выселить квартирантов у Лидии Ивановны не хватило прав: ведь остальные две трети жилья ей не принадлежали. Тогда она пошла в наступление.
Дважды народный суд Тракторозаводского района Челябинска отказывал ей в иске. Дважды признавал свидетельство о наследовании недействительным. Дважды по ее кассационной жалобе отменялись эти решения областным судом. Наконец дело передали на рассмотрение в народный суд Советского района города.
Измученный хождениями по судам, Морин взмолился:
— Оставьте меня в покое. Я выплачу Лидии Ивановне часть ее наследства — 325 рублей. Ведь есть же у нее жилье!
— А что вы хотите? — обратилась судья к остальным наследникам.
— Нам не надо никакого наследства, — в один голос заявили те, — лишь бы Морин остался жить в доме.
Чтобы прекратить это дело и не отвлекать в дальнейшем свидетелей от работы, судья предложила заключить мировое соглашение о том, что частное владение покойного И. И. Микулина передается в натуре всем наследникам, кроме Лидии Ивановны. Те выплачивают ей 325 рублей с условием, что она не будет препятствовать тому, чтобы комната-кухня была подарена Морину.
У всех горе с плеч свалилось. Только лицо Лидии Ивановны покрылось красными пятнами. Прикинув, что больше ничего не выжмешь, а лишь судебные расходы понесешь, подписала и она мировое соглашение. Получила свои триста двадцать пять рублей.
Десять лет живут под одной крышей слесарь Иван Алексеевич Морин и старший экономист Лидия Ивановна. Лишь одна стена отделяет их друг от друга. Напрасно Лидия Ивановна в своих жалобах писала, что эта стена — не капитальная. И не понимает она, почему все соседи перестали здороваться с ней. Ведь не чужое же взяла, а свое, кровное. И что вообще плохого сделала она этим людям?
ПЕРЕД СУДОМ
Это случилось средь белого дня на Челябинском вокзале.
Вокзал жил своей жизнью. Кого-то провожали, кого-то встречали. По извилистой лестнице поднимался на второй этаж парнишка с ученическим портфелем. На середине лестницы он остановился, облокотился о перила и стал внимательно смотреть в зал. Чувствовалось: парень кого-то ищет.
К нему подошли двое: длинный — в форме учащегося профтехучилища и невысокий — в старых валенках и поношенном пальтишке.
— Не здешний, видно? — поинтересовался один из них.
— Я из Сысерти приехал. Дядя должен был встретить, да, видно, разминулись.
— А адрес-то знаешь? Мы мигом доведем. Мы челябинские. Здесь все ходы и выходы знаем.
— Если бы знал адрес, сам бы нашел — не маленький. Мать дала дяде телеграмму: «Встречай Витю десятого марта, вагон седьмой». Может, телеграмма не дошла.
— Ладно, не горюй. Пойдем с нами, сообразим, где твоего предка найти, — сказал высокий.
Они поднялись на второй этаж. Зашли в туалет. Старший, прикрыв дверь, скомандовал:
— Обыщи его, Серега!
Не успел приезжий опомниться, как из кармана у него вытащили деньги, авторучку, лотерейный билет.
Он было побежал за «дружками», но тех и след простыл.
У переходного моста Сергей сосчитал деньги.
— Ого! Целых восемь рублей!
— Возьми себе четыре, а остальные мне!
— Дай мне, Сашка, ручку! — попросил Сергей.
— Сходи на почту — там ручек много.
— Ты куда сейчас?
— В училище надо. На обед опаздываю!
— Я тоже в столовую побегу. Пойдем, Саша, вечером в кинуху!
— Иди один! Сегодня футбол по телевизору смотреть буду.
— А мне можно с тобой?
— Да ты что, Серега? Рехнулся, что ли? Кто тебя в ремках в общежитие пропустит? Да и мне ребята скажут: «Со шпаной связался!»
— Я не шпана! — возмутился Сережа. — Я первый раз деньги отбираю.
— Давай-давай, рассказывай! — махнул рукой Сашка и, уже отойдя немного, добавил:
— Завтра в это время у главного входа в вокзал встретимся.
С завистью посмотрел Сережа на уходящего дружка. А по дороге в столовую думал о том, что, пожалуй, рано сам он из интерната ушел. Мог бы до училища дотянуть. Надо же было от имени дедушки написать заявление директору интерната, чтобы документы выдали! А тому что? Обрадовался. Заявление есть и черкнул: «Выдать документы!» Вот и выдали метрики, да свидетельство о смерти матери. Езжай, мол, к дедушке. А если дед узнает, что заявление от его имени написал, будет день и ночь пилить:
— Станешь таким же непутевым, как отец.
Как будто он, Сережка, выбирал себе отца, который из тюрем не выходит!
Назавтра на вокзале по заявлению потерпевшего Сашку и Сергея задержали и привели в детскую комнату милиции. Там они увидели парня из Сысерти. Сергею стало не по себе. Он сел рядом и даже протянул тому горсть леденцов.
А Сашка начал запираться. Мол, и потерпевшего и Сергея видит впервые. Зачем на вокзал пришел? Просто так погулять. Все ребята из училища сюда гулять ходят. Почему не на каток, не в плавательный бассейн, не во Дворец спорта? А что он там забыл? На вокзале интересней, кофе можно попить. Откуда авторучка и билет лотерейный? Билет купил. Что, разве на нем написано, чей он? И авторучек таких в училище сколько угодно! Зачем ему грабить людей средь бела дня, если он сыт и одет? И притом у него в Еманжелинске родители порядочные. И брат в армии служит. Нет, нечего его со шпаной путать!
— Врет он все! — не выдержал потерпевший. — Он заставил Сергея меня обыскивать. И авторучка это моя. Правда, Сережа?!
— Я один тебя грабанул. Ты его не путай! И ручку ему сам дал и билет тоже! Пусть меня одного судят.
— Ишь ты, герой какой! — возмутился сотрудник милиции. — И в тюрьму за него пойдешь? Знаешь, что такое тюрьма?
— Отец рассказывал. Не пугайте! И там люди живут…
— Эх, парень! — вздохнул второй милиционер. — Жить можно по-разному…
А потом был суд.
Из профессионально-технического училища № 2 поступила просьба, чтобы Александра передали на поруки.
Мастер — представитель училища — сказал, что парень не вызывал тревоги, дисциплинирован, увлекается спортом.
— Что вы можете еще сказать о нем? — поинтересовался судья.
— Больше ничего, — нерешительно ответил мастер.
— Если зачинщик грабежа не вызывал у вас тревоги, то кто же у вас ее вызывал?
Почти аналогичный вопрос задал судья и Анне Федосеевне — воспитателю интерната № 7. Но ей нечего было ответить в оправдание.
Да, конечно, директор интерната знал, что сегодня суд. Он же ее по повестке отпустил с работы. Ему повестки не было. Заявление? Заявление это не дедушка писал, а кто-то из детей. Дедушка однажды присылал письмо. У него совсем другой почерк, а это детской рукой написано. Почему не сказала директору, что заявление не дедушка Сергея писал? Об этом ее никто не спрашивал. А мальчишка не отличался хорошим поведением. Грубил, нехорошие слова употреблял… И вообще у него «длинные» руки.
— Вы можете назвать хоть один факт, что Сережа взял что-нибудь у других? — спросила воспитателя инспектор гороно.
— Так все говорят! — уклонилась от прямого ответа Анна Федосеевна.
— Пусть все, но не вы, призванная воспитывать детей.
Сережа, взглянув на инспектора, сказал, что обращался к воспитательнице с просьбой посодействовать, чтобы из седьмого класса его перевели обратно в шестой — по алгебре и геометрии он ничего не понимает.
— Была такая просьба, — подтвердила воспитательница. — Почему не перевели? Директора надо спрашивать, а не меня. Не я перевожу.
— Можно задать вопрос? — неожиданно обратился к судье Сергей.
— Задайте!
— Анна Федосеевна! Вы меня один раз пускали к дедушке? Вспомните — пятого мая прошлого года. Ведь пускали, правда?
— Да, разрешала, но ведь он отказался взять тебя даже на каникулы.
— Отказался, — сник Сережка.
…Когда судьи совещались, многие думали о судьбе Сережи, о том, почему интернат не стал ему родным домом? Почему зимой пятнадцатилетний подросток оказался без крова? Почему, когда решается его судьба, не пришел в суд директор интерната?
Да и Анна Федосеевна еще до оглашения приговора ушла из суда. Напрасно подсудимый искал ее глазами…
ИСК НЕ ПО АДРЕСУ
— Согласны ли вы на развод? — спросил ее судья.
Что ответить? Скажи она: «Нет» — и у суда были бы все основания для отказа в иске. Все-таки прожито более тридцати лет. Уже дочь давно замужем. Даже внук есть.
А недавно женился сын Виктор, студент третьего курса института. Была пышная свадьба в лучшем кафе Челябинска. Были дорогие подарки, цветы и прочее, что в последнее время стало привычным делать за счет родителей. Виктор на свадьбе куражился:
— Пейте, дорогие гости! Не жалейте коньяк! Папочка выдержит. Ученый муж, главный инженер НИИ, зарплата пятьсот рэ.
— Перестань, Виктор! — тихо одернула мать. — Неприлично и нескромно.
— Не перестану! От нескромности в наш век не умирают!
— Говори, сынок, говори! Сегодня твой день и все цветы для тебя! — поднял бокал шампанского отец.
И снова гости закричали: «Горько!» Поднялась невеста — разрумяненная, веселая. Мать Виктора ничего не имела против нее. Девушка учится на четвертом курсе того же института. Настораживало лишь то, что в дом, кроме будущей снохи, приходила какая-то Вера, отношения с которой у сына зашли далеко. Вот и просила мать:
— Повремени, Виктор, разберись в своих чувствах. Не на месяц — на всю жизнь выбирают супругу.
— До чего же ты, мама, старомодная! Так уж на всю жизнь… Не понравится — разойдемся.
— Пусть делает, что хочет! Ему скоро двадцать. Он мужчина, а не мальчишка! — сказал отец.
…Так было всегда. Все ее доводы каждый раз разбивались о «железобетон житейской мудрости» главы семейства. Она вспомнила, как лет десять назад, во время отпуска, поехали семьей на морскую прогулку на катере. За бортом — хрусталь волны и белокрылые чайки. Дочка стояла очарованная, а сын вздохнул: «Могли бы чучел много наделать, не забудь папочка ружье!»
— Что ты, Витя?! — даже испугалась мать. — Чайки показывают рыбакам, где рыба. Да ты посмотри, какие они красивые! Разве тебе не жаль их на чучела?
— А что жалеть? — равнодушно пожал плечами Виктор.
— Правильно, Витюха! — вмешался в разговор отец. — Не слушай ты этих женщин. Вечно они со своими нравоучениями… Пойдем-ка лучше в буфет, попьем соки-воды!
И они пошли в обнимку, похожие друг на друга.
Тогда она всему этому не придавала особого значения. Устал муж за год. Уходил рано — приходил поздно. Цену усталости она, учительница, хорошо знала. Двадцать четыре года в одной школе, почти все время — в две смены. И после уроков работы хватает. Тетради проверить надо, с учеником поговорить, классное и родительское собрание провести…
А может, не придавала значения еще и потому, что боялась чем-то расстроить мужа. Малейшее раздражение в то время могло вызвать у него приступ бронхиальной астмы. Когда-то прочитала она у Константина Паустовского, что «бронхиальная астма — безжалостная болезнь, заставляющая человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в полную силу без четвертей». Не восемнадцать дней, а восемнадцать лет боролись они вместе с этим недугом. Тогда он не подавал иска о разводе, а лишь глазами спрашивал, выдержит ли она все испытания, не оставит ли его в беде. Он такой больной, а она — интересная женщина. Редкий пройдет — не оглянется.
Она-то выдержала. Может, не только перед его желанием быть здоровым, но и перед ее верностью и любовью отступила болезнь.
А потом все пошло вверх дном. И началось буквально на второй день после свадьбы сына, когда Виктор за ужином при родителях сказал:
— Не знаю, буду ли я жить с ней…
У мамы выпала из рук вилка. Папа опустил глаза, сделав вид, что не слышал. А невестка, пожав плечиками, изрекла:
— Поглядим, что из тебя будет, каков муж получится…
Отец все реже и реже приходил к ужину, а уходил из дома, когда молодые еще спали. Мать взяла дополнительные уроки, хотя могла работать в одну смену. Теперь ей не хотелось идти домой, в свою квартиру, где еще недавно был дорог каждый гвоздик. Да и знала она, что мужа нет дома. Однажды, возвращаясь из школы со стопкой тетрадей, увидела, как из машины вышла молодая женщина точно в такой же дошке, какую подарил ей муж, и, поправив меховую шапочку, кокетливо помахала ручкой. Женщина хотела что-то сказать, но не успела, так как дверь автомашины резко захлопнулась и знакомый голос приказал шоферу: «Быстрее!»
Как-то, уходя на работу, муж между прочим сказал:
— Хочу пожить для себя!
Похолодевшими пальцами взяла она копию искового заявления о разводе, где было написано:
«Семейные неурядицы и ссоры привели к отчуждению. Я не хочу больше жить на пороховой бочке».
Рядом лежала повестка в суд.
— А как же я? — выбежал за отцом на лестничную клетку сын.
— Не волнуйся! До окончания института ты будешь получать от меня по сто рублей в месяц. Сад и половину всего имущества тоже отдам тебе. Доволен?
— Порядок! — прищелкнул пальцами Виктор и побежал делиться радостью с женой. Потом молодые вышли к матери и сын спросил напрямик:
— Думаешь ли ты, мамаша, прописать мою законную жену и выделить нам половину жилплощади? Если нет, то я подам заявление в милицию, что ты заставляла меня убить отца на почве ревности…
— Ты отдаешь отчет в том, что говоришь? — ответила мать, еще не зная, глупая ли это шутка или Виктор спрашивает всерьез.
— У меня свидетель — твоя законная сноха.
Мать, не помня себя, закричала:
— Вы не посмеете!
— Я подтвержу все, что напишет мой муж! — спокойно сказала «законная сноха».
…Когда следователь написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, он разъяснил женщине, что она может привлечь к уголовной ответственности за ложный донос и ложные показания и сына и сноху. Мать наотрез отказалась, ибо нет матери, которая не простила бы своих детей. Мало того, она стала просить следователя, чтобы он не сообщал в институт, где учится Виктор, об этом грязном доносе.
…Но вернемся в зал судебного заседания. Судья спрашивает постаревшую и осунувшуюся женщину:
— Согласны ли вы на развод?
Она и сама не знала, что ответить, не могла понять, что случилось с ее семьей? Когда она ошиблась?
— Что ты молчишь? Скажи «да» — и делу конец, — раздраженно подсказал муж.
— Делу-то, может быть, и конец, если жена захочет расторгнуть брак… А вот как быть с сыном? Кто исправит его?
Это сказал судья перед тем, как суду удалиться на совещание для вынесения решения.
…Истец нетерпеливо ерзал на стуле, беспокойно поглядывая на дверь, за которой совещается суд. Не собираются ли судьи сообщить обо всем в парторганизацию НИИ? Ведь спросил же народный заседатель, знают ли там о случившемся? А собственно, что произошло? Сын уже взрослый — сам за себя ответит. Теперь надо будет разделить квартиру. С Виктором ему тоже жить не хотелось. Где-то в глубине души понимал: если сегодня он пришел в суд, чтобы дать показания против матери, то как только отец перестанет выплачивать по сто рублей в месяц, пойдет на такую же подлость и против него, отца.
СУДЬБА ИЗМЕННИКА
Став полицаем, Епифанов исправно служил фашистам, беспрекословно выполнял все их приказы. Нужно достать тройку лошадей — достанет, нужно узнать, где находятся партизаны, — постарается, а если узнает, сам доведет карателей одному ему известной дорогой, какой бывало еще в детстве ходил вместе с дедом на дальний покос.
За услугу гитлеровцы платили услугой. Просил, чтобы дочь Анну и ее мужа Матвея не угоняли в Германию — оставили их дома. Собственно, и Матвей по воле немцев жив остался. Правда, список комсомольцев полицай дал им сам, не подумав, что парней могут расстрелять. А когда в дождливый осенний день за околицу к оврагу вывели юношей, обреченных на смерть, Епифанов увидел среди них и своего зятя, хотя в том списке имя его не значилось.
За колонной бежали женщины. Одна из них, Дарья, кричала особенно громко:
— Не убивайте его. Один-разъединственный он на всем белом свете у меня остался. Васенька, сынок мой! Ох, лучше стреляйте в меня! В меня стреляйте…
Она схватилась за ружье конвоира, но тот ударом приклада оттолкнул ее на обочину дороги. Василий и Матвей бросились на охранника. В этот момент к Матвею подбежал полицай и, заслонив его своим телом, стал говорить, что зять среди юношей оказался случайно. Просил доставить Матвея в комендатуру — там разберутся.
Вместо ответа конвоир так ударил Матвея в плечо, что правая рука сразу повисла плетью. Потом хладнокровно разрядил автомат в Василия.
По ночам Анна успокаивала мужа:
— Скажи спасибо, что живым остался. На двоих три руки в наше время счастье.
— Какое там счастье! Все сейчас говорят, что, мол, неплохо пристроился за спиной тестя. Угрожают: «Погоди, вот придут наши, вздернем этого фашистского холуя на дубу! Таким, как он, нет места на нашей земле…»
— Что им от отца надо? Ведь не от хорошей жизни пошел он в полицаи. Каждому жить хочется…
— Думаешь, тем, кого по его списку расстреляли, не хотелось жить?
* * *
Когда к селу стали приближаться советские войска, гитлеровцы в панике бежали. Увидев у здания комендатуры грузовую автомашину, Епифанов ухватился за задний борт. Но комендант, гаркнув: «Пошел вон!», ударил полицая по рукам.
Машина тронулась, вслед за ней побежал Епифанов. Стараясь не отстать, он на ходу кричал, что оставаться ему в селе нельзя — убьют свои, односельчане. Неожиданно рядом разорвался снаряд. Откуда стреляли — не понял. Упал в дорожную пыль. Отдышавшись, начал петлять лесными тропами, держась в стороне от дороги. Куда он шел, к кому — не знал.
Выйдя на опушку леса, увидел убитого немолодого красноармейца. Переодевшись в его форму и забрав документы, направился навстречу нашим войскам. Оказавшись в расположении одного соединения, сказал командиру, что отстал от своей части, а номер ее не помнит — вследствие контузии полностью лишился памяти. Ему поверили. Красная Армия стремительно продвигалась на запад и особенно разбираться не было времени.
Учитывая возраст и тяжелую контузию, Епифанова определили телефонистом. За отличную службу даже наградили медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны демобилизованных солдат ждали родители, жены, дети. А бывшего полицая никто не ждал, и не было у него дома. О возвращении в родное село не могло быть и речи.
Решил поехать на Урал, подальше от Курска. В Челябинске устроился на одном из заводов. Считал, что здесь, в большом коллективе, можно легко скрыть свое позорное прошлое.
И надо же было случиться такому — на одной из улиц города Епифанов встретил Дарью, которая приехала в Челябинск повидаться с родственниками после долгой разлуки. Никогда не забудет эта женщина, как на ее глазах расстреляли сына.
…Судил Епифанова военный трибунал. Дарья выступала и как свидетель, и как потерпевшая. Подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы — расстрел тогда был отменен.
* * *
Из места заключения бывший полицай вышел седым, но еще крепким стариком. Борода по грудь. Белые густые брови прикрывают тяжелый и злой взгляд.
Тоска по родному селу не покидала его. И вот теперь, отбыв наказание, решил, что имеет право туда вернуться.
Купил билет в Курск, пересел здесь на попутную машину и доехал до своего села, которое не сразу узнал. Красивые двухэтажные жилые дома, клуб, магазин, большое здание школы. А вот и родное жилище. Открыл калитку, уверенно зашел во двор, затем в дом. В переднем углу телевизор, рядом радиоприемник, на подоконниках, украшенных красивыми занавесками, цветы. Провел по широкому листу фикуса — ни пылинки. «Аккуратная, как мать-покойница», — подумал о дочери.
Выйдя во двор, напоил скотину, бросил корове охапку сена.
Но где же хозяева — дочь и ее муж? А впрочем, почему именно они хозяева? Ведь в приговоре военного трибунала не говорилось о конфискации имущества. Значит, он, Епифанов, как был, так и остается законным хозяином дома.
Но дом, который Епифанов считал своим, не принадлежал ни ему, ни дочери. Его приобрел у Анны специалист сельского хозяйства, приехавший работать в село. Он и сообщил Епифанову, что Нюра, теперь уже Анна Васильевна, вместе с мужем и двумя детьми живут в кооперативной квартире в Курске, что ее дочь учится там в институте.
— Адрес Анны Васильевны у вас есть? — спросил Епифанов.
— Да. Когда я и жена бываем в городе, иногда у нее останавливаемся.
* * *
— Явился! — только и сказал Матвей, увидев тестя. — Тебя никто не звал.
— Знаю. Но не за куском хлеба пришел. Свой капитал имею, хотя чужие дома и не продавал.
— Пойди у Гитлера спроси, где твой дом. Но места тебе здесь нет и не будет. С фашистом под одной крышей жить не хочу.
— Перестань, Матвей, — прикрикнула вошедшая женщина, похожая скорее не на Нюру, а на ее покойную мать. — Пусть в ванне помоется с дороги, чаю попьет. Человек ведь он, а не волк.
— Да ты волка не погань! Этот зверь не погубит столько людей, сколько погубил твой отец. Тебе он нужен, так забирай его и уходи из дома.
И Епифанов стал собираться в Челябинск. Пожалев отца, решила поехать туда и Анна. Подумала: грех бросать старика. А Матвей, если не хочет жить с ним, пусть остается в Курске. Пенсию получает, жилье имеет, а дети уже взрослые, обойдутся без нее.
В Челябинске Анна поступила на завод. Купили кооперативную квартиру, обзавелись мебелью. Вечера коротали у телевизора.
В один из таких вечеров в дверь постучали. На пороге стоял Матвей.
— Принимай, если хочешь, — сказал он Анне. — Не примешь — не обижусь.
Несмотря на возражения отца, поселился Матвей в квартире. Начал работать. Все бы ничего, только вот никак не налаживаются отношения между стариком и тестем.
— Ты что все время меня фашистом называешь? Я отсидел за свою вину. И медаль не от Гитлера получил, а за службу в Красной Армии.
— Наверное, украл, а не заслужил. Поди с мертвого снял, когда свою полицейскую шкуру спасал.
— Может, и тебе жизнь не спас?
— А ты с моей рукой поживи, узнаешь, каково мне.
— Будет вам, — вмешивалась Анна. — Уж много времени прошло после войны, а между вами все мира нет.
— И не будет, — отвечал Матвей.
— С таким ублюдком, как ты, и говорить не хочу. Не забывай, кто тогда за тебя заступился!
Однажды одна из перепалок закончилась дракой. Тесть ранил зятя ножом. Врачи приложили все силы, чтобы спасти Матвея, и вскоре он стал на ноги.
Когда Епифанова судили за нанесение тяжких телесных повреждений, зять признал, что ссору затеял он. Это смягчило вину, и Епифанова приговорили к четырем годам лишения свободы, а вскоре после опубликования Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии его освободили от наказания.
Но покоя в семье так и не наступило. Теперь уже Матвей стал утверждать, что он спас тестя, приняв в суде вину на себя. Иначе, мол, пришлось бы непременно отправиться старику в отдаленные места.
Отношения между тестем и зятем все больше обострялись. А однажды Епифанов набросился на Матвея. Повалив его на кровать, начал с остервенением колоть и резать, нанеся множество смертельных ран.
…Суд, на этот раз уже областной, определил убийце меру наказания.
На свидание к осужденному дочь не пришла.
ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА
Парню семнадцать лет. Он получил первую зарплату. За неделю заработал двадцать шесть рублей шестьдесят три копейки. Радостный, спешил домой. Приостановился, пересчитал: не потерял ли? Нет, все на месте.
Вообразил, как подойдет к отцу, читающему в кресле газету, и скажет:
— На, папа, мою первую получку и давай мириться! Сколько можно не разговаривать? Заработаю и рассчитаюсь за твою меховую безрукавку. Ведь понимаю, что по глупости изрезал ее на варежки для рыбалки.
И Толик представил, как небрежно положит на стол перед отцом расчетную книжку и двадцать рублевок. Отец молча отложит газету, стряхнет со лба свои черные кудри и крикнет:
— Мать, прибери-ка деньги, да не жалуйся, что мало зарабатываем с сыном!
Потом для порядка прочитает нотацию, мол, интересно, понял или нет ты, сын, что рабочему человеку, каменщику, зимой без меховой безрукавки никак не обойтись. Стоит на высоте, кладет стену, а ветер насквозь пронизывает. Да и как можно такую вещь изрезать на варежки? За всю зиму две маленькие рыбешки поймал для кошки, а родитель бронхитом два месяца болел. Ну, ладно, зачем старое ворошить…
Махнет отец рукой и сядут всей семьей ужинать. Слева родители, справа три сестры.
А если все хорошо пойдет, то, может, даже папка его со временем в свою бригаду возьмет, подручным каменщика.
Хорошо бы, если все так получилось. Но ведь еще за плечами грех — похищенный приемник. Зачем он ему был нужен? Не успел продать, как нагрянула в дом милиция. Приемник вернули хозяину, а его, Анатолия, до суда устроили на завод сборщиком тары. Хотели на стройку к отцу, да тот пригрозил: «Если его примите, я уйду!»
Николай Петрович был кадровым рабочим, с ним считались. Работа в его руках кипела, и камень он чувствовал, как живое существо. Но вот, что сын — его плоть и кровь, забыл. Помнил только обиды. Любил говорить: «До гроба не забуду пакости! Опозорил отца родного!»
…На радостные слова Анатолия о первой зарплате даже не повернулся в его сторону, а расчетную книжку и деньги смахнул со стола.
Вначале парень опешил. Потом едва совладел с собой, чтобы не ударить родителя. «Не зареви! Не зареви», — стучало в голове. Ох, как тяжело сдержать слезы, когда все сдавило в груди и хочется закричать от горя… Но Толя сдержался. Молча собрал деньги, молча положил на комод расчетную книжку и пошел на улицу искать компанию.
— Уж пить, так пить! — повторял он, выставляя перед ребятами батарею бутылок красного вина. — Пей, братва! Пропивай мою первую зарплату! Пей, да не жалуйся, что Толька скряга. А отца своего я в белых тапочках видел! Подумаешь — каменщик нашелся! Пейте, ребята!
И пошла карусель! Две ночи перед судом парень не ночевал дома. А когда мать пришла на завод узнать, что случилось, он сквозь зубы буркнул:
— Отвали! Без вас проживу.
…Потом был суд. Анатолия судили за хищение приемника из автомашины. Могли оставить на свободе, наказав условно. Могли и отсрочить исполнение приговора. Он несовершеннолетний, преступление совершил впервые. Ущерб полностью возмещен, и на заводе работает парень.
Но лишить сына свободы просила… мать. Все вспомнила она, чего никто не знал и не мог знать: когда-то стекло разбил камнем, сестренку избил, у отца меховую безрукавку изрезал, теперь еще и пить начал. Раз нет с ним сладу — лишайте свободы!
Присутствовавшие в зале люди расценили просьбу женщины как предательство самого близкого человека. Лишь подсудимый, прикусив губу, смотрел в одну точку, как будто ничего не слышал.
Даже народный судья не выдержал:
— Хватит, мы вас поняли. Садитесь!
По залу прошел шепот:
— Она же его губит. Своего сына своими руками в тюрьму толкает…
— Не нужен мне такой сын, — спокойно возразила мать. — Исправится, милости просим домой, а нет — на порог не пущу!
…После приговора, когда за осужденным пришел конвой, мать быстро сняла с ног шерстяные носки и протянула их Анатолию.
— Нет! Не надо! Ничего больше от вас не надо! И вы мне не нужны! — процедил сквозь зубы парень, и злой огонек блеснул в его прищуренных глазах.
Эти слова произвели на всех большое впечатление. Одни осуждали мать, другие сына, а третьи вообще не могли понять отношений в семье.
А я подумала о том, что просчеты родителей начались давно. И все же, пожалуй, такого грустного конца могло и не быть, если бы глава семьи Николай Петрович простил, пусть даже виноватого сына, нашел бы теплое слово, когда тот принес ему первую зарплату. Может, пошел бы с Анатолием в магазин, купил ему теплые варежки — пусть ходит на рыбалку в выходные дни.
Зло и жестокость никогда не дают добрых всходов.
БЕЗ БЕЛЫХ РОЗ
Он знал, что такое слава, любил ее и когда-то ему было приятно видеть свое имя в газетах и на театральных афишах.
Не раз в ресторане, осушая очередной бокал, Владимир Туманов рассказывал случайному соседу о белых розах, которые преподносили ему благодарные зрители вначале в Московском Малом театре, а затем в областном.
Низким, охрипшим голосом, блаженно прикрыв глаза и артистически откинув руку, пел:
«Были когда-то и мы
рысаками…»
Потом, остановившись, задумчиво произносил:
— Я знал славу. Какие женщины преклонялись передо мною!
И вдруг совсем трезвым голосом:
— Вы не верите мне? Знаю, не верите. Думаете: обычный пьянчужка. А ведь меня знали другим. Взгляните на картины, что висят в вестибюле гостиницы. Написал их я. На них моя подпись…
У него, действительно, был талант. Перед ним открывались широкие перспективы. От него требовалось только одно: честно и добросовестно трудиться. Но трудиться Туманов не любил. Уже оставив театр, сменил много мест работы. Однако, где бы он ни трудился, всюду нарушал дисциплину, пренебрегал интересами коллектива. Первое время с ним нянчились. Помогали, уговаривали, обсуждали на собраниях, объявляли выговоры, брали шефство. Но он по-прежнему приходил на работу пьяным. Когда ему предлагали лечиться, упрямо отказывался. Наконец терпение товарищей кончалось и Туманова увольняли. Так случалось не менее трех раз в год. В его трудовой книжке разными почерками пестрела одна и та же формулировка: «Уволен по собственному желанию». Иногда в пьяном угаре Туманов даже гордился, что уходит только по собственному желанию и что не родился еще на свет такой человек, который уволит его на другом основании.
И вот Туманов снова не у дел.
Последнюю свою роль он сыграл блестяще, хотя никто не бросал к его ногам букетов роз. Некому и незачем было их бросать. Сцену заменил длинный коридор общей квартиры. Мирно спали жители после трудового дня, и только в одной комнате пожилая женщина страдала бессонницей.
В дверь постучали.
— Гражданка Львова здесь живет? — раздался густой голос.
Подумав, что сын прислал поздравительную телеграмму к дню рождения, старушка засуетилась, еле нащупав в темноте дверной крючок.
Не сказав ни слова, Туманов смело вошел в комнату. Неторопливо расстегнув полевую сумку, достал бумагу и карандаш.
— Паспорт! Ваш паспорт дайте, — повелительно произнес он. — Львова Авдотья Ивановна… Так, так… Сядьте.
Растерявшаяся старушка присела на край стула и смотрела, как внимательно разглядывает ночной гость ее документ.
Затем также внимательно он вглядывался в лицо хозяйки. Наконец, спросил:
— Сколько лет занимаетесь ворожбой?
— Что ты, голубчик! — взмолилась Авдотья Ивановна. — Тебе кто-то наврал. Ей-богу, наврал. Карты, правда, есть. Но гадаю только о сыне, да так иногда пасьянс разложу. А чтоб посторонним или за деньги — никогда. Нет, нет! — И старушка обиженно поджала губы.
— Пригласите в качестве понятых двух соседей, я буду производить обыск. Деньги и ценности можете положить сами на стол.
Он издали показал близорукой женщине обложку какого-то удостоверения.
Львова положила на стол сберегательную книжку. Наличных денег не было. Составив протокол обыска и отпустив понятых, Туманов строго наказал бабке прекратить ворожбу. Он удалился, второпях положив в карман старый будильник. Это была последняя игра Туманова. Игра без белых роз.
Серба Андрей
Кольт 11-го года


КАПИТАН
Самые скучные занятия — ждать или догонять. Лично у меня на этот счет свое мнение: догонять все-таки веселее, нежели в ожидании выматывать нервы.
Но разве в жизни, тем более на службе, что-либо зависит от наших желаний? Очень мало. Поэтому я уже второй час нахожусь в кабинете и изнываю от безделья и скуки, хотя работы — непочатый край. Но прежде чем приступить к ней, я обязательно должен дождаться звонка или прибытия Криса Стерлинга, лейтенанта из моей группы, которого сегодня утром отправил на задание. В зависимости от результатов его поездки я должен буду действовать дальше, а пока мне остается одно — ждать. Главное при этом — не уснуть! Передергиваю плечами, сбрасываю начавшую одолевать меня сонливость, поворачиваюсь в кресле и смотрю на подтянутого, аккуратно одетого молодого человека, сидящего за журнальным столиком напротив меня.
Это мой стажер Дик Флинг. Месяц назад его привел в кабинет начальник отдела и сообщил, что, поскольку я у руководства на хорошем счету, мне оказывают доверие и надеются, что я, как опытный работник, и так далее, и тому подобное… Словом, каждый из нас знает, какие вдохновенные слова умеет говорить в наш адрес начальство, когда похвалу не требуется подкреплять чем-то зримым и существенным. Должен признаться, что в качестве оценки моих заслуг перед Соединенными Штатами меня гораздо больше устроило бы производство в майоры или хотя бы прибавка к жалованью, однако на то оно и начальство, чтобы как можно дальше быть от истинных запросов и нужд подчиненных. Так я стал руководителем практики и был вынужден значительно сократить количество выпиваемого мной на службе: жертва, конечно, не из легких, но ничего не поделаешь — положение обязывает.
Сейчас стажер сидит в кабинете и, дожидаясь вместе со мной лейтенанта Стерлинга, внимательно листает подшивки местных газет и толстенное дело, принесенное вчера из военной полиции.
Вот уж поистине бесцельное времяпровождение! Ну что ценного можно почерпнуть из газет? Сведения, о которых ты до этого не имел ни малейшего представления и которые тебе никогда в жизни не понадобятся; новость, от которой выпучишь глаза, не в силах ее переварить и осмыслить; сюрпризец, по сравнению с которым удар бревном по голове — сущий пустяк. Но главное, в этом потоке словес нет и подобия истины, и если из напечатанного что-либо может быть правдой, ее требуется искать под рубрикой происшествий и на полосе объявлений.
А разве можно здравомыслящему человеку тратить время на чтение писанины чинов из военной полиции? Все, что они могут нацарапать, в большинстве случаев сводится к одному: любой подозреваемый и всякое преступление, с которым они не в состоянии справиться самостоятельно, в конце концов оказываются связанными с самыми страшными и секретными военными тайнами и поэтому относятся к подследственности военной контрразведки. В результате как снег на голову — пухлое дело типа того, что сейчас в руках стажера.
С выводами дела я уже знаком — все как обычно. Поскольку, во-первых, убитые — солдаты специального подразделения «зеленые береты»; во-вторых, они недавно прибыли с театра военных действий и знакомы с дислокацией наших частей во Вьетнаме; в-третьих, их батальон в настоящее время осваивает новую боевую технику. Вывод напрашивается один: в их смерти видна длинная рука русского Главного разведывательного управления. И укоротить эту руку из здания на далекой и кошмарной Знаменке должен именно я, капитан Стив Коллинз из военной контрразведки. Как будто названный капитан, то бишь я, только об этом всю жизнь мечтал и у него нет более серьезных дел, особенно сегодня утром, когда после вчерашнего гудит голова.
Как бы там ни было, парни из военной полиции свое дело сделали умело, том с материалами и резолюцией шефа передан под расписку мне, и всю полноту ответственности за дальнейшие результаты расследования теперь несу я. А поэтому, капитан, кончай дремать, забудь о больной голове и лучше постарайся еще разок припомнить все узловые моменты дела — без прикрас, домыслов, натяжек.
Подтягиваю колени, принимаю из полугоризонтального положения строго вертикальное, выметаю из головы лишнее. Поскольку стажер, проникнувшись значимостью своего нового положения, на редкость важен и строго соблюдает все правила субординации, я предпочитаю не называть его по имени. Однако не обращаться же к нему «сэр»? Слишком жирно! Поэтому я именую его согласно занимаемому им положению в отделе — «стажер».
— Стажер, давай еще раз вспомним все, что нам известно. Начинай-ка с самого начала.
— Слушаюсь, сэр. Итак, утром седьмого августа…
Верно, стажер, с этого и следует начинать. Итак, седьмого августа в шесть утра полицейский патруль обнаруживает труп военнослужащего. Дело происходит почти в центре города, на одной из самых оживленных улиц. Следов убийц обнаружить не удается, свидетелей по факту совершения преступления нет, жильцы близлежащих домов заявляют, что около трех часов слышали выстрелы.
Проходит двое суток — и утром девятого августа снова труп. Осмотр места преступления ничего не дает, свидетели отсутствуют, в соседних домах слышали выстрелы.
А вчера, одиннадцатого августа, — третий труп. И повторение старой картины: следов нет, никто ничего не видел, лишь двое стариков-пенсионеров слышали сквозь сон выстрелы.
Что связывает убийства? Первое, сами жертвы: все трое — солдаты спецроты «зеленые береты», больше того — из одного взвода. Их батальон полтора месяца назад прибыл из Вьетнама для отдыха, доукомплектования и освоения новой техники. Второе, способ убийства. Все трое получили по четыре пули в спину из армейского кольта образца 1911 года; баллистическая экспертиза утверждает, что все пули выпущены из одного пистолета. Значит, во всех случаях присутствовал один и тот же стреляющий или разные лица пользовались одним и тем же пистолетом. Но что бы из этих двух предположений ни оказалось правдой, вывод один: кольт все три убийства связывает воедино. И наконец, ни у кого из убитых ничего не похищено, включая имевшиеся при них деньги и документы. Выходит, убийство с целью грабежа отпадает. Да и чем можно разжиться у солдат, полтора месяца назад вернувшихся из азиатских джунглей и сейчас пытающихся урвать от жизни все, что в их положении только возможно.
Первой, конечно, приходит в голову мысль о сведении личных счетов. Здесь возникают две версии: убийцей может оказаться как их сослуживец, так и лицо, не имеющее к их военной службе ни малейшего отношения.
Допустим, убийца — их сослуживец. Но подобные счеты гораздо легче свести во Вьетнаме, где свои частенько постреливают друг другу в спину, а в их батальоне расправу осуществить легче, чем в любом другом подразделении. Но возможно, потерпевшие накликали месть убийцы за последние полтора месяца уже в Штатах? Не секрет, что батальон через месяц возвращается в джунгли, где расквитаться с ними было проще простого. Если убийца — сослуживец-солдат, он избрал не самый удобный способ.
Допустим другое: убийца не из батальона. В таком случае трое убитых за шесть недель пребывания в Штатах смогли насолить кому-то столько, что тот был вынужден пойти на крайнюю меру — физическое устранение. Возникает вполне правомерный вопрос: как троица умудрилась это сделать за столь короткое время? Правда, один из убитых слаб по части бабенок, другой сутками не вылезал из бара, зато третий дрожал над каждым центом и даже в увольнении находился всего три раза. Что же объединяло бабника, пьяницу и святошу в глазах убийцы? Что?
За истекшие дни мои парни проверили все их связи в батальоне, городе и по месту жительства до службы — никаких зацепок. Теперь относительно пистолета: кольты данной системы проверены не только в батальоне и городе, но и во всем штате — образца, интересующего нас согласно заключению баллистической экспертизы, среди зарегистрированных не обнаружено.
Так что, капитан, тебе повезло лишь в одном: ты имеешь возможность начать расследование чуть ли не на пустом месте. Впрочем, кое-какие мыслишки в твоей голове уже зашевелились, но ниточка, за которую ты собираешься потянуть, слишком тонка, и с трудом верится, что она сразу же не порвется. Поэтому, капитан, еще раз обдумай все хорошенько, обсоси до последней косточки. А обмозговать лучше всего с посторонним, кто будет подходить к твоим рассуждениям и выводам со своей меркой и смотреть на них иным взглядом. Так что пока есть время, проверь-ка лишний раз ход своих мыслей.
— Послушай, стажер, ты ничего не помнишь о любовных делишках одного из убитых… по-моему, капрала Шнайдера?
— Отчего? Помню, сэр. За время отдыха в нашем городе он сменил трех крошек.
И стажер в подробностях пересказывает все, что раструбили по этому поводу местные газетчики и в чем меня пытаются уверить в своих материалах чины из военной полиции. Из писанины тех и других можно выяснить все: любимый цвет белья избранниц капрала, размеры их бюстгальтеров, даже сколько времени тешил каждую Шнайдер. Что делать: от газетчиков и полицейских требовать ума или проницательности не приходится — у них свои сиюминутные цели, а посему и подход к делу. Им обычно лень копаться в мелочах, а именно в пустяках и нюансах зачастую и кроется самое нужное. Но то, что простительно невеждам-газетчикам и тупоголовым полицейским, непростительно контрразведчику.
Чтобы не слушать хорошо знакомую мне галиматью, я останавливаю стажера:
— Отлично, дружище. Любовные делишки покойника как на ладони, но… Тебе не кажется, что в этом морг информации упущена одна забавная мелочь? За полтора месяца, что батальон квартирует в городе, газетчики насчитали у Шнайдера трех любовниц. Коллеги из военной полиции пошли дальше: установили где, с кем и сколько грешил капрал. Помнишь их подсчеты?
Ответ собеседника следует незамедлительно:
— С Джен четыре раза, с Флорой и Розой — по три.
— В общей сложности десять ночей. Батальон же в городе полтора месяца, то есть немногим больше шести недель. Запомни эти две цифры: десять и шесть.
— Слушаюсь, сэр.
— Теперь припомни, как характеризуют отношение капрала с женщинами его приятели и начальство.
— Женщины — слабость капрала, все время и деньги он тратил на них. Командир отделения, в котором служил Шнайдер, говорит, что во время боевых действий в населенных пунктах он всегда оставлял капрала на бронетранспортере за пулеметом, опасаясь, что тот сломя голову бросится за любой девкой и попадет под пули «чарли» или, что хуже, под свои. Шнайдер отличался пристрастием к слабому полу, утверждают все, кто знал его.
— Теперь, стажер, займись арифметикой. Все характеризуют капрала как сексманьяка ротного масштаба. Так ли это? За полтора месяца всего три связи и десять ночей у своих пассий. Прошу вывода.
Стажер мнется.
— Я не специалист, однако… по-моему, это нормально для здорового парня. Вас, сэр, настораживает несоответствие между характеристикой капрала и истинным положением вещей?
— Я имею в виду другое несоответствие. Кстати, как ты сам объяснишь это?
— Тяга мужчины к женщинам штука субъективная. Капрал мог иногда попросту прихвастнуть, к тому же в мужском обществе, тем более в армии, всегда найдется сердцеед… настоящим или мнимый. Капрал подыгрывал болтунам, и за ним укрепилась репутация жоха. На самом деле это был вполне обыкновенный парень.
— Логично. Позволь еще вопрос. Когда капрал ублажал своих красоток? Не в какое время суток, а в какие дни из тех шести недель?
Стажер задумывается, облизывает губы, слегка краснеет.
— Не обратил внимания, сэр, — виноватым голосом произносит он, — Об этом никто не сообщал.
— Об этом на самом деле никто не упоминал. А ведь именно здесь, как мне кажется, собака и зарыта. Я же внимание обратил. Все десять случаев посещения им своих пассий приходятся на первые две недели пребывания в городе. Вот противоречие, о котором я говорил: бабник-капрал первые две недели оправдывает свою репутацию полностью, а в последующие четыре его не узнать. В чем дело?
— Женщины могли ему надоесть.
— Пусть так. А дальше?
То, что скажет сейчас стажер, мне действительно интересно. Именно с этого места и начинается цепочка моих рассуждений и следующих из них важных выводов.
— Дальше? Ничего, — спокойно отвечает стажер. — Капрал — обыкновенный парень, и его повышенная тяга к женщинам — чушь. Оголодал во Вьетнаме по женщинам и первые две недели бесновался, пока не сбил охоту.
Логично, стажер. Плохо одно: твоя логика не пытается заглянуть дальше и глубже того, что ты почерпнул из сообщений газетчиков и из материалов военной полиции.
— У тебя все, дружище?
— А что еще? — удивляется стажер.
Действительно, что еще? По-видимому, мыслительные возможности моего собеседника исчерпаны, и в своих рассуждениях он приблизился к конечной точке. Стоит ли разубеждать его, что-то объяснять и доказывать, делиться с ним собственными домыслами? Тем более что я еще и сам не уверен в правильности избранного пути. Лучше дождаться звонка лейтенанта, который поставит все на свои места.
Звонка я не дождался, зато примерно через полчаса в кабинет ввалился сам Крис — потный, разгоряченный, в пыли. На лице блаженная улыбка: что-то вынюхал.
— Привет, парни, — весело приветствует нас лейтенант.
Подходит к столу, наливает из сифона содовой, залпом выпивает, с шумом выдыхает воздух.
— Отлично, капитан. Ты как в воду глядел.
— Кто? — тихо спрашиваю я, в упор глядя на лейтенанта.
Крис с улыбкой вытаскивает из внутреннего кармана пиджака конверт, достает из него фотографии, одну кладет передо мной.
Молодая, красивая, смеющаяся женщина. Голова запрокинута назад, блестит ниточка белых ровных зубов. Хороша, как на рекламных проспектах. Только глаза на рекламе обычно жгучие, зовущие, с обещанием неземного блаженства, а здесь, на снимке, обыкновенные подведенные глаза, какие мелькают в городе на каждом шагу и в глубине которых затаились безразличие и усталость.
Сюзанн Керри. Полтора года назад входила в первую двадцатку кинозвезд и, конечно же, мечтала о переходе в лидирующую дюжину. Но затем решила, что лучше быть первой в Галлии, чем последней в Риме, и променяла сомнительный студийный успех на неоспоримое и надежное первенство в небольшом курортном городке, где поклонников с миллионами в кармане не меньше, чем песка на пляжах Калифорнии.
— Навестим красотку? — предлагает Крис и уточняет: — Когда?
— Прими душ и выпей пару банок пива. Или предпочитаешь нанести визит немедленно?
— Так точно, капитан, немедленно… после душа и пива.
— Жду через полчаса.
Крис выходит, и я ловлю нетерпеливый и любопытный взгляд стажера. Теперь можно и поговорить, тем более что у нас полчаса свободного времени. Беру со стола фотографию, протягиваю стажеру. Тот жадно на нее смотрит.
— Полюбуйся. Из коллекции нашего любвеобильного капрала. Последняя в списке, но, — подмигиваю, — не последняя в деле.
— Но все писали о трех девицах, — недоумевает стажер, не отводя взгляда от фотографии.
— Дружище, поверь, сообщения газетчиков стоят ровно столько, сколько бумага, на которой они напечатаны. Что же касается чинов военной полиции, то в их ремесле вовсе не требуется думать. Газетчику нужна лишь авторучка, дабы строчить то, что за него решают другие, а господам из полиции — плечи и живот, чтобы таскать погоны и портупею. А вот в контрразведке приходится думать самим. На подобную же писанину, — указываю на принесенные из военной полиции материалы, — надо обращать как можно меньше внимания. Итак, на чем мы остановились?
Стажер понимает меня сразу:
— В последнее время капрал Шнайдер перестал интересоваться женщинами.
— Не женщинами вообще, а лишь наиболее доступными, с которыми имел дело в первые две недели, — поправил я. — Моя цель ясна?
— Кажется, — звучит неуверенный голос стажера.
— Обрати внимание: все, абсолютно
все, начиная от лучших друзей капрала по отделению и кончая командиром роты, уверяют: единственное хобби Шнайдера — женщины. В первые две недели пребывания в нашем городе он свою репутацию полностью оправдывает, а потом его словно подменяют. Улавливаешь? Объясню. Капрал — обыкновенный бабник, который длительное время был лишен женской ласки. Поэтому первое время он был подобен голодному бродяге за обеденным столом: утолял аппетит чем угодно, лишь бы заглушить голод. Однако, когда желудок набит, даже непритязательного бродягу тянет на десерт. Так и наш герой, насытившись первыми успехами, начинает подыскивать десерт, то бишь кусочек полакомее. И поскольку капрал оставляет прежних утешительниц, я заключаю, что желанный кусочек находится. Логично?
— Вполне, сэр. Однако почему о его новой связи никто ничего не знает?
— Это самое интересное. Скажу больше: именно поэтому я и хочу поскорее побеседовать с Сюзанн Керри.
— Откуда уверенность, что таинственная новая пассия капрала — Сюзанн Керри?
— Прийти к такому решению несложно. Мы знаем капрала и его подружек, а также характер их взаимоотношений. Начнем с важнейшего в подобных делах фактора — с внешних данных. Помнишь фотографии Розы и ее коллег по ремеслу?
— Я видел не только снимки, но и их самих. Все трое молоденькие, свеженькие, миловидные.
— Да, девочки недурны, — соглашаюсь я. — И если с такими расстаются, их меняют на товар не хуже прежнего. Вывод первый: незнакомка должна быть не просто привлекательной, но иметь нечто большее — изюминку. Согласен?
— В городе масса красивых девушек.
— Отрадно, но давай закончим разговор об одной из них. Отчего о новом увлечении капрала никто ничего не знал? Может, это объясняется присущей ему скромностью? Исключено: подцепить хорошенькую подружку и не хвастаться перед друзьями — не в его характере. Значит, дело не в капрале, а в его знакомой. Между прочим, дружище, какой славой пользовались Роза и ее товарки?
— Дурной… всем троим нечего терять. Солдаты для таких — сущий клад: репутацию подобных девиц не испортит ничто, а шанс выскочить за болвана в форме существует.
— Поэтому капрал с ними не церемонился. Отношение к последней знакомой совершенно противоположно — его можно объяснить только одним: она дорожила репутацией. Причин может быть несколько. Она замужем или собирается вступить в брак, она на хорошем счету в обществе или проживает с чересчур строгими родителями… Добавляем очередной штрих к портрету незнакомки: она не только молода и красива, но и весьма щепетильна в вопросах собственной репутации. За время пребывания батальона на отдыхе капрал ни разу не покидал пределов здешнего гарнизона, выходит, таинственная дама обитает в нашем городе.
— Разве из красивых женщин нашего города только Сюзанн Керри дорожит репутацией? — замечает стажер.
В его глазах столько недоверия, что я не могу удержаться от улыбки.
— Конечно, нет. В городе больше двухсот тысяч жителей, а потому среди здешних прелестниц я насчитал целый взвод красавиц, цепляющихся за свою репутацию. Но поскольку наш герой обыкновенный солдат, доступ к знакомству с большинством из них ему попросту закрыт. Ведь я не думаю, чтобы его приглашали на званые обеды в ротари-клуб или на балы в особняки отцов города, не говоря уже о вечерах на виллах отдыхающих здесь сенаторов. Поэтому любовницей капрала могла стать лишь та, с которой он имел возможность познакомиться. В результате взвод сразу сократился до отделения. Тщательное знакомство с биографиями и образом жизни попавших в поле зрения красавиц сузило круг подозреваемых настолько, что в нем застряло всего три особы, претендующие на звание «мисс инкогнито». И лишь десять минут назад лейтенант поставил последнюю точку в шараде: незнакомка — это Сюзанн Керри.
На лице у стажера нерешительность, сомнение; чувствую, что на языке у него вертится вопрос.
— Считаешь, она не удовлетворяет нашим требованиям? — улыбаюсь я. — Красива — раз, на прекрасном счету в местном высшем свете — два. Репутация для таких — ключ к преуспеванию.
— В этом все дело, сэр. Не могу понять, что общего между такой женщиной и обыкновенным капралом.
— Представь, данный вопрос интригует и меня. Чтобы получить ответ, мы и навестим Сюзанн сегодня вечером.
СТАЖЕР
В кабаре полно народу, в зале все места заняты, лишь возле стойки бара несколько свободных стульев-вертушек. Разноголосый шум, музыка, звон посуды в первое мгновение оглушили, строгие вечерние костюмы мужчин и изысканные туалеты женщин вызвали желание забиться в угол и спрятаться за чью-нибудь спину. Шутка ли? Лучшее кабаре города! В подобное заведение я попадал третий или четвертый раз в жизни, моя скованность и заурядный синий костюм, приобретенный в отделе готового платья универмага, должны были сразу бросаться в глаза и свидетельствовать, что я из тех, кто в такие места попадает только случайно.
Капитан же чувствовал себя здесь своим человеком. Отлично сшитый серый в полоску костюм, рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, красноватый, с ослабленным узлом галстук. Пиджак распахнут, левая рука в кармане брюк, во рту сигарета. То же, что и у всех, ленивое выражение лица, чуть прищуренные глаза, нагловатый взгляд, развинченная походка. Капитан ничем не выделялся из окружения.
Приближалось время музыкального отделения, и многие из бара устремились поближе к эстраде. Между длинной полукруглой стойкой бара и небольшим уютным залом, где находилась эстрада, ходили два громилы в черных фраках, белых манишках и таких же перчатках. С невозмутимым выражением лиц, не говоря ни слова, они сжимали слишком активным клиентам плечо и разворачивали лицом к стойке. Некоторые из посетителей просили подыскать место в зале, парни лениво цедили, что все занято, и, даже не повернув головы, продолжали обход. Капитан загородил одному из них дорогу и, когда парень, едва не споткнувшись, протянул лапищу, — перехватил волосатое запястье. Мужчины застыли в полушаге друг от друга. Оба не смотрели на противника, лица ничего не выражали, и лишь по вздувшимся на тыльных сторонах ладоней венам чувствовалось, сколько сил прилагал один, чтобы вырвать руку, другой — удержать ее в цепких пальцах.
Бар и кабаре считались лучшими в городе. И хотя у входа собиралось немало случайного сброда со всей округи, драк здесь никогда не было: подобранный хозяином штат сотрудников мигом наводил порядок. С одним из подобных вышибал и сошелся капитан. Рука верзилы дрогнула, стала клониться вниз, и капитан рывком отшвырнул лапищу. Болезненно скривив лицо, парень принялся массировать кисть, глаза угрожающе вперились в противника.
— Нарываешься? — прошипел громила.
Капитан лениво выплюнул окурок, растер его по полу.
— Позови хозяина!
— А президент не нужен? — осклабился громила.
— Не хочешь неприятностей — поторопись: я не люблю ждать.
Сейчас это был уже другой человек: глаза, не мигая, сверлили физиономию верзилы, губы плотно сжаты, в фигуре сила и собранность, в голосе приказ. Вышибала оглянулся по сторонам в поисках напарника, но к нам подоспели лейтенант Стерлинг и еще двое наших сотрудников.
— Кто спрашивает хозяина? Что ему передать? — хмуро поинтересовался громила.
— Просто позови. Я люблю представляться сам.
Громила круто развернулся и моментально исчез, а через минуту возвратился. Хозяин шагал следом, прямо-таки сияя от счастья. Еще за два ряда он протянул моему шефу руку для пожатия.
— Капитан, неужели вы? Как я рад.
— Старина, организуй столик и пришли на пару минут свою приму. И, само собой, промочить глотку мне и ребятам.
— Будет сделано, сэр. Столик капитану! — рявкнул хозяин громиле.
Того как ветром смело, и вскоре я увидел посрамленного рыцаря порядка хлопочущим возле эстрады у столика.
— Какими судьбами, сэр? Что-нибудь случилось? Неприятности? — на лице хозяина цвела улыбка, движения были суетливы и угодливы, в глубине глаз заметна тревога.
— Все в порядке, старина. Можешь спать спокойно. Хочу кое-что узнать у твоей красавицы. Не ревнуешь?
— Что вы, сэр, — хохотнул хозяин. — Но Сюзанн через несколько минут открывает программу, — нерешительно заметил ом.
— Знаю, старина.
От эстрады приблизился верзила. Чуть наклонив напомаженную голову, подобострастно заглянул капитану в глаза:
— Все готово, мистер.
— Мы подождем ее за столиком, — проворковал капитан хозяину. — Учти, раньше она явится — быстрее освободится.
Развалившись в кресле, капитан медленными глотками выцедил полстакана джина и со скучающим видом принялся разглядывать присутствующих.
Я увидел Сюзанн сразу. Она была одета для выхода на сцену: коротенькая блестящая юбочка с разрезами на бедрах и тонкая, плотно облегающая блузка с глубоким вырезом. Ее тотчас узнали, стали хлопать и бросать под ноги цветы. Мисс Керри в ответ принялась раздавать воздушные поцелуи. Я хотел встать и проводить ее к нашему столику, но капитан остановил меня:
— Что за судороги, дружище?
— Она, наверное, нас не знает?
— Исключено. Красотки парней из нашего ведомства, особенно в таком городишке, знают всегда. Стоит сделать десяток-другой допросов, произвести пяток обысков или арестов — и ты уж на виду… в первую очередь у тех, кто имеет основания нас опасаться. А у крошки как раз рыльце в пушку.
Капитан оказался прав: Сюзанн действительно знала, к кому идет. Остановилась возле нашего столика, кокетливо отставила в сторону ножку, небрежно положила левую руку на спинку кресла.
— Я вам понадобилась, капитан?
Глядя поверх наших голов, мисс Керри помахивала ладошкой беснующимся поклонникам, расточая улыбки.
— Послушай, Сюзи, — поморщился капитан, — не мельтеши перед глазами. Садись-ка рядом и приготовься к серьезному разговору, а свои штучки оставь для сцены.
Девушка окинула капитана пренебрежительным взглядом и уселась за наш столик.
— Сюзи, хозяин предупредил, что у тебя скоро выход. Но похоже ты не торопишься. Могу тебя обрадовать: мы тоже.
— Слушаю, капитан, — ледяным тоном произнесла девушка, — через семь минут я открываю ревю, поэтому давайте к делу.
— Считай, уговорила.
Капитан медленно отпил из стакана, любовно тронул кончики рыжеватых усов.
— Сюзи, есть один старый анекдот. По Парижу едет группа экскурсантов с гидом. «Дамы и господа, — сообщает гид, — направо от нас Нотр-Дам, налево смотреть не советую — там продажные женщины». Все, естественно, смотрят налево. «Дамы и господа, налево от нас Булонский лес, направо рекомендую не смотреть — там продажные женщины». Все, конечно, глазеют направо. «Дамы и господа, прямо перед нами Елисейские поля, по сторонам советую не смотреть — кругом продажные женщины». Экскурсанты начали вертеть головами, а к гиду склонилась одна из них: «Скажите, разве в Париже нет порядочных женщин?» «Конечно есть, мадам, но они безумно дороги». Понравилось, Сюзи?
Бывшая актриса презрительно скривила пухлые губы:
— Меня позвали, чтобы рассказывать похабщину?
Капитан обворожительно улыбнулся, снова хлебнул из стакана.
— Нет, Сюзи, анекдот пришелся к слову. Просто я хотел уточнить, сколько ухлопал Шнайдер, чтобы ты стала его любовницей. Думаю, немало: ты как раз из подобных порядочных женщин.
Я затаил дыхание, боясь пропустить хотя бы слово. Еще бы! Я оказался за одним столиком с самой Сюзи Керри, самой красивой женщиной штата, звездой лучшего в городе кабаре. Той самой Сюзи, которая сыграла несколько главных ролей в нашумевших фильмах и чья фотография в свое время висела над моей койкой.
Я знал, что у кинозвезд есть любовники, но всегда считал, что у таких, как Сюзи, — обворожительных, при деньгах, пользующихся успехом и купающихся в лучах славы, и любовники должны быть экстра-класса, сильными, богатыми, резко отличающимися от посредственностей вроде меня. И вдруг… Полубогине в глаза заявляют, что ее любовник капрал, обыкновенный солдат. Я приготовился к взрыву негодования, к язвительному смеху, считая, что мисс Керри влепит капитану пощечину, однако ничего не произошло. Сюзи медленно повернула голову в сторону капитана, в глазах впервые вспыхнул интерес.
— Капитан, с каких пор грязное белье стало привлекать внимание военной контрразведки? Или эти сведения волнуют вас лично?
— Сюзи, меньше яда! Впрочем, у меня к нему на службе иммунитет.
— Насколько я в курсе, вашу фирму должны интересовать военные? Не так ли?
— Плюс их окружение, — ласково уточнил капитан. — А это весьма широкое понятие. И вообще, мы на редкость любознательны. Одно нас привлекает как предмет профессионального интереса, другое — из общечеловеческого любопытства. Третье… на всякий случай.
— Чем вызван интерес к моей особе?
— Сюзи, ты притягиваешь мужчин как магнитом. Разве не ясно? Итак, сколько ты вытряхнула из капрала?
Капитан улыбался, глаза весело блестели. Я впервые видел мужчину, говорящего женщине пакости с выражением, более подходящим для комплиментов.
Бывшая актриса презрительно фыркнула:
— Капрал? Деньги? Блефуете, капитан.
— Сюзи, я считал тебя умнее. Посуди сама. Ты и Шнайдер принимали все возможные меры предосторожности, чтобы сохранить свою связь в тайне, а мы о ней знаем. Нам известно также, где он снимал номер и когда ты туда ездила. Мы даже установили владельцев такси, услугами которых ты пользовалась. Такая служба! Признаюсь, я тебе даже от души сочувствую: иметь двух постоянных любовников и выкраивать время для случайно подвернувшегося третьего. Но ты поступила правильно: не упускать же выгодное дельце? Так сколько капрал отвалил тебе? Я бы на его месте не поскупился.
— Это допрос?
— Сюзи, шалишь. К чему такие громкие слова? — поморщился капитан. — Считай, что беседуешь с одним из поклонников своего таланта. Допрос? Хм… Это значит, что я должен вызвать тебя в отдел официально, выполнить кучу необходимых формальностей, заполнить соответствующий протокол. А документы — штука опасная, выдержки из них при определенных обстоятельствах могут попасть в печать. Ведь твоя связь с Шнайдером именно та клубничка, на которую обычно так падки журналисты и телерепортеры. Мне кажется, ты не стремишься к подобной рекламе, и я решил поговорить с глазу на глаз. Обыкновенный разговор без процессуальных закорючек и неприятных последствий, — многозначительно завершил тираду капитан.
— Вам можно верить, сэр? — встрепенулась бывшая актриса.
— Рискни. Если бы я хотел нагадить, ты щебетала бы у меня в кабинете.
— Сэр, я рассчитываю на вашу порядочность.
Капитан согласно кивнул, достал из кармана чистый лист бумаги, положил сверху авторучку.
— Укажи все, что он тебе подарил, и оцени в долларах. Учти, завтра все проверю в магазинах.
Девушка быстро набросала колонку цифр, придвинула лист и авторучку капитану.
— Здесь все, вплоть до ночной пижамы.
Капитан мельком взглянул на лист, тихонько присвистнул.
— Капрал впрямь набит деньгами. Уж не аравийский ли он шейх, нагрянувший к нам инкогнито? Сюзи, он тебе случайно не проговорился?
Бывшая актриса надула губы:
— Меня не интересуют чужие секреты. Главное, Шнайдер не скупился. А какая женщина не любит красивых вещей?
— К тому же дорогих и достающихся почти даром. Не так ли?
— Сэр, я не проститутка, — с достоинством заявила мисс Керри. — Я не беру за это денег, но если мужчина тобой доволен и делает подарок, глупо отказываться.
— Точно, Сюзи, нельзя обижать дарителей.
— Это все, капитан? — поинтересовалась девушка.
— Конечно. Может, тебе так понравилось с нами, что не хочется уходить?
— Я свободна?
— Если желаешь. Учти, мы будем хлопать тебе громче всех.
Мисс Керри уходит так же, как пришла: горделивой походкой, улыбаясь и помахивая рукой, рассылая знакомым воздушные поцелуи. Я смотрел на нее, а перед глазами вставало другое лицо: прыщавое, с тяжелым бульдожьим подбородком, прилипшими ко лбу редкими волосами, с ничего не выражающим пустым взглядом. Она и капрал Шнайдер!
— Счетовод, подбей-ка бабки.
Капитан придвинул ко мне исписанный почерком Сюзанн лист, сунул авторучку. Сумма показалась настолько неправдоподобной, что я дважды ее пересчитал, прежде чем огласить.
— Твое мнение? Крез, да и только, — съязвил капитан.
— За месяц ухнул семьдесят годовых окладов… с «гробовыми», надбавками, компенсациями, пособиями.
— Неплохо гульнул капрал, по-генеральски. Но откуда такие деньги?
Я пожал плечами:
— По службе капрал не имел отношения к материальным ценностям. За последние полтора месяца во всем штате не зарегистрировано ни единого крупного грабежа. Денег он в батальоне не занимал, со стороны не получал.
Капитан потер кончик носа:
— Вот это и интересно. Ничего, завтра наведаемся с тобой еще в одно злачное местечко, где любил бывать другой покойничек, приятель Шнайдера, и побеседуем там кое с кем. Думаю, после этого многое прояснится. А сейчас… Как относишься к тому, чтобы полюбоваться нашей красавицей на сцене? Надеюсь, она кое-что может не только в постели…
Большое полуподвальное помещение с блестящим, под мрамор полом, с никогда не гаснущим «дневным» светом, готовое принять посетителя в любое время дня и ночи. Для желающих посидеть — десятка три столиков с белоснежными скатертями и хорошенькими молоденькими официантками. Для заскочивших на минуту — рядом с входной дверью уютный бар с длинной стойкой, где можно наскоро пропустить стаканчик.
Было около десяти утра. Столики пустовали, зато в баре посетителей скопилось хоть отбавляй. Мы с капитаном протиснулись к стойке, помощник бармена моментально и без лишних вопросов поставил перед нами два стакана с виски. Капитан посмотрел свой на свет, понюхал содержимое. Затем, даже не взглянув на обслуживающего нас парня, бросил:
— Еще по двойной и на минутку Боба.
Бобом оказался сам бармен, важно восседающий за служебным столиком у входа в зал. Едва помощник прошептал ему на ухо и указал на нас, он вскочил и засеменил в наш угол.
— Привет, старина, — приветствовал его капитан. — Как поживаешь?
— Неплохо, сэр. А у вас, вижу, к старому Бобу вопросы, коли решили навестить его.
— Угадал, старина. Небось догадываешься, почему я здесь?
— Бармен хитро прищурился:
— Это нетрудно сделать. История убийства ваших парней, героев Вьетнама, не сходит со страниц газет. Если учесть, что один из них частенько у меня засиживался, неудивительно, что вам самому захотелось побывать здесь.
— Как он проводил время?
— Пил, сэр. Только пил, как свинья. Вначале напивался сам, потом угощал всех подряд.
— Дорогое удовольствие.
— Недешевое, — усмехнулся бармен. — Похоже, «беретам» платят, как генералам?
Однако капитан пришел задавать вопросы, а не отвечать на них.
— Сколько же он пропил у тебя? Мне нужна точная сумма, так что постарайся припомнить хорошенько.
На вытянутом, как тыква, лице бармена появилось выражение обиды.
— Старый Боб и без напоминаний все хорошо помнит. Если клиент побывал у меня за стойкой хоть раз, я о нем уже ничего не забуду. Посетитель только открывает дверь, а Боб уже знает, что тот сегодня будет пить и сколько, имеются ли у него в кармане деньги и какое настроение, уйдет ли он из бара сам или его придется выталкивать коленом под зад.
— Так сколько? — повторил капитан.
— Пьянь! Сразу заказывал бутылку виски и вручал мне сто долларов. Боб, говорил он, сегодня я угощаю всех за своим столиком. Оставь из этих денег мне на такси, и две рюмки напоследок, остальные у меня лишние. И к десяти вечера напивался так, что засыпал за столиком. В полночь я впихивал его в такси и отправлял в казарму. Так повторялось каждый раз, посещал он нас регулярно, три раза в неделю. Вот и считайте, сэр, сколько монет он здесь оставил.
— Кругленькая сумма. И еще, Боб…
Капитан склонился над стойкой, поманил пальцем бармена. Оба очутились чуть ли не лицом к лицу. Говорили тихо, слышать их мог лишь я.
— Послушай, Боб, а туда он не похаживал? — шепнул капитан, кивнув на едва приметную боковую дверь.
Бармен испуганно втянул голову в плечи, переступил с ноги на ногу:
— Сэр, я всего лишь бармен.
— И все-таки?
— Этим делом занимается сам хозяин.
— Я жду, Боб, — в голосе капитана прорезались металлические нотки.
Бармен подозрительно огляделся, чуть заметно кивнул.
— Я так и думал, — весело заметил капитан. — Ну и как были его успехи на этом поприще?
— Не знаю, сэр. В этом бизнесе хозяин свидетелей не признает.
— Придется потолковать с ним. Где хозяин?
— У себя в кабинете. До обеда обычно просматривает счета и бумаги.
— Тогда, Боб, до встречи. Счастливо оставаться…
Капитан залпом выпил вторую порцию виски, щелчком отправил стакан в противоположный угол стойки, развернулся ко мне:
— Закругляйся, дружище. Навестим старую крысу, покуда она не сбежала из норы.
Кабинет хозяина располагался на втором этаже. Не обращая внимания на секретаршу в приемной, которая заявила, что мистер Хелвиг до обеда не принимает, мы с капитаном прошли в кабинет. Хлопнула закрывшаяся за нами дверь, сидевший возле окна за массивным письменным столом мужчина поднял голову от разложенных перед ним бумаг. Полный, с небольшой лысиной, с заметно обрюзгшим лицом. Мельком скользнул по нам взглядом, остановил глаза на появившейся в дверях вслед за нами секретарше.
— В чем дело, Грета? — проскрипел мужчина.
— Я не виновата, сэр. Я сказала, что вы заняты… Они прошли сами, — чуть не плача, оправдывалась та.
— Прошу объясниться, господа, — словно кнутом щелкнул хозяин.
Резкость относилась к нам. Тон вызывающий, не сулящий ничего хорошего, глаза полны неприязни. Капитан подошел к креслу возле стола, уселся без приглашения, забросил ногу на ногу.
— Мистер Хелвиг, — голос моего шефа был невозмутим и строг, — нас предупредили, что вы заняты, однако у нас к вам дело, не терпящее отлагательств.
— Всему свое время. К тому же я не имею чести знать вас.
Капитан усмехнулся, запустил руку во внутренний карман пиджака.
— Не валяй дурака, приятель, меня наверняка знаешь. Но если хочешь, представлюсь официально. Прошу. — С этими словами капитан сунул под нос Хелвигу удостоверение. — Старший следователь военной контрразведки капитан Коллинз. У меня к тебе дело.
— Грета, оставьте нас.
От хозяина заведения по-прежнему тянуло холодом и недоброжелательностью.
— К вашим услугам, капитан, — выдохнул Хелвиг, когда за секретаршей закрылась дверь.
— Твоим гостеприимством частенько пользовался интересующий меня человек. Илтон Хейс, сержант Илтон Хейс. Фамилия ничего не говорит? Верю. Вот его фотография.
Капитан положил перед Хелвигом крупное фото, однако тот, даже не взглянул, отодвинув снимок небрежным движением.
— Я руковожу делом и не могу помнить всех своих клиентов. Здесь ежедневно толчется чуть ли не полгорода.
— Я не о баре, я имею в виду твой игорный дом. — Капитан пристукнул ладонью по столу. — В нем клиенты избранные, все свои, так что ты должен хорошо знать и помнить каждого.
Лицо Хелвига не изменилось, голос звучал как и раньше — спокойно, бесстрастно.
— Не понимаю, о чем вы, капитан.
— Я? О тайном игорном доме, для маскировки которого ты и держишь бар. Желаешь, могу раскрыть эту тему подробнее.
— Сэр, это недоразумение, вы что-то путаете.
Капитан поморщился, поправил узел галстука. На лице появилось выражение скуки, голос зазвучал с ленцой:
— Мы с тобой взрослые люди, и каждый в своем деле не новичок. Выслушай меня внимательно и постарайся правильно понять. Меня, следователя контрразведки, крайне интересует вопрос, ответ на который можешь дать лишь ты, содержатель тайного игорного притона. Твой ответ имеет для меня первостепенное значение, а поэтому я вырву его из тебя любой ценой. Например, так… Если я не удовлетворю свое любопытство сейчас в этой комнате, прикажу сию же минуту доставить тебя к нам в отдел, «пристегну» к делу убитых наших парней, и вечером мои сотрудники сделают здесь обыск и накроют, якобы случайно, всю вашу картежную компанию. Тогда местная полиция, хотя среди ее чинов у тебя немало приятелей, будет вынуждена заняться обнаруженным притоном, тем более что ты приторговываешь и «травкой». Поскольку первыми в притон сунем нос мы и все обнаруженное официально оформим, твоим дружкам из полиции уже не удастся ничего не утаить, ни фальсифицировать, потому что дело будет сделано практически без них и так, как распоряжусь я.
Это один из путей — самый простой и безошибочный. Результат? Ты теряешь бизнес и свободу, я — время. — Хелвиг хотел что-то сказать, но капитан остановил его. — Да-да, только время. Ты работаешь не один, и после тебя я займусь твоими дружками-компаньонами. Расправа с тобой заставит их быть со мной сговорчивее, и уже от них я узнаю все о сержанте. Считаю, что в описанной ситуации проигравшей стороной будешь только ты… Но есть и другой вариант. Ты отвечаешь на интересующие меня вопросы, и мы мило прощаемся. Я не полицейский, не налоговый инспектор, и твой способ делать деньги меня не волнует. Итак, мистер Хелвиг, какой из названных мной путей вам больше нравится? — прищурился капитан.
— Что вас интересует? — выдавил хозяин.
— Выигрывал или проигрывал Илтон Хейс? Сколько? Если проигрывал, как расплачивался — в долг или наличными?
— Играл парень скверно… по сравнению с профессионалами. Тем более что всегда поднимался в игорный зал, будучи уже навеселе. За восемь вечеров он оставил около шести тысяч долларов, точнее, пять восемьсот. Что касается проигрышей, у меня рассчитываются только наличными.
— Вот и все, что я хотел узнать.
Капитан встал, одернул на коленях брюки, взял со стола и сунул в карман фотографию.
— Счастливо оставаться, приятель…
В отделе нас поджидал лейтенант Стерлинг. Он прошел вместе с нами в кабинет, устало опустился на стул.
— Капитан, могу тебя порадовать. Все три раза, будучи в увольнении, Поль Мартин заходил в контору по торговле недвижимостью. Интересовался небольшой фермой во Флориде стоимостью триста — четыреста тысяч, хотел приобрести якобы для матери. В конторе свой закон: контрагент обязан внести десятипроцентный залог в счет стоимости будущей покупки. Мартин внес в кассу сорок тысяч.
Крис щелкнул замками кейса-«дипломата», положил перед капитаном бумаги.
— Протокол опознания Мартина по фотографии, допросы главы конторы и агента, непосредственно имевшего дело с Полем. А это копия чека на сорок тысяч долларов.
Капитан рассеянно перебрал документы, сунул в свою папку.
— Значит, установлено, что все три покойничка не испытывали при жизни нужды в деньгах. Возможно, это обстоятельство и стало причиной их гибели. Откуда у них деньги? Не в этом ли секрет всей истории?
Я собирался почистить перед сном зубы, но в дверь моего гостиничного номера постучали. На пороге стояли капитан с лейтенантом Стерлингом.
— Не спишь? — поинтересовался капитан.
— Я редко ложусь раньше двенадцати.
— Тогда одевайся и прихвати на всякий случай пушку.
Капитан говорил быстро, в движениях чувствовалась нервозность. Завязать галстук, набросить на плечи пиджак и прицепить к поясу полукобуру с пистолетом — дело нескольких секунд. Через минуту мы сидели в поджидавшей нас на улице дежурной машине. Был первый час ночи, мы мчались в темноте как одержимые. Капитан с лейтенантом молчали. Я с расспросами не лез: знал, что получу необходимые сведения не раньше, чем это сочтут нужным сделать они сами.
— Через пять минут будем на Дубовой, — обернулся сержант-водитель.
Капитан глянул на часы, потом на меня.
— Двадцать пять минут назад в полицейский участок позвонила некая мисс Чарлстон и сообщила, что возле ее дома — по Дубовой, сорок пять, — стреляли. Через восемь минут по этому адресу уже находился полицейский патруль, обнаруживший на мостовой смертельно раненного солдата. Тринадцать минут назад об этом стало известно у нас в отделе, еще через три — меня вытащили из постели, а я решил прихватить и тебя. Фокус в том, что потерпевший — капрал «зеленых беретов» Джон Беннет, проходящий службу в той же роте и взводе, что и трое убитых. Бедняга в тяжелом состоянии, полицейские немедленно вызвали к нему «скорую помощь». На месте преступления уже работает наша дежурная опергруппа.
— Дубовая, сорок пять, — сообщил шофер.
Мог бы и не говорить. Улица возле дома сорок пять ярко освещалась фарами полицейских машин, на тротуаре толпились любопытные, сновали люди в форме и штатском. Капитан сразу направился к врачу, склонившемуся над пострадавшим.
— Выживет?
— Четыре пули в животе. Ему нужен не я, а священник.
— Совсем плох?
— Не протянет больше двух-трех минут.
Капитан опустился возле раненого на колено, я последовал его примеру. Капрал лежал на боку, подогнув под себя левую руку. Глаза закрыты, тяжелое, с хрипом дыхание, при каждом выдохе на губах пузырилась кровавая пена. Капитан тряхнул умирающего за плечо. Глаза капрала медленно открылись, немигающий взгляд уставился на контрразведчика.
— Я — следователь… найду твоего убийцу. Вспомни, как все произошло… кто стрелял, откуда, — быстро и отчетливо заговорил капитан в самое ухо лежащего.
Раненый захрипел, хотел что-то сказать, на губах выступила пена, и он зашелся в глухом кашле. Кашель клокотал в груди, рвался наружу, гнал через рот хлопья красноватой слюны. Лицо капрала побагровело, веки смежились. Однако капитан продолжал трясти умирающего за плечо.
— Я — следователь… хочу тебе помочь. Вспомни, кто и откуда стрелял… может, ты видел его. Говори, быстрей.
Беннет снова открыл глаза, на этот раз в них блеснула искра разума.
— Это он… я догадался, что это он. Нас оставалось двое… но он подстерег и меня.
Признание стоило умирающему неимоверных усилий, в углах губ снова появилась пена, глаза стали закрываться. Капитан рывком потянул Беннета на себя.
— Кто он?.. Кто? С кем вас оставалось двое?
— Это он… сержант Ларри Фишер. Нас оставалось двое… теперь один… Но Ларри подкараулит и его.
Раненый дернулся, будто внезапно поперхнулся, глаза остановились, голова откинулась назад.
— Кто остался один? Кто? — возбужденно спрашивал капитан, словно надеясь на чудо, не отдавая себе отчета, что задает вопрос уже не человеку.
— Не трудитесь, капитан, Беннет мертв, — сухо проговорил врач. — Вы доконали его. Варварство! Отравить ему последние мгновения жизни!
Капитан встал, провел рукой по лицу, тряхнул головой. Зло усмехнулся и, раздув ноздри, повернулся к врачу:
— Послушайте, любезный, вы — лекарь, я — следователь. Для вас он — пациент, для меня — свидетель, от которого я обязан получить необходимые сведения. Так что каждый из нас выполнял свой долг.
Капитан кивком головы подозвал лейтенанта:
— Займешься осмотром места преступления. Ты, стажер, — повернулся он ко мне, — оставайся с ним, лучшей практики не придумаешь. Осмотр места преступления военной контрразведкой — это нечто! Такого не увидишь ни в полиции, ни в прокуратуре, ни в ФБР. А я отправлюсь в отдел и наведу справки об этом Ларри Фишере.
В отдел я и лейтенант приехали утром. За ночь мы не сомкнули глаз ни на минуту и потрудились неплохо: тщательно осмотрели место преступления, выявили и допросили возможных свидетелей, назначили все мало-мальские нужные экспертизы. И все-таки работа не доставила удовольствия — ее результативность оказалась равной нулю. Происшедшее точно повторяло предшествующие убийства: ночные выстрелы, звонок в полицию, труп на мостовой… и ни одного толкового свидетеля, ни следа, оставленного преступником. Баллистическая экспертиза пуль, извлеченных из тела убитого, подтвердила, что все они выпущены из того же кольта одиннадцатого года, что и пули, поразившие трех предшественников Беннета. Сам капрал, со слов товарищей и ротного начальства, был веселым, покладистым парнем, врагов не имел, в чем-либо предосудительном замечен не был. Любил выпить, но знал меру и бражничал только на свои кровные, личные расхода не выходили за пределы его армейского жалованья.
Капитан внимательно выслушал наши сообщения. Не сказав ни слова, достал из сейфа несколько документов, протянул нам. Лейтенант взял верхний, я заглянул через его плечо. Это был бланк оперативно-розыскного формуляра на сержанта Ларри Фишера: год рождения, место призыва, сведения о родителях, принадлежность к политическим партиям и всевозможным общественным организациям, круг интересов. Стандартные вопросы и столь же стандартные ответы… И вдруг я замер: в графе «Место пребывания в настоящее время» стояло — «Пропал без вести». Из следующего документа значилось, что сержант пропал без вести во время боевых действий в составе экспедиционного корпуса во Вьетнаме, а из примечания следовало, что без вести пропавшим он является согласно постановлению старшего следователя военной контрразведки укрепрайона № 11 майора Шелдона.
— Если не ошибаюсь, подобные постановления обычно выносятся армейским командованием. Наш же брат делает это в исключительных случаях, когда на руках имелось дело либо материал на данного субъекта, — Крис оторвался от документов и посмотрел на капитана.
— Совершенно верно, — согласился тот. — На мой запрос центральная картотека ответила, что сержант Фишер в свое время проходил по одному скандальному делу, но поскольку оно не закончено, а приостановлено, то находится не в архиве, а у майора Шелдона, возбудившего его. Сам же майор сидит во Вьетнаме в какой-то дыре рядом с передовой и с ним нет связи по ВЧ. Получение интересующего нас дела по обычным каналам потребует нескольких суток, а нам дорога каждая минута. У меня не выходят из головы слова Беннета перед кончиной, что сержант Фишер обязательно должен добраться еще к кому-то. А что это значит, мы уже хорошо знаем.
Капитан встал из-за стола, остановился против меня.
— В Азии еще не бывал?
— Не приходилось, сэр.
— Значит, побываешь. Сегодня вечером самолет-транспортник с соседней авиабазы отправляет пополнение во Вьетнам. Захватят и нас с тобой. Ну а тебе, лейтенант, придется попотеть здесь. Беннет перед смертью не успел сообщить, кто следующий в очереди на тот свет, а поэтому я рекомендовал командиру «зеленых беретов» не выпускать никого из своих питомцев в город до моего распоряжения. Что дальше? Подскажут результаты нашей поездки и твоя работа здесь.
— Послушай, капитан, — торопливо забормотал лейтенант, все еще просматривавший положенные шефом на стол документы. — У этого Ларри значится последним место службы форт «Три сестры» из укрепрайона номер одиннадцать. А ведь там…
— Дислоцировался во время боевых действий и был переброшен к нам в Штаты на переформирование батальон, в котором служили и четверо убитых, — в тон ему договорил капитан. — Как раз поэтому я и настоял перед руководством на командировке.
КАПИТАН
Майор Шелдон невысокий, крепко сбитый парень с черными, коротко стриженными волосами, плотно сжатыми губами и квадратным подбородком; небольшие прищуренные глаза линяло-зеленоватого цвета прячутся под начисто выгоревшими бровями и смотрят мимо нас. На майоре полевая офицерская форма с расстегнутой на все пуговицы «тропической» рубашкой.
При нашем появлении Шелдон встает, небрежно бросает руку к виску и тут же указывает на два бамбуковых кресла, подпирающих стены.
— Присаживайтесь. Придвигайте к себе вентилятор. Я к жаре привык, а новеньким пропеллер немного помогает. Или вы, капитан, в этих местах не новичок?
— Именно здесь — впервые. Два года назад тянул лямку миль восемьдесят южнее.
— Разница не так уж велика, — усмехается майор. — Понравилось здесь, в джунглях? Решил снова навестить этот райский уголок? А впрочем, почему бы и нет: смена обстановки, новые впечатления, экзотика. Другие за подобное удовольствие деньги платят, а вам со стажером вояж не стоил и цента. Разве плохо?
— Отлично, майор. Но будет еще лучше, если ты нас угостишь, а заодно и поможешь.
Майор медленно поворачивает голову в мою сторону, с неприкрытым любопытством бесцеремонно обводит взглядом с ног до головы, его губы вздрагивают в чуть заметной усмешке. Протянув руку, открывает холодильник, достает оттуда несколько банок с пивом.
— Предупреждаю сразу — пиво на любителя, — говорит он. — Производство местное — чуть ли не пополам с клубничным сиропом.
— Осилим, — ободряю я, разглядывая красочную этикетку.
Майор расцветает.
— В этом и заключается долг истинного офицера: смело пить всякую дрянь и не роптать. Ваше здоровье, ребята.
Откупорив банку с пивом, Шелдон пьет прямо из жестянки. Опорожнив, ставит ее рядом с вентилятором.
— Капитан, ты все утро торчал в архиве и выучил дело наизусть от корки до корки, знаешь его сейчас лучше, чем я. Или тебе что-то не понравилось? Идеальное дело: все доказано, все возможные версии отработаны, концы сходятся с концами, свидетельские показания чуть ли не идентичны и расходятся лишь в деталях. Учтены все замечания и пожелания моего начальства и всевозможных кураторов, национальная галерея фотоснимков и схем, куча экспертиз. Шедевр следственной практики, а не дело, раскрученное в полевых условиях!
Майор прав, я провел утром действительно несколько часов в архиве их отдела и видел интересующие меня материалы: ни сучка ни задоринки, на самом деле образец следственной практики.
Но я сам следователь и прекрасно знаю, почему и как появляются «стерильные» дела. Чаще всего такова судьба преступлений, раскрыть которые невозможно. В таких материалах любят копаться разные инспектирующие и проверяющие, выискивая в каждом действии подчиненных ошибки и просчеты, поэтому всякий опытный следователь, едва почувствовав аромат «дохлого дела», сразу же принимает меры, чтобы отвести от себя грозящие со стороны начальства неприятности. Применяются все доступные в данной ситуации средства: от элементарной подтасовки фактов и свидетельских показаний до сокрытия собственных грубейших ошибок, которые, возможно, и привели к провалу расследования. Подобными вещами иногда грешил и я. А что делать? Кому хочется предстать болваном в глазах начальства и выслушивать колкости о своей профессиональной непригодности?
— Майор, я внимательно ознакомился с делом. Сработано неплохо… Полная гарантия от гнева начальства. Но мне, такому же следователю, как ты, нужна не отлично подготовленная отчетность, а правда. И вот почему, преступление, заставившее нас здесь встретиться, в чем-то соприкасается с тем, которое в свое время доставило столько неприятностей тебе. Возможно, они даже связаны между собой. Если ты сейчас захочешь мне помочь и выложишь все, что знаешь о случившемся здесь преступлении, начистоту и без утайки, может, нам удастся сообща сдвинуть с мертвой точки и твое нераскрытое дело.
Я замолкаю, подхожу к ведру с водой в углу кабинета, смачиваю ладони, протираю лицо и шею. Майор с улыбкой наблюдает, откидывается на спинку кресла, лицо его принимает серьезное выражение.
— Отлично, поговорим начистоту. Но учти, результат нашей беседы будет зависеть и от твоей откровенности. Не мог же ты прилететь из-за пустяка? Выходит, вас солидно припекло… там, в Штатах. Итак, первое слово за тобой. Что тебя в моем деле интересует конкретно? Почему считаешь, что наши расследования связаны?
— Объясняю. В небольшом гарнизоне за неделю четыре убийства, потерпевшие — солдаты взвода «зеленые береты», прибывшие на родину из вашего укрепрайона. Все убиты при схожих обстоятельствах, из одного кольта. Выходов — ни на кого, следов — никаких, но… Первое: один из солдат перед смертью сообщил, что их убийца — сержант Ларри Фишер. Второе: трое убитых — четвертого мы еще не успели проверить — жили не по средствам, деньги для них ничего не значили. Если нужны детали, жду вопросов.
Шелдон, похоже, в прострации: глаза смотрят куда-то в угол, пальцы правой руки поглаживают подбородок. Я стираю пот.
— Необходимо узнать, что стояло между сержантом Ларри Фишером и четырьмя погибшими. Возможно, в Штатах произошла лишь развязка истории, начало которой следует искать здесь.
— Ларри Фишер, — задумчиво произносит майор, доставая из кармана пачку сигарет. — Я не сомневался, что еще встречусь с этим подонком. И не ошибся. — Шелдон закуривает, складывает руки на груди. — Ты правильно подметил, капитан, что виденное тобой в нашем архиве — это подобие дела, всего лишь подборка материалов, оправдывающих бессилие следствия в поисках преступников… А может, нежелание искать их там, где они есть? Запомни эти слова хорошенько. Теперь слушай, как все обстояло на самом деле.
В нашем укрепрайоне дислоцирован пахотный полк со средствами усиления и поддержки, а также отдельные подразделения, придаваемые ему во временное подчинение. Части разбросаны в радиусе десяти миль, штаб находится в нашей деревушке. Жалованье батальонам выплачивается в разное время, деньги доставляют в места дислокации частей в сейфе серийного штабного бронетранспортера в сопровождении представителя финчасти и вооруженной охраны. Так здесь заведено с самого начала и повторялось из месяца в месяц.
В тот день БТР с кассой выехал из штаба полка в девять утра, деньги требовалось доставить в батальон, расквартированный в шести милях от деревушки. На поездку всегда уходило минут пятнадцать, о выезде машины, как обычно, сообщили в штаб батальона. Через полчаса оттуда поступил запрос — отправлены ли деньги, через пятнадцать минут запрос повторился. В воздух подняли патрульный вертолет и обнаружили БТР на дороге в двух милях от пункта назначения. Приземлившийся экипаж был ошеломлен: дверь БТР открыта, сейф пуст, в машине и на обочине трупы сопровождающих: лейтенанта из финчасти, кассира и двух караульных. Все были заколоты, в луже крови валялся штык от русского автомата. Не нашли лишь одного — водителя БТР сержанта Ларри Фишера. След преступников был обработан химикалиями, собаки его не взяли. Следствие, возглавленное мной, ничего не дало: преступники, деньги, Фишер обнаружены не были.
Теперь о следствии. Как всегда, сосредоточились на «кто» и «как». «Почему» отпало сразу — кругленькая сумма, похищенная из кассы, говорила сама за себя. «Как» пока отходило на второй план: машину остановили, конвой бесшумно уничтожили, сейф открыли ключом,
взятым у убитого лейтенанта. Оставалось самое важное: кто мог это сделать? Помнишь вывод следствия?
— Нападение — результат действий просочившейся группы противника. Бронетранспортер на пустынной утренней дороге — легкая добыча. Ну а деньги взяли лишь потому, что они там оказались, самоцелью грабеж не был.
— Да, капитан, я тогда извел немало бумаги и проявил чудеса изобретательности, чтобы аргументировать эту версию. Я свалил в кучу все: что предшествующей ночью двое крестьян из соседней деревни сбежали к «чарли», что и до этого было несколько попыток со стороны мелких групп противника проникнуть за линию наших сторожевых постов, обыграл я и найденный на месте нападения русский штык. Но основным козырем было следующее: в это время ни на самой дороге, ни вообще в данном районе не могло находиться никого, кто имел бы хоть малейшее отношение к армии Штатов. Ну а кто в действительности были нападавшие — партизаны или местные жители, — значения не имело: мы всюду лепили один ярлык — Вьетконг.
— Извини, майор, — вопрос. Мог ли кто-нибудь на самом деле находиться в это время возле дороги? Я имею в виду из своих. Отдельные солдаты, группы? По личным делам, по служебным?
— В том и дело, что нет. Я сейчас обрисую здешнюю обстановку. Через шестьдесят миль уже хошиминовский Вьетнам, территории от нас и до границы объявлены зоной свободного огня. Поясняю: каждый наш солдат имеет не только право, но и прямой приказ стрелять во все живое, что на указанных площадях дышит или передвигается. И парни это делают: кто с удовольствием, кто в силу необходимости — каждый хочет жить и считает, что лучше выпустить сотню пуль в другого, чем заработать хоть одну самому. В результате по соседству с нашими укрепрайонами боятся появляться не только люди, но даже звери и птицы.
Для обеспечения боевых операций войска имеют несколько опорных пунктов, по сути дела, пятачки безопасности. Здесь размещаются штабы, базы снабжения, медицинские пункты, резервы, отдыхают солдаты после боев. Чтобы обеспечить относительную безопасность этих пятачков, мы используем все: сигнализацию, минные поля, пулеметные засады, снайперские секреты, сторожевые посты, проволочные заграждения, мины-ловушки, фугасы-сюрпризы. Укрепрайон номер одиннадцать существует уже четыре года, так что служба здесь налажена отлично.
Жизнь внутри опорных пунктов сосредоточена в деревушках, которых у нас три. Вход и выход с их территории разрешен лишь днем и только по специальным пропускам, положение распространяется как на военнослужащих, так и на местных жителей. С девяти вечера и до семи утра — комендантский час. О том, что ночью деревушки тщательно охраняются, нечего и говорить. Так вот, капитан, в тот день до девяти утра за пределы населенных пунктов не было выпущено ни одного человека, ни одной машины, кроме злосчастного БТР с денежным ящиком. Больше того, в восемь часов в частях по распорядку дня — завтрак, а поэтому все люди на виду. Так что нападение на кассу из самого укрепрайона в данной ситуации крайне и крайне маловероятно.
— А люди из охраны укрепрайона?
— В семь утра снимаются подчаски и наполовину сокращается личный состав постов и засад. На них остается самое большее по три человека. Каждую минуту их может проверить лично или по телефону или рации дежурный офицер, так что один из них должен обязательно оставаться на месте. Значит, для нападения остаются двое. Пара с ножами против БТР с крупнокалиберным пулеметом и четырех сопровождающих, не считая водителя, с карабинами или с пистолетами? Неправдоподобно. Однако, на всякий случай, я приказал обыскать всех патрульных, допросить, дал понюхать их собаке-ищейке, бравшей след у БТР. Результата никакого… если не считать, что кое-кто смотрел на меня как на помешанного.
— А если Фишер? — осторожно спрашиваю я.
— Один? Уничтожил четверых? Верится с трудом. Но предположим, он. Тогда откуда деньги у четверых покойничков и почему Фишер решил с ними расправиться? Логика хромает на обе ноги.
— Но должна же существовать связь между всем этим?
— Думаю, должна. Постараемся ее нащупать. Для начала, капитан, преподнесу один фактик. Он не нашел отражения в деле, однако сейчас поможет нам кое-что прояснить.
Майор берет со стола вентилятор, подносит к лицу. Сильная струя воздуха заставляет его прикрыть глаза, поднимает дыбом короткие волосы. В комнате висит духота, мои брюки и рубашка прилипают к телу, я ощущаю, как по спине течет липкий ручеек. Но вот Шелдон ставит вентилятор на место, поправляет волосы, стряхивает в пепельницу сигаретный пепел.
— Только что в нескольких словах я обрисовал систему охраны опорных пунктов. Но существуют еще так называемые «окна». Это такие же караульные посты, но круглосуточные, тщательно замаскированные, солдат на них не сменяют по нескольку суток. Службу на указанных постах несут солдаты спецподразделений, те, на кого можно целиком положиться. В этих «окнах» происходят встречи сотрудников нашей разведки и контрразведки с агентурой, через них уходят в тыл Вьетконгу разведывательные и диверсионные группы. Словом, через них осуществляется все то, что должно оставаться тайной не только для противника и местного населения, но и для большинства своих. На участке нашего укрепрайона таких «окон» обычно пять-шесть, знает о них лишь строго ограниченное число лиц, после двух-трехкратного использования пост переносится в другое место… В интересующий нас день не вышло на плановую связь одно из этих «окон». В целях маскировки, из-за боязни вражеских снайперов личная связь с ними поддерживается только ночью. Так поступили и на этот раз. Прибывшая контрольная группа обнаружила на посту лишь трупы — все трое караульных были вырезаны. Как установила экспертиза, смерть наступила за полтора-два часа до нападения на бронетранспортер с деньгами. Каких-либо следов, могущих свидетельствовать о числе или национальной принадлежности напавших на пост, отыскать не удалось.
— Выходит, «чарли» действительно могли напасть на машину?
— Только теоретически, капитан, — отвечает майор. — И вот почему. «Чарли» никоим образом не могли уничтожить это «окно». Представь себе картину: железобетонный колпак, выступающий из земли на два фута, тщательно замаскированный под пригорок, в него ведет единственная бронированная дверь, тоже замаскированная и открывающаяся только изнутри. Караульным строжайше запрещено выходить наружу, да это ни к чему — все необходимое внутри, а вокруг только болота плюс шанс угодить под пулю снайпера. Трясина нашпигована минами-ловушками, работает система звуковой и световой сигнализации, сквозь зону контроля сигнализацией ведет единственная тропинка, известная лишь караульным и тем, кому это необходимо. Тропинка также заминирована, ее можно в любой момент поднять в воздух: стоит только нажать в бункере на кнопку управления. Все подступы к посту — под огнем пулемета, установленного в колпаке. Поставь себя на место «чарли», капитан! Чтобы приблизиться к бункеру, необходимо незаметно преодолеть минное поле и россыпь хитроумных ловушек, а затем еще проникнуть в бункер сквозь сталь и бетон, чтобы вырезать гарнизон. Обрати внимание: не просто уничтожить, а сделать это без всякого шума. Уверен, «чарли» подобное не под силу… если, конечно, им не помогли местные болотные духи, — усмехается майор.
— А если… — начинаю я, но Шелдон не дает договорить.
— Повторяю, в ту ночь и утро из расположения населенных пунктов не выходил никто. Кстати, все «окна» приспособлены к круговой обороне и с тыла защищены так же, как с фронта. Плюс инструкция: не пускать внутрь никого из посторонних, а в случае чего-либо подозрительного сразу сообщать по телефону или рации в караульное помещение. При осмотре сигнализация «окна» оказалась исправна, минное поле в порядке, телефон и рация действовали нормально. Лишь дверь нараспашку, и внутри три трупа.
— Почему этот факт не упоминается в материалах следствия?
— Начальство решило, что данный эпизод к нападению на транспорт с деньгами не имеет ни малейшего отношения. Я, мол, по причине глупости, неумению или нежеланию работать хочу запутать дело. В конце концов случай с «окном» из материалов расследования был выделен и передан в отдельное производство. Я сопротивлялся — безуспешно: начальство всегда умнее и действует непогрешимо.
Майор мне нравится все больше, а поэтому я нисколько не собираюсь хитрить или осторожничать:
— А твое мнение?
Шелдон весело щурился:
— Упомянутое мной «окно» обслуживало только «зеленых беретов», они же несли в нем и караульную службу. В то время в укрепрайоне дислоцировалось и, следовательно, пользовалось «окном» лишь одно их подразделение — батальон, в котором служили твои четыре миллионера. Делай вывод сам.
— Минуту, майор. — Я нащупываю свой кейс, «дипломат», поднимаю на колени. На ощупь щелкаю замками, кладу на стол листы бумаги, соединенные скрепкой. — Собираясь сюда, я приказал сделать выписки из журнала боевых действий батальона. Я думал, мне могут пригодиться данные о времени пребывания четверых убитых в укрепрайоне, теперь же, по всей видимости, мне понадобятся совершенно другие сведения. Однако ключ к ним тоже здесь, — киваю я на выписки. — Знакомясь утром с материалами твоего расследования, я заглянул и в собственные бумаги. Меня ждало разочарование: во время нападения на денежный транспорт взвод, в котором служили потерпевшие, в полном составе осуществлял акцию на «тропе Хо Ши Мина». Он ушел за трое суток до налета, вернулся через шестеро. Но после твоего фактика, майор, эта деталь становится уже весьма занятной.
Шелдон лениво придвигает к себе мои выписки, несколько минут сосредоточенно изучает. Зевнув, с улыбкой смотрит на меня.
— Считай, что нам повезло. Уверен, в Штатах ты допрашивал командиров этих парней. Не знаю, чем порадовали тебя другие, но их взводный сказал тебе мало. А ведь как раз он мог сообщить следствию самое интересное — из всех офицеров батальона он к солдатам ближе всего.
Майор абсолютно прав. Действительно, мне пришлось изрядно повозиться со взводным убитых, молоденьким вторым лейтенантом. Но ничего стоящего из него вытянуть не удалось: на должность только что назначен, поэтому не знает о подчиненных почти ничего.
— В твоих бумагах указано, что в то время потерпевшие служили под командованием лейтенанта Бартока, а я неплохо знаю этого кретина. Когда батальон отправлялся на отдых домой, он нацарапал рапорт с просьбой оставить его здесь. Ему, естественно, пошли навстречу, а поскольку подобные поступки всячески поощряются, его из вторых лейтенантов произвели в первые и вскоре вместо взвода дали роту. Хитер, сволочь: при его тупости получил бы роту лет через десять, а о капитанских пластинах мог бы мечтать при увольнении в запас… сейчас же на капитанской должности и метит в начальники штаба батальона. Говорю для того, чтобы ты немного представил себе эту личность, потому что сейчас Барток выходит на первый план. Не так ли?.. Теперешний батальон Бартока расположен в нашем укрепрайоне и дислоцируется почти по соседству, в двадцати минутах лету. Хочешь, сгоняю за ним дежурный вертолет? Тебе, наверное, сразу захотелось с ним встретиться?
Майор действительно отличный парень.
— Сколько ждать?
Шелдон на мгновение задумывается.
— Час в общей сложности на дорогу. Полчаса на розыски и сборы этого болвана. Получается не так уж много. — Майор снимает трубку телефона, набирает номер. — Сержант, соедините меня с фортом номер восемь. Пусть немедленно найдут и вызовут к дежурному по батальону лейтенанта Бартока. Когда он будет на связи, соедините меня с ним.
— Ты уверен, что он может помочь? — интересуюсь я. — Прошло столько времени. А об умственных способностях бывшего командира потерпевших ты, как я понимаю, не особенно высокого мнения.
— В случае с Бартоком ни время, ни его полудебильность не помеха. Как большинство посредственностей, он считает себя великим талантом… в применении к армейским условиям, мнит себя непревзойденным стратегом, непризнанным, конечно. Пишет мемуары, разрабатывает рекомендации гарантированного разгрома желтых. Стыдоба!
Зазвонил радиотелефон служебной связи, майор поднял трубку.
— Первый лейтенант Барток? Майор Шелдон из контрразведки. Не волнуйся, ничего не произошло, просто просьба. Понимаешь, сейчас в отделе инспектирующий из Штатов, интересуется нашими успехами по нарушению коммуникаций между Севером и Югом. Сам знаешь: обобщение опыта, выводы, предложения. Хотел бы побеседовать с кем-нибудь из заслуженных офицеров, так сказать, с непосредственным участником боевых действий. Я назвал тебя. Думаю, встреча будет полезна и тебе. Кто он? Да так… капитан, а гонору хватит на генерала. Да ты сам знаешь этих тыловых крыс. Утри ему нос, старина! Жду через час.
Майор бросает трубку на рычаг, смотрит на часы.
— Гений прибудет через час с небольшим. Лично я предпочел бы провести это время на нашем пляже. Парни из технической роты от безделья вырыли неплохой пруд, привезли песка, натыкали тентов. Ну прямо Флорида или Гавайи! Одна из местных достопримечательностей, предмет зависти и подражания других укрепрайонов. Как смотришь на это предложение, капитан?
— Как всякая тыловая крыса, следую советам боевых офицеров. Шутка! А всерьез — полностью поддерживаю. Вперед, к воде!
— Чудесно. Слушать этого болвана мокрым от пота и трезвым — сущая пытка.
Мы едва успели вернуться с пляжа и сесть в кресла, как в дверь стучат и на пороге вырастает офицер в полевой форме «зеленых беретов». Красавец: рост не ниже шести футов с четвертью, в плечах косая сажень, мужественное лицо, независимый взгляд.
— Первый лейтенант Барток, — представляется офицер, четко бросив ладонь к виску.
Он стоит в дверях, приняв строевую стойку и повернувшись лицом к майору, я и стажер — двое в штатском — для него попросту не существуем.
— Познакомьтесь, лейтенант, это люди, о которых я вам говорил, — кивает на нас Шелдон.
Красавец соизволил окинуть нас взглядом: на лице пренебрежение, губы демонстративно кривятся при виде моих светлых брюк и белой рубашки с короткими рукавами.
— Первый лейтенант Барток, командир спецроты батальона «зеленые береты», — небрежно роняет он.
Я в ответ чуть заметно киваю и указываю на одно из пустых кресел.
— Присаживайтесь, лейтенант. Рад, что вы согласились встретиться со мной. Хотя догадываюсь, у вас и без меня масса важных дел.
Не ответив, Барток усаживается в кресло и снова поворачивается в сторону майора. Я чувствую, как во мне вскипает раздражение.
— Капитан, это офицер, которого я вам рекомендовал, — вступает в разговор Шелдон. — Барток уже три года в экспедиционном корпусе, на его личном счету около двух десятков рейдов по тылам противника. Благодаря таким людям мы в состоянии не только парировать удары Вьетконга, но и наносить ответные, иногда весьма чувствительные. Уверен, беседа с боевым офицером заставит вас взглянуть на интересующие вас вещи совершенно по-новому.
— Лейтенант, с удовольствием выслушаю вас, — вежливо произношу я. — Боевой опыт таких людей, как вы, должен стать достоянием всей армии, а не только отдельных подразделений.
Барток достает из принесенной с собой папки несколько блокнотов, раскрывает, кладет один перед собой. Откашлявшись, важно обводит присутствующих взглядом. Мы со стажером, естественно, разыгрываем преувеличенное внимание, даже майор, подперев подбородок рукой, с подчеркнутым ожиданием уставился в рот лейтенанту.
— Мой опыт добыт не в тиши столичных кабинетов с паркетными полами и полированной мебелью, а на поле боя, среди крови и стонов моих товарищей, в непролазной грязи джунглей.
Я едва сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться, — именно так начинается добрая половина фильмов министерства обороны, в которых прославляются подвиги доблестных «джи-ай».
— Прежде чем изложить собственные выводы и наблюдения, я хотел бы остановиться как на официальной доктрине применения спецподразделений на данном театре военных действий, так и на своих взглядах на это…
И начинается… Впервые встречаю человека, который с таким важным и торжественным видом несет ахинею. Я, офицер контрразведки, с действиями рейдовых диверсионных групп сталкивался лишь постольку поскольку, так как их в основном курировали парни из разведки. Последнее время, попав в Штаты, к подобного рода деятельности я вообще не имел отношения. Но слушая лейтенанта, заключаю, что азы тактики, которые другие постигли на курсантской скамье, до него дошли только здесь, в боях, когда он заплатил за них кровью своих солдат и заработал кучу неприятностей от начальства. Сейчас эти прописи он пытается выдать за некое божественное откровение.
Лейтенант заканчивает, облизав губы, победоносно смотрит на меня. По его мнению, тыловая крыса в результате его выступления сражена наповал. Почему не сделать человеку приятное, особенно если тебе это ничего не стоит, а пользу принести может? Некоторое время молчу, якобы все еще пребывая под впечатлением услышанного, потом осторожно замечаю:
— Ваши наблюдения весьма ценны, лейтенант. Уверен, часть ваших рекомендаций должна лечь в основу разрабатываемого нового наставления. Хотелось, чтобы высказанные вами положения вы подкрепили примерами из вашей боевой практики. Конкретные случаи воспринимаются нагляднее и легче усваиваются.
— Что вас именно интересует?
— В Штатах я знакомился с боевой деятельностью батальона, в котором вы служили прежде, и даже сделал кое-какие выписки. Часть из них касается действий взвода, которым вы тогда командовали. Вы не могли бы подробно восстановить ход какой-нибудь из операций того периода? Например, начатой пятого июля. Вы должны были нарушить партизанские коммуникации по доставке снаряжения с Севера. Вот выписка о той операции из журнала боевых действий вашего прежнего батальона.
— Капитан, не утруждайте себя, — высокомерие прямо-таки распирает Бартока. — Я веду свои записи, думаю, они нисколько не хуже ваших. — Лейтенант раскрывает другой блокнот, листает страницы. — Слушаю вас, капитан.
— Расскажите о роли сержантов при проведении операций в тылу врага. Сержанты — первые помощники офицеров, и часто исход боевых действий зависит от их подготовки и сообразительности. В более узком смысле меня интересует тактический кругозор сержантов, плюсы и минусы в их подготовке по специальности. Возьмем, к примеру, сержанта Илтона Хейса. Что можете сказать о нем? Полностью ли Хейс соответствовал должности? Насколько надежен в бою? Что делал в обсуждаемой нами операции? Как справился с обязанностями? Не слишком много вопросов?
— О нет, капитан, — снисходительно улыбается Барток. — Я всегда уделял большое внимание сержантам… только на них и можно положиться в наших условиях. Большинство солдат — скрытые изменники или откровенные лентяи, им наплевать на честь нации и обязательства нашей родины перед свободным миром. Пока их не загонишь под пули, они готовы сутками спать, играть в карты, пьянствовать и трепаться о потаскушках. Только б не воевать, а исправно грести жалованье! Им наплевать на престиж страны!
— Каков этот сержант? — вмешивается в разговор Шелдон.
— Илтон Хейс? Обыкновенный сержант, каких тысячи: в меру пил, наравне со всеми волочился за юбками, не любил цветных. Аккуратно исполнял приказы, не философствовал, не разводил либеральную канитель. Тип младшего командира, какой необходим в джунглях.
— Какова была его роль в операции, начатой пятого июля? — напоминаю я. — Если можно — подробнее.
— Мы должны были обнаружить партизанские коммуникации с Севером и перерезать их. Моему взводу следовало выдвинуться в указанный район рядом с границей, разбиться на боевые группы и установить наблюдение за выделенными нам квадратами. В случае обнаружения транспортной артерии противника группа выходила на связь со мной и штабом батальона, в этот квадрат стягивался по моей команде весь взвод, а по сигналу штаба другие подразделения, участвующие в операции. Нетрудно догадаться, что подобные акции проводятся в строжайшей тайне. На поиск к границе уходила вся наша рота, остальные подразделения батальона в полной боевой готовности ждали от нас сведений и были готовы в любую минуту оказать нам помощь на вертолетах. Операция началась поздно вечером, уходили мы через «окно» повзводно. Первая ночь и дневка прошли без происшествий: мы еще находились в районе, контролируемом нашими мотопатрулями и авиацией. Однако на следующую ночь пришлось соблюдать все меры предосторожности — мы двигались уже по ничейной земле, где каждый миг могли встретить бродячую группу или разведку противника.
В головной дозор я направил сержанта Хейса, он отобрал четырех парней и ушел вперед. Хейс отличный парень, ротный ветеран, я ему полностью доверял. Не подвел Илтон меня и на этот раз: примерно через час по маршруту движения его дозора вспыхнула стрельба, взорвалось несколько гранат, и сержант сообщил по рации — наткнулись на «чарли». В таких случаях головной дозор принимает бой, а ядро, разбившись на предварительно составленные группы, самостоятельно движется порознь к заранее указанному пункту сбора. Так поступили и в тот раз. Пункт был недалеко, милях в пяти, все группы сумели оторваться от противника и прийти туда вовремя и без потерь. Все, кроме группы Хейса. Мы понимали, что дозору пришлось гораздо труднее, чем нам, поэтому оставили в условленном месте шифрованную записку и двинулись дальше. Группа Хейса смогла догнать нас лишь через трое суток. Сержант установил со мной связь на максимальной дальности своей рации, и я указал район, который он должен был взять под контроль.
Я взмахом руки останавливаю лейтенанта:
— Чем Хейс объяснил свое отсутствие?
— Ему на хвост сели «чарли». В подобных ситуациях дозорные могут выбрать любой маршрут, но только не на пункт сбора. Идти на встречу со своими имеешь право лишь в случае абсолютной уверенности, что не ведешь за собой противника.
— Как вы оцениваете действия группы Хейса с момента ее встречи с неприятелем?
— Сержант действовал безупречно. Своевременно обнаружив «чарли» и приняв бой, дал возможность ядру группы рассредоточиться и уклониться от встречи с противником. Когда же появилась возможность, Хейс снова присоединился к взводу.
— Сержант отсутствовал трое суток. Мог ли он за это время сообщить вам о своем местопребывании?
— Каждый взвод, направляясь во вражеский тыл, имеет четыре-пять полевых раций… ровно столько, на сколько самостоятельных групп он затем рассредоточится. Кроме этих радиосредств каждый участник операции обладает специальным радиоустройством для связи внутри группы, однако они маломощны и действуют на расстоянии семи миль. Полевая рация в группе Хейса была повреждена пулями «чарли», и он остался лишь с этими устройствами. Так что установить со мной связь он мог лишь в пределах их радиуса действия, что и сделал, когда представилась возможность.
— Скажите, кто был вместе с ним в дозоре?
— Хейс взял с собой четверых из своего отделения: капралов Беннета и Шнайдера, рядовых Мартина и Финна. Отправляясь в дозор или на любое другое опасное задание, сержант вправе отбирать людей по собственному усмотрению. Так было и в тот раз.
— Наверное, им крепко досталось? Уходить трое суток от «чарли» — не пустяк.
— Ребята стреляные, вернулись без потерь. Никто даже не был ранен. Ну а рация не в счет.
— Случались ли в вашей практике случаи, чтобы отдельная группа так же, как дозор Хейса, отрывалась от основных сил на столь длительный срок?
— Конечно. Это война. Иногда вообще не удается собраться всем вместе, и тогда отбившаяся от своих группа примыкает к другим подразделениям либо возвращается в укрепрайон самостоятельно.
— Что в данном случае было легче и безопаснее для группы Хейса: искать встречи со взводом или вернуться обратно?
— Конечно второе, никто бы их не упрекнул. Но Хейс, отличный сержант и надежный товарищ, предпочел рисковать вместе со взводом.
— Еще вопрос. Не помните, через какое «окно» уходили в тот раз на задание?
— Хорошо помню. Это «окно» обслуживало только наш батальон, и службу тогда на нем несли парни из соседней роты. Им крепко не повезло: через пару дней «чарли» уничтожили их всех прямо в бункере.
— Неприятная история. Солдаты вашего взвода знали погибших в бункере?
— Естественно. В батальоне почти все солдаты знают друг друга, тем более в соседних ротах.
— Спасибо, лейтенант, — звучит голос Шелдона. — Не смеем больше задерживать. До свидания и желаем боевых успехов.
Майор, не обращая внимания на попытки лейтенанта сказать что-то еще, закрывает за ним дверь. Избавившись от гостя, Шелдон снова опускается в кресло, барабанит пальцами по столу.
— Капитан, у меня есть один сержант-земляк, тоже из «зеленых беретов». В этом районе уже четвертый год и знает его, как собственный карман. Он мог бы рассказать кое-что занятное об этом проклятом богом уголке… в частности, о дорогах, тропах и скорости движения по ним.
Майор прищуривается, с усмешкой смотрит на меня, я улыбаюсь в ответ. Только что окончившийся разговор с лейтенантом привел меня в отличное расположение духа.
— Майор, читаешь мои мысли! Еще в школе всегда привлекали задачи на расстояние, скорость, время. Это увлечение сохранилось до сих пор. Буду рад, если сержант поможет мне найти верный ответ.
Но я уже и без всяких расчетов не сомневаюсь, что группа Хейса, будучи предоставленной себе, вполне могла вернуться назад в укрепрайон и совершить нападение на денежный транспорт. И подсчеты с сержантом, Шелдоном и стажером доказывают, что пятерка предприимчивых «зеленых беретов» без особого труда могла это сделать… А раз так, мне, как следователю, остается сущий «пустяк»: с соблюдением всех процессуальных формальностей доказать не вызывающий у меня сомнения факт.
СТАЖЕР
На аэродроме нас встречал лейтенант Крис Стерлинг.
— Что новенького? — сразу спросил капитан, едва успев поздороваться с ним.
— Все сходится. Этот Беннет тоже сорил деньгами налево и направо.
— Отлично, Крис. Пока оставим мертвых в покое, у меня имеется на примете кое-кто из живых. Кстати, за время нашего отсутствия больше никто не отправился на тот свет? — встрепенулся шеф.
— Нет, капитан, — успокоил лейтенант. — Я сразу же передал командиру батальона твое распоряжение о запрещении увольнений в город, и командир его неукоснительно соблюдал.
— Сегодня же отмени распоряжение. И будет лучше, если наши доблестные воины будут проводить как можно больше времени вне расположения батальона.
— А что интересного привезли вы?
— В двух словах следующее… — И капитан кратко пересказал Крису все, что нам удалось узнать от Шелдона, Бартока и из архива.
— Ты думаешь?.. — не договорив, лейтенант замолчал и вопросительно глянул на шефа.
Тот неопределенно пожал плечами.
— Почему бы и нет? Чуть позже расскажу о некоторых забавных деталях этого дела. Не знаю, как их оценишь ты, но я делаю из них единственный вывод.
Машина остановилась возле здания нашего отдела, капитан и лейтенант стали подниматься по ступеням. Я последовал за ними, однако шеф придержал меня.
— Дружище, ты неплохо поработал. Можно отдохнуть, тем более что интересного в ближайшие дни не предвидится. Получаешь неделю отпуска. Отдыхай, развлекайся, можешь даже приударить за местной Монро. Сам был курсантом и помню, как мало у вашего брата свободного времени. Наработаться еще успеешь.
— Один вопрос, сэр?
Капитан утвердительно кивнул.
— Вы подозреваете в совершении преступления рядового Финна? Мне было бы интересно присутствовать на его допросе.
— Допроса не будет. Зачем его настораживать? У нас нет доказательств его вины, если не считать чисто умозрительных предположений. Сейчас нам нужен не Финн, а Ларри Фишер. Выйти на него можно только через Финна.
— Вы намерены превратить его в приманку для убийцы?
— Именно. Для этого лейтенант и его люди установят непрерывное наблюдение за Финном, узнают, куда и с кем он ходит в увольнение. Основное — под любым предлогом отсекать от Финна в городе приятелей, добиваясь, чтобы из увольнений он возвращался в одиночку. Однажды его подстережет Фишер, как до этого других, и мы возьмем сразу обоих. Вот и все… никакой романтики, будничная работа оперслужбы. А ты, стажер, отдыхай. Когда понадобишься, я тебя вызову. Счастливо!
Капитан улыбнулся, хлопнул меня по плечу. Крис помахал рукой, и оба исчезли за входной дверью.
Естественно об отдыхе я не думал. Мысли были заняты одним: принять участие в операции. Желание капитана отстранить меня на время от надвигающихся событий я объяснял просто: предстояло задержание вооруженного преступника, который мог оказать ожесточенное сопротивление. На счету у Фишера уже четыре жертвы — может, и больше! — и добавление к их числу моей скромной персоны в судьбе убийцы ничего не меняло. Капитан же хотел оградить меня от шальной пули.
Но шеф не учел двух обстоятельств: моего возраста и того, что расследуемое им сейчас дело было моим первым. Всю ночь я не спал, а к утру решил: продолжу расследование самостоятельно. Пусть капитан со своими Сотрудниками работают сами по себе, я же стану действовать один. Лезть под пули я не собирался, мешать или становиться капитану поперек пути также не входило в мои намерения. Просто я в одиночку буду делать то же, что и его люди: установлю наблюдение над Финном и постараюсь присутствовать при аресте Фишера. Я был уверен, что человек, подобный сержанту-убийце, просто и легко в руки не дастся, а поэтому еще неизвестно, не придется ли капитану сказать мне спасибо за своевременно полученную помощь.
В то же утро я взялся за осуществление своих намерений. Первым делом отправился к гарнизонной столовой, где завтракал батальон «зеленых беретов» и в офицерском зале которой питался я. Установить личность Финна не составило труда, в него ткнул первый же солдат. Финн оказался высоким смазливым блондином с пышной шевелюрой и блуждающей застенчивой улыбкой. Через несколько дней я знал его привычки и манеры, его приятелей и собутыльников, я установил, где проживает и когда встречается с Финном его подружка, а также бар, где он коротал время перед тем, как идти к ней на встречу.
В первое увольнение он отправился с тремя приятелями, во второе — с одним, в следующее с ним никого не было. Я знал, что это работа лейтенанта Стерлинга, и два-три раза замечал рядом с Финном парней из опергруппы. Однажды, выходя из бара вслед за Финном, я повстречал самого лейтенанта.
— Как дела, приятель? — весело приветствовал меня Крис.
— Прекрасно… заскочил расслабиться.
— И именно тогда, когда здесь Финн? — прищурился лейтенант. — И конечно, собираешься прогуляться по тому же маршруту, что и наш подопечный? — Крис хлопнул меня по плечу. — Эх, дал бы эту недельку отдыха капитан лучше мне — и погулял бы я. Пойми, все эти Финны и Фишеры тебе осточертеют.
Крис явно пребывал в благодушном настроении, от него попахивало виски. С самого начала практики у меня установились с ним неплохие отношения, и я, зная, что лейтенант под хмельком любит поболтать, решил рискнуть. Что если воспользоваться его слабостью и направить разговор в нужное мне русло?
— Долго тянете с Фишером, — безразличным тоном произнес я. — Капитан обещал взять его через несколько дней, прошла неделя, а Фишера все нет.
Крис усмехнулся:
— Ошибаешься. Неделя прошла — верно, и Фишер у нас в кармане — тоже верно. — Лейтенант огляделся, достал две фотографии, протянул мне. — Вот он, рядышком гуляет, никуда ему теперь от нас не деться.
С одной из фотографий смотрел ничем не примечательный мордастый детина с низко опущенной на глаза челкой, с другой — та же физиономия, но уже с редкими усами и неопрятной бородой «под хиппи». На первом снимке субъект был в армейской форме, на втором — в ковбойке. Меня бросило в жар — это лицо я уже видел. Узенькие злые глазки, низкий лоб, косая челка, рыжая всклокоченная борода — уже мелькали у меня перед глазами. Но где и когда? Боже, да ведь этого типа я встречал в баре, сидя за столиком и наблюдая за Финном, сталкивался с ним на улице, следуя за тем же Финном. Выходит это и есть Ларри Фишер, и он не теряет времени даром, ведет систематическое наблюдение за очередной жертвой.
— Почему его не берете? — поинтересовался я, возвращая Крису фотографию.
— Что это даст? Против него нет никаких доказательств.
— А кольт, из которого убиты все потерпевшие? Оружие скорее всего при нем.
— А если у него уже не кольт, а «беретта» или «магнум»? Даже если и кольт, ну и что? Купил, нашел, обменялся с кем-то… ничего не докажешь. А хватать лишь за то, что дезертир, — смешно и непростительно: за ним должны водиться делишки посерьезнее. Фишера надо брать на горячем, а он не торопится.
Во время разговора Крис несколько раз поглядывал в окно бара: за низким столиком сидела молоденькая шатенка с высоко поднятой на коленях юбкой, девица в ответ благосклонно улыбалась. Наконец, шатенка вышла из бара, остановилась на ступеньках, призывно махнула рукой лейтенанту.
— Ну, дружище, шагай за Финном. Только смотри, не попадись на глаза капитану.
Крис еще раз хлопнул меня по плечу и направился к шатенке. Я проводил его взглядом, лениво сунул руки в карманы брюк и медленно побрел по улице. Настроение препаршивое, еще бы: потерять столько времени и ничего не добиться. А в это время Фишер попивал чуть ли не рядом со мной и наблюдал за Финном. Сейчас сержант-убийца считай уже в руках парней Криса, а я суечусь и заглядываю из-за угла в спину Финна.
Внезапная мысль остановила меня. Хорошо, я свалял дурака в игре с Фишером, но у меня еще есть шанс отыграться. Крис обязательно будет присутствовать при аресте Фишера, так что куда результативнее наблюдать за лейтенантом, а не за Финном или Фишером. Тем более что узнать место и время ожидаемого ареста не так уж сложно.
Из наблюдений за Финном я знал, что тот возвращался в расположение батальона всегда одной и той же дорогой: кривой, слабо освещенной по ночам окраинной улочкой, выводящей прямо к проходной казарм «зеленых беретов». Это, несомненно, установил и Фишер, так что поджидать Финна он будет именно на этой улочке. Лучшего места для нападения не выбрать: на отшибе, после наступления темноты пустынно, полицейские патрули сюда не заглядывают, уходящие от улочки переулки позволяют вмиг исчезнуть с места преступления. Частое появление здесь парней Криса лишний раз убеждало в правильности моих предположений. Итак, место ожидаемого преступления мне известно, а час его узнать еще проще: без сомнения, Фишер выберет время возвращения Финна в расположение батальона…
Я коротал уже второй час на пустом ящике из-под печенья и, стараясь не задремать, поминутно выглядывал в проделанное в заборе отверстие. В четырех-пяти шагах слева, притаившись за выступом сарая, замер Крис, а напротив, через дорогу, за другим забором прятались двое его парней. Уже третью ночь подряд мы караулили Финна и Фишера. В две предшествующие нам не повезло: мимо стремительно проходил Финн, за ним, как тень, крался вдоль забора Фишер, но этим дело и ограничивалось. Дошагав до ближайшего ко мне угла, сержант останавливался, провожал Финна взглядом и направлялся обратно. И правильно: идти дальше Фишеру не имело смысла. В улочку, по которой возвращался Финн, вливались три переулка, по которым можно было незаметно исчезнуть с места преступления. Два из них исключались: на углу одного почти до утра простаивала парочка влюбленных, а под ярким фонарем другого устраивались на всю ночь картежники. Во влюбленных и картежниках я узнал сотрудников отдела: своим присутствием они заставляли Фишера выбрать для покушения на Финна единственное удобное место — то, где уже третью ночь подряд его поджидали лейтенант с сотрудниками.
Конечно, присутствие посторонних первое время должно было настораживать Фишера, но человек привыкает ко всему. Да и обстоятельства не позволяли сержанту привередничать: Финн мог прекратить ходить в увольнения, мог найти другую подружку, и, естественно, у него появился бы иной маршрут. Тогда Фишеру пришлось бы начинать новую охоту на Финна, что в положении человека, живущего по чужим документам или вообще без них, крайне нежелательно.
Я в очередной раз выглянул в дырку, и сонливость как рукой сняло: в десятке ярдов от меня посреди улицы быстро шел Финн, за ним, прячась в тени заборов и деревьев, скользил Фишер. Вот Финн в шаге от меня, а сержант поравнялся с углом переулка, возле которого за сараем скрывался лейтенант. Фишер остановился, выхватил из-под куртки пистолет, резко выбросил руку с оружием в сторону Финна. Секунда — и тишину ночи прорезали два выстрела. Финн прогнулся, будто его толкнули в спину, и рухнул на мостовую. Я замер, ожидая, что сейчас на убийцу бросится лейтенант, затаившийся рядом, но ничего не произошло. Тишина. Раненый Финн корчился на мостовой, пытаясь подтянуть ноги к животу и подняться. Двумя огромными прыжками Фишер подскочил к нему, остановился по ту сторону забора между мной и Крисом. Дуло пистолета убийцы смотрело в живот жертвы. Моя спина покрылась испариной, хотелось во весь голос крикнуть лейтенанту: «Спасай!.. Протяни руку, ударь Фишера по запястью, и оружие очутится на земле. Чего ты ждешь?»
Фишер не торопился. Сплюнул, выпустил в Финна остаток обоймы и, спрятав пистолет, ринулся в переулок. Лишь тогда от стены сарая отделилась фигура лейтенанта с пистолетом в руке. Но что это? Не сделав в направлении убийцы ни шагу и даже не окликнув его, Крис молча поднял пистолет и выстрелил в спину удирающего Фишера. Зачем? Сержанта необходимо взять живым, тем более что в обойме убийцы ни одного патрона, а сам он приближается к двум нашим парням, прячущимся за забором.
Выстрел, еще и еще. Фишер вздрогнул, переломился пополам, метнулся в сторону. И так же быстро ствол пистолета Криса последовал за ним. Здесь я не выдержал и рванулся через забор. Громко затрещала сломавшаяся под моей тяжестью штакетина, Крис моментально обернулся на звук. Потерянного им мгновения оказалось достаточно, чтобы Фишер достиг зарослей кустарника, растущего между проезжей частью дороги и тротуаром, и затаился там. И тотчас мы услышали характерные звуки лихорадочно перезаряжаемого пистолета. Прежде чем сержант успел вогнать новую обойму, я очутился рядом и ударом ноги выбил оружие. В ту же секунду из тьмы возникли Крис и оба его сотрудника.
— Поздравляю, стажер, твой подвиг впишут в историю отдела золотыми буквами.
Губы лейтенанта сложились в язвительную усмешку, в глазах сверкало бешенство. Я видел его таким впервые. Неужели случившееся так потрясло его? Однако почему он дырявит злобным взглядом меня, словно это я послужил причиной его гнева?
Возле нас раздался скрежет тормозов, из машины выпрыгнул капитан.
— Как дела, Крис? Все в порядке?
— Почти… — Лейтенант со злостью швырнул пистолет в полукобуру, склонился над Фишером. — Хотел скрыться… пришлось стрелять. Спасибо стажеру — догнал его и обезоружил. Ничего, выживет.
Капитан глянул на меня, потер подбородок, криво усмехнулся:
— Молодец, малыш, ты всегда появляешься в самое нужное мгновение и творишь славные дела.
В его словах прозвучала издевка; взгляд, брошенный на меня, был настороженным, изучающим. Это длилось мгновение, и я не придал ему значения. Работы оказалось хоть отбавляй, и я все время держался поближе к капитану. Когда двое санитаров уложили на носилки стонущего Фишера и вкатили в санитарную машину, вместе с шефом туда влез и я.
— Сэр, вы обещали, что разрешите мне присутствовать при допросе Фишера.
— Помню.
Тон капитана снова был доброжелательный, он смотрел на меня как обычно. Лишь Крис, сопевший рядом, время от времени бросал на меня хмурые взгляды.
В отделе Фишера занесли в одну из камер подвального помещения. Когда туда вслед за нами хотел войти врач, капитан остановил его:
— Доктор, ваше присутствие излишне. Отдохните в кабинете дежурного или отправляйтесь домой.
— Капитан, я отвечаю за жизнь раненого. Мое место рядом с ним.
Это был тот самый военный врач, который несколько дней назад присутствовал при смерти Джона Беннета. В прошлый раз он и капитан расстались далеко не друзьями, возможно, именно поэтому он проявлял сейчас такую настойчивость.
— Прекрасно, что вы знаете свое место! И все-таки несколько минут вам придется побыть без своего подопечного, — отрезал капитан, насмешливо глядя на врача.
— Капитан, я выполняю свой долг.
— Представьте, я тоже. Стажер, проводите доктора в дежурную часть.
— Я… — врач начал багроветь, — официально запрещаю допрашивать раненого. Такое право предоставлено мне законом. Вы добиваетесь, чтобы я информировал ваше начальство о творимых следователями безобразиях? Учтите, я не постесняюсь сделать это.
— Можете информировать кого угодно и о чем угодно. Повторяю: мне необходимо побыть с арестованным несколько минут без посторонних для следствия лиц. А чтобы успокоить вашу совесть и локализовать усиленное сердцебиение, смотрите…
Капитан раскрыл свой кейс-«дипломат», ткнул врачу под нос пачку всевозможных следственных бланков, протянул «дипломат» со всем его содержимым мне.
— Оставишь у дежурного. — После этого шеф снова повернулся к врачу, слегка поклонился. — Надеюсь, вам известно, что показания должны надлежащим образом фиксироваться и процессуально оформляться, в противном случае они не стоят и выеденного яйца. Без бумаг грош цена любому допросу и полученным в его ходе показаниям.
Врач холодно улыбнулся:
— Капитан, мы живем в двадцатом веке. Показания можно фиксировать не только на бумаге.
— Абсолютно верно, — охотно согласился капитан. — Поэтому…
Он вышел в коридор, открыл крышку электрощита, нажал одну из кнопок. Тотчас тяжелая металлическая решетка, преграждавшая доступ к вентиляционному колодцу в стене камеры, ушла в сторону. Просунув в отверстие руку, капитан вытащил оттуда портативный микрофон на длинном тонком шнуре, отвинтил и протянул врачу.
— Возьмите. Надеюсь, теперь вы поверите, что мне нет смысла добиваться от вашего пациента признаний. А провести по горячим следам преступления хотя бы поверхностную беседу с задержанным я обязан.
Врач молча сунул микрофонную
головку в карман халата и начал подниматься по лестнице из подвала. Проводив его в комнату дежурного и оставив там «дипломат» капитана, я чуть ли не бегом вернулся в камеру. Капитан и лейтенант сидели на нарах и с интересом наблюдали за раненым. Фишер, лежа на спине, безучастно смотрел в потолок, его руки безвольно вытянулись вдоль носилок.
— Как дела, сержант? — нарушил молчание капитан. — Молчишь? Зря… Впрочем, дело твое. Не думай только, упаси бог, что нам нужны твои показания или признания. Все, что нас могло интересовать, мы знаем и без тебя.
На бескровных губах раненого мелькнуло подобие усмешки:
— Не верю ни единому вашему слову. Больше ничего от меня не услышите. Зря выгнали отсюда доктора — все равно ничего не добьетесь.
Капитан весело рассмеялся, поднялся с нар, встал у края носилок рядом с головой раненого.
— Ах, Фишер, почему ты о нас такого скверного мнения? Если капитан контрразведки утверждает, что ему все известно, значит так оно и есть. Не веришь? Напрасно.
— Вранье! Все, кто мог бы вам настучать, мертвы, а я не из болтливых.
— Да, Фишер, мертвы все: и те, кого вы прикончили в бронетранспортере, и те, кого ты уложил уже здесь, в Штатах. Как видишь, я умалчиваю о тех, кого твои дружки из «зеленых беретов» похоронили в бронеколпаке. Сейчас ты на самом деле остался один, но — на твое несчастье — голова на плечах не только у тебя.
Капитан умолк, на лице Фишера появились признаки волнения. Заметно побледнев, сержант с трудом повернул голову в сторону собеседника.
— Кое-что раскопали, — выдавил Фишер. — И все-таки никогда не сможете узнать главного. А хочется, очень хочется… Вот и возитесь со мной… напрасно возитесь.
Капитан присел на корточки возле носилок, приблизил губы к уху раненого.
— Фишер, Фишер, — ласково проговорил он. — Обижаешь. Ну да ладно, я тебе кое-что расскажу… вкратце, зато как можно яснее. Слушай. С Хейсом ты познакомился еще в Штатах, в учебном центре. Затем вас уже сержантами отправили во Вьетнам, и через несколько месяцев вы случайно встретились в одном укрепрайоне. Оба картежники, выпивохи, вы вскоре стали друзьями. Ты парень не промах, сразу допер, что под боком у начальства куда веселей, чем под пулями в джунглях, и постарался втереться в доверие к командованию. Когда ты вскоре стал водителем штабного бронетранспортера, вас с Хейсом посетила одна пленительная мысль…
На лице Фишера, белом, с синими полукружьями под глазами, мелькнула усмешка. Капитан подобрался:
— Не знаю точно, кого из вас эта идейка захватила первым. Главное, что в твои служебные обязанности входило также развозить по батальонам жалованье. Вы решили воспользоваться этим и поправить свои вечно хромающие финансовые делишки. Двоим задуманное было не под силу, и тогда Хейс подобрал еще четырех надежных парней из своего отделения. После этого оставалось лишь не пропустить подходящего случая. Он не заставил себя долго ждать…
Капитан сделал паузу, достал из кармана пачку сигарет, закурил. Фишер, не отводя от него глаз, непроизвольно облизал губы кончиком языка.
— И случай подвернулся, — продолжил капитан. — Роту Хейса за несколько дней до твоего очередного вояжа с деньгами направили на задание в джунгли, во время рейда он с дружками-сообщниками разыграл стычку с противником, отбились от взвода и быстро направились обратно в укрепрайон. Чтобы вернуться туда, не оставив свидетелей, им пришлось уничтожить свой контрольный пост — «окно». Подумаешь — издержки разработанной вами операции! Иначе к денежкам не добраться. Остальное просто до примитива: ты остановил в условленном месте транспортер, сообща вы уничтожили холодным оружием охрану — и денежки ваши. Казалось бы, цель достигнута, однако именно в это время произошло для тебя непредвиденное…
Капитан снова прервал речь, с подчеркнутым старанием стряхнул на цементный пол пепел, весело взглянул на Фишера:
— Не надоело слушать?
— Нисколько. Вы рассказчик от бога. Ваша история напоминает одну из сказок моего детства, когда я любил слушать часами старуху-соседку.
Фишер говорил тихо, с остановками, шумно выдыхая воздух, но издевки нельзя было не заметить. Однако капитан не терял самообладания, по крайней мере, внешне.
— Напоминает сказку? — переспросил он, прищуриваясь. — Ошибаешься — у сказок обычно счастливый конец, а у моего рассказа скорее наоборот. Ты бы не хотел его узнать?
Фишер с видимым усилием кивнул головой:
— Да. Что за сказка без конца?
— Тогда слушай. Итак, деньги уже были у вас в руках, когда начались накладки. У Хейса и его дружков было надежное алиби: по логике вещей в момент нападения на кассу они находились в полусотне миль севернее этого места, в партизанской зоне. У тебя же положеньице выходило незавидным: все твои спутники убиты, на дороге их трупы, сейф пуст. И лишь одного тебя нет ни живого, ни мертвого… думай, что хочешь. А ведь все выглядело бы куда как проще, если бы на месте преступления нашли и твой труп. Не так ли?
Голос капитана звучал резко, он смотрел прямо в лицо Фишера. Раненый отвел глаза в сторону.
— Чем же мое положение было плохим, капитан? В сейфе находилась кругленькая сумма. Неужели я со своей долей не мог исчезнуть бесследно? Так, чтобы никто не разнюхал, где я.
— Ты прав, из сейфа вы выгребли солидную сумму. И лучшим выходом для тебя действительно было бы как можно скорее и дальше убраться из Азии. Однако этот выход устраивал лишь тебя, но вовсе не Хейса с приятелями. Может, они не собирались делиться с тобой, возможно, у них отсутствовала уверенность, что ты каким-либо образом не угодишь в руки властей и не выдашь их всех оптом. А посему им куда безопасней было попросту прикончить тебя. Уверен, что любой на их месте поступил бы так. Проще и надежнее не придумаешь.
— Фантазии, капитан, — прохрипел Фишер. — Я остался жив и неплохо себя чувствовал до сегодняшней ночи.
— Тебе тогда удалось смотаться и спасти шкуру, хотя и не досталось из общего котла ни цента. Именно за это ты и решил рассчитаться с бывшими сообщниками… начал с Хейса и закончил Финном, последним из оставшихся живых.
— У вашей сказки действительно скверная развязка, — через силу улыбнулся Фишер. — Вы сгустили краски, сверх меры намешали черного, а на деле все не так страшно.
— Охотно послушаю твой вариант. Валяй, — предложил капитан.
— Недавно я встретил бывшего сослуживца. Посидели в баре, выпили, а заодно вспомнили старые армейские времена, конечно, и нападение на кассу. Сослуживец сообщил о выводах — разве их утаишь! — к которым пришло следствие по этому делу: на транспортер напали партизаны, убили охрану, утащили деньги, а меня, по всей видимости, взяли в плен. Но из плена можно бежать, именно поэтому я сейчас перед вами. По-моему, капитан, не так страшно и похоже на правду?
— Свою сказку ты рассказал только наполовину. Потом был Хейс и другие, а над изрешеченным Финном тебя взяли.
— Это, капитан, уже другая сказка. Первая завершилась тем, что «чарли» захватили меня в плен, а я бежал. Следующая начинается тем, что я совершенно некстати встретил в этом городе Финна — у нас старые счеты — и я решил расквитаться. Разве плохое начало?
— Отличное. Боюсь только, экспертиза докажет, что пули, убившие Хейса и иже с ним, выпущены из кольта, с которым тебя задержали во время убийства Финна.
— Плевать мне на экспертизы! Пистолет я купил вчера вечером у хиппи в порту. Лохматый, с рыжей бородой, со шрамом на щеке — могу хоть сейчас опознать. Не верите? Тогда докажите, что я вру.
Капитан расхохотался, лицо из серьезного стало добродушным, глаза смотрели на сержанта, как на лучшего друга.
— Фишер, я тебе верю. Но две сказки, желаешь ты того или нет, не получаются. Существует лишь одна, которую я уже рассказал, с печальным концом.
Фишер, покрываясь испариной, приподнялся на локте:
— Капитан, во время нападения партизан на мой бронетранспортер я был ранен и взят в плен. Затем бежал. Вместо того чтобы вернуться в часть, скрылся в Европе. Это мое первое преступление… Второе в том, что я случайно встретил уже здесь Финна и свел старые счеты. Как видите, я ни от чего не отказываюсь и готов ответить и за дезертирство и за убийство Финна.
По лицу Фишера пошли красные пятна, он с ненавистью смотрел на следователя. Капитан поднялся, сделал несколько шагов по камере, прислонился к нарам. Глаза смотрели мимо раненого, голос звучал тихо и размеренно:
— Фишер, ты мне не нравишься. Для тебя на карту поставлено слишком многое, каждое неосторожное слово может дорого стоить. Но поговорим начистоту. Поверь, такой разговор в обоюдных интересах, даже, как мне кажется, в первую очередь в твоих.
Из горла лежащего вырвалось бульканье, отдаленно напоминающее смех.
— Капитан, за кого вы меня принимаете? С какой стати вас могут волновать мои интересы? Каждый думает только о себе и делает лишь то, что ему выгодно. Ваши хитрости и уловки мне ни к чему: у вас свои интересы, у меня — свои.
Капитан отошел от нар.
— Попробую заслужить твое доверие. Хотя я рискую многим, слушай меня внимательно. — Капитан щелчком отправил окурок сигареты под нары. — Ты правильно отметил, что следствие в Азии пришло к выводу, что нападение на бронетранспортер — дело рук партизан. На «чарли» свалили все: смерть парней из охраны кассы и караульных в бункере, пропажу денег и твое отсутствие — желтые либо утащили тебя в плен, либо после допроса с пристрастием прикончили и надежно спрятали труп. С этой стороны твои дела выглядели неплохо. Везло тебе вначале и в Штатах, когда ты начал постреливать бывших сообщников в спины. Однако Беннет тебе здорово подгадил. То ли у тебя не было возможности его добить, то ли капрал оказался слишком живуч, но он отправился на тот свет на полчаса позже, чем тебе хотелось бы. И за это время выложил все, что ему известно. Знал же он, как ты догадываешься, немало, и утаивать ему что-либо перед смертью не имело никакого смысла. Тем более что особенной любви к тебе он почему-то не испытывал. Его показания требовали проверки, и тогда…
Капитан, не упуская ни единой подробности, рассказал о поездке в укрепрайон и беседе с майором Шелдоном и лейтенантом Бартоком, а также о том, как мы установили, что все погибшие в Штатах «зеленые береты» жили далеко не по средствам. Закончил тем, как ныне покойный Финн стал нашей приманкой в поимке убийцы с поличным.
— Теперь суди о своем положении сам. Подумай, нужны ли следствию твои признания? — закончил капитан.
Лицо Фишера стало мертвенно бледным, зрачки расширились, руки, плетьми лежавшие поверх простыни, сжались в кулаки. Какое-то время в камере стояла давящая на уши тишина.
Да, капитан нанес сильный удар, однако всякая палка о двух концах. Что, если Фишер, зная теперь обо всем, чем располагает против него следствие, обратит полученные сведения против нас? Станет искать наши промахи, разрушать в слабых, плохо состыкованных местах систему доказательств, ставить под сомнения выводы, не подкрепленные неопровержимыми фактами или надежными свидетельскими показаниями? Подобная деятельность намного усложнит ведение следствия. Но это должен прекрасно понимать и капитан, однако предпочел раскрыть перед Фишером свои карты. Возможно, я чего-то недопонимаю? А может, шеф ведет свою, еще непонятную мне игру?
— Капитан, чего вы от меня хотите? — тихо прозвучал голос раненого. — Ждете, что я стану хлопать в ладоши в честь ваших успехов?
— Я добиваюсь другого, — невозмутимо ответил капитан. — Я уже намекал, что мы можем помочь друг другу: ты — мне, я — тебе. Немного доверия с обеих сторон — и оба в выигрыше… причем неизвестно, кто в большем.
Голова раненого дернулась из стороны в сторону.
— Не понимаю, — проговорил он.
— Уже лучше. «Не понимаю» вовсе не то же, что «не верю». Ты правильно оценил обстановку, а это неплохо. Думаю, нам удастся сварить нужную нам кашу.
Губы Фишера едва разлепились:
— Попробуем.
Шеф снова привалился к нарам:
— Тогда помогай мне.
Фишер с усилием повернул голову на голос следователя, во взгляде мелькнула надежда.
— Согласен.
— Ты служил в армии и знаешь, что мы, военные, любим чины, звания, награды, а они сами по себе с неба не падают. Поэтому, когда выпадает возможность отличиться, никто из нас такого случая не упускает. Сейчас, благодаря расследованию твоего дела, шанс подвернулся и мне. Однако существует загвоздка: я распутываю это дело в Штатах, а мой коллега Шелдон делает то же самое во Вьетнаме. Лавры победителя достанутся только одному. Лично я против майора ничего не имею, но разве приятно, если он меня обставит и я окажусь в дураках. Ты мне Можешь крепко помочь. Пока Шелдон будет копать вашей бывшей компании яму в Азии, я с твоей помощью поставлю здесь все точки над «i».
— Вы получите награду, а я — электрический стул? Заманчивое предложение, ничего не скажешь.
— Теперь ты знаешь, чего я хочу, — спокойно продолжал капитан, словно не слыша замечания Фишера. — Сейчас можно поговорить о тебе. Но в начале я должен убедиться в твоей искренности.
— Искренности? А не пойдет ли она мне во вред?
Капитан изобразил на лице удивление.
— Во вред? Разве может быть положение хуже твоего сегодняшнего? Бандитское нападение, дезертирство, незаконное хранение оружия, пять умышленных убийств…
— Одно, капитан, всего одно, — перебил Фишер.
— Пять, никак не меньше. Кольт, из которого убиты все жертвы, ты не мог купить у бродяги. Этот пистолет — личное оружие лейтенанта Харлоу из финслужбы, которого вы прикончили во Вьетнаме.
— Тем более не могу понять, зачем вам моя откровенность?
— В нашей сделке ты рискуешь головой, я — карьерой. Я обязан знать правду, чтобы застраховаться от подвохов с твоей стороны, да и от служебной одержимости ретивых коллег. Не желаю получать удар в спину. По-моему, вполне естественное желание.
— Капитан, вы все время беспокоитесь только о себе.
— Твоя вина. Будь откровенен — и у меня не станет от тебя секретов.
Сержант прикусил губу от боли.
— Скажите, чем сможете мне помочь, а после я решу, стоит ли быть откровенным.
— Хорошо, еще раз пойду навстречу. Итак, за тобой пять умышленных убийств, от них никуда не деться. Однако в юриспруденции важен не только факт свершения деяния, но и побудительные мотивы. Будь я в тебе уверен, мы смогли бы обыграть убийства по-другому.
— Как же?
— К примеру, так. Случайно ты встречаешься в нашем городке с Хейсом и его дружками, они тебя узнают. Догадываясь, что ты скрывающийся от властей дезертир, начинают тебя шантажировать. Вначале тебе удается откупаться виски, сигаретами, мелкими суммами денег, но требования мерзавцев растут, они пускают в ход кулаки. В конце концов тебе не остается ничего другого, как защищаться. Твоя вина лишь в том, что, будучи доведен ими до предела человеческих сил и терпения, ты превысил пределы необходимой обороны. Согласись, при такой версии гораздо дальше от электрического стула, чем при пяти заранее обдуманных убийств. Но это лишь черновая схема, набросок, подробности требуется как следует обдумать и отшлифовать. Возможно, удастся придумать кое-что еще. Например, как отмести обвинение в убийстве первых четырех жертв, оставив на твоей совести только одну — Финна.
— Думаете, это возможно?
— Почему бы и нет? Обвинение строится на свидетельских показаниях, собранных по делу вещественных доказательствах и других уликах. В нашем конкретном деле возможны лишь твои показания, остальное зависит от меня. Если мы будем действовать сообща, можно направить следствие в нужную нам сторону.
— А показания Беннета перед смертью? А Шелдон в Азии? Вдруг ему удастся докопаться до сути?
Капитан торжествующе поднял палец.
— Фишер, умница! Ты сам вплотную подошел к тому, о чем я уже толкую битых четверть часа. Чтобы затевать игру, необходимо застраховаться со всех сторон, для чего следует быть откровенными и ничего друг от друга не скрывать. Чтобы спокойно разыгрывать свою партию, мы должны предугадывать все возможные ходы и удары со стороны противников, а для этого требуется знать все детали дела, видеть истинную картину событий. Тогда я буду представлять, что в состоянии сделать Шелдон и куда его может вывести та или другая ниточка. Мы должны знать абсолютно все, тогда майор, обладающий лишь частью нашей информации, будет нам не опасен.
— А показания Беннета? Не сомневаюсь, что вы не только занесли их в соответствующий протокол, но и записали на магнитную пленку. Поэтому при всем моем и вашем желании от них никуда не деться.
— Главное — Шелдон. Именно он должен доказать, что на денежный транспорт напали вы, а не партизаны. Если эта задача окажется ему не по зубам, показания Беннета, полученные от него в полубредовом состоянии перед смертью, ничего не будут стоить. Посмотрим, каковы шансы майора. Все сопровождавшие сейф мертвы, все подозреваемые в нападении — тоже, в живых из всех участников тех событий остался лишь ты, но молчание — это твоя жизнь, так что в отношении свидетелей Шелдону крупно не повезло. Однако у него куча других возможностей докопаться до истины. Поэтому я и хочу знать детали и подробности нападения — лишь тогда я смогу предугадать результаты расследования Шелдона и своевременно принять меры, если майор будет нам мешать. Прав я?
Некоторое время Фишер раздумывал, от напряжения его бил озноб.
— Убедили, — прошептал он. — Спрашивайте.
— Кто, кроме вас шести, знал о предстоящем нападении на кассу?
— Никто. Ручаюсь головой.
— Кто мог быть свидетелем или иным способом вызнать правду о случившемся?
— Очевидцы, любые свидетели исключены.
— Расскажи, как вам удалось разделаться с охраной. Я должен быть уверен, что вы тогда не наследили и не оставили Шелдону визитной карточки с выходом на себя.
— Мы продумали все до мелочей. Хейс со своими парнями оторвался в джунглях от роты, вернулся назад и устроил засаду на дороге, по которой мы должны были ехать. Когда я их увидел, они возились на обочине, перевязывая якобы раненного Финна. По их требованию я затормозил, они попросили подвезти раненого до лазарета. Вначале лейтенант не соглашался, ссылаясь на свои служебные инструкции, но Хейс в конце концов его уговорил. Парни из охраны стали заносить Финна внутрь транспортера, тут на них и напали. Все кончилось в считанные секунды, никто даже пикнуть не успел.
— Как удалось спастись тебе?
— Не спастись, а как им ловко удалось меня околпачить. План захвата кассы придумал и разработал я и с самого начала понимал, что нахожусь среди участников нападения в самом невыгодном положении. Почему — об этом уже сказали вы. Поэтому помимо плана, известного всей нашей группе, у меня был еще и собственный. Как только парни Хейса разделаются с охраной и соберутся возле сейфа для дележа добычи, я собирался взять их на прицел своего карабина, отобрать причитающиеся мне деньги и уйти один в джунгли. Однако я недооценил эту хитрую бестию Хейса…
— Хорошо зная тебя, он догадался, что ты вряд ли захочешь ограничиться своей долей и захочешь большего? — насмешливо спросил капитан. — А лучшим твоим аргументом в подобном споре может быть только оружие?
— Хейс вообще был на редкость подозрительный субъект, — уклончиво ответил Фишер. — Словом, все произошло совсем не так, как я планировал. Пока «зеленые береты» приканчивали охрану, я сидел в кабине, и лишь когда они сгрудились у кассы, выскочил наружу с карабином на изготовку. И в тот же миг Беннет метнул в меня кинжал. Мое счастье, что я был настороже — иначе клинок вошел бы мне в горло. Я присел, кинжал просвистел над головой, а когда я выпрямился, все парни Хейса стояли против меня с наведенными мне в грудь карабинами. Никто из нас не сказал ни слова, однако ситуация была ясна каждому — ничья: мне не удалось захватить кассу, им — избавиться от меня. Продолжить игру дальше никто не мог: первый же выстрел — через несколько минут на это место нагрянет патруль, и наша песенка будет спета. И Хейс поступил с присущей ему наглостью: не обращая на меня внимания, опустошил кассу и убрался с приятелями в джунгли. Прихватив кольт убитого лейтенанта и держа «беретов» на мушке, я двинулся следом за ними. Так я выбрался за пределы укрепрайона.
— Они уходили по тропе мимо бронеколпака с пулеметом?
— Да. Миновав колпак, мы разошлись в разные стороны. Мне и парням Хейса было не до сведения личных счетов — время работало против нас всех.
— Как ты выбрался из Вьетнама?
— Как тысячи других парней до и после меня. Этот путь вы знаете не хуже меня.
— Ты никому не проболтался, почему дезертируешь?
— Зачем? Надоело воевать и поминутно рисковать жизнью — вот и все. Самые убедительные объяснения.
— Если все обстоит именно так, у коллеги Шелдона шансов на успех немного. Главное — сам не проболтайся. На транспортер напали партизаны, переодетые в нашу форму, тебя оглушили, в бессознательном состоянии взяли в плен…
— А кольт? Любому болвану ничего не стоит узнать по номеру имя его бывшего владельца.
— Ну и что? Убегая из плена, ты прихватил с собой оружие задушенного тобой часового — «чарли». Кстати, в Штатах и Европе ты не похвалялся своими подвигами?
— С какой стати? Не до болтовни было. В Европу я добирался без цента в кармане, работал как вол, скопил денег на билет в Штаты. На родине скитался как бродяга, без документов, в вечном страхе. Приходилось подрабатывать на еду, на дорогу. Зная, что для отдыха и переформирования «зеленых беретов» в Штатах существует всего два пункта, я постоянно курсировал между ними. Так что изливать душу было некогда и некому. А главное, незачем.
— Последний вопрос. Ты ведь понимал, что при всей твоей осторожности вероятность попасть в наши руки все равно не исключена. Не ошибусь, если скажу, что на этот счет тобой кое-что предпринято. Не так ли?
— Почему бы и нет? Береженого бог бережет.
— Тебя, допустим, не сберег, — иронически заметил капитан.
— Почему? Разве господь не послал мне вас?
Настроение Фишера заметно изменилось к лучшему, глаза заблестели, в них исчезла волчья настороженность, похоже, и боль поутихла. Неужели поверил в искренность капитана? Или считает, что получил от него больше ценных сведений, нежели дал ему сам? Святая наивность! Каждая деталь преступления, любой факт, выуженный сейчас капитаном, облегчат ему ведение дальнейшего расследования и, рано или поздно, безотказно сработают против Фишера. Как же легко он попался на удочку! А может, сержант вовсе не глуп и ведет собственную игру? Или логика капитана столь убедительна, а выводы так неотразимы, что для Фишера уже нет другого выхода? Как бы там ни было, шеф свое дело знал туго, и преступление раскрыто. Но почему капитан продолжал возиться с сержантом и задавать ему все новые и новые вопросы?
— Послать послал, только ты не желаешь этим шансом воспользоваться. А зря.
— Думаете, я намерен что-то от вас утаить?
— Не думаю, а убежден. С момента твоего обнаружения и до ареста мы все время держали тебя под наблюдением, а потому твои секреты стали нашими общими. Каждое утро в шесть часов ты звонил по междугородному телефону в столицу штата в адвокатскую контору доктора Голдкремера. Напрашивается определенный вывод. Какой? Нетрудно догадаться и младенцу.
— Я на самом деле поддерживал связь с названной вами конторой. Разве я не имею права пригласить адвоката?
— Имеешь. Ты поступил правильно, пригласив адвоката. Лично меня интересуют две вещи: кто тебя будет защищать и что ему известно?
— Защищать взялся сам доктор Голдкремер, — с гордостью произнес Фишер.
— Сам Голдкремер? — недоверчиво переспросил капитан. — Ты уверен?
— Абсолютно. Завтра вы убедитесь в этом.
— Голдкремер — хороший адвокат. Однако уважаемый доктор любит сенсации, дела обыкновенных смертных, тем более без цента в кармане, его не интересуют. Чем тебе удалось его заинтересовать?
— Пять убийств — разве мелочовка?
— Солидно, особенно с талантами Голдкремера. Кроме своих проделок в Штатах ты не посвящал его ни во что другое?
— Я не враг себе.
— Пойми, лучший защитник — ты сам, а злейший враг — твой язык. Не забывай об этом даже с Голдкремером. Поверь, я не желаю тебе зла.
— Капитан, я был откровенен с вами во всем.
— Тогда для первого раза достаточно. Пора и отдохнуть.
Шеф зябко передернул плечами, туже затянул узел галстука, поправил портупею.
— Ну, Ларри, поправляйся. Помни мой совет — никому ни слова. Слышишь — никому…
В кабинете капитан подошел к раскрытому настежь окну, присел на подоконник.
— Что скажешь, лейтенант? — обратился он к Крису.
— Фишер не поверил ни единому твоему слову.
— Естественно. Разве ты на его месте поступил бы по-другому? Но все это чепуха. Неплохо уже то, что я подбросил ему мысль с кольтом и шантажом со стороны убитых. А то, что ему следует больше молчать и открещиваться от эпизода в Азии — он должен отлично понимать и сам. Теперь вопрос по существу. Что ты думаешь о появлении на нашем горизонте Голдкремера?
— Как защитник, он должен подыграть нам. С какой стати ему помогать следствию и утяжелять вину своего подзащитного?
— Не забудь, что Голдкремер не просто адвокат, он — король сенсаций. Там, где другой заканчивает дело, он только начинает разбег. Если он возьмется защищать Фишера, то пойдет до конца и вряд ли захочет притормозить там, где ему укажем мы.
— Мы оба забываем о Фишере. Сержант не болван, отлично понимает, что шумиха не в его интересах.
— У Фишера психологический шок, нервы как струны. Ему позарез необходима разрядка, и Голдкремер может разговорить сержанта.
— Мы еще не видели Голдкремера, а уже портим из-за него кровь. Возможно, он того не стоит.
— Может быть, — согласился капитан. — Потом, Крис, нам ли дрожать? Давай-ка расходиться по домам. Если верить Фишеру, нам нужно ждать дорогого гостя.
Я не мог понять, почему участие в деле адвоката, будь им даже доктор Голдкремер, должно волновать шефа и лейтенанта. Разве не толково распутали они преступление? Какую угрозу адвокат представляет для них лично или для расследования? Ведь любая сенсация вокруг дела лишь привлекла бы к их именам внимание, способствовала их популярности. А может, дело совершенно в другом, чего я не понимаю? Но в чем?
КАПИТАН
Фишер не ошибся: Голдкремер явился ровно в десять утра, к началу рабочего дня отдела. Отлично сшитая тройка дорогого английского сукна, ослепительно белая сорочка, черная в крапинку бабочка. Портфель из крокодиловой кожи, легкую японскую трость с серебряным набалдашником он аккуратно ставит в угол у вешалки. От полной фигуры несет важностью и довольством, на холеном, тщательно выбритом лице сияет обворожительная улыбка, вид его являет образец постоянной заботы о себе, олицетворение сытого семейного благополучия.
— Добрый день, капитан. Разрешите отнять у вас несколько минут драгоценного времени.
Голос адвоката приторный, вкрадчивый, раз и навсегда поставленный на одну и ту же ноту. Таким голосом дешевые совратители из сентиментальных кинофильмов обычно соблазняют неискушенных провинциальных барышень.
— Для меня такая честь беседовать с вами, доктор. Присаживайтесь и располагайтесь как дома.
Адвокат грузно опускается в кресло напротив, причесывает остатки былой шевелюры, прячет расческу. Движения продуманы, отшлифованы, ни одного лишнего.
— Капитан, вы, наверное, догадываетесь, каков повод моего появления у вас?
— Не имею представления. По-моему, между нашими конторами нет ничего общего.
— Начальник вашего отдела сообщил мне, что у вас находится дело по обвинению сержанта Ларри Фишера. Это так?
— Полковник никогда не ошибается. Поэтому он и является начальником отдела.
— Обвиняемый Фишер просил меня быть его адвокатом.
— Сержант еще не обвиняемый. Он лишь задержан минувшей ночью — подозрение в убийстве.
— Я представляю законные интересы Фишера, требую встречи с ним. Желал бы получить эту возможность как можно скорее.
Итак, он требует. Впрочем, имеет на это полное право, а моя антипатия к нему — уже совершенно другое дело. И причина здесь вовсе не в его внешности или манерах, не в велеречивости и поведении, а гораздо глубже. Мы совершенно разные, и каждый носитель своей, непонятной и чуждой другому жизненной философии.
У таких, как Голдкремер, все ясно с первого дня рождения: когда и кем он станет, кто и что для этого сделает, во сколько кому это обойдется. Такие не знают трудностей и преград с детства, по жизни скользят как по накатанной дорожке, путь к успехам и житейским благам у них устлан лепестками роз. Ну а шипы, естественно, остаются на долю таких, как я. Тех, кто дорогу к успеху пробивает собственным лбом, платит за каждую удачу потом и трудом, кровью и бессонными ночами и всегда не успевает за такими баловнями судьбы, как Голдкремер.
Разница в пустячке: его отец владел юридической конторой, мой — обыкновенный пастор; ему с пеленок внушали, что он унаследует дело отца, а кем стану я, зависело лишь от меня. Правда, сейчас мы оба достигли определенного положения, чувствуем себя почти на равных, однако заплатили за это разную цену. И пропасть между нами нисколько не уменьшилась. Если я в любой момент могу потерять все, чего достиг трудом, и остаться без гроша, то ему, обладателю фамильных банковских вкладов, всегда гарантировано безбедное существование. Поэтому, Голдкремер, мы никогда не откроем друг другу сердца, не протянем для дружбы руки, такие, как я, всегда будут вас ненавидеть, а вы нас бояться. В повседневной жизни мы стараемся друг другу гадить — как только можно. Лично мы с тобой, Голдкремер, этим уже занялись, и первым делом я постараюсь сбить с тебя спесь.
— Доктор, на двери нашего заведения нет вывески, поэтому вы, по всей видимости, забыли, где находитесь. Вынужден напомнить. Вы пребываете в стенах военной контрразведки, где адвокаты бывают крайне редко, а на их просьбы — обратите внимание, просьбы, а не требования — смотрят скорее с улыбкой, нежели с пониманием. Советую вам это хорошо запомнить.
Лицо адвоката покрывается пятнами, шея багровеет, я вижу, как вздуваются на ней вены, и у меня мелькает мысль, что воротник рубашки сейчас не выдержит и по всей комнате разлетятся пуговицы. Передо мной сидит уже не добропорядочный семьянин, а человек с жестким лицом и злобными, сверлящими меня глазами. Вот таким, Голдкремер, ты мне нравишься куда больше!
— Вижу, доктор, вы вспомнили, где находитесь. Поэтому перейдем к делу. Откуда вы знаете Фишера, что вам известно о его преступной деятельности?
— Капитан, я не стану отвечать на вопросы о том, что стало мне известно в связи с моей адвокатской деятельностью. Это профессиональная тайна.
Мой милый, да мне начхать на твою деятельность и все адвокатские тайны. Мне необходимо знать, что связывает тебя с Фишером и глубоко ли ты сунул свой нос туда, где тебе совершенно нечего делать. И я получу ответ на это любой ценой, даже если придется выжать тебя как половую тряпку. Тем более что способов воздействовать на адвоката у меня много, гораздо больше, чем у обычного полицейского или даже прокурора. Что ни говори, а в деятельности нашего ведомства есть и свои маленькие прелести. Я улыбаюсь.
— Мистер Голдкремер, вы ответите на все мои вопросы. И вот почему. Фишер задержан нами прошлой ночью, сведения об этом — по моему указанию — не вышли за пределы здания контрразведки и даже не попали еще на страницы местных газет. Это относится и к информации о преступлении, при совершении которого он был обезврежен. Тем не менее вы уже знаете о его судьбе и незамедлительно прибываете к нам. Откуда вам известно, что Фишер арестован и находится именно у нас?
— Капитан, согласно закону я имею право взять на себя защиту любого гражданина Соединенных Штатов и не давать по этому поводу никому и никаких объяснений.
— Согласно тому же закону я могу решить, что вы были тесно связаны с Фишером и, возможно, имели отношение к его преступной деятельности. Именно поэтому вы единственный человек, который, не будучи сотрудником контрразведки, знает об аресте сержанта. Попахивает как минимум недоносительством, и я имею полное право требовать от вас необходимых объяснений… не как от адвоката, а как от обычного гражданина Соединенных Штатов. В случае же отказа или неубедительности полученных ответов я буду вынужден обращаться с вами, как с возможным соучастником преступника, подозреваемого в совершении ряда убийств… со всеми вытекающими отсюда последствиями, — многозначительно заканчиваю я.
До чего же подленькое существо — человек! Первый раз в жизни судьба подарила мне шанс почувствовать себя сильнее человека типа Голдкремера, и я спешу сполна насытиться своей властью. Я куражусь над адвокатом лишь потому, что представляю сейчас не себя, обыкновенного капитана контрразведки, а самую могущественную в Штатах силу — армию. Единственную силу, которой не страшны голдкремеры с их деньгами, связями и незримыми пружинами власти.
Не глядя на адвоката, достаю из ящика стола протокол, кладу перед собой, беру в руку авторучку.
— Доктор Голдкремер, вот мои первые вопросы. Откуда вам известно об аресте бывшего сержанта, а ныне дезертира Ларри Фишера? Не были ли вы заранее поставлены в известность о готовящемся преступлении? Что дает вам право именовать себя его защитником, если какого-либо официального заявления от самого Фишера по данному поводу руководству отдела не поступало? Если вы, доктор, собираетесь молчать, я сейчас запротоколирую отказ от дачи показаний и буду действовать согласно уже своей ведомственной инструкции. А они у нас, смею вас уверить, либерализмом и мягкотелостью не страдают.
Поднимаю взгляд от бланка протокола, смотрю на Голдкремера. Лицо адвоката сереет, под глазами набухают мешки, губы закушены до синевы. Не нравится! Ничего, милый, пусть и у тебя пошалят нервишки и постучит неровно сердечко. Привык обедать с белыми салфетками, ездить в лимузинах, ложиться спать по графику да с теплой женой или молодой любовницей. При этом загребать деньги лопатой и поглядывать свысока на черных мальчиков вроде меня. А ты поскитайся, как мы, по белу свету, не поспи сутками, порискуй своей единственной шкурой, замени все блага цивилизации словом «надо» и бутылкой виски. Вот потом я полюбуюсь, как ты сам станешь относиться к тебе подобным: чистеньким, сытеньким, довольным собой и жизнью, строящим на чужом прозябании собственное благополучие.
— Капитан, к чему формальности? Вы хотите что-то узнать — я с удовольствием помогу. Мы — умные люди, в определенном смысле коллеги, ссориться нам ни к чему.
Голос адвоката снова звучит тихо, ласково, убаюкивающе, на лице светится улыбка. Что ж, Голдкремер, ты, как действительно умный человек, смог правильно оценить свое весьма щекотливое положение и моментально сделать верный ход.
Я убираю протокол, прячу в карман пиджака авторучку.
— Слушаю, доктор. Надеюсь, вопросы повторять не требуется?
Адвокат открывает свой портфель, достает пухлый конверт, протягивает мне.
— Это письмо я получил три недели назад. В нем доселе неизвестный молодой человек сообщал следующее. Некоторое время назад, находясь в действующей армии, он стал свидетелем, невольным свидетелем, совершения чудовищного, из ряда вон выходящего преступления. Его участники хотели уничтожить и моего адресата, однако ему чудом удалось избежать смерти. И вот сейчас он собирался свести с преступниками счеты и просил меня в случае задержания стать его адвокатом. В конце письма он сообщал, что будет ежедневно звонить в шесть утра дежурному конторы и передавать мне привет. Если однажды такого привета не последует, значит, он арестован. В этом случае я должен как можно скорее прибыть в ваш город и взять на себя его защиту. Подобные письма я получаю не впервые и не придал ему особого значения. Однако молодой человек стал ежедневно по утрам звонить в контору, и тогда я попросил служанку регулярно покупать ваши местные газеты. Из них я узнал о серии убийств, случившихся в вашем городе, и стал следить за дальнейшим развитием событий.
— О полученном письме вы никуда не сообщили? Предпочли следить за дальнейшим развитием событий? — съязвил я.
— А кому и чем могло помочь мое сообщение и письмо? В нем не было ничего конкретного, оно не содержало ни единой зацепки для расследования. А сообщение о якобы совершенном в Азии преступлении, свидетелем которого стал мой неизвестный адресат, могло оказаться просто приманкой, на которую я должен был клюнуть.
— Вы, конечно, клюнули?
— Капитан, я люблю масштабные дела, а пять убийств подряд — находка для настоящего адвоката. Вчера утром он не позвонил. Я, как только позволили обстоятельства, сразу вылетел в ваш город. В местной полиции мне сообщили, что расследование этого дела ведет контрразведка, остальное, в том числе и личность моего клиента, я установил у начальника вашего отдела. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство и не нахожусь больше под подозрением как сообщник Фишера?
— Я считаю вас самым благонадежным и законопослушным гражданином Штатов, доктор, — в том же тоне отвечаю я.
Все, что сообщил Голдкремер, и сведения, содержащиеся в прочитанном мной письме Фишера, не имели ничего, что могло бы меня тревожить. Правда, в письме сержант упоминает о совершенном когда-то во Вьетнаме преступлении, но когда и где это было, в чем именно оно заключалось — об этом не говорится ни слова. Только то, что оно было «чудовищно, из ряда вон выходяще». Но это лишь красивые, ничего не значащие слова. Да и сам Голдкремер, по всей видимости, не придает особенного значения письму. Так что, если Фишер будет держать язык за зубами, как мы договорились, моему плану ничто не угрожает. А чтобы уберечь сержанта от излишней болтовни при Голдкремере, я приму надлежащие меры.
— В таком случае, капитан, у меня к вам просьба.
— Внимательно слушаю.
— Я хотел бы встретиться с Фишером. Поскольку он задержан и находится в изоляции, этому не препятствуют ни законы Штатов, ни даже ваши служебные инструкции.
— Видите ли, Фишер при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ранен. Врачи считают, что в настоящее время ему необходим покой, а их слово в подобных случаях — решающее. Мы сами его еще не допрашивали. Думаю, подождать придется и вам.
— Значит, все зависит от врачей?
— Совершенно верно.
— Благодарю, капитан. Я доволен нашей встречей, разрешите покинуть вас.
— Не смею задерживать.
Проводив адвоката, я спокойно принимаюсь за текущие дела, совершенно не подозревая, какую свинью подложит мне Голдкремер уже буквально через несколько часов.
На следующий день Крис вваливается в мой кабинет почти одновременно со мной. По нахмуренному лицу и тревожному взгляду лейтенанта я сразу определяю, что он далеко не в лучшем расположении духа.
— В чем дело, Крис?
— Сейчас узнаешь. — И он протягивает мне несколько листков служебных бумаг и кассету с магнитофонной пленкой.
Беглого взгляда на заголовки документов оказывается достаточно, чтобы мое настроение мгновенно испортилось. Официальное ходатайство адвоката Голдкремера о встрече с подзащитным Фишером… Медицинское заключение о том, что подследственный Фишер, в порядке исключения, может беседовать с адвокатом… Виза заместителя начальника нашего отдела подполковника Хесса, курирующего это дело, разрешающая подобную встречу наедине… Рапорт дежурного по отделу, что адвокат Голдкремер имел беседу с подследственным Фишером вчера вечером с двадцати пятнадцати до двадцати одного тридцати.
— О чем щебетали милые пташки? — как можно спокойнее спрашиваю я, кивая на пленку.
— Голдкремер не глупее нас: поздоровавшись, сразу предложил Фишеру отвечать на его вопросы письменно, а за час с четвертью можно исписать гору бумаги.
— Возможно, ничего страшного не произошло? — предполагаю я.
— Дежурный уверяет, что Голдкремер, покидая камеру, имел весьма довольный вид, будто его уже осыпали стодолларовыми бумажками.
— В таком случае нам тоже придется нанести визит Фишеру. Тем более что мы не нуждаемся в куче разрешений.
— Для этого я и ждал тебя.
При нашем появлении Фишер приподнимает голову, поочередно скользит взглядом по мне и Крису, на губах мелькает ироническая усмешка. Сегодня сержант выглядит лучше, чем в прошлую встречу. Возможно, это результат врачебного ухода, а может, состоявшейся вчера вечером беседы с адвокатом.
— Привет, старина, — с деланным весельем в голосе приветствую я его. — Как дела?
— Недурно, капитан. После посещения доктора Голдкремера я не сомневался, что вы обязательно меня навестите. И не ошибся.
Мне не нравится, когда со мной разговаривают подобным образом, особенно какой-то сопляк. Однако на службе приходится терпеть и не такое. Присаживаюсь на краешек постели Фишера, дружелюбно улыбаюсь.
— Как доктор Голдкремер оценивает твои дела?
— Мои — неплохо, а вот в наши с вами, капитан, придется внести поправки.
Слова «мои» и «наши» произносятся с таким нажимом, что у меня не остается иллюзий относительно того, что сержант имеет в виду. Я решаю идти к развязке по возможности скорее, ибо время сейчас работает не на меня, а на Голдкремера.
— Поправки посоветовал внести адвокат?
— Какая разница, капитан? Главное, я решил во всем признаться: в том, что произошло в Азии и что случилось уже здесь. Говорят, чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины смягчают наказание. Надеюсь, капитан, вы тоже слышали об этом?
Птенчик чувствует себя чуть ли не орлом. Ладно, милый, покудахтай, покуда у тебя для этого есть время и настроение.
— Угадал, я тоже слышал об этом. Если доктор считает, что тебе так будет лучше, ему виднее — в подобных делах он дока.
— Я тоже так думаю, — ухмыляется Фишер. — Перехожу к чистосердечному признанию. Вначале, как оказался свидетелем нападения на мой бронетранспортер с деньгами во Вьетнаме…
— Свидетелем? — перебивает Крис. — Мне кажется, что трибунал отведет тебе в этом преступлении немного другую роль.
— Ошибаетесь, лейтенант, — улыбается Фишер. — В прошлый раз я слегка пошутил и рассказал вовсе не то, что случилось на самом деле.
— В чем заключалась шутка? — вопрошает Крис с такой интонацией, что, знай его Фишер так же хорошо, как я, сержанту стало бы не по себе.
— В том, что я ничего не подозревал ни о каком нападении на кассу. Ехал
как обычно, увидел на дороге несколько «беретов», один был забинтован и лежал на обочине. Их командира, сержанта Хейса, я хорошо знал, и, когда он попросил остановиться, я с согласия лейтенанта из финчасти это сделал. Тем более что Хейс загораживал нам дорогу — не давить же его? «Береты» попросили лейтенанта взять их раненого до лазарета, тот разрешил. Но когда парни из охраны кассы открыли дверцу боевого отсека, «береты» набросились на них с ножами и всех прикончили. Я в это время находился в кабине и успел захлопнуть дверь перед самым носом убийц, а поэтому они до меня не смогли добраться… Так что ни о каком нападении я ничего не знал и не имею к нему ни малейшего отношения, — с довольным хихиканьем заканчивает Фишер.
— Знаешь, неплохо, — соглашаюсь я. — Однако почему ты не оказал преступникам сопротивления? Ты находился в бронированной кабине и имел оружие. К тому же после первых выстрелов тебе на помощь подоспели бы контролирующие дорогу мотопатрули.
— Как назло почему-то заело карабин… наверное, от волнения. Поэтому позже я и прихватил пистолет убитого лейтенанта.
— А как тебе вообще удалось уцелеть? — интересуется Крис. — Парни в «беретах» — мастера на все руки. Им ничего не стоило бы прикончить тебя без выстрелов прямо в кабине транспортера. Например, сжарить там заживо с помощью штатного баллона с напалмовой смесью, которые выдаются им при выходе на боевое задание. Или бандиты пожалели твою старушку-мать и оставили себе на погибель в живых такого опасного свидетеля?
— Перед уходом «береты» крикнули, чтобы я свалил все на партизан. В противном случае грозились прикончить после возвращения с задания или, если я выдам их, заявить на суде, что я был их соучастником. Когда они, захватив деньги, ушли, я испугался, что меня действительно могут заподозрить в связях с преступниками. Поскольку я и раньше подумывал о дезертирстве, то не стал долго размышлять и направился следом за «беретами». Так я очутился за пределами укрепрайона, а через месяц уже любовался Старым Светом.
— Убедительно, — замечаю я. — Ну а дальше все еще проще: пробуждение совести, раскаяние в былом бездействии и святая месть. Не так ли, сержант?
— Верно, капитан, — расплывается в восторге Фишер. — По ночам меня стали мучить кошмары, я не мог простить себе тогдашнего малодушия, даже собирался на нервной почве покончить с собой. И вот однажды, словно во сне, внутренний голос шепнул мне…
— Хватит, — останавливаю я сержанта. — Относительно кошмаров и внутренних голосов при случае побеседуешь с нашими психиатрами, меня интересует другое. Значит, ты твердо решил следовать рецептам Голдкремера?
— Не понимаю вас, капитан. Я просто решил во всем признаться… чистосердечно и ничего не утаивая. Я не убийца, а всего лишь судья, который вынес и привел в исполнение приговор настоящим преступникам. Я готов за это ответить.
— Что ж, Фишер, поступай как знаешь. Каждый живет своим умом или чужим умишком. Прощай.
Мне больше не о чем с ним говорить. Да и о чем можно говорить с человеком, который только что вынес себе смертный приговор?..
В коридоре Крис прислоняется к стене, скрещивает руки на груди, облегченно вздыхает:
— Капитан, ты вовремя увел меня от этого щенка. Еще немного — и я задушил бы его собственными руками. Ну и падаль!
— Каждый хочет жить, лейтенант, и использует все доступные возможности. Никого не волнует, что при этом он подставляет под удар другого. Собственная шкура дороже всего.
— Не могу себе простить, что не прихлопнул Фишера при задержании. Сколько сил и нервов мы сберегли бы.
— Кто мог знать, что наш юный сыщик испортит всю обедню?
— Стажер здесь ни при чем — один прицельный выстрел я все-таки произвел. Если бы днем не перебрал в баре и вечером не тряслись руки, Фишер уже гнил бы на помойке.
— Ладно, Крис, не вороши прошлое, подумаем о настоящем. Если по нашей вине Голдкремеру с помощью простофили Фишера удастся облить грязью наше ведомство, а в его лице всю армию, чины из Пентагона зададут хорошую взбучку нашему шефу. А тот, как обычно, сторицей отыграется на нас.
— Это точно. В армии все идет по инстанциям.
— Чтобы этого не случилось, нам необходимо исправить одну-единственную ошибку. Именно мы допустили, что Фишер остался жив и сейчас треплет всем нервы, давай сами и исправим это маленькое упущение. Не удалось заткнуть ему глотку с первой попытки — сыграем на старых козырях еще разок.
Лицо Криса слегка проясняется.
— Есть конкретные предложения?
С улыбкой хлопаю напарника по плечу.
— Конечно. Предложение щекотливое, хотел бы прежде заручиться поддержкой шефа. Не составишь мне компанию в этом походе?
— Куда денешься? Вместе наследили, вместе и отмывать, — невесело заключил Крис.
— Выше голову, лейтенант, — подбадриваю я. — Еще утрем нос хитрым адвокатам и сделаем это красиво.
Полковник как обычно, сидит за столом, листает стопки документов. Мы с Крисом почтительно замираем у двери.
— Разрешите, сэр?
— Привет, парни. Присаживайтесь.
— Спасибо, сэр, — отказываюсь я. — Заскочили к вам на пару минут.
— Слушаю вас.
— Вчера адвокат Голдкремер, защищающий подследственного Фишера, получил разрешение на встречу с подзащитным. В связи с этим мы хотели с вами поговорить.
— Я знаю об этой встрече, капитан, — спокойно звучит голос начальника отдела. — Как и то, что вы сами только что беседовали с Фишером и чем этот разговор закончился.
— Поэтому мы пришли к вам, сэр. В связи с приездом адвоката в наших с лейтенантом планах произошли изменения. Раньше мы считали, что Фишер в силу безвыходности положения примет предложенную нами игру и признает причастность в свершении только последних преступлений… я имею в виду убийства в нашем городе.
— Вы всерьез верили в реальность этой затеи? — брови полковника лезут вверх.
— Я считал, что подобная игра возможна, и, навязывая ее Фишеру, ничем не рисковал. У него имелся единственный путь к спасению: тот, который предлагался. Он клюнул, но прибытие Голдкремера спутало все карты. Каждый подследственный больше верит адвокату, чем следователю.
— Естественно. Фишер уверен, что Голдкремер заботится в первую очередь о его интересах. Кстати, что думаете по этому поводу вы, капитан?
— Голдкремер — не просто адвокат, он — король сенсаций и глава конторы. Даже если он не спасет Фишера от электрического стула и проиграет процесс как защитник, он засыплет обывателя ворохом разоблачений, сенсаций, устроит вокруг дела такую шумиху, что в его заведении не будет отбоя от клиентов.
— Да, капитан, вы рискуете иметь счет в вашем поединке с доктором Голдкремером ноль — два, не в вашу пользу. Вначале вы упустили из виду его пробивную способность и возможность влиять на Фишера, сейчас недооцениваете его коммерческий размах.
Полковник трогает щеточку седеющих усов, достает из ящика стола тоненькую серую папку.
— Едва вы, капитан, сообщили о появлении на вашем горизонте Голдкремера, я рекомендовал редакторам местных изданий не печатать о деле Фишера ни строчки без моего ведома. Поскольку никто не желает наживать в нашем ведомстве врага, редакторы пошли мне навстречу. Вот первый результат…
Полковник бросает лист на стол, брезгливо шевелит пальцами.
— Это заметка, которую Голдкремер вчера вечером отправил в редакцию одной квакерской газеты своему приятелю. Не будь моей рекомендации, ее напечатали бы уже сегодня. В ней всего лишь перечисление и систематизация уже известных публике преступлений Фишера, пережевывание хитроумных «почему» и «зачем», предположения — так ли виновен Фишер, как кажется на первый взгляд. В самом конце заметки, указывая, что он защищает не преступление и преступника, а человека и гражданина, Голдкремер обещает в следующей публикации вернуться к личности самого Фишера, а заодно осведомиться у читателя, как бы тот поступил на месте подзащитного доктора, окажись в сходной с сержантом обстановке. Словом, интригующее начало с обещанием не менее захватывающего продолжения.
— Как и всякий адвокат, он привлекает к своему делу внимание публики и подогревает ее интерес, — вступает в разговор стоящий рядом со мной Крис.
— Лейтенант, такие, как Голдкремер, ничего не подогревают, они сразу разводят костры. Вчера вечером доктор звонил в свою контору, дал задание клерку срочно вылететь к матери Фишера — собрать перечень нужных адвокату материалов у нее и соседей. А заодно доктор связался с приятелями в полиции и ФБР и попросил их узнать доступные им подробности о военной службе Фишера… Пусть сорок соседей божатся, что Фишер с детства хулиган и подонок, начал с трех лет курить, с пяти пить, с семи соблазнять знакомых девочек. Пусть лишь его мать и тетка подтвердят, что это был пай-мальчик с голубыми глазами и золотистыми волосами, который однажды перевязал перебитую лапку бездомной кошке и по дороге в школу скармливал зимой половину завтрака голодным птичкам. Я отброшу сорок ненужных мне показаний и оставлю только те, что с младенческих лет рисуют Фишера ангелом во плоти.
А дальше херувим Фишер попадает в действующую армию во Вьетнаме, и что же там видит? Здесь я напомнил бы публике о событиях в Сонгми, о случаях неповиновения и дезертирства, о десятках тысяч официально выявленных алкоголиков и наркоманов. Заодно я проехался бы по адресу наших летчиков-контрабандистов, доставляющих на своих самолетах наркотики и отчисляющих за это определенный процент выручки таможенникам; вспомнил бы, что каждый пятый доллар нашей помощи южному режиму разворовывается. И конечно, подтвердил бы это цифровым материалом из наших официальных источников и правительственной прессы… Удивительно ли, что кроткая овечка Фишер, поварившись несколько месяцев в этой каше, сам стал невольным преступником? Раз так, он — лишь жертва слепых обстоятельств и условий, царящих в армии, и поэтому главный виновник случившегося — это мы, военные, своей системой воспитания и моралью рождающие таких чудовищ, как Фишер.
Словом, подборка моих материалов стала бы хорошим плевком в лицо всей армии, не говоря уже о том глупейшем положении, в котором очутились бы мы, контрразведчики, пришедшие к выводу, что на денежный транспорт напали партизаны.
Полковник замолкает, переводит дыхание. Нервным движением пальцев отодвигает папку.
— Вот так, в общих чертах, я построил бы линию защиты Фишера в прессе. Уверен, примерно так же поступил и Голдкремер. Его клерк уже на полпути к родным Фишера, его знакомые в ФБР и полиции ищут лазейки к сослуживцам сержанта, чтобы разнюхать о нем как можно больше. И страшен нам не Голдкремер с его сверхбурной деятельностью, наша единственная угроза — Фишер. Без него адвокат со всеми своими связями — ничто, без показаний сержанта он ноль, ему попросту нечего у нас делать. Если завтра Фишера не станет, исчезнет и Голдкремер, поскольку я прикажу тотчас вышвырнуть его из отдела.
Полковник говорит медленно и спокойно, не дает указаний, не приказывает, просто рассуждает вслух. Но мы давно работаем с ним вместе и не можем ошибиться в оценке происходящего.
— Вы правы, сэр, — соглашаюсь я. — Фишер становится слишком опасным. Как раз по этому поводу мы и хотели поговорить.
— Слушаю.
— Сэр, прошу вашего согласия перевести подследственного Фишера в военный госпиталь, соблюдая, естественно, все меры предосторожности. О перемещении раненого из камеры в нормальное медицинское учреждение ходатайствует военный врач, наблюдающий Фишера. Как следователь, ведущий дело Фишера, поддерживаю это ходатайство.
Полковник не мигая смотрит мне в лицо, затем отводит глаза в сторону. Поправляет кончики усов.
— Капитан, ваша мысль мне нравится. Особенно то, что вы намерены перевести подследственного именно в госпиталь, а не в наш тюремный лазарет. Обычно контрразведку представляют чуть ли не варварами, пусть после этого гуманного акта кто-нибудь заикнется, что мы не заботимся о здоровье арестованных.
ЛЕЙТЕНАНТ
Мне всегда нравился кабинет капитана Стива Коллинза. Просторный, светлый, с большими окнами, смотрящими на юг… ничего лишнего, все, что нужно, под рукой. Однако сегодня я чувствую себя в нем не совсем уютно, причина — присутствие в кабинете адвоката Голдкремера. Важно развалившись в кресле, он сидит напротив капитана, я, как бедный родственник, расположился в углу за низеньким журнальным столиком.
На лицах капитана и адвоката улыбки, оба внешне полны взаимной приязни, со стороны можно подумать, что после долгой разлуки встретились два друга.
— Извините, что вынужден снова вас беспокоить, — ласково проговорил Голдкремер, протягивая Стиву несколько бумаг. — Мне опять разрешена встреча с моим подзащитным и вашим подследственным. На этот раз не наедине, и я хотел бы узнать, кто из сотрудников отдела составит мне компанию.
Капитан внимательно перелистал поданные бумаги, осторожно положил их на край стола, растянул губы в широкой улыбке.
— Ах, доктор, вы совсем не цените свое драгоценнейшее время, — доверительным тоном произнес он. — Пока вы старались добыть разрешение, у нас в отделе случилось происшествие.
— Оно в какой-то мере касается меня?
На лице адвоката все та же добродушная улыбка, голос полон патоки, однако глаза уже насторожились. Голдкремер в ожидании ответа подался корпусом вперед.
— Пожалуй, — с обворожительной улыбкой ответил Стив, развязывая тесемки на одной из папок, громоздящихся перед ним. — Впрочем, судите сами. Сегодня ночью мой подследственный и ваш подзащитный Ларри Фишер умер.
Лицо адвоката моментально обескровело, стало белым как мел. На нем четко обозначились синие, плотно сжатые губы.
— Не понял, — буркнул Голдкремер, — вчера вечером я справлялся о здоровье Фишера, и мне ответили, что дело идет на лад. Что же случилось?
— Ничего особенного, просто Фишер — обыкновенный наркоман. Попав в госпиталь, он не рассчитал сил и ввел в себя ломовую дозу. А поскольку бедняга потерял изрядно крови и почти дышал на ладан, сердце не выдержало. Жаль!.. Если угодно, вот акт медицинской экспертизы, а это снимок шприца, которым был сделан укол. Вот отпечатки пальцев Фишера, обнаруженные на поверхности шприца. — Капитан лениво протянул и положил перед адвокатом папку. — Здесь же протоколы показаний бывших сослуживцев Фишера по роте, а также его соседей по палате в госпитале. Сослуживцы сообщают, что Фишер еще во Вьетнаме пристрастился к порошку.
Папка серела на краю стола прямо перед адвокатом, однако тот даже не притронулся к ней. Глаза Голдкремера холодно уставились в лицо улыбающегося капитана.
— Как могли попасть к нему наркотик и шприц?
— Элементарно. В госпитале полно больных, вернее, лентяев и симулянтов, за ними ухаживает целое стадо обслуги, в том числе гражданский персонал. И если пьяницы — все поголовно, то наркоманов среди них чуть меньше — процентов эдак семьдесят — восемьдесят. Сержант попал в родную стихию и сразу решил этим воспользоваться. Но ему не повезло, полученное удовольствие оказалось последним в его жизни.
— Капитан, — медленно произнес адвокат, оставляя портфель в покое, — после моей встречи с Фишером я, конечно, ждал ответного хода с вашей стороны. Но я даже не мог предположить, что вы решитесь попросту убрать его. Вы же пошли на такой риск. Завидую вашей смелости и уверенности в своей безнаказанности.
— Что вы, доктор, какая это смелость, — располагающе улыбнулся Стив. — Элементарная разумная предосторожность, к которой меня вынудили именно вы. Кто знает, что мог наболтать сержант, попав под ваше влияние и начав играть против меня. До встречи с вами он делал ставку на меня, потом поставил на вашу карту. Я почти заставил плясать его под свою дудку, вы перехватили инициативу. А поскольку наши интересы диаметрально противоположны, мне и пришлось принять в целях самозащиты экстренные меры.
— Значит, капитан, — прошипел адвокат, — вы и не пытаетесь отрицать, что смерть Фишера — не случайность?
Голдкремер вытянул вперед шею, готовый пронзить капитана взглядом насквозь. К чему такие эмоции, доктор! Еще вчера ты был для нас опасен, а сегодня напоминаешь змею, которой вырвали ядовитое жало. Шипеть — можно, однако ужалить — увы…
Удобно развалившись в кресле-вертушке за своим столом, я насмешливо взирал на взбешенного адвоката.
— Доктор, мы не дети, каждый из нас считает себя умным человеком. Можно ли разубедить нас в выводах, к которым мы пришли? По-моему, это бесполезное занятие. Останемся же при своих мыслях.
— Верно, капитан, мы далеко не дети и отлично все понимаем. Ваши сотрудники пытались прикончить Фишера еще раньше, при аресте. Тогда вы погнались сразу за двумя зайцами: хотели одним махом избавиться от Финна, убив его руками сержанта, и от самого Фишера, пристрелив его чуть позже, якобы при попытке к бегству. Разве не так?
— Разве плохой ход? — парировал Стив. — Я уверен, доктор, что вам удалось вытянуть из бедного сержанта все, что хотелось, и вы знаете все детали дела не хуже меня. Именно поэтому я и решил так с вами пооткровенничать. Разве можно было тогда в моей ситуации придумать что-либо разумнее?
— Вы правы, то был блестящий ход, — согласился адвокат. — К тому времени из всей банды налетчиков остались в живых только Финн и Фишер. Если бы вам удалось избавиться сразу от обоих, дела Фишера вообще не существовало бы. Я уверен, в таком случае вы без всяких затруднений доказали бы, что беглый сержант-наркоман сводил с потерпевшими личные счеты и при аресте погиб сам. Банальная уголовщина. Я прав?
— Доктор, вы попали в десятку. Можно подумать, что дело Фишера мы расследовали вместе.
Адвокат не унимался.
— Когда же сержанту удалось избежать расставленной ловушки, вы решили заткнуть ему рот другим способом: заставить говорить то, что нужно вам.
— Верно. Но теперь Фишер уже не скажет ничего, и мы напрасно тревожим его память. С сегодняшнего дня его дело прекращено и сдается в архив. Думаю, никто о Фишере больше не вспомнит. Разве мало кругом маньяков-убийц, не говоря о наркоманах и дезертирах? Причем в отличие от нашего покойного сержанта, еще здравствующих?
— Согласен, этого добра у нас с избытком. Но Фишер не только преступник, он — жертва преступления, совершенного вами, чинами контрразведки. Вы не желали выносить сор из избы и боялись признаться в фабрикации фальшивых дел типа того, что состряпали ваши коллеги во Вьетнаме и блестяще закончили вы этой ночью в госпитале. Вы, спасая честь мундира, скрываете от общественности полное моральное разложение армии, воспитывающей в своих рядах бандитов, без угрызения совести убивающих своих же товарищей-солдат.
После такого заявления я не выдержал:
— Доктор, позвольте нашими делами заниматься нам самим. Врачуйте свои болячки, а наши проблемы оставьте нам. Или пример Фишера вас ничему не научил?
Голдкремер язвительно усмехнулся:
— Пошлый шантаж! Запомните, я — не Фишер! Или вы считаете, что контрразведка никому не подотчетна? Что ее чины могут творить все, что им заблагорассудится? Что они всесильны и на них нет управы? Ошибаетесь! Я докажу это!
— Вы неудачно пошутили, Голдкремер, — неожиданно раздался голос начальника отдела.
Я сидел спиной к двери и, увлеченный полемикой между Стивом и адвокатом, не слышал, когда полковник вошел в кабинет. Наверное, это случилось только что, иначе он принял бы участие в разговоре раньше. Шеф был слишком самолюбив и весьма ценил свое время, чтобы хоть минуту довольствоваться скромной ролью слушателя в любом споре, тем более между своими подчиненными и малоприятным ему адвокатом.
— Я и не думал шутить, — с вызовом ответил Голдкремер.
— Думал не думал… разве это важно? Важно, что ваше заявление нельзя воспринимать всерьез. Объясняю почему. — Полковник глянул на часы. — Голдкремер, я дорожу временем и на разговор с вами могу потратить не больше пяти минут. Поэтому буду краток.
— Мне будет интересно выслушать вас.
— Голдкремер, вы — бизнесмен и человек дела, у вас богатый опыт и мертвая хватка. Берясь за дело Фишера, вы рассчитывали неплохо заработать на его сенсационности. Однако контрразведке сенсации совершенно не нужны, наоборот, нас устраивает полнейшая тишина. Поэтому вы опоздали: все, что требовалось сказать и домыслить по этому делу, уже сказано и домыслено до вас; все, что необходимо было вскрыть и разоблачить, уже вскрыто и разоблачено моими сотрудниками. Дела Фишера уже нет, самого сержанта тоже, и на этом мы намерены поставить точку. А если вы, Голдкремер, где-нибудь что-либо ляпнете или напечатаете, мы заставим вас замолчать, но уже не душеспасительной беседой. Поверьте, у нас есть средства намного действеннее.
Тогда вам никто и ничто не поможет: ни ваши родственники и знакомые, ни ваши связи, ни деньги и общественное мнение. И вот почему. Думая лишь о себе и желая заработать на деле Фишера как можно больше и любой ценой, вы упустили из виду главное. Рассчитывая очернить армию и этим отчасти смягчить вину своего подзащитного, вы собирались швырнуть в наш огород несколько камешков. Но задумывались ли вы о том, куда и в кого они в конечном счете попадут?.. Армия, Голдкремер, не рождается сама по себе в стеклянной колбе, она плоть от плоти общества. Обвиняя армию в том, что Фишер стал бандитом и убийцей, вы забываете, что он пришел к нам не из родильного дома, а воспитывался до этого семьей и школой, церковью и улицей, испытав на себе воздействие всех наших общественных институтов и политической системы в целом.
— Мы все сидим в одной лодке, — звучал голос полковника. — Думая, что швыряете камень только в нас, военных, вы ошибаетесь — вы бросаете его заодно в себя и своих друзей. Мы все — одно целое, мы — это конгресс и полиция, президент и бизнес, армия и право, мораль и политика, на нас лишь мундиры различных ведомств. Мы можем иногда не понимать друг друга, в каких-то мелочах расходиться между собой, между нами могут возникать недоразумения и противоречия, но перед лицом общего врага мы обязаны быть едины… Сейчас этот враг — Фишер! Мы взрастили его, вложили в руки оружие и послали воевать за наш образ жизни, разрекламировав его всему миру как образец нашей свободы и демократии. Но чего в таком случае стоят наши образ жизни и демократия, если их защищают такие подонки, как Фишер и его дружки? Какова цена нам самим, если наша общественная и политическая система порождают подобных им чудовищ?
Именно поэтому не стало ни дела Фишера, ни его самого. А если вы, Голдкремер, заботясь лишь о собственной наживе, захотите извлечь из могилы его дух, вас ждет такая же судьба. И никто не придет вам на выручку, не протянет руку помощи. Потому что вы выступили против того, что именуется нашим с вами обществом, нашим кланом, и это он будет карать вас как отступника… Вот все, что я хотел и считал нужным вам сказать. Теперь хорошенько об этом подумайте и сделайте выводы.
Полковник смолк, снова глянул на часы. Поднялся со стула возле двери, шагнул к ней. Подхватив с коленей портфель, Голдкремер чуть ли не вприпрыжку подскочил к нему, пристроился сбоку:
— Сэр, у меня к вам просьба.
— Если она связана с делом Фишера, рекомендую обратиться к заведующему архивом, — отрубил полковник.
— О нет, сэр, дело Фишера меня нисколько не волнует, — подобострастно защебетал адвокат. — Я пришел к выводу, что не следует тревожить его память. Вы справедливо заметили, что все мы в одной лодке и боремся с одними и теми же враждебными волнами. И одна из них сегодня — возможная шумиха вокруг личности Фишера и его деяний… Моя просьба будет совсем иного порядка…
Полковник остановился, в упор посмотрел на адвоката:
— В таком случае запишитесь на прием у дежурного.
— Благодарю, сэр, — склонил голову адвокат…
Оставшись со мной вдвоем, капитан подошел к сейфу, достал из него бутылку виски, пару стаканов. Поставил стаканы на поднос с остывшим кофе, уселся за журнальный столик напротив меня. Налил себе треть стакана, залпом выпил. Снова наполнил стакан до половины и протянул бутылку мне.
— Выпей. Как говорил мой отец, за упокой души безвременно усопшего раба божьего.
Это что-то новенькое, капитан. Пить за сопляка-подследственного, доставившего нам столько неприятностей, пусть даже и мертвого? Странно… А может, у тебя тоже на душе кошки скребут? И по той же причине, что и у меня? А почему бы и нет?
— С удовольствием.
Я налил стакан доверху, начал медленно цедить виски сквозь зубы. Не допив, поставил стакан на поднос, наклонился через столик к капитану:
— Кажется, мы неплохо поработали с делом Фишера. Хорошо начали еще лучше закончили.
— По-моему, тоже, — безразличным тоном ответил Стив.
— Тогда скажи, отчего у нас обоих паршивейшее настроение? Ведь ты тоже не в своей тарелке. Разве не так?
— Прости, усталость. В последние дни пришлось много поработать, а тут еще Голдкремер нервишки пощекотал.
— Неправда, капитан, — тихо возразил я. — Утром мы пребывали в отличном настроении, а сейчас обоих подменили. И все за последние несколько минут.
— Вижу, ты сегодня в пике прозорливости, — медленно с расстановками проговорил капитан. — Может, сам и объяснишь, что с нами случилось?
Я решил пойти напролом. Почему шеф может позволить себе вслух и откровенно выражать собственные мысли, а я нет? Только потому, что он — полковник, а я — лейтенант? Ну уж нет, я такой же гражданин Соединенных Штатов и офицер контрразведки, как и он. Такой ли? Разве мне только что не преподали наглядного урока на тему — кто есть кто?..
— Постараюсь. Кстати, капитан, кем был твой отец? — уточняю я.
— Пастором, — без запинки, словно он только и ждал этого вопроса, ответил Стив. — Таких у нас тысячи.
— А мой клерком. Банковским клерком, как и отец Фишера. Мелкота. У сержанта не было ни своей адвокатской конторы, как у папеньки Голдкремера, ни отца — отставного генерала, как у нашего шефа-полковника. И сегодня, выслушав тирады начальника, я задал себе один занятный вопрос…
Я большим глотком допил остатки своего виски, отхлебнул холодного кофе, вплотную придвинулся к Стиву.
— Капитан, к какому клану принадлежим я и ты? В чьей лодке и с кем мы сидим? Есть ли в лодке полковника и доктора Голдкремера место для нас, сыновей пастора и банковского клерка? Кто мы для них — друзья, единомышленники, люди одного с ними круга? Или мы представляем для них интерес лишь до тех пор, покуда держим в узде Фишеров, то есть всех тех, кто должен приумножать силу и господство их клана, а в случае необходимости уничтожать их врагов? Как они поступят с нами, если мы когда-нибудь станем для них бесполезны или опасны: ласково пожурят и одернут, как доктора Голдкремера, или без лишних слов уберут со сцены, как Фишера? Ответь, капитан.
В уголках рта Стива застыли две жесткие складки, глаза безучастно смотрели в стену. Пальцы осторожно вертели пустой стакан на подносе.
— Хорошо, постараюсь ответить, — начал он. — Ты сейчас вспомнил, кем были наши отцы. Уверен, что этот вопрос зададут себе и Голдкремер с полковником, прежде чем уступят кому-нибудь место в их лодке. Так что, Крис, у каждого в этом мире собственная лодка, и не всегда стоит менять ее на другую — можно потерять свою и не попасть в чужую.
Я часто завидовал умению Стива четко формулировать свои мысли и давать исчерпывающие ответы на любые, даже самые каверзные вопросы. На высоте он оказался и сейчас.
Я разлил остатки виски по стаканам, поднял свой.
— Капитан, выпьем еще раз за Фишера. Бедняга оказался скверным пловцом, но — ей-ей! — он выпал из нашей с тобой лодки…
____________________
СЕРБА Андрей Иванович родился в 1940 году в станице Петропавловской на Кубани. Закончил юридический факультет МГУ.
Печататься начал в 1980 году, опубликовав в журнале «Искатель» историко-приключенческую повесть «Выиграть время». Через год в журналах «Искатель» и «Вокруг света» печатаются уже две его повести — «Взрыв на рассвете» и «Никакому ворогу». Затем повести автора появляются в журнале «Советский воин», в библиотечках журналов, в приключенческих сборниках издательств Министерства обороны, «Патриот», «Московский рабочий». Две повести А. Сербы были опубликованы в Российском творческом объединении «Отечество».
В тематике повестей автора можно выделить три направления: историко-приключенческое, военно-патриотическое и детективное. К какой бы теме не обращался автор, его произведения отличают глубокий патриотизм и отчетливо проводимая мысль о преемственности воинских традиций всех поколений защитников нашего Отечества.
Он стоял у истоков создания Союза казаков — был членом подготовительного комитета учредительного съезда казаков, председателем мандатной комиссии съезда. Сейчас является руководителем пресс-группы Союза казаков, печатается в периодике и региональных казачьих изданиях, готовит к публикации сборник о казачьей истории и приключениях.
И при этом остается одним из авторов РТО «Отечество».
Дмитрий Сергеев
След на лыжне
Детективная повесть

I
Участкового разбудил стук по стеклу. Стучали не громко, но настойчиво. Иван отбросил одеяло. Крашеные половицы леденили босые ступни. Синие сугробы искрились под луной. Три мутных тени маячили у завалинки. За двойными рамами не было слышно голосов. Иван открыл форточку.
— Послухай, Ваня, Иван Ильич... — пьяным голосом бормотал старик Ступин.
Участковый знал: у Ступиных свадьба, младшую, Октябринку, выдают за Анкудинова. Вспомнили про него, пришли звать.
— Не, деда. Нельзя мне. Трезвость нужно блюсти. А то сегодня свадьба, завтра — крестины. Утречком... Когда поднимутся, забегу, поздравлю молодых.
— Да ты послухай, Ваня, — перебил его Ступин. — Жених-то, Кеха, пропал.
— Как пропал? Говори толком.
— Я и говорю. Ты двери отопри, а то много через форточку натолкуем.
Участковый натянул брюки, обулся на босу ногу и вышел в сени. Полуночники ввалились в избу. Со Ступиным пришли Кешины дружки. Говорил старик, они поддакивали и кивали. Строгая серьезность была на их захмелевших лицах. Парни понемногу начинали трезветь. Впрочем, участковый не приглядывался — так ему показалось: начали трезветь. И невозможно было разглядеть этого при умирающем свете огарка. Хоть дизелист накануне и посулил крутить движок всю ночь ради свадьбы — электрического света давно уже не было...
Иван зажег выручалку — десятилинейную лампу. За окнами стало черно.
— Седайте, — предложил Иван, указывая гостям на лавку.
На миг его взгляд задержался на одном из дружков. Изможденное лицо с запавшими глазами показалось незнакомым. Но уже в следующее мгновение участковый узнал парня — то был Юра Шиляк, леспромхозовский механик.
— Дело-то, вишь, особое, — начал объяснять Ступин, примащиваясь на лавку. — Кеха-жених, стало быть, он... этакий, — дед повертел растопыренными пальцами у себя над ухом. — Он завсегда был с вывертами. Мало ему по-людски на свадьбу явиться — вздумал на лыжах. Дескать, лыжи — по-современному, двадцатый век. Будто этот... олимпиец. Пока, мол, в объезд крутите, на сопку взбираетесь, я — прямиком через хребет, опережу вас. Это он имя говорил, — указал Ступин на молчаливых дружков. — Сам прийти поленился. Ты бы, Ваня, фортку захлопнул. Вона как сквозит — занавески полощет. Опять надует мне в ухо, как под Николу зимнего.
Иван подошел к окну, закрыл форточку. Просторные без портянок сапоги хлябали на ногах. По пути взглянул на Шиляка. Ничего примечательного, особенно сейчас, в лице механика не было — такой он всегда. Красавчик! Ему бы еще голос да в телевизор его пустить — девки бы вовсе с ума посходили. Вот только изможденный он, будто уработался. Небось успели подзаложить, хотя и без жениха свадьба.
— Ну и что дальше, деда? Кеха на лыжах побег, невтерпеж стало... Издалека?
— Из Петляево, от станции. Сам через сопку на лыжах, а их, — Ступин опять показал на дружков, — ко мне в кошевку. Костюм свой новый имя бросил, дескать, на месте переоболокусь.
— Думали, правда, опередит нас. Куда там. — Голос у Юры Шиляка совсем не песенный — с хрипотцой. Один только голос и подводит парня. Другой бы ему голос — и артист.
— Час-второй подождали, — подхватил Ступин. — Гости истомились. Без жениха какое застолье? В Петляево звонили, справлялись, может, беда какая: лыжи сломал — назад воротился или того хуже, ногу подвернул...
— Ну ты сказанешь, деда. Кеша Анкудинов ногу подвернул? — Иван потянулся, зевнул. — Явится. К Октябринке он и без ног приползет. Идите-ка вы, братцы, к себе — я досыпать лягу.
Неожиданная мысль пришла участковому: дед Ступин и Кешины дружки сговорились разыграть его, чтобы заманить на свадьбу. Гости сейчас ждут их, заранее хохочут над облапошенным участковым. Знают, что иначе его не заманишь на гулянку — будет отнекиваться.
— Ну ты, однако, и этот... как его — бюрократ, — рассердился Ступин.
«Нет, не разыгрывают», — решил Иван.
— Думаешь, полушубок тебе казенный дали, так и власть стал? Ты должен представить жениха в лучшем виде. Октябринка с ума сходит, взбрело ей: «Убили Кешу!» Ум у нее помутился. Шутка ли, жених пропал? Такое разве в спектакле бывает. А для нее какой спектакль? Свадьба, поди.
— Вот то-то и оно — не спектакль. Ладно уж, все равно теперь не уснуть.
Иван сбросил сапоги, начал обуваться заново. Гости вышли из дома, слышно было — топтались, разговаривали во дворе.
За перегородкой скрипнула койка — тетка Ира поднялась с постели. Полуночники разбудили и ее.
— Можно к тебе, Ваня? — заглянула она в дверь и вошла, не дожидаясь разрешения. — Ты, Ваня, хорошенько приглядись к механику,— зашептала она. — Он загубил Кеху, боле некому.
— Ладно, теть Ира, пригляжусь, — обещал Иван.
С прошлой весны, когда Юра Шиляк пристрелил ее шкодливого кота Тимошку, тетка склонна была подозревать леспромхозовского механика во всем, что было и чего не было.
— Ты бы и сам поостерегся, Ваня.
— Ладно, остерегусь. Вот он мой сторож, — хлопнул Иван по кобуре.
Тетка покачала головой, явно не довольная легкомыслием своего постояльца.
* * *
В доме Ступиных было не весело, будто не на свадьбу сошлись, а на поминки. Октябринка, измученная и заплаканная, все еще в свадебном платье, забилась в угол, продолжала реветь. Ее по-детски обиженное лицо выглядело некрасивым. Измятую фату она держала в руке вместо платка, вытирала ею слезы. Иван только взглянул на нее, расспрашивать не стал. Ничего не могла она прибавить к тому, что он уже знал: своего жениха Октябринка не видела со вчерашнего вечера.
Из гостей лишь самые бесцеремонные сидели еще за столом — им все равно было, с женихом или без жениха.
Мать невесты показала участковому ненадеванный Кешин костюм, купленный накануне. Никаких других вещественных доказательств, что жених был, в доме не нашлось.
Дед Ступин и дружки выжидающе смотрели на участкового. Иван притворился, что не понимает их. Ему хотелось, чтобы кто-то другой, не он, сказал: «В Петляево надо ехать — оттуда искать по следу».
— И гадать нечего — едем в Петляево, — сказал наконец Ступин.
— В Петляево так в Петляево, — принял Иван подсказку.
— Оттуда по следу искать надо.
— Нету его! Сердце мое чует — нету, — запричитала вдруг за стенкой Октябринка. И понесла несусветное: — Я его убила! Ой, какая я подлая! Под-ла-я!
Подружки утешали ее, уговаривали.
Пока Ступин распрягал коней, Октябринкина мать поднесла Ивану.
— Да ты че придумала, Фекла Андреевна. На службе я. Нельзя.
— А то я не понимаю — на службе. Так ведь пока до Петляево доберетесь, тверез будешь. Выпей для сугрева.
— Разве что для сугрева, — уступил Иван.
Но только пригубил, как вспомнил, куда они сейчас поедут и с кем он там увидится.
— Не, — решительно отставил он водку. — Ты, Фекла Андреевна, не обижайся. Вот разыщем Кешу, доставим на место, тогда....
Дед Ступин шумно распахнул дверь, запустил в избу холод.
— Готовы аспиды, — объявил он, хлопая руками в верхонках.
Кони у деда Ступина не свои — полагались ему как егерю. Больше-то в деревне почти не осталось лошадей. Вместо них завели мотоциклы, а кто и машину. Только сейчас, в морозы, редко у кого на ходу эта техника. Так что на конях они скорее прибудут в Петляево.
Иван сел в середку, с боков втиснулись дружки, оба в дохах. Дед устроился в передке. Медвежий тулуп на нем черной горой заслонил от участкового половину звездного неба.
Ельник начался сразу за поскотиной. Сквозь темную хвою мигали разноцветные звезды. Глухие пади утопали в заснеженной мгле. Лунный свет искрился, бежал по молчаливым сугробам. Тишина обступила проселок. Холод стремился навстречу кошевке из сумрака низин. Иван прятал лицо в поднятый воротник казенного полушубка. Дружки с обеих сторон привалились на него, захрапели. Он тоже было задремал под чистый звон одинокого колокольчика.
Внезапно встрепенулся, будто кто подтолкнул его в бок. Вспомнилось лицо Юры Шиляка, каким оно увиделось в первое мгновенье. Вернее, вспомнилось чувство, которое он испытал. Нечто странное и чуждое на одно лишь мгновение проглянуло тогда в знакомых чертах. Какая-то отрешенность, углубленность в себя. Таким Иван никогда прежде не видел Юру.
Впрочем, у него есть повод задуматься.
Сейчас сонный Юра Шиляк навалился на Ивана справа, тяжелая, безвольная голова давила на плечо. Иван плечом же отталкивал ее. Недолгое время Юра держался прямо, потом голова его снова начинала клониться.
Взбирались на гору. Лошади перешли на шаг, Ступин не понукал их. Впереди сквозь редеющий березняк из глубины синего неба пробивались мигающие огни — приносили на землю трепетный свет неведомых миров. В последнюю зиму Иван запоем читал фантастику. Не мирное ночное небо виделось ему над заснеженной тайгой, а чудный космический мираж.
Он встряхнулся. Нужно не об этом думать. Составить план, с чего начинать, когда приедут в Петляево. Сколько времени прошло с тех пор, как Анкудинов встал на лыжи? Часов семь-восемь! Март уже начался, а какой холодище. Все тридцать! Не меньше. Это днем десять-пятнадцать по сводке, а ночью... На Кеше свитер и лыжный костюм. За восемь-то часов можно в сосульку превратиться. Если с ним случилось что на лыжне, так только костер и может спасти. Да ведь сейчас в тайге и костер не вдруг разведешь. Было же в позапрошлом году — и не в марте, в мае — двое горе-охотников заблудились. Повалил снег, костер не смогли разжечь — все спички исчиркали впустую. Когда их нашли, они уже окоченели. Правда, то были не местные, приезжие, с запада. Кеша — коренной таежник. С ним такого не случится.
Подумав об этом, Иван начал поглядывать в сторону от проселка — не поблескивает ли где. Как раз здесь, на перевале, лыжня близко подходит к дороге. Но справа ничего не видно — одна темень. Зато слева начало светлеть. Снова посмотрел направо: березы и те кажутся черными. А чуть дальше в глубь леса — вовсе непроницаемо. Где-то в пади, на самом ее дне у наледи, сейчас клубится туман, ползет из низины воздух, пропитанный морозными иглами. Запросто можно окоченеть.
Нет! Что угодно, только не это. Не таков Кеша Анкудинов. Ивану тут же вообразился другой исход, куда более вероятный. Приедут в Петляево, а там их ждет новость — нашелся Кеха. Не снимая тулупов и полушубков, все четверо ввалятся в контору поссовета. На рабочем столе сидит Кеша Анкудинов. В одной руке — кружка с дымящимся горячим чаем, в другой — телефонная трубка. Кеша, не отрываясь от телефона, — весь поглощенный тем, что слышит в трубке, — кивает вошедшим, ставит кружку на стол, по очереди пожимает руки, продолжая изредка говорить что-нибудь невразумительное:
— Ну да... Так ведь... Ты должна понять... У меня...
А на другом конце провода, все еще не придя в себя, сотрясаясь от счастливых, облегчающих рыданий, никак не может совладать со своим голосом, что-то бессвязное, укоризненное наговаривает и наговаривает Октябринка.
— Ну вот, деда, принимай свою потерю, — скажет Иван.
И вдруг он заметит взгляд Юры Шиляка, кривую усмешку, скользнувшую по его губам. Сколько же воли и скрытой силы потребовалось тому, чтобы подавить свои чувства — обиду и ярость отверженного?
Еще два года назад кто бы мог предположить, что именно возле Октябринки будут увиваться двое таких парней. Да вокруг каждого из них сами девки могли табуниться. Девки не чета Октябринке. Будь на ее месте старшая сестра Светка — другое дело. Светка — красавица, под стать Юре Шиляку. А Октябринка... И смотреть не на что: ни ростом не удалась, ни лицом. А вот надо же — завлекла сразу двоих. А после, глядя на них, начали липнуть другие. Правда, у них шансов не было, все сознавали, что Октябринка выберет либо Юру Шиляка, либо Кешу Анкудинова. Большинство склонялось в пользу Шиляка. Анкудинов Кеша, хотя и бравый парень и умелец на все руки, но рядом с цыганисто кудрявым и чернобровым леспромхозовским механиком как-то тускнел. Но Октябринка предпочла Кешу.
Всего неделю назад состоялся между ними окончательный сговор, и свадьбу тогда же назначили скоропалительную. И в тот же вечер парни разодрались. За Иваном бабы прибегали, чтобы разнял. Жестоко дрались. Не из тех Юра Шиляк, кто может снести такую обиду. Бабы в деревне после такой драки так и поговаривали про Шиляка:
— Прикончит он Кеху. Из-за угла.
Почему-то все были убеждены: прикончит, и непременно из-за угла.
Но ничего не случилось. Буквально в канун свадьбы соперники помирились и вчера вместе ездили в райцентр. Юра Шиляк помогал жениху выбирать свадебный костюм и подарок невесте. Участковый все же задремал — укачало, когда кошевку покатило вниз по извивам длинного спуска. Открыл глаза внезапно — сани занесло на повороте, чуть не опрокинуло. Пробудились все трое. Дед Ступин, неповоротливо застывший в передке, оглянулся.
С косогора открылась низина, показались заспанные, придавленные снегом избы и немного поодаль за ними кривулина железнодорожной насыпи. Сквозь поредевшую темень красной головешкой светился огонь семафора. Откуда-то неразличимо приносило гул идущего товарняка.
Тишину нарушили собаки, забрехали все разом. Донесло сиплый гудок электровоза. Давно уже этот звук стал здесь обыденным, но все равно слуху таежника он чужд. Впрочем, это, может быть, потому, что Иван не привык к нему — в Усово хрип электровоза не слышно. Хоть напрямую от станции нет и десяти километров,
но Кедровый увал надежно заслонил их от шума, обычного на железной дороге.
Подкатили к дому Парамона Анкудинова, Кешиного дяди. Хозяин спросонок удивленно глядел на ранних гостей. Стосвечовая лампочка, висевшая без абажура и плафона, обжигала глаза. Хорошо им тут, рядом со станцией: в любое время суток свет. Прежде Ивану в голову бы не пришло позавидовать петляевцам. Это теперь, когда он поступил в университет на юридический заочный, ему понадобился свет по ночам.
— Где Кеха, жених? — не поздоровавшись с хозяином, накинулся на него Ступин. — Шутки играть вздумали, над Октябринкой изгаляться!
Он озирал избу так, словно и впрямь рассчитывал найти потерянного жениха, который запрятался где-нибудь в углу.
— Где ему быть? — недоумевал Парамон. — На свадьбе. Нас со старухой звал. Собрались было... — Но не договорил, махнул рукой, указывая в сторону светелки, где за ситцевой занавеской стояла кровать и где сейчас, судя по этому жесту, была хворая жена Парамона.
— На свадьбе! — возмутился дед. — К вам разве из конторы не прибегали, не сказывали — потерялся жених?
— Прибегали. Так не поверили. Думали, шуткуют.
— Шуткуют! — вовсе взорвался Ступин. — Нету Кехи, потерялся! Какая свадьба без жениха?
— Ладно, деда, не кипятись, — остановил его Иван. — Начнем по порядку.
Собственно, с чего следует начинать, он не знал. Отправил дружков на станцию, чтобы позвонили оттуда в Усово. Он еще надеялся, что Кеша отыскался.
Лишь теперь, когда дружки ушли, их шаги затихли в отдалении, и дед Ступин угомонился, не наседал больше на Парамона, из светелки стал слышен тихий голос тетки Дарьи:
— Вань, а Вань, — звала она.
Участковый откинул занавеску, прошел в комнату. Голова тетки Дарьи была повязана платком.
— Чего с Кешей? — спросила она.
— Найдется, — заверил Иван.
— Боюсь я, Ваня, худо бы не было. Эта бесстыжая стравила парней — обоим подмигивала, завлекала. Говорили ей: не доведет это до добра.
Иван помялся, переступая с ноги на ногу. Вот и тетка Дарья во всем винит Октябринку — стравила парней. Про себя подивился: откуда жене Парамона известно все. Не ее же молчун-муж приносит новости. А сама Дарья уже полгода не выходит из дому. Подружки навещают... И тут же пришло в голову, что вот точно так же тетке Дарье перескажут все сплетни про них — про него, участкового, и про учительницу из интерната Галину Александровну, Галю. И сегодня он сам даст повод для сплетен. От здешних женских глаз ничего не скроешь: все видят, обо всем догадываются. И никого он не обманет, сделав вид, будто свиделись они случайно, так обстоятельства сложились.
— И куда он спешил, ровно кто гнался за ним, — продолжала Дарья. — Времени не нашел заглянуть. Этого черта нездешнего послал родную тетку на свадьбу пригласить.
Иван не сразу сообразил, кого назвала она чертом — Юру Шиляка.
Вернулись дружки. Нового ничего не принесли. В Усово Кеша Анкудинов не появился. Медлить нельзя — нужно идти по следу, искать его на лыжне.
Теперь Иван уже рассуждал по-другому. Про себя ругал Ступиных и всех свадебных гостей. Нужно было немедленно, как только дед с дружками приехал в Усово, бить тревогу. Дотянули за полночь. Он и себя корил: отнесся к известию о пропаже жениха несерьезно, думал, с ним шутки шутят. Сразу надо было из Усово выйти кому-то по лыжне. Неизвестно, на каком отрезке с Кешей случилась беда. Что случилась беда, он теперь не сомневался.
С трудом дозвонился до районной милиции. Рассказал обстановку. За полтора месяца, как он заступил участковым, это был первый случай, когда ему пришлось звонить в район по срочной надобности. Иван изо всех сил старался не быть многословным, изложил только самую суть, коротко и ясно. По крайней мере, самому так казалось — коротко и ясно.
— Что собираешься делать?
— Идти по следу.
На другом конце провода немного помедлили, что-то взвешивали в уме.
— Лады, — немного спустя произнес дежурный. — Держи нас в курсе. Будем ждать звонка.
Кому вместе с ним идти по следу, было ясно — Юре Шиляку. Второй дружок Вася Коряжин на лыжах не ходок. Снаряжение попросить в интернате — не должны отказать.
— В понятые пригласим Хворостову Галину Александровну.
— Да забери ты их обоих, — взмолился дед Ступин. — А то Галку Хворостову придумал... Глазами будете друг на дружку постреливать.
— Ты, деда, говори, да не заговаривайся. Не на прогулку пойдем.
— Да мне, хоть с кем иди. Коней жалко.
Ночь была на исходе, вышли из дома Анкудиновых. Почти всюду топились печи. Пахло непривычной для тайги гарью: в Петляево, пользуясь близостью станции, многие жгли уголь, дровами только растапливали. Старую русскую печь почти нигде не увидишь — поубирали, сложили плиты. Неприступным оборонительным валом возвышалась на задах деревни насыпь — железнодорожная ветка вела к лесопогрузочной платформе. Сейчас там громоздился черный остов брошенного склада.
Учительницу Хворостову, как и рассчитывал Иван, застали дома: было воскресенье. Она давно поднялась. На столе перед ней лежала кипа ученических тетрадей. Рядом пустая кружка с остатками парного молока и надкушенная горбушка. Галя была в вязаной кофте, толстой суконной юбке в крупную клетку и в пимах-обрубках на босу ногу. Увидев нежданных гостей, застеснялась, спрятала ноги под стол.
— Мы к вам, Га... — участковый на мгновенье замялся: при посторонних неудобно было называть ее просто по имени. — Мы к вам, Галина Александровна, — сказал он. — Кеша Анкудинов потерялся.
— Кеша Анкудинов?.. — недоуменно спросила учительница.
— Женится он, — объяснил Иван. — На свадьбу вчера вечером вышел, еще засветло... — Он обернулся за поддержкой к Юре Шиляку.
— Засветло, — подтвердил тот. Помедлив, поправился: — Смеркалось.
— Все равно, вечером вчера, — с нажимом произнес Иван. — Вышел от вас на лыжах прямиком через Кедровый. А в Усово не пришел.
— Это что же такое? — Она поглядела на окно, на синие наплывы инея. Забыла про свои обрубыши, вышла из-за стола. — Где же он? Ой, да вы присядьте. Хоть на скамью. А то стулья принесу, — метнулась было в другую комнату.
— Никаких стульев, — замахал участковый руками. — Некогда рассиживать. Если вы согласны быть понятой, собирайтесь с нами. Выйдем по следу на лыжах. Вы у нас лучшая лыжница. И занятий у вас сегодня нету.
— Ну уж и лучшая, — запротестовала Галина Александровна. — Повезло: шестаковские не выставили своих. — Собрала со стола тетради, унесла в другую комнату. — Мигом переоденусь, — сказала из-за перегородки. — Ой! Это я так и щеголяла перед вами в пимах! Ужас!
— Ничего ужасного, — успокоил ее Иван. — Вам в пимах личит.
— Ой, какая же я дура! Тут человек потерялся...
Участковый тоже смутился: не время для этого. Больше всего неуместность их легкомысленного поведения подчеркивало сосредоточенное, неулыбчивое лицо Юры Шиляка. Он как стал у порога, так и не шелохнулся.
Вскоре вышла Галя. Лыжный костюм и красная спортивная шапочка сделали ее похожей на подростка. Сознавая ответственность выпавшей ей роли, она держалась серьезно.
— Мама! — крикнула она. Присутствие Галиной матери в доме выдавал только шорох по ту сторону заборки. — Я ухожу. Надолго.
Мать что-то сказала ей негромко. Вышли в сени. Галины лыжи были здесь.
— Смазывать не буду. По сегодняшнему морозу на старой смазке покатит хорошо.
— Нам с Юрой нужно лыжи раздобыть. Кто у вас в интернате ведает инвентарем?
— Ключи у меня. Я захватила. Найдутся для вас лыжи.
— Честно говоря, я на это и рассчитывал, — признался Иван.
— Подберем ли ботинки по ноге? — усомнился Юра.
Голос прозвучал негромко, с потугой, будто ему что-то мешало в горле.
— Подберем, — заверила Галя. — Акселераты в старших классах ростом не меньше вас.
Вышли за ворота. Посреди деревни, возле дома Анкудиновых, все еще стояла кошевка. Дед Ступин и Вася только показались из калитки. Стало много светлей. Можно было различить масть коней: коренник серый, пристяжка буланая. Ночью оба коня казались одинаковыми.
— Я с ними вернусь. Не смогу на лыжах, — внезапно заявил Юра.
— Почему? — поразился Иван.
— Не смогу, — не захотел объяснять Юра.
Что-то непонятное творилось с ним: он не смотрел в лицо участковому, отводил глаза.
— Ты же лыжник! Крепления бы не подвели, так...
— Я вторую ночь не сплю.
— Вторую?!
— Накануне ночью все дрова у Настасьи переколол. Она пристала: «Уедешь, а мне избу топить надо. Кто дров наколет? Колотые все сжег». Неловко стало — переколол ей всю поленницу, — объяснил Юра.
— Зачем же сразу всю? Целую ночь хлестался?
— Почти до утра. А утром с Кешей в райцентр подались...
— Не можешь, так не можешь...
Вдвоем смотрели вслед Шиляку. Тот спешил, боялся как бы кошевка не уехала без него.
Надо было что-то придумывать. Иван вовсе не прочь был пойти вдвоем с Галей, но ведь после сплетен не оберешься. И порядок требует. Да и мало ли что ждет их на лыжне.
На крыльце дома, мимо которого шли, Иван увидел охотничьи лыжи, подбитые камысами.
— Может быть, здесь и найдем понятого, — сказал он, сворачивая к чужой калитке.
Ему нужно было хотя бы попытаться. После в деревне будут знать и об этой калитке.
Видно, уже недавно утром через деревню прошел грузовик — глубокие вмятины от протекторов остались на снегу. А немного в стороне колея вовсе изжевана машинными колесами — здесь грузовик и развернулся. Чей это был дом, Иван не знал. В Усово и в Ельниках бывал у всех, а здесь на станции хорошо знал только живущих на старой улице. В новых домах народ постоянно менялся.
Из темного чулана пахнуло чем-то знакомым. Иван не стал задерживать на этом внимание. Распахнул дверь в избу и увидел кладовщика Вялых. Вот, оказывается, к кому они нагрянули. Теперь участковый не сомневался, что идти по лыжне им предстоит вдвоем с Галей — Вялых не пойдет. Тот стоял лицом к вошедшим, квадратные плечи заслонили свечной огарок. Почему-то электрический свет не включили. Из-за этого невозможно было разглядеть лица Вялых.
— Здравствуйте, Филипп Иванович, — сказал Иван и машинально пошарил рукой справа от двери — выключатель был здесь.
Вспыхнула лампочка. Узнав участкового, кладовщик побледнел.
— Ночью спали? — спросил Иван.
— Спал, — помедлив, ответил Вялых. — Чего же еще ночью делать?
Он покосился в угол за печь. Галя кинула взгляд туда же и увидела поблескивающие вороненые стволы ружья, прислоненные к стене. То ли на охоту собрался, то ли с охоты вернулся. Здесь не принято держать ружье на виду. Это приезжие, городские могут для форса повесить на стену, как украшение, а местные прячут подальше с глаз.
— А я вот не выспался, — сказал Иван. — Среди ночи подняли. В понятые хотим пригласить вас, Филипп Иванович. На лыжах отправимся по следу.
— По какому следу? — насторожился кладовщик.
— Анкудинов Кеша, жених, потерялся... — начал рассказывать Иван.
Услыхав в чем дело, Вялых внезапно обрадовался.
— Коли надо — какой разговор, — засобирался он.
— Вы бы чего на дорогу пожевали, — встрепенулась хозяйка. — Долго ли сготовить...
Она внезапно осеклась, Иван мельком перехватил недобрый взгляд, каким наградил свою супругу кладовщик.
— Люди по этакому делу собрались, а ты пристаешь! — укорил он.
Чуть ли не силком выпроводил гостей на крыльцо. Сам на минуту вернулся в избу — назад вышел с ружьем.
— Не привык в тайгу без нее, — похлопал он рукавицей по двухстволке.
Расстаться со своими унтами, сменить их на лыжные ботинки он наотрез отказался. С трудом подобрали ему лыжи с мягкими креплениями.
* * *
Сиреневый утренний разлив плавал над сопками. Невидимое еще солнце осветило тайгу, заголубели снега. Лишь в глубине падей неясно, густыми смутными волнами темнели сугробы. Лыжня между соседними деревнями пробита хорошо: по ней всю зиму бегали старшеклассники, тренировались. След Кешиных лыж слегка запорошило.
Шли лыжа в лыжу: впереди участковый, за ним кладовщик, последней — Галя. Ей видно квадратную спину Вялых и копну беличьей шапки. Галя шла легко, свободно могла бы обогнать мужчин, поэтому палками не толкалась — несла их на весу. У нее, пока надевала лыжи, закоченели руки, кончики пальцев до сих пор пощипывало.
Ее обрадовало внезапное приключение. Жаль только, над тетрадями придется корпеть ночью. Что с Кешей Анкудиновым стряслась беда, она мысли не допускала. Придут в Усово, и все выяснится.
Раздражал ее только Вялых. Лучше, если бы третьим был кто-то другой, не он. Она с прошлого года невзлюбила его. До этого не сталкивалась близко. В интернате заболел завхоз, и ей поручили привезти продукты для столовой. Вялых сидел в сторожке при складе. Он встретил молоденькую учительницу прицельным взглядом своих дальнозорких глаз, с плотоядной ухмылкой уставился на ее коленки в капроновых чулках.
— Не холодно?
— Не холодно.
— Может, чайку горячего? Не побрезгаешь со стариком?
— Не за этим я. В столовой продукты ждут.
— Ничего. От них не убудет — дождутся. Почаюем, потом мигом отпущу. Можно и окромя чаю чего найти. Как пожелаете? Вино есть сладкое.
Галя тогда разозлилась, не солидно, не по-учительски хлобыстнула дверью. Потом ждала Вялых на осеннем ветру у склада.
Он долго копошился с амбарным замком. Накладную писал медленно, то и дело поправлял очки — одна дужка у них плохо держалась. Когда отпускал масло, сказал:
— Можно и не по строгости вешать, если любезность будет встречная. Дверью-то зря хлопнули. Недолго и с петель сорвать. С Филиппом Ивановичем лучше не ссориться — еще пригожусь. Не такой уж я старый, ежели приглядеться.
— Отпускайте быстрее — лошади ждут.
— А кони подождут. На то она и скотина, чтобы ждать.
Сейчас он шел впереди. На лыжных задниках можно было разглядеть заводское клеймо. Одно он верно сказал про себя: не такой он старый, если приглядеться. За пятьдесят ему уже давно, а шагает легко, без натуги.
Она не заметила, как согрелись руки. Стало совсем светло. Над спиной Вялых обозначились черные стволы, видно даже мушки. На ходу он нет-нет да и поправит приклад ружья.
Пересекали логотину. Из падей тянуло стужей. Галя обрадовалась, когда снова поднялись на гору: воздух здесь был заметно теплее. В безветрие всегда так. Лес стал мрачней, гуще. Теперь вокруг были не сосны и березы — большие кедры. Медвежья глухомань! Ей вообразилось, как вчера в сумерках здесь бежал Кеша. Один. Мог встретить медведя. Шатуна, поднятого из берлоги взрывами изыскателей. Они недавно бабахали где-то поблизости. Ей стало не по себе. Было ли у него ружье? Навряд ли.
Тут же она подумала: лучше, если бы у кладовщика не было двухстволки. С ружьем он казался ей опасным. Хватит того, что у Ивана пистолет.
Непонятно было, почему давеча, когда они нагрянули в избу, Вялых так переполошился? Он как будто стремился поскорее вытурить их из дома. Поэтому сразу и согласился идти с ними. Навряд ли он сделал это по охоте — была какая-то причина.
Опять спустились в низину. Лыжня пересекала осинник. Голые стволы зыбкими былинками тянулись вверх. Справа сквозь березовую чащу свежо голубело рассветное небо.
Снова подъем-спуск... Лыжи скользили хорошо, отдачи не было. На спуске она чуть приотстала; боялась — кладовщик упадет, и она наедет на него. Но Вялых держался на лыжах уверенно. Чуть только притормаживал палками на крутизне.
Начало весны никак еще не угадывалось в лесу. Нетронутые пласты сугробов лежали в падях. Лишь на пригорках немного осевший снег вокруг деревьев указывал места будущих проталин. Пересекли ложбину и с разгону влетели на взгорок. Здесь начался сплошной кедрач. Это было любимое Галино место. Теперь лыжня должна повернуть влево, пересечь несколько увалов, затем круто, как в прорву, оборваться в глубокую падь, на дне которой спряталось Усово.
Мужчины впереди нее остановились. Ей почудился удивленный возглас. Вскоре она настигла их. Оба дышали часто, напряженно, сизый пар поднимался над их ушанками.
В двух шагах впереди Ивана, на обочине лыжни, из сугроба торчали лыжи, воткнутые задниками в снег. Тут же между ними — палка. Вторая лежала на снегу поодаль. Вправо от лыжни по целику тянулась неровная цепочка следов. Кеша Анкудинов не то убегал от кого-то, не то гнался за кем-то. Непонятно было, зачем он бросил лыжи — на них ему легче было дойти до проселка. Видно, случилось что-то особенное — некогда было раздумывать.
— Медведь! — выдохнула Галя. — Медведь за ним гнался.
— Медведь, — усмехнулся кладовщик. — Где он, медведь, — по воздуху летел? Леший, поди, гнался.
Галя промолчала. Вялых прав: на снегу остались бы медвежьи следы. Но после этого кладовщик со своим здравомыслием стал еще больше неприятен ей. Он влез было лыжами на след, оставленный Кешей.
— Филипп Иванович, не затаптывайте! — потребовал Иван, и Вялых неохотно отступил в сугроб.
Из полевой сумки Иван достал фотоаппарат и линейку. Линейку бросил на снег рядом со следом. Сделал несколько снимков из разных положений.
Наверное, он долго мог изучать следы, но подстегивал мороз. На ходу они разогрелись, не замечали — другое дело без движения. Вышли к проселку, двигаясь вдоль цепочки Кешиных следов. Между лыжней и дорогой было чуть больше ста метров. Там, где снег был неглубоким, отчетливо виднелись вмятины от треугольных каблуков лыжных ботинок.
— Держитесь на обочине, — попросил Иван.
Собственно, не так уж много следов было на дороге: узкие — от полозьев кошевки, шлепки от лошадиных подков и поверх них, все перемяв и нарушив, — узор автомобильных протекторов. Грузовик прошел недавно. Куда исчезли Кешины следы, было непонятно. Удалось обнаружить еще отпечаток мотоциклетной шины. Там, где по нему не прошла кошевка и грузовик, видно было — след давний, присыпан порошей.
Прошли вдоль дороги в обе стороны — Кешиных следов нигде не нашли.
— Сел на попутную машину, — решил Иван.
— Г-мм, — произнес Вялых.
В его голосе Гале почудилась насмешка. Она взглянула на Ивана, но тот вроде бы и не слышал ничего. Брови и ресницы у него облепило инеем, и в этом голубоватом обводе ярче обычного светились его глаза. Она подумала, что и у нее должны быть такие же брови и ресницы и он тоже видит ее в этом морозном украшении.
Полушубок на спине Ивана вздыбился горбом, пряжка сместилась на бок. Он напрасно шарил рукой, хотел поправить кобуру — недотянулся. Вялых снял ружье. Приклад плотно лежал на его ладони. Темные западины стволов скользнули по затылку участкового. Галя едва не вскрикнула. Кладовщик повесил ружье стволами вниз. Наверное, в этом ничего особенного не было: просто так ему удобней. Галя не хотела быть мнительной. Ведь из того, что Вялых неприятен ей, еще не следует, что на уме у него дурные намерения. Но лучше, если бы у него не было ружья. Ее тревожило, что пистолет у Ивана не под рукой. Почему он не поправит кобуру?
Вялых достал кисет, набил трубку. Иван снял лыжи, обочиной направился вдоль дороги к развилке, узнать, куда повернула машина: в Усово или в Ельники. Галя тоже сбросила лыжи. Решила догнать его, подсказать про кобуру. Но и Вялых увязался следом за ними.
Послышался скрип полозьев.
— Едут, — сказал Вялых, дохнув табачным дымом в Галин затылок.
Иван сам услышал приближающуюся кошевку. Минут пять осталось им еще, чтобы подняться на хребет. И вчера вечером Кеша Анкудинов должен был опередить лошадей, раньше их выйти на дорогу. Почему седоки не видели его? Получалось нечто загадочное. Куда он исчез? Выходит, он почему-то отстал — кошевка проехала раньше. Только так. Но почему он, уже достигнув вершины — оставалось скатиться под гору, — вдруг сбросил лыжи и побежал на дорогу? Впрочем, побежал, не скажешь, скорее побрел. Может быть, он и верно повредил ногу и не захотел рисковать — спускаться по извилистой лыжне в потемках. И по этой же причине отстал от лошадей. Но ведь прошла целая ночь! Ползком можно было доползти до Усово. Да и попался бы он им навстречу, когда сюда ехали. Может, окоченел, свалился на обочине, не было сил голос подать, когда проезжала кошевка? Они трое спали. Дед Ступин тоже мог задремать. Проехали мимо, не заметили.
Или же его подобрал мотоцикл? До развилки осталось немного. Сзади теперь уже отчетливо слышалось повизгивание полозьев и заглушенный снегом цокот лошадиных копыт.
Несколько темных крапин на снегу привлекли внимание. Иван склонился над ними. Кровь! Он прошелся еще немного — посреди дороги алело пятно размером с верхонку.
Галя тоже увидела кровь, увидела, как алое пятно очутилось у Ивана в руках. Она в ужасе зажмурилась. А когда открыла глаза, ей всюду почудилась кровь: на снегу, на деревьях, на плечах милицейского полушубка. Кровяная лепеха все еще была в руках у Ивана. Это была газета, измятая и пропитанная кровью. Типографские строчки ясно проступали сквозь красное. Иван хотел распрямить газету, но она смерзлась, стала ломкой.
— Убили Кешу! — в ужасе выдохнула Галя.
— Кровь, так и убили? — бесчувственно и жестоко просмеял ее Вялых. Выпустил дым из ноздрей. Сейчас Галя впервые заметила, какие они у него широкие и волосатые. Как у лешего.
Иван аккуратно сложил газету, обернул ее носовым платком и спрятал в карман. Делал это медленно и совсем машинально. В уме рождалась догадка.
Подъехал Ступин. Заиндевелые морды лошадей дышали паром у самого плеча Гали. Лошади принесли с собой теплый запах пота и конюшни.
На месте, где лежала газета, остались пятна, просквозившие снег. Ступин и дружки вышли из саней. Юра Шиляк очумело смотрел на кровь. Его лицо изображало полное недоумение. Таким Галя еще никогда не видела его. Совершенно тупое, бесчувственное лицо. Он ни слова не слышал из того, что говорил Иван — тот рассказывал про лыжи, найденные в сугробе, про следы, увиденные на дороге.
— Откуда кровь?
Видно было, что кровавые пятна на дороге озадачили Юру, вышибли его из ума.
В самом деле, откуда кровь? Ближний из кедров хвойной тенью накрыл дорогу. Сколько же лет этому великану? Все сто! Возможно, это не первая кровь, пролитая под ним. В гражданскую войну здесь немало полегло. Могучий ствол в панцире огрубевшей коры недвижим. Немного выше человеческого роста дерево нещадно били колотом — старались шишкобои прошлой осенью. Израненная древесина загустела смолевой коростой. Клочок окровавленной бумаги прилип к ней.
— Глядите! — в ужасе воскликнула Галя.
На кедре приклеился обрывок той же газеты, которую подобрал Иван. Скорей всего ветром выдуло из кузова машины. Иначе, как еще бумага могла попасть на ствол.
Все вместе дошли до развилки. Машинный след отвернул в Ельники.
— Поезжайте в Усово, — решил Иван, обращаясь к дружкам.— Звоните в милицию: мол Белых, участковый, докладывает. Обскажите все, как есть. Мы идем в Ельники.
Он снял полушубок, бросил в кошевку. Ремень с кобурой подпоясал поверх форменного кителя.
— И вы бы, Филипп Иванович, сняли шубу — быстрей дойдем.
Вялых пыхнул дымом.
— Меня жареный петух не клевал. Вам торопно, так и бегите. Чего там не видели, в Ельниках? До Усово полтора километра осталось.
— Не полтора — три, — поправила Галя.
— Зато под гору. Вначале узнать: может, нашелся ваш жених.
Что-то он явно темнит. Хочет сбить Ивана со свежего следа. Подозрительный тип. С самого начала его поведение настораживает Галю.
— Вы хоть ружье отдайте им, — сказала она. — Мешает ведь,
— Мешает, — согласился Вялых. — Да только кто мне его из Усово обратно привезет.
Так он и не расстался с ружьем.
Вначале пристроились друг за другом в том же порядке, как шли раньше. Потом Вялых не стал поспевать за Иваном, и Галя обогнала его. Участковый торопился. Изредка оглядывался, убеждался, что она не отстала, и улыбался ей.
Что же все-таки случилось с Кешей Анкудиновым? Видно, ему сильно не терпелось увидеть Октябринку, коли помчался на свадьбу по лыжне — не захотел петлять по дороге. И чем только Октябринка взяла, непонятно? В том же Усово и в Петляево сколько угодно красивых девчат, а два таких парня пристали к ней. Решительно ничем она не выделяется: бесхитростной формы лягушачий рот, пуговичный нос, короткая шея, детская манера размахивать руками... Одно только и есть, что тяжелая льняная коса, свисающая почти до колен, да особенный, обжигающий взгляд. Но, может быть, это теперь и нужно парням? Приелись расписные телекрасавицы, похожие одна на другую. Рядом с ними Октябринка топорно груба. Зато ее ни с кем не спутаешь. Впрочем, не ей, Гале, судить о женской красоте, о том, что влечет парней. Вот Кеша Анкудинов открыл же в Октябринке что-то...
Гале представилось, как вчера в сумерках Кеша поднялся на Кедровый увал — оставалось спуститься вниз, и он в Усово. Но вдруг что-то произошло... Может быть, он услыхал гул мотора и подумал: машина идет в Усово?.. Нет. Не то. Вниз под гору он на лыжах опередил бы грузовик. Что-то другое...
Показались Ельники — тихая таежная деревня вдоль замерзшей речки. Дым над печными трубами всюду стоит прямыми столбиками. Все ее пахотные угодья видны отсюда как на ладони — клиньями заходят е тайгу по двум падям. Без малого два века назад пришли сюда первые поселенцы и облюбовали место. С тех пор и стоит деревня Ельники. Не столько землепашеством занимаются жители, сколько охотой и другим таежным промыслом.
Спуск был извилистый и крутой. Галя видела впереди себя темный китель Ивана, перехлестнутый желтым поясом. На крутом вираже она не совладала с лыжами — врезалась в сугроб. Пока поднялась, Иван уже был внизу. Ждал ее возле зарода. Его глаза светились. Галя поймала себя на том, что она улыбается, и сразу же прогнала с лица неуместную улыбку. Сейчас не время.
Вялых не появлялся. Чтобы не закоченеть, они с Иваном несколько раз пробежались вокруг зарода, промяли лыжню. Видимо, деревенские собаки услыхали их — затеяли дружный перебрех.
Наконец показался Вялых. Он катился медленно, тормозя палками. Втроем вышли на береговой откос. Отсюда видны зады всех дворов. Напротив места, куда они вышли, в чьей-то ограде стояла машина. Утреннее солнце вскользь отражалось от стекол кабины.
— Вроде бы у Поздеевых, — определил Иван.
Задами, через огород поднялись к дому Поздеевых. Никто не видел их. Иван сбросил лыжи, перемахнул через заплот — открыл калитку. Галя и Вялых вслед за участковым прошли во двор. Слышно было, в стайке дышит корова, хрумкает жвачку. Собаки во дворе нет, конура пуста.
Иван вскочил на колесо, заглянул в кузов. Поманил их к себе. Галя по его лицу догадалась: в кузове что-то есть. Иван помог ей взобраться на колесо. В машине лежал запасной баллон, старый брезент, измятое, замасленное ведро, ветошь и соломенная труха. Иван взял щепотку трухи, показал Гале. На соломе запеклась и заледенела кровь. Вялых тем временем взошел на крыльцо.
Иван спрыгнул, в два скачка опередил кладовщика. Почему-то он не захотел пустить его первым в избу.
Втроем вошли в сени. Иван постучал. Никто не ответил им. Сквозь обитую кошмой дверь смутно слышались возбужденные голоса и, похоже, тявкал щенок. Иван оглянулся. Затаенно сверкнули его глаза, особая настороженность и предчувствие было в них. Лицо кладовщика было озабоченно и встревоженно. Он хотел что-то сказать.
Иван рванул дверь и ступил на порог. Галя и Вялых остались за его спиной. Из-за гвалта, который стоял в избе, никто вначале не обратил на них внимания. Трое мужиков сидели за столом. Две поллитровых бутылки были перед ними — одна початая. Соблазнительно пахло жареной свежениной. Пахучий пар поднимался над огромной сковородой посредине стола. Все трое наперебой говорили, стараясь перекричать друг друга. Анна Поздеева, хозяйка дома, чем-то занялась возле печи — тоже не видела вошедших. За столом помимо хозяина Григория Поздеева сидели водитель грузовика, зять Поздеевых, Васька Ухожев, и счетовод Брусницкий. Разговаривали не зло, не ссорясь, только шумно и чересчур горячо. Гвалту прибавляли еще двое пацанов, затеявших возню, и большелапый щенок.
Кладовщик из-за спины участкового делал какие-то знаки, старался привлечь внимание мужиков. Он даже не таился от Гали.
Первым вошедших заметил щенок — затявкал, угрожая цапнуть за ногу.
— Цыц! — обернулся на него Григорий и увидел гостей.
Внезапная тишина установилась в избе. Щенок и тот смутился, перестал лаять.
Трое мужиков за столом переглянулись, испуг и смятение выражали их лица. Григорий Поздеев покосился в угол, и Галя увидела два ружья, прислоненные к стене. Они рядом — только протяни руку. Соотношение стволов не в пользу участкового и понятых. Да еще неизвестно, на чьей стороне будет двухстволка Вялых. Чувство опасности напружинило мышцы — Галя приготовилась напасть на кладовщика, если он вздумает угрожать Ивану с тыла.
Иван скинул с головы ушанку, пятерней причесал взмокшие волосы.
— Здравствуйте, хозяева. Чего затихли? Не рады гостям?
Галя на секунду отвлеклась, а Вялых как раз в это время ступил через порог, скинул с плеча ружье. Она чуть отпрянула — приготовилась толчком сбить его с ног. Но у кладовщика не было дурных намерений: двухстволку он повесил на гвоздь у порога.
— Свеженина, — сказал Иван, поведя носом.
— Мать! — скомандовал Григорий, и хозяйка поняла — засуетилась, достала из буфета рюмки, тарелки, вилки.
Мужики за столом потеснились, освобождая место гостям. Похоже, их больше всего озадачило появление Вялых: они кидали на него недоуменные взгляды. Он что-то маячил им, беззвучно шевеля ртом. Этот немой перегляд между кладовщиком и сидящими за столом видела только Галя.
— Да вы разболокайтесь, гостеньки любезные, — обретая привычную манеру, нараспев ублажала хозяйка. Явное недоумение проскользнуло на ее лице — сейчас лишь она увидела, что двоим не нужно и разболокаться, будто от соседей прибежали. — Уж и не помню, Ваня, когда ты наведывался к нам последний раз.
— Сколько лет, сколько зим, — подхватил Григорий.
— Минутку!
Иван мимо накрытого стола шагнул к двери в соседнюю половину избы. Собственно двери не было — один проем, занавешанный домотканым пологом.
Догадка озарила учительницу. Вот когда все выяснится. Кеша Анкудинов находится в соседней комнате. Раненый или просто пьяный лежит на кровати. А почему так вышло, почему он в чужом доме, вместо того, чтобы быть на свадьбе — сейчас они и узнают.
Иван откинул полог. В комнате, залитой утренним светом, было пусто. Стояли две кровати, обе опрятно застланные, с горами подушек в изголовье. Спрятаться человеку негде. Разве что под кроватью. Иван нагнулся, заглянул и туда. Вид у него был сконфуженный. Возвратились назад.
— Где он? — спросил участковый.
Тяжелое молчание воцарилось в доме. Мужики переглянулись. Брусницкий злобно покосился на Вялых. Тот напрасно пытался знаками что-то растолковать ему.
— Кто он? Чего пристал? — с напускной развязностью спросил зять Поздеевых Васька Ухожев.
— Куда девали его?
— Ты чего, Ваня? — вкрадчиво, стараясь смягчить гнев участкового, спросила хозяйка. — Было бы из-за чего шуметь? Кабы они первые. Сам же он на них и выскочил. Хотели пальнуть для острастки...
Кладовщик Вялых, совсем уже не таясь, делал ей знаки, чтобы молчала.
— А ты, чучел, какого хрена машешь на нее? Я вот те помашу! — взревел Васька Ухожев, вскакивая из-за стола. — Сам, падла, привел их...
— Тихо! — Иван положил руку на кобуру. — Показывайте, где спрятали убитого?
II
На полу лежал бледный прямоугольник лунного света с густыми тенями от крестовин оконной рамы. Иван прислушивался к невнятным ночным шорохам. До света еще далеко. Хотел было чиркнуть спичку, взглянуть на часы, но раздумал. Любой, самый ничтожный звук может разбудить тетку Ирину, а после она и сама не уснет, и ему не даст. Стоит ей услышать, что постоялец не спит, как она тут же засыплет его вопросами. К тому же Иван умел определять время среди ночи по гире на ходиках. У тетки Ирины многолетняя привычка подтягивать цепочку в одно и то же время. И даже в самую темень, когда невозможно разглядеть циферблата, теневой сгусток гири все равно заметен на фоне беленой стены. Нужно было только вносить поправку, учитывать день недели. Старые часы отставали. За неделю набегало четверть часа. Тетка Ирина всегда подводила стрелки в субботу. Завтра — понедельник, и поправку можно не делать. Был четвертый час. По летней поре так уже утро. Но на дворе март.
История ходиков доподлинно известна Ивану. Они висят здесь уже без малого тридцать лет. Появились в послевоенную пору, когда иных часов ни у кого еще и в помине не было — только ходики. У Ирины они висели, и, когда пришла мода на новые заводные часы, часы на батарейках, в деревнях начали стыдиться ходиков — выкидывать. Иринины ходики дождались поры, когда мода на них вернулась. Сюда, верно, еще не дошла, пока только городские начали гоняться за ходиками. Прошедшим летом заезжий геолог пристал к тетке — торговал ее часы, давал за них свои ручные. Только он зря старался, набивал цену. С ходиками тетка Ирина никогда не расстанется. У них особая цена.
Ходики ей подарил сын, Колька. Он учился еще в школе, и из первой своей поездки в город привез матери подарок. Часы тогда стоили немалых денег. Ирина так обрадовалась, что и не полюбопытствовала, где малолетний мальчишка раздобыл деньги. И напрасно не полюбопытствовала. Это был первый и единственный подарок, полученный ею от своего непутевого сына. Больше он никогда ничем не порадовал ее. Школу не кончил, связался с хулиганьем, влип на воровстве. Дальше — больше, пошло, завертело — вовсе сгинул. Ни писем, ни телеграмм не шлет. Иван, когда заступил на должность участкового, поселился в избе у Ирины — она приходилась ему дальней родней, — сам вызвался навести справку, отыскать след пропавшего без вести Николы, своего троюродного брата. И нашел. Но правду не стал говорить — пощадил тетку. Сочинил побасенку, будто ее блудный сын устроился в особо дальнюю экспедицию, откуда почта приходит раз в три года. Да и то писем нельзя писать. Даже и упоминать об экспедиции не разрешается. Врал, а сам краснел — думал, тетка с ходу разоблачит его: «Перестань брехать!» Но той его ложь и была нужна, лила бальзам на ее истосковавшееся сердце. Она с готовностью ухватилась за эту экспедицию, сама навыдумывала подробностей, какие Ивану и не снились. Теперь вот, в последний год, когда телевидение пришло и к ним в Усово, тетка часами просиживала у светящегося экрана. Ее влекли передачи, в которых показывали дальние края и страны. Ее Николка мог служить где угодно: хоть на Курилах, хоть на Галапагосских островах, хоть на Камчатке, хоть в Австралии. Тот самый геолог, который торговал у нее часы, которому она объявила, что и ее сын тоже работает в экспедиции, где-то за двумя полюсами — так и сказала «за двумя полюсами» — напрасно пытался растолковать ей, что такое земные полюса и что никак не возможно быть не только за двумя полюсами, но даже и за одним из них. Глобус принес от соседей. Но тетка и глобусу не поверила, осталась при своем — за двумя полюсами ее шалопай.
Ее, если что втемяшится в голову, никому не разубедить. Какие хочешь, доводы приводи. Вот и вчера:
— Юра Шиляк убил Кеху — больше некому.
И сколько Иван ни спорил, ни доказывал ей, что никак не мог механик убить Кешу Анкудинова, потому что был все время на виду у людей и находился не в том месте, откуда сгинул жених; предупреждал, чтобы не распускала ложных слухов, а то еще в деревне подумают, что это он, участковый, так говорит — тетка Ирина упрямо твердила свое: «Шиляк убил — больше некому!»
И не одна Ирина, другие женщины повторяли: «Шиляк убил». Хотя и неизвестно никому доподлинно, убит ли Кеша. Никто ведь не видел его ни живого, ни мертвого. Где его теперь искать, Иван терялся в догадках. Дело, которое вначале показалось ему пустяковым, простым, — вернее, он его и за дело не посчитал — вдруг обернулось серьезным и загадочным. Ничего похожего в его практике еще не было. Более всего его удивляло: куда мог исчезнуть человек?
Не хотелось вспоминать, как он сам оконфузился вчера. Да еще при Гале! Впрочем, Галя-то как раз не осудит его, не просмеет: и она вместе с ним попала впросак. Верно, она всего лишь понятая. А вот ему, участковому, непростительно. И ведь сколько до этого сам себе внушал: не увлекайся, взвешивай, анализируй... Черта с два... Как только коснулось дела, увидел кровь — сразу же связал одно с другим: пропавший Кешин след и кровь. Этак все гладко покатилось: вот они и убийцы — следы на них и вывели. Анкудинову больше и деваться некуда было. Не испарился же он, выйдя на дорогу? Стало быть, его подобрала машина. А если кровь — так убили. Может быть, случайно переехали, не заметив, а может быть, по злобе. Оставалось найти тело.
— Показывайте, куда спрятали убитого! — потребовал он, кладя руку на кобуру.
На мгновение встретился с испуганно-восторженным взглядом Галины Александровны — Галочки.
Решительно шагнул вперед, заслоняя ее собой, — вдруг они схватятся за ружья. Запоздало подумал: «Надо было забрать ружья, как вошли».
— Ваня, голубчик ты наш родимый, не погуби! Детишек пожалей,— слезно запричитала Поздеиха, указывая участковому на притихших внучат. — По дурости стреляли. У, изверги! — замахнулась она на своих зятя и мужа.
Щенок опять затявкал, озлобленно кидаясь на Ивана: почуял кто нарушил покой в доме. Поздеиха цыкнула на него, отпнула. Тот заскулил обиженно. Забазлали пацанята.
— Не губи, родимый!
— Но, но, — растерялся Иван: ему показалось, Поздеиха хочет бухнуться ему в ноги. Этого только и не хватало. — Человека убили — теперь не погуби?
— Какого человека?! Ты че наговариваешь?
Но он и сам почувствовал неладное. Окончательно картину прояснил Васька Ухожев, шалопутный зять Поздеевых: вскочил из-за стола, от ярости брызжа слюной, накинулся на Вялых:
— А ты, падла, какого хрена?.. А то сам не подначивал: стреляй, стреляй! Сам же после и добивал, вот из этой кочерги. — Васька схватил с гвоздя двухстволку кладовщика, замахнулся, будто хотел садануть прикладом. — Теперь сам же привел, их сюда! Да провались она, ваша сохатина! Я теперь че, на штраф должен горбатиться? Тама, в чулане, лежит — забирайте. А штраф вот с них, — указал на Вялых и Брусницкого. — Имя свеженины захотелось.
Искали одно — раскрыли другое. Все подробности восстановились сами собой. Брусницкий и Вялых понесли на Ваську, Васька на них — знай только слушай и вникай.
Еще с вечера втроем условились ехать на старый тракт, стрелять глухарей. С тех пор как проложили новую дорогу, большой отрезок старой, угадавшей между двумя заливами новозданного моря, стал никому не нужен. Дорога еще не заросла, а высокую насыпь даже зимой не везде заметало снегом. Глухари, у которых постоянная нужда наполнять зоб каменной крошкой, прилетают туда клевать гравий. Машине они позволяют приблизиться чуть ли не вплотную. Подобный варварский способ охоты на беззащитную птицу запрещен, но браконьеры потому и браконьеры, что у них совести нет и законы не для них. Выехали спозаранку. Не успели достигнуть заповедного места, только выбрались на старый тракт, как в рассветной мути увидели сохатого. За каким лешим его вынесло на дорогу, неизвестно. Зверь и не думал бежать, стоял поперек полотна, слушал. Васька нажал на тормоз, когда до сохатого осталось не больше сорока шагов. Азарт охватил браконьеров. Как же упустить такую добычу! Это же скольких глухарей надо перестрелять? Правда, риску больше. За глухарей-то, если и попадутся, ружья отберут да пристыдят, а за сохатого втроем не расплатиться. Но подсчеты некогда было вести. Что он, дурак, будет ждать их, пока они срядятся? Грянул залп из двух ружей, почти в упор стреляли Васька и Брусницкий. Вялых после добивал смертельно раненного лося.
Когда вошли в чулан, где лежала разделанная туша, Иван сразу вспомнил — точно так же пахло в сенях у кладовщика Вялых.
Вот почему тот не артачился, согласился идти в понятые. Хотел поскорей увести их из своей избы. Неровен час, участковый сунет нос в кладовку. И ружье прихватил с собой из страха — боялся, без него нагрянет в избу великовозрастный племянник, увидит двухстволку, почует, что из ружья недавно стреляли, и растрезвонит по деревне, что дядя опять браконьерствовал. А после этого кто-нибудь обнаружит в лесу следы крови — куда их денешь? — не в деревню же было везти тушу, разделывать...
Поэтому-то он так охотно пошел с участковым искать пропавшего жениха. Не мог же он предвидеть, что следы Кеши Анкудинова сделают такую коварную петлю — выведут участкового на дом, где пировали браконьеры.
Вышло так, что Иван нежданно-негаданно раскрыл преступление. Зато он окончательно сбился с нужного следа. К тому времени, когда они возвратились к месту, где нашли кровь, по проселочной дороге прошли леспромхозовские тяжеловесы — чуть не до земли распахали. Черти их принесли. Уже год, как забросили участок, не наведывались в Усово, а тут нагрянули, вспомнили про штабеля невывезенного леса на старой деляне.
С тех пор, как Иван пробудился, прошло больше часа. Погода на дворе менялась. Пластина лунного света на крашеных половицах тускнела, иногда пропадала вовсе, потом опять вспыхивала ярко и серебристо. Теперь вот сгинула и не появляется. Начало завывать в трубе. Этого только и не хватало — теперь заметет и Кешины следы на целике.
Все ли он, участковый, сделал, что требовалось? Не просмотрел ли чего, не оставил без внимания? Беспокоил его след мотоцикла: кто и откуда ехал? Попробуй теперь установи. Иван всех расспрашивал: не знает ли кто, не слышал — ничего не узнал.
Вдруг посреди завывания ветра послышался другой звук. Иван напряг слух — выла собака. Да так истошно, тоскливо, что стало не по себе — душу выворачивало. За перегородкой вздохнула тетка Ирина. Собачий вой подействовал и на нее. Иван знал, что она лежит сейчас с открытыми глазами, прислушивается к вою и думает о своем непутевом сыне.
Вот ведь еще чертовщина! Теперь под этот вой и вовсе не заснуть. Есть что-то особенное в собачьем вое. Не зря же с ним связана дурная примета. Чего только не придет на ум посреди ночи, когда и без того все смутно, таинственно. Да еще метель подвывает, подстраивается в лад тоскующему псу. Где-то недалеко воет, дома через два примерно, где Юра Шиляк снимает избу.
Тетка Ирина заворочалась на постели, негромко кашлянула. Стоит Ивану выдать себя, показать, что и он тоже не спит, как она тут же вступит в разговор. И тогда они проговорят до утра.
За окнами треснуло. Кто-то не вытерпел, пальнул из ружья — пугнул собаку. Вой оборвался. Послышался визг. Или это лишь почудилось Ивану? Он напряг слух, но ничего больше не было слышно, кроме
завываний ветра. Потом показалось — на улице скрипит снег под чьими-то шагами. Иван вскочил с постели, прильнул к окну. Луны нету, на улице кромешная темень. И он не мог бы сказать, вообразилось ему или же он впрямь разглядел чью-то смутную фигуру — кто-то быстро прошмыгнул вдоль улицы и скрылся в заулке, что ведет к лесу.
Стараясь не скрипнуть половицами, возвратился на койку. Зря он велел тетке Ирине убрать половики из своей комнаты — дескать, пыль собирают. Откуда она, пыль, зимой?
— Ваня, никак из ружья бахнули? — подала голос тетка Ирина.
Слышала она, разумеется, его шаги. А коли квартирант ходит по избе, так не спит.
— Вроде стреляли.
— Кажись, собаку убил?
— Похоже, убили.
— Жалости никакой у него. Пугнул бы, а то убивать.
Ясно, кого она считает убийцей. На этот раз и он так же подумал: Юра Шиляк стрелял. Местный не убьет собаку. Здесь дворняг не держат — у всех лайки охотничьи. Пальнуть, пугнуть собаку может любой — не вой, чертяка, не выматывай душу, но, чтобы убить, подумают. После ведь придется с хозяином собаки разговаривать, а на свою и так рука не поднимется.
И, будто угадав его мысли, из-за перегородки голос Ирины:
— Шиляк убил, боле некому.
За прошедший день эти слова уже навязли у Ивана в ушах. Иван пытался пресечь слух, но ничего не мог поделать. Грозил, что за клевету можно привлечь, — стояли на своем. И хоть бы кто один говорил, вся деревня затвердила: «Шиляк убил — больше некому».
Неизвестно, кто первый пустил слух. Возможно, Октябринка. Хоть она кричала другое: «Я его убила!» — но все понимали, что она имела в виду: из-за нее убийство. Ее сколько предупреждали:
— Гляди, девка, доиграешься с огнем — порешат твои ухажеры один другого.
Она только посмеивалась. Теперь женщины судачат между собой — досмеялась.
Но, если слушать бабьи толки, так эта скороспелая свадьба и должна была кончиться худо. Советовали повременить, подождать до лета. Но Октябринка стояла на своем.
И завертелось, закрутилось. Не так это просто сыграть свадьбу без подготовки. Октябринкина родня не хотела ударить лицом в грязь, хотели справить свадьбу честь по чести, по-людски. Должно быть, предстоящая перемена в жизни повлияла на Октябринку — посерьезнела.
Лишь одно непременное условие поставила она своему избраннику — помириться с Шиляком.
— Боюсь его: убьет он кого-нибудь из нас.
Эти Октябринкины слова вспомнил дед Ступин, от него Иван услышал их. Уже после того, как участковый побывал в Ельниках, оконфузился там с браконьерами, он вернулся в Усово и начал расследование заново, с опроса всех и каждого, кто что-либо слышал, кто последним видел исчезнувшего жениха. Всех, верно, не успел еще повидать и опросить. Разговаривал с Октябринкой. Первый истеричный приступ горя у нее прошел. Рассуждала она здраво, отвечала на вопросы толково, не путалась. Особенно Иван не мучил ее, щадил. Ей и без него тошно. Каково-то слышать ото всех укоризну: «Доигралась!» Даже и те, кто не произносил вслух, думали так. А. что Октябринка умеет читать мысли, Иван не сомневался. Он и сейчас помнит ее глаза, как она посмотрела на него, когда он вторично явился в дом Ступиных. Словно пытала его: «И ты так считаешь: я виновата?» И по его ответному взгляду прочитала: он так не думает, не винит ее. Октябринка вздохнула было, но тут же ее лицо омрачилось. Участковый не винит, так сама она себя терзает: «Я убила!»
От нее Иван узнал одно: позавчера вечером, в канун свадьбы, Кеша обещал ей, что помирится с Шиляком, тот будет у них на свадьбе. И отправился к сопернику, мириться. Больше она не видела своего жениха.
— Страшно мне, — вырвалось у нее, и видел Иван, как всю ее передернуло, будто прошибло ознобом.
Что было дальше, после того как Анкудинов отправился к Шиляку мириться? Какой был между ними разговор? С Юрой участковый еще не беседовал. Знает только, что Кеша своего достиг: на другой день утром недавние соперники вместе отправились в райцентр выбирать жениху свадебный костюм и подарок для Октябринки. И костюм, и подарок — вот они, в доме у Ступиных. Подарок — магнитофон. Какой-то особенный, японский. Иван повертел его в руках, взглянул на квитанцию — дата совпадала.
Он все же спросил:
— Ты тоже думаешь — мог Шиляк убить?
Октябринка вздрогнула, судорога на миг свела ее губы. Не ответила, только кивнула — да она так считает: мог Шиляк убить.
Черт знает что, все убеждены — Шиляк. Тетка Ирина даже пристала к Ивану: почему он не арестует убийцу?
— Он убил. Ты погляди: на нем лица совсем нет, сам не свой ходит.
Это правда. Иван тоже заметил: не в себе Юра. Но ведь и то нужно принять в расчет: он же знает — все, как есть все, — подозревают его. Каково ему сознавать это? Поневоле будешь сам не свой. Пожалуй, если бы не факты, вот эти самые лыжи и палки, оставленные в сугробе, и то, что Юра в то время никак не мог находиться рядом с Кешей — сидел в кошевке, — так Иван поддался бы общему настроению и, чего доброго, арестовал бы невинного.
* * *
К утру метель затихла. Выглянуло солнце. День начинался ветреный и морозный. Снегу выпало немного, но все кругом перемело, и теперь уж точно никаких следов на лыжне и на дороге не осталось. Да и не ведал Иван, что еще можно извлечь из тех следов, уцелей они.
Сильно скрипело под ногами. Он направился в сельсовет связаться по телефону с районом, узнать, когда будет следователь.
Он уже миновал заулок, когда вспомнил ночное: собачий вой, выстрел и чью-то смутную тень. Кое-где следы, хотя и вылизанные ветром, сохранились. Сказать уверенно, что оставлены они этой ночью, а не раньше, нельзя. Проулок упирался в сосняк. Летом здесь полным полно бывает грибов. Местные ими брезгуют — уж больно тут все занавожено, — ходят за маслятами и рыжиками дальше, за старую лесосеку. Сейчас лежал снег чистый и ослепительно белый. Дальше следов не видно. Иван хотел повернуть назад, когда чуть в стороне, в рытвине, — из нее летом брали песок для домашних нужд — увидел выпирающий из сумета темный горб. Подошел ближе. В яме лежала дохлая собака. Иван сапогом отбросил снег и узнал Кешиного кобеля Буяна. На холке запеклась кровь. Вот, оказывается, кто пострадал сегодня ночью. На кобеле был ременный ошейник и обрывок веревки.
На этот раз Иван не сомневался — Шиляк пристрелил Буяна. Тем же путем он возвратился назад.
Бывая в Усово, Кеша Анкудинов всегда останавливался у своей вдовой бабки, Потапихи. Сам он родом из Шестаково, там и жил постоянно. Это в нынешнюю зиму, как начал ухлестывать за Октябринкой, Кеша зачастил сюда — больше в Усово ночевал, чем дома. Совсем перекочевал к Потапихе. Но. Буян оставался в Шестаково. Какая нелегкая пригнала его? Смерть свою искал?
Нужно еще наведаться к Потапихе. Кстати, вчера она первая и разнесла весть — Кеша и Шиляк помирились, вместе отправились на станцию, поедут в город за свадебными покупками. Попутно завернуть к Шиляку, спросить, не он ли стрелял ночью в кобеля.
По дороге встретил Настасью Сизиху, с неизменной подружкой Соней, тоже Сизых по фамилии, хотя и не родня Настасье. Женщины остановили участкового: им требовался свежий человек, которому вдвое приятней рассказать новость.
— Мой-то квартирант учудил — всю поленницу исколол.
Видать, это обстоятельство, что Юра Шиляк напоследок раздобрился, переколол ей все дрова, настолько ошарашило ее, что Настасья принялась рассказывать об этом вторично.
— Да ты уже говорила мне про дрова, — охолодил ее Иван.
— Это когда же?
— Вчера еще.
— Ой, правда, паря! Хотела сейчас во дворе прибрать, поленницу сложить — он не дал, сам, мол, сделаю. Полон чулан дров натаскал. Это, говорил, чтобы тебе в непогодь на улицу за растопкой не бегать.
Пока они разговаривали посреди улицы, из калитки вышел Шиляк с двумя пустыми канистрами. Что канистры пусты, видно было по тому, как он нес их. Головы не повернул — побежал куда-то, должно быть на склад. Не сегодня-завтра остатки их хозяйства вывезут на новое место, в Протасово. Это их машины вчера измяли проселок. Завтра утром уедет Шиляк. Делать ему здесь больше нечего. Сегодня же и надо решать с ним. Впрочем, если потребуется, найдут его и в Протасово — не за семью горами.
Иван хотел окликнуть его, но раздумал. Вернется со склада, тогда и зайти. Дошел до ограды. Поленницы не было на старом месте. Всегда она возвышалась над забором. Теперь, когда ее не стало, можно было, не заходя в калитку, сквозь просветы в досках видеть внутренность двора. Там протоптаны свежие — это уже после ночной метели — тропки. Шиляк наторил, таская дрова. Усердие на него нашло. Куча наколотых поленьев, пока еще не прибранных, нагромождена у задней стены дома.
Нужно было навестить Потапиху, но Иван вначале зашел в сельсовет. Без помех связался с милицией, узнал — следователь будет вечерней электричкой. Тут же подвернулась попутная машина на станцию. С нею Иван и решил поехать. А то неизвестно, будет ли еще попутная машина. Кстати, нужно допросить свидетелей тех, что вчера видели Кешу Анкудинова на вокзале и в электричке. Несколько имен Шиляк припомнил.
К Потапихе он так и не наведался.
III
Первым делом отправился в интернат повидать Галю. Предлог нашелся благовидный — нужна ее подпись на вчерашнем протоколе. Только кого этим проведешь? Да еще угораздило его заявиться в школу на перемене. Старшеклассницы, будто его и ждали, выстроились вдоль коридора. Пришлось идти сквозь этот строй. Он замечал их проницательные ухмылки, слышал шепоток за своей спиной. Может быть, ему не следовало приходить в школу? Не навредить бы Гале. Но и не поворачивать же теперь назад.
Его мучения с лихвой окупились одним лишь сиянием Галиной улыбки. Видно, не очень ее тревожили сплетни.
Разговаривали вполголоса.
— Если можно, после уроков зайду к вам?
— Конечно, можно.
Ее слова окрылили Ивана.
— Может, подскажете что-нибудь. Мне ничего в голову не приходит.
— Что же я могу подсказать? — заскромничала Галя.
— Другой взгляд. Я в тупик зашел. Не устала после вчерашнего?
— Это я? — изумилась Галя.
Он улыбнулся. В самом деле: не могла устать после десятикилометрового пробега лучшая лыжница района. Так и вышел на улицу, светясь улыбкой.
* * *
Его радость омрачилась встречей с Андреем Анкудиновым, старшим Кешиным братом. Тот, издали завидев участкового, начал кричать ему что-то сердитое.
— Это как понимать? Вся округа твердит — Кеха Анкудинов женится, а родной брат узнает последним, от людей. Даже на свадьбу не позвал.
Собственно, никаких претензий к участковому у Андрея не было — негодовал на своего брата: тот не известил о свадьбе.
— Будто мы ему чужие?
Об исчезновении жениха он ничего толком не знал. Думал, Кеша загулял уже на свадьбе и потерялся — забыл про невесту, празднует женитьбу с друзьями, последний раз гуляет холостым.
Это хорошо, что Андрей ничего особенного не заподозрил. А то нагрянул бы в Усово, наслушался сплетен, и тогда бы уж точно не миновать беды. Иван слушал его и мучился, придумывал, что бы такое соврать ему — только бы отговорить его от поездки в Усово. Но даже и врать не понадобилось. Андрей Анкудинов в Петляево был проездом — к вечеру должен вернуться домой. Он все же беспокоился.
— Бабы брешут, запил у кого-то, невеста его потеряла.
— Надейся, — заверил его Иван.
— Ну задам я ему! — пригрозил он и помчался на станцию, где на путях маневрировал порожний электровоз — на нем старший Анкудинов должен возвратиться домой.
Участковый облегченно вздохнул. И все же после этой встреча остался неприятный осадок. Что-то неладное почуял Иван. Как случилось, что Кеша не известил о женитьбе родного брата, не позвал на свадьбу? Октябринка упоминала, что Кеша едет в райцентр, навестить родню, позвать на свадьбу; сестре, которая живет теперь далеко, отбить молнию. Приедет та или нет — ее дело. Но поздравительную телеграмму должна прислать. Если телеграмма пришла, в Усово ее передали бы по телефону. Значит, на почте в Петляево о телеграмме известно.
Иван завернул на почту. Поздравительной телеграммы не было.
* * *
До конца уроков, когда Галя освободится, время еще было. Оставалось разыскать свидетелей, видевших Кешу Анкудинова на вокзале и в электричке. Особого проку от их показаний участковый не ждал. Ну и что из того, что они подтвердят — был Анкудинов в райцентре? И без того ясно: был. Не с луны же он свалился в Петляево позавчера вечером, чтобы встать на лыжню и побежать в Усово.
Как и полагал Иван, разговор со свидетелями ничего нового не дал. Всех, кого называл Юра, повидать не удалось, многие были на работе. Участковый беседовал лишь с тремя. Двое, молодожены Семеновы, подтвердили показания Шиляка. Они встретили его на перроне перед самым приходом электрички. Под мышкой Юра держал сверток — в нем Кешин свадебный костюм. Сам жених в это время был в стороне у киоска, пил газировку.
— Вон он, машет нам рукой, — показал Юра.
Перрон был заполнен пассажирами, ждущими электричку. Семеновы хотели подойти к Кеше, поздравить, но пришел поезд, и все кинулись к вагонам, занимать сидячие места. Семеновы хором крикнули жениху:
— Желаем счастья!
Неизвестно, расслышал ли их Кеша. Им-то его и видно не было. Шиляк тоже оставил их, побежал к Анкудинову. Но, видимо, они разминулись, попали в разные вагоны. Третий свидетель видел Шиляка одного, с тем же свертком под мышкой. Механик пробирался через вагоны и у всех спрашивал, не видел ли кто Анкудинова.
Вот и все, что удалось выяснить. Ничего не смогла подсказать и Галя. Они просидели с ней за столом больше часу, обсуждая подробности дела.
Галя припомнила лишь второстепенную деталь. Как-то еще зимой она слышала от Октябринки странное признание — та боялась одного из своих ухажеров.
— Когда он смеется — у него глаза недобрые. Ему не смешно, он о другом думает.
Но участковому нужны факты, а не эмоции. Мало ли кому что кажется? А фактов против механика никаких. А если и есть, так сомнительные и тоже все построенные на эмоциях: застрелил кошку, грозил убить... Мало ли что наплетет сгоряча парень, которому девушка предпочла другого?
Иван пытался вспомнить, как Шиляк смеется. Возможно, Октябринка права — сухо, не заразительно смеется механик. Как по принуждению. Но ведь к следственному делу его улыбку не пришьешь.
Единственное полезное, что он все-таки извлек из разговора с Галей, была мысль привести в порядок все известное ему, выстроить четко и последовательно. Это ему понадобится, когда он будет излагать дело следователю.
* * *
На платформе Иван был один. Вот-вот подойдет поезд. На первом пути уже зажегся зеленый семафор. Невидимая за поворотом электричка наполнила морозный воздух колесным гулом. Наконец краснополосое тупое рыло вынырнуло из-за каменистого среза сопки.
Сошло человек тридцать. Большинство ехали дальше, в Кухту. Кстати, несколько свидетелей, названных Шиляком, были оттуда. Опросить их Иван не мог. На это надо потратить целые сутки — ехать в Кухту.
Электричка ушла, платформа мгновенно опустела. Иван подумал, что следователь не приехал, что-то там в районе переиграли, но в это время его окликнули:
— Белых!
Это был Завозин. Иван немного знал его, встречался, бывая в районе, но работать вместе еще не приходилось. Завозин — коренной сибиряк, правда не местный — ленский, из-под Киренска. Но он так же, как Иван, вырос в тайге, таежные обычаи знает, бил шишку, белковал, случалось, и на крупного зверя ходил. Иван опасался, что пришлют кого-нибудь из западников. Среди них попадаются такие, что решительно ничего не знают о Сибири. Представляют ее такой, какой она не была даже в прошлом веке. Завозин лишних вопросов не станет задавать — только о деле. Внешне Завозин произвел впечатление человека нерасторопного, медлительного. Верно, этому противоречило выражение его лица — нетерпеливые быстрые глаза и мгновенная, проницательная улыбка. Иван доволен, что следователь не молодой, ему не меньше сорока. К нему участковый испытывал уважение, не принуждая себя. Не нужно будет притворяться. Не то, чтобы притворяться, но все же не совсем искренне высказывать почтительность по долгу службы. Особенно не хотелось делать этого при Гале. А в обращении к Завозину нотки почтительности будут неподдельными.
— Начнем сразу о деле, — предложил Завозин, как только они поздоровались и Иван сказал, что им удобнее всего пойти в дом к учительнице, которая накануне была понятой: она может дать необходимую справку, если у следователя возникнут вопросы. Согласие Гали он уже получил.
— Рассказывайте по порядку.
Хорошо, что Иван все продумал и обсудил с Галей подробности, теперь ему легче было выстроить историю по порядку.
Подошли к дому. Иван на время прервался.
— Проходите, проходите, — в два голоса приветили их.
— Самовар поставлю, — заторопилась Галина мать.
Сухая лучина занялась огнем, самоварная труба по-самолетному загудела. Иван продолжил рассказ. Он был доволен собой: не путался, не перескакивал с одного на другое. Видел, что следователь тоже доволен, не перебивает вопросами. Рассказ он построил не в той последовательности, как сам знакомился с обстоятельствами. Начал с истории ухажерства и соперничества Анкудинова и Шиляка, упомянул про драку, сказал, какое условие поставила Октябринка жениху — помириться с Шиляком. Подробностей, как состоялась мировая, он не знал, ему известен только результат — помирились, и вдвоем отправились в райцентр за покупками. Что поездка состоялась, подтверждали очевидцы, названные Шиляком. Затем уже здесь, в Петляево, их пути разминулись: Шиляк поехал в Усово с дедом Ступиным и Кешиным дружком — те приезжали на станцию за бабкой Ануфриевой, родной сестрой деда Ступина, пытались зазвать ее на гулянку, — а Кеша Анкудинов махнул на лыжах. Он и раньше частенько не ждал попутной машины.
Иван нарисовал схему: указал все три нужных пункта — Петляево, Усово, Ельники, начертил дорогу и лыжню, пометил место, где они почти пересекаются и где Анкудинов, невесть почему, сбросил лыжи и выбежал на дорогу. Здесь его следы пропали.
На дорогу он должен был выйти раньше, чем появилась кошевка, если, конечно, с ним не приключилось беды. Ступин и оба парня утверждали: они ничего не слышали, ничего особенного не приметили. Все трое были убеждены, что Кеша обгонит их, будет в Усово раньше. Будь в санях один Шиляк, тот мог бы и пропустить что-то. Но Ступин и Вася Коряжин местные — зимой в тайге любой посторонний звук насторожил бы их.
Затем Иван рассказал, как его подняли среди ночи, что он застал в доме Ступиных, в каком состоянии была невеста, как они поехали в Петляево. Признался, что поначалу не придал серьезного значения этой истории, забеспокоился лишь, когда приехали на станцию, позвонили в Усово и услышали, что Кеша все еще не появился. Оставалось идти по его следам. Не скрыл от Завозина и то, как он оконфузился с сохатым. Ожидал, что следователь посмеется над ним, но тот даже и не усмехнулся.
«Пощадил», — подумал Иван.
Больше ему нечего было добавить, ждал вопросов.
— Самовар готов, — объявила Галя, помогла матери накрыть на стол.
Появились домашние калачи, шаньги с творогом и соленый хариус. Завозин задержал взгляд на рыбе. Так и просилось: «К такой закуси...» Во всяком случае, именно это подумалось Ивану. Завозин молчал. Иван не выдержал, как бы за него сказал:
— К такой закуси...
— Найдется, — объявила Галина мать.
— Нет-нет, — запротестовал Иван: получалось неловко, будто напросился на выпивку. Если уж кто и должен был поставить, так это он сам.
— Спасибо. В другой раз, — поддержал Ивана Завозин.
И было ясно, что сказал не ради церемонии — вначале для приличия отказаться, а потом уступить на уговоры — в самом деле не время выпивать, дело ждет.
Домашние калачи — теперь они и в деревне редкость — были необыкновенно душисты и вкусны. Попробовали хариуса. Иван на вкус определил: августовского улова. Еще Галин отец рыбачил. Последний раз рыбачил. В сентябре его похоронили. На будущий год женщины останутся без рыбы. Если только... Глянул на учительницу. Ему показалось — та же самая мысль мелькнула и у Гали.
Завозин спросил:
— Что еще можешь добавить про Шиляка?
Вот и он тоже остановил внимание на леспромхозовском механике. Иван старался не обмолвиться о своих подозрениях: не видел для них серьезных оснований.
— Какого мнения о нем сам? Что говорят люди? — уточнил следователь.
Пришлось выложить все, о чем Иван наслышался за эти дни. Выводов только не стал делать. У самого не было твердой уверенности, причастен Шиляк или не причастен к делу.
— Он мог, — неожиданно вмешалась Галя.
Припомнила случай на последних соревнованиях. На пятнадцатикилометровой гонке первое место должен был занять Юра. Почти всю дистанцию он прошел отлично. Ему и номер выпал удачный — стартовал после основных соперников. И лыжня стала лучше: к полудню пригрело, накат был хорошим. Он так и шел на первое место — никто в этом не сомневался. И вдруг на последнем спуске, на повороте чуть расслабился — занесло в сугроб, крепления не удержали лыжу на ботинке. Наверное, и это не помешало бы ему занять первое место. Ну, потерял лишних пять секунд — в запасе-то у него было полминуты. Но он засуетился, занервничал, заступил лыжей на лыжу, упал вторично. И совсем уже выйдя из себя, неловко оперся рукой — обломил носок лыжи. Тут и до финиша оставалось всего-то ничего — полкилометра по ровному полю, можно было и на сломанной лыже дотянуть. Сам не вышел в призеры, так команду не подвел бы. Но не таков Шиляк: либо первое место, либо ничего. Сорвал лыжи и забросил. И не пошел к финишу, где ждали люди, — побрел по целику в другой конец деревни.
Случай с лыжами никакого отношения к настоящему делу не имел, но Завозин выслушал, не перебивая.
— Еще что-нибудь не замечали? Ничего странного в поведении Шиляка вчера, сегодня?
Странного... Все было странным. Да только как это изложить следователю, Иван не знал.
— Подавленный он какой-то, усталый... Но понять его можно. Все подозревают, что он убил. К тому же он две ночи подряд не спал.
— Две?
— Вчера...
— Что было вчера, ты рассказал, — остановил Завозин Ивана.
— Позавчера всю ночь дрова колол. Нашло на него, стыдно перед Настасьей, хозяйкой, стало.
Случай с дровами неожиданно заинтриговал следователя — захотел знать все подробности: где была поленница, где теперь сбросаны расколотые дрова. Пришлось начертить расположение двора и всех построек. Тут только Иван сам обратил внимание на одну особенность, прежде ускользнувшую от внимания. Беспорядочная куча расколотых дров была накидана возле задней стены дома, вровень с подоконником. Расстояние туда от забора метров пятнадцать. Выходило, что Юра Шиляк зачем-то сделал двойную перекидку. Проще было оставить поленья посреди ограды.
— Может, он не хотел загораживать въезд. Вдруг понадобится, — предположил Иван.
Завозин уперся в эти дрова. Выспрашивал, не ошибся ли Иван, хорошо ли помнит расстояние между забором и кухонным окном? Ивану пришлось вспомнить, сколько окошек в избе, сколько из них обращены в палисадник, сколько — во двор. Как расположены крыльцо, сени, чулан.
Видно было, в уме у Завозина зрела догадка.
Кстати, Иван вспомнил и все, что было прошедшей ночью: как истошно выла собака, потом послышался выстрел, померещилась чья-то тень и как утром он нашел убитого кобеля.
Завозин, как будто весь напружинился изнутри. Сейчас бы и в голову никому не пришло назвать его медлительным, неповоротливым. Энергия копилась в нем, он, похоже, готов был вот-вот сорваться с места. Его состояние передалось Ивану — руки зазуделись от ожидания. Ясно было: еще мгновение — Завозин решит что-то окончательно, они вместе сорвутся и помчатся куда-то, то ли по Кешиному следу, то ли сразу брать преступника.
Так и получилось. Только Иван упомянул о последней встрече с Шиляком, сказал, что видел его с двумя канистрами — Завозин вскочил.
— С канистрами... — повторил он.
Машинально направился к вешалке, снял полушубок. Иван, не спрашивая, куда и зачем они собираются, также стал одеваться.
* * *
Машину нашли быстро — сельповский газик. Пока водитель кипятил воду, заливал в радиатор и прогревал мотор, Завозин молчал, но заметно было — нервничал, малейшая проволочка раздражала его
— Как можно быстрей! — сказал он, едва тронулись.
Молоденький паренек, шофер, того и ждал — он и сам не переносил медленной езды. Правда, наизволок быстро не разгонишься. К тому времени, когда вылезли на перевал, вода в радиаторе начала клокотать. Но дальше спуск был и мотор получил передышку.
В самом начале, когда выехали со станции, Завозин собрался было посвятить участкового в свои мысли.
— Ну ловкач — красного петуха решил пустить! — Но тут же сам себе возразил. — Какой там ловкач? Подонок! Одного не понимаю...
Он так и не продолжил фразы — задумался. Иван не прерывал его мыслей. Пытался сам разгадать, зачем Шиляку потребовалось пустить красного петуха? Впрочем, зачем ясно, скрыть какие-то следы, улики... Но какие?
В ранних сумерках с горы открылась деревня. Всего в нескольких домах светились огни, пока еще чуть заметные. Как только увидели деревню, Завозин перевел дух, он все время чего-то опасался. Велел:
— К дому Шиляка.
Свернули на верхнюю улицу. Когда сворачивали и открылся вид на нижнюю улицу во всю ее длину, увидели две или три машины и людей, которые занимались погрузкой. Опоздай они немного, и механик мог уехать. Иван подсказал:
— Шиляк может быть там, возле машин.
— Едем к дому!
Иван показал шоферу, где остановиться. Во дворе было пусто и тихо. Пахло бензином. Иван подумал, что этот запах вынесло из машины. Дрова лежали на прежнем месте, сбросанные возле стены. Наверное, следователь хочет осмотреть место, проверить правильно ли участковый нарисовал схему и определил расстояние. Но Завозин направился в сени. Из сеней шибануло бензином. Теперь было ясно: пахнет не от машины и не от их одежды.
— Если дома — будем брать, — прошептал Завозин, сунул что-то в руки Ивану — наручники.
Открыли дверь — пусто. Тихо. Почему-то тишина казалась подозрительной. Молча постояли на пороге, вглядываясь в сумеречную глубину избы. Иван догадался, почему тишина была подозрительна. Откуда-то, точно из-под земли, доносился негромкий скрежет, словно под полом кто-то отдирал доски. Скрипнет — и снова тихо. Потом опять короткий скрип, и тишина. Следователь пошарил справа от двери — щелкнул выключатель, вспыхнула электрическая лампочка. В комнате никого не видно. Посреди кухни теменью зияло раскрытое подполье.
— Кто там? — глухо принесло оттуда — голос Иван сразу не узнал. — За мной, что ли?
— За тобой, — сказал Завозин.
— Говорил: приду, не опоздаю, — сердился Шиляк, приближаясь к лазу. — Черти вас притартали.
— Они — черти, — негромко сказал Завозин.
Всхлипнули ступени старой лестницы — из-под пола возникла черноволосая голова. Шиляк даже не обернулся, не взглянул на вошедших. Оперся на половицы и одним махом выпрыгнул наверх. Лишь теперь повернулся к ним. Внезапную растерянность изобразило его лицо. Взгляд панически заметался. Он держал электрический фонарик, все еще включенный.
— Руки! Руки, — потребовал Завозин, движением ствола показывая Шиляку: руки нужно поднять. — Без баловства — буду стрелять!
Иван надел Шиляку наручники. Рубашка на нем была мокрой. От нее разило бензином.
Следователь взял фонарик Шиляка.
— Посторожи его, — велел Ивану, скинул полушубок и полез в подполье.
Шиляк молча глядел в темную яму. Потом перевел взгляд на Ивана и тут же отвел глаза. Нечто новое появилось в его лице — тупое безразличие ко всему. Выглядел он изможденным. Рядом была скамья. Шиляк покосился на нее. Спросил:
— Можно?
— Садись, — разрешил Иван.
Механик устало опустился на лавку. Казалось, больше его ничто не интересовало. Он даже не прислушивался к звукам, какие доносились из подполья.
Появился Завозин, держа в руках консервную банку из-под тушенки. Из нее торчал тлеющий фитиль, укрепленный наверху самодельным зажимом.
— Ну вот и обезвредили, — улыбнулся Завозин участковому.
Неизвестно как случилось, но вся деревня уже знала, нагрянула милиция, арестовали Шиляка. На улице толпился народ, большей частью ребятня и старухи. Но были и мужики.
— Лишним во двор не входить! — потребовал следователь.
Впустил в калитку троих.
— Начинайте дрова раскидывать. Остальным делать нечего! Только мешать будете.
Завозин распахнул ворота, попросил водителя развернуть машину и осветить фарами двор.
— Отведи его куда-нибудь, — велел Ивану. — Одного не оставляй.
Как раз напротив Настасьиного дома — изба бобыля Михея. Иван направил Шиляка туда. Люди перед ними расступились. Молчали. Шиляк шагал быстро, торопился уйти с глаз.
Изба Михея кажется брошенной. Топчан, стол да кривоногая лавка — больше ничего нет. Шиляк сел на скамью в простенке между окнами так, что ни его с улицы нельзя увидеть и ему ничего не видно. Иван стал посреди избы, чтобы и Шиляк был перед глазами и в окно можно было наблюдать. Там, будто на сцене под открытым небом, сейчас разыгрывался какой-то странный спектакль. Трое мужиков споро, наперегонки раскидывали дрова. Зрители теснились возле распахнутых ворот. Завозин, видимо, бранился, кричал, не пускал посторонних в ограду. Мальчишки влезли на забор, сверху комментировали, что же творится во дворе, тем старушкам и женщинам, которые не могли протиснуться к воротам, наполовину заклиненным машиной.
Шиляк не шелохнулся, не сделал даже попытки взглянуть в окно.
* * *
Тело убитого нашли под дровами. Труп был затолкан в старую колоду, когда-то служившую корытом, — из него поили скотину. Дрова сверху были облиты бензином. От них и пахло во дворе. У Шиляка все было приготовлено. Из подпола через ветровой паз к дровам и колоде вела дорожка из пакли, смоченной бензином. Запальный фитиль он уже поджег. Оставалось замкнуть избу, сесть в леспромхозовскую машину и уехать. Спустя четверть часа Настасьин дом вспыхнул бы, как факел. Убийца полагал, что огонь уничтожит главную улику — труп. Шиляка могли обвинить в небрежности, на худой конец в умышленном поджоге — и только.
Так он надеялся.
* * *
Еще находясь в избе у Михея, Иван по внезапному людскому гулу за окном догадался, произошло что-то особенное. Это было, когда мужики раскидали дрова и увидели свисающую из колоды руку. Завозин не удержал толпу — прорвались во двор. С минуту длилось затишье.
Лишь в эту минуту Шиляк проявил беспокойство. Тишина за стенами насторожила его. Он повернул голову, глянул в окно.
Вдруг с улицы принесло рев, толпа хлынула к дому Михея. Следователь опередил всех, вбежал на крыльцо. Иван покосился на Шиляка, решал, как ему поступить: сторожить арестованного или спешить на подмогу Завозину — один тот вряд ли остановит разъяренных людей. Хорошо, среди них нет Кешиного брата — Андрея.
Завозин остановил толпу.
Когда страсти немного улеглись и большая половина народу разбрелась по домам, Иван и следователь вдвоем препроводили Шиляка в сельсовет. Завозин остался с ним, Ивана отправил домой, предупредил, что ночевать и ужинать придет к нему. А уже завтра утром повезут Шиляка в район.
Прошло больше трех часов. Мясо тушеное с картошкой — единственное блюдо, которое Иван умел готовить, — давно перепрело на шестке. Самовар стоял наготове, лучина и угли припасены. Иван шагал взад и вперед по избе, глотал слюнки, запах перепревшего жарева терзал его.
Наконец, звякнул засов калитки, послышались шаги на крыльце. Более всего участковый опасался сейчас, что следователь придет усталый, не расположенный к разговорам, и Иван до утра не узнает, что же все-таки произошло: почему следы Кеши Анкудинова оборвались у развилки дорог, а труп очутился возле дома, где квартировал Шиляк? Но его опасения были напрасны: в прищуре темных глаз Завозина вспыхнули искорки, которые говорили вовсе не об усталости. Ему не терпелось поговорить.
Оба были голодны, мгновенно опустошили латку, доскребли со дна пригоревшую картошку и лук. За чаем приступили к разговору.
— Тебе не показалось ничего странного в показаниях свидетелей, которых называл Шиляк, тех что видели его с Анкудиновым на вокзале и в поезде?
Иван задумался.
— А ведь там была зацепка, да еще какая, — вроде бы с укоризной подсказал Завозин.
Мысли Ивана путались. Что же он упустил? Следователь готовился уже подсказать, но Иван опередил. Догадка явилась внезапно.
— Так ведь никто же из них близко не видел Кешу — видели одного Шиляка со свертками под мышкой.
Как он мог не придать этому значения? А еще готовится стать юристом! Одним Шиляк показывал на Кешу Анкудинова, который будто бы пил газировку и махал им рукой, другим объяснял, что ищет жениха —будто он и Кеша заскочили в разные вагоны. Зачем нужно было вообще называть этих свидетелей? Ведь в конце концов он разыскал Кешу в поезде, и должны быть люди, которые видели их вместе. А он называл лишь тех, кто видел его одного. Но все равно многое оставалось непонятным. Ведь потом в Петляево они встретились, даже поспорили, кто раньше будет в Усово: Кеша — по лыжне или же они — по дороге. И Кешины лыжи, воткнутые в сугроб... Иван своими глазами видел их. И следы лыжных ботинок от лыжни к дороге. Кто их оставил?
— Не был Анкудинов на лыжне в тот вечер. Не мог он там быть. Никак не мог, — сказал Завозин. — Не было его в живых уже.
— Но...
Опять все спуталось. С одной стороны, Ивану и возразить нечего. Кешин труп лежал под дровами, переколотыми в ночь накануне. Следы на лыжне оставлены почти сутки спустя.
— А ты поинтересовался у Ступина и Коряжина, видели они в тот вечер Анкудинова?
— Так ведь... дед, сразу как они ввалились ко мне среди ночи, первым делом заявил: Кеха на лыжах к невесте побег — свадебный костюм и невестин подарок в кошевку бросил.
— Таки сам бросил? Дед говорил, что видел Анкудинова, как тот бросил свой костюм в сани?
— Нет. Не говорил.
— То-то и оно. Все со слов Шиляка. Это ему Анкудинов будто бы передал свой костюм и ему же сказал, что побежит на лыжах. Ни Ступин, ни Коряжин в глаза не видели Кешу.
— Кто же оставил лыжи в сугробе?
— Шиляк.
— Шиляк? Но... — Иван хотел напомнить Завозину, что в то время, когда Кеша будто бы шел по лыжне, Шиляк сидел в санях рядом с Васей Коряжиным. Не мог же он одновременно быть на лыжне — если это он оставил лыжи в сугробе — и ехать в кошевке. И Вася Коряжин и дед Ступин показали одно: дорогой не останавливались, никто из троих не выходил из саней,
— Ты хорошо смотрел следы в сугробе?
— Вроде...
— То-то, что вроде, — безобидно рассмеялся Завозин. — Если бы хорошо глядел, должен был увидеть — дважды прошли по одному следу. Либо двое прошли, либо...
Иван молчал. На ум ничего не приходило. Почему по следу прошли двое? Кто второй, откуда взялся?
— ...Либо дважды прошел один человек, — досказал Завозин. — Первый раз в запятки от дороги к лыжне, воткнул в сугроб лыжи и палки и вернулся назад по своему же следу. Не просто было разглядеть оба следа, — смилостивился Завозин. — По весне снег сыпучий. Опытный охотник может ничего не заподозрить. Простительно, — утешил он Ивана. — Но вот почему...
Он сделал паузу, давая Ивану возможность хоть сейчас, с запозданием, реабилитировать себя.
— Надо было выяснить, как Кешины лыжи попали в Петляево, — воскликнул Иван. — Ведь, если Шиляк и Кеша утром пришли туда из Усово, на день они у кого-то оставляли лыжи. Скорей всего у Парамона.
— Во-во!
— И, стало быть, лыжи Шиляка все еще находятся там.
— Во-во, — совсем уже благодушно заулыбался Завозин.
А у Ивана в голове начало запоздало раскручиваться: вопросы, какие ему полагалось выяснить, возникали один за другим: непременно следовало зайти к Потапихе — у нее в доме ночевал Кеша, и не могла она позавчера утром не слышать, как он собрался, встал на лыжи.
Зато следователь успел побывать у нее. Потапиха показала, что Кеша Анкудинов в ту ночь не ночевал дома. Ее это не обеспокоило: мало ли какие дела могли быть у жениха, запозднился у Ступиных, наконец. А утром, чуть свет, вернее, задолго еще до света к ней нагрянул Шиляк, сказал: Кеша послал его за лыжами — вдвоем спозаранку собрались в Петляево, чтобы успеть к электричке. Потапиха и разнесла по деревне новость — Шиляк и Кеша помирились.
Если бы вчера утром Иван завернул к ней, так он, пожалуй, о многом догадался. Наверняка заподозрил бы неладное.
Один заварник они опорожнили: Иван заварил вторично. Пока он доливал самовар, направлял его, Завозин, не дожидаясь расспросов, стал рассказывать, что он выведал от Шиляка. Тот ни в чем не запирался. Не нужно было хитрить, расставлять ловушки — Шиляк выложил все, как на духу.
Да, плохо сделал Кеша, что послушался Октябринку, пошел мириться с соперником. Возможно, думал: они опять подерутся, но у него будет оправдание перед невестой — он сделал попытку примирения. Только не таков был Шиляк, чтобы признать свое поражение да еще прийти на свадьбу — на торжество соперника. Когда под вечер к нему в избу с поллитровкой в кармане заявился Кеша, предложил распить мировую, Шиляка даже оторопь взяла. Ничего подобного он не ожидал. Первую вспышку ярости подавил, не показал виду. Вначале его намерение было сравнительно безобидным, хотел дождаться, когда Анкудинов разольет водку, предложит выпить, и тогда выплеснуть весь стакан в ненавистное лицо. Завязалась бы драка, может быть, жестокая, но вряд ли бы дошло до убийства.
Кеша ненамеренно проговорился, что никого не встретил дор
огой. Эта случайная фраза запомнилась Шиляку — он выделил ее про себя, еще не зная, что следует из этого, какую пользу можно извлечь из того, что в деревне никто не видел, куда направился Анкудинов. Не будут знать, где его искать, если... если он вдруг исчезнет? Верно, останется Октябринка, она знает. Но мало ли что — пошел да раздумал. Кто видел?
— Хозяйка моя не попалась навстречу? — намеренно спросил Шиляк: хотелось, чтобы Кеша еще раз подтвердил — никто его не видел. — Недавно заходила. Сердится на меня. В ограде не прибираю.
— Да, к тебе, брат, не проберешься — через сугробы брести нужно. Нет, не видел твоей Настасьи. Ты бы все же исколол ей дрова. А то ходит по деревне, жалуется: обленился мой квартирант. Деревня как вымерла, — добавил Кеша.
Шиляк прислушался и подтвердил:
— Деревня как вымерла.
Будь Кеша повнимательней, он бы заметил, как дрогнул голос Шиляка — внезапный озноб прошиб его.
Шиляк признался следователю, что именно тогда и пришла ему мысль прикончить соперника. Чтобы тот не торжествовал, не праздновал победу. Полоснула обида и злость на Октябринку, которая ему, Шиляку, предпочла какого-то узкоглазого сморчка. В жилах всех Анкудиновых текла тунгусская кровь. Лет двести тому назад кто-то из первых пришельцев породнился с женщиной местного племени. С тех пор из поколения в поколение парни и девки в семье Анкудиновых рождались узкоглазыми — сильна местная кровь.
Остальное происходило будто по чьей-то подсказке. Шиляк действовал точно в бреду.
Пока Кеша откупоривал бутылку, разливал в стаканы, Шиляк выскользнул в сени.
— Сала мороженого принесу на закусь, — сказал.
Анкудинов не обернулся, не отозвался.
В сенях сам собою под руку попал топор. Сало Шиляк все же прихватил. Вернулся в полутемную клеть избы, держа в одной руке перед собой шматок сала, в другой, сзади на отлете, — топор. Кеша впотьмах склонился над столом.
— С одного удара, — сказал Шиляк на допросе, особенно напирая на это, «с одного удара», дескать, не мучился.
Это невольное признание убийцы поразило следователя. Сейчас, рассказывая, он взглянул на Ивана и повторил:
— С одного удара.
Иван отчетливо представил себе, каким тоном должен был произнести эти слова Шиляк. Невольно передернуло от смешанного чувства неприязни и жалости к убийце. Вспомнилось его лицо, каким оно было в ту ночь, когда Шиляк с дедом Ступиным и Васей Коряжиным заявились сюда. Непросто было Шиляку притворяться.
Завозин продолжал:
— Сначала он растерялся. Страх и ужас охватили. Хотел тут же покончить с собой — стал искать веревку. Потом его обуяло — бежать! Остановила трезвая мысль: далеко не убежишь. Спрятать тело. Но куда спрячешь? Не иголка.
Померещилось — кто-то клацнул задвижкой. Заметался, запаниковал. Немного спустя выглянул из сеней — никого. Обошел вокруг дома, следов не видно. Наткнулся на колоду.
Вот куда заховать...
Но даже и в темноте увидел свой след — сообразил, что утром и другие могут обратить на него внимание. Разыскал в сенях пихло, хотел разгрести снег. И опять раздумал: завтра кто-нибудь ненароком завернет в ограду и по расчищенному-то скорей доберется до колоды.
Вспомнил про половики, лежащие на полу. На них должны быть следы. Бегом в избу. Вынес половики в чулан. Здесь было немного поленьев, запасенных для растопки. Закидал ими половики — все не на виду.
И вот тут его осенило...
Было уже за полночь, а он все колол и колол дрова — со всей поленницей разделался. Зато такая гора получилась и во дворе весь снег утоптался, замусорился щепой.
Заранее продуманного плана у него не было, дельные мысли приходили одна за другой. Посмотрел на дрова — подумалось о пожаре. Представил себе, какой это будет кострище, какое пламя охватит стенку дома и гору поленьев... Только бы не успели затушить, дали хорошо разгореться. Если спохватятся сразу, могут залить огонь. Эта мысль — набегут люди, затушат пожар — и удержала его. А то бы поджег сразу. Нет, пожар нужно подготовить как следует. Такой огонь должен заняться, чтобы подступиться с ведрами было нельзя. Пока сообщат в Петляево, да оттуда пришлют пожарную машину — от избы останутся одни головешки.
И другое соображение удержало его. Если он сейчас пустит петуха, сразу заподозрят — неспроста. Хватятся, куда девался Анкудинов? Октябринка объявит: пошел к Шиляку мириться. И дураку станет ясно, что к чему.
Нужно что-то придумать, увести Кешин след подальше от дома, может быть, вообще из деревни — пусть ищут его в другом месте. А пожар случился сам по себе, никак не связанный с пропажей жениха. Пустить слух, что жених побежал на лыжах? Нелепость. Кто поверит? Куда и зачем он пойдет на лыжах в канун свадьбы?
Но эта зацепка, на лыжах, засела в уме. Куда и зачем? Да очень просто — в Петляево, съездить в райцентр за покупками к свадьбе. Не захотел ждать утра, искать попутную
машину — побежал на лыжах. Он бывало и раньше поступал так. Поверят. Мысль работала лихорадочно.
Но как же поверят, если Кешины лыжи останутся в сенях у Потапихи, где он обыкновенно ночует?
Пришлось утром идти к старухе, от Кешиного имени просить лыжи, сочинить басню, будто они помирились. Не знал только, что сказать, если старуха спросит: почему это ее родственничек не ночевал дома и не явился за лыжами сам, отправил посредника? Сказать: побежал к невесте, предупредить, чтобы не потеряла его. Это правдоподобно. Верно, после установят, не был Анкудинов у невесты, не показывался там со вчерашнего вечера. К счастью, Потапиха ничего не заподозрила, не поинтересовалась, где Кеша, поверила Шиляку.
Что дальше делать? Вдруг сама собою увиделась картина: Кешины лыжи торчат из сугроба посреди леса. А куда он сам девался, неведомо. Там и станут искать его — в тайге.
Ну, и после уже продумал, домыслил остальное. В потемках, по спящей деревне вывел за поскотину мотоцикл, приторочил к нему Кешины лыжи. Не забыл — обул лыжные ботинки. Взобрался на перевал, к месту, где дорога близко подходит к лыжне. Торопился, не застали бы его. Но в этакую рань по дороге редко кто проезжает.
Хотел развернуться назад — раздумал. Хорошо, если бы Кеша исчез не из Усово, где его — со слов Октябринки будет известно — последним видел Шиляк, а пропал бы после, уже возвращаясь со станции.
По пути до Петляево обмозговал остальное. Мотоцикл зарыл в стожке сена невдалеке от дороги. Никто не должен видеть, на чем приехал на станцию.
Не стал дожидаться электрички, вскочил на попутный товарняк. Теперь нужно было в городе оставить Кешины следы. Зашел в контору, объявил о предстоящей свадьбе, сказал, будто приехал только что вместе с женихом — тот сейчас бегает по магазинам, делает покупки. Нужен был такой слух. Новость быстро разойдется по городку. После, когда захотят, так не вдруг установят, кто первый пустил слух.
Тут, кстати, Шиляка пригласили в бухгалтерию, выдали квартальную премию. На эти деньги купил свадебный костюм для Анкудинова и магнитофон для невесты. Эти вещественные доказательства тоже сыграли бы свою роль. Их заметят и запомнят. А кому придет в голову, что покупки делал не Анкудинов?
А в Петляево, как будто нарочно, встретился дед Ступин с лошадьми. Сам бог его послал. Вначале Шиляк замышлял дождаться темноты, извлечь свой мотоцикл, приехать на нем в Усово. Дома приодеться по-праздничному, заявиться к Ступиным на свадьбу, принести Кешин костюм и магнитофон. Разыграть изумление: куда это пропал жених? Сказать, что они расстались в Петляево: Кеша побежал на лыжах, а он на мотоцикле. Заверить: придет скоро.
Теперь и этого не нужно будет. Оставалось провести деда Ступина и Васю Коряжина, чтобы тем не взбрело в голову заподозрить. За день Шиляк совсем вошел в свою роль — Ступин и Вася все приняли за чистую монету.
Казалось, шло гладко, как было задумано. Осталось уничтожить труп. Пока он лежит в колоде под дровами, Шиляк не мог быть спокоен. Каждая минута могла стать роковой для него. Но и спешить опасно. Лучше будет, если пожар случится позднее. Кому тогда придет в голову связывать исчезновение жениха с пожаром?
Прошедшая ночь оказалась тревожной. Видно, Кешин кобель то ли почуял беду, то ли просто заскучал по хозяину — сорвался с привязи, прибежал в Усово. И уж он-то сразу напал на след. Уселся перед оградой, задрал нос кверху и завыл. Шиляк и так и этак на него — пробовал прогнать. Пришлось застрелить. Уволок собаку подальше от своего дома. Если назавтра пойдут разговоры, можно будет сказать, что ему надоело слушать вой — пальнул в темноту наугад, попал или нет, не знает. Собака завизжала и удрала. Потом и найдут труп, так не осудят же его за собаку.
— Какой же я болван! — искренне воскликнул Иван.
Завозин засмеялся.
— Шибко не огорчайся. Многие бы на твоем месте так же промахнулись. С кем угодно могло случиться.
— Но вы же сразу разобрались.
Завозин покачал головой.
— Куда там. Первое, что меня насторожило — свидетели. Липовые они все получались. Это одно и насторожило. А связать, что к чему, не видел возможности. Лыжи посреди сугроба и меня сбили с панталыку. С утра хотел начинать оттуда, от этого следа. Но когда ты про дрова рассказал, зародилось подозрение. Что-то тут не так. А уж когда упомянул про канистры, мелькнуло в уме — пожар! А зачем нужен пожар, известно. А как одно с другим связывалось — лыжи в сугробе и пожар — ничего не понимал.
— И меня эти лыжи сбили с толку.
— Так тебя сбить немного хитрости нужно, — послышался голос тетки Ирины (вот ведь старая, не спит!) — У тебя другое на уме было.
— Теть Ира... — пробормотал Иван.
— В краску не вводите человека, — рассмеялся Завозин.
— А ничего. Пущай покраснеет. Говорили же все ему: Шиляк убил. Так ему надо было в Петляево ехать — тама, в интернате искать.
Иван посмотрел на следователя: интересно, сказали ему что-нибудь слова про интернат? Если и сказали, так виду он не подал.
— Спать уже пора. Утро скоро, — сказал Завозин.
Ребята из УГРО

ПРОЛОГ

В этот год холода упали рано. Землю чуть припорошило снегом, а ему бы, снегу-то, идти да идти — ведь морозы жмут такие, что впору Ангаре становиться, а она почернела, покрылась ледяным салом и бежит себе да бежит. Вьется над рекой пар, стынет на морозе и мохнатым инеем-куржаком опускается на старинный город Иркутск. Редкие фонари с холоду притушило, затуманило, и с вечера нет на улице людей. После тепла в бабье лето прячется по домам народ. Хоть и сибиряки, а отвыкли за лето от стужи, да и навалилась она не ко времени. Морозы, что ни день, крепчают. Трещат от них лиственничные венцы рубленых домов. Лопаются деревья в комле от опустившегося книзу сока. Собаки жмутся к теплу: шкура летняя, без подшерстка, греет плохо. Извозчики, на что народ дюжий, ко всему привычный, но и те по домам сидят, только самые жадные выезжают и дерут за пяток кварталов по трешке. В такую погоду разве крайняя нужда из дому выгонит, особо к ночи.
Хоть и мало фонарей, а далеко видно одинокого прохожего, поднимающегося вверх по Русиновской. Торопится человек, а по дощатому тротуару не разбежишься: заледенели доски, прикрытые снегом дыры, словно капканы, ждут, чтобы человек оступился. Внизу, ближе к базару, на Русиновскую медленно выползла кошева, запряженная парой мухортых кобылок. Кучер придержал их в тени, что падала на дорогу от забора. Седок, устроившийся позади, встал, огляделся, заметил человека, что-то сказал кучеру, и тот свернул лошадей вслед. Заслышав скрип полозьев, прохожий оглянулся, увидел упряжку и сразу заспешил, ткнулся в калитку у первых ворот, но она и не шевельнулась — видать, на крепком засове была, — бросился вперед, прижимаясь к забору, поскользнулся, упал и едва поднялся, как над ним взвился аркан. Ременная петля захлестнула грудь, притянула к туловищу руки так, что ни сбросить ее и ни ослабить. Кучер погнал лошадей, и человек запрыгал вслед за кошевой. После нескольких скачков упал и тащился на аркане по обледенелой дороге. Бандиты втянули его в сани, и лошади рысью пошли в гору. Ни крика, ни шума. Прижал тишину хлесткий мороз…
«…Сообщаю, что за сутки моего дежурства по Иркутскому областному уголовному розыску с двадцать третьего на двадцать четвертое октября 1938 года зарегистрировано одиннадцать преступлений. По городу Иркутску: разбойное нападение кошевочников — одно не раскрыто. Грабежей — три, два преступника разъездом конной милиции задержаны. Краж — четыре, одна раскрыта. По области: в Черемхово обворован промтоварный магазин. В Тайшете — тяжкое ножевое ранение. На Качугском тракте вооруженный налет на базу «Баргузинзолото продснаба», в перестрелке убито два бандита, трое, отстрелявшись, скрылись. Меры к их розыску и задержанию приняты…»
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Саша проснулся рано. В окно сквозь разрисованные морозом стекла смотрела белесая от снега ночь, тускло светился фонарь на противоположной стороне улицы. В комнате, где спали отец и мать, тикали ходики. Чтобы узнать время, он поднялся со своего топчана и потихоньку, босиком, ступая на цыпочках, пошел в соседнюю комнату, подобрался к стене, пощупал на часах стрелки и очень удивился — было около пяти утра. Больше четырех часов оставалось до того времени, когда он, Саша Дорохов, придет в уголовный розыск и начнет искать преступников. Просто не верилось, что теперь не нужно ходить в институт, сидеть на лекциях, готовиться к зачетам.
За одну шестидневку вся жизнь полностью изменилась. Саша забрался в постель и закрыл глаза, но заснуть не мог. Разные мысли лезли в голову. Все началось совсем недавно, в комитете комсомола института. Его и Женьку Чекулаева вызвал секретарь, вручил конверт, запечатанный сургучными печатями, и велел идти в горком комсомола.
Дальнейшее отчетливо врезалось в память — наверное, на всю жизнь.
…Подходил к концу тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Студенты второго курса Иркутского сельскохозяйственного института Саша Дорохов и Женя Чекулаев, как и многие их сверстники, мечтали попасть в Интернациональную бригаду и драться за свободную Испанию. Они увлеченно занимались спортом, втайне надеясь, что физическая закалка им пригодится в скором времени в схватках с франкистами. Но время такое не наступало, и будущим агрономам ничего не оставалось больше, как добросовестно изучать почвоведение, агрохимию и другие науки…
Быстро шагая по улицам, парни пытались разгадать тайну конверта, и при мысли, что их все-таки могут послать в Испанию, обоих обдавало жаром.
В горкоме, возле раздевалки, они увидели еще двух комсомольцев. Дорохов подтолкнул приятеля:
— Смотри, и Колесов Степан здесь. Помнишь, он еще с первого курса от нас сбежал в педагогический? Колесов, подожди! Не знаешь, зачем нас вызвали? — Саша подошел к загорелому, большеглазому парню в новенькой лыжной куртке.
— Понятия не имею. Да, знакомьтесь, ребята, это тоже будущий педагог — Володя Лисин. Между прочим, по легкой атлетике перворазрядник. Ну, пошли, что ли!
В приемной секретаря оказались еще ребята. Одни чинно сидели на расставленных вдоль стены стульях, другие собрались группами и тихо беседовали. Были здесь и знакомые. Вот этот, худой и длинный как жердь, у которого руки чуть ли не до колен, Толька Боровик из медицинского, тоже боксер. К нему на ринге и не подступишься: руки что оглобли, как ни блокируй, обязательно наткнешься на кулак. В ближний бой на хороший удар ни за что не подпустит. Боровик разговаривал с двумя незнакомыми ребятами. Заметив Дорохова и Чекулаева, он поднял сжатый кулак, точь-в-точь как приветствовали друг друга республиканцы в Испании. Чуть дальше, возле стены, облокотившись на тумбочку с бюстом Николая Островского, стоял еще знакомый парень из университета, которого звали Лёсиком.
Чекулаев ткнул приятеля в бок, хмыкнул:
— Часа два, видать, сидел в парикмахерской!
Лёсик был известный модник. Коротко стриженная челка блестела, побритый почти до макушки затылок отливал синевой. Даже сейчас, в мороз, он щеголял в остроносых туфлях «джимми» и в широченных брюках «Оксфорд». Разговаривая с парнем, Лёсик то и дело поглядывал на свои часы с черным циферблатом и на металлической браслетке. Смотрел не по надобности, а для пижонства, чтобы все видели: у него часы.
— Пирог без начинки, — буркнул Дорохов и отвернулся.
— Гляди-ка! — оживился Чекулаев. — И Андрюша Нефедов здесь.
Саша увидел грузно сидящего на стуле в углу комнаты большого красивого парня. Он учился в Политехническом институте и занимался французской борьбой. Силища у него была дай бог! И весу, наверное, не меньше девяноста килограммов.
«Ну все, точно, — про себя решил Саша. — Собрали спортсменов. Подучат немного — и туда. Только зачем здесь Степан Колесов, он-то спортом никогда не занимался?»
— Ребята, куда нас? — громко, на всю комнату, спросил Боровик. — Может, в Испанию?
— Ты что, летчик, а может быть, снайпер? — ехидно отозвался Лёсик. — Там только тебя и не хватает.
— А мы что, не годимся, по-твоему? — угрожающе огрызнулся Боровик и двинулся к Лёсику.
Но спор не состоялся. Инструктор широко распахнул дверь:
— Заходите, рассаживайтесь.
То, что они услышали, привело всех в смятение.
— Товарищи комсомольцы! Борьба с уголовной преступностью в настоящее время является задачей государственной важности. — Секретарь Иркутского городского комитета комсомола, плотный, внушительного вида парень со спокойными, широко расставленными глазами, сделал паузу и оглядел ребят.
Дорохов с нескрываемым удивлением посмотрел на Чекулаева и других. Ну какое отношение к ним имеет преступность?
— В период индустриализации всей страны, — продолжал секретарь, — когда на наших глазах вырастают гигантские стройки и советские люди впервые в мире своим героическим трудом строят социализм, нельзя мириться со всякими пережитками. Мы должны объявить непримиримую войну всем преступникам: убийцам, грабителям, ворам. Сделать так, чтобы в нашем городе труженики без страха ходили по улицам и не беспокоились о своем имуществе, оставшемся дома.
— При чем тут мы? — не выдержал Лёсик.
— Пусть милиция лучше работает! — заявил кто-то довольно громко.
— Запишут в бригадмил, — прошептал на ухо Сашке Чекулаев.
— При чем тут мы? — повторил вопрос секретарь. — Сейчас объясню. Центральный Комитет ВКП(б) принял решение направить в органы милиции образованных и энергичных коммунистов и комсомольцев. Бюро городского комитета рекомендует присутствующих на работу в уголовный розыск.
— Как это — на работу? А учеба? — поднялся из-за стола Андрей Нефедов.
— Садись, — попросил секретарь. — Сначала послушаем начальника кадров областной милиции, а потом разберем ваши вопросы.
Поправив под ремнем гимнастерку, с дивана поднялся пожилой мужчина с ромбом в петлицах.
— Ребята, вы все грамотные люди, — неторопливо начал он, — и знаете, что комсомол направляет лучших на самые острые участки, туда, где труднее всего. Вспомните хотя бы Комсомольск-на-Амуре.
Меня самого в 1924 году с комсомольской работы послали в милицию. Раньше мы принимали в уголовный розыск коммунистов и комсомольцев, умеющих владеть оружием и обращаться с конем. И они сразу садились в седло и начинали бороться с бандами. Сейчас нет таких банд. В основном ликвидирована профессиональная преступность, доставшаяся нам в наследство от царской России, но остались еще рецидивисты, они притаились и действуют исподтишка, вербуют себе помощников из неустойчивых людей, главным образом из молодежи. Нам нужны образованные, политически грамотные люди. У нас есть своя высшая школа, да вот беда — одна на всю страну. Конечно, будут у нас еще учебные заведения, тогда мы сможем сами готовить для себя кадры. Пока нам пришлось попросить городской комитет партии направить в уголовный розыск студентов. — Он обвел кабинет требовательным взглядом. — Сейчас мы пойдем с вами в управление. Вас примет начальник уголовного розыска, после медицинской комиссии зачислят практикантами, прикрепят к опытным сотрудникам. Те, кто проявит способности, после испытательного срока будут приняты в штат. А теперь спрашивайте.
Сразу посыпались вопросы. Как быть с зачетами? Дадут ли оружие? Оставят ли жить в институтском общежитии?
Чекулаев и Дорохов сидели подавленные и разочарованные. Какая Испания — воров хватать?! Женя даже руками развел.
— Ты чего?
— А того, — зашептал Чекулаев. — Как дома-то сказать? Отец не простит мне, что институт брошу. Сам понимаешь.
Саша хмыкнул:
— Еще бы! Мои тоже взовьются. Хотя еще неизвестно, что для них лучше — Испания или уголовный…
Володя Лисин из педагогического, дружок Степы Колесова, встал и в упор спросил, можно ли отказаться от работы в уголовном розыске?
Секретарю вопрос не понравился.
— Как ты думаешь, может ли комсомолец не выполнить решения бюро? — И, не давая ответить, отчеканил: — Ваше направление следует рассматривать как комсомольскую мобилизацию. Каждая кандидатура обсуждалась в институте с руководящими товарищами милиции и потом уже утверждалась на бюро.
— А как будет с теми, кто не пройдет испытательного срока? — полюбопытствовал Боровик.
— Если такие окажутся, то по нашему ходатайству их восстановят в институте, — сообщил начальник кадров.
В управление милиции комсомольцы шли быстро и молча.
В бюро пропусков, когда проверили всех по списку, оказалось, что нет Лёсика. Кто-то сказал, что он опоздал, задержался по дороге и вот-вот подойдет. На всякий случай ему оставили пропуск.
На втором этаже, возле кабинета начальника уголовного розыска, ребят попросили подождать. Они уселись на длинные деревянные диваны и с интересом рассматривали проходивших мимо сотрудников. В большинстве своем это были пожилые или средних лет мужчины в полувоенной форме.
Один из них на миг задержался и, подняв руку, громко отчеканил:
— Приветствую новое пополнение рядов уголовного розыска!
— Спасибо! Мы тоже рады… Постараемся… — Ребята ответили вразнобой и невпопад.
Откуда-то вынырнул щеголеватый парень в новенькой гимнастерке, опоясанной широким кожаным ремнем, подошел к Боровику.
— А я тебя знаю, — сказал он, — болел на городских весной. Ловко ты обработал тогда призера. Это здорово, что у нас в розыске будут такие боксеры. Может, и меня подучишь? — подмигнул он Боровику. — Я Огарков, — представился он, — помощник уполномоченного.
— Чей помощник? — не понял Анатолий.
— Ничей. Это должность такая. Первая — помощник уполномоченного, потом — уполномоченный, а самая верхняя — оперативный уполномоченный. У него в подчинении целая группа уполномоченных и помощников.
Разговаривая, Огарков все время поправлял гимнастерку, пояс, передвигал на нем револьверную кобуру, явно желая щегольнуть перед ребятами своими воинскими доспехами. А кобура была действительно хороша — новенькая, из темно-коричневой кожи — и крепилась к ремню совсем не так, как у военных или милиционеров.
Уверившись, что новички обратили внимание на его оружие, Огарков объяснил, что это кобура заказная, ее почти не заметно под штатским пиджаком. И он, Огарков, недавно ее специально сшил у мастера. Когда ребята получат оружие, то он сможет устроить и им такие же.
Завладев вниманием ребят, Огарков заговорщическим шепотом стал предупреждать их, чтобы не робели перед начальником уголовного розыска, когда, он начнет каждого проверять на храбрость.
Боровик сразу же поинтересовался, как испытывали его самого, и Огарков, оглядываясь по сторонам, зашептал:
— В прошлом году захожу к начальнику в кабинет и, как полагается, докладываю, что такой-то прибыл для поступления в уголовный розыск. Начальник спрашивает: «Не боишься?» Отвечаю: «Нет». Тогда он кричит: «Сними кепку!» — а сам из стола вынимает огромный маузер и сразу — бах! Смотрю — в кепке дыра. А он велит отогнуть полу пиджака и опять — бах! В пиджаке тоже дыра. Ну, я, конечно, стою, держусь, понимаю, что это испытание, проверка. А он спрятал в стол пистолет, достал два червонца, сказал, чтобы кепку новую купил да пиджак заштопал, и объявил, что я принят.
Возле них незаметно остановился средних лет мужчина в полувоенном костюме и тоже слушал рассказ. Едва Огарков кончил, схватил рассказчика за шиворот.
— Опять заливаешь? Хоть бы вы его отлупили, ребята! А ну-ка, идем к начальнику розыска, он тебя не на страх, а на брехню проверит.
— Что вы, дядя Миша! И пошутить уж нельзя, — еле вырвался застигнутый врасплох Огарков.
— Нашел кого разыгрывать! Не беспокойтесь, ребята, все у вас будет хорошо! — улыбаясь, сказал дядя Миша.
Разговор с начальником уголовного розыска, и верно, оказался совсем не страшным. Михаил Миронович Чертов, невысокий, лет сорока человек, в милицейской форме с двумя ромбами в петлицах, выглядел солидно. Правда, строгие черты его лица смягчала неожиданная широкая улыбка. Разговаривал он с ребятами тепло, по-отечески. Спрашивал о родных, об учебе и увлечениях. Задушевная беседа расположила к нему комсомольцев.
Однако настроение у них все же было не ахти какое. Нежданно-негаданно свалилось им на голову новое, непонятное дело, в одно мгновение разрушившее спокойную, налаженную жизнь. Один Боровик был доволен: балагурил, подтрунивал над товарищами.
— Слушайте! — вдруг спохватился он. — А где же все-таки Лёсик? Он так и не появился!
Ребята отозвались вразнобой:
— Да струсил, струсил Лёсик. За часы испугался!
— Точно!
— Плевать на этого пижона! Обойдемся без маменькиных сынков! — решил Нефедов.
Ругнув еще раз дезертировавшего Лёсика, все сошлись на том, что при случае поговорят с ним по душам.
Из девяти комсомольцев четверых направили на работу в районы, где проживали их родители. Пятерых — Боровика, Дорохова, Чекулаева, Колесова и Нефедова — определили практикантами в Иркутский областной уголовный розыск. Всех прикрепили к опытным оперативным работникам и велели на следующий день приходить на работу.
И вот этот день наступил.
Саша припомнил, что в институте, когда он с Женей Чекулаевым пришел за документами, им сказали, что ждут их обратно после полной ликвидации преступности. Но сколько тогда лет исполнится Сашке? Тридцать? А может, и все сорок? Будет уже не до учебы… Так что придется, видно, забыть и про агрохимию, и про почвоведение. Впереди только бой с преступниками. Вчера секретарь комитета комсомола управления, принимая его на учет, говорил, что уголовный розыск в милиции самый боевой отдел, что в нем работают самые смелые, самые решительные люди. Правда, все это секретарь сказал к слову, к тому, чтобы он, Сашка, в случае чего приходил к нему за советом и помощью. Но по плечу ли ему это новое дело? Справится ли он? Оправдает ли доверие?
Укутавшись одеялом, Саша никак не мог согреться, унять дрожь. В квартире было тепло, и он понял, что знобит его не от холода. Такой же озноб бил его всякий раз, когда объявляли о предстоящей схватке с новым боксером. Однако это нервное напряжение мгновенно снималось, едва он нырял под канаты ринга. Вот и сейчас Саше казалось, что его сразу же пошлют ловить бандитов, воров или грабителей. А как их задерживать? Кто они, эти будущие противники? Какие у них повадки? Какой нужно придерживаться тактики, вступая с ними в схватку? Разные слухи ходят о бандитской смелости. Говорят, кошевочники, что грабят и убивают прохожих по ночам на улицах, вооружены. Ребята в институте рассказывали, как на Иерусалимском кладбище чуть ли не полдня шла перестрелка с бандитами, забравшимися в склеп. Как же держаться, если сразу же пошлют кого-нибудь ловить? И оружия у него нет. Пообещали выдать револьвер, когда они его изучат и сдадут зачеты по стрельбе. По стрельбе он готов хоть сейчас. Из мелкокалиберной винтовки норму на ворошиловского стрелка сдал, из пистолета стрелял хоть и немного, но выполнил нормы третьего спортивного разряда.
«Самое главное, не растеряться на первых порах, а то ошибку или просчет примут за страх. А попробуй докажи, что ты не трус. Ладно, буду действовать по обстановке», — успокоил он сам себя и стал обдумывать, в чем лучше идти на работу. Он видел, что сотрудники одеты прилично и большая часть в полувоенных костюмах, к гимнастеркам подшиты белые подворотнички, хромовые сапоги начищены до блеска. Но такой одежды у него не было, и он решил, что лучше всего надеть праздничный костюм, синий, шевиотовый, почти новый. Правда, здесь сразу возникали сложности. С костюмом положено надевать туфли. А если пошлют за кем-нибудь следить? На улице вмиг ноги окоченеют. Куда лучше валенки. Но они не новые, с заплатами, и в них, пожалуй, неудобно показываться в первый раз. Вот что: он наденет костюм и ботинки; если и пошлют куда, померзнет немного. Мать, конечно, станет спрашивать: «Зачем вырядился? Куда собрался?» Придется соврать, что после института пойдет в Дом культуры или на студенческий вечер. Ребята еще при прохождении медкомиссии договорились не рассказывать дома про уголовный розыск. Еще неизвестно, как все повернется. Как-никак испытательный срок.
Вчера всех пятерых, оставшихся в Иркутске, собрали в отделе кадров. В одно из отделений назначили Нефедова с Колесовым, в другое — Чекулаева, Боровика и его, Сашу Дорохова. Тут же каждого передали, что называется, из рук в руки опытным работникам. Сашу прикрепили к Михаилу Николаевичу Фомину, тому самому дяде Мише, который высмеял Огаркова при их первой встрече.
Фомин, улыбаясь, взял Сашу под руку. Сразу стало заметно, что он почти на голову ниже своего ученика.

— Идем, покажу тебе наш кабинет. Хоромы не бог весть какие, но работать можно. — Заметив смущение практиканта, похлопал его по плечу: — Не волнуйся, привыкнешь, и все образуется.
В маленькой комнате размещались два письменных стола, несколько стульев да железный шкаф.
— Вон тот свободный стол, — указал Фомин, — будет твоим. Располагайся.
Саша смущенно, боком сел за стол.
— Давай-ка я тебе расскажу кое-что о наших порядках, — спокойно продолжал Фомин, как бы не замечая робости новичка. — Значит, так: рабочий день у нас начинается в девять. Днем можно отлучиться на полчаса в столовую, а в пять часов — перерыв до восьми вечера. В это время лучше всего дома поспать часок-другой, потому что частенько приходится работать до поздней ночи и даже ночью.
Михаил Николаевич говорил и по привычке поглаживал коротко подстриженные волосы. Лицо у него было круглое, доброе, приветливое.
Саша смотрел на своего учителя и удивлялся: человек чуть не в два раза старше, опытный, а обращается с ним совсем просто, дружески, не выказывая никакого начальственного превосходства.
Саша перебирал в уме одно за другим все события минувшей недели. Но незаметно мысли спутались, и он заснул. Сразу увидел какого-то типа, прицеливающегося в него из обреза. По-боксерски, в глубоком нырке Саша ринулся под обрез и нанес противнику правой рукой короткий удар в корпус.
— Ты что кричишь? — Мать едва растормошила Сашу. — Вставай, скоро восемь, в институт опоздаешь. Со своим боксом и во сне-то дерешься.
Саша умывался, завтракал, а бандитский обрез был перед глазами.
В управлении милиции пожилой милиционер-вахтер внимательно рассмотрел временный пропуск Александра Дорохова. Взял под козырек и пожелал ему доброго здоровья. Саша и не понял, почему этот солидный старик желает ему здоровья, а не успеха в работе.
Михаил Николаевич Фомин был уже на месте. Он вышел из-за стола, поздоровался с Сашей за руку и тоже пожелал ему крепкого здоровья, сказав, что это главное в их деле, а все прочее приложится.
Саша снял дошку, повесил ее в углу рядом с зимним пальто своего наставника и остановился посередине комнаты в ожидании приказаний. Но тот как ни в чем не бывало вернулся к своему столу и продолжал разбирать какие-то документы. Потом добродушно сказал:
— Ну чего стоишь? Садись вот сюда, поближе ко мне, и слушай. Я сейчас уйду, а тебя попрошу подшить это дело. Ты, конечно, никогда подобными вещами не занимался, но ничего — научишься. Вот иголка, нитки, шило. Я все здесь подобрал по датам, и ты очередность документов не меняй. И еще оставлю тебе уже подшитое дело для образца. Посмотришь, как это делается, заодно почитай бумажки эти. Есть там довольно занятные.
«Чепуха какая-то. Собирался ловить бандитов, нервничал, переживал, даже сон особый видел, а тут переплетчиком сделался», — подумал Саша.
Фомин взглянул на массивные карманные часы и заторопился. Достал из сейфа большой плоский пистолет, две запасные обоймы и рассовал по карманам. Когда он стал надевать пальто, то Саша заметил торчавший ствол второго револьвера и понял, что его наставник отправляется по серьезному делу.
— Может, и меня с собой возьмете, Михаил Николаевич?
— В другой раз, Саша. Не беспокойся, еще надоест. — И уже с порога предупредил: — Ключи в сейфе. Будешь выходить, документы на столе не оставляй. Да и дверь кабинета не бросай открытой. Если мне будут звонить, спрашивай кто и говори, что вернусь к вечеру. Ну, бывай.
Фомин ушел, а Саша пытался побороть вдруг возникшее раздражение, будто пообещали ему что-то заманчивое, интересное и обманули.
Без особого рвения он взял уже подшитое довольно объемистое дело. На обложке из тонкого картона сверху печатным шрифтом было оттиснуто: «Отдел уголовного розыска управления милиции УНКВД Иркутской области», ниже, в центре, более крупно «Уголовное дело №» и чернилами написаны цифры, дальше опять печатно: «По обвинению» и чернилами от руки две фамилии. Совсем внизу в две строчки: «Начато в июле и закончено в октябре 1938 года».
Интересно было полистать документы, но Саша никак не мог избавиться от чувства досады. Полночи готовился к схватке с бандитами, а тут на́ тебе — копайся в бумагах. Ладно еще, хоть валенки не надел, а то сидел бы и парился в кабинете людям на смех. Фомин тоже хорош. Для себя настоящее дело, а ему с иголкой возиться. Наверное, сам-то не любит, вот и подсунул ему работенку. Рассуждая так, Дорохов решил все-таки посмотреть, как подшито дело. Оказалось, что нет тут никакой премудрости. Прежде чем проткнуть шилом ровно сложенные документы, решил поинтересоваться, о чем в них шла речь. А речь шла всего лишь о краже лошадей. Из заявлений трех граждан явствовало, что в сентябре этого года в Иркутске угнали две пролетки, запряженные парами, а в конце октября похитили лошадь с кошевкой. Первая кража случилась днем. Колхозник приехал в город, привязал лошадей к коновязи у базара и ушел за покупками, попросив женщину, сторожившую свою повозку, присмотреть и за его пролеткой. Вскоре после ухода хозяина к пролетке подошел коренастый мужчина, вежливо поблагодарил женщину за то, что она сторожила лошадей брата, отвязал их и уехал. Через полчаса пришел хозяин, спрашивает, где кони, а она в ответ: «Брат уехал». Свидетельницу допросили подробно. Она оказалась человеком наблюдательным и хорошо рассмотрела «братца». На допросе четко припомнила все его приметы. На вид конокраду лет тридцать пять, среднего роста, лицо загорелое, все в щербинах, какие волосы — не заметила, на нем картуз был, а остальную одежду разглядела. У вора были черные брюки из дорогой материи, заправленные в ичиги, а сверху куртка из темного сукна, а под курткой белая верхняя рубашка. По ее словам, ичиги и куртка были явно хуже брюк, и ей даже показалось, что они с чужого плеча. В конце протокола Фомин записал, что одежду свидетельница запомнила так подробно потому, что приехала с мужем в город специально купить кое-какую обнову взрослым сыновьям, в том числе и брюки. Саша и не заметил, как увлекся чтением.
Неожиданно зазвонил телефон. Женский голос спрашивал «дядю Мишу». Саша переспросил, куда звонят, так как сразу и не сообразил, что «дядей Мишей» может быть Фомин. Женщина обругала его и не очень почтительно велела передать Фомину, что звонила Нинка и что у нее есть новости. Дорохов снова углубился в чтение. Оказалось, что потерпевшему показывали каких-то лошадей, но он их не опознал. «Интересно, чьих же коняшек ему приводили и куда потом дели? — подумал Саша. — Ведь не мог же угрозыск на улице схватить первых попавшихся». Снова зазвонил телефон. Теперь уже «дядю Мишу» спросил мужской голос. Узнав, что он будет к вечеру, пообещал позвонить снова.
Как украли вторую пролетку, так называемый ходок, никто не видел. Хозяин привязал лошадей у постоялого двора рано утром. Едва отлучился, лошадей и след простыл. На пролетке лежал мешок кедровых орехов, туесок меда фунтов на десять да такой же, может, чуть поменьше берестяной туесок масла. Гостинцы родственникам привез. Как и первая пара, лошади вместе с упряжью и ходком бесследно исчезли.
Сашка потянулся. Мед он любил даже без чая, хорошо бы в сотах… Ну а к частным владельцам пролеток относился настороженно и всерьез проникнуться к ним сочувствием не мог.
С санками получилось несколько иначе. Кучер районного общества потребительской кооперации решил подкалымить на казенной лошади. Как только выпал снег, стал выезжать вечерами в город, разыскивал седоков и, договорившись о цене, вез их туда, куда потребуют. В тот вечер он взял двух пассажиров от ресторана — они пообещали ему пятерку, если довезет к вокзалу. По пути отдали пять рублей, а когда проезжали гастроном, дали еще пятерку и велели сбегать за водкой: дескать, пусть купит им бутылку и себе шкалик, сдачи не надо. «Почему не услужить хорошим людям?» — решил кучер и опрометью кинулся к магазину. Вернулся — ни санок, ни лошади. На этот раз выезд угнали совсем молодые люди. В ресторане отыскали официанта, который обслуживал похожих посетителей, однако на этом их след и исчез. Через два дня в рабочем поселке нашли брошенные санки, а лошадь с упряжью и барсучьей полостью исчезла. На полу санок оказалось немного крови, но какого раненого или убитого перевозили преступники, выяснить так и не удалось.
После показаний потерпевших и очевидцев была подшита копия письма, отпечатанная на шапирографе. Такие же копии были разосланы в районы и соседние области. В письме перечислялись масть, возраст, особые приметы и клички угнанных лошадей. Описывались приметы ходков, причем оказалось, что в первую украденную пролетку были запряжены две низкорослые, мухортой масти, кобылки. В отдельном конверте к делу были приобщены конские паспорта с описанием их клейм и особых примет.
Уже к концу перерыва Саша старательно подшил дело. Правда, ему пришлось дважды его расшивать, но в третий раз он освоил эту премудрость и результатом остался доволен.
Размышления Дорохова о том, где и как искать конокрадов и угнанных лошадей, прервал Женька Чекулаев. Обычно сдержанный, он чуть ли не вихрем ворвался в кабинет и, захлебываясь от восторга, стал расхваливать своего наставника, Георгия Александровича Чиркова. Оказывается, Чирков взял с собой Женьку на задержание вооруженного преступника. Правда, он оставил его на улице и в дом пошел с другим сотрудником, но зато потом поручил стеречь задержанного в машине и даже дал ему свой револьвер. Саше тоже хотелось рассказать о прочитанном деле, но неожиданно пришел Фомин, и Женька отправился к себе. Михаил Николаевич сразу же засыпал Дорохова вопросами: как он тут да что? Кто звонил, кто заходил? Похвалил его за аккуратно подшитое дело. Потом спросил, обедал ли Саша. Узнав, что Дорохов просидел в управлении весь день и не уходил, рассердился:
— Это ты напрасно. Нашему брату необходимо, во-первых, обедать, а во-вторых, отдыхать. Если до утра придется работать, то без перерыва не вытянешь. — Спохватившись, он достал из портфеля объемистый сверток. — Ешь, у меня с собой всегда ужин в запасе. Тут мне жена завернула котлеты и кусок сала. Ешь, ешь, не стесняйся.
Дорохов, поблагодарив, торопливо проглотил котлету, а Фомин с плохо скрытой заинтересованностью спросил:
— Ну, а как с лошадками? Ты дело-то только подшил или и прочитать успел?
— Прочитал, Михаил Николаевич, и вот что меня удивило. Жил у нас на селе один конокрад-цыган, я еще в детстве с его сынишкой играл. Так тот сведет чужих лошадей, продаст и неделю дома пьянствует. Оборванец был, пропойца, жену и детей избивал. По-моему, эти воры в белых рубашках какие-то совсем другие.
Михаил Николаевич слушал с интересом.
— Ну что же, наверное, ты прав. Мы тоже так считаем, что эти кражи дело рук не обычных конокрадов. А что еще заметил?
— Откуда кровь в санках? Может, кого-то ранили из самих преступников? — стал рассуждать Саша.
— Судебно-медицинский эксперт установил, что это кровь человека, имеющего вторую группу. Ну а как все было, узнать не смогли. Возможно, кровь преступника или бандитской жертвы. Вот, скажем, взялись они приезжего человека на вокзале подвезти, по дороге ограбили, убили и вывезли тело за город, его присыпало снегом, а найдем мы этот «подснежник» только весной.
При слове «подснежник» Саше стало не по себе. Вся история с лошадьми представилась ему в более зловещем свете.
— Михаил Николаевич, — после недолгого молчания сказал Дорохов, — а что за лошадей предъявляли одному из потерпевших? Помните, он их не опознал?
— А, заметил? Молодец! Увы, у лошадок этих нашелся другой хозяин. Он просто спьяну потерял их. Оставил плохо привязанными, а сам сутки где-то погуливал… Плакал, когда лошадей ему возвращали, обещал больше капли в рот не брать. — Рассказывая, Фомин снял трубку телефона и назвал номер. — Борис, это я, Фомин. Добрый вечер. У тебя есть ориентировка по последней банде? Дай мне на полчасика, я ее еще раз прочту. Нет, на след не напал. Сам зайдешь? Ну спасибо.
Фомин положил трубку и объяснил Саше, что начальник отделения по борьбе с самыми тяжкими преступлениями Картинский сейчас принесет один интересный документ. Едва Фомин произнес последние слова, как в кабинет стремительно вошел щеголеватый, красивый, средних лет мужчина. На его смуглом лице поблескивали карие озорные глаза. Сашу удивило, что вместо френча на нем клетчатый пиджак, а под ним тонкий свитер. Вошедший пожал Михаилу Николаевичу руку и тут же фамильярно похлопал его по плечу. Подошел к Дорохову и вместо приветствия взлохматил ему волосы, точно какому-то мальчишке, и, не обращая внимания на Сашин недоброжелательный взгляд, сел на край его письменного стола.
— Ну что, Миша, зацепился за мои дела? Хочешь схватить бандитов сам? Знаю я тебя, старого бродягу. Все молчком, все потихоньку, а потом раз — и в дамках. Учти, группа-то серьезная, одного схватишь, остальных спугнешь; лучше давай выкладывай, что у тебя есть, и посоветуемся.
— О чем советоваться? — невесело усмехнулся Фомин. — Нет у меня пока ничего. Как только что-нибудь прояснится, сразу к тебе. По таким делам в одиночку не работают, что я, не понимаю? Ты-то сам как считаешь: когда сложилась эта группа?
Картинский встал, прошелся по кабинету, заметил, что Дорохов его настороженно рассматривает, не ответил на прямой вопрос Фомина, а, глядя в упор на Сашу, спросил:
— Ну как твой новый помощничек? Наша будущая смена. Вижу, ершистый малый. Я его погладил, а он уже готов кусаться. Это хорошо, что зубастый. Не люблю хлюпиков.
— Я весь день бегал, а он тут с «конским делом» разбирался. И знаешь, что мне сказал? «Конокрады какие-то особенные».
— Молодец! — Картинский уже с интересом смотрел на Дорохова. — Действительно, конокрады странные. Ты мне дай дельце-то, Миша, я его еще разочек пролистаю.
— Если не возражаешь, то завтра. С утра. Сегодня я сам хотел кое-что уточнить. Поэтому и попросил ориентировку.
— Ориентировки общей еще нет. По каждому отдельному случаю сообщили соседям, а обобщающего документа не составили. А вот справку я для себя набросал. Возьми, почитай, утром передашь вместе с делом. — Картинский достал из кармана несколько листков, сложенных пополам, и положил на стол Фомину. — Читай, а я пойду. — Уже с порога, подмигнув Саше, то ли в шутку, то ли всерьез попросил: — Слушай, Фомин, отдай-ка мне своего практиканта. Я из него человека сделаю…
— Сам сделаю, — отпарировал Фомин.
Картинский еще раз заговорщицки подмигнул Саше и, насвистывая какой-то мотив, вышел.
Дорохов никак не мог определить своего отношения к новому знакомому. Он сильно отличался обликом от тех сотрудников, что Саша уже видел. Во-первых, после ухода Картинского в кабинете повис запах какого-то незнакомого, явно «ненашенского» одеколона, а потом эта одежда… Серые бриджи — зимой-то! А сапоги! С белым рантом, носы как выструганные. И волосы, гладко причесанные на косой пробор, да еще чем-то намазанные. Как тот Лёсик, что так и не появился в уголовном розыске. И вообще Картинский оставил впечатление некой праздности, как будто не на работу пришел, а на вечеринку.
— Борис — работник стоящий, — угадал Сашины мысли Фомин. — Мы с ним вместе пришли сюда в двадцать пятом году. Смелый мужик. Года три назад был в командировке, в тайге. Задание выполнил и собрался домой, а местные работники к нему с приглашением: «Берлога есть, не хочешь ли на охоту?» Ну, уговорили, остался. Охотники с вечера патроны снаряжали, ружья чистили, советовались, как эту берлогу лучше обложить, а Борис завалился спать. Утром ему ружье самое лучшее предлагают, а он говорит: «Не надо. Пойду посмотрю, что это за охота». Когда медведя стали шестом поднимать, Борис к самому медвежьему лазу подошел. Зверь выскочил, и он в него из револьвера один раз и выстрелил, аккуратненько так — в ухо. На том вся «охота» кончилась. На операциях никого впереди себя не пустит. Его и калечили, и резали, и стреляли. Последний раз в госпитале чуть ли не полгода пролежал… Ладно, давай-ка, Саша, посмотрим, что это за документик. — Михаил Николаевич развернул напечатанные на машинке странички и прочел вслух: — «Справка о бандитских нападениях в городе Иркутске и прилегающих районах». Знаешь что, читай-ка лучше ты. Посмотришь, как эти документы составляются, а я послушаю.
Дорохов стал читать:
— «По некоторым предположениям, в прошлом, 1937 году в Иркутске начала действовать опасная вооруженная группа. Первым их преступлением было ограбление промтоварного магазина возле железнодорожного вокзала. В августе месяце трое преступников с оружием ворвались в магазин, забрали в двух кассах дневную выручку около трех тысяч рублей и скрылись. Прежде чем грабить, в магазине на обеих дверях они повесили таблички с надписью «Учет», а когда уходили, двери закрыли навесными замками, принесенными с собой. Несмотря на то что покупателей и продавцов было семнадцать человек, никто из них подробно описать приметы грабителей не смог, так как те заставили всех лечь на пол вниз лицом. Кассиры утверждают, что деньги забирал человек среднего роста, плотный, в темно-сером дорогом костюме, на лице его была маска из темной материи. Куда скрылись преступники, никто не заметил. Затерялись на людной привокзальной площади или уехали на каком-то транспорте, так и не узнали.
Следующее преступление было совершено в октябре месяце того же года. В квартиру зубного техника утром позвонила женщина и сказала, что принесла телеграмму. Хозяйка сначала выяснила, откуда эта телеграмма. «Почтальонша» ответила, что из Красноярска. Семья действительно ждала от родственников телеграмму из этого города, и хозяйка открыла дверь. Вместо «почтальонши»
ворвались двое, сразу же связали хозяйку, ее сестру и случайно оказавшуюся в это время в квартире пациентку, которая принесла деньги за протез. Самого зубного техника дома не было. Преступники, разыскивая деньги и ценности, учинили настоящий погром. Забрали много одежды, около тысячи рублей и все допытывались у потерпевшей, где муж хранит золото. Грабители были вооружены, прилично одеты, но перепуганные насмерть женщины их рассмотреть не сумели и о приметах дали разноречивые показания. Во время розыскных действий удалось найти свидетельницу, которая в это время гуляла на улице с грудным ребенком. Она видела, что возле подъезда, где живет зубной техник, стоял извозчик и у него в фаэтоне сидела миловидная молодая женщина, разговаривавшая с извозчиком. Потом из подъезда с чемоданом и двумя большими тюками вышли двое мужчин, уложили вещи и уехали. Свидетельница, заметив женщину издали, сначала решила, что это ее знакомая портниха, и подкатила коляску с ребенком ближе к экипажу, намереваясь поговорить, но поняла, что ошиблась. Однако, по ее утверждению, сходство было исключительным, и описала приметы этой особы, которая, наверно, и была «почтальоншей»: маленького роста, белокурая, волосы крупными локонами из-под берета опускались на плечи. Лицо овальное, в темно-зеленом, как говорят — бутылочного цвета, демисезонном пальто. Кучер свидетельницу не заинтересовал. Да и сидел он к ней почти спиной, но в его одежде она заметила что-то не соответствующее профессии. Однако это могло ей и показаться после того, как она узнала о грабеже. На молодых людей, вынесших вещи, она просто не обратила внимания. По ее словам, фаэтон был новый, на резиновом ходу, и спицы колес выкрашены красной краской. Ни «почтальоншу», ни фаэтон, ни тем более остальных преступников отыскать не удалось. Также не появились в местах сбыта и похищенные вещи».

Саша читал долго. В справке подробно описывались еще пять вооруженных ограблений. Все очень дерзкие, и в каждом участвовало по три-четыре человека, один обязательно был в маске. Кроме того, перечислялось шесть ограблений прохожих кошевочниками. Четыре — прошлой зимой, и два — уже в этом году. Только в одном случае потерпевший — учитель музыки — кое-как обрисовал приметы преступников. По его словам, один был плотный, коренастый, невысокого роста. Второй — высокий и значительно моложе. Первый командовал, другой раздевал.
Михаил Николаевич отложил в сторону листок с пометками, которые делал для себя.
— Ну и что ты скажешь, коллега?
— Ничего не скажу, Михаил Николаевич, — потупился Саша. — Тут столько всего страшного, что у меня мурашки по спине забегали. Не пойму только, почему Картинский все эти преступления объединил? Бандиты-то вроде разные.
— Верно, Саша, участники ограблений разные. Но вот коренастый в маске фигурирует во всех случаях. Все без масок, а он один лицо закрывает.
— Видно, очень заметный, может, косой или со шрамом…
— Верно. Может быть, и косой, а может быть, рябой.
— В том деле, что я подшивал, по первой краже, когда пролетку украли, — оживился Саша, — женщина говорит, что преступник был рябой. Хотите, перечитаю это место?
— Не надо, я помню. Может, он надевает маску еще и потому, что у него в городе много знакомых, боится, что его узнают. Ведь он сам к зубному технику не пошел. Так?
— Интересно, Михаил Николаевич, спрашивали у зубного техника, нет ли среди его знакомых рябого?
— Опять правильно. Запиши этот вопрос на отдельном листке, мы завтра у Бориса выясним. Что ты насчет ограбления на Русиновской скажешь?
— Не соображу, Михаил Николаевич, о чем вы?
— Как же не сообразишь? О лошадях. Прочти показания человека, у которого увели ходок с рынка.
— «Кобылы редкой мухортой масти, забайкальской породы, низкого роста, очень резвые. Купил их в прошлом году в Агинском национальном округе четырехлетками, подбирал одинаковых, по виду их сразу и не отличишь…»
— Так. Теперь читай в справке показание потерпевшего, на которого напали кошевочники.
— «Я шел по Русиновской домой. Услышал сзади скрип кошевки, оглянулся и под самым фонарем увидел пару лошадей, запряженных в сани-кошеву. Бандитов не рассмотрел, зато лошадей хорошо запомнил: обе низкорослые, видно, забайкальские, я в лошадях разбираюсь. Гнедые с рыжими подпалинами, их называют мухортыми. Хотел убежать, да поскользнулся, и бандиты набросили на меня аркан…»
— Похоже, Саша, что это дело рябого. Давай думать, где искать нам лошадей. Особенно приметных кобылок.
Долго обсуждал Фомин со своим практикантом возможные варианты розыска. Собрались по домам за полночь.
— Тебя проводить? — спросил Фомин Сашу. — Ты где живешь?
— На Карла Маркса, почти напротив кинотеатра. Я не боюсь, Михаил Николаевич.
— Еще бы боялся, — проворчал Фомин, открывая сейф. Спрятал документы, немного постоял у открытого железного шкафа, видно раздумывая, а потом из его глубин достал револьвер. — Иди сюда, — подозвал он Дорохова. — Умеешь обращаться с этой штукой?
— В институте на военном деле мы изучали винтовку системы Мосина.
— Это какая же такая винтовка?
— Образца 1893 года, так называемая трехлинейка.
— Надо же! Сколько потаскал я эту трехлинейку и не знал, что она Мосина.
— Изучали мы и наган. И пистолет системы Токарева.
Саша взял револьвер. Ловко открыл защелку барабана, вынул все семь патронов, проверил на всякий случай, не осталось ли еще в каморах заряда, взвел курок, а потом, придерживая его за спицу, плавно, без щелчка опустил на место.
— Вижу, револьвер знаешь. Носи пока мой. Получишь казенный — вернешь. Завтра, если удастся, заглянем в наш тир. Посмотрю, как у тебя со стрельбой. Ну, пошли по домам.
Уже на улице Фомин предупредил:
— Смотри, осторожно с револьвером-то, а то вы, молодежь, оружие за игрушку принимаете.
Саша и раньше возвращался с тренировок поздно, поэтому дома не обратили внимания на ночной приход.
ПО ПРИМЕТАМ
Утром на следующий день Фомина на месте не оказалось и кабинет был закрыт. Саша заглянул в комнату, где работал Чекулаев со своим старшим, и застал Женьку одного.
— Что-то моего Фомина нет на месте, — сообщил Саша.
— И Чиркова тоже. Чем бы заняться?
Дорохов начал было рассказывать свои впечатления, но в кабинет вошел Огарков.
— Ты, оказывается, Дорохов, уже в люди выбился. Начальство тебе письма шлет, — сказал он, передавая Саше ключ от сейфа и записку.
Фомин писал, что вместе с другими уехал на операцию, а он, Саша, должен собрать всех практикантов и с ними изучить справку и «лошадиное дело». Да хорошенько запомнить приметы грабителей.
Все пятеро бывших студентов, собравшись в комнате Фомина, внимательно, словно после долгой разлуки, рассматривали друг друга. Дорохов чинно уселся за стол и развернул справку.
— Да подожди ты, Сашка, — не выдержал Анатолий Боровик. — Скажи лучше, как твой Фомин?
И, не дав ответить, начал сам возбужденно рассказывать. Он жестикулировал, то повышал голос, то переходил на шепот, строил грозную физиономию, подкрепляя свой рассказ боксерскими выпадами, и Саша был вынужден самым настоящим образом сблокировать пару его ударов. Было видно, что Толя заново переживает свое «боевое крещение».
— Мне, ребята, повезло сразу. Знаете, какой мой старшой? Вчера утром познакомились, сижу жду, когда он мне хоть какую-нибудь работенку подкинет, а тут звонок. Мой с кем-то поговорил и заспешил, убрал все со стола и говорит: «Одевайся, пойдем тут недалеко, кое-что проверим». Пришли на базар, он подбадривать меня начал. — Боровик засмеялся. — Это меня-то! Говорит: «Не бойся, ничего страшного». Ну, я только пожал плечами. Тоже мне, нашел труса! Завел меня в китайскую пельменную. Ну, ту, что в деревянном бараке на краю базара. Вошли, сели за столик. Кихтенко осмотрелся и потихоньку мне показывает: «Видишь? Вон там в углу двое сидят? Тот, что к нам ближе, в полушубке, — бежавший». Я сначала не понял, спрашиваю, что значит «бежавший»? Кихтенко объяснил: «Месяца три назад дали ему пять лет за кражу, направили в колонию, а он сбежал. Брать его нужно, но тихо. Здесь, в пельменной, неудобно: если шум поднимет, порядочным людям аппетит испортим. Давай так. Я сейчас выйду, а ты за ними наблюдай, а когда они поднимутся, иди следом. Этот тип наверняка не задержится, подумает, что я за подмогой пошел, он меня уже заметил… А я на улице у выхода буду ждать». Только старшой вышел, эти двое поднялись и направились к двери, я, конечно, за ними. Они на ходу пошептались, и тот, который «бежавший», пропустил дружка вперед, а сам приотстал. Мне показалось, что он вернуться захотел, и я его немножко подтолкнул. «Что, говорю, в дверях-то встал, проход загородил». Тот, ни слова не говоря, попытался меня по физиономии съездить, а я его руку отбил левой и не удержался, ответил правой в челюсть. Ну, он на улицу и вывалился, а там уже старшой со вторым разговаривает. Этот «беглый» прямо им под ноги угодил. В пельменной ни тамбура, ни порожка нет, дверь открыл — и на улице. Я еще и слова не успел сказать, как он вскочил и правой рукой из-за голенища нож тянет, длинный такой, кухонный. Тогда я его на крюк поймал — и тут уж нокаут полный. Когда старшой револьвер достал, я и не заметил. Велит: «Забери у него нож и этого обыщи». Пошарил у второго в карманах, ничего нет, а мне Кихтенко подсказывает, чтобы за поясом посмотрел. Я пощупал, чувствую, что-то есть, и короткую железку вытащил, с обеих сторон заточена, у них она фомкой называется. Притащили мы обоих в управление, оставили у дежурного. Кихтенко говорит: «Пойдем к себе». Зашли в кабинет, и он давай с меня стружку снимать. Говорит, уголовный розыск — это не ринг, нельзя здесь кулаками размахивать. Спрашиваю: «А как надо?» — «Нужно было сразу обыскать и нож отобрать без драки. Мы не имеем права в каждом случае пускать в ход оружие, а кулаки тем более. Никогда не забывай, что перед тобой человек, а почему он стал преступником, тут ведь разобраться и понять надо».
Вот такую мне мораль мой старшой выдал. Перед обедом к нам в комнату начальник зашел. Мы с Кихтенко только разговаривать с крестником начали, ну, с тем, кого я нокаутировал. Начальник посмотрел на «бежавшего», усмехнулся. «В следующий раз, говорит, с уголовным розыском без ножей здоровайся, а то мы тут целую роту боксеров к себе на работу взяли» — и подмигнул мне. В общем, повезло мне. — Анатолий на секунду умолк и взял за руку Сашу. — Знаешь, мне мой-то говорил, что выучил его работать твой Фомин.
— А у меня, — начал было Нефедов, но Саша не дал ему договорить.
— Стойте, ребята, так мы задание не выполним. Прежде всего дело.
После чтения документов ребята наперебой стали обсуждать действия преступников.
— Как же так, — возмущался Степан Колесов, — в городе такая банда, а уголовный розыск и в ус не дует! Надо быстрее их ловить.
— Иди лови, — рассмеялся Боровик. — Если, конечно, знаешь, где они скрываются.
— Подождите, ребята! — Чекулаев встал. — Нам ведь не зря велели запомнить их приметы. Я так понимаю, что это на случай, если мы их где-нибудь встретим.
— Ну, знаешь, Женька, такого случая можно ждать сто лет. Я вот что предлагаю. — Боровик оглядел всех. — Давайте их искать. Запомним или лучше запишем, как они выглядят, и начнем везде разыскивать. Не сидят же они все время дома. Ходят по улицам, наверное, бывают в кино, покупают что-то на базаре. Вот где-нибудь и наткнемся. Что мы, зря пришли в уголовный розыск?
— Конечно, в уголовный розыск вы пришли не зря, только зачем же об этом кричать? — В дверях стоял незнакомый человек, и практикантам показалось, что его крупная фигура заняла весь дверной проем. Первым поднялся Чекулаев, за ним все остальные. — Сидите, сидите, ребята. Вот, оказывается, какие вы орлы! Давайте знакомиться: я заместитель начальника уголовного розыска Иван Иванович Попов. Вчера вернулся из командировки, и мне о вас рассказали. Сейчас иду по коридору, слышу шум. Подошел к двери и понял, что здесь военный совет, как в Филях, когда французы на Москву наступали. Так о чем спор?
— Нам поручили изучить дело и запомнить приметы бандитов, — объяснил за всех Боровик. — Мы думаем, что преступников можно узнать в городе по обличью. В перерыв. У нас ведь целых три часа свободных, вот и будем их искать.
— Интересное мероприятие, — улыбнулся Попов. — Только вы уж тогда заодно и лошадей ищите, и санки. А начинать поиски лучше всего после разговора со старшими. Думаю, торопиться вам, ребята, с этим не следует. Говорят, один из вас еще вчера проявил инициативу, пустил кулаки в ход, а драться-то нам не положено. Разве что в случаях крайней необходимости. Есть вопросы? Нет? Ну, привыкайте потихоньку. Да, вот что! Спрашивать не стесняйтесь, если что неясно, у своих старших. Ко мне заходите. — Дружески подмигнув им, заместитель начальника уголовного розыска ушел, и ребята сразу же оживились.
— Видать, подходящий мужик, — решил Боровик. — Но не верит, что мы сможем сами поймать бандитов. Пошли, братцы, пообедаем, а заодно побродим по городу.
Дорохов остался ждать Фомина. Он подошел к окну, открыл форточку и долго рассматривал управленческий двор. Проветрив кабинет, собрал документы и закрыл их в сейф. Все это проделал механически, поглощенный раздумьями. До сих пор все, с кем он сталкивался за свою жизнь, проповедовали уважение к людям, дружбу, доверие и во всех случаях — честность. Ему никогда не приходилось встречаться с людьми, которые могут украсть, ограбить, убить. Такие люди не были ему понятны и рисовались в самых зловещих красках. Правда, в детстве, когда они еще жили в деревне, его пугали одним человеком. Саша помнил небольшого худощавого цыгана с сухой рукой. С виду конокрад, пожалуй, ничем не выделялся. Его любой крепкий пацан мог одолеть. Страх вызывала худая слава, ходившая по пятам за этим мужиком. Говорили, что рука у него отсохла после самосуда. Его зверски били, а он продолжал воровать. Ловили, сажали в тюрьму. Как только выйдет — сразу новые кони. Вот эта непонятная, неодолимая тяга к воровству, к риску вызывала не только недоумение, но и страх. И этот рябой со своими дружками, видно, страшные люди. Неужели нет у них ни совести, ни жалости. Людей убивают. Собаку-то и ту жалко. А эта «почтальонша»? Молодая, красивая — и грабит. Кто они? И зачем только живут такие люди на белом свете?
Его невеселые размышления прервал телефонный звонок. Михаил Николаевич спрашивал, как у Саши дела. Тот доложил, что документы они изучили, записали приметы.
— А сейчас чем недоволен? — Видать, Фомин что-то почувствовал по голосу.
— Да так, Михаил Николаевич, думаю всякое. И опять вы меня с собой не взяли.
— Ничего, Сашок, не горюй. Все у тебя впереди, — устало заверил Фомин.
«ДУМАТЬ, САША, НАДО»
— Вот тебе адресок в поселке «Звездочка», что за Ангарой, — сказал Фомин. — Сходи, пригласи ко мне этого человека.
— Есть! — обрадованно отозвался Саша. Любое движение теперь казалось ему почетнее утомительного и бесплодного, по его мнению, сидения за фолиантами следственных документов.
Морозец был изрядный, и хотя шел Саша ходко, вскоре промерз так, что зубы отбивали дробь. Но дело было не только в морозе. Нынче Саша ходил по улицам своего города по-особому. Он искал. Жизнь приобрела цель волнующую и высокую — найти преступников. Ему везде мерещились симпатичные блондинки, мухортые лошади, рябой грабитель. Взгляд его цеплялся за все увиденное, задерживал, тормозил, мешал идти. Уже который раз он ловил на себе возмущенные взоры женщин, раздраженных пристальным вниманием молодого парня. На этот раз ему, похоже, повезло. Возле дома стояли сани, к ограде была привязана низкорослая мухортая кобылка, понуро шуршавшая овсом в торбе. Точь-в-точь такая, как описано в деле.
Саша подошел поближе — нужно было отыскать овальное клеймо, которое окончательно и неопровержимо доказало бы, что лошадь та самая, украденная. Его не было видно со стороны улицы, и Саша протиснулся меж лошадью и забором. Кобыла фыркнула, а Саша присел, рассматривая лопатку лошади. Вдруг резко свистнул кнут и на него обрушился поток площадной брани. Саша отскочил от саней.
— Ты чо, такой, сякой, этакий! — орал крохотный мужичонка, невесть откуда появившийся возле лошади. — Угнать собрался? А ну!
— Сдурел, мужик? — забормотал Саша, наливаясь, несмотря на мороз, жаром стыда. И нашелся: — У моего дядьки такая же. Я подумал, он где-то рядом…
— Дядьки-тетки! А ну давай отсюда топай, пока кнутовища не отведал!
Саша махнул рукой и «потопал»… В поселке ему не повезло, нужного человека не оказалось дома, и Саша, недолго думая, зашел к соседям, достал из кармана чистый бланк и, написав повестку, попросил ее вручить адресату, как только тот появится дома. Вернувшись в управление, сказал Фомину, что задание его выполнил.
— Когда придет? Как тебя встретил?
Саша рассказал, как было дело, и Михаил Николаевич не сумел скрыть досаду.
— Зря чужим повестку отдал. Смотри, что получается: люди узнали, что их соседа вызывают в уголовный розыск, и будут неизвестно что думать. К нам ведь чаще всего попадает народ с червоточинкой. А вызывал я как раз хорошего человека. Хочу попросить его за одним парнем по-отцовски присмотреть. Работают они вместе, а парень этот с плохой компанией спутался. Я хотел его самого вызвать, да он, чего доброго, разболтает новым приятелям, так и спугнем их не вовремя. Поэтому думал повлиять на него со стороны. Нельзя было оставлять повестку соседям. Никак нельзя. Лучше бы в другой раз сходил или в конверт да почтой. У нас в уголовном розыске все человеческие законы куда острее действуют. Вот, скажем, если ты хочешь, чтобы тебя уважали, первый к людям проявляй уважение. Теперь уж тут ничем не поможешь, а на будущее учти.
Заметив, что практикант расстроился, Фомин смягчился, но все-таки посоветовал:
— Думать, Саша, надо. Думать.
ПЕРВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Однажды дежурный доложил начальнику уголовного розыска, что к нему пробивается отец одного из практикантов. Чертов приказал:
— Пропустите немедленно.
Через минуту он вставал навстречу пожилому мужчине, решительным жестом протянувшему ему руку.
— Чекулаев Евгений Евгеньевич, агроном. — Запнулся и прибавил: — Старший.
Чертов усмехнулся про себя: «Старший кто? Чекулаев или агроном?» Но виду не подал, приветливо и вежливо предложил сесть и сам сел, изобразив готовность слушать гостя до утра, хотя дел было невпроворот.
— Вы видели весенний цветущий сад? — неожиданно спросил посетитель.
Чертов собрал брови у переносицы:
— Как же, приходилось… Был на родине в прошлом году.
— Так вот! — Чекулаев-старший встал, набрал воздуха в грудь, полушубок разошелся, и Чертов заметил орден Красной Звезды, видимо надетый по особому случаю.
Начальник уголовного розыска понял, что сейчас грянет речь.
И речь грянула.
Через час Чертов вызвал в кабинет Чекулаева-младшего:
— Пиши рапорт об увольнении. Был твой отец, все объяснил. Рассказал о своей мечте — фруктовые сады в Сибири. О том, что уже с института выводит морозоустойчивые по Мичурину сорта, что его жизни на это дело не хватит, а ты его законный наследник и продолжатель. И без вас Сибирь садом не станет. Так что пиши.
— Не буду… — Женька решительно отказался, а вечером дома он объявил отцу, что работа в уголовном розыске — настоящее мужское дело, что ловить бандитов тоже кому-то надо, и если комсомол доверил это ему, то пусть отец не становится поперек.
С неделю после этого разговора Женька ночевал у Дорохова, напрашивался на дежурство, лишь бы не идти домой. Кончилось тем, что его подкараулила возле управления мать и чуть ли не силой увела. И кажется, вскоре в их доме установился мир.
У Боровика все было по-другому. Отец Анатолия, лучший в городе мужской портной, зарабатывал достаточно. Но единственному сыну давным-давно почему-то прочили медицинское поприще. И в Иркутский медицинский институт Анатолий поступил в угоду отцу. Нехотя проучился год и был просто счастлив, когда попал в уголовный розыск: его деятельная натура куда больше подходила к погоням, засадам и перестрелкам.
Когда родители Боровика услышали, что их любимый сын переменил профессию, они пришли просто в ужас.
Анатолий выслушал все упреки, все доводы, молча уложил в свой спортивный чемоданчик мыло с полотенцем, пару белья и объявил, что уходит в милицейское общежитие.
Ничего не поделаешь, пришлось родителям признать уголовный розыск. Больше того, отец просидел за своим портняжным столом ночь, и на другой день Боровик появился в угрозыске в шикарной коверкотовой гимнастерке.
Иначе было в семье Дороховых.
— Оно понятно, — сказал отец Саше, — риск, погоня и все такое. Нат Пинкертон, Шерлок Холмс, и кругом одни отпечатки пальцев — не то что землю пахать. У тех сыщиков, Сашок, в книжках, преступники то князь, то графиня, не то что наши бандюги, — Дмитрий Савельевич сморщился, покривился, словно прикоснулся к чему-то пакостному, — жулье, всякие там ворюги — народ поганый. И охота тебе с ними возиться?
Сокровенным желанием Дорохова-старшего было видеть сына кадровым командиром. Наверное, сказывалась казацкая кровь. И отец, и дед, и прадед красного командира Дмитрия Дорохова всю свою жизнь не расставались с конем, шашкой и винтовкой, а вот Сашка подался в агрономы. Ну что ж, в любой станице — хоть в Забайкалье, хоть на Дону или Кубани — агроном был личностью, а сыщики там ни к чему.
Все решал казачий круг. Однако прошло время, Саша твердо стоял на своем. Новая работа пришлась ему по душе, и так получилось, что Дороховы смирились с уголовным розыском.
…Вот и пришел в Иркутск праздник. Двадцать первый Октябрь.
Торжественные дни не омрачились происшествиями, но зато после праздников всех потрясла весть о новом страшном преступлении.
В ЛОВУШКЕ
…На окраину Иркутска едва добрел раненый колхозник и рассказал постовому, что он, дочь и двое соседей на нескольких санях везли на базар битую птицу, мясо и другие продукты. В пятнадцати километрах от города их остановили четверо вооруженных бандитов. Отняли лошадей, документы, а колхозников раздели и расстреляли, причем особенно свирепствовал коренастый рябой бандит. Сам заявитель, раненный, сначала потерял сознание, потом, очнувшись, с огромным трудом в тридцатиградусный мороз добрался до города. В больнице с ним беседовали Чертов и Картинский.
Через три дня после нападения Фомин разузнал, что по справкам, похищенным у пострадавших, сбывают награбленные продукты. Продавцами оказались старики. Они могли быть перекупщиками или людьми, просто занявшимися перепродажей за вознаграждение, но явно не имели отношения к ограблению. Фомин вместе с практикантами с самого утра стал наблюдать за ними. Нужно было узнать, с кем связаны, как попало в их руки награбленное добро. Но к продавцам подходили обычные, ничем не примечательные покупатели, приценивались к птице, к мясу, торговались, заплатив деньги, забирали покупки и уходили. Около полудня к прилавку подошла женщина, о чем-то «по-свойски» поговорила со стариками и, ничего не купив, отошла. Баба как баба, возраста неопределенного, в длинном желтом мужском полушубке, по глаза закутанная в огромную, домашней вязки, шаль. На красивую «почтальоншу» она явно не походила. Женщина не спеша прошлась по рынку, купила два стакана кедровых орехов и направилась к выходу. Фомину эта особа чем-то не понравилась, и он велел Чекулаеву и Дорохову проследить за ней, обязательно узнать, где она живет, в крайнем случае задержать и доставить в уголовный розыск.
Снег предательски скрипел под ногами, и молодым сыщикам казалось, что незнакомка, заметив их, начала нарочно петлять. Дважды пройдя по одному и тому же переулку, поняли, что эта особа их раскусила. Они ее догнали и остановили.
— Где живете? Ваши документы! — наперебой потребовали парни.
Из-под шали, закрывавшей лицо, блеснули до удивления молодые глаза, и бабенка кокетливым тонким голоском пропищала:
— А зачем вам? Живу здесь, на Пятой Советской, вон в том доме. Могу в гости пригласить только одного… — И женщина призывно хихикнула.
Молодые люди переглянулись. Чекулаев взял на себя роль старшего. Отозвал Сашку в сторону и предложил:
— Иди проверь документы и не спускай с нее глаз, а то спрячет что-нибудь. Я добегу до отделения милиции, позвоню Попову, возьму кого-нибудь из ребят и мигом к тебе, тут недалеко.
Саша согласно кивнул и молча направился к дому. Он не видел, как Чекулаев быстро, почти бегом, прошел по противоположной стороне улицы. Когда поравнялся с калиткой четвертого дома, чья-то крепкая рука буквально втащила Женьку во двор.
Женщина подвела Дорохова к небольшому, срубленному из лиственниц дому. Еще издали Саша услышал звуки гармошки и залихватские песни. Он не сумел скрыть подступившую тревогу. Спутница заметила его растерянность, бесцеремонно оглядела с головы до ног и весьма игриво, с насмешкой подбодрила:
— Да ты не бойся, паря, идем, я тебе какие хошь документы представлю. — И, подмигнув, добавила: — И угостить чем найдется.
«Ишь ты, за мальчишку принимает!» Самолюбие Саши было задето, и он, не раздумывая, шагнул на крыльцо. Дверь с улицы вела в полутемные сени. Не успел Дорохов рассмотреть вторую дверь, как женщина, оттолкнув его в сторону, вскочила в комнату и громко крикнула:
— Встречайте гостя — легавого, сам напросился. Документики спрашивает.
Прямо против двери, за столом, уставленным бутылками и всевозможной снедью, Саша увидел двух полупьяных мужчин. В глаза бросился гармонист с красным рябым лицом, в белой расстегнутой рубашке. Оборвав аккорд, он вскочил, стряхнул с плеча гармонь и, схватив со стола бутыль, рявкнул:
— Заходи, гостям завсегда рады.
Саша едва успел присесть. Осколки литровой бутылки, угодившей в дверной косяк, брызгами разлетелись по комнате, к счастью минуя его голову.
Дорохова вдруг осенило: он понял, что угодил в лапы бандитов и перед ним тот самый долгожданный рябой, которого они искали повсюду. Мгновенно мелькнула мысль, что ему все-таки повезло. Не раздумывая, он вырвал из кармана наган и взвел курок. Сухой металлический щелчок револьвера заставил бандитов на миг смешаться, а на Дорохова подействовал ободряюще. Уловив, что рука рябого потянулась за второй бутылкой, выстрелил в потолок. Бандиты отступили в глубину комнаты.
— Не шевелиться, поднять руки! — почему-то шепотом приказал Дорохов. Подвел его голос. Подвел.
Преступники не выполнили команды. Первой пришла в себя хозяйка. Она сбросила шаль, полушубок, и Саша сразу же угадал русую «почтальоншу». Она крикнула:
— Что же вы, мужики! Бейте щенка!
Рябой сверлил Дорохова глазами и, пригнувшись, готовился ринуться вперед. Теперь Саша знал, что ему следует стрелять уже не в потолок, но вспомнил начальника уголовного розыска, который предупреждал, что бандитов нужно обязательно взять живыми. К тому же почувствовал, что даже в такой обстановке он не может застрелить человека. Помог бокс. Дорохов, как на ринге, собрался и сразу успокоился. Решительно, громко, уже без дрожи в голосе предупредил:
— Первый, кто двинется с места, получит пулю.
Заметив, что рука второго бандита потянулась к круглому граненому графину, выстрелил. Брызги водки и стекла теперь уже осыпали бандитов, и они, видимо поверив в его серьезные намерения, снова отошли от стола. А Саша лихорадочно соображал, почему бандиты до сих пор не взялись за оружие и как самому выпутаться из этой ловушки, и не только выпутаться, но и не упустить, не дать скрыться этой зверской паре. Удивила хозяйка. Она изменила тон и, вкрадчиво улыбаясь, проворковала:
— Ну, хватит, миленочек, страху-то наводить… Ведь сам, поди, боишься. Разойдемся по-хорошему. Жалко мне тебя, скоро наши придут. А тебе всех не осилить. Бери пять косых и тикай.


— Шесть, — коротко уточнил рябой.
Горячая волна злости всколыхнулась у Саши в груди. Залила щеки, обожгла затылок, шею. Ребристая рукоятка револьвера словно сама вжалась в ладонь. Он поднял наган от пояса повыше, чтобы не искать мушку, и про себя решил: если бросятся все сразу, будет стрелять в ноги, в руки, чтобы не смогли уйти. На крыльце послышались грузные шаги.
«Не успел Женька!» — мелькнула мысль. Дорохов прижался к косяку двери так, чтобы видеть бандитов и тех, кто войдет. На лице рябого мелькнула гнусная ухмылка, приободрился и его приятель.
— Погоди, легавый щенок, сейчас бесплатно посчитаемся.
— Стрелять буду! — крикнул Сашка.
— Не стреляй, это я, Картинский.
В дом вихрем ворвались Картинский, Нефедов и за ними Чекулаев.
Во время обыска объяснилось нерешительное поведение бандитов: их оружие нашли в карманах верхней одежды, что осталась в коридоре.
В управлении Саша чувствовал себя героем и не понимал, почему Фомин с ним не разговаривает и даже не смотрит в его сторону. Вскоре все объяснилось. Михаил Николаевич, едва Чекулаев и Дорохов вошли в кабинет, начал их отчитывать. Он кричал на ребят, обещал обоих выгнать за такую самодеятельность, прямо из графина пил воду и никак не мог успокоиться. Наконец усадил перед собой и стал методически анализировать их ошибки. По его словам получалось: самая главная их вина в том, что они не выполнили его приказание.
Он велел им проследить за женщиной и, если это не удастся, доставить ее в уголовный розыск. И больше ничего не предпринимать.
— Вы же по своей глупости полезли в дом и сорвали операцию Картинскому. Он ждал в засаде, когда соберется вся шайка. Чтобы накрыть всю банду разом, а тут вас черт принес. Никто не знал, что это «почтальонша». Привели бы вы ее в розыск, и все было бы в порядке.
Растерянный и огорченный Чекулаев ушел, Фомин постепенно успокоился.
— Ну ладно, не сердись, — сказал он, глядя на Сашку, сидевшего с виноватым видом. — Рад я, что ты, сынок, живой. Молодец, что не растерялся. Только на будущее запомни: нельзя лезть очертя голову куда не просят. — Михаил Николаевич ласково потрепал Сашку по волосам и, к его удивлению, отвернувшись, вытер кулаком глаза.
Дорохов хотел подойти к Фомину, сказать теплые слова, поблагодарить, назвать дядей Мишей, но почувствовал, что у него защипало в горле, и постыдился.
В тот же день к вечеру заместитель начальника уголовного розыска Иван Иванович Попов позвал к себе в кабинет всех практикантов.
— Ну, студенты, узнали, что такое уголовный розыск? Мотайте на ус. Нет у нас рецептов на каждый случай жизни. Одно учтите: что приказания надо выполнять четко. — Он поискал что-то в столе, достал затрепанную книжку и передал ее Дорохову. — Криминалистика профессора Якимова! Нужная в нашем деле наука. Читайте. Только, чур, не потерять. Я в университете специально для вас под честное слово выпросил. А сейчас идите, отдыхайте, вечером на работу можно не приходить.
Это был первый за целый месяц свободный вечер, и ребята просто не знали, как его провести. Оживленные, они выскочили из управления, остановились у тумбы с афишами. Чекулаев предложил идти во Дворец культуры на молодежный вечер. Колесов указал на афишу:
— Смотрите, ребята! Новый фильм, американский, с участием Гарри Пиля. Может, пойдем?
Но Боровик решительно отверг оба предложения и сказал, что нужно по-настоящему отпраздновать поступление в уголовный розыск и Сашкину удачу. Все-таки, независимо от разноса, ребята чувствовали, что Сашке повезло, очень повезло. Шутка ли — страху нагнал на самого бандитского главаря и уцелел.
Собраться решили у Дорохова. Жил он с родителями в центре Иркутска. Квартирка у них была небольшая, но зато в проходной комнате Саша отгородил себе фанерой угол и имел «отдельную» комнату. С покупками, веселые, ввалились они к Саше. Его мать встретила их радушно, помогла разложить снедь и все ворчала, зачем так много всего накупили. А угощение было действительно царским. Два десятка пирожных, килограмм халвы и клюква в сахарной пудре, Запивая пирожные и халву чаем, они оживленно обсуждали дневные события.
— Знаешь, Сашка, — размечтался Чекулаев, — если бы мы вдвоем заскочили в этот притон, то я передал бы тебе свой револьвер, и ты бы держал бандитов под двумя пушками. А я связал бы каждого, и мы бы устроили засаду на остальных… Верно, Андрей?
Нефедов пожал плечами и принялся за новое пирожное.
— Ты нам, Женька, лучше расскажи, как тебя Андрюха во двор втаскивал, — засмеялся Колесов.
— Я, братцы, сразу растерялся. Тороплюсь, почти бегу, и вдруг кто-то хвать меня за шиворот — и в какой-то двор. Смотрю, наш Нефедов и тянет в дом, а в доме том чуть ли не весь уголовный розыск.
— А ты от удивления даже рот раскрыл! — захохотал Колесов. — Ведь как все получилось? Картинский велел мне у окна сменить сотрудника. Сел, слежу за улицей и домом. Смотрю, вы появились вместе с «почтальоншей». Стоите, рассуждаете, и вдруг на тебе: Женька в нашу сторону, а Саша с хозяйкой в дом подался. А мы-то знаем, видели, как туда еще утром бандиты пожаловали. Я сказал Картинскому, он глянул и велел Андрею Женьку перехватить, а всем одеваться. «Провалили засаду, дурачье сопливое, — говорит. — Придется выручать этого чертова ерша». Мы в засаду сели по-темному, перед рассветом, чтобы никто не видел. А как выскочили на улицу, слышим один выстрел, другой. Картинский бегом.
— Был бы я на твоем месте, Сашок, уж рябому-то была бы крышка. — Боровик достал папиросы, повертел пачку в руках. — Ничего, если я закурю?
— Кури, Толя. Батя мой смолит постоянно, — разрешил Дорохов.
— Так вот, — продолжал Боровик, — сегодня в конце дня захожу к Ивану Ивановичу протокол задержания подписать, а он как раз рябого допрашивает. Так эта сволочь сидит ухмыляется и не стесняясь говорит Попову: «Жаль, что мало ваших побил. Всего троих легавых шлепнул».
— Теперь больше никого не убьет, — промолвил Саша.
— Это ясно, — согласились приятели.
— Скажи нам, Сашка, по-честному, как на духу, — взмолился Боровик. — Сильно испугался?
— Не успел, ребята. — Дорохов отодвинул чашку. — Как только вошел, смотрю — вот он, рябой, и удивляюсь, как точно его свидетели обрисовали. Хозяйку сразу узнал. Ведь когда мы, Женя, с тобой за ней шли, нам и в голову не пришло, что это та самая «почтальонша». А тут вижу, все приметы, что нам объявили, сходятся. Я, конечно, растерялся немного, думаю: как быть? Но на всякий случай наган достал и курок взвел. Рябой бросил бутылку, и осколки посыпались. Я еще подумал, как бы за шиворот стекло не попало. Первый-то раз от растерянности в потолок пальнул, а вот второй-то уже для острастки. И попал — графин вдребезги. Хотел третий раз стрелять, да вы сами посудите: в револьвере семь патронов, два я уже сжег. А ну, думаю, как кинутся они на меня, да я промахнусь, что тогда? Ведь револьвер перезарядить время нужно, это не то что пистолет — сменил обойму и стреляй. А тут немного погодя — шаги. Слышу, снег на всю улицу скрипит, и бандиты обрадовались. Видно, ждали дружков. Ну, думаю, все. Прикончат и уйдут. Решил стрелять в ноги, пока патроны есть. Лишь бы не упустить.
— Нет, ты все-таки скажи: испугался? — продолжал приставать Боровик.
Саша помолчал, а потом виновато кивнул:
— Испугался. Когда шаги услышал.
Парни не заметили, как в дверном проеме появился Дорохов-старший, стоял и внимательно слушал. Потом вошел к ребятам, сел на топчан, служивший Саше постелью, и потребовал всю историю рассказать ему подробно. Выскочил Боровик, стал что-то плести, приукрашивать, но Чекулаев его остановил:
— Не заправляй, Толька. Я расскажу, как было… — И в какой уже раз повторил все по порядку.
Дмитрий Савельевич похлопал сына по плечу и молча вышел. Вскоре он вернулся со свертком.
Знал Саша этот сверток. Еще со времен гражданской войны он хранился в их доме как самое ценное сокровище. В куске плотной парусины были завернуты заморская шашка в серебряных ножнах, украшенных самоцветными каменьями, с такой же отделкой кинжал и маузер. Рукоять пистолета и деревянная кобура тоже были оправлены черненым серебром. На одной из щечек рукоятки красовалась гравировка: «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай», на Другой — надпись: «Сотнику Дорохову Д. С. от Реввоенсовета Первой Конной…»
Дмитрий Савельевич достал из деревянной коробки пистолет, бережно обтер его парусиной, потом краем серого Сашиного одеяла и передал сыну.
— Спроси, Сашок, у своего начальства позволения… Если разрешат, носи. У нас, казаков, оружие всегда доброе. Молодец, что не опозорился. В нашем роду трусов не было. А пистолет этот на десять патронов рассчитан, да и перезарядить его можно в несколько секунд, не то что наган.
Ребята смотрели на пистолет с нескрываемой завистью и восхищением.
А Саша в этом подарке усмотрел не только оружие. Он понял, что отец больше не сердится на него за оставленную учебу и смирился с уголовным розыском.
«НЕУД» ЗА РОТОЗЕЙСТВО
К концу 1938 года Иркутский уголовный розыск замучили квартирные кражи. Работники буквально сбились с ног, разыскивая воров.
Однажды Фомин вернулся в управление к концу рабочего дня с молодой женщиной. Саша сидел за своим столом и приводил в порядок кое-какие накопившиеся материалы, взглянул на вошедшую вместе с Фоминым женщину и просто оторопел. Это была красавица, да какая! Он еще и не видел таких, даже в кино. Она сняла и небрежно бросила на стул беличью шубку, поправив красиво уложенные золотистые локоны, достала из кармана жакета ослепляющей белизны платок, и по комнате распространился тонкий запах духов. В довершение всего, усевшись возле стола Фомина, вынула из сумки пачку дорогих папирос «Пушки» и не торопясь закурила.
Дорохов не мог оторвать от незнакомки глаз.
— Саша, быстро, — привел его в чувство голос Фомина, — двух понятых, обязательно женщин, и Тамару Бледнову — секретаршу прокурора.
Дорохов уже знал, что кабинет прокурора по надзору за милицией был тут же, в их управлении. Его секретаря, Тамару Бледнову, работники угрозыска часто привлекали к участию в задержаниях, обысках и других операциях.
Когда Саша вернулся, в комнате был уже Попов. Он разговаривал с женщиной.
Саша слушал и не верил своим ушам: такая красавица, столько обаяния — и, оказывается, рецидивистка…

— Тебе, Ольга, мудрить нечего. Рассказывай сама, а главное — вещи верни. Пятый срок за квартирные кражи отбыла, а все тебе неймется. Что же, так и будешь всю жизнь по тюрьмам и лагерям скитаться? Женщина ты видная, да и не молода уж. Четвертый десяток разменяла. Семьей пора обзаводиться да детишками. Сколько на свободе?
— Скоро месяц. — Женщина взяла новую папиросу.
— Ну вот, и прошлый раз на свободе была полтора месяца, а до этого мы взяли тебя через неделю, как ты домой вернулась.
— Уехать я хотела, Иван Иванович. Туда, где меня никто не знает.
— Э, милая! Уехать мало. Вот еще б воровать бросила. — Повернувшись к Бледновой, попросил: — Тамарочка! Самый тщательный обыск, и в присутствии понятых.
Попов, Фомин и Дорохов вышли из кабинета. После личного обыска на столе у Михаила Николаевича оказалась пачка денег, несколько золотых колец, две пары сережек с камнями и целая связка ключей. Фомин записал все в протокол и, поблагодарив, отпустил понятых.
— Ольга, не тяни. Слышала, что Попов сказал? Нужно вернуть людям вещи. Я ведь знаю, что ты их никуда не успела деть.
— Ничего у меня нет, — нехотя ответила задержанная. — Не воровала на этот раз.
— Но ведь кольца, серьги да и деньги — с этих краж?
— Мне их подарили знакомые.
— Не надо, Ольга! Не морочь мне голову, да и себе тоже. Все равно вещи вернешь…
Саша сидел словно завороженный, чуть ли не с открытым ртом. Нет, он не мог поверить, что эта обаятельная женщина — воровка! Ему казалось, что Фомин ошибается, а Ольга говорит правду.
На столе Фомина зазвонил телефон. Он с кем-то переговорил и заторопился.
— Саша, ты днем обедал? Ну и отлично. Побудь с ней часок, а мне надо идти. Тебе, Ольга, советую подумать. Вот бумага, вот ручка — пиши. Пиши сама. Про все кражи. И главное, начни с того, что хочешь вернуть пострадавшим вещи. Зачтут тебе это в суде и, может быть, срок сбавят.
Фомин быстро вышел. Дорохов поудобнее уселся и, не зная, с чего начать разговор, молчал. Прищурив большие черные глаза, женщина, не стесняясь, в упор рассматривала своего стража. «Наверное, именно такие глаза и называют очами», — подумалось Саше.
— Что-то раньше я вас здесь не видела. Вы недавно в уголовке?
— Скоро два месяца, — солидно ответил Саша, поправляя скрипучую, еще не обмявшуюся кобуру.
Он встал, прошелся по кабинету, сел за стол Фомина.
— Вам, Ольга… — Замявшись, Дорохов взглянул в протокол. — Вам, Ольга Иннокентьевна, наверное, нужно вернуть вещи, ну, те, что вы взяли в квартирах.
Сказать «украли» он постеснялся. Саша не мог избавиться от мысли, что произошла какая-то путаница. И от этого ему было не по себе. Он стеснялся взглянуть ей в глаза и не заметил, что красотка исподволь за ним наблюдает. Не видел, как на ее лице промелькнула озорная улыбка. И женщина вдруг стала серьезной. Словно собираясь с силами, тяжко вздохнула и тихо, застенчиво заговорила.
— Как отдать-то? Как? Стыдно мне, стыдно. Ехала из лагеря, в поезде познакомилась с инженером, он домой в Иркутск из командировки возвращался. Понравилась я ему. Собирался жениться. Я ведь не сказала, что воровка, ну а он за порядочную принял. Я к нему тоже привязалась. Вещи-то все у него в квартире. Сказала, что все это мое, и он поверил. А теперь такой позор! Нет, не могу. Пусть судят, дают самый большой срок. Не хочу хорошего человека позорить. — Ольга откинулась на спинку стула и разрыдалась.
Саша сидел нахохлившись, не зная, что предпринять. Ему еще больше стало жаль Ольгу, а заодно и того инженера. Вдруг он предложил:
— Идемте, Ольга Иннокентьевна, к Попову, вы все ему расскажете, а он придумает, как не обидеть вашего инженера.
— Попов? Что вы, гражданин уполномоченный! Ему наплевать на мою любовь. Наплевать на инженера. Знаю я Ивана Ивановича получше вас. Он меня два раза арестовывал. — Ольга замялась и доверительно, шепотом предложила: — Вот если бы можно было сделать так: взять у инженера на квартире два чемодана, пока нет его дома, и уйти. Я бы ему записку написала, что
уехала, ну разлюбила, что ли. Живет он тут недалеко, на Кругобайкальской.
Дорохов решительно поднялся, пододвинул Ольге чистую бумагу.
— Пишите заявление, что хотите добровольно выдать украденные вещи, и пойдемте.
— С вами, вдвоем? — стрельнула глазами Ольга.
— Со мной.
— Согласна.
Ольга быстро написала заявление, расписалась. Надела шубку, накинула платок, подождала, пока Дорохов натянул свою собачью дошку, и вместе с ним вышла в коридор. Вахтер недовольно крякнул, когда Дорохов, предъявив ему свое удостоверение, небрежным тоном объявил:
— Задержанная со мной.
Подходил к концу декабрь, и на улице лютовал мороз. «Не иначе как за сорок», — решил Саша. Заметив извозчика, подошел, отстегнул меховую полость, прикрывавшую легковые санки, и усадил Ольгу. Ему хотелось поскорее вернуться в управление с заветными чемоданами. Дорохов знал, что сотрудникам уголовного розыска выдают специальные талоны для езды на извозчиках. Потом эти талоны финчасть управления принимала к оплате от владельцев выездов. Но таких талонов Дорохов еще не получал, и, усаживаясь в санки, он мысленно подсчитал имевшиеся при нем деньги. Утром мать дала ему трешку — на всю шестидневку. Днем он проел сорок копеек. Значит, расплатиться с извозчиком хватит. Промчавшись по заснеженным улицам, выехали на Кругобайкальскую. Возле старинного трехэтажного дома Ольга попросила остановиться. Вместе с Сашей поднялись на второй этаж. Прежде чем позвонить в квартиру, женщина заколебалась.
— Саша, у меня к вам еще одна просьба. — Голос Ольги звучал уважительно. — Очень прошу вас, подождите меня здесь, на лестнице. Я мигом соберу вещи и выйду. Там дома мать моего инженера. Что она подумает, если увидит меня с посторонним мужчиной?
— Ну что же, подожду, — решил Саша.
Ольга Иннокентьевна позвонила, и дверь сразу же открыли. Дорохов успел рассмотреть пожилую женщину, впустившую ее в квартиру.
Часов у него не было, и он не знал, сколько прошло времени, пока топтался на лестничной площадке, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз, но так, чтобы не упустить из виду дверь. Когда по его расчетам прошло минут двадцать, он решился позвонить.
— Кто там? — раздался за дверью старческий голос.
— Простите, но я прошу вас поторопить Ольгу Иннокентьевну.
— Нет тут никакой Ольги, — сердито ответила старушка.
— Как нет? Она ж только что вошла? — удивился Саша.
— Нечего приставать к незнакомым женщинам, молодой человек, — проговорили за дверью.
— Откройте! — Саша застучал в дверь кулаком. — Я из уголовного розыска. Немедленно позовите задержанную.
Дверь, наброшенная на предохранительную цепочку, приоткрылась, и старушка съязвила:
— Из уголовного розыска вы или еще откуда, не знаю. Только та женщина, что ко мне вошла, сказала, что вы нахал, пристали к ней на улице. Она попросила помочь ей от вас избавиться, и я выпустила ее через черный ход.
Дорохов дрожащими руками достал свое удостоверение, просунул его в щель и попросил разрешения осмотреть квартиру. Старуха нехотя открыла, провела Сашу по комнатам, а потом в кухню, а оттуда на черный ход.
— Вот здесь и вышла ваша задержанная. Зачем же вы ее отпустили?
Зачем? С этой мыслью Саша бросился вниз и во дворе на снегу сразу же увидел четкие свежие отпечатки фетровых бот. Следы вывели его в соседний двор и потерялись на деревянном тротуаре. Как сумасшедший вскочил Саша в дожидавшиеся его санки. Приказал извозчику объехать квартал, потом велел ехать на улицу Карла Маркса, попетлял по Красноармейским улицам. Извозчику надоела бесцельная езда, и он остановился.
— Давай два целковых и катись отсюда. Ищи пешком свою кралю. Да помоложе себе найди, а то бабеха в матери тебе годится.
Дорохов вытряс из кармана деньги, сунул их, не считая, извозчику и, чуть не плача от досады, побрел по улице. Впереди мелькнула женщина в беличьей шубке, и Саша бросился за ней, догнал, схватил за рукав. Владелица шубы обернулась, и Дорохов понял, что ошибся. На другой улице увидел женщину в белых ботах, но в черной шубе, бросился следом. Ведь эта негодяйка могла и переодеться! Проблуждав по городу больше двух часов, Саша, совсем окоченевший, медленно побрел в управление. Вот и кончилась его работа в уголовном розыске. Отберут оружие, удостоверение и выгонят. Зачем там такие простофили! Лопух! Самый настоящий! Распустил слюни… Поверил! Теперь эта воровка сидит в какой-нибудь «малине» и хвастается, как провела мальчишку-сыщика. Хотелось выть, кричать. Но что от этого толку? Может, и вовсе не ходить в уголовный розыск? Нельзя. Нужно прийти и объяснить все как было. Сказать, что по его, Сашиной, милости преступница на свободе.
Дорохов прибавил шагу и решительно вошел в управление. Тот же вахтер пренебрежительно взглянул на него и кивнул головой: проходи, мол, знаю я тебя, субчика. Возле кабинета — бывшего его кабинета — Саша секунду постоял, услышал какие-то голоса и открыл дверь.
Прямо против входа за своим столом сидел веселый, смеющийся Фомин, а напротив, откинувшись на спинку стула, с папиросой в зубах — Ольга.
— Ну вот, а ты говорил, что я его убила. Цел ваш сыщик. Жив-здоров и даже с досады не застрелился. Смотри, какой он с морозца румяненький да кудрявенький. Хотела было твоего красавчика приголубить, да сообразила, что не выйдет. Уж больно он чистенький… Понимаешь, дядя Миша, этот сопляк взялся меня воспитывать. — Ольга закатила глаза, молитвенно сложила руки и, сюсюкая, пролепетала: — «Воровать нехорошо, Ольга Иннокентьевна! Это неблагородно. Отдайте вещи, Ольга Иннокентьевна», а сам слюнки распустил, глазки от жалости поблескивают. Ох и тошно мне стало, дядя Миша! Вот и решила мальца обкрутить, чтобы всю жизнь помнил. Он у тебя учится? Да? Поставь ему «неуд» за ротозейство.
Саша закусил губы и, сгорая со стыда, выскочил из кабинета.
На другой день на совещании Чертов, обычно немногословный, произнес речь:
— Надо быть бдительными. Нельзя очертя голову лезть в бандитское логово и распускать нюни, увидев крокодиловы слезы преступника. Почему практикант Дорохов попался на удочку воровки? Да потому, что решил, все мы тут черствые, бесчеловечные и только он один такой добренький к нам затесался. Вы, Дорохов, учтите: эта особа мне рассказала, что хотела вас завести в притон, откуда живым бы вам не выкарабкаться, но пожалела. Добавим: или не решилась быть причастной к мокрому делу. Всем нам нужно помнить слова Феликса Эдмундовича Дзержинского, что, доверяя, мы должны проверять. Так же как не имеем права сомневаться в каждом человеке. Вам, Дорохов, повезло второй раз. Хорошо, что Фомин раскусил трюк воровки и, зная, что краденые вещи она сдала в камеру хранения на вокзале, приехал туда раньше ее. Каждому следует помнить, что, прежде чем действовать, нужно думать, а главное — советоваться. Практикантов это особенно касается, а вас, Дорохов, в первую очередь.
ВСТРЕЧА С АРТИСТОМ
Фомин оглядел своего практиканта с ног до головы, словно видел в первый раз, и остался явно недоволен. Пригладил привычным жестом волосы.
— Идем, я тебя приодену, а то вид у тебя неважнецкий, а дело нам предстоит тонкое. Что и как — расскажу на досуге. Думаю, будет у нас времечко обо всем потолковать.
Они вышли из своего кабинета, прошли по коридору управления и остановились возле двери с табличкой:«Посторонним вход воспрещен». Фомин нажал кнопку звонка, и дверь приоткрыл сам начальник секретной части Лысов, полный, пожилой, в милицейской форме с синим ромбом в петлицах. Саша встречался с ним в коридорах, на совещаниях, один раз видел его в городе, хотел подойти, но тот потихоньку показал ему кулак: не подходи, мол. В общем, Саша и его друзья считали Лысова самым загадочным человеком. Начальник секретной части, или, как сокращенно называли его отделение, СЧ, не очень дружелюбно буркнул с порога:
— Что надо?
— К тебе, Толя! — объяснил Фомин и указал на Сашу: — Экипируй моего помощничка получше. Завтра начинаю операцию.
Лысов тяжело вздохнул, словно Фомин требовал от него невозможного, и нехотя пропустил их обоих в дверь. Саша осмотрелся. Кабинет как кабинет, даже еще меньше, чем у них с Фоминым.
Один письменный стол да пяток стульев. В углу прижался к стене старинный мраморный умывальник с большим зеркалом и множеством разных полочек, на которых стояли склянки и коробки. На одной Дорохов прочел: «Грим». К умывальнику было придвинуто обычное парикмахерское кресло. Из кабинета две двери вели в другие комнаты. Одна оказалась открытой, и Саша углядел в глубине пожилого мужчину, который, как только они с Фоминым вошли, сразу же прикрыл дверь. Этого человека Дорохов в уголовном розыске никогда не видел.
Лысов опять сквозь зубы, словно продолжая сердиться, поинтересовался, что нужно Дорохову.
— Все — и получше, — сказал Фомин. — На ноги тоже что-нибудь поищи.
Лысов скрылся за дверью и вскоре появился с шубой, на которой искрился дорогой воротник; откинув полу, показал мех с торчащими, как кисточки, хвостами. Фомин согласно кивнул и велел Саше примерить. Шуба была как раз, точно сшита по его мерке. Лысов вынес еще две круглые коробки, в них оказались шапки, несколько штук. Он выбрал черную каракулевую ушанку, она тоже пришлась впору. Дорохов взглянул в овальное зеркало умывальника и удивился: непривычная дорогая одежда совершенно Изменила его облик. Из зеркала смотрел на Сашу солидный молодой человек, может быть, ученый, ответственный работник или даже дипломат, но никак не практикант уголовного розыска, вчерашний студент. Еще через несколько минут Лысов вручил ему черный бостоновый костюм и посмотрел на валенки Дорохова. Тот, перехватив взгляд, объяснил:
— На ноги мне не надо. У отца есть фетровые бурки, белые, новые, а размер у нас одинаковый.
Фомин остался доволен видом практиканта. И пока оформлялась расписка на одежду, попросил:
— Дай ему, Анатолий, еще и чемодан. Хорошо бы тот, что я брал в командировку.
Когда Фомин и Дорохов уходили, сердитый начальник проворчал вслед:
— После операции вещи немедленно сдай. Да не забудь все хорошенько почистить. Будешь надевать костюм, мой шею.
— А я еще и зубы чищу, — не выдержав, огрызнулся Саша.
В кабинете Фомин приказал:
— Под костюмчик надень белую рубашку и обязательно галстук. Никаких футболок или косовороток. Револьвер без кобуры засунь за пояс, чтобы не было видно. В чемодан положи все, что полагается командированному. Центральную гостиницу знаешь? Вот там в вестибюле завтра в десять утра встретимся. Ты в Красноярске-то бывал?
— Был. В прошлом году, вместе с отцом.
— Вот и отлично. Если кто спросит, скажешь, приехал из Красноярска утренним поездом. А сейчас иди домой. Да нигде не болтайся. Лучше, если тебя в этом виде поменьше народу приметит.
Саша хотел что-то выяснить, но Фомин, закрывая свой стол, еще раз велел:
— Иди, иди. Если в гостинице швейцар или дежурная спросят, чего надо, скажешь, что ждешь своего старшего, меня, значит; мол, ушел за броней на номер. Можешь сказать, что приехал в трест «Баргузинзолото». Это я тебе на всякий случай. В гостинице-то я раньше тебя буду. Смотри не проболтайся, дело нам серьезное поручили. Завтра расскажу обо всем.
На следующий день утром Дорохов в вестибюле гостиницы увидел пять-шесть командированных, томившихся в ожидании свободных мест. Один из них поднялся ему навстречу из большого мягкого кресла. Это был рыжий бородатый мужчина в защитном френче, в синих бриджах и расшитых бисером эвенкийских унтах, рядом на кресло была небрежно брошена отличная меховая доха. Бородач подошел к Саше, взял под руку и голосом Фомина заговорил:
— Броню я получил, а мест пока нет. Номер дадут в течение дня.
Саша сначала растерялся: откуда борода? А потом сообразил, что Фомин не только приоделся, но и успел посидеть в парикмахерском кресле секретной части, потому и оброс курчавой бородой. А Фомин подвел Сашу к стулу, видно специально для него занятому, снял большой кожаный портфель и вежливо предложил присесть. Сказал, что будут ждать представителя из треста, а заодно комнату.
На столике возле дежурной Дорохов заметил стопку затрепанных журналов, взял «Крокодил», «Огонек» и решил было почитать. Но ему не читалось. Лезли в голову мысли об операции. Кто этот преступник? Зачем этот маскарад? Саша взглянул на Фомина, тот развалился в кресле, точно так же, как и остальные ожидающие, и дремал. «Не спит Михаил Николаевич, — решил Саша, — вид делает». И сам устроился поудобнее. Стал ждать. А ждать ему было не привыкать. Ждать приходится постоянно. Раньше он думал, что в уголовном розыске одни погони, а оказалось — сплошное ожидание. Причем часто ждешь на улицах в мороз. Хорошо, если на чердаке или в подвале, а то просто под открытым небом. Ведь их, практикантов, первое время только в засады и посылали. Двое-трое таких, как Саша, и один опытный. Вот меховой магазин они неделю караулили, пока воров не схватили с поличным.
Четвертый месяц пошел, как он нежданно-негаданно расстался с институтом и попал в сыщики. Когда его прикрепили к Фомину, тот пообещал через два-три года сделать из него, Дорохова, настоящего работника уголовного розыска. Тогда Саша подумал: «Если бы остался в институте, то через три года был бы агрономом». Жалел ли он? Пожалуй, нет.
Вдруг Саша увидел, как с верхнего этажа спустился какой-то мужчина в полушубке, валенках с галошами. «Старик, — решил Дорохов, — лет сорок пять, не меньше». И стал наблюдать за ним, стараясь понять, кто он и откуда. Возле дежурной хозяин полушубка поставил на пол фанерный чемодан, бережно из какого-то потайного кармана достал кошелек, вынул деньги, рассчитался и, забрав паспорт, направился к выходу. Сразу же к конторке подошел человек в железнодорожной форме с какими-то непонятными значками в петлицах. Заполнил анкету, подхватил небольшой чемодан и рысцой побежал по лестнице, словно боясь, что кто-то его опередит. Через час или полтора рассчитались две женщины. Они весело смеялись и шутили, видно, радовались, что наконец уезжают. Одна — помоложе — быстро оглядела ожидающих и даже несколько раз взглянула на Сашу. Очередь убавилась еще на двух человек. Через вестибюль гостиничная публика шла в ресторан обедать. Саша представил себе, как там орудуют вилками и ножами, и ему захотелось есть. Утром успел лишь стакан чая выпить. Правда, мать положила в чемодан хлеб и колбасу. Но не расположишься здесь с едой, тем более в таком шикарном костюме. Мать… Вчера, когда он пришел, она чуть не обмерла, увидев его в шубе. И сразу: «Где взял?» Он объяснил, что это обмундирование, а она: «Не ври. Отец всю жизнь в армии, постарше тебя чином, а такого обмундирования не получал». Пока отвертелся, семь потов сошло.
Потом пристал отец. Мало того, что пристал, еще и посоветовал не носить вещи с чужого плеча. Не мог же Саша им сказать, что в уголовном розыске существует специальный гардероб для переодевания сотрудников.
Со второго этажа спустился высокий сухощавый старик в роскошном черном пальто с большим шалевым воротником из серого каракуля, в щегольской шапке пирожком из такого же меха. Пальто было расстегнуто, и из-под него виднелся светлый шарф. В левой руке старик держал небольшой саквояж. Он подошел к конторке как-то по-особому уверенно. Красивым театральным жестом снял шапку и вежливо поклонился дежурной, небрежно кивнув ожидающим. Мягким бархатным баритоном пророкотал, что вынужден внезапно уехать, и попросил счет и документы. Саша смотрел на вальяжного старика и не мог избавиться от мысли, что он его где-то видел. Дежурная выписала квитанцию, незнакомец вытащил из заднего кармана брюк бумажник, положил какую-то купюру перед женщиной, широким жестом отказался от сдачи. Этот жест и поставил все на место. Саша вспомнил кинокартину, что недавно смотрел, и узнал незнакомца. У профессора Полежаева из «Депутата Балтики» были такие же манеры. Сходство просто разительное! Только профессор был чуть постарше и одет беднее… «Артист Черкасов», — догадался Дорохов и стал пристально, внимательно смотреть на артиста. Тот еще раз поклонился дежурной и вышел из гостиницы.
Саша взглянул на Фомина — он торопливо натягивал дошку, шапку и моргнул ему: мол, одевайся.
— Брось чемодан здесь, и за мной.
На улице было холодно и безлюдно. Перед гостиницей стояло несколько извозчиков, а чуть дальше быстро шел актер. Фомин втолкнул Сашу в санки, стоящие в середине извозчичьей вереницы, и что-то сказал кучеру. Застоявшаяся лошадь взяла с места. Когда актеру оставалось шагов двадцать до переулка, они обогнали его, свернули за угол и сразу остановились.
Фомин выскочил на тротуар.
— Миша! Я с тобой, — крикнул ему кучер, сваливаясь с облучка. Сбросил волчью доху, и Саша сразу узнал в нем человека, которого случайно видел накануне в секретной части.
Тот сунул Саше вожжи и побежал за Фоминым. Саша не сразу понял, что происходит, но и не хотел оставаться в стороне.
Накинул вожжи на спинку санок и подбежал к Фомину. Тот объяснял «кучеру»:
— Ты, Федор, иди навстречу, пропусти и страхуй сзади. Мы будем брать.
Едва кучер скрылся за углом, они тоже вышли на перекресток и лицом к лицу столкнулись с «актером», тот сделал было шаг в сторону, но в руках Фомина оказался револьвер.
— Спокойно, Никитский, — тихо и четко произнес Михаил Николаевич. — Дорохов, обыщи его.
Мелькнула мысль: опять он опростоволосился! Хорошо хоть, не поделился своими наблюдениями с дядей Мишей. Он не очень уверенно сделал шаг вперед и увидел, как старик совершенно невозмутимо опустил на тротуар саквояж, мгновенно сбросил перчатки, очень быстро, почти незаметно оглянулся и, увидев «кучера» с пистолетом в руке, улыбнувшись, проворковал:
— Что вы волнуетесь, гражданин Фомин, я же никогда…
Но тот не дал ему закончить, прикрикнул:
— Не шевелиться! Саша! Карманы, быстро!
Дорохов запустил руку в правый карман шикарного пальто и вытащил плоский черный браунинг. Тут уж он окончательно пришел в себя. Переложил пистолет в свой карман и уже уверенно продолжал обыск. Во внутреннем кармане пальто оказался еще один такой же пистолет. «Ничего себе артист! Черкасов! Ну и шляпа я!»
— Посмотри в рукавах и за воротником.
В рукавах ничего не было, а за воротником пальто, там, где крепится вешалка, оказался небольшой финский нож. Он никак не мог его отцепить и поэтому просто вынул из ножен.


— Возьми саквояж, — велел Фомин.
Баульчик был довольно тяжелым. Михаил Николаевич приказал «артисту» идти за угол, где остановились санки. «Кучер» отбросил меховую полость, сначала сел Саша, потом задержанный и рядом с ним Фомин, уже успевший освободиться от бороды. Дорохов заново переживал все происшедшее, представил свою сначала восторженную, а затем растерянную физиономию и еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Ему хотелось рассказать Фомину, но тот был молчалив и серьезен, да и не время было для веселых разговоров.
В кабинете Фомина сразу же собралось начальство. Пришел Чертов и его заместитель Иван Иванович Попов. На столе были разложены новенькие браунинги, уже без патронов, и содержимое саквояжа: набор отмычек из легированной стали явно нерусского происхождения и оригинальной конструкции дрель. «Артист» неторопливо повесил пальто на ту же вешалку, где висела одежда Фомина и Дорохова, своя, а не гардеробная — выглядела она куда как скромно рядом с пальто задержанного. Никитский причесался и спокойно уселся на стул. Казалось, что внезапное задержание у него не вызвало ни малейшего огорчения.
Михаил Николаевич начал допрос, а Сашу отправил за прокурором по надзору за милицией. Прокурор, рыхловатый молодой мужчина, не заставил себя ждать. Он пришел в кабинет и, расположившись за столом Дорохова, стал внимательно рассматривать Никитского. Фомин достал из сейфа пачку документов и положил их перед ним, объяснив:
— Краткая характеристика Гриши Международного. За двадцать один год Советской власти он успел получить в общей сложности девяносто лет лишения свободы, из них не отбыл и десятой части. Всего за ним четырнадцать побегов из разных колоний. Кстати, до революции тоже судим несколько раз, кроме того, имел регистрации в сыскных полициях Харбина, Парижа и Варшавы.
Прокурор долго и с интересом перечитывал документы и задал один-единственный, видимо мучивший его, вопрос:
— Как же так, Никитский, вам шестьдесят пять лет, а из них пятьдесят вы воруете. Я понимаю, при царизме вас толкала нужда, бесправие. Ну а теперь-то? Как же вам не стыдно, Никитский?
Вор усмехнулся и снисходительно ответил:
— Знаете, гражданин прокурор, у каждого своя жизненная философия. А впрочем, отвечу вам афоризмом, что пришел на память: «Весь мир театр, все люди артисты, и каждый исполняет свою роль так, как умеет».
…Несколько дней в уголовном розыске только и было разговоров что о Международном. Сашу расспрашивали о подробностях задержания, поздравляли с успехом, хвалили Фомина. Но Михаил Николаевич сказал, что операция провалилась. Весь маскарад был затеян для того, чтобы выявить сообщников Никитского, а он спутал их планы. И сам на первом же допросе объяснил, что интуитивно почувствовал опасность и решил оставить гостиницу. Сожалеет, что не сделал этого накануне.
— Присматривайся внимательно к Никитскому, Александр, — советовал Фомин. — В прежние времена весь преступный мир на таких вот типах и держался. Слава богу, немного их осталось. Сейчас подобный «артист» раз в год попадется, а раньше, до революции, их в каждом крупном городе по пятку, а то и по дюжине обитало. Этот Никитский негодяй высшей марки. В себе уверен, наши законы назубок знает и, надо признать, бесстрашный, бестия, ничего не боится. Хвастать начнет, а ты не перебивай, слушай внимательно. Может, что интересное промелькнет.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
Фомин допрашивал рецидивиста целую неделю. И эти допросы совсем не походили на обычные, на которых постоянно присутствовал Дорохов.
С утра, как только Михаил Николаевич приходил на работу, сразу же вызывал из камеры Никитского, и начиналась беседа. Фомин спрашивал, как чувствует себя Международный, хорошо ли спал. Тот вежливо благодарил и просил принести чаю. Саша отправлялся в буфет и возвращался с чайником крепко заваренного чая и бутербродами. Все трое медленно, молча, с наслаждением выпивали по стакану. Никитский закуривал и начинал рассуждать.
— Уничтожила Советская власть, гражданин Фомин, преступный мир. Таких людей загубила, просто ужас. Высокого класса специалисты были, художники в своем деле. Сейчас настоящих жуликов, считайте, и не осталось. Таких, как я, по всей России полсотни не наберется. Да и те затаились по разным углам и боятся на люди выйти. Недавно иду по Москве, возле Сретенских ворот, смотрю, дворник метлой пылит, и что-то мне в нем знакомое почудилось. Уже прошел, да вернулся. Поглядел со стороны и глазам своим не верю — Жора-банкир. Бороду отпустил, усы, сам в яловых сапогах. Вы знаете про нашу последнюю воровскую сходку?
— Та, что на Жигулевских горах была, в тысяча девятьсот двадцать девятом? — припомнил Фомин.
— Вот-вот! Там я с Жорой последний раз виделся. Время уже трудное для нас было, а Жора франтом прикатил: в визитке, в белой манишке, в туфлях лаковых и на каждом пальце кольцо. А камни в кольцах такие, что за любой пару рысаков можно купить. А тут в сапогах, смазанных дегтем. Позор, да и только. Подождал я в сторонке, пока он подмел да прибрался, и за ним следом. Присмотрел, в какую подворотню завернул. Немного погодя подхожу к его апартаментам. На двери надпись: «Дворницкая». Постучал, зашел. Комнатенка маленькая, а обстановка!.. Железная кровать да колченогий стол. На стене шкафчик с алюминиевыми мисками и толстого стекла стаканами. Говорю: «Привет Жоре-банкиру», а он в ответ: «Ошиблись, гражданин Международный, нет уже Жоры-банкира, а есть теперь Жора — советский дворник». Вот так гибнут лучшие люди. Помню, гостил я однажды у «банкира» перед самой мировой войной. У него в Питере, на Мойке, свой домишко о двух этажах был. Со швейцаром, с горничной, поваром — все как у порядочных людей. Он, помню, тогда своей коллекцией севрского фарфора хвастался… А тут ставит на стол миску с селедкой, стаканы и, представляете, бутылку водки. Повертел было ее в руках, да, видно, совесть замучила, убрал, а из-под кровати начатую бутылку коньяку достал. Разговорились. Рассказал Жора, как из Питера едва ноги унес, дружков-товарищей уголовка всех замела и многих к стенке. Ну и ему конец бы был, да вот все бросил и в столице пристроился. Спрашиваю, нет ли дельца доброго на примете. «Почему нет? Есть», — отвечает. Только сам он на дела не ходит и другим не советует. Разве нужда заставит. Пока живет на то, что раньше скопил и с собой прихватить удалось. Со старыми знакомыми не встречается, никуда не ходит, чтобы тем, кто остался, на глаза не попадаться. Сейчас мы все друг друга опасаемся: продадут, если выгода окажется.
Михаил Николаевич налил в свой стакан уже остывший чай, посмотрел стакан на свет, отпил.
— Тебе налить, Григорий Павлович?
— Благодарствую. Хотя плесните немного.
— Все-таки сказал бы мне, Григорий Павлович, зачем в Иркутск пожаловал, да еще с целым арсеналом.
— Проездом, Михаил Николаевич, проездом. Почти два года в вашем городе не был, знакомая у меня тут жила, хотел навестить. Женщина она немолодая, но еще ничего, сами понимаете, не могу же я ее назвать… Побеспокоите хорошего человека, а мне конфуз.
— Ну а пистолеты — ей, что ли, в подарок?
— Нет, Михаил Николаевич, — с усмешкой отвечал Международный, — держал для самообороны. Слышал я, бандитизм вы тут развели, вечером на улице и не пройдешь: грабят прохожих. А на мне шуба приличная. Если бы моя власть, я бы всех грабителей и хулиганов на фонарях вешал. Посудите сами, другой дурак напьется — и в драку, людям настроение портит, кого-то покалечит, а потом его в тюрьму — и срок обеспечен. Ну, я понимаю, украл двадцать — тридцать тысяч. Если и попался, то не обидно. Не нашли — полгода жил бы припеваючи. А у хулигана какая корысть? Или вот о тех, кто на улицах прохожих останавливает. У другого в кошельке, может быть, всего двугривенный, а он его обирает и за эти двадцать копеек срок имеет. Раньше хулиганов и таких крохоборов мы в тюрьме и на нары-то не пускали. На полу, возле параши, их место было.
— Хулиганы и грабители — это, конечно, плохо, — в тон Никитскому отвечал Фомин. — Ловим мы их, стараемся, батюшка Григорий Павлович. А к кому вы-то приехали, сказать все-таки придется.
— Думаю, Михаил Николаевич, не стоит. Пусть человек себе живет спокойно. Сколько нам, старикам, и жить-то осталось? Вот вы, наверное, хотите узнать, где я пистолетиками и инструментом разжился? Это, пожалуй, скажу. Это, как я понимаю, вам надо знать. Ехал я в поезде Москва — Владивосток, ну, конечно, в мягком вагоне, а со мной в купе один молодой человек оказался. Он в ресторан, а я заглянул в его саквояж и вижу, что это добро мне самому пригодится. На первой станции, кажется в Тайшете, вышел я с чемоданчиком, а затем на следующий поезд — и дальше проследовал.
Фомин расхохотался.
— Везет вам, Григорий Павлович: один доброжелатель дело в Иркутске готовит, другой инструмент с оружием подсунул.
— Зря вы смеетесь. Эту историю я вам специально для протокола придумал. Должны же вы задать мне такой вопрос? Должны. Ну и запишите мой ответ, я еще вам и приметы обрисую хозяина саквояжа. Чего другого, уж не обессудьте, не скажу. Ищите, не буду у вас хлеб отнимать. Что касается меня самого, то тут вам легче. За любой неотбытый срок мне гражданин судья за побег еще парочку годочков накинет, и отправлюсь в лагерь. Но сами посудите, какой мне резон сидеть? Чтобы все сроки отбыть, нужно еще две жизни прожить. Вот потеплеет, зазеленеет тайга, и уйду. У меня просто страсть бродить по тайге, жаль, что староват стал.
В пять часов Фомин отправил Международного в камеру.
— Пойдем, Саша, по домам. Отдохнем немного, вечером снова… Ну как тебе этот гусь?
Саша только развел руками, а Фомин, собираясь на перерыв, пообещал:
— Вечером напишем письмо в Москву, в МУР. Пусть они среди дворников поищут этого «банкира». Тоже, наверное, сложа руки не сидит. Самое страшное у этих рецидивистов их философия, уверенность в правоте своей, что ли. Да и в обаянии определенном им не откажешь, могут при желании расположить к себе, особенно молодежь. Мало того, что рецидивисты разлагают людей, но они еще и распространяют профессиональные навыки. Страшные они, Саша, люди. Кстати, приехал к нам этот самый Международный по вызову. Кто-то послал ему телеграмму с приглашением. Хотел я с ним в одной гостинице пожить и найти его приятелей. Но вот, видишь, не удалось. А приехал он, думаю, за стоящим делом. Отмычки видел? Имей в виду этот самый Григорий Павлович ими любой сейф откроет. Только где этот сейф и кто его отыскал, мы с тобой не знаем. Но наверняка дело крупное, не зря с оружием решили идти. Учти, этого самого Никитского два года назад мы здесь, в Иркутске, схватили. Суд его за побег осудил, а зачем он приехал, к кому, так и не дознались. Сейчас ему Иркутск стороной надо объезжать, а он снова здесь. Да с оружием. Думаю, и первый раз он не пустой приезжал. Но тогда я у него ничего не нашел и не дознался, что его к нам притянуло. Говорили мне, что в прошлый раз был у него чемодан, коричневый, кожаный, но, куда он его дел, не узнали. Ладно, пошли, а то уже половина шестого.
В тот же вечер, отправив письмо в Московский уголовный розыск, Фомин вызвал Никитского. Привели его заспанного, и он, потирая руки, прохаживаясь по кабинету, сразу начал балагурить.
— Хорошо, что вызвали, а то я, как от вас вернулся, закусил и на боковую. Еще бы часок поспал, а потом всю ночь бессонницей мучился. — Международный взглянул на Сашу, потом на Фомина. — Может, чайком напоите? Сейчас бы горяченького, да покрепче, а к нему рюмочку коньяку. — Никитский опустился на стул, прикрыл глаза и мечтательно продолжал: — Есть такой божественный напиток «Мартель». Две-три крохотных рюмки — и усталости, тоски как не бывало. Вы вкушали, Михаил Николаевич, когда-нибудь «Мартель»?
— Что вы, Григорий Павлович! Где мне! Я и шустовский-то коньяк только в витринах видел. Но коньяк я вам сейчас не обещаю, а чайком покрепче напою. Организуй, Саша, и бутербродиков прихвати.
За чаем Никитского потянуло на воспоминания, и он рассказывал о своих удачных кражах, словно о каких-то подвигах. Саше даже стало противно слушать. Он смотрел на Фомина и удивлялся, почему тот не оборвет вора, не поставит его на место. А Фомина как подменили. Он был весь внимание, поддакивал, хлопал по плечу Никитского, от избытка чувств потирал руки и вместе с ним весело смеялся над одураченными жуликом простачками. Когда Международный вспомнил, как он перед самой империалистической войной удачно очистил сейф какого-то богача в Брюсселе, Фомин совсем развеселился, даже засмеялся от удовольствия. Потом внезапно спросил:
— Как же вы тут у нас так опростоволосились? Влипли, Григорий Павлович, что называется, ни за понюшку табаку.
— Привычка подвела. Любовь к чистым простыням. Мог бы остановиться в другом месте, но понесла меня нелегкая в гостиницу. Люблю чистоту, уют и ценю покой. Ведь на квартире как? Хозяйку со своими причудами терпи. К ней знакомые зайдут, и ты, хочешь не хочешь, улыбайся, разговаривай. В гостинице другое дело — сам себе хозяин. Но в этот раз мне и там не по себе было. Предчувствие, что ли? Мне бы, глупцу, раз душа болит, за паспортишком-то не заходить. Спуститься бы по черному ходу во двор — и поминай как звали. Сидели бы вы, гражданин Фомин, с помощничком в вестибюле, хотя, откровенно скажу, вас я не признал, да и помощника вашего тоже. В общем, я… — Никитский не договорил. Взял бутерброд и, прихлебывая из стакана, снисходительно взглянул на Фомина.
— Ну и что? Через неделю-вторую нашел бы вас в другом месте.
— Черта с два вы нашли бы меня здесь через две недели. Через две недели гулял бы я по Унтер-ден-Линден или по Монмартру. — Никитский поставил стакан, неожиданно встал, его движение было настолько резким, что Саша тоже вскочил, только Фомин остался спокойно сидеть, прикрыв глаза.
— Так где бы вы гуляли, Григорий Павлович, через пару недель?
— В Одессе по Дерибасовской или в Питере по Невскому, а может быть, в Ростове. Неужели вы думаете, что я остался бы в вашем паршивом городе, если бы унес из гостиницы ноги?
— Хитрите, Никитский, — вздохнул Фомин. — Вряд ли вы от нас бы уехали, ни с кем не повидавшись.
— Кто его знает, гражданин Фомин, — задумавшись, словно что-то вспоминая, проговорил рецидивист. — Может, и задержался бы на пару-тройку дней. Я же вам говорил, любовь у меня к одной даме давняя.
После допроса Фомин и Дорохов вышли на улицу в ночь, в мороз.
— Ты, я вижу, не очень доволен вечерним разговором? — поинтересовался Фомин.
— Гад этот Никитский. Противно на него смотреть, не то что слушать.
— Безусловно. Но, мне думается, именно сегодня он с нами пооткровенничал и сказал куда больше, чем хотел.
— Что же он такого сказал? Я толком не заметил.
— Давай, Саша, по домам. На досуге сам разберешься, не буду тебя сбивать.
Были случаи, когда Фомин на время уходил из управления, а Дорохов оставался с Международным. Никитский просил Фомина не отправлять его в камеру. Правда, Михаил Николаевич всякий раз присылал в помощь Саше Чекулаева или Боровика. Григорий Павлович, мастер на всякие воровские байки, мог говорить часами. Женька с Боровиком слушали его с нескрываемым любопытством, истории преступного мира в дореволюционной России были им в диковинку. Но Саша после урока, преподанного ему воровкой, вел себя настороженно, ожидая и от Никитского любого подвоха. Обычно Международный сидел возле стола Фомина, иногда вставал, чтобы размяться, прохаживался по кабинету, пересаживался на другой стул, а Дорохов исподволь наблюдал. Он заметил, как Никитский почти неуловимым движением, затушив окурок в пепельнице, что-то взял со стола Фомина и сунул в карман. Ребята на это не обратили внимания. Саша судорожно пытался припомнить, что же там лежало. Перед уходом Фомин всегда убирал документы в сейф. Ручки с перьями были на месте. А вот карандаша не оказалось. Зачем Никитскому понадобился карандаш? Саша хотел обыскать преступника, но потом раздумал. Едва появился Фомин, он вызвал его из кабинета и рассказал о карандаше. Фомин велел зайти к Попову и доложить ему об этом, а сам решил продолжать разговор с преступником и не подавать виду, что его выходку заметили.
Иван Иванович выслушал Сашу и тут же спросил:
— Ты-то как считаешь, зачем этому типу карандаш?
— Видно, письмо кому-то хочет написать.
— Письмо вряд ли, а вот записку наверняка. Только через кого же он решил ее передать? Это интересно. А ну пойдем.
Они спустились на первый этаж в дежурную часть, а оттуда вышли во двор и направились к камерам предварительного заключения. Начальнику КПЗ Попов приказал проводить его в камеру Никитского. Она оказалась последней по коридору, небольшая, с одним топчаном и маленьким столиком, над которым почти под потолком было забранное решеткой окно с двойной рамой.
Попов сел на топчан, внимательно осмотрелся, спросил у начальника КПЗ, через кого, по его мнению, мог попытаться передать записку Никитский. Начальник КПЗ, пожилой, седоватый мужчина с большими залысинами на лбу, в милицейской форме с тремя кубиками в петлицах, прикрыл в камеру дверь и шепотом, словно их могли подслушать, стал рассказывать, что в соседней камере сидит вор-рецидивист, арестованный на этот раз за драку. Возвращаясь с прогулки или с допроса, он неоднократно подходил к камере Никитского, через волчок в двери с ним разговаривал и передавал ему папиросы. Попов поинтересовался, кто ведет дело этого арестованного, и, узнав, что уполномоченный Шеметов, велел начальнику КПЗ обо всем молчать. Вернувшись к себе, Попов приказал Саше остаться у него в кабинете и вызвал Шеметова. Саша знал, что этот солидный, уже в возрасте под стать Фомину, работник был ранен в перестрелке с преступниками, лежал в больнице и совсем недавно вернулся в управление. Шеметов рассказал весьма сентиментальную историю. У рецидивиста очень добрая и порядочная жена, старавшаяся изо всех сил отвратить мужа от новых преступлений. Она оберегала его от старых знакомых, одного никуда не отпускала. Устроила на работу к себе в цех на завод имени Кирова. Но однажды старые дружки мужа ее оскорбили, а тот их за это избил, да так, что оба лежат в больнице.
— Была у меня эта женщина, — докладывал Шеметов, — места себе не находит, ругает шпану и всякое жулье на чем свет стоит. Просит свидания с мужем.
— Когда она будет у тебя?
— После работы, Иван Иванович. Как кончится первая смена, так и придет.
— Приведи ее ко мне, Шеметов. Сам с ней поговорю. А ты, Дорохов, иди к себе да скажи Фомину, чтобы зашел. Смотри Никитскому и виду не подавай, что заметил, как он карандаш смахнул. Тут надо все по-тихому.
— Любовь, говоришь? Любовь хорошо, просто отлично. — Фомин говорил резко, зло и явно не скрывал своего пренебрежения к Никитскому. На возвращение практиканта не обратил внимания. — Только думается мне, Григорий Павлович, никого ты сроду не любил. Кроме самого себя, разумеется.
— Как знать, как знать, — усмехнулся Никитский.
— Найдем мы твоих друзей-приятелей — и вся любовь.
— И не старайтесь, гражданин Фомин. При большом беспокойстве — пустые хлопоты. В позапрошлом году, когда меня схватили, вы тоже все приставали: «Зачем приехал? К кому?» Пол-Иркутска, наверное, избегали, а толку? В суд-то я за побег пошел. Мнится мне, и в этот раз так же будет.
— Не надейтесь, Григорий Павлович, на этот раз во всех твоих делах разберемся. Сам расскажешь.
— Ничего я вам не скажу, гражданин хороший. Бить меня или, упаси бог, пытать вы не будете. Закон меня оберегает. Это в полиции, при царе, били, да и то мелкоту, сявок разных. А нас не трогали. Сами посудите, как было нас не беречь? С каждого дела господину полицейскому начальнику я преподносил двадцать процентов. Возьму полсотенки тысчонок, десять в пакет с розовой ленточкой… и лично из рук в руки. Какой же резон полицейскому такой заработок терять? Вот и берегли, словно курочку, что золотые яички несет. Вы ведь у меня, гражданин Фомин, двадцать процентов не возьмете? А двадцать пять? Пусть выйдет ваш юный помощник. Я одно предложение хочу сделать.
Дорохов встал. И раньше Фомину приходилось разговаривать с кем-то наедине. В таких случаях Михаил Николаевич подавал ему, Саше, знак — и он выходил. Сейчас Фомин никакого знака ему не подал. Он слушал Никитского как бы вполуха. Сидел за столом, подперев рукой щеку, и чертил что-то на бумаге. Саша постоял и снова опустился на стул.
— В царское время я вас обоих купил бы и продал, — входил в раж старый вор. — А сейчас знаю, не возьмете и третью часть, и половину с моего дела. Вам надо все. И не себе, а чтобы вернуть, как вы говорите, народу. — Никитский криво усмехнулся: — Глупцы, фантазеры.
Неожиданно он остыл, обмяк, махнул рукой и отвернулся.
В РАЗВЕДКУ
…Через два дня Фомин задолго до полуночи прогнал Сашу из управления:
— Иди домой да хорошенько отоспись перед дальней дорогой.
Дорохов вышел через двор, черным ходом, чтобы не попасться на глаза ребятам. На улице поднял воротник изрядно поношенного полушубка, надвинул на глаза потертую, видавшую виды шапку. Шел и насвистывал про веселый ветер. Мелодия рвалась из груди, хотелось петь в полный голос. Ему, Сашке, наконец поручили настоящее дело! Это вам не повесточку отнести или бумажки подшить…
Старый циник, выхоленный мерзавец, господин Международный будет разоблачен им, комсомольцем Дороховым.
«Не беспокойтесь, Михаил Николаевич, мы тоже кое-что умеем и сработаем в лучшем виде, — хвастливо думал о себе Саша. — Да, а выдержки дяде Мише не занимать. И как он только выносит все эти бредни старого болтуна? Да еще чайком поит и спичку зажженную к папиросе подносит. Тьфу!»
Пришел домой он рано, и мать еще не спала. Увидев сына, она только руками всплеснула:
— Опять вырядился? Прошлый раз пришел как нэпман, а сейчас босяком. Увидят соседи, со стыда умру. Иди-ка сюда, отец, посмотри на нашего сыночка. Ты эту рванину зачем нацепил? Хоть посмотрел ее как следует? Там, поди, вши кишат. Снимай все немедленно, узлом свяжи и у порога брось. — Мать не могла успокоиться. — Надо же, Пинкертон! В лохмотьях…
Дорохов-старший молча наблюдал, как сын снял старенький полушубок, неопределенного цвета свитер, а когда Саша, стягивая валенки, вытащил из-за голенища финку, прикрикнул на мать, чтобы та замолчала.
— В разведку, что ли?
— Вроде этого, батя!
— Наган не дали?
— Нет. Нельзя, говорят.
— Когда уйдешь?
— Завтра. Утром. В пять часов встану. — Саша улыбнулся матери: — А одежонка чистая, не волнуйся, у нас грязную не держат.
Утром Дорохов-старший разбудил сына:
— Вставай, уже пора. Иди, я там тебе яичницу с салом изжарил и чай вскипятил. В дорогу кусок сала и хлеб завернул. Заодно ножик твой по бруску потер и на ремне поправил. Сталь ничего. Можно бриться.
Саша был тронут отцовской заботой. Он хотел было рассказать отцу о своем задании, но раздумал. Конечно, тот никому не скажет, но зачем его зря волновать?
Провожая сына, Дорохов-старший спросил:
— Когда ждать-то?
— Не знаю. Если ничего не выйдет, вернусь скоро, если повезет, придется задержаться.
— Ну, как говорили в старину, путем тебе, дорогою.
— И тебе по той же, — откликнулся Саша, закрывая дверь.
На тракте он простоял недолго. Шофер новенького ЗИС-5 сам заметил Сашу и открыл дверцу, а когда узнал, что тот едет до самого прииска, даже обрадовался.
— Не люблю по дороге попутчиков менять. Если до конца — пожалуйста. Деньги за проезд не надо, но на месте поможешь разгрузиться. Идет?
Тронув машину, шофер сразу же запел песню про Чуйский тракт, про Марусю, которая ездила за рулем «форда», и про зеленый АМО, что прародитель ЗИСа.
— Понимаешь, привык в пути петь или разговаривать. Иначе заснешь. Дорога длинная, а я на ней почти все ухабы да колдобины знаю, вот и кидает в дремоту. Раньше на полуторке ездил. На той не вздремнешь: старая, того и гляди развалится, а сейчас не машина, а сказка. ЗИС-5 — король дорог. Представляешь, на базу прислали три штуки. Переполох поднялся. Кому давать? Собрание
устроили. Одни говорят, нужно жребий тянуть, а потом решили передать ЗИСы ударникам.
Но на прииск приехали глухой ночью, по дороге встречались заносы, и Саша с шофером брались за лопаты. Они загнали машину на территорию продуктовых складов, под охрану сторожей, а сами пошли в дом приезжих немного вздремнуть. Утром закусили остатками домашних запасов и принялись за разгрузку. Перетаскали мешки с крупой, мукой и сахаром.
— Спасибо, что помог, — пожал Сашину руку шофер. — Если надумаешь возвращаться в Иркутск, ищи меня в приисковом управлении, я там буду груз получать. Может, обратно вместе и махнем.
— Не знаю, успею ли. Родню надо отыскать, пока то да се…
Прощаясь, Саша искренне пожалел, что не мог назвать свою настоящую фамилию и имя этому симпатичному шоферу.
У женщины, охранявшей склады, он расспросил, как отыскать чайную, и та, выйдя из сторожки, показала крышу длинного, похожего на барак дома, видневшегося в центре поселка.
— Ты, сынок, заходи с той, дальней стороны, — объясняла женщина, — где елка растет. С этой-то у них вход в кухню, а с той — в залу. Только зачем тебе чайная? Неужто водку с утра пьешь? Шел бы в приисковую столовую, там сытно кормят, да и подешевле. Правда, выпивохам она не по нутру, нет в столовке этой проклятущей водки.
— Спасибо, мамаша, а насчет водки, — замялся Саша, — не пью я. Совсем не пью.
Чайную он нашел на небольшом пригорке, под разлапистой огромной елью, в рубленом доме. На вывеске местный живописец изобразил огромный самовар, из трубы его, как из паровоза, поднимался толстый столб дыма. Рядом с самоваром — аляповатые чашки и огромный каравай. На пороге Саша задержался, словно собираясь с духом. В маленькой прихожей на стенке были прибиты вешалки. На двух деревянных колках уже висели полушубок и дошка из какого-то лохматого меха. Саша повесил полушубок, под медным рукомойником сполоснул руки, причесал свои вихры и направился к двери в зал, прикрытой портьерой. Откинув плотную ткань, почти столкнулся с огромным медведем, поднявшимся на дыбы. Саша понял, что это чучело, но все-таки от неожиданности отшатнулся. Медведь был как живой, одну лапу он протянул, словно для приветствия, а в другой держал фанерку с надписью:
«Добро пожаловать».
«С фантазией работники в этой чайной», — подумал Саша и осмотрелся.
На стенах висели чучела: на сосновом сучке расправил крылья глухарь, чуть дальше сидел ястреб-тетеревятник, а на другой стене на обрубке лиственницы разлеглась рысь. С потолка на металлических крючках спускались шесть больших керосиновых ламп. В зале было тепло, чисто. Десяток столиков, покрытых пестрой клеенкой, были свободными. Только в углу за столом расположились двое мужчин. Стойка, уставленная тарелками с закуской, тянулась в полстены. За ней в двух высоких резных буфетах красовалась целая выставка бутылок с разноцветными этикетками. В середине зала под чучелом рыси возвышалась крохотная эстрада. На ней едва ли могло разместиться больше двух человек. «На стенку бы плакат: «Не стреляйте в баяниста» — и получится совсем как у Джека Лондона в клондайкских салунах», — подумал Саша, располагаясь за столиком поближе к буфету. В меню, написанном карандашом, значилось много блюд, и почти все из местных продуктов: рагу из дикой козлятины, котлеты из медвежатины и еще что-то в этом роде. Видно, чайную обеспечивают охотники. Саша решил, что возьмет расколотку из ленка, соленые рыжики и котлеты. К нему чинно подошла степенная немолодая женщина в белых, расшитых красными узорами поярковых валенках и в платке, похожем на русский кокошник. Приняв заказ, она спросила, что будет молодой человек пить. Узнав, что требуется только чайник чая, усмехнулась:
— А может, к грибкам и расколотке все-таки стопку подать? Не хочешь? Ну, хозяин барин.
Официантка подошла к буфету, постучала вилкой по тарелке, и к стойке вышла буфетчица. Ей было лет под сорок, а может, и меньше, высокая, стройная, белое приятное лицо и черные, гладко причесанные волосы, разделенные на ровный пробор, аккуратно заплетенные и уложенные на затылке. В ушах поблескивали серьги, а на пальцах красовались золотые перстни.

— Выпиши мне, Анна, заказ, — попросила официантка.
«Повезло! Та самая!» — решил Саша и стал всматриваться в буфетчицу, а она, не обратив внимания на нового посетителя, перед зеркалом, вставленным в одну из дверок буфета, поправила воротник белой кофточки, небрежно повела плечом, чтобы удобнее легла на спине большая пуховая шаль, и снова скрылась за дверью.
Официантка быстро принесла заказ, пододвинула тарелку с разогретым калачом. Саша ел и поглядывал на буфет. Анна дважды выходила к стойке, что-то доставала из ящиков, принесла какую-то коробку, потом, усевшись на табуретку, стала писать, изредка щелкая счетами. Мужчины закончили трапезу и ушли, а Саша, отпив несколько глотков чая, прямо со стаканом в руках отправился к буфету.
— Нюра! У меня дело до Хозяина.
Женщина медленно, словно нехотя, оторвалась от работы, спокойно и холодно оглядела Сашку.
— А ты с какой бригады? Что-то я тебя раньше здесь не видела.
— Не из бригады я. Из Иркутска, записку ему привез.
— От кого? Давай сюда.
— Понимаешь, велено отдать самому в собственные руки. — Саша спиной почувствовал, что в зале появились посетители, и буфетчица заторопилась.
— Ступай допивай чай. Жди. Как только освобожусь, иди за мной вон в ту дверь. Там поговорим.
Волнуясь, но сохраняя внешнее спокойствие, Саша вернулся за столик, налил себе из чайника еще стакан и стал во все глаза глядеть на буфетчицу, но та его и не замечала. Вдруг она пальцем поманила официантку и что-то зашептала ей на ухо. В знак согласия официантка кивала и несколько раз взглянула в сторону Сашки. Лицо буфетчицы заметно посуровело. Она взяла из-под прилавка черную клеенчатую сумку и ушла в дверь, ведущую на кухню. Минут двадцать, а то и полчаса ее не было, и официантка сама заходила за буфетную стойку, разливала для посетителей водку, брала тарелки с закусками.
«Убежала куда-то, — сообразил Саша. — Предупредить Хозяина или еще кого-нибудь».
Буфетчица вернулась вся разрумянившаяся, точно и впрямь прошлась по морозу. Стрельнула глазами в Сашу, и тот, опасаясь на этот раз встретиться с ней взглядом, опустил голову. Ему стало не по себе. Вокруг него явно что-то затевалось. Вспомнив советы Фомина и Попова, нащупал под столом в валенке рукоятку ножа.
— Может, вам еще что подать? — подошла к нему официантка.
Но он отказался, рассчитался за обед — отдал целых полтора рубля, подумал и прибавил пятнадцать копеек — на чай. Как только официантка отошла, Анна незаметно кивнула ему, и Саша направился за ней следом. За дверью оказалась небольшая кладовая. В одной стороне были расставлены ящики с бутылками, в другой — на полках лежали какие-то коробки. Между ними стоял стол, и на нем зажженная керосиновая лампа.
— Где письмо? — глядя ему в глаза, спросила буфетчица. — Давай сюда.
— Велели отдать самому Хозяину, — упрямо повторил Саша.
— Нет его в поселке. Сейчас к нему бегала. И когда вернется — не знаю. Может, завтра, а может, через неделю или через две. Давай я передам.
— Как же я тебе-то отдам, когда дядя Гриша велел самому в руки.
— Чей дядя? Твой? — насторожилась буфетчица.
— Нет, Международный.
— Что это за Международный? Где ты его видел? — не скрывая любопытства, спросила женщина.
— Где же мне его видеть? В уголовке сидит.
— Как сидит? За что?
— Не знаю. Верка ходила к Резаному, к мужу, значит, на свидание, а тот передал ей записку, говорит, дядя Гриша велел отвезти и через тебя передать Хозяину.
— Верка-то тебя как нашла?
— Да сестра она мне, живем вместе.
— Давай записку-то, — строгим тоном потребовала буфетчица.
— А ты не врешь, что самого нет?
— Говорят тебе, что уехал и когда вернется — не знаю. В тайгу отправился по бригадам.
— Что же мне тут, полмесяца торчать? — возмутился Сашка.
— Давай и проваливай. Хозяин вернется, приедет в Иркутск сам или кого пошлет.
— Ладно. — Саша достал из кармана ватных брюк сложенную пачкой газету, развернул ее и вытащил исписанный мелким почерком листок. — Вот, передачу просит, а дальше не разобрал. — И Саша вручил буфетчице послание.
Она, не читая, подсунула листок под какой-то ящик на полке. Взяла со стола бумагу и карандаш.
— Напиши, как найти тебя в Иркутске, фамилию, адрес. Может, через твою Верку сам-то передачу этому Грише и отправит.
— Раз взяла записку, деньги давай, — со всей грубостью, на которую оказался способен, заявил Саша.
— Какие деньги? — вскинула брови женщина.
— Как какие? Дядя Гриша Резаному посулил, что Хозяин за записку полсотни отвалит. Зря я сюда по морозу тащился, что ли?
— Ладно, подожди. — Анна вышла и вскоре вернулась с бутылкой водки и стаканом. Вынула из кармана фартука три червонца. — Держи! С тебя и тридцатки хватит. — Хозяин-то, может, и поболе отвалил бы, да где его сыскать. А вот стакан на дорожку налей. Посошок и за знакомство.
Не выпить было нельзя, а водки Дорохову страсть как не хотелось, и он решился на новую грубость. Спрятав деньги, взял со стола бутылку, встряхнул ее и, не распечатывая, опустил в карман.
— Хорошая ты баба, Нюра. Прямо жаль уезжать. За твое здоровье эту водяру всю дорогу буду сосать.
— Куда же ты в ночь-то?
— Найду попутную машину — и домой. Нечего мне тут у вас прохлаждаться.
На улице стемнело, крепчал мороз. И днем-то было мало народу, а к вечеру и совсем стало безлюдно. Дорохов пришел к продуктовым складам, потом к постоялому двору, снова вернулся в центр, к приисковому управлению, но ни одной машины не встретил. Симпатичный шофер с новеньким ЗИСом, наверное, уже укатил. Возвращаясь к постоялому двору, Саша услышал за собой шаги. Ему показалось, что человек осторожно крадется, стараясь, чтобы снег под ногами не скрипел. Саша остановился, оглянулся, но никого не увидел. Однако и скрип прекратился. Померещилось, что ли? Едва Дорохов тронулся дальше, сразу же услышал те же осторожные шаги. В темноте, на неосвещенных проулках, преследователю легко удавалось спрятаться, Прижался к темному забору, и все. Кто же это следит? Как проверить? Может, Хозяин? Стало зябко и неуютно.
Сунув в левый рукав финку, Саша пошел быстрее. Сзади снова послышались теперь уже торопливые шаги. Дорохов побежал, свернул за угол и остановился, прижавшись к тесовому забору. Когда шаги приблизились почти вплотную, он вышел навстречу и лицом к лицу столкнулся с женщиной. Та громко ойкнула и отскочила в сторону.
— Ну и напугал ты меня! — открывая лицо, закутанное шалью, проговорила женщина, в которой он тотчас признал официантку чайной. — Бегаю по поселку, ищу тебя, а ты мотаешься, как гуран по тайге. Увидела возле конторы и никак не догоню.
«Врет, — подумал Саша. Он же явно слышал, как официантка останавливалась, когда он замедлял шаги. — Следила. Интересно, зачем?»
— Чего это ты меня вдруг искать начала?
— Да Нюша наша, буфетчица, у которой ты про своего дядю спрашивал, говорит: «Парень вроде хороший, родственника не нашел, уехать не сможет. Машину в ночь где найдет? Разыщи его, да пускай у тебя и переночует».
Дорохов хотел отказаться, а потом решил выяснить, что кроется за этим приглашением.
— Да ты не бойся. Дом у меня семейный, люди мы порядочные, идем. Пельмешками побалую.
На краю поселка, как казачья крепость, стоял большой рубленый пятистенок, обнесенный тыном в сажень высоты. Лиственницы в обхват, расколотые пополам, были стоя врыты в землю, одна к одной. Остро затесанный верх образовал по забору грозную зубчатую ленту.
«Не дай бог лезть через эту загородку. Напорешься, и конец», — подумал Саша, заходя во двор.
В избе оказалось людно. Женщину встречали радостно и суетливо, старуха мать или свекровь кинулась раздувать огонь в печи. Девушка лет пятнадцати помогла раздеться, из-за занавески выглянул парень ростом с Сашу, но помоложе. Хозяйка от порога объявила, что привела человека переночевать, чтобы на заезжем дворе не валялся. Как только Саша разделся, провела его в залу, велела детям занимать гостя, сама с бабкой стала собирать ужин.
Вошедший парень застенчиво сунул жесткую негнущуюся ладошку Дорохову и назвался Кешкой, появилась девчушка, любопытно осмотрела гостя и сказала, что ее зовут Лена. Саша задал несколько вежливых вопросов о прииске, погоде, охоте, но ответы слушал рассеянно. Его мучило другое: зачем официантка затащила его к себе домой? Не могла же она вот просто так бегать в темноте по поселку, невесть где искать его только ради того, чтобы накормить пельменями и устроить на ночлег в теплой и чистой избе? Почему буфетчица сказала ей, что он, Саша, разыскивает дядю? Может, придет сам Хозяин или встретит его где-нибудь и с этой целью и затащили его сюда… Пришел к одному выводу: им заинтересовались. Записка Международного была явной неожиданностью, и от него хотят подробностей. А может, ему устроят проверку? Ну, к проверке он готов. Вместе с дядей Мишей они перебрали все возможные варианты разговора с Хозяином. Все? Нет, пожалуй, ночлега в семейном доме, и, судя по парню и девушке, вполне порядочном, они все-таки не предвидели.
— А где отец-то? — спросил Саша у парня.
— Батя в тайге. До рождества белковали вместе, а сейчас один ушел за сохатыми…
Парень понравился Дорохову. Здоровенный, неуклюжий и очень застенчивый, открытое мальчишеское лицо и мягкие белые волосы, коротко остриженные под скобку…
— Ну и как нонче белка? — в тон парню поинтересовался Саша.
— Нормально. Батя добыл поболе трех сотен, да я около двух. Он с мелкашкой белковал, а у меня берданка. Разве с винтовкой ее сравнишь?
Кешка встал, вышел в боковушку, вернулся со стареньким дробовиком и передал ружье гостю. Саша со знанием дела осмотрел берданку, изготовленную еще в прошлом веке.
Лена слушала мужские разговоры и все порывалась о чем-то спросить. Выждав паузу в рассказе брата, тронула Сашу за плечо:
— Вы не знаете, как принимают в Иркутске в техникум? Летом семилетку закончу, хочу в медицинский поступить. В техникуме, наверное, общежитие есть… А Иркутск большой? Народу, говорят, там тьма-тьмущая.
Рассказать девушке об Иркутске Саше не удалось. Мать велела ей накрывать на стол, а Кешка все не унимался:
— Мне все-таки карабин больше по душе. У нас тут есть один охотник — Кирьяном зовут, он в прошлом году купил себе карабин, хорошо добывает зверя. Но батю все равно обстрелять не может… Ты в чайной был? — внезапно спросил он Сашу.
— Был.
— Медведя возле дверей видел?
— Видел.
— Так это его Кирьян из карабина завалил. Сам и чучело сладил и Анне Егоровне за две бутылки зеленого вина отдал.
— Что же так дешево? — удивился Саша.
— Вроде как подарок, а Егоровна женщина сурьезная, за так не взяла. Глухарь там, рысь — тоже его работа. Стрелок этот Кирьян стоящий. Только до бати далеко… — с гордостью заключил парень.
— Чего же ты с батей не ушел в тайгу?
— Не взял. — В голосе Кешки звучало сожаление. — Говорит, хватит на семью одного охотника.
— Конечно, хватит, — поддержала мать, появившаяся с большой миской соленых грибов и с тарелкой сала. — Ленка, поставь на стол лафитнички, под пельмени-то не грех… Да принеси отцовскую настойку, ту, что в черной бутылке, мамане вроде как нездоровится, а полынная от всех болезней.
— Кеша, мамку-то как величают? — потихоньку спросил Саша.
— А ты чего же сам не спросил? Олимпиада Никоновна. Да ты ее просто Никоновной зови. Так вот, не пустил меня в охоту отец и золотишко мыть не велел. Золото, говорит, много людей загубило. Велит техникой заниматься. Да мне все одно скоро в солдаты идти, а из армии вернусь — в тайгу подамся. Тогда меня никто от охоты не отобьет.
Пришла из кухни старушка лет под семьдесят, принесла миску с вареной сохатиной. Саша понял, что принимают его по первому разряду. Он вышел в сени, отыскал свой полушубок и вытащил бутылку водки, что взял у буфетчицы. Хозяйка внесла огромную дымящуюся кастрюлю с пельменями, и все уселись за стол. Хозяйка разлила по рюмкам водку, предложила Саше настойку, но тот отказался, и тогда темную густую жидкость налили бабушке. Не обошла мать и дочку: и ей плеснула в рюмку.
— Мне просто неудобно, Олимпиада Никоновна, сколько я вам хлопот доставил. Из-за меня такой стол накрыли.
— Почему для тебя? — искренне удивилась хозяйка. — Нам-то тоже ужинать надо. Я в той чайной и куска в рот не возьму: все не по мне, а дома люблю вот так поесть. Провиант, слава богу, свой, не купленный. Ты вот попробуй-ка пельмешки-то. В подклети еще полкуля висит. Неделю стряпали. Мои охотники в тайгу без пельмешек зимой не ходят. А ты говоришь: для тебя.
Пельмени и верно оказались — пальчики оближешь. Сочные, духовитые, с привкусом брусничника, голубицы и какого-то знакомого таежного запаха.
Сашке было хорошо в этой гостеприимной семье. И лишь мысль о том, что от Олимпиады или ее мужа какая-то нить тянется к Международному, не давала покоя. Не хотелось связывать этих вроде бы славных людей с отъявленным преступником. Но что-то ведь их объединяет? Он несколько раз пытался перевести разговор на чайную, даже прямо спросил у хозяйки про Анну, но та просто-напросто отмахнулась. После сытного ужина и чаепития Сашу уложили спать здесь же в зале на широкой лавке. Хозяйка разостлала огромную волчью шубу, положила подушку, забрала Сашины валенки посушить и пожелала спокойной ночи. Но ему не спалось. «Кто Анна? Кто такая на самом деле Олимпиада? Зачем привела она его в свой дом?» Саша прислушивался к шорохам, вертелся, вставал, снова ложился. Постепенно сон начал его одолевать, как вдруг в тишине отчетливо послышался скрип половиц, застонала неладно расклиненная доска. Саша хотел вскочить, спросить, кто это бродит, но заметил в дверях длинную белую женскую рубашку. «Хозяйка, — решил он, — что же ей нужно?» И тут же нашел успокоительный ответ: «Мало ли что может понадобиться человеку в собственном доме, даже ночью» — и притворился спящим. Между тем женщина постояла в дверях, прислушалась, вошла в комнату и потихоньку подошла к табуретке, взяла в охапку сложенную одежду гостя и так же крадучись вышла на кухню, откуда в коридор пробивалась полоска света.
«Что это она задумала? Может, захотела посмотреть, нет ли в моей одежонке насекомых?» Теперь уже Саша не мог спокойно лежать. Он поднялся и, осторожно ступая, прижимаясь к стене, чтобы не заскрипели половицы, приблизился к кухонной двери. Ему было хорошо видно, как Олимпиада Никоновна возле стола в свете прикрученной керосиновой лампы осматривала содержимое его карманов. Едва улегся на свою постель, как снова услышал шаги. Хозяйка так же тихо постояла в дверях и уже более уверенно вошла в комнату и положила все вещи на прежнее место.
«Ладно, хоть нож сунул под лавку. Хорош был бы я, если бы финка оказалась в кармане…»
Что же она все-таки искала? Как ни странно, но ни страха, ни тревоги Саша не испытывал. Видно, Анна велела его не только приютить, но и проверить. Значит, все они тут заодно с Хозяином. Усталость взяла верх, и он заснул.
Когда Саша открыл глаза, за окнами, покрытыми морозными узорами, было солнечно.
Первым делом он мысленно поблагодарил дядю Мишу, который накануне отъезда потребовал у Сашки наган и удостоверение личности.
— Давай, давай, — говорил Фомин, — прихватишь с собой по глупости и сгоришь синим пламенем. Нам с тобой это ни к чему.
«Все-таки, что ей было надо? — думал Саша. — Деньги целы, да и сколько их? Своих меньше десятки, плюс три червонца, что вытребовал у Анны. Анна… Как бы разузнать о ней побольше?»
Умывшись, Саша пожелал доброго здоровья Никоновне и старушке, расположившимся на кухне у самовара.
— Иди чай пить, парень, — пригласила старуха, — наши-то уже убегли: одна в школу, другой в мастерские.
— Сначала сохатинки отведай да вот рюмку прими, — предложила хозяйка.
«Ночью все карманы перетрясла, а сегодня снова спаивает», — раздраженно подумал Саша и отказался.
— Пожевать чего-нибудь — другое дело, а водки не хочу.
— Еще вечор приметила, что к спиртному ты не сильно охоч, — уважительно отметила старуха, а Никоновна промолчала, вроде и ни к чему ей.
За чаем Дорохов рискнул:
— Скажите, Олимпиада Никоновна, а сколько лет вашей буфетчице? Тридцать наберется?
Обе — и старая, и молодая — вмиг рассмеялись.
— Глаз у тебя, милок, не зоркий. Вот скажу Анне, что ты в нее втрескался, пусть радуется. Ей уже за сорок, она тебе в матери годится. К ней ты не примажешься, она у нас, как монашка, одна, мужчин не жалует. К ней тут наш приисковый инженер сватался, а она ему от ворот поворот. Есть один охотник, одинокий, до сих пор по ней сохнет, а Нюрка и в дом его не пускает. Сколько лет живет здесь, а все одна, все с книжками, только с учительницей дружбу водит. Строгая женщина, а ты туда же…
— Что вы, Олимпиада Никоновна, я ведь просто так.
— Ты лучше скажи, зачем приехал и какого дядю разыскивал? — Олимпиада искоса взглянула на Сашу. — Я ведь тут всех от мала до велика знаю.
«Интересно, — подумал Саша. — Дядю выдумала Анна, а Никоновна спрашивает всерьез. Выходит, буфетчица ей не сказала про записку? Нужно как-то выпутаться».
— Ну, Никоновна, ты чисто прокурор, все тебе скажи… Давай-ка лучше карандаш и бумагу, я тебе свой адресок оставлю. Будешь в Иркутске, погостюешь. — И так же, как в чайной, написал адрес той самой Веры, за брата которой себя выдавал.
— Некогда мне по Иркутскам-то ездить, — вздохнула женщина. — Может, соберусь к пасхе, тогда загляну.
В тот же день к вечеру, правда, с меньшим комфортом, уже в кузове, на каких-то мешках, Саша вернулся в город и сразу позвонил Фомину.
— Приехал? Живой-здоровый! Ну, молодец! Иди домой, отдыхай.
— Мне бы, дядя Миша, зайти в свое переодеться.
— Приходи, буду ждать, — сразу же согласился Фомин.
Саша переодевался и рассказывал. Торопился, перескакивал с одного на другое. Фомин слушал молча, не перебивая, ни о чем не расспрашивая.
— Ладно, — решил он. — Отправляйся-ка домой. Утро вечера мудренее. — Но, видно, под конец не вытерпел: — Что же эта Анна, так одна и живет?
— Олимпиада сказала: «Одна, как монашка».
— Интересно. Ну, вот твой револьвер, удостоверение, иди, а я Ивана Ивановича подожду. Он о тебе спрашивал. Расскажу, как ты съездил.
РЕБУС ГРИШКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
На следующий день Фомин и Дорохов с самого утра засели «рассуждать». Попов вчера опять напомнил Фомину, что предупредить преступление, задуманное Международным, их святая обязанность, что ему да и Фомину просто несдобровать, если соучастники Никитского, не дождавшись его, сами рискнут пойти на какое-то, очевидно, крупное дело.
Фомин с Сашкой начали по порядку.
— Сначала давай уточним, чем мы располагаем. — Михаил Николаевич достал из сейфа дело Никитского, свои заметки, полистал документы. — Вот телеграмма, с которой все и началось. «Стало известно, что вор-рецидивист Никитский по вызову с инструментами и оружием выехал в Иркутск. Намерен остановиться в одной из гостиниц. Предполагается, что соучастники подготавливают крупное преступление. Никитский был в Ленинграде, договаривался в обмен на золото приобрести иностранную валюту. Примите меры задержания рецидивиста, предупредите преступление. Исполнение доложите. Начальник уголовного розыска Главного управления милиции НКВД СССР». Сдается мне, Никитский давно готовил это преступление. Но у него что-то не клеилось, — объяснил Фомин. — Когда мы его задержали, начальник звонил в Москву, и ему прямо сказали, что Никитский уехал на дело. Взяли мы его на второй день после приезда. Так? И я думаю, что за это время он ни с кем из дружков не встретился, потому что пистолеты и отмычки так и остались при нем.
— Похоже, дядя Миша, вы правы. А если в почтовых отделениях поискать ту телеграмму, что ему отправили?
— Как же ты будешь ее искать? Откуда послана, неизвестно. Когда и самое главное, на чей адрес — тоже не знаем. В уголовном розыске наркомата, если бы знали эти подробности, подсказали бы нам обязательно. Давай лучше подумаем, почему наш Григорий Павлович за сутки с лишним своих знакомых не нашел. Ну, скажем, в Иркутск он приехал в четыре часа дня. На извозчике весь город мог объездить, кого угодно отыскать, а потом и в гостиницу. Мы с тобой опоздали его встретить. Но нам же не было известно, когда он заявится.
Два года назад задерживал я Никитского после побега. Он тогда, как сохатый по тайге, по окраинам города носился: то в Рабочий поселок, то на Звездочку заявится, а схватили его на станции Иннокентьевской. Точно было известно: приехал он тогда в Иркутск с чемоданом, но куда его спрятал или кому передал, что было в том чемодане — так и не узнали. Проведал я сейчас те адреса, был на Звездочке. Похоже, на этот раз там он и не показывался.
— Дядя Миша, а может быть, он на прииск собрался?
— Зачем же ему тогда гостиница? С поезда — и на тракт. В попутную машину — и там. Меньше бы на глазах маячил. Впрочем, дай-ка сюда копию его записки. «Сижу в уголовке, но тут мне недолго маяться, — читал вслух Фомин. — Пришли жратву. Гадаю: кто меня продал? Не забывай мой совет. Узнай, где я буду отдыхать, пусть из дому привезут чистое белье и липовый чай. Не обижай без меня рыжую. Жениха ей нашел. До свидания». — Фомин отложил листок, прошелся по кабинету, остановился против Саши. Давай представим себя на месте Никитского и подумаем, как в каких случаях он мог бы поступить. Обсудим первую задачу. Почему, имея приятелей или соучастников в Иркутске, он шлет записку на прииск?
— Боится, дядя Миша, что попадет она вам в руки и приятели окажутся в соседней камере. До прииска, может, не доберетесь.
— Возможно… Еще вопрос: если его дружки у нас в городе, почему он не встретился в ними сразу?
— Заходил, не застал дома и отправился в гостиницу.
— Тут, к сожалению, дорогой мой, ты ошибаешься. О гостинице мы узнали из телеграммы. Значит, еще до приезда в Иркутск Никитский намеревался остановиться именно там.
— Все ясно! Поторопились мы, дядя Миша. Нельзя было брать Никитского возле гостиницы на дороге. Он как раз и отправился к своим приятелям, чтобы отдать им на хранение саквояж.
— Может быть, Сашок, может быть… Только сдается мне, что не привел бы Международный к своим приятелям. Чутье у него, что у волка. Помнишь, он сам сказал, что слежку почувствовал.
— Куда же он хотел податься?
— Чего не знаю, того не знаю, — вздохнул Фомин. — Попробуем с другого конца. Ну-ка прочти еще раз записку.
— «Сижу в уголовке…»
— У нас, значит, — усмехнулся Фомин. — Дальше.
— «Но тут мне недолго маяться…» Конечно, недолго. Вы же сами говорили, что его скоро переведут в тюрьму.
— А тюрьма ему что — санаторий? Тут маяться, а там не будет? Постой, а почему маяться? По-блатному он должен был написать «чалиться». — И Фомин, откинувшись на спинку стула, задумался. — А помнишь, как он хвастался, что снова убежит?
— Помню. Говорил, дождется «зеленого прокурора», весны, значит, и убежит в тайгу.
— Может быть, тут намек на май месяц? — задумчиво произнес Фомин. — Дальше.
— «Пришли жратву…» — продолжал читать Дорохов.
— Зачем Никитскому продукты? Он что, голодает у нас, что ли? Вчера я ему разрешил купить колбасу, сыр, сахар, папиросы. Деньги у него есть. Нет, передачу он требует по другой причине.
— Может, ждет что-нибудь тайное?
— Что он, новичок? Не знает, что передачи проверяются? Нет, не ждет он ничего тайного. Думаю, для него важен сам факт передачи. Раз принесли передачу, значит, записку получили и все его намеки поняли. Раньше у старых рецидивистов хитрющая символика была. Скажем, есть в передаче луковица. Одна-единственная — значит, и на воле тем, кто принес передачу, горько. Две луковицы — еще горше, много — совсем невмоготу…
Посмотрим, что там дальше.
— «Гадаю, кто меня продал».
— Это для красного словца, чтобы цену себе поднять. Никто тебя не продавал, Григорий Павлович, сам себя продал. Дьяволу.
— «Не забывай мой совет».
— Это, пожалуй, уже не пустые слова. Может быть, напоминание о каком-то сговоре, а может, предостережение. Согласен?
— Согласен-то согласен, а только насчет чего предостережение?
— Эх, друг ты мой, я-то думал, что ответ с прииска ты привезешь. Думаю, только там и можно было это выяснить, особенно если бы удалось повстречаться с самим Хозяином. О чем тут речь, мы, пожалуй, сразу и не узнаем.
— Жаль, конечно, что повидаться с ним не удалось, — вздохнул Саша.
— Кто знает, может, и к лучшему… Что еще?
— «Узнай, где буду отдыхать, пусть из дому привезут чистое белье и липовый чай».
— Тут все ясно. «Где я буду отдыхать» значит «Где буду отбывать наказание». «Чистое белье» — деньги, а «липовый чай» — «липовые», в смысле поддельные, документы. Есть возражения?
— Раз хочет бежать, куда же без денег и документов? По-моему, дядя Миша, все логично. Но смотрите, дальше-то опять не вяжется.
— «Не обижай без меня рыжую. Жениха ей нашел».
— Считаешь, не вяжется? — переспросил Фомин.
— Неужели ему сейчас до какой-то рыжей? Тем более до сватовства?
— Тут, конечно, Саша, ты прав, не до сватовства ему. Ну а если допустить, что речь идет не о женщине?
— О ком же? — удивился Дорохов.
— Не о ком, а о чем. Прочти-ка конец московской телеграммы.
Саша отыскал телеграмму.
— «…Никитский был в Ленинграде, искал возможность в обмен на золото приобрести иностранную валюту…»
— Стой, понял? В обмен на зо-ло-то, — по слогам повторил Михаил Николаевич. — А знаешь, как его рецидивисты называют?
Саша пожал плечами.
— Золото преступники на своем жаргоне называют рыжьем, рыжиками.
— Как же понимать «не обижай рыжую»? Чепуха какая-то.
— Не совсем. Скорее всего, это просьба или требование без него самого не трогать золото, для которого, очевидно, в Ленинграде он нашел «жениха», то есть скупщика. Ой отдаст ему золото в обмен на иностранную валюту. Вот вопрос, зачем валюта? Хотя подожди, это, пожалуй, тоже понятно. Бери бумагу, записывай нашу расшифровку. — И продиктовал:
— «Сижу в уголовке, убегу при первой возможности к маю месяцу. Пришли передачу, буду знать, что получил мою записку. Узнай, где буду отбывать наказание, и туда пусть привезут деньги и поддельные документы. Без меня золото не трогай, я нашел на него покупателя. Скоро увидимся».
— Ну как?
— Здорово, дядя Миша! Но такое распоряжение можно послать только близкому человеку.
— Наверное, Хозяин и есть этот самый человек. Хорошо, хоть мы знаем, где его искать. Думаю, что и преступление, связанное с золотом, Никитский задумал вместе с этим самым своим приятелем. Вот только кто он? С буфетчицей связан бесспорно. Пойду-ка я к начальству на совет. Пусть отправят на прииск кого-нибудь да разберутся со всеми знакомыми этой Анны. Дай-ка мне обе записки — копию подлинной и нашу расшифровку. А пока я буду ходить по начальству, напиши подробный рапорт о поездке. Смотри ничего не пропусти. Любая мелочь может пригодиться.
— Михаил Николаевич, а куда мне деть те деньги, что Анна дала?
— Сдай в бухгалтерию в доход государству.
Фомин уже приоткрыл дверь, когда зазвонил молчавший весь день телефон. Фомин снял трубку.
— Товарищ Фомин, докладывает начальник КПЗ, — прозвучал на всю комнату громкий голос — Арестованному, который числится за вами, Никитский его фамилия, принесли передачу. Разрешите принять?
— Где передача? Кто принес? — Фомин удивленно взглянул на Сашу.
— Передачу еще не приняли, — ответила трубка, — пока принесли заявление, написанное от родственников, а вот от каких — фамилию не разобрать.
— Сейчас иду. — Фомин положил трубку.
— Саша, быстро к Попову и доложи о звонке. Я в КПЗ. Нечего сказать, оперативность у Хозяина дай бог каждому, если, конечно, передача с прииска.
Попов выслушал Дорохова и велел ему оставаться у него в кабинете и не выходить, чтобы не встретиться с кем-то из приискателей, на тот случай, если Фомин вдруг пригласит их для беседы.
Саша попытался писать рапорт, но не смог вывести ни строчки.
«Вот это ловкачи! — думал он. — Передачу-то сразу за мной следом повезли».
Фомин обогнул здание управления и возле двери, через которую носили передачи или приходили на свидание с арестованными, увидел несколько человек. По существующему порядку сначала нужно было сдать заявление, а потом, когда дежурный называл фамилию, войти в помещение уже с передачей. Возле двери Михаил Николаевич увидел Веру с небольшим свертком в руках, а рядом с ней женщину в дубленом желтом полушубке, в пуховом платке. Фомину бросились в глаза белые валенки, расшитые яркими красными узорами. Довольно объемистый мешок, лежавший на крыльце, явно принадлежал этой женщине.

Заметив Фомина, Вера хотела, видно, что-то ему сказать, но увидела, как он нахмурился, отвернулась.
Фомин оглядел остальных: сгорбленная пожилая женщина, дальше, постукивая ботинками, переминался с ноги на ногу высокий парень, еще две женщины беззаботно судачили о чем-то…
Михаил Николаевич прошел в кабинет начальника КПЗ. Опередивший его Попов уже рассматривал тетрадный листок, на котором корявым почерком была написана просьба принять передачу для Григория Павловича Никитского с перечислением продуктов: туесок меда — один, калачи домашние — пять штук, сало свиное — один кусок, мясо вареное, шоколад «Золотой ярлык».
— Ну что там? — нетерпеливо спросил Попов.
— Вера пришла с какой-то женщиной, — ответил Фомин. — Я думаю, пусть примут. Только все хорошо просмотрят. — И, обращаясь к начальнику КПЗ, попросил: — Сам посмотри хорошенько, что принесли. Лучше будет, если в присутствии Никитского.
— Гляди, чтобы там разобранной пушки не оказалось, — усмехнулся Попов. — Потом зайдешь, расскажешь. Пошли, Фомин, потолкуем.
Попов зашел в кабинет к Фомину. Саша вскочил и, не удержавшись, кинулся расспрашивать:
— Что принесли? Кто?
— Вера, а с ней какая-то женщина в дубленом полушубке и в пуховом платке. Лица не рассмотрел. А вот новые поярковые валенки углядел.
— С красными узорами? Так это же Олимпиада Никоновна, та самая, что ночевать меня позвала, официантка из чайной. Надо же! Так я и знал. Видать, из одной с Никитским компании. Наверное, ее муж и есть тот Хозяин. Дома сказали, что он в тайге. И Анна говорила, что Хозяина нет на прииске. А я эту Олимпиаду и всю ее семью за добрых людей принял. — Саша явно расстроился.
— Да успокойся ты, Дорохов, — потребовал Попов. — И подробно расскажи о своей поездке, а то ведь я толком и не знаю, кто по твоим карманам шарил.
Саша, стараясь не упустить ни одной детали, стал рассказывать о своей поездке. Его переспрашивали, уточняли, действительно ли обшаривались его карманы.
— Я же сам видел. Вынесла мои вещи в кухню и давай все из карманов вытряхивать.
— А может, тебе, Саша, все это приснилось? — усомнился Фомин.
— Не успел я, дядя Миша, заснуть… Лежу, думаю, какие люди хорошие, а тут смотрю, в дверях хозяйка, вся в белом. Ну а когда она одежду мою взяла, тут уж мне не до сна было, а она опять тихо так, видно босиком, вошла и все на место сложила. И домой-то меня, видать, позвала, чтобы карманы обшарить. Когда ужинали, все с выпивкой приставала: «Выпей лафитничек под грибки, выпей под бруснику да под пельмени». Насильно две рюмки проглотил, и больше все.
Попов с Фоминым усмехнулись.
Иван Иванович встал.
— Пойду. Надо кому-то ехать по Сашиной дорожке. Что там за птица такая всем верховодит?
Не успел Попов договорить, как в кабинет постучались и появился начальник КПЗ с тоненькой папкой в руках. Он покосился на Дорохова, словно сомневаясь, можно ли при нем говорить.
— Рассказывай, что там у тебя получилось. При нем можно. — Фомин легонько дотронулся до Сашиного плеча. — Дорохов, брат, у нас по этому делу главный специалист.
— Вот, — начальник КПЗ достал из папки листок и передал Попову. — Все, как вы велели, пересмотрел в присутствии Никитского. Я проверяю, а он веселый, смеется. Говорит: «Не ищи, начальник, ничего там темного нет. Родичи мои не из тех, что в калач нож или бритву суют. Здесь все по закону». А сам довольный, папиросами, мерзавец, угощает. Я ему подаю заявление на передачу и велю расписаться в получении, а он, кроме росписи, пишет: «Получил, целую». Ну что, вернуть мне заявление с его распиской?
— Верни, да побыстрее. Другим-то, наверное, уж отдали?
— Никому еще ничего не возвращали. Что я, не понимаю? — обиделся начальник КПЗ, поспешно исчезая за дверью.
— Что, этот ваш Никитский действительно такой сладкоежка? Ему и мед, и шоколад, — поинтересовался Попов.
— Нет, Иван Иванович, тут, наверное, опять какой-то фокус. Он у нас, когда чай пьет, все норовит вприкуску и поменьше сахару, — встрепенулся Фомин.
— Еще все жаловался, что сахар вреден старикам, — припомнил Саша. — Может, его вызвать да прямо и спросить, от кого это он передачу получил?
— А заодно расскажи ему и о своей поездке, — не преминул съязвить Попов. — Интересно, что нам поведает об этой Олимпиаде Вера.
Но ничего путного Вера сказать не могла. Рано утром к ней постучалась женщина и первым делом спросила ее брата. Как договорились, Вера ответила, что брат, мол, по девкам шляется и она ему не указ. Тогда женщина поблагодарила ее за письмо, что получила через брата, и попросила помочь снести передачу родственнику ее хороших знакомых Никитскому, по профессии бухгалтеру-ревизору, недавно арестованному ни за что, за чужие грехи. Ее знакомым было недосуг, вот ее и уговорили. В благодарность передала гостинцы: кусок сохатины и мороженого, чуть ли не на полпуда, тайменя. Вера сбегала к соседке, с которой вместе работает, попросила сказать на работе, что выйдет во вторую смену, и отправилась с передачей. Как только получили расписку Никитского, эта самая приезжая — назвалась она Липой — зашла в магазин, кое-что купила и попросила Веру проводить ее на тракт. И сразу же на первой попутной машине укатила. Хотя Вера уговаривала ее остаться, встретиться с братом, Олимпиада наотрез отказалась, сказала, что, чего доброго, муж вернется с охоты домой, а ее нет, да еще узнает, что в Иркутск ездила, так три шкуры спустит. Характер у него серьезный. Иван Иванович все приставал к Вере, требуя поточнее вспомнить эти последние слова Олимпиады, так как их смысл снова путал все их предположения. А еще смущало, что приезжую звали Липой, а ведь Никитский просил привезти липовый чай. В тот же вечер Фомин вызвал Никитского и объявил ему, что дело на него передает прокурору.
— Давно бы так. А то все пристаете, к кому приехал, да зачем, где взял то, откуда это. — Международный просто торжествовал.
Саше очень хотелось намекнуть этому типу про разгаданную записку, но он знал, что не имеет на это никакого права. Фомин тоже был не прочь сбить спесь с преступника.
— Бросал бы ты лучше воровать да грабить, Григорий Павлович. Возраст не тот, и мы не дадим тебе развернуться. Прошли ваши времена. — И, не удержавшись, уколол старого преступника: — Привет тебе, Гриша, велел передать Юдин Борис Васильевич.
— Какой Юдин? — прогнав улыбку, насторожился Никитский.
— Ну тот, что из банкиров в дворники подался. Перевели его наши ребята из дворницкой в Таганку: там тоже кому-то двор подметать надо. МУР нам телеграмму отбил. Просят тебе спасибо сказать за информацию.
Григорий Павлович побледнел, скрипнул зубами, длинно и грязно выругался.
— Ладно, Фомин. Сбегу, тебе привет пришлю, а может, и свидимся. За «банкира» ведь и отблагодарить не грех. Все, баста, говорить больше не о чем, веди в камеру. Нечего тут рассусоливать.
Саша ждал, что ответит Фомин на эту неприкрытую угрозу, но зазвонил телефон, и Фомин снял трубку. Отвечал он коротко, и совсем было не понятно, о чем шла речь.
— Как же так? Есть! Слушаюсь.
Фомин положил трубку. Лицо его стало необычно суровым, глаза сузились. Он неожиданно подскочил к Никитскому, схватил его за воротник и рывком поднял со стула.
— Сволочь ты, Гришка. Все вы гады. — Говорил хрипло, словно с трудом выталкивая слова: — Набил бы тебе морду, да руки пачкать неохота.
— Закон не позволяет, — хмыкнул Никитский.
Фомин достал револьвер из сейфа, сунул в карман.
— Иди вперед. Живо!
Саша еще ни разу не видел Фомина таким разъяренным, хотя в общем-то и раньше Никитский говорил им обоим гадости. Пытался понять, что именно вывело из равновесия дядю Мишу, но так и не понял.
Внезапно в кабинет вихрем влетел Боровик, прямо с порога закричал:
— Что сидишь? Собирайся, Чекулаева убили.
— Как это убили? Ты что, с ума сошел?
— Женьку наповал, а Крючина ранили.
Дорохов сорвался с места, схватил в охапку свою дошку, натянул задом наперед шапку, захлопнул дверь и следом за Боровиком побежал в дежурку. На лестнице их остановил Фомин:
— Куда?
— Дядя Миша, Чекулаева убили! — на ходу крикнул Боровик.
— Знаю. Идите обратно. Чертов велел всем быть в управлении. Он с Картинским выехал на место. Пройдите по кабинетам, предупредите всех, чтобы никто не отлучался. — Приказание всегда мягкого, вежливого Фомина прозвучало твердо.
ТАКАЯ У НИХ РАБОТА
— Товарищи! Наш молодой работник погиб при выполнении служебного долга. Его сразила бандитская пуля. Кто знает, кому она была предназначена? Можно считать, что Чекулаев своей грудью закрыл советского человека. — Начальник уголовного розыска говорил тепло и проникновенно. О Женьке, о необычной работе, о доле работников уголовного розыска. Но Саша ничего этого воспринимать не мог.
«Как же так, Женя? Как же так?» — тяжело ворочалось в его голове. Саше трудно было вздохнуть: в груди саднило, в горле застрял шершавый комок. «Эх, Женька, Женька…»
Когда гроб, обитый красной материей, стали опускать в черный провал могилы, нестройный залп стряхнул с кладбищенских деревьев ворон, сбившихся к вечеру в стаю. Они невысоко поднялись над голыми ветками, хотели опуститься снова, но еще и еще раз, уже более слаженно, ударили револьверы и пистолеты всех мастей и калибров.
— Подождите! Стойте!!! Еще я скажу!
Нарушая похоронный ритуал, Дорохов протиснулся к краю могилы, взглянул на окружавших сослуживцев, студентов-агрономов, что пришли проститься со своим товарищем. Вместо лиц он увидел серые пятна.
— Женя был честным и
смелым парнем. — Саша смахнул кулаком слезы. — Я обещаю тебе, друг, работать в уголовном розыске, пока не поймаем последнего гада…
Он оборвал на полуслове, рыдания душили его. Зажав шапку в кулак, Саша медленно побрел в сторону от могилы по какой-то тропинке. В странном полусонном состоянии добрался домой. Мать помогла снять пальто, хотела о чем-то спросить, но Саша молча прошел в свою комнатушку и, не раздеваясь, повалился на постель. Мать осторожно набросила на него теплый платок, задумавшись, постояла рядом. Вот уже полгода, как живет она в постоянной тревоге. Раньше беспокоилась о муже: провожала на войну, выхаживала раненного. В гражданскую свои же станичники, те, кто люто ненавидел молодую Советскую власть, не раз пытались расправиться с большевиком Дмитрием Дороховым. Потом, когда разгромили Деникина и атамана Семенова, Дмитрий уехал учиться в Москву, она одна воспитывала Сашку, жила трудно, в вечной тревоге за мужа. И только в последние годы жизнь наладилась. Муж — кадровый военный, сын — студент, в доме достаток. И тут на тебе, сын пошел в уголовный розыск. Елизавета Васильевна почувствовала приближение новых страхов. Вначале каждый день с тревогой ждала: вдруг придут и скажут, что сын ранен, искалечен, и она бросится в смертельном страхе в больницу. Но прошел месяц, другой, и вроде стало поспокойней. Даже подумалось, что не так и страшен этот уголовный… И вот случилось — погиб Женя, товарищ сына, тот самый ясноглазый мальчик, которого она еще недавно поила чаем с медом, кормила домашними пирогами. А кто следующий? Толя Боровик или Андрюша Нефедов, а может быть, застенчивый Степа Колесов или ее Сашка?
Робкий стук в дверь оторвал мать от тяжких дум. Она открыла. На пороге стояли Анатолий, Степан и Андрей.
Боровик протянул Елизавете Васильевне сверток:
— Тут еда и бутылка. Женю помянуть надо.
Пока мать собирала на стол, разбудили Сашу. Сидели молча, совсем уже взрослые, погруженные в невеселые думы.
— Видели, ребята, на кладбище Лёсика? — прервал молчание Нефедов. — Иду, а он в сторонке, к старому памятнику прижался. Меня аж передернуло от злости, хотел было спросить, что ему-то надо, да он сам ко мне: «Положи, говорит, Чекулаеву, цветы, а то мне самому совестно».
— Совестно, говоришь? — переспросил Саша. — Я давно собирался проверить, где у этого Лёсика совесть, да все недосуг было…
На следующий день Саша позвонил Фомину и попросил разрешения явиться на работу попозже.
— Заболел? Тогда вообще не приходи. Отлежись дома, — заботливо посоветовал Михаил Николаевич.
— Здоров я, дядя Миша. Зайти тут в одно место надумал.
Секретарь городского комитета комсомола принял Сашу тепло, усадил на диван, сел рядом.
— Расскажи, Дорохов, как погиб Женя Чекулаев. Я читал вашу сводку, но там коротко: «погиб при исполнении служебных обязанностей». На похороны не попал, ребята наши ходили, а я не мог уйти с бюро обкома партии.
— Да, честно говоря, нелепо все как-то получилось. Сидели они в засаде — три старых сотрудника и Женя четвертый. Ждали, что в эту квартиру заявятся ворюги с вещами. По расчетам должны были они прийти ночью или под утро. К вечеру, когда еще светло было, Чекулаева оставили у входа: рано, мол, еще, можно и практиканту доверить. А тут и заявился этот самый бандюга. Женя ему: «Ваши документы», а тот вместо паспорта из кармана наган — и сразу в Чекулаева. Потом ранил другого сотрудника, Крючин его фамилия, а сам бежать. Его уже на улице пуля догнала.
— Как же так? Знал ведь Чекулаев, что преступники вооружены, почему первым не применил оружие?
— Как же применять? Пришел незнакомый человек, с виду приличный, по приметам не похож на тех, кого ждут. Нельзя же ему вот так сразу револьвер к носу.
— Вас что же, не учат там, как надо поступать в таких случаях?
— Почему не учат? Учат, только в жизни по-другому выходит… Не сразу все в толк возьмешь и не сразу ко всему привыкнешь, — медленно ответил Саша, припоминая встречу с рябым и красивую воровку. — Я к вам по другому делу, — объяснил Саша. — Пришел вчера на похороны комсомолец, не знаю его фамилию, мы его все Лёсиком звали. Его тогда вместе с нами направили в уголовный розыск, а он сбежал по дороге. Как же это так получается? Послали — не захотел. А на кладбище явился — нате, мол, смотрите. Вас убивают, а я живой, потому что плевал на комсомольскую мобилизацию.
— Зря ты так, Дорохов, — поднялся с дивана секретарь. — Лёсик — Жихарев его фамилия — тогда сразу же вернулся. Пришел ко мне и честно признался, что не способен работать в уголовном розыске. Говорит, пойдет куда угодно — на стройку, в колхоз, — не боится никакой работы, а в уголовном розыске будет бесполезен, чувствует, что не справиться ему. Не способен.
— А остальные-то что, родились сыщиками? — вспылил Саша. — Я что, думаете, способен? А Чекулаев был способен? Послали, вот и работаем.
— Секретарь вашей комсомольской организации говорит мне, что работаете вы хорошо. Вами довольны. Значит, в отношении вас не было ошибки. Ты дома-то у Чекулаева был? После того как погиб Женя?
— Не был. Родители его предупредили, чтобы мы пока не приходили. Не хотят они никого видеть.
— Жаль Женю, — вздохнул секретарь.
По дороге в управление Дорохов признался себе, что Лёсик поступил честно. Прямо сказал, что не подходит для оперативной работы. Было бы куда хуже, если бы выяснилось это позже. Хуже не только для него, но и для всех.
Несколько дней Саша был как в тумане. Все время перед глазами стоял Женя Чекулаев. Вспоминалась летняя практика в колхозе, тренировки. Женькина улыбка. Ясные умные глаза. Несколько раз Саша направлялся по привычке в кабинет Чекулаева и у самой двери останавливался, понимая, что Женьки нет. И тогда ему хотелось выть, кричать, драться, протестуя против этого «нет».
Фомин пытался отвлечь своего практиканта от мрачных дум, давая ему разные поручения, однако Саша выполнял их машинально, автоматически.
Дядя Миша рассказал Дорохову, что на прииск уехал Иван Иванович Попов, но и это не произвело на Сашу никакого впечатления. Оживился он только после того, как их всех четверых вызвал начальник уголовного розыска Михаил Миронович Чертов. Он молча осмотрел каждого, и Саша решил, что им, наверное, дадут какое-нибудь ответственное задание. Но начальник прошелся по кабинету, остановился возле Боровика, зачем-то пощупал его бицепсы и неожиданно сказал:
— Пора, ребята, спортивную работу поднимать. Организуем секции на добровольных началах, а занятия по самбо станем проводить в приказном порядке. Я договорился с ректором медицинского института, он выделит для нас в спортзале два вечера в шестидневку. Это ведь тут рядом. А как у вас со стрельбой? Я проверял, в тир вы ходите регулярно.
— Ходим, товарищ начальник, — ответил Нефедов. — Только понапрасну время тратим. Патронов-то дают всего ничего: три пробных и пять зачетных.
— Настреляетесь еще… Патроны мы выписали, и стрелковая подготовка будет проводиться три раза в шестидневку, с восьми и до половины десятого утра, тоже в обязательном порядке.
На следующий день Боровик чуть ли не насильно вытащил Сашу в спортзал мединститута. Бинтуя руки и шнуруя боксерские перчатки, Саша опять почувствовал, как тоска железным кольцом сжала грудь. Пропало желание тренироваться, не стало постоянного партнера… Еще немного, и он тут же у всех на глазах расплачется. Усилием воли взял себя в руки, поработал на мешке, на груше, провел с Боровиком дружеский бой на ударах вполсилы. И уже стоя под душем, постепенно убавляя горячую воду, впервые за всю долгую неделю Саша почувствовал облегчение. В этот день рано улегся спать и попросил мать утром его не будить, так как решил в предстоящий выходной хорошенько отоспаться. Спал он и впрямь как сурок и, наверное, не проснулся бы даже к обеду, если бы мать его не разбудила.
— Вставай. Там к тебе твой начальник пришел.
— Какой начальник?
— Это я, Фомин. Одевайся быстро.
— Что случилось? — уже выходя, с тревогой спросил Саша. Ему подумалось, что кого-то еще постигла Женина участь.
— Никитский сбежал. Едем.
СЮРПРИЗ
— Вот тут они сказали: «Сидите». — Молоденький остроносый милиционер кивнул в сторону высокой худой женщины в белом халате и такой же шапочке. — Мы его сюда принесли, а сестрица его раздела и одежу вон туда повесила.
Дорохов и Фомин увидели на вешалке шикарное пальто и шапку Международного.
Милиционер не мог удержать волнения и торопливо говорил, оправдываясь и чуть не плача.
— Его, значит, в операционную, а нас не пустили. Мы сидим, ждем, а они выходят, — снова кивнул на докторшу, — и говорят: «Ничего страшного, одни царапины. Немного полежит и сам к вам выйдет». Посидели, подождали. Заглянул мой старшой в операционную, а там пусто, нет никого. Мы туда, мы сюда, всю больницу обшарили, а старик этот чертов пропал. Старшой побежал докладывать, а я тут вас дожидаюсь.
Милиционер снова беспомощно опустился на белую табуретку. А докторша, видать хирург, закурила папиросу, не дожидаясь вопросов, стала объяснять.
— У него вся грудь и верхняя часть живота были в царапинах. Поврежден только эпидермис — верхний слой кожи, но крови вышло много.
— Вся камера в крови, и нас перемазал, — снова заговорил милиционер.
— Царапины все обработала, забинтовала. «Зачем же вы резались?» — спрашиваю. «В больницу захотелось». — «Так вас же здесь все равно не оставят», — говорю. «Хорошо, хоть прогулялся, надоело в одиночке томиться». — «Одевайтесь», — говорю, а сама вышла. В операционной висел халат Федора Федоровича — главного хирурга, так этот ваш тип его надел и вышел в другую дверь. По выходным дням у нас в больнице посетителей много, внизу в гардеробе раздеваются сами. Этот ваш преступник выбрал себе романовскую шубу, шапку и ушел.
— Когда это было? — спросил Фомин, сосредоточенно слушавший милиционера и врача.
— Сюда привезли мы его в одиннадцатом часу, — с готовностью ответил милиционер.
— Минут двадцать или с полчаса я обрабатывала ему раны, наверное, около одиннадцати закончила.
Фомин взглянул на часы, была половина второго. Шел третий час, как Никитский сбежал. Не было никакого смысла бросаться в погоню по горячим следам.
«Да и где эти следы? Старику полчаса хватит, чтобы исчезнуть», — подумал Фомин.
Уже в управлении второй милиционер, тоже перепуганный, рассказал, что утром, едва заступил на дежурство, услышал, что арестованный Никитский стучит в дверь камеры. Подошел и спросил, что ему нужно. Старик потребовал, чтобы кого-нибудь послали в магазин и купили ему сыру, сливочного масла и папирос. Милиционер объяснил, что по выходным дням покупки не производятся, и отошел от двери. Арестованный стал стучать в дверь миской, требуя прокурора, потом, когда вызвали ответственного дежурного, старик буквально на глазах ударил миской по окну так, что стекло во все стороны брызнуло, схватил крупный осколок, стащил с себя свитер, поддел нижнюю рубашку и этим стеклом начал себя полосовать.
— Гляжу в глазок, а старик совсем сдурел — весь в кровище, орет, матерится и режется. А я, как на грех, с дверью не совладаю. Ключ не тот в замок с перепугу всунул. Вбежали мы в камеру, а он вскочил на нары, да еще в другую руку стеклину схватил, кричит, что всех нас переполосует, сам помрет, потому что надоела ему такая собачья жизнь. Мы еле стекла поотымали. Двое держат, а я полотенцем грудь замотал, натянули на него шубу, нахлобучили шапку — и в машину. По дороге он чуть не кончился. Видать, ослаб от потери крови, а может, с сердцем что. В больницу его едва занесли. Сестрица как глянула под полотенце, аж ахнула, а ворюга этот самый стонет: «Смертушка моя пришла».
— Притворялся, мерзавец, а вы поверили. Сейчас, наверное, мчится как жеребец, поди, уже к Байкалу подходит, — рассердился Фомин. — Шляпы вы! Нужно было врача в камеру вызвать.
— Как можно! Он ведь кровью бы изошел. Хотели как быстрей.
Милиционер помолчал, а потом взмолился:
— Товарищ Фомин! Поедем на Байкал. Может, схватим его, подлеца. Начальство сказало, если не поймают этого хитрована, то меня с Лешкой на его место в камеру запрут и судить будут. Вы пошлите нас куда ни то с Лехой, мы его, паразита, тоже ловить будем. Товарищ начальник! Михаил Николаевич! Вы же знаете, куда он убег, говорят, вы про них все знаете…
Но Фомин и не предполагал, куда мог скрыться Никитский. Время для побега старик выбрал удачно. Редко по выходным дням в уголовном розыске не собирались с утра все сотрудники, а на этот раз почти никого не оказалось. Да и милиционеры растерялись: пока больницу обшаривали, пока обегали по всей округе, время шло, и только через два часа они доложили ответственному дежурному о побеге.
Кабинет Фомина превратился в штаб по розыску преступника. Решался главный вопрос: где его искать.
Чертов и Фомин склонялись к тому, что Никитский будет стараться попасть на прииск, но все понимали, что в мороз в легких ботинках вряд ли он отправится на тракт ждать попутную машину. Срочно выслали милицейский наряд к выезду из города и велели проверять не только все машины, но и конные обозы. Вторую группу отправили на железнодорожный вокзал и только потом уже более спокойно стали обсуждать другие меры.
Не исключалась возможность, что Никитский будет где-нибудь отсиживаться. Подождет, пока уляжется суматоха, а потом уже, достав все, что ему необходимо, подастся дальше на прииск или вообще из Иркутска. Сторонников такого предположения оказалось большинство, поэтому решили проверить квартиры всех знакомых Никитского, которых он посетил в свой первый приезд. Однако надежды, что он там появится, было мало. Хитрован знал, что эти адреса уголовному розыску известны.
— Слушай, Фомин, в прошлый раз ты ведь так и не разыскал чемодан Международного, — напомнил Чертов.
— Мало того, что не нашел, но и не дознался, что в том чемодане было. Он как приехал в Иркутск, так первым делом от чемодана избавился. Я его в этот раз спрашивал, что в чемодане было. Он только усмехается. «Нет, говорит, его — исчез, украли». А кто украл — не знает, и что в нем лежало — забыл…
— Может быть, тогда у него и был этот самый саквояж, что теперь отобрали? — спросил Боровик.
— Тот был плоский, чуть побольше спортивного. Приметы чемодана я точно знал, — возразил Фомин.
— Вот ваш Григорий Павлович и направился за своим чемоданчиком, — решил Чертов, — а в нем, вполне возможно, инструменты и деньги, а чего доброго, и оружие… Ладно, хватит рассуждать. Начнем с проверки квартир, в каждой оставим засады. Задали нам работенку сердобольные милиционеры…
— При чем тут сердобольность? — рассердился Фомин. — Мы-то с вами, Михаил Миронович, все эти блатные фокусы знаем. Мастера они пыль в глаза пустить — и режутся и царапаются. Иной разбежится — и головой об стенку. Не заметишь, как под лоб руки подложит, а со стороны страшно. Прошлый год спрашиваю у одного типа, где краденое, а он психанул, схватил со стола моего чернильницу и одним махом выпил, а я ему быстренько вторую принес… Засмеялся он и говорит: «Хватит одной». А милиционеры эти новички, испугались за Гришкино здоровье. Как-никак человек.
Поздно вечером Фомин отправил Анатолия Боровика с двумя милиционерами сменить наряд на выезде из города. Перед тем как Боровику уйти, Михаил Николаевич его наставлял:
— Смотри, Анатолий, Международный может вооружиться, действовать нужно аккуратно. Пусть твои помощники проверяют, а ты будь в стороне наготове с револьвером в руках, страхуй их действия.
Выслав эту группу, Фомин велел Саше идти домой, а по пути заглянуть на телеграф и отослать на прииск на имя Попова телеграмму до востребования, чтобы тот встречал их на следующий день к вечеру в небольшом поселке, что находится километров в пятнадцати не доезжая прииска.
— С Иваном Ивановичем мы договорились, он каждое утро на почту заходить будет, а ты собирайся, поедем завтра к нему в помощь. На месте разберемся: кто Хозяин и какие у него «работники», а заодно выясним, нет ли там и нашего Григория Павловича.
Вечером Саша рассказал подробно отцу, как участвовал в задержании Никитского и как преступник, усыпив бдительность простодушных милиционеров, сбежал. Выслушав не перебивая, Дмитрий Дорохов спросил сына, почему Никитского до сих пор не расстреляли за побеги, Саша долго и путанно объяснял, что нет таких законов, чтобы расстреливать беглецов.
— Как же нет, если он бежит, его ловят, а он снова убегает? Сколько у него побегов?
— Четырнадцать. Поймают, суд ему увеличит последнее наказание — и его снова в колонию.
— А он опять бежит, грабит, вы его ловите и опять в лагерь, — в тон сыну ответил отец. — Тут что-то, брат, не так. Скажем, он сейчас из России в Сибирь приехал, а ты знаешь, что он там натворил? За какие деньги богатой одеждой обзавелся, где оружие достал? Не знаешь?
— Мы запросы послали, проверяем, а за оружие его отдельно будут судить, — не очень уверенно ответил Саша.
— Нет, у нас в гражданку не так было, — закуривая, припомнил Дорохов-старший. — Поймаем дезертира, предупредим: «Служи Красной Армии, исправляйся». Убежал еще раз — схватили и к стенке.
— Так то же война. То законы военные, — удивился отцовскому сравнению Саша, — а сейчас мирное время. Я этого типа, батя, просто не выносил, а все время на «вы» называть приходилось, потому что законность. Хотя, если бы моя воля, от всей души врезал бы ему по шее, когда он над Фоминым издевался.
— Ладно. Ложись спать. Утром, сынок, прихвати мой маузер и полсотни патронов — он получше твоего нагана. Кто знает, как там у вас в тайге дело обернется. Может, пригодится, не дай бог, конечно.
ШОФЕР СЕНЬЧА
На другой день Саша рано пришел в управление и еще издали через приоткрытую дверь своего кабинета услышал голос Боровика.
— Врешь ты все, Щукин. Врешь без зазрения совести. Лучше скажи, откуда у тебя в машине чемодан. Только не ври, что нашел на дороге. Откуда окурки? Ты хоть раз в своей жизни папиросы «Борцы» покупал? Вон у тебя «Ракета» в кармане, три пачки, а пепельница в машине «Борцами» набита. Скажи по-хорошему, кто их у тебя смолил? — Анатолий Боровик говорил громко, зло и настойчиво.
Дорохов вошел и увидел, как Боровик расхаживал по комнате, а посредине на стуле лицом к двери сидел худощавый мелковатый мужичонка в плохоньком пальтишке с пожелтевшим от времени воротником. Такой же треух он держал на коленях и, как затравленный зверек, следил за Анатолием. Под челку подстриженные редкие белесые волосы были мокрыми, а по лицу градом струился пот. Боровик будто и не обратил внимания на Сашку, но, видно, специально, чтобы ввести его в курс дела, задал Щукину вопрос:
— Придется тебе все-таки рассказать, кого увез вчера из города. А почему служебная у тебя машина во дворе стоит?
— Никого я не возил, — буркнул, потупившись, шофер. — Ездил к братану, а чемодан тот и верно нашел. Хотел под инструмент приспособить. Окурки еще с прошлой поездки забыл вытряхнуть — начальство возил. — Щукин облизнул губы, концом длинного шарфа вытер лицо и, опустив глаза в пол, замолчал.
— Молчишь! Ну и молчи, без тебя разберемся. Вот явится начальство, поедем к тебе домой с обыском, и все будет ясно.
— А что, без обыска не обойтись? — спросил Фомин, входя в комнату.
— Не говорит он правду, Михаил Николаевич. «Нашел, не знаю». Вот взгляните на этот чемоданчик.
Анатолий поставил на стол небольшой чемодан из плотной темно-коричневой кожи. Чемодан был новехоньким, будто его только что принесли из магазина, но оба массивных замка оказались взломанными. Одну металлическую накладку вырвали из крышки, что называется, с мясом — она держалась на замке, вторая была разорвана на соединении. Фомин осмотрел чемодан, заглянул внутрь, потрогал коричневую шелковую подкладку.
— Где ты его нашел?
— У него в машине, Михаил Николаевич. Когда сменил Огаркова, подумал, что, может, стоит проверять автомашины не только те, что из города уходят, но и что возвращаются. Уже утром прихватил гражданина Щукина. Подхожу, спрашиваю путевку, права, откуда едет, а у него словно язык отнялся. Заглянул я к нему в «фордик» и вижу на заднем сиденье этот чемоданчик. Стал машину осматривать и в пепельнице впереди, под стеклом, одиннадцать окурков «Борцов» нашел. Спрашиваю, кто курил, а он: «Не знаю да не знаю». Так второй час и твердит.
Фомин слушал вполуха и что-то обдумывал, потом похвалил Боровика, вызвал в коридор Дорохова.
— Беги, Саша, в камеру хранения вещественных доказательств и попроси отыскать вещдоки по делу Никитского, что сдавал я в позапрошлом году. Мелочь там всякая. Я позвоню, чтобы тебе их выдали. Если понадобится, напиши расписку, только быстро.
Вскоре Дорохов вернулся с небольшим свертком в серой бумаге, запечатанным четырьмя сургучными печатями. Шофер по-прежнему сидел на том же стуле, уставившись в пол. Фомин торопливо сломал печати, сорвал обертку. В свертке оказался элегантный кожаный бумажник с серебряной монограммой, в одном из его отделений лежали нанизанные на металлическую цепочку ключи. Самый маленький из них Фомин вставил в замок чемодана, дважды повернул, и накладка сама выпала из замка. Михаил Николаевич открыл и второй. Подошел к шоферу.
— Может, вы все-таки расскажете нам про чемодан?
— Не знаю, ничего не знаю, — как-то испуганно и вяло повторил Щукин.
— Ну что же, ты, Боровик, прав. Видно, без обыска не обойтись. Возьми кого-нибудь из ребят, а я пойду оформлю документы.
Оставшись наедине с шофером, Саша пытался его разговорить, но Щукин будто и не слышал вопросов. Только раз попросил папиросу и выкурил ее за три-четыре затяжки.
Фомин то выходил из кабинета, то снова возвращался. Принес две шубы, новый, обильно смазанный маслом короткий кавалерийский карабин и к нему два подсумка патронов. Винтовку поставил в угол, а патроны закрыл в сейф. Щукин исподлобья следил за ним, каждый раз вздрагивая, когда открывалась дверь.
Саша понимал, что Фомин готовится к поездке, которая теперь, после успеха Боровика, приобретала особый смысл. Ведь они собирались искать Никитского на прииске на авось, а теперь, после задержания шофера, не было сомнения, что именно он отвез Никитского к Хозяину. Саша не очень был уверен, что обыск у шофера даст новые улики, но чемодан-то налицо, и ключик подошел. А замки сломал Международный, скорее всего, потому, что не было при нем этого самого ключика.
— Расскажите, Щукин, все-таки расскажите откровенно, — на всякий случай еще раз попросил Саша.
Но шофер даже не удостоил его взглядом. В коридоре послышался шум, Боровик кого-то урезонивал, но его перекрывал громкий и властный бабий голос:
— Нет, ты веди прямо к вашему старшому и Сеньчу мово тащи туда. Я ему, черту шелудивому, весь карахтер переверну. Давно толкую: иди, объявись, да обскажи про всех, а он все: боюсь да боюсь — избу спалят, детей порешат. Дождался, пока самово под белы рученьки привели.
Саша взглянул на шофера. Щукин, сидя на стуле, еще ниже согнулся, съежился, убрал голову в плечи, как будто единственным его желанием было исчезнуть, испариться, улетучиться. Видно, Боровик не знал, куда вести эту шумливую бабу.
— Заходите ко мне, — услышал Саша голос Фомина. — Сразу и разберемся, что к чему.
В дверь едва протиснулась полная, ростом с Сашу, молодая, румяная женщина с большим узлом в руках. Она бросила узел на пол, стянула с головы платок, расстегнула короткое пальто, взяла у стены стул, поставила его против шофера, который успел на пол-оборота отвернуться, не торопясь уселась и незлобиво посмотрела на мужа.
— Ну, козел трусливый, дождался? Сколько я тебе твердила — иди сам, так ты все нет и нет. Теперь вот давай выкладывай все начальнику, не то я сама скажу. Устала я. Товарищ хороший, гражданин начальник, — повернулась она к Фомину, — пока батя живой был, еще терпела, а позапрошлый год схоронили, Сеньча как сказился, все время дрожит. Вчера с утра сготовились к тетке за мукой за Иркут смотаться, детей обрядила, гостинцы собрала, а тут этот старый Лелькин кобель заявился. Мово Сеньчу и не узнать: на задних лапках пляшет и пятки лизать ему кидается, а мне командует: «Тащи тятину дошку, подай катанки». Свою рубаху самолучшую отдал, ватные штаны новые, а тот свою одежину сбросил, вот она, туточки, — кивнула женщина на узел, — обрядился во все наше и говорит, что евонные шмотки дороже наших стоят. Потом оба с муженьком в машину уселись и подались. Этот самый Гришка, черт старый, сказал, что из больницы убег, да он и вправду весь забинтованный. Вы мне верьте: Сеньча ладный мужик, только трусоват маленько. Сама хотела пойти к вам, да он сказал — повесится. Детишек жаль, трое их у нас, да и его тоже жалею, мужик-то он справный, — повторила убежденно женщина.
Фомин подмигнул Боровику, и тот понял его желание. Взял под руку женщину.
— Пойдемте, Маланья Григорьевна, ко мне, кое-что записать надо.
— Нет, ты, парень, погоди, — высвободила руку Щукина и подошла вплотную к мужу. — Ты, Семен, все говори, не утаивай ни про старую банду, ни про атамана, про его полюбовницу Лельку расскажи. Чтоб на душе забот не осталось.
Щукина направилась к двери и только теперь заметила коричневый чемодан. Подошла, подняла его, как бы взвешивая в руке, и вернулась к мужу.
— Ну и гад же ты, Сеньча! Сказал, что еще прошлым летом Гришкину похоронку в Ангаре утопил, а она целая. — Еще раз прикинула вес чемодана и уже Фомину объяснила: — Раньше он тяжелый был, фунтов десять, а то и поболе, и замки не сломатые.
ПО СЛЕДУ
По хорошо накатанной дороге машина бежала ходко. Это летом здесь ухабы да гати, а зимой одна благодать, засыпал снежок все колдобины, прикатали его грузовики — и гони хоть сто километров в час. Фомин устроился на переднем сиденье и похрапывал. Рядом с Сашей отвалился вбок на свернутую доху Боровик и тоже заснул. А Саше не спалось. Он с восхищением наблюдал за Пашей Богачуком. Не шофер, а виртуоз. Прямо пилот высшего класса. Вот научиться бы ему, Сашке, так управлять машиной!.. Постепенно задремал и Дорохов, а машина по-прежнему шла быстро, то поднимаясь на сопки, то ныряя в лесные прогалы. Тайга подходила к самому тракту, вековая, нетронутая, и уходила вдаль на сотни и сотни километров. К вечеру, когда уже стемнело, остановились в большом трактовом селе, в чайной попили вволю крепкого, черного плиточного чая и тронулись дальше. Саша несколько раз пытался вызвать Фомина на обсуждение щукинских показаний, но тот только отмахнулся:
— Подожди. Что попусту болтать! Вот встретим Попова и тогда все обсудим, а пока думай. Дай-ка мне лучше свою пушку посмотреть.
Саша отдал маузер вместе с деревянной кобурой, которую все время держал на коленях, и предупредил:
— Он заряженный, дядя Миша!
Фомин повертел деревянную кобуру, прочел на рукоятке дарственную надпись и вернул пистолет.
— Отличное оружие. Точный и сильный бой, почти как винтовка.
Боровик подержал в руках Сашин пистолет, а Богачук, ехидно хихикнув, объявил, что его борхарт-люгер не хуже. Все знали пристрастие этого парня к оружию, и Саша понял, что шофер слукавил. Схитрил из зависти.
Поздно ночью приехали в поселок, в котором их должен был встретить Попов.
— Езжай помедленнее, — попросил Фомин Богачука. — На краю развернешься — и обратно, да пару раз посигналь. Если Иван Иванович получил нашу депешу, сам найдется.
Когда они развернулись в третий раз, на шоссе появился высокий человек, закутанный в длинную шубу.
— Ну вот и отыскался наш начальник, — объявил Фомин. — Останови, Паша, решим, как нам дальше быть.
Он выскочил из машины, пожал руку Попову, перекинулся несколькими словами. Потом оба направились к крайнему с левой стороны дому, распахнули высокие массивные ворота и махнули шоферу: заезжай, мол.
Выйдя из машины, Саша огляделся, и ему показалось, что он снова на прииске, во дворе официантки. И расположение дома и всех стаек и подклетей и большой навес, закрывающий треть двора, были такими же, разве что забор был пониже и без заостренных плах.
Хозяин, солидный пожилой мужчина, вытащил из-под навеса сани, переставил какие-то ящики, помог шоферу поставить машину на освободившееся место. Попов представил его как надежного человека, объяснив, что он член партии и работает здесь дорожным мастером.
После ужина на скорую руку хозяин отправился спать, разместив приезжих в большой просторной комнате.
— Сначала расскажу, что удалось мне разузнать на прииске, — начал Попов, — а потом вы свои новости выложите, и решим, как жить дальше.
Он закурил, достал из полевой сумки блокнот, полистал его. — Перебрал, с кем сталкивается Ангелина.
— Какая Ангелина? — удивился Саша.
— Не перебивай. Так вот, у буфетчицы Ангелины Леопольдовны Зерновой, как значится по документам наша Анна, нет ни одного знакомого, в котором можно заподозрить этого самого Хозяина, способного организовать ограбление. Живет она замкнуто, дружит с учительницей, как нам уже докладывал наш уважаемый Саша Дорохов. Учительница из бывших, приехала на прииск, преподает русский язык и литературу, ей уже за пятьдесят. Ангелина ходит только к ней, иногда бывает у Олимпиады Быковой. Редко и в тех случаях, когда нет ее мужа дома. Он ее терпеть не может. Жаль, что поговорить я с ним не сумел, он в тайге на охоте. Этот Быков мужик серьезный, член партии, колчаковцев бил, партизанил, а потом в чоновском отряде банды гонял.
Саша слушал, и ему сразу стало как-то легче. Он порадовался за открытого, доброго Кешку, за его сестру, за весь их гостеприимный дом. Вспомнив Олимпиаду, насупился, вспыхнувшая в душе радость поблекла, потухла.
— Сама-то Олимпиада мало того что мои карманы обшарила, еще и Никитскому передачу привезла.
— Не перебивай, Саша, — остановил его Фомин. — И, обращаясь к Попову, попросил припомнить, что еще Вера насчет Быкова говорила.
— Говорила, что Олимпиада домой очень торопилась и боялась, как бы муж не дознался о ее поездке в Иркутск.
— Думаю, это подтверждает твои сведения о Быкове. А как с тем другим охотником, забыл, как его зовут, ну тот, что чучела делал?
— Кирьян-то? С ним посложнее. Он судим то ли в двадцать шестом, то ли в двадцать седьмом году.
— За бандитизм? — не утерпел Фомин.
— Точно, за бандитизм. Слушай, Паша! — внезапно обратился Попов к дремавшему шоферу. — Разогрей-ка самоварчик.
— Пусть спит, — решил Фомин, — мы всю дорогу дремали, а он устал. Давай ты, Боровик, сообрази чаек.
Анатолий, боявшийся пропустить хоть слово, состроил кислую гримасу.
— Иди, иди. Вон Дорохов потом тебе все подробности изложит.
— Судимость Кирьяна меня, честно говоря, удивила, — продолжал Иван Иванович. — Помнишь, Миша, как в те годы к бандитам суд подходил? Очень виноват — расстрел. Вина поменьше — десять лет. А этому Кирьяну, представляешь, самый низший предел наказания дали — три года лишения свободы. Судили его в Улан-Удэ, он отбыл наказание, приехал на этот прииск и с тех пор живет честно. Сначала работал на стройке, потом в забое, а когда чем-то заболел — чем именно, узнать не удалось, — пришлось ему бросить забой, начал охотничать. Выздоровел, а к охоте привык, добывает много пушнины. По договору поставляет зверя и дичь на мясо для прииска. Несколько раз сватался к Ангелине, но она его то прогонит, то обругает, а один раз со всеми сватами на весь поселок осмеяла. Сохнет по ней мужик. Видел я его: высокий, в плечах косая сажень, ему под пятьдесят, а выглядит на тридцать пять. Лицо круглое, добродушное. Во что угодно поверю, но только не в то, что этот увалень может быть организатором каких-то преступлений, что он Хозяин, — уверенно закончил Попов.
— Ну, теперь наша очередь. Повезло Боровику, прихватил он шофера, что отвез на прииск Гришку Международного, рассказал он кое-что интересное. Впрочем, суди сам. Помнишь банду Кочкина?
— Конечно. Я ведь тогда тоже в ее ликвидации участвовал.
— Вот этот самый шофер в то время за Иркутском жил, и бандиты у него иногда лошадей оставляли, награбленное прятали. Мужик он трусливый, его припугнули, и он молчал. Сам главарь не раз приезжал к нему со своей женой или любовницей. Лельку помнишь?
— Это ту, что по-французски пела? Говорили, что она в Маньчжурию ушла.
— Не только говорили. Проверенные данные у нас были. А у шофера свои сведения. Он утверждает, что никуда эта Лелька не уходила. Живет в Чите или в Улан-Удэ — где точно, не знает. Но она несколько раз с ним виделась. Первый раз года четыре тому назад случайно встретила на улице в Иркутске, а потом дважды приезжала к нему домой сама и дружков присылала. Одним из них оказался Гришка. Пришел два года назад, передал привет от Лели и оставил чемодан, просил, чтобы через пару дней подбросил его на тракт, но больше шофер его в тот раз не видел. А вчера Никитский из больницы прямо к Щукину, забрал у него чемодан и уговорил свезти его на прииск. На тракте вскрыл чемодан, все, что было в нем, переложил в мешок, а пистолет сунул в карман. Уже по дороге чемоданчик-то выбросил, да Щукин пожадничал — возвращаясь, подобрал. Гришка возле самого прииска с машины слез и велел Щукину за ним снова приехать — не днем, а ночью — и, не заезжая на прииск, остановиться возле развилки, где дорога идет к реке. Говорит: «Сними колесо, вид делай, что подкачиваешь камеру, а сам жди. Заплачу столько, что пять лет сможешь не работать, а если обманешь, самого и всю семью порешим».
— На какое время заказал Международный машину? — поинтересовался Попов.
— В ночь на третьи сутки.
— Значит, в нашем распоряжении еще двое суток?
— Боюсь, что меньше. К машине ему ведь захочется вернуться не с пустыми руками. Не зря ведь он сюда примчался. Налей мне, Толя, еще чайку, и покрепче, а то тут в тепле разморило. — Михаил Николаевич пододвинул свой стакан к самовару.
— Значит, послезавтра, перед тем как отсюда драпануть, Григорий Павлович захочет расковырять приискового медвежонка?
Фомин вопросительно взглянул на Попова, а тот продолжал:
— Был я там, осмотрелся. Золото они хранят в старинном мюллеровском сейфе. Замки в нем на два ключа. Один у старшего приемщика, второй у главного бухгалтера. Примут дневную добычу и закрывают в сейф вдвоем, а опечатывает третий, председатель месткома. Днем охраняет один человек, а на ночь остаются двое, у обоих наганы. За несколько дней скапливают до пятидесяти килограммов золота, а уж потом под охраной на легковой машине везут в Иркутск. Был я в конторе позавчера, у них всего пуда полтора пока набралось. В общем, отправка через три-четыре дня. Где будем искать Гришку?
— На прииске, у Нюрки, Анны, Ангелины. Если не у нее, то где-то у ее знакомых. Оставим обоих наших помощников с машиной здесь. Вдвоем меньше внимания. Для начала надо бы по душам поговорить с Олимпиадой Быковой, да так, чтобы никто свиданьице это не засек.
— Дядя Миша! — вмешался в разговор молчавший до сих пор Саша. — Быкова расскажет. Не верю я, что она с ними спуталась. Ее, может, так же, как и шофера, запугали. А меня с собой не возьмете?
— Тебя там знают. Попадешься на глаза Анне — и все пропало.
— Когда брать Международного будем, без вас не обойдемся, — подбодрил ребят Попов. — Собирайся, Михаил, и выходи, а я пойду лошадку запрягу, сюда-то я в кошеве прикатил.
Фомин взял шубу, отдал Боровику карабин, подсумки с патронами и наказал им с Сашей и шоферу из дома днем не выходить. Во дворе Иван Иванович запряг невысокую лошадку в кошеву, наполненную сеном. Через час они подъехали к погруженному в сон прииску. На развилке Попов придержал лошадь.
— Значит, здесь этот Щукин высадил Гришку?
— Здесь, наверное, — огляделся Фомин. — Шофер утверждает, что Никитский отправился не на прииск, а спустился к реке. Куда ведет эта дорога?
— На вторую бригаду.
— Ты там был?
— Не успел.
— Может, там этот Хозяин обосновался?
— Знаешь, Миша, поговорил я тут с народом, и мне в голову одна мыслишка пришла. — Иван Иванович поудобнее уселся в санях, разобрал вожжи. — Думаю, вообще нет никакого Хозяина.
— Как так нет? — удивился Фомин.
— А вот так. Давай лучше поразмыслим, порассуждаем, откуда взялся этот неуловимый Хозяин и что предпринял вчера Григорий Павлович, когда сюда добрался.
РАСПЛАТА
За сутки до разговора Попова и Фомина перед прииском почти в то же самое время и на том же месте черный «форд», мигнув на повороте фарами, прижался к обочине и, погасив свет, застыл у самой развилки дорог. Его мягкий верх, покрытый серебристой изморозью, в лунном свете походил на искрящийся мех какого-то диковинного зверя. Оба пассажира несколько минут молча посидели, каждый закурил свою папиросу.
— Еще раз, Семен, предупреждаю. Буду ждать тебя здесь, вот в этом самом месте, в это время, ровно через трое суток. Приедешь, подкинешь меня к железной дороге — и все. Заплачу в два раза больше, чем спросишь. Не приедешь — лучше всего мотай тогда с насиженного места в тайгу, на юг, на север — куда хочешь, только на глаза не попадайся. Найду — всю семью под корень. Меня не будет, люди с тобой рассчитаются. Ты думаешь, все дружки атамана в могиле? Нет, милок, есть и на воле.
Никитский затушил в пепельнице окурок дорогой папиросы. Из-за спинки сиденья вытащил холщовый мешок с лямками, открыл дверцу машины и ушел вниз по дороге, спускающейся к реке. Ему было отлично видно, как сзади фары автомобиля описали полукруг. Слышно, как взревел на повороте мотор. Когда машина отъехала на значительное расстояние, Григорий Павлович вернулся, вышел на тракт, взглянул на почти исчезнувшие вдали светящиеся лучи фар, повернулся к востоку, снял шапку и стал истово креститься.
— Слава тебе господи, — говорил он во весь голос, — и на этот раз пронесло. Помоги твоему рабу Григорию в последнем деле, и я обещаю тебе, господи, отслужить благодарственный молебен в первой же церкви.
Отвесив низкий земной поклон, Международный быстро зашагал к прииску.
Уверенно сворачивая из одного переулка в другой, он остановился возле небольшого дома, три окна которого смотрели на улицу, огляделся. Кругом не было ни души. Собаки, пригревшиеся в своих закутках, не подняли лая на полуночного прохожего. Пробравшись через сугроб к окну, Никитский тихо стал скрести ногтем по раме. Несколько раз стукнул в стекло и снова, словно мышь, поскреб. Через морозные узоры заметил, как в комнате затеплился огонек, постучал еще раз и направился к крыльцу. Когда услышал скрип петель, тихо попросил:
— Пусти раба Григория на постой. Пришел я один, без хвоста, ни одна душа не попалась по дороге.
Дверь открылась шире, и, едва Григорий Павлович оказался в сенцах, теплые женские руки обвили его шею.
— Заходи, Гришенька, заходи, не чаяла до весны, до мая, и встретиться, — радостно и торопливо говорила буфетчица, помогая гостю раздеваться. — Сейчас накормлю, напою, обогрею. Вырвался, значит, из их лап. Да что я говорю. Разве тебя решетки удержат!
Она провела Никитского в комнату, ловко завесила окна, выкрутила фитиль в керосиновой лампе и бросилась в кухню. Почти тотчас вернулась с бутылкой, двумя рюмками и только потом сообразила, что предстала перед гостем в ночной сорочке. Накинув халат, снова исчезла, принесла закуску.
— Давай с мороза по рюмке, за встречу, а потом уж накормлю как следует. Расскажи, как ушел, как сюда добрался. Я как получила твою записку, так и обмерла вея со страху. Ну, думаю, опять схватили моего сокола ясного. Прощай все мечты и надежды. Я ведь только и живу надеждой на светлые денечки. Все время английский зубрю, французский повторять хожу к одной старой дуре.
Хозяйка налила еще по рюмке коньяка, но Никитский ее остановил:
— Сначала перевязку мне сделай.
— Что с тобой, ранили? — Ангелина бросилась к нему.
— Чепуха… Чтобы уйти, пришлось их «закосить» на больницу, сам стеклом пописался, меня дурачки в городскую доставили, вот оттуда и рванул. Ладно, перевяжешь, потом давай о деле.
— Дело стоит готовое. Интересовалась, когда повезут, говорят, еще дня три или четыре. Едва половину набрали. Сейчас, при морозах, поменьше добывать стали. Но я так думаю: пара-то пудов у них лежит.
— Вот и отлично, нам больше и не унести. Не надо жадничать. Жадность многих сгубила.
Буфетчица принесла таз с теплой водой, откуда-то достала бинты.
— Придется, Гришенька, потерпеть, — объявила она, осматривая присохшую повязку. — Знаешь, может, сделаем так: я промочу все спиртом и забинтую сверху. В больнице-то тебя ладно запеленали. Бельецо смени. Я тебе приготовила тонкое, из мадаполама, а сверху вот шерстяное надень. Чтобы не застудиться.
Прямо в нижнем шерстяном белье Никитский сел к столу, налил коньяк и, когда буфетчица хотела поднять рюмку, придержал ее руку:
— Расскажи о помощнике, одному это дело не взять.
— Зачем одному? Я у тебя первая помощница. Или ты во мне сомневаешься? — Опьяневшая от радости, всегда сдержанная на людях, женщина превратилась в игривую молодуху.
— Верю тебе. Но мне сила нужна. Тот ведь мюллеровский «медведь» самое малое девяносто пудов потянет, а его вертеть требуется, если мои крючочки не сработают. Вертеть и со спины резать. Не люблю я эту варварскую работу. Вез сюда из самого Питера отличный немецкий набор как раз для этой конструкции, да есть такая мерзость в иркутской уголовке — Фомин…
— Не горюй, Гриша. Третий год берегу тебе помощника. Мужик зверь, два мешка с сахаром на себе несет. Все ко мне сватается, а я как святая, даже в дом ни разу не пустила. Вот его и возьмешь.
— Пойдет ли?
— Пойдет. Расцелую, обниму — и пойдет за мной хоть под лед. В прорубь.
— Ну, в прорубь, может, и нырнет, а на дело как?
— Будь уверен, он, правда, всего один раз по статье пятьдесят девять три мучился.
— Не люблю бандитов, — вздохнул Никитский.
— Так ведь не надолго он нам и нужен. Всего на одно дело. А там… — Женщина не договорила.
— Тогда так. Брать будем послезавтра в ночь и двинемся на тракт, Сенька будет на своих колесах встречать.
— Сенька? Ох, Гриша, он ведь трус, заложит. Или подведет, не приедет.
— Вот на трусость его и рассчитываю. Мои-то инструменты и пушку два года хранил.
— Как скажешь, так тому и быть. Отдаю я себя всю в твои руки, увези меня отсюда, Гриша.
Опустела первая бутылка, появилась вторая, пошел более откровенный разговор, без недомолвок.
— Может, Гришенька, лучше в Маньчжурию? Доберемся до Улан-Удэ, там в степи отыщем дружков моего атамана, и проведут через границу. Легко и близко.
— Далась тебе эта Маньчжурия! Что же ты здесь, и газеты не читаешь? Радио не слушаешь? Японцы всю Квантунскую армию в Маньчжурии к границам стягивают, да и красные, наверное, войск понагнали, так что там сейчас и сурок не прошмыгнет.
— Нет, я просто так. Вспомнила своих знакомых, вот и захотелось еще раз свидеться. Заодно и посчитаться. Скажи, Гриша, помог бы ты мне кое-какие должочки получить? Знаю, знаю, что скажешь. А посчитаться мне есть с кем. Я тебе не рассказывала, а сейчас скажу… Давай еще за встречу, — предложила буфетчица, разливая в рюмки коньяк. — Когда атаман в ловушку попал, я не стала ждать, чтобы и за мной пришли, все в переметные сумы сложила и подалась с одним казачком, которого ко мне атаман приставил. Сам понимаешь, что у меня в сумах-то не тряпки были. Долго мы с ним скитались, но в конце концов повезло, перешли границу. В ближайшем городке белого офицерья толпы. Я тогда дура была, но молодая, красивая. В первый же день у моих ног капитаны, полковники… Определили в гостиницу, две горничные, туалеты, парикмахер. Ну, думаю, вот жизнь началась. Вечером в мою честь банкет, шампанское, тосты. Ну и распустила я слюни. Утром проснулась в канаве. На мне дерюга, какую сроду и не нашивала. Вся в грязи. Бросилась в гостиницу — не пустили. К коменданту белоэмигрантского отряда — тот велел выгнать в шею. Кинулась в полицию. Едва я порог переступила, урядник кричит: «Пошла вон, потаскуха!» Остались у меня здесь кое-какие похоронки, вот и вернулась. Нет, Гришенька, в Маньчжурию я не хочу, разве только с пулеметом… Чтобы посчитаться… Давай лучше спать ложиться.
— Лелечка, радость моя, спать нам сейчас негоже. Пока на дворе темно, отведи-ка ты меня к своему жениху. Лучше я у него перебуду, если он, конечно, один живет да на постой пустит.
— Один, как и я, бобыль. Если я приведу, кого хочешь пустит. А может, у меня останешься?
— И рад бы, да перед делом нужно хоть посмотреть, с кем на него идти. Да и нельзя мне у тебя оставаться. Мало ли кто к тебе зайти может. Тебе завтра в свою чайную, а я снова сидеть тут под замком? Хватит, насиделся. Ты вот что: лучше собери, что с собой возьмешь. Заберем «рыжуху» — тебе сюда незачем возвращаться. Лишнего барахла не бери, я тебе в Питере все найду самое наилучшее. Золотишко сменяем на фунты да доллары и махнем в Латвию. Есть верные люди, проведут через границу, а оттуда — на пароход, и вся Европа наша. Парле франсе? Шпрехен зи дойч?
— Или хау ду ю ду! — подхватила Лелька. — Только ты меня при женихе-то Анной зови, я скажу, что ты мой дядя. Слушай, Гришенька, а куда мы потом его-то денем?
— Там будет видно. Думаю, что он по дороге потеряться должен.
— Ну ладно. Соберу сейчас тебе с собой выпить да закусить — и пойдем. Слушай, а тебе из одежонки, может, что надо? Дошка-то на тебе ладная?
— Ничего мне не надо. Дошка как раз, вот разве свитер бы какой.
— Есть свитерок.
Женщина метнулась к комоду, вытащила плотный шерстяной свитер. В кухне, гремя бутылками, стала собирать съестное. Никитский с сожалением осмотрел уютную теплую комнату, прямо из бутылки глотнул коньяку и стал одеваться. Достал из кармана дошки большой плоский пистолет, проверил обойму, вынул из ствола патрон, осмотрел его перед лампой и снова загнал в патронник.
— Все с заграничными возишься? — вошла в комнату уже одетая хозяйка. — Может, мой достать? Наган-то — он вернее.
— Не надо, этот тоже не подведет. Охрану приберем — и за работу.
— Охрану-то мне с женишком придется на себя взять. Те мужики меня знают, не раз к ним заходила: то позвонить в бригаду, то узнать время. Ничего, пускают. Пустят и послезавтра. Ну, раз идти, то пошли. Дом-то я и запирать не буду, чтобы кому в глаза замок не бросился, коль обратно запоздаю.
Женщина вышла на пустынную, уже предутреннюю улицу, осмотрелась и только потом позвала Никитского. Они быстро добрались до окраины поселка, свернули на протоптанную в снегу тропинку, миновали небольшой ельник и только вышли к одинокому дому, как со двора выскочили две крупные собаки и, захлебываясь сердитым лаем, встретили непрошеных гостей. На шум вышел хозяин, он окрикнул лаек, и те, словно их хлестнули кнутом, вернулись во двор. Кирьян вначале никак не мог взять в толк, почему Анна явилась к нему ночью.

— Вот, Кирюша, дядю к тебе своего привела, хочу с тобой познакомить. Приехал, ругает меня, что все одна да одна, ну, я ему и говорю: «Раз ты мне за родного отца, иди сватай». — Она смеялась.
Кирьян, раздетый, оторопело стоял на дворе и не знал, что ответить. Спохватившись, он бросился в избу, приглашая следом и своих полуночных гостей.
Буфетчица оглядела избу. Вначале она показалась совсем пустой. Дверь с улицы без крыльца, без передней, по-сибирски, как в зимовьях, вела прямо в дом, в котором не было перегородок. Посредине большущая печь, по стенам широкие лавки. Кирьян, наскоро одевшись, зажег лампу, и женщина подивилась чистоте его холостяцкого жилья. Сам «жених», хоть и был застигнут врасплох, тоже оказался на удивление прибранным, в чистой белой рубахе.
Деревянный стол, стоявший у окна, был выскоблен добела. На полке, прибитой к стене, под чистым холщовым полотенцем лежала посуда. Анна развязала мешок, достала две бутылки коньяку, бутылку спирта, литровую банку меда, кусок сала, еще какие-то продукты.
Кирьян молча наблюдал за ее движениями и никак не мог прийти в себя от неожиданно свалившегося счастья.
— Ты уж удружи мне, Кирьянушка! Разреши. Пусть у тебя переднюет мой родственник, а то неудобно одинокой бабе у себя мужика принимать. Пересуды по поселку пойдут: вот, мол, какая она, Нюрка, а мне совестно будет тебе в глаза смотреть.
Кирьян кивнул в знак согласия, а сам никак не мог отвести глаз от Анны. Он весь так и сиял! Анна, недотрога Анна, сама пришла к нему, просит о каком-то пустяке, когда он, Кирьян, ради нее готов жизнь свою положить.
Тем временем Никитский разделся, достал папиросы, предложил хозяину. Тот молча отмахнулся: мол, не курю, но откуда-то из печурки принес большую алюминиевую пепельницу и поставил ее на лавку рядом с гостем.
— Давайте, мужики, выпьем со знакомством, да я побегу, мне ведь утром на работу. Стаканы-то у тебя, суженый мой, есть?
Кирьян достал с полки стаканы, повертел каждый перед лампой, убеждаясь в их чистоте, и только потом поставил на стол. Не говоря ни слова, вышел из избы и вскоре вернулся с миской соленых грибов и большой чашкой вареных лосиных губ.
Никитский налил себе полстакана коньяку, полный стакан спирту Кирьяну, плеснул коньяку Анне, хотел добавить, но та прикрыла стакан ладошкой, а потом первая подняла его:
— За знакомство, мужики, за то, чтоб всем нам было хорошо, чтоб жить стало радостно.
Кирьяну не хотелось пить вот так вдруг, среди ночи, да и был он пьян от счастья, но в словах Анны услышал такое обещание, что сейчас же проглотил стакан спирту.
Никитский, заметив настроение охотника, криво усмехнулся и медленно, мелкими глотками стал прихлебывать из стакана.
«Удивительная штука жизнь», — думал Никитский. Не первый раз вот так же, как вчера, он вырывался из самых сложных, казалось бы, совсем безвыходных ситуаций.
Но он начинал искать, и выход находился. Его подсказывал ум, его ум. Ну что же, пейте вы за свое дурацкое счастье, а он, Никитский, выпьет за себя, за свою сообразительность и находчивость.
— Пейте, гуляйте, мужички, а я побежала. — Женщина прошлась по избе, остановилась возле прикрепленных к стене двух чучел белок и стала их рассматривать. Оба зверька как живые сидели на ветке кедра. Умело, с большим вкусом передал Кирьян их позы.
— Какая прелесть! Почему же ты, Кирьян, их мне не подарил?
— Так ты же, Нюра, от меня подарков не принимаешь, — с сожалением проговорил охотник.
— Приходи днем в чайную. Да захвати этих зверушек. Приму, при всех тебя расцелую и поставлю их на самое видное место. Проводи меня, Кирьян, через лесок, а то мне там жутко одной идти, а ты, дядюшка, ложись, отдыхай с дороги. Впрочем, что это я над вами командовать стала? Пейте, гуляйте, а я денек свой отработаю, смену сдам и вечерком приду сюда. Когда пойдешь ко мне, захвати торбу, Кирьян, я вам выпивки и закуски еще приготовлю.
— Папиросок мне передай, Нюра, а то мои на исходе, — попросил «дядюшка».
Едва за буфетчицей и охотником закрылась дверь, как Никитский встал, вынул из кармана дошки пистолет и засунул под свитер за пояс ватных брюк. Обошел избу, осмотрел оружие охотника, стоявшее в углу: новый охотничий карабин, мелкокалиберную винтовку и тульскую двустволку. Над оружием на вбитом в стене колышке висели самодельные патронташи. Патронташ с патронами для карабина походил на пулеметную ленту. «С этим запасом можно выдержать целую осаду», — решил Международный, налил в стакан коньяка, выпил и пожалел, что нет на столе ломтика лимона. Ну ничего, бог даст, будет и лимон, и белая салфетка за воротником, и официанты в черных фраках. Все будет через неделю, ну самое большее через десяток дней. Лелька молодец, подсобную силу нашла что надо. Этот Кирьян один «медведя» положит хоть на живот, хоть на спину. Если, конечно, его, Григория Павловича, отмычки не сработают. Никитский взял свой мешок с воровскими инструментами и засунул под лавку, подальше, к самой стене. Вернувшийся Кирьян возле порога долго обметал снег с ичигов, ласково разговаривал с собаками, а войдя в избу, сбросив полушубок, прямо пошел к столу и разлил оставшийся коньяк.
— Ну, гостюшка, уж не колдун ли ты? Аня другой раз и смотреть на меня не хотела, а ты приехал — сама пришла.
— Угадал ты, Кирьян. Угадал. Я действительно колдовать умею, особо над бабами. Посмотрю раз-другой, скажу притворное слово — сразу пляшут они под мою дудку. Давай выпьем за то, чтоб мое колдовство силу не потеряло. Скажи-ка, милок, к тебе много дружков-приятелей ходит? Мало? Это хорошо. Так вот, давай договоримся: если кто днем-то заглянет, так ты шепни, что я твой старый знакомый, с низовьев реки приехал. Не хочу до поры до времени на людях объявляться. — Никитский помолчал, видно подыскивая основательную причину для своей просьбы. — Одежонка на мне не очень подходящая. Вот приоденусь да отдохну с дороги, тогда и объявимся, да так, чтобы Нюра не краснела за родича.
Кирьян слушал вполуха. Ему все равно было, как выглядел гость и как он решил поступить. Хочет так, пусть будет так, он не против. При чем тут этот старик со своими причудами, когда Анна, сама Анна там в леске его обняла, говорила ласковые слова… Лицо его до сих пор горит от поцелуев, будто колючим снегом нахлестало.
Кирьян заботливо приготовил постель гостю. Кинул на лавку несколько гураньих шкур. Этих козлов он стрелял осенью, когда шерсть, едва схваченная морозом, была мягкой и крепкой. Под голову положил сначала ватный пиджак, а потом подушку в цветастой ситцевой наволочке. Достал из сундука новое верблюжье одеяло.
Гость заснул сразу, а Кирьян, устроившись на другой лавке, уставился в потолок. Представлял, как справит свадьбу, да такую, что и самые заядлые гулеваны приискатели будут долго помнить. Мелькнула мысль, что нужно еще до весны завезти из тайги лес, а по теплу срубить новый дом. Ограду поставить, как у Андрея Быкова. Раз жена в доме, как же без ограды-то? Крытый двор сладить, стайку для коровушки теплую выложить. Детишки пойдут, им парное молочко — первое дело. Есть у Кирьяна деньги. Есть. Жил он скромно, еще в забое работал — начал откладывать, а в тайгу пошел — всех расходов-то на охотницкий припас, на чай, сахар да на муку. Тысчонок семь собрано. Да и шкурки кое-какие есть. Каждую зиму оставлял по три, четыре, а то и по пять куниц да соболюшек… Первое время и не знал, для кого. Вначале просто жалко красоту было на деньги менять. Ее, шкурку-то, в руки возьмешь, встряхнешь, раз-другой ударишь легонько ребром ладони против ворса — и заискрится мех, заиграет, особо если под солнцем шкурку-то держать. А когда приглянулась Анна, то каждую зверушку добытую стал связывать с ней. Попалась куница — вот бы Аннушке на шапку. Стрелил соболюшку — хорошо еще бы двух-трех таких же, Нюре на воротник. Только Нюра ничего от него принимать не хотела. Не то что говорить, но и смотреть-то на него не желала. В позапрошлом году добыл он лебедя. С переломанным крылом под самую зиму на протоке остался. Видно, кто-то дробью хлестнул птицу на пролете. Хотел поймать его, подраненного, но не получилось. Каждое утро ходил к той омутине, рыбешку носил, корки хлебные, лебедь уже попривык. На крутоверти-то лед никак не становился, вот в той полынье-промоине и плавал бедолага. На лебединую беду, не только Кирьян его приметил. Один лисовин, лапы что у лайки, тоже стал охоту держать на инвалида. Однажды утром припоздал Кирьян. Подошел к протоке, глянул, а лис, мокрый, взъерошенный, волочет лебедушку по льду. Стеганул Кирьян душегуба из карабина, и оба под берегом остались — убийца и убитый. Две недели возился с лебяжьей шкуркой. Нужно было в тайгу выходить на белковье, а тут сиди, вынимай каждый пенек да перышко, чтобы пух освободить. В конце концов сделал, купил в лавке шелковый платок, завернул в него лебяжью шкурку — и к Анне. Та развернула и ахнула, а потом грустная стала, говорит: «К этому лебедю черный бархат и платье на королеву, а я простая баба, водку вот вам разливаю, не до царских мне нарядов». Но все-таки взяла. Правда, деньги предлагала. Вот вечером она придет, и тогда он ей все шкурки и преподнесет. Пусть радуется. Теперь-то она от них не откажется. А он, Кирьян, будет ей рассказывать, где и как добыл каждую, как мечтал ей отдать. Долго не спалось охотнику, радость сменяла непонятная тревога. Было неясно, почему Анна так внезапно к нему переменилась. Внезапно? Нет, пожалуй, с прошлой осени она стала поласковее. Ладно, утро вечера мудренее…
Кирьян взглянул на окно. Утро уже занималось. Он потихоньку, стараясь не разбудить гостя, оделся. Вышел из избы, задал корм коню, кинул по огромному куску козлятины собакам: пусть, мол, и у них радость, пусть и им сегодняшний день запомнится.
Привез с реки на санках бадейку свежей воды. Напоил лошадь, зачем-то слазил на сенник, взял вилы и пособирал по двору лохмоты сена. Промел метелкой дорожку от крыльца до ельника, хотя и этого делать не следовало, так как пороши уже давно не было. Остановившись в сторонке, представил себе, как будет выглядеть его перестроенная изба — с резными наличниками, с петухом на коньке крыши и с окнами обязательно на реку и вот на эту поляну. Стараясь не разбудить гостя, с вязанкой березовых дров вошел в избу. Но Григорию Павловичу, видно, тоже не спалось, он сидел возле стола и, уставившись в окно, что-то разглядывал. Обернулся на скрипнувшую дверь, зачем-то сунул руку в карман, а потом улыбнулся:
— Доброе утро, охотничек. А ты, я вижу, уже по хозяйству. Вот смотрю в окошко и удивляюсь: на дворе мороз, а на стеклах у тебя ни льдинки. Как удалось-то?
— Тут один старик у нас есть — по дереву мастер, показал, где дыры в рамах сверлить, чтобы продувало. А потом, промеж рам мох, видишь, серый пополам с зеленым? Он тоже замерзать стеклам не дает. Печку растоплю да завтракать будем.
— Похмелиться не мешает, — согласился Никитский.
Кирьян, как только разгорелись дрова, принес откуда-то с мороза литровую бутылку. Пристроил на печку чайник, кастрюлю с несколькими ковшами воды.
— Пока горячее сварится, давай по полстакашка моей. Она похлеще вашего коньяка будет. Только не обессудь, гостюшка, крепковата малость. — И налил в стаканы розоватую жидкость.
Никитский отхлебнул, поймал на вилку рыжик и, отдышавшись, допил остатки. Кирьян с любопытством смотрел на него. Отставив стакан, Международный похвалил настойку и мечтательно припомнил:
— Вот когда я в Харбин первый раз приехал, ударился с одним господином в загул.
— Ты из бывших? — поинтересовался Кирьян.
— Я, друг ты мой, никакой. Ни белый, ни красный. Одно время хотел черным стать, да господь бог вовремя удержал. Шлепнули граждане чекисты всех моих дружков, что под черный флаг пошли. Так я тебе не про то хочу рассказать. Господин тот, по-теперешнему корешок мой, стал меня водить по разным китайским заведениям. В одной фанзе подают нам бутылку. Сам хозяин принес, бережно так несет, боится оступиться. Бутылка на подносе, две рюмки и ножик. Открыл пробку и тянет из бутылки змею. Самую настоящую гадюку, она за головку крючком к пробке прицеплена. Налил по рюмке, ножом отрезал от хвоста два кусочка на закуску, а ее саму опять в бутылку опустил. Попробовал я. Дрянь, конечно, но пить можно. Кореш мой по-ихнему знал, объяснил, что этой змеиной полагается только по рюмке для здоровья. По одной, больше нельзя. Если в твоей нет змеиного яду, то наливай еще, — рассмеялся Никитский.
Оба съели по большой миске наваристого бульона с пельменями, и Кирьян засобирался. Принес из подклети хороший темно-синий костюм, прикрытый какой-то чистой тряпицей, новые оленьи торбаса, достал из сундука кремовую косоворотку из плотного шелкового полотна. Побрился возле обломка зеркала, пристроенного на стенке рядом с железным рукомойником. Все он делал уверенно, тщательно, и Никитский видел перед собой серьезного человека. У него мелькнула мысль: согласится ли этот аккуратист завтра идти к нему в помощники?
Между тем Кирьян снял со стенки чучела белок, вначале хотел их сунуть в зеленый солдатский заплечный мешок, а потом принес откуда-то корзину из ивовых прутьев, надел короткое бобриковое полупальто, беличью шапку.
— Ну, я пошел. Ты-то дома будешь?
— Спать лягу. Закрой-ка меня на замок, чтобы лихие люди не обидели.
— Нет у нас тут лихих, все вывелись.
— Как знать, Кирьян, как знать…
Оставшись один, Никитский погрузился в беспокойные мысли. «Нужно бы самому «медвежонка» да и «берлогу» заодно посмотреть. Пойдет ли с нами «женишок»? Ну а если не пойдет, бог с ним. Пусть дома остается. Изба на отлете, на улице пистолетный хлопок и слышен-то не будет. А отмычки, бог даст, не подведут. Работал он такими мюллеровскими изделиями, и ничего, получалось».
Вечером после прихода Анны снова завязалась пьянка. Гришка пил со всеми наравне, даром что возраст, а завтра работа. Впереди была ночь, а потом еще целый день. И отоспаться, и похмелиться успеет, а к делу трезвый будет. Хотел было за выпивкой начать откровенный разговор, но Лелька не дала. Прижала палец к губам: молчи, мол, а потом, когда Григорий Павлович не обратил внимания, прикрикнула:
— Хватит болтать раньше времени.
Хорошо, что этот дурак от счастья слюни распустил и ничего не понял.
Поздно, уже после полуночи, собралась Анна домой.
— Вам, дорогой дядюшка, выспаться надо, а жених мой меня проводит, печку истопит, спать уложит, а вас на всякий случай мы снаружи замочком запрем. Лампу потушите — и на боковую.
Утром Никитский проснулся рано. Выглянул в окно и увидел, что солнце на дворе искрами ворошит снег, купается в зелени разлапистых елок, переливается на обвисших заснеженных ветках. Занялся яркий радостный день, а Григория Павловича одолело беспокойство. Нет Кирьяна, увела Лелька! К добру ли? Встал, оделся, прошелся по избе… Опять закралась тревога, как в гостинице, когда учуял неладное. Уйти бы впору. Выдавить стекло и вон из этой чистоплюйской избы, в которой и дух-то чужой — и не гостиничный, и не тюремный.
Никитский присмотрелся и сообразил, что этот неизвестный запах создают сухие веники трав, развешанные на стенах, — багульник, связанный в снопик, брусничник, засушенная с листьями береза, пучки мяты и ветки привядшей лиственницы…
Весь день Никитский промаялся в пустой избе. Беспокойство овладевало им все сильнее и сильнее. Куда запропастилась эта чертова баба? Как повернулся ее сговор с этим безрогим сохатым? Григорий Павлович метался по избе, не находя себе места. Почему не идут? Может, охотник ищет участкового, Лелька лежит у себя в доме связанная, а сюда вот-вот нагрянет облава? Он то ложился на лавку, то вновь соскакивал и садился к окну, всматриваясь в ельник. Тень от самой высокой елки пересекла поляну и почти уперлась в калитку. Где же они, сволочи? Может, свою игру затеяли и третьим лишним оказался ты сам, Григорий Павлович? Ну, Лелька не такая уж дура, чтобы отказаться от своей мечты улизнуть за границу. Но кто их, баб, толком знает?
Вопреки всем своим правилам, Никитский дважды прикладывался к бутылке, хотя никогда перед делом спиртного и в рот не брал. Но хмель в этот раз не действовал. Успокоение не наступало. Когда до темна остался час или полтора и Никитский окончательно решил, что с наступлением сумерек уйдет, внезапно на дворе залаяли собаки. Григорий Павлович метнулся в угол. Схватил карабин и, загнав патрон в ствол, притаился у окна. Собаки, тявкнув несколько раз, сменили тон и уже с веселым лаем, игривыми скачками метнулись по тропинке. Из ельника вышла Лелька. По тому, как она была одета, сразу стало видно, что собралась в дальнюю дорогу. Григорий Павлович немного успокоился, но, заметив охотника, неуклюже следовавшего сзади с объемистым мешком на плече, стал про себя ругаться. «Вот дура. Барахлишко свое собрала. Баба она и есть баба. Ну ничего, велю бросить все лишнее. Мы и с «желтухой» намаемся, если ее пуда три окажется, а тут еще и тряпки».
— Не сердись, дядюшка! — вместо приветствия прямо с порога начала женщина. — Мы с муженьком моим немножко припоздали: то миловались, то разговоры разговаривали. Собирала, что взять с собой, а что бросить на разграбление.
Она старалась говорить весело, но в голосе ее Никитский уловил растерянность и грусть.
Кирьян опустил мешок прямо посредине избы, не раздеваясь, сел к столу, молча налил себе стакан водки, отпил половину и уставился на Никитского, сидевшего напротив. Холодно стало под этим взглядом Гришке Международному. Строгие Кирьяновы глаза, казалось, сверлили его насквозь. Охотник допил водку, взглянул на Анну, хотел что-то сказать, но та перехватила его взгляд, улыбнулась, подошла, прижалась к нему, обняла и, словно маленькому, почти нараспев проворковала:
— Не волнуйся, Кирьянушка, не беспокойся, мой медведушка, все будет хорошо. Никому я тебя в обиду не дам. Дело это будет наше первое и последнее. Потихоньку, без крови, свяжем тех сторожей, заберем золотишко и подадимся в теплые края. Буду я там тебя любить и холить…
Но договорить ей не пришлось. На дворе собаки подняли лай, злобный, яростный, с визгом. Охотник даже не шевельнулся, а буфетчица бросилась к окну. Никитский смотрел и не мог оторвать от поляны глаз. За толстой елью только что мелькнул человек. Чуть в стороне шевельнулись мелкие деревца, и Григорий Павлович отлично рассмотрел ствол винтовки, направленный прямо в окно. Одна собака металась по поляне, облаивая пришельцев, вторая голосисто, с подвывом, заливалась где-то за домом.
«Все, окружены, — сообразил Григорий Павлович. — Заложили, сволочи! Договорились и предали».
Он взглянул на Лельку, прижавшуюся к простенку, и увидел, как она поднимает взведенный наган.
«Выходит, не она», — мелькнула мысль у Никитского, и он бросился к Лельке, схватил ее за руку.
— Не стреляй, дура. За вооруженное сопротивление — вышка. Нас всех к стенке поставят.
— Ах, не стрелять? — истерично взвизгнула женщина. — Боишься? Да посмотри сюда, старый дурак. Глянь, вон кто за поленницей-то стоит! Почтальон твой. Парнишечка, что от тебя записку принес. Навел ты, Гришенька, легавых на мой след. Вот не знаю, кого первым шлепнуть — тебя или его?
Сильным рывком она высвободила руку и, поддерживая рукоятку левой рукой, снова прицелилась. Кирьян как в тумане видел, что Никитский обеими руками схватился за револьвер, навалился на женщину и, выворачивая руки, упер ствол ей в грудь. Анна успела крикнуть:
— Что ты делаешь, Гришка! Кирьяа-ан!
Глухо треснул выстрел, и Анна обмякла, соскользнула по стене на пол.
— Так лучше, без мучений, да и не сболтнет лишнего, — крестясь и отступая, проговорил старик.
Какое-то время охотник удивленно смотрел то на Никитского, то на женщину, потом, опрокидывая лавку, бросился к Анне, припал к ней, приподнял голову, и она попыталась улыбнуться. Едва шевеля губами, прошептала: «Прости» — и словно во сне потянулась и закрыла глаза.
Охотник, как раненый медведь, выпрямился. Изба вдруг закачалась, заходила под ногами. В каких-то радужных кругах завертелись окна, лавки, стол. По-медвежьи вытянув вперед длинные руки, пошатываясь, Кирьян, едва различая прижавшегося к печи старика, пошел на него. Инстинктивно, не отдавая себе отчета, словно игрушку, выбил из руки вора пистолет, схватил его за плечи и, точно слепой, перебирая пальцами, добрался до сухой жилистой Тришкиной шеи… Он не слышал, как в избу ворвались Фомин и Попов. Не понял, почему вдруг появились чужие люди и разжимают его пальцы, обхватившие ненавистную шею. Не заметил, как рухнуло на пол безжизненное тело Никитского. Оттолкнув плечом обоих работников уголовного розыска, Кирьян как во сне шагнул раз, другой и повалился на лавку.
Шли недели… Но Дорохов часто в мыслях возвращался к тому, что произошло в доме охотника. Пожалуй, только теперь он полностью осознал слова Фомина об опасности и коварстве старых преступников-рецидивистов. Опоздай они на несколько часов, и кто знает, может быть, и затянул бы Никитский охотника в страшное преступление, а если бы Кирьян не согласился да стал бы мешать — убил бы, убил, не моргнув глазом, так же, как Анну. Саше ничуть не было жаль Международного. Вот к Анне, или, правильнее, Ангелине, у него было какое-то двойное отношение. Конечно, женщина она порочная, но она все-таки ему нравилась настойчивостью, дерзостью или необычностью, что ли. Но он понимал, что Ангелина запутала бы и погубила Кирьяна. А может быть, смогла бы его полюбить и сама стала лучше? Тогда, в первый раз приехав на прииск, Саша не сообразил, что нет никакого Хозяина, а есть Хозяйка, смелая, самоуверенная и красивая. Отыскал Саша на приисковой почте телеграмму, что отправила буфетчица в Ленинград. Похоже было, что она сама торопила Никитского с ограблением приискового золота. Саша был рад, что официантка Олимпиада Никоновна и вся ее семья не имела отношения к преступникам. Оказалось, услужливая женщина просто-напросто из уважения выполняла просьбы буфетчицы. Она действительно проверяла его карманы, потому что Анна усомнилась в его, Сашиной, личности. Особенно жаль было Саше охотника. Правда, его не стали привлекать за убийство Никитского. Психиатрическая экспертиза признала, что его действия были совершены в состоянии аффекта — мгновенной невменяемости, и тем самым сняла с него ответственность. Было жаль, что сильный и решительный Кирьян надломился и уехал домой, после того как дело его судебное прекратили, глубоко несчастным человеком.
САПОГИ С БЕЛЫМ РАНТОМ
За делами, за мелкими заботами, беготней по поручениям Саша и не заметил, как подошла весна.
В уголовном розыске, особенно в группе Фомина, наступило затишье. Дела возникали несложные и раскрывались сразу или через день, через два. Несколько краж Саша распутал самостоятельно и был этим страшно горд.
Сегодня у него не было ничего срочного, и он рассчитывал пораньше освободиться и пойти к сапожнику. Наконец-то ему удалось заказать себе сапоги. Настоящие, из мягкого шевро, с белой шелковой строчкой по ранту. Такие есть у каждого уважающего себя сотрудника уголовного розыска. Вон Боровик сшил их сразу, как только они пришли в угрозыск. У Картинского, говорят, таких сапог целых две пары. Даже на работу в них ходит. А у него, Саши, только казенные, со склада. Правда, в грязь, в дождь они годятся. А в гости или там на вечеринку в таких уже не пойдешь. Саша в последнее время сумел приодеться, купил себе кожанку, не новую, но приличную, сшил бриджи, черную сатиновую косоворотку с белыми пуговицами, а вот с сапогами никак не удавалось. Получку почти целиком он отдавал матери, поэтому откладывать приходилось понемногу. Позавчера, наконец, отдал деньги дяде Косте Шульгину. Тот снял мерку и обещал сшить. Интересный человек этот Шульгин. Работникам уголовного розыска шьет бесплатно, деньги берет только за товар. Однако шевро, подошву покупает у спекулянтов, и все равно сапоги обходятся недешево. Но мастер дядя Костя каких поискать, шьет как рисует. Сейчас мода на утиные носы, так он их делает — одно загляденье. Заказчики по полгода в очереди дожидаются, а угрозыску — раньше всех. С одним условием: сапоги он шьет при тебе. Сиди, смотри, а он работает. Наверное, это неспроста. Может, для каждого визита нужно припасти выпивку и закуску? Саша пожалел, что не спросил об этом дядю Мишу.
Часа в четыре дня Дорохов в блаженном настроении вышел из управления и направился в ближайший магазин. В винном отделе взгляд его привлекла пузатая бутылка с заморским названием «Допель кюммель». Саша заплатил за нее деньги и помчался в рабочий поселок, где у сапожника был свой небольшой дом. Шульгин сидел за верстаком против открытого окна, мурлыча себе под нос, ловко затягивал переда новых сапог. Он брал кожу губами пассатижей, зажатых в левой руке, тянул, прижимал колодку к коленям, правой вынимал изо рта длинный гвоздь, вкалывал его в кожу и ловко, одним ударом молотка, загонял на нужную глубину. Потом переворачивал колодку и аккуратно разглаживал морщины черной глянцевой кожи. На глазах у Саши колодка обрастала торчащими гвоздями.
Он знал, что это не его сапоги. Его-то, наверное, еще и не кроены. Отложив сапог, Шульгин взял из пачки папиросу и, закуривая, глянул в окно. Его крупное лицо растянулось в улыбке. Он приветливо махнул Саше рукой — заходи.
В этом доме Саша был дважды. Первый раз они шли с Фоминым мимо, и дядя Миша предложил: «Давай зайдем, хорошего человека проведаем». Зашли, а жена сапожника сказала, что хозяин болен. Саша остался в одной комнате, а Фомин с хозяйкой отправились в спальню. Из обрывков разговора, что долетали до него, он не понял, о чем шла речь, но несколько раз Фомин произнес его, Сашину, фамилию. Уже позже Михаил Николаевич рассказал ему, что с Шульгиным и Борисом Картинским они начали вместе работать, так же как Саша с товарищами. Только их, коммунистов, мобилизовал крайком партии в самый разгар нэпа.
Второй раз они приходили с дядей Мишей к сапожнику недавно. Саша сделал заказ и отдал деньги. Разговора никакого с Шульгиным не получилось, так как к нему на извозчике приехали трое клиентов, и дядя Миша сразу заторопился уходить.
Саша так и не разобрался в том, что из себя представляет этот Шульгин. Здоровый, крепкий мужик, только без обеих ног. В доме чисто, уютно. Много книг. Не только в комнатах желтые застекленные шкафы, но и в прихожей, на стене, полки. И сейчас, войдя в дом, Дорохов не знал, как себя держать. Шульгин крепко пожал Сашину руку, сбросил со стула какие-то колодки, протер его рукавом и пригласил Сашу садиться. Дорохов вытащил из кармана ликер, поставил его на верстак. Шульгин повертел бутылку, зачем-то взболтал ее и посмотрел на свет. Крикнул куда-то в глубь дома, чтобы принесли стаканы и закуску. Вскоре солидная, степенная женщина — жена дяди Кости — принесла на подносе стаканы, ломтики сыра и колбасы. Шульгин ловко, одним ударом ладони, выбил пробку и почти до краев налил мутноватой и тягучей жидкости:
— Пей!
— Да не пью я, — смущаясь, промямлил Саша.
— Не пьешь?
— Как же пить-то? Раньше бокс, сейчас уголовный розыск. Я же от вас еще в управление к дяде Мише зайду.
— Зачем же принес?
— Да вот, — еще больше стесняясь, Саша развел руками. — Думал, пригодится.
— Все понятно. Раз сапожник, значит, горький пьяница, — криво усмехнулся Шульгин. — А тут еще и калека, значит, пьет без удержу.
Жена Шульгина, наблюдавшая всю эту сцену, подошла к верстаку, забрала поднос и бутылку.
— Зачем над парнем издеваешься? Не видишь, он к тебе с душой.
— Ладно, Саша! Подай-ка мне вон тот сверток. И скроил, и сшил я твои заготовки. — Шульгин показал гостю голенища с пристроченными передами. — Осталось придать им форму, пришить подошвы, каблуки — и все.
— Сколько же понадобится еще времени, чтобы они были готовы?
— Давай садись и рассказывай, — словно угадав Сашины мысли, сказал Шульгин, — а я над твоими чеботами немного помудрую.
— Что рассказывать, дядя Костя?
— Все, что хочешь. Начни с Ольги или с рябого, а лучше с буфетчицы. Когда-то я с ней лично хотел познакомиться, да не пришлось.

Саша растерялся вконец и не мог вымолвить ни слова. Шульгин взглянул на него и расхохотался:
— Да ты, брат, не красней. Я в вашем деле кое-что смыслю и постоянно в курсе. Это ведь Лелькин муженек меня сапоги шить заставил. Не понимаешь? Сейчас объясню. Сначала его банду разгромили возле Байкала. Но атаман с десятком головорезов ускользнул. Искали, искали и нащупали его под Александровом. Поехали брать. Завязался бой. Я и наткнулся на пулеметную очередь. Бандиты на лошадей, наши за ними следом, а мы с Борисом, ну, с Картинским, остались. Ему в правую руку, а мне по ногам полоснуло. Борис меня на себе версты три тащил. Упадет, отлежится и снова меня волочет. Упорный мужик этот Картинский. Только мне ноги-то все равно отрезали, а у него ничего, рука зажила. Так-то вот, дорогой товарищ Дорохов. Лелька-то, атаманова жена, все золотишко и драгоценности награбленные успела захватить и в Китай подалась. Ребята тогда отыскали проводников, что ее через границу перевели. Думали, она там и осталась. Ан нет, вернулась. Как говорится, царство ей небесное. Лихая женщина была. Перед революцией здесь, в Иркутске, гимназию окончила. Папаша у нее большими деньгами на приисках Бодайбо ворочал. В шестнадцатом году все свои капиталы за границу перевел и сам подался в Бельгию или Голландию, сейчас уж не помню. А дочка его единственная не поехала. Сначала с анархистами связалась, потом с деникинцами, побывала у атамана Семенова, а когда их разбили, почему-то осталась в Сибири. Нашла себе муженька из бандитов, кто с Семеновым якшался, а тот уже без лозунгов, без всяких монархических идей грабил всех подряд — и своих, и чужих, лишь бы золото да камешки блестящие были. Вот так, дорогой мой товарищ уполномоченный. А в двадцать шестом году, после госпиталя, сменил я оперативную работу вот на это ремесло.
Шульгин взял за голенища будущие Сашкины сапоги, внимательно осмотрел со всех сторон, пощупал мягкую, черную, отливающую темной синевой кожу и выбрал под верстаком пару колодок. Повертел их в руках и так и эдак, зачем-то пальцем провел по невидимой линии утиного носа и стал прилаживать заготовку.
— Со мной почему так получилось? Молодой был и сильно храбрый. В общем, дурак! Лез куда ни попадя… Теперь вот сколько лет прошло, а все думаю про тот бой. Нужно мне было заимку с тыла обойти. Тогда и ноги б уцелели, и Картинского б не зацепило. Бандитам путь бы отрезал, а значит, и другие ребята спаслись бы. А я полез в лоб. Ты вот представь: понадобились бы тебе сапоги, если бы у рябого пушка при себе была? Думаешь, геройство на бандитскую пулю напороться? Нет, милый мой дружок, в розыске все перестрелки да погони от неумения или самоуверенности. Пошли на авось, рассчитывая на собственную храбрость, а на авось и грибов не соберешь. По-твоему, откуда у Миши Фомина поговорка такая взялась: «Думать надо, думать»? В первые-то годы уж больно он горяч был. В каждую нору лез очертя голову и глупостей мог натворить со своим ухарством. Нашлись, слава богу, люди, посоветовали повторять про себя: «Думать, Фомин, надо, думать». И представь себе, помогло. Теперь это «думать» у нас уже за поговорку пошло.
Шульгин говорил не спеша, хитровато поглядывая на Сашу, а руки его, словно сами по себе, ловко справлялись с работой. На глазах у Саши его правый сапог обретал законченную форму.
Еще и еще приходил Дорохов к дяде Косте, и наконец заветные сапоги были готовы. Не помня себя от радости, с обновой в руках, Саша, прощаясь с Шульгиным, попросил разрешения зайти к нему в ближайший выходной.
— А вы что, теперь всем уголовным розыском по шестидневкам отдыхаете? — неожиданно спросил Шульгин.
— Кто не дежурит, отдыхает.
— Ты «Степана Разина» Чапыгина читал? Нет? Тогда возьми вон там на третьей полке, по-моему, четвертый том справа.
Дорохов положил сапоги на верстак, отыскал книгу.
Шульгин сказал:
— Книгу возьми! Прочти. Хорошо написана. Потом еще что-нибудь дам. Есть у меня стоящие книги. Когда будешь свободен, приходи.
Давно были сшиты сапоги с белым рантом, а Сашка, едва выдавалось свободное время, бежал в Рабочий поселок, в знакомый теперь дом. Усаживался рядом с верстаком, наблюдал за сноровистой работой, слушал дяди Костины разговоры.
— Сшить сапоги дело не хитрое, — рассуждал вслух Шульгин. — А вот сшить так, чтобы человеку радость от них была, тут, брат, много чего требуется. Думаешь, я сразу так шить стал? Когда меня жизнь только повернула к сапожному делу, не сапоги выходили, а дрянь какая-то — чеботы, аж смотреть противно. Пока во всех тонкостях не разобрался и руку не набил, много товара попортил. Наверное, в каждом деле так. И у вас в розыске мало быть самостоятельным, нужно еще и суметь удержаться на этой работе. У меня как получилось? Стал я уже сам раскрывать, и не мелочь какую-то, а серьезные дела. Старшим группы поставили. Выходит, опыта набрался. А на поверку из моего умения один пшик получился. В уголовном розыске нельзя ошибаться. Вот, скажем, возомнил ты, что тебе все можно, все дозволено, — весь твой опыт насмарку. В лучшем случае выгонят тебя, а чего доброго, и под суд отдадут. А пятно на всю службу ложится. И вот еще, слушай да на ус мотай: отвечают-то у вас за крупные оплошности, а мелкие безобразия не сразу заметны. Скажем, поговорил ты грубо со свидетелем, обругал задержанного и постепенно привык к такому тону. До начальства, может, и не скоро дойдет, а люди худое слово надолго запомнят. В уголовном розыске, если за собой не следить, зачерстветь в два счета можно. Дела-то у вас какие? На крови часто замешены. А с кем работать приходится? Воры, жулики да бандиты. И все равно, раз работаешь в уголовном розыске, в первую очередь должен человеком быть. Хамство, грубость даже в сапожном деле ни к чему. И осмотрительность нужна. Надумал что-то сделать, прикинь, как это со стороны смотреться будет, как посторонние твои действия оценят. Вы ведь все на виду. Обратил внимание, сколько людей к Мише Фомину за советом идет? Фомин в обращении с людьми никаких оплошностей не допускает, и ему верят: пообещал — обязательно поможет…
Каждый разговор с Шульгиным западал Саше в душу, оставался в памяти, помогал взрослеть.
УЧЕНИЕ НА ДОМУ
Между тем в семье Дороховых назревали совсем не предвиденные события. Как-то днем, направляясь домой обедать, Саша встретил по дороге отца. Тот обрадовался:
— Кстати! Хочу поговорить с тобой, сынок, с глазу на глаз, чтобы мать не тревожить.
Они прошли в сквер, сели на скамейку. Дорохов-старший закурил.
— Ты газеты-то читаешь? Знаешь, что в мире делается?
— Да, кое-что… И не только из газет. Недавно в управлении лекцию о международном положении слушали… Гитлер решил под себя Европу подмять, и про затею японцев на Дальнем Востоке. Думаешь, воевать будем?
— К тому идет, сынок. Неспокойно в мире. Видимо, и наше правительство решило Красную Армию в боевую готовность приводить. Началась большая пертурбация в войсках. — Дмитрий Дорохов загасил папиросу, бросил окурок в урну, похлопал по плечу сына. — Назначили меня командиром батальона в учебный полк, придется переезжать.
— Как переезжать? Куда?
— Ты пока матери не говори. Съезжу, устроюсь и заберу ее. Беспокоюсь, как ты тут жить будешь? Эту нашу квартиру придется сдать. На мое место другой приедет.
Саша изменился в лице, погрустнел, но сдержался.
— Ладно, батя, обо мне не горюй… Как-нибудь… Я же при деле. Поговорю с начальством, посоветуюсь с ребятами, найдем что-нибудь.
— Может, тебе перевод попросить? Да вместе с нами?
— Что ты, отец! А если тебя из учебного полка да еще куда, и мне так и ездить за тобой хвостом?
— Ну смотри, человек ты теперь взрослый, когда-никогда все равно нужно начинать жить самостоятельно. Мать-то не тревожь пока. Иди домой, а мне тут еще кое-куда заглянуть надо.
Вскоре отец уехал, и Саше пришлось рассказать Фомину о том, какие затруднения с жильем его ожидают. Михаил Николаевич привычно пригладил волосы, что он делал всякий раз, когда что-то обдумывал, пообещал:
— Есть тут один вариант, я с Иваном Ивановичем посоветуюсь.
На следующий день утром Фомин позвал Сашу пройтись с ним.
— Понимаешь, есть одна комнатушка, но не очень приятная. В общем, посмотрим, а потом решим.
Они прошли базар, свернули в переулок без названия и подошли к низкому, длинному дому. Вошли в покосившиеся, незакрывающиеся ворота и с внутренней стороны дома увидели несколько ветхих крылец, ведущих в отдельные квартиры. На одной двери висел большой заржавленный замок, а на нем кусок фанеры с красной сургучной печатью. Фомин сломал печать, открыл ключом замок и ввел Сашу. Маленькая передняя, видно, служила и кухней и прихожей, за ней дверь вела в пустую небольшую комнату, оклеенную обшарпанными обоями. Одно-единственное окно выходило на улицу.
Михаил Николаевич открыл форточку, распахнул входную дверь, вытянул задвижку из трубы небольшой печки, и тяжелый сырой воздух быстро протянуло сквозняком.
— Если сделать ремонт, то жить можно. Думаю, дадут тебе ордер на эту клеть.
Саша походил по комнате, вернулся в прихожую, а Фомин словно отгадал его мысли.
— С ремонтом я тебе помогу. Тут плотнику да маляру на пару дней работы.
— Согласен, — вздохнул Саша, — кое-какие вещички мне мать оставит.
— Согласен-то ты согласен, но, прежде чем ордер просить, я тебе кое-что скажу. Жила в этой комнате одна старуха. Ну, не старуха, а пожилая женщина. Знакомых у нее было ужас сколько — от Красноярска до Хабаровска, и все везли ей гостинцы. А она эти гостинцы на базар таскала, благо тут рядом. В прошлом году, незадолго до твоего прихода, мы ее вместе с одной группой за очень большие подарки упрятали в тюрьму. Суд вещи ее конфисковал, а немного погодя, уже в лагере, она преставилась.
— Как это преставилась? — удивился Саша.
— Так. Отдала богу душу. Поэтому, прежде чем решить, будешь ли ты тут жить, я должен тебя предупредить, что квартира эта долгое время была воровским притоном и краденое сюда валом везли.
— Ремонт сделаем, побелим, покрасим. Стены-то не виноваты, — ответил Саша.
Когда квартиру привели в пристойный вид, мать Саши сшила на окно занавеску, над кроватью повесила простенький коврик, разостлала
половики и, уезжая к отцу, все наказывала:
— Ты уже взрослый, сынок, чистоту поддерживай. По мелочишке что сам постирай, что большое — к китайцам в прачечную снеси. Грязь да беспорядок не разводи, она с полу в душу въедается. Жениться без моего позволения и не вздумай.
— Не до женитьбы мне, мама. Кроме спортзала да управления, нигде и не бываю. Ни на рыбалку, ни на охоту не могу выбраться. Какая уж тут женитьба! Выспаться некогда, а тут еще в комитете комсомола отругали, что общественной работой не занимаюсь, и прикрепили к группе бригадмила медицинского института.
— Куда прикрепили? — не поняла мать.
— В институтском общежитии на Четвертой Советской организовали из студентов бригаду содействия милиции. Ну, меня послали помочь им наладить работу. Придется теперь в перерыв к этим студентам бегать. Они хотят в своем районе порядок навести, чтобы хулиганства там или драк не было.
— Что же они, твои начальники, смотрят? Когда же отдыхать-то будешь?
— Ну, не каждый же день я туда ходить буду. А комсомольцы, что в бригадмил пошли, тоже ведь свое свободное время на общественное дело тратят.
— Что ж, в этом бригадмиле и девушки есть?
— Есть, мама, медички, будущие врачи.
— Ну вот и оженит тебя какая-нибудь.
— Ну, это мы еще посмотрим…
Мать уехала к отцу, и Саша поселился в своей собственной квартире. Первое ощущение от самостоятельности было каким-то неясным, странным. В маленькой квартире все было его собственным. Хочет — поставит стул в один угол, хочет — в другой. Вздумает топить печь — и затопит. Может лежать в постели поверх одеяла, не раздеваясь. Может совсем не спать и читать хоть до утра. Самостоятельность неожиданно приносила радость, но иногда чуть-чуть щемило сердце: нет рядом отца, исчезла ворчливая заботливость матери, остался он, Сашка, совсем один…
Но предаваться одиночеству в своей новой квартире ему не пришлось. Вскоре после того как он сюда перебрался, под утро его разбудил стук в окошко. Он подумал, что вызывают на работу. Подошел к окну, попытался рассмотреть, кто там, но в серой мгле был виден только размытый силуэт человека. Саша натянул брюки и пошел открывать. Едва отодвинул засов, как увидел незнакомого мужчину с двумя чемоданами в руках. Ни слова не говоря, мужчина внес с прихожую чемоданы, оглядел Сашу, велел эти чемоданы прибрать и, буркнув, что на извозчике у него еще кое-что осталось, вышел. Саша метнулся в комнату, выхватил из кармана пальто пистолет, собрался идти встречать гостя, но тот появился сам с большим тюком, запакованным в рогожный мешок. Бросив его, ругнулся на Сашку, что не прибрал чемоданы, занес их в квартиру, закрыл на засов входную дверь и шепотом спросил:

— Где сама-то?
— А сегодня не ночевала, — нашелся Саша.
Он успел натянуть сапоги, правда без портянок, и набросил пиджак. Зажег электричество. Мужичонка был не из крупных. Оглядывая новую обстановку, он, видно, сообразил, что в притоне произошли какие-то изменения. Саша тоже понял, что медлить нельзя, наставил оружие:
— Подними-ка, гостюшка, руки да стань лицом к стене. — Сам прижал пистолет к бедру, чтобы этот неизвестный случайно у него не выбил оружие, а левой рукой обыскал карманы, вытащил тощий бумажник, отобрал небольшой складной нож.
Оружия у незнакомца не оказалось. Не одеваясь, Дорохов вытащил гостя во двор и подумал, как быть с дверью. Пока начнет возиться с замком, этот тип сбежит. Решил оставить квартиру открытой.
— Идем, тут недалеко. Побежишь — застрелю.
До управления они шли молча. Дежурный с полуслова понял Сашу.
— Пойдем вместе, надо посмотреть, что он тебе привез, и акт составить. Оглядев комнату, Саша убедился, что к нему никто не заходил. По распоряжению дежурного пригласил в понятые соседку. Вещей оказалось много. Все новые, видно, только что из магазина. На большей части сохранились этикетки. Понятая даже перекрестилась.
— Ну, слава богу, в нашем дворе свой милиционер завелся. Теперь хоть вздохнем спокойно. Та ведьма, чуть что не так, грозилась. Весь двор в страхе держала. Пускай ей в аду черти лишнего ковшика смолы не пожалеют.
Задержанный вел себя на удивление тихо. Он словно смирился со своей участью и только дважды попросил воды. Вскоре выяснилось, что прибыл он издалека, из города Петровск-Забайкальска Читинской области, где обчистил магазин.
Как говорится, лиха беда начало. Дней через десять Саша, придя домой поздно ночью, под навесом крыльца споткнулся о большой узел с охапкой сложенной одежды. Он вернулся в управление, застал Андрея Нефедова, еще не успевшего уйти домой, и пригласил его к себе. Под утро они вдвоем задержали приезжих квартирных воров, которые явились к «хозяйке» за расчетом.
Сослуживцы смеялись, что теперь учеба по розыскной работе у Саши Дорохова идет без отрыва от дома.
Жизнь шла своим чередом.
В те дни необычное торжество охватило город. Праздновали победу при Халхин-Голе.
На заводах вспыхивали митинги, по улицам шагали демонстранты.
Радовались все бурно, весело. Пионеры в красных галстуках салютовали встречным военным, не стесняясь, просили показать новенькие ордена. Никто не знал, что это всего лишь малая война и совсем не за горами та, огромная, что своей тяжестью вот-вот обрушится на плечи всего народа…
Дорохов особенно радовался за отца, успевшего побывать со своим батальоном на Халхин-Голе. Он написал, что жив, здоров и все обстоит благополучно. В газетах, по радио рассказывалось о том, как доблестная Красная Армия вместе с монгольскими войсками разгромила шестую Квантунскую армию японских самураев.
Вместе с другими работниками уголовного розыска Саша выходил на вокзал встречать героев Халхин-Гола.
На привокзальной площади собралась масса народа. И когда пришел поезд и из мягкого вагона вышли командиры, люди их подхватили на руки и бережно понесли. Что говорили на митинге, Саша не слышал, так как стоял далеко, но зато сам, своими глазами видел щуплого парня, ничуть не старше его, Сашки, у которого на гимнастерке блестела настоящая Звезда Героя Советского Союза. Живой герой — и Саша видел его собственными глазами!
Но радостное состояние омрачила беда. Тяжело ранили Степу Колесова. Трое оставшихся практикантов — Нефедов, Боровик и Дорохов — собрались в кабинете у Фомина, и Нефедов — при нем все это произошло — стал рассказывать:
— Послал Картинский меня со Степой сегодня утром одного цыгана притащить в управление — Кольку Волбенко. Ему недавно восемнадцать исполнилось. Он у нас в уголовном розыске до этого раза три был. По делу рябого — того самого, помните? Так вот, этот Волбенко, от кого, мы так и не знаем, получал паспорта на лошадей и перепродавал их в шайку рябого. Но не самому, а кому-то из участников. С этими паспортами они и сбывали лошадей — в Черемхово, на Байкале. Волбенко мы могли бы взять, но Картинский захотел добраться до того, кто эти паспорта достает, вот и решил Волбенко не арестовывать.
Ну а сегодня утром Картинский говорит: «Идите разыщите Николая Волбенко. Поговорю с ним в последний раз. Может, все-таки одумается». Подошли мы к дому, Степан и говорит мне: «Я этого Волбенко прошлый раз упустил. Постучался в дверь, а он в окно — и только пятками засверкал. Теперь ты стучи в дверь, а я сзади, за дом зайду». Постучал. Мать Колькина стала расспрашивать, кто, да что, да зачем. А я вижу, Колька этот в окошко на меня глянул. Ну, думаю, дома, значит, не зря грязь месили. А дождь так и льет. Слышу, загремели крючки, засовы дверные. Только зашел в сенцы, а на улице выстрел, другой. Бросился я во двор, смотрю, Степа и Колька по грязи катаются. Волбенко хочет вырваться, а Степа обхватил его обеими руками, лежит под ним и не пускает. Скрутил я цыгана ремнем, а Степан подняться не может, просит: «Посмотри, что у меня с животом». Расстегнул я пальто, пиджак, а у него вся рубашка в крови. Схватил его — и в дом. Пуля ему в левый бок попала. Перетянул полотенцем. Соседа послал «скорую» вызвать. Врач говорит, плохо: крови много потерял. Но Степа даже не стонал. В больницу его отвезли. Мы с Картинским туда ездили. Сказали, что полостная операция и еще не закончили.
В первый раз ребята видели Нефедова таким растерянным.
— Цыган-то ушел? — не вытерпел Саша.
— Нет. Я же его хорошо связал… Позже под окном нашли мы ржавый смит-вессон, в нем один патрон остался. Колька говорит, выстрелил со страху, боялся, что арестуют.
— Где он, этот Волбенко? Пойду на него взгляну, — решил Боровик.
— Не пустят, — вздохнул Андрей. — Его сам Чертов вместе с прокурором допрашивают.
Только через неделю им разрешили навестить Колесова. В палате было еще два послеоперационных больных, и ребята сразу Степана не узнали. Он лежал на спине и при их появлении с трудом повернулся на правый бок. Изменился он страшно: нос заострился, глаза провалились, серая с желтизной кожа обтянула лоб и скулы. Увидев печальные лица практикантов, Степан виновато улыбнулся.
— Кажется, выкарабкаюсь. Вот только двух ребер будет недоставать. Видно, опять в учителя придется податься…
Медицинская сестра отобрала у ребят гостинцы и выпроводила из палаты. В больничном сквере они уселись на скамейку.
— Жаль Степу, — вздохнул Андрей. — Хирург говорит, если бы на три пальца выше попало, никто бы его не спас. Там знаете какая пуля была? Как на медведя — прямо жакан! И тоже свинцовая. Хорошо, хоть живой остался.
— Ребята, а что это Степан про учителей вспомнил? — спросил Боровик.
— А то, что теперь ему в розыске делать нечего. Слышал, как Иван Иванович говорил, что Степка на всю жизнь инвалид. Спишут его на пенсию. — Саша вздохнул.
— Андрей, а что, у Степана оружия не было? Почему не стрелял?
— Поправится, спросим. Я думаю, пожалел он этого дурака. Первый раз Волбенко куда-то вверх выстрелил. Степан кинулся к нему, выбил револьвер, а эта старая американская пушка, падая, второй раз сама по себе пальнула. Видно, зацепилась за что-то, а может, ударилась.
Саша, нагнувшись, чертил прутиком на земле узоры. Сквозь зубы, не поднимая головы, он процедил:
— Шульгин говорил, что в розыске мало научиться работать, нужно еще и суметь выжить да при этом остаться человеком. Степе-то куда проще было шлепнуть Волбенко, а он на револьвер кинулся. Спастись не сумел, но человеком остался.
— Болтовня все это. Слова пустые, — разозлился Боровик. — Степка остался калекой, таким же, как твой Шульгин. Стрелять в них, сволочей, надо первым.
Нефедов посмотрел на приятеля, вздохнул:
— Дурак ты, Анатолий! Понял?
В управлении Фомин расспросил Сашу о здоровье Колесова и пообещал:
— Зайду, проведаю парня. Пока здоровый, каждому нужен, а вот случится такое, за работой да беготней разной недосуг зайти к товарищу. Так что ты, Саша, не забывай, заглядывай в больницу. Там Степану теперь долго жить придется. А лежать одному тошно, я-то знаю.
Через несколько дней, когда Саша был в кабинете один, раздался телефонный звонок. Какой-то мужчина басом с хрипотцой попросил Фомина. Дорохов ответил, что Михаил Николаевич в управлении, но куда-то вышел.
— Слушай, друг! Передай Фомину, чтобы не уходил. Пусть ждет… Хочу его видеть, скоро приду. Скажи, что звонил Олег.
Едва появился дядя Миша, как Сашка слово в слово передал просьбу Олега.
— Какой Олег? — удивился Фомин.
— Фамилию не назвал, сказал, что придет. Голос у него какой-то простуженный.
— Значит, вернулся наш геолог, — решил Фомин. — Вот что, Саша, ты тоже будь на месте. Познакомлю с интересным человеком.
Днем появился Олег. Высокий, худой и не просто загорелый, а продубленный на ветре, солнце и стуже. Долго обнимал Фомина, приветливо поздоровался с Сашей. Оба приятеля засыпали друг друга вопросами. Михаил Николаевич Саше объяснил:
— Олег работал у нас в розыске. Не знаю почему и за какие заслуги, горком партии направил его на учебу в геологический. Окончил и вот теперь шляется по тайге в обнимку с медведями, золото ищет.
— Что золото! — вздохнул Олег. — Молибден сейчас куда нужнее. Молибден — это крепкая сталь, и не какая-нибудь, а броневая. Его-то мы и ищем. Вот послушайте, мужики, что сейчас в тайге делается. Несколько партий ведут разведку для будущей трассы. От Байкала к Амуру пройдет новая железная дорога. Вторая, и по самым заповедным местам, на четыреста — пятьсот километров севернее нашей магистрали. Вы не представляете, сколько там, в земле, всякого добра. А как изменятся те края? Возникнут новые рудники, построят заводы, вырастут города, расцветет самая глухая тайга. А ты, Михаил, говоришь, золото. Да там его знаешь сколько? — Олег достал из полевой сумки сложенную вчетверо кальку и показал обоим жирный, черный пунктир, протянувшийся от Байкала к Амуру через реки, болота и горные перевалы. Саша прочел название, четко выписанное вверху кальки: «БАМтранспроект».
— Вот в зоне будущей Байкало-Амурской железной дороги мы, геологи, все и рыскаем. Чего, брат, там только нет: железо, уголь, нефть, розовый мрамор!.. А вам бы только золото!
— Когда же это будет?
— Думаю, Миша, через несколько лет закипит работа. Проведут изыскания по всей трассе, утвердят и начнут строить.
ЗАЧИСЛИТЬ НА ДОЛЖНОСТЬ
В это утро Фомин неожиданно отправил Сашу домой переодеваться.
— Извини, брат, вчера не успел предупредить, да, честно говоря, сам точно не знал. Надень белую рубашку, галстук, костюм, да не вздумай свои модные утиные сапоги натягивать. Нужно выглядеть достойно. Иди и быстро назад.
Как только Саша вернулся, Фомин объявил, что его вызывает начальник управления милиции области.
В просторной приемной Дорохов увидел Боровика, и не в своей обычной гимнастерке, а в новом строгом костюме. Тут же, как обычно, в сторонке сидел тоже принаряженный Андрей Нефедов.
Из кабинета начальника управления выглянул Чертов.
— Собрались? Тогда заходите.
Дорохов был у высокого начальства впервые, и кабинет ему понравился. Огромный, светлый, вдоль стен стулья в белых чехлах, на полу ковер. Прямо против двери массивный письменный стол, а над ним на высокой белой стене портрет Дзержинского.
В одном из кресел сидел секретарь Иркутского горкома комсомола, рядом расположился Чертов. Дорохову и прежде приходилось видеть начальника управления, но издали и мельком. Саша знал, что начальник — герой гражданской войны, что во всей области только он один носит четыре ромба. Саше бросилось в глаза, что лицо у начальника все в морщинах и полнота у него какая-то нездоровая. Для чего же их всех собрали? Для отчета, что ли? А может быть, узнать, как они, комсомольцы, справляются с работой?
— Начнем? — Чертов взял со стола бумагу и стал читать: — «Приказ по управлению милиции УНКВД Иркутской области. По личному составу. Первое: практикантов Боровика Анатолия Егоровича, Дорохова Александра Дмитриевича и Нефедова Андрея Васильевича за проявленное усердие при обучении уголовно-розыскному делу, добросовестность, инициативу и смелость зачислить на должность уполномоченных уголовного розыска. Второе: уполномоченного уголовного розыска А. Д. Дорохова за задержание во внеслужебное время четырех опасных преступников при попытке сбыть награбленное с похищенными вещами и ценностями на крупную сумму наградить карманными металлическими часами с надписью: «А. Д. Дорохову за успешную борьбу с преступностью».
Начальник управления вышел на середину кабинета с красной квадратной коробочкой в руках.
Робея, Саша подошел, не зная, что ему говорить и что делать.
Начальник управления передал ему коробку, поздравил.
Дорохов промямлил что-то невнятное в ответ и вернулся на свое место. Не вытерпев, открыл коробку: поблескивая золотистым циферблатом, в ней лежали большие плоские часы Кировского завода. Первые часы в его жизни.
Уполномоченным Анатолию Егоровичу Боровику, Андрею Васильевичу Нефедову тоже объявили благодарность и наградили их ценными подарками…
В конце октября тысяча девятьсот тридцать девятого года Дорохова вызвал начальник отдела кадров. Он справился о здоровье, поинтересовался, как служит отец, и внезапно объявил:
— Решили мы тебя, Александр Дмитриевич, отправить в Читинскую область.
— Как это отправить? — не понял Саша.
— Так. Перевести туда на работу.
— Это почему же? Чем я провинился?
— Ничем ты не провинился, Дорохов, и никто тебя ни в чем не упрекает. Из Главного управления милиции, из Москвы, пришел приказ направить в Читинский уголовный розыск трех опытных работников. О-пыт-ных, — по слогам повторил начальник кадров. — Одного мы берем из аппарата, а двоих из районов. Посоветовались и решили на самостоятельную работу послать тебя. Боровика и Нефедова пока рановато, а ты, по мнению Чертова, справишься.
Саша, расстроенный, обиженный, пришел к Фомину.
— За что, дядя Миша? Я же работал добросовестно, честно, а меня в Читу.
— Не кипятись, Саша. В уголовном розыске тебе придется работать долго, а может, всю жизнь. И переводить тебя с места на место будут не раз и посылать туда, где труднее. Мне, ты думаешь, легко? Привык я к тебе. Но дело наше такое. А с самостоятельной работой, верю, справишься. Только думать, Саша, надо, главное — думать.
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
В поезде Саша долго стоял в тамбуре. Давно уплыл перрон. Растаяли лица провожающих, распрощался Саша с хорошими людьми… «А что ждет меня там, в Чите? — думал он. — Какие будут товарищи, как встретят? Наверное, ждут опытного, вроде Фомина или Картинского, а тут на тебе, мальчишка, вчерашний практикант…» Незаметно он вынул из кармана и еще раз осмотрел новенький наган, что вручил ему перед отъездом Фомин. Сам по себе револьвер отличный, а тут еще на рукоятке пластинка серебряная с надписью:
«От друзей из Иркутского уголовного розыска А. Д. Дорохову».
Совсем как на отцовском маузере. Дядя Костя Шульгин, к которому Саша забежал проститься, подарил ему учебник криминалистики профессора Якимова.
Саша прошел в свое купе, достал из чемодана новенькую, в отличном кожаном переплете книгу и еще раз прочел дарственную надпись:
«Саше Дорохову! Желаю тебе увидеть, когда криминалистика со всеми ее техническими возможностями станет основным средством борьбы с преступностью. Я, к сожалению, смогу об этом только услышать. Желаю тебе успеха и здоровья. К. Шульгин».
«Фантазер этот дядя Костя, — подумал Саша, — говорил, что с помощью криминалистики будут не только раскрывать, но и предупреждать преступления. Настоящий фантазер».
Пришли на ум слова Фомина: «Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай людей сам».
Да, много чему научил его дядя Миша. Вчера Фомин долго просидел у Саши, ушел уже поздно. Саша было заикнулся ему о своей благодарности. А тот серьезно ответил, что пусть он воспитает трех хороших работников уголовного розыска и выведет их на самостоятельную дорогу. А большей благодарности ему и не надо.
Перед самым отъездом Саша сходил на кладбище, посидел у могилы Жени Чекулаева. Жаль, что со Степаном Колесовым не удалось попрощаться. Заходил в общежитие, сказали — уехал на Байкал.
«УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ»
…Управление милиции Читинской области находилось неподалеку от вокзала. Саша оставил свои пожитки в камере хранения, зашел в парикмахерскую, постригся, побрился, почистил сапоги у привокзального чистильщика.
Прежде всего он решил зайти в уголовный розыск и передать письмо от Попова заместителю начальника Анатолию Никодимовичу Торскому. Попов, вручая ему это письмо, говорил:
— Знаю я Толю Торского, вместе с ним не один десяток всяких прохвостов поймали. Настоящий сыщик, умница, смелый, выдержанный.
Пока Торский читал письмо, Саша успел его рассмотреть. Худощавый, высокий, коротко стриженные черные волосы аккуратно разделены на пробор. Смуглое, гладкое лицо, умные, выразительные глаза.
— Ну как там Иркутск? — потирая руки, обнажая в широкой улыбке белоснежные, точно полированные зубы, поинтересовался Торский. — А Фомин еще жуликов ловить не разучился?
Саша рассказал последние новости.
— Ну, теперь пошли. Я тебя в кадры провожу, и заодно решим, куда тебя определить. Есть тут у нас должность у Николая Савельевича Арзубова в отделении по борьбе с кражами. Он чем-то на твоего Фомина похож.
Через полчаса Сашина судьба решилась. Его зачислили уполномоченным в отделение, которым командовал Арзубов. Николай Савельевич, по-волжски окая, стал с пристрастием выяснять, что знает, что может Саша, работал ли самостоятельно. Оказывается, о Фомине был наслышан не только от сослуживцев, но и от преступников, которые хвастались тем, что «в Иркутске их ловил сам Фомин». Саша узнал, что Арзубов в Чите недавно, его перевели сюда так же, как и Дорохова, только из Центральной России. После затянувшейся беседы Арзубов вручил Дорохову тоненькую папку с делом о краже вещей и объяснил:
— Три дня назад у одинокой женщины из квартиры похищен патефон с пластинками и сумка, в которой было семьдесят рублей и, главное, партийный билет и паспорт. Самое интересное, что она не знает, когда совершена кража: может быть, в день обнаружения, а может, и раньше. Но это не все. Женщина утверждает, что замки — а их на ее двери два — исправные и не были открытыми. То есть всякий раз, возвращаясь домой, дверь открывала сама. Сходи к ней и на месте разберись. Согласен? Ну и отлично! Слушай, Дорохов, а где ты остановился? Нигде? Это плохо. Могу предложить два варианта. Первый: я тут получил комнатушку, мы там втроем — жена, дочка и я. Могу уступить диван. Ну, не совсем диван, а кушетку. Правда, ее я сам сколотил. Вижу, что не согласен. Тогда второй вариант. Видишь диван, не самодельный, а настоящий. — Арзубов указал в угол просторной комнаты, где стоял большой, обтянутый черной клеенкой диван с высокой спинкой. — Я на этом диване три месяца спал. А чем ты хуже меня? Потом подберем тебе жилье. Сейчас, правда, в Чите это сложный вопрос. Но не грусти, найдем. Разыщешь коменданта нашего управления, он тебя снабдит простынями, подушкой, одеялом. Вещей-то у тебя много?
— Чемодан и небольшой тюк.
— Не богато. Вот там, за диваном, все и разместишь. Договорились? Ну и отлично.
В тот же день Дорохов пришел к потерпевшей. Кража и верно была какой-то странной. Миловидная женщина средних лет охотно показала ему свою небольшую квартиру, объяснив, что живет одна, работает в гороно инспектором. Дома у нее, кроме трех-четырех подруг, почти никто не бывает. Иногда заходит знакомый директор школы, и все. Замки она всегда закрывает аккуратно. На зиму вставила вторые рамы. Как видно, их не вынимали, тем более квартира на третьем этаже, с улицы не заберешься. Саша долго рассматривал замки. Попросив отвертку, аккуратно снял их, но и при тщательном осмотре никаких повреждений не обнаружил. Осматривая квартиру, обратил внимание на то, что на кухне электрическая проводка, подведенная к столу, отличается от остальной. В комнате, в коридоре оплетка проводов пожелтела, а кое-где покрылась пылью. В кухне же чуть выше выключателя подсоединенный шнур был свежим, а розетка явно отличалась от той, что была в комнате.
«Почему она не говорит об электромонтере? — подумал Саша. — Вряд ли прошла неделя после того, как он тут поработал. Не хочет или считает его вне подозрений? Как же сделать, чтобы она рассказала о нем сама, без наводящих вопросов?»
В коридоре Саша заметил счетчик и как бы невзначай поинтересовался, давно ли снимали его показания. Когда выписывали счет на оплату электричества?
— Монтер у нас бывает в двадцатых числах. Был в прошлом месяце.
«Осечка», — подумал Саша и стал выяснять приметы патефона.
— Патефон японский, большой, квадратный, покупала его на барахолке за триста пятьдесят рублей. Действительно, звук у него отличный, но он очень тяжелый, килограммов двенадцать. В крышке у него специальный карман, в него умещается восемь пластинок, но украли только три, мои самые любимые: фокстрот «Рио-Рита», «Брызги шампанского» и «Утомленное солнце». Эту пластинку совсем недавно на рынке купила за дорогую цену. Я люблю музыку. Особенно танцевальную.
— Скажите, а где вы ремонтировали патефон?
— Почему вы решили, что я его ремонтировала? Его регулировал мой племянник, в ремонт патефон не сдавался.
— Мне подумалось, если сдавали в ремонт, то в мастерской, может быть, известны его номер и фирма. Тогда нам легче было бы его искать.
— Номер я не знаю, а вот фирму, наверное, подскажет Коля, племянник. Он тоже любит музыку и разбирается в патефонах. Он сам себе собрал очень хороший.
— А как найти Колю?
— Зачем искать? Я сама спрошу у него и вам позвоню. А вообще-то он работает на городской телефонной станции. Зайцев его фамилия. Коля ко мне часто заходит.
Дорохов поговорил еще несколько минут и, сказав, что постарается найти вора и похищенное, собрался уходить.
— Ничего мне не нужно — ни патефона, ни пластинок, ни денег, — нервно сказала хозяйка, — найдите, ради бога, партийный билет и паспорт.
Проснувшись задолго до прихода Арзубова, Саша быстро убрал постель в объемистое чрево дивана. Умылся во дворе из-под крана. В пельменной по соседству позавтракал и отправился на телефонную станцию. Отыскал Николая Зайцева и, отозвав его в коридор, сказал, что нужно поговорить. Племянник оказался молодым парнем, худым, длинным, нескладным. Когда Саша сообщил, что он из уголовного розыска, Зайцев побледнел, потом его бросило в жар, и так, что на верхней губе высыпали капельки пота. Парень лихорадочно облизнул губы, огляделся по сторонам и сказал Дорохову, что ему сейчас некогда, срочно вызывает старший техник, и что он для разговора придет, куда ему скажут. Это явно нарочитая срочность Саше не понравилась. Он отвел парня в конец коридора и резко и требовательно спросил:
— Где патефон?
— Не брал я ее патефон, — сразу же огрызнулся парень.
— Ах, не брал… Тогда иди одевайся, я объявлю твоему начальству, что беру тебя с собой, и дома у тебя произведу обыск. Не найду патефон, зато отыщется что-нибудь еще, вроде «Утомленного солнца».
Зайцев несколько раз судорожно глотнул, словно ему не хватило воздуха, и невпопад спросил:
— А что со мной будет?
— Не отдашь добровольно, арестуем, будем вести следствие, потом суд решит, что с тобой делать.
— Верну, верну я ей патефон с пластинками.
— А семьдесят рублей, партийный билет, паспорт?
— Не брал я ее сумку. Вынул три рубля, а больше ничего не трогал.
— Тогда где же эта сумка?
— Дома у нее, под шифоньером.
— Как она туда попала?
— Я засунул со страху.
— Рассказывай по порядку.
— Тетя Аня меня попросила сделать ей розетку на кухне, чтобы электроплитку включать. Ну, пришел, стал отвод протягивать. Она мне говорит, что в магазин сходит, пока я тут вожусь. В тот день у моего дружка были именины, и я подумал попросить у тетки патефон: мой-то переносить нельзя — рассыплется. Но потом сообразил, что она ни за что не даст. Тогда быстро взял три пластинки, положил их под крышку и патефон вынес на верхнюю лестничную площадку, где ход на чердак. Думаю, завтра ей принесу, скажу, что брал отрегулировать. Вернулся в квартиру, а денег-то на подарок нет… Вот и решил трешку стащить. Полез в сумку, взял три рубля, а тут она дверь открывает. Я со страху сумку под шифоньер, а сам на кухню. Ну а совесть мучает… На другой день зашел в гороно, хотел ей обо всем рассказать, а там тетки нет. Спрашиваю: «Где?» Говорят, в уголовном розыске, обворовали ее, деньги забрали и документы, а еще вещи. Вот я с тех пор все жду, что вы придете.
— Почему же тетке не сказал, что у тебя патефон?
— Да как же я скажу, если она уже вам заявила?
— Ладно. Где патефон?
— Дома, и пластинки тоже.
— Пойдем домой, покажешь.
— Вы меня арестуете? — Теперь Зайцева колотила настоящая лихорадка, и Дорохов подумал, что племянника стоит немного приободрить.
— Если не врешь, то арестовывать не будем.
— Я вам правду сказал.
— Ты где живешь?
— Недалеко тут, на Первомайской.
— Тогда отпросись на полчаса. Можешь не говорить своему начальству о моем приходе.
Саша слушал японский патефон и удивлялся чистоте звука. «Брызги шампанского» оказались довольно заезженной старой пластинкой, а вот «Утомленное солнце» звучало чисто. Дорохов завел ее дважды.
«Хорошая пластинка, за такую денег не жалко», — подумал он.
— Ну вот что, Николай Зайцев, пиши подписку.
— Какую? — испугался парень.
— Бери бумагу, ручку, а я продиктую: «Я, Николай Зайцев, даю настоящую подписку уголовному розыску в том, что сего числа верну своей родственнице Анне Карповне Сотниковой патефон и три пластинки». Написал? Подпишись, поставь число. Какие у тебя замечания, взыскания по работе?
— Никаких нет. Благодарности есть, к праздникам премию дали.
— Не врешь?
— Так вы же можете проверить.
— Конечно, проверю. Ну смотри, если вечером не отнесешь тетке патефон, пожалеешь.
— Отнесу, обязательно отнесу. Честное слово.
Саша пришел в управление, но Арзубова на месте не оказалось. Он отыскал в справочнике телефон гороно и позвонил Сотниковой.
— Добрый день, это Дорохов, тот самый, что вчера у вас был. Анна Карповна, не могли бы вы сейчас на несколько минут зайти к себе домой? Да, это важно. Я тоже подойду.
Сотникова встретила Сашу у своего дома, засыпала вопросами:
— Что-нибудь узнали? Неужели найдете? Что вы хотели у меня посмотреть?
Они поднялись на третий этаж, женщина осмотрела замки, открыла один, затем второй. В прихожей стала снимать пальто.
— Не надо. Зайдемте в комнату на минуту, — попросил Саша и, опустившись на колени перед шифоньером, заглянул в довольно свободный проем и вытащил оттуда черную квадратную кожаную сумку. Передал ее совершенно растерявшейся хозяйке.
— Посмотрите, что там?
Сотникова заглянула в сумку и молча опустилась на стул. Потом прямо на пол вытряхнула содержимое. Из сумки посыпались деньги, какие-то записки, тюбик губной помады, плоская пудреница, паспорт и партийный билет. Схватив документы, прижала их к груди и оторопело посмотрела на Сашу.
— Как вы узнали? Кто ее подложил? Боже, как я рада! Ну что молчите?
— Сегодня вам вернут патефон и пластинки. Думаю, что пластинку «Брызги шампанского» нужно покупать новую. А то ваша сильно шипит. У патефона и верно отличный звук. Так вот, как только получите его обратно и если решите, что следствие продолжать не стоит, принесите вечером моему начальнику заявление. Тому самому, у кого были…
ТУЕСОК И ЗОРРО
Следующее дело тоже было на первый взгляд несложным. Арзубов поручил Саше отыскать квартирного вора. Жулик этот, Леонид Чипизубов, почему-то прозванный Туеском, парнишка лет семнадцати, оказался прытким и не по годам умелым. Где замки откроет отмычками, где ломиком взломает дверь, возьмет в доме что получше — и был таков.
Через несколько дней Саша знал про Туеска все, даже адреса его знакомых, к которым захаживал этот жулик. Нашел девчонку, с которой вместе вырос этот чертов Ленька Чипизубов. Хорошая девушка. Работает в швейной мастерской да еще и в вечерней школе учится. Дорохов зашел к ней домой.
— Вот что, Тася, знаю, что Чипизубов у тебя бывает. Поговори с ним, чтобы сам к нам пришел. Пусть спросит Дорохова — меня, значит, — или Арзубова. Все равно ведь отыщем.
— Не пойдет он. Я его сама сколько раз уговаривала: «Брось воровать, объявись». А он без внимания.
— Ты-то давно его знаешь?
— Мы с Леней вместе выросли. Домишки наши рядом стояли. Отца его убили на Китайской железной дороге, когда там конфликт был. Мама потом у него умерла, остался Леня вдвоем с бабушкой. В то время у нас в поселке всей шпаной заправлял Жорка Зеленцов. Взрослый. Сейчас ему, наверное, лет пятьдесят было бы. Жорка Черт, не слыхали?
Слышал Саша эту кличку. Гришка Международный нахваливал Жору как специалиста высшего класса по квартирным кражам.
— Вот этот Зеленцов и сманил Леню из дому. Он тогда маленький был, худенький. Его то в форточку протолкнут, то в щель какую-нибудь. Вместе с Чертом сколько городов объездил. Черт его сначала за сына выдавал, потом за племянника. Когда Черта свои же зарезали, Леня один стал воровать. Впрочем, вы знаете.
— Ты все-таки передай, о чем я его прошу.
Вернувшись в управление, Саша стал просить Арзубова дать ему несколько работников для засады. Арзубов поднял его на смех.
— Ты еще скажешь роту солдат вызвать, чтобы этого паршивца поймать!
Ничего не оставалось Дорохову, как самому бегать по местам и квартирам, где мог бывать Туесок.
Саша знал все его приметы, заполучил фотографию и был уверен, что, столкнувшись с ним на улице, узнает парня.
Встреча произошла неожиданно на восьмой день после того, как Саша получил задание. Накануне он узнал, что Туесок иногда ночует на вокзале. Саша спозаранку отправился на вокзал, осмотрел всех пассажиров, дремавших в ожидании своего поезда, обошел все ближние пельменные и, уже потеряв надежду, решил заглянуть на рынок, посмотреть, не продает ли Туесок там украденные вещи.
Поднявшись вверх по Песчаной улице, Саша остановился возле кинотеатра. С афиши смотрел на него, улыбаясь, знаменитый американский киноартист Дуглас Фербенкс. Оказывается, появилась новая картина с его участием: «Сын Зорро». Саша представил себе, как тепло в зале, как приятно вытянуть в кресле ноги и отдохнуть от беготни, и, не раздумывая, направился к кассам. «Посмотрю, — подумал, — а потом на базар». Ему было немного совестно сидеть в кино в рабочее время, но он тут же решил, что сам скажет Арзубову, что был в кино. Встал-то он сегодня в пять утра, а спать лег в два часа ночи.
Около кассы стояло несколько человек: три школьницы, видно сбежавшие с уроков, две пожилые женщины с сумками в руках, наполненными продуктами, — домохозяйки. У кассы получал сдачу невысокий парнишка. Едва он отошел от окошка, пряча деньги в карман, как Дорохов узнал его. Перед ним стоял тот самый Леонид Чипизубов, по кличке Туесок. Он оказался куда ниже ростом, чем значилось по приметам, — Саше по плечо.
Туесок остановился против Дорохова, застенчиво улыбнулся, и сразу открылись его крупные передние зубы, хорошо запомнившиеся по фотографии.
Дорохов оттер его в угол, наскоро ощупал карманы пальто, проверил, нет ли чего за поясом, и только в валенке нашел короткий железный прут-ломик, сунул его себе за голенище. Все это произошло быстро, домохозяйки даже не обратили внимания.
— Ну, пойдем, что ли?
— Слушай! — взмолился Туесок. — Мне говорили, что ты вроде малый ничего, те, с кем про меня разговаривал. Давай сходим в киношку, посмотрим Зорро — и тогда уже в уголовку. Потом-то когда я еще в кино попаду.
— Эх, Леха, сорваться хочешь? Мол, будет в зале темно, и ты раз — и смылся. Не выйдет.
— Как тебя зовут? Знаю, что Дорохов, а вот имя-то как.
— Александр.
— Идем, Саша. А? Я тебе честное жиганское слово даю, не сбегу. И вещи отдам, что у меня припрятаны. Если не скажу, где лежат, сам ты их ни в жисть не разыщешь. Не убегу, честное слово!
Просьба Чипизубова звучала настолько искренне, что Саша заколебался. Он понимал, что в темноте Туесок может нырнуть в проход, и все, бегай за ним снова. А может, не убежит? Может, стоит поверить? Знает ведь: в тюрьму попадет, потом в колонию, а там уж не до кино… А как бы поступил дядя Миша? Что сделал бы Шульгин?
— Ладно, давай билет. Обменяю, и сядем вместе. Только смотри, я слову твоему поверил.
…В отличие от отца, Зорро-сын не брался за шпагу, он действовал длинным бичом, тушил с его помощью свечи, расправлялся с врагами, с полицейскими. Саша не думал о том, что рядом с ним воришка, за которым он столько пробегал. А парень, видимо, забыл обо всем на свете, в восторге хлопал по колену и чуть ли не на весь зал кричал:

— Во дает. Бей их, легавых!
После сеанса Ленька горько вздохнул:
— Живут же люди! Мне бы такой кнут. Ну, ладно, идем, что ли. Да ты не бойся, не убегу.
В тот же день Дорохов вместе с Арзубовым по показаниям задержанного отыскали большую часть украденных вещей. Они были ловко спрятаны, и собирать их пришлось в разных тайниках. То на берегу Ингоды под штабелями бревен, то на окраине города в сосняке, прямо в снегу.
— Вот как, брат, бывает, — посмеивался Арзубов. — Если бы в кино с Туеском не сходил, долго бы мы искали эти вещи. Ведь он упрямый, дьявол, уперся бы, что нет у него ничего, и валандайся с ним.
— Знаете, Николай Савельевич, там в кино мне его жалко стало. Бегал, искал заядлого воришку, а посмотрел на него — маленький, неустроенный какой-то. Вот и подумал: когда он теперь в кино попадет? Дадут-то ему срок большой. Свет погасили, сижу и дрожу. А ну как он кинется бежать? А потом вижу: смеется, переживает, глаз от экрана не отводит.
— То, что в этом воришке ты человека увидел, — это, Саша, неплохо, — заключил Арзубов.
…Дорохов шел в управление, прикрыв лицо рукавицей. Встречный ветер хлестал снежной дробью, забирался за воротник и в рукава. Возле сквера он увидел людей, собравшихся в круг возле укрепленного на столбе громкоговорителя. Саша прислушался: война! «Белофинны напали на нашу границу»… Не дослушав, он побежал в управление, по пути припоминая границы. Балтийское море, Финский залив, а дальше? Со школьной скамьи остались в памяти обрывки сведений: Финляндия — страна озер, население около пяти миллионов. «Чего же хочет эта маленькая страна от нас?» В газетах, правда, ему приходилось читать о каких-то укреплениях, именуемых линией Маннергейма, воздвигнутых финнами на границе. Видно, это дело рук немецких фашистов. Запыхавшись, он вихрем ворвался в управление и бросился к Арзубову.
— Николай Савельевич, что с Финляндией, расскажите.
— Идут боевые действия. Нам велено быть на казарменном положении по законам военного времени.
Потянулись дни, полные тревожного ожидания. Саша волновался, что от отца нет писем. Каждое утро первым делом бежал в киоск за газетами. Как там война? Писали, что Красная Армия вела бои с белофиннами на их территории. В газетах печатали репортажи о боевых эпизодах, о советских лыжниках, о финских снайперах-«кукушках», устраивающих засады на деревьях. Там люди дрались, мерзли в снегах, а здесь приходилось бегать за жульем…
НА НОВОМ МЕСТЕ
В середине января тысяча девятьсот сорокового года Дорохова вызвал начальник областного управления милиции. Усадил против своего стола, напомнил политическую ситуацию в стране и объявил, что есть мнение направить его, Дорохова, начальником уголовного розыска в город Петровск-Забайкальск, что в четырехстах километрах от Читы на запад.
— Нужны там грамотные и энергичные работники, а мы считаем, что ты с этой должностью справишься. Да и к родителям-то там поближе, до них — просто рукой подать. Хоть изредка, но сможешь повидаться…
Перед отъездом его долго инструктировал Торский. Пообещал, что, как только выкроит время, приедет сам и поможет ему на месте.
— Ты знаешь, какой это город? Там жили замечательные люди — декабристы. Обязательно поинтересуйся… С делами сразу начинай разбираться. Сам изучи все нераскрытые преступления. Присматривайся к ребятам, советуйся с Простатиным. Есть там такой работник. Правда, с грамотешкой у него слабовато, но опыта не занимать. Начальник милиции Сидоркин — умница, дело свое знает. Если что не так, звони. И приехать я тебе разрешу, как понадобится. Не кручинься, козаче, — шутливо закончил Торский и уже серьезно добавил: — Учителя у тебя были правильные, уверен, что справишься.
Петровск-Забайкальск, серый, низкий, рубленный из кедра и лиственницы небольшой город, раскинулся в стороне от железнодорожной станции. Начальник районного отдела Сидоркин, пожилой, интеллигентного вида человек, прочитал направление, тяжело вздохнул:
— Уж больно вы молоды, дорогой мой. Я просил опытного, знающего дело, а они что там — смеются? У меня у самого таких-то хватает.
— Я к вам не просился, — угрюмо ответил Саша. — Хотел в Чите остаться, а мне приказали: поезжай. Анатолий Никодимович Торский говорил, что вы будете рады и уж во всяком случае поможете… А сейчас думаю, куда будет лучше, если вы на моих документах напишете отказ. — Саша встал, подошел к окну и неожиданно для себя сердито выпалил: — Шел я к вам и думал, что хоть доброе слово скажете за помощь. Украденных вещей почти на десять тысяч вернули в ваш магазин из Иркутска. Все полностью. А раскрыл эту кражу… — Саша не договорил и неопределенно махнул рукой.
— Да не сердитесь вы, Дорохов. — Начальник милиции тоже подошел к окну. — Ведь и меня понять можно. А за магазин спасибо. Понимаешь, хотел взрослого помощника… Ладно, сейчас приглашу твоих будущих подчиненных, представлю — и иди, принимай дела. Там посмотрим, что из этого получится. Завхоз тебе жилье подыщет. На комнату или там квартиру не надейся, а угол или боковушку в хорошей избе найдем.
Двое из работников уголовного розыска — Степан Простатин и Федор Дыбов — оказались старше Дорохова. Было им, наверное, под сорок. Иван Зиновьев и Николай Акимов — почти ровесники Саши, ну самое много, на год постарше. Они поступили в милицию, несколько месяцев назад демобилизовавшись из армии. Возраст пятого, проводника служебно-розыскной собаки Варфоломеева, Саша не сумел определить. Рыжий, круглолицый, низенького роста, ему можно было дать и двадцать пять лет и на десять лет больше.
Знакомство было коротким. Сидоркин представил Дорохова и объявил, что уголовный розыск работает плохо.
— Заворовали город, а они топчутся на месте. Принимайте дела, Дорохов, и в первую очередь обратите внимание на нераскрытые кражи.
Размещался уголовный розыск в трех комнатах: та, что побольше — проходная, из нее две двери вели в маленькие комнатенки. Одна из них предназначалась для начальника.
Саша присматривался к своим новым сослуживцам и невольно уловил усмешку в глазах старших. Оба они говорили преувеличенно почтительно, но в их тоне явно сквозила ирония.
«Ладно, — подумал Дорохов, — поживем — увидим».
В первый же день его определили на квартиру к пожилой женщине. В большом, крестом рубленном доме она жила одна. Гликерия Дормидонтовна согласилась за десятку в месяц уступить Саше боковушку. В доме было чисто, тепло, в зале стояли два фикуса, а на подоконниках в глиняных горшках цвела герань. Пестрые половики домотканой выделки прикрывали
крашеный, желтый, «под яичко», пол. В просторной кухне на столе шипел самовар. Хозяйка в длинной, до пола, широченной юбке, в кофте в мелкий горошек с какими-то крылышками на плечах, подвязанная платком с кикой спереди, выглядела приятно. Она зорко оглядела постояльца, пригласила чаевничать.
Едва взглянув на головной убор хозяйки, Саша понял, что она настоящая чалдонка, да еще из староверов. Когда Саша выпил пузатую чашку чая, Гликерия Дормидонтовна попросила:
— Ты уж, Дмитрич, не обессудь, но табачного дыма в дому не терплю. Так что ты табак смолить на двор выходи.
— Не курю я, Дормидонтовна.
— Почто так? Теперь все, не то што молодь, а старики и те засмолили.
— Не привык. От меня одно беспокойство: поздно домой приходить буду.
— Гулять почнешь?
— Нет, мать, работать.
— Ну, коли так, тогда не беда. Я тебе все секреты свои дверные разъясню. Столоваться где будешь? — поинтересовалась хозяйка.
— Осмотрюсь, потом видно будет.
— Обсмотрись, обсмотрись. Самовар-то у меня свой, не казенный, и хлебец найдется, и картошки полное подполье.
Саше понравился дом, было удобно, что он почти рядом с работой. В первый вечер он вернулся рано, рассчитывая выспаться, так как, выехав из Читы, почти не спал. Ночью с трудом проснулся. Возле постели стояла хозяйка и трясла его за плечо.
— Вставай. Пришли за тобой.
— Кто? — не мог опомниться Саша.
Наконец, сообразив, где он находится, вскочил, быстро оделся, сунул ноги в валенки, прямо на нижнее белье накинул дошку, вытащил из-под подушки наган, вышел на крыльцо. У ворот стоял милиционер.
— Товарищ начальник! Сидоркин послал за вами. Происшествие.
Дорохов быстро плеснул в лицо ковшик ледяной воды, оделся и, окончательно проснувшись, подошел к комнате хозяйки.
— Дормидонтовна! Вот вам первое из-за меня беспокойство. Запирайте дверь. Теперь уж до света не вернусь.
УРОК КРИМИНАЛИСТИКИ
В проходной комнате, кроме участкового инспектора, дежурившего по отделу, находился Степан Простатин, проводник служебно-розыскной собаки Варфоломеев и какой-то неизвестный Саше пожилой мужчина. Участковый сразу доложил:
— Кража на окраине слободы. Из стайки трех овец взяли. — И, кивнув в сторону сидевшего на скамье, объяснил: — У него, у Чуркина, значит. Он воров с ружья стрелял. Да, видать, промазал. Повалились в кошеву и умчались.
Надо было действовать. Еще днем Саша видел в комнате у Простатина новую сумку с криминалистическим набором и поинтересовался, укомплектована ли она. Тот, пожав плечами, ответил, что сумки только что прислали из области, две еще находятся на складе. Такой сумкой в Иркутске пользовался эксперт научно-технического отделения, а Саша помогал ему.
— Мне ехать? — усомнился проводник.
— Ехать. Обязательно. Где собака?
— Рядом с конюшней, в вольере. — И Варфоломеев нехотя привел в дежурку крупную восточноевропейскую овчарку.
Так же нехотя, как проводник за собакой, Простатин сходил за сумкой, и все, усевшись в большие розвальни, тронулись.
В Иркутске во время дежурств Дорохов много раз выезжал на происшествия, но самостоятельно, да еще в качестве старшего, ехал впервые. В уме он перечислял все, что положено сделать на месте преступления. Большой крытый двор Чуркина находился почти на самом краю города. К дому примыкал амбар, или, как его тут называли, лабаз, а с ним рядом — конюшня, коровник и стайка — сарай для свиней и овец. Все эти строения ютились под одной крышей. Хозяин метнулся в избу и вернулся с керосиновым фонарем — «летучей мышью». Саша достал плоский электрический фонарь, и они, привязав к саням собаку, все четверо пошли к сараю. Хозяин показал под навесом калитку, ведущую на огороды.
— Чуть за полночь услыхал в стайке шум. Кабан у нас строгий. Чего, думаю, он среди ночи хрюкает? Выглянул в окно, вижу, калитка на огороды открыта и через нее на огородах снег хорошо видно. Ну, думаю, сломали. Доху накинул, берданку схватил, да не тут-то было. Дверь не открывается — снаружи дрючком подперта. В сенях окошко выбил да вверх стрельнул. В калитку сразу две тени шмыгнули. Пока за патронами бегал да в окно выбрался, время прошло. Выскочил на огород, а от поскотины уже сани отъезжают. Один лошадь подгоняет, а другой сзади повалился. Тут я уже прямо по саням ударил, перезарядил да второй раз пальнул уже вон там, где дорога поворачивает. Первый раз саженей на пятнадцать стрелял, вполне и зацепить мог, а второй, наверное, подале раза в два. Дробь у меня заячья, видать, не донесло. Первый-то волчий заряд был, да вверх ушел.
— Где же у тебя собака? — спросил Варфоломеев.
— Гошка, сын, ушел в хребты, за охотой подался и обеих лаек забрал. Были бы собаки, ко мне во двор мышь чужая б не проскочила. Четырех овечек, сволочи, прирезали. Прямо в сараюшке. Трех унесли. Четвертая там лежит. Хряк, видать, кровь почувствовал, освирепел да мне знак подал.
Все прошли в сарай, в свете фонарей увидели лужу крови и овцу с перерезанным горлом. Саша распорядился тут на месте Простатину писать протокол, а Варфоломееву — пустить по следу собаку.
— Только в калитку не ходи, — предупредил он проводника, — чтобы следы не затоптать. Давай со двора на улицу, а уже там, на проселке, от места, где лошадь, и пустим.
Вышли вместе с проводником. На малонаезженной дороге отчетливо были видны свежие следы саней. Обнаружили место, где лошадь была привязана к поскотине, наткнулись и на пятна крови зарезанных овец.
— Отсюда и применю Байкала, — сказал Варфоломеев, раскрутив аккуратно свернутый длинный поводок, пристегнутый к ошейнику.
— Хорошо, я с тобой.
— Не успеете, — усмехнулся Варфоломеев. — Байкал резво идет.
— Успею! — Сбросил доху, повесил ее на изгородь, сказал проводнику: — Давай-ка твой полушубок, — и пристроил его рядом. — Ну, пускай своего следопыта.
Байкал и верно очень резво взял след. Варфоломеев, придерживая за натянутый поводок, побежал за ним. Саша, словно на тренировке, держался рядом, считая шаги и выравнивая по ним дыхание. Вскоре почувствовал, что нашел нужный ритм, и бежал легко. Километра через полтора, почти в центре, у въезда в старый чугунолитейный завод, где дорога была накатанной, собака сбилась, заволновалась, явно потеряв след. Дорохов предложил вернуться метров на десять и снова пустить Байкала. Варфоломеев неохотно выполнил указание, но все опять повторилось. Приходилось ни с чем возвращаться к месту происшествия. Дорохов твердо решил, что, если он и не раскроет это преступление, то уж выдержку-то покажет, и предложил Варфоломееву бежать обратно, заявив, что иначе они простудятся, и сам ринулся первым. Когда подбежали к дому, Варфоломеев никак не мог отдышаться, а Саша дышал ровно, только от гимнастерки шел пар.
— Ну и умотал ты меня, начальник! — откровенно признался проводник и, привязав собаку, отправился за шубами, а Дорохов вошел в дом.
На кухне возле самовара сидели хозяин с Простатиным и мирно пили чай.
— Ну, как с осмотром? Закончили?
— Закончил, — кивнул Простатин Дорохову и подал папку с протоколом, в котором Саша прочел короткое описание двора, сарая и четкую строчку о том, что «вещественных доказательств не обнаружено, а примененная собака Байкал след в городе утеряла».
— Силен, — буркнул Дорохов, догадавшись, что Простатин решил блеснуть своей сообразительностью, так как не верил ни проводнику, ни собаке и наперед знал, чем закончится беготня по следу.
Хозяин налил Саше чая. Он с удовольствием стал прихлебывать черно-бурый, по-забайкальски заваренный чай. Вошел Варфоломеев и тоже уселся с ними. Саша поинтересовался, во сколько светает. Узнав, что до рассвета еще целых полтора часа, попросил хозяина показать ему ружье и патроны. Старинная длинноствольная берданка его не заинтересовала, а вот патроны он осмотрел тщательно, вынул из одного пыж, высыпал на ладонь дробь, потом снова всыпал ее в гильзу и закрыл пыжом. Открыл второй патрон — там оказалась точно такая же дробь.
— Вы не сомневайтесь, — объяснил хозяин, — везде заячья, вот такой и стрелял.
Саша взял из папки чистый лист бумаги, быстро написал короткий акт об изъятии двух патронов и попросил Простатина достать из оперативной сумки сургуч, запаковал оба патрона в бумагу и на свечке разогрел сургучную палочку. Снял крышку со своих часов и той стороной, где была гравировка, приложил к сургучу вместо печати. Оба работника с интересом наблюдали за действием своего нового начальника, и Простатин, преодолев снисходительную сдержанность, попросил посмотреть часы. Потом их рассматривал Варфоломеев, подержал в руках потерпевший и похвастал:
— У старшего братана тоже были такие за отличную стрельбу, еще в мировую войну подарили.
— Ну что, домой? — неуверенно спросил Простатин.
— Нет, подождем рассвета, поищем следы в огороде. А пока приму заявление от хозяина.
— Выйдемте на минутку, — попросил Простатин. Когда они вышли во двор, он довольно сердито спросил у Дорохова: — Чего тут сидеть?
— Нужно изъять вещественные доказательства.
— Какие еще доказательства? — уж совсем рассердился Простатин. — Я и так знаю, что это дело Крученого. Он как в прошлом году освободился, так и пошло. То овцы, то свиньи, то коровы. Я его двадцать раз брал, весь двор у него перекопал, все в доме перевернул — и все без толку. «Не пойман — не вор», — говорит, а я слушаю и отпускаю.
— Если вы торопитесь, отправляйтесь домой, а я останусь. Рассветет — попробую во всех следах разобраться. Постараюсь собрать доказательства, чтобы вашего Крученого в двадцать первый раз не освобождать.
— Да я-то и не тороплюсь. Мне даже интересно, чем все кончится, — снова съехидничал Простатин.
Вернувшись в дом, Саша подробно записал показания потерпевшего, тщательно описал приметы каждой овцы, а под конец указал, что патроны, точно такие же, какими Чуркин стрелял в преступников, у него изъяты как вещественные доказательства по акту. Едва рассвело, Саша послал Варфоломеева за понятыми и попросил отыскать хотя бы одного грамотного. Хозяин подсказал, к кому идти, и вскоре Дорохов подробно объяснял понятым их задачу: в случае необходимости подтвердить все, что они видели, а также то, что будет записано в протокол.
Снова осмотрели сарай, где зарезали овец, калитку в огород, взломанную, видно, топором. На снегу нашли четкие следы обуви двух людей. Один след оставили унты или ичиги с какой-то характерной заплатой на пятке. Видно, край мягкой кожаной подошвы износился, и владелец обуви пришил заплату, но неудачно. Заплата загнулась, и на снегу, где преступник топтался, взламывая калитку, этот дефект был отчетливо виден. Саша показал след понятым, вернулся в дом, из оперативной сумки достал коробку гипса, растворив его по всем правилам, как не раз на его глазах делал в Иркутске эксперт, залил след. Через несколько минут на гипсовом слепке четко проявился широкий растоптанный отпечаток подошвы и латки.
Простатин с ухмылкой смотрел на действия Дорохова, но, когда увидел слепок, не сумел скрыть своего удивления и даже попытался помочь Саше. В начале осмотра Варфоломеев ходил сзади и просто наблюдал, а потом и сам включился в поиск. На заборе, опоясавшем огород, на длинной слеге, прикрученной к столбу проволокой, он заметил клок желтой шерсти, выдранной вместе с небольшим куском кожи. Этот клок, как за крючок, зацепился за проволоку. Варфоломеев подозвал Простатина. Оба рассмотрели шерсть. Сначала Простатин хотел ее снять, а потом раздумал и обратился к Дорохову.
— У Крученого собачья дошка, как у вас, — уточнил он, — только рыжая, сильно потрепанная. Похоже, что тут Крученый зацепился.
Саша позвал обоих понятых и вместе осмотрели клок меха. Дорохов аккуратно снял его и завернул в бумагу. Потом в избе составил протокол в присутствии понятых и опечатал вещественное доказательство так же, как изъятые прежде патроны.
Закончился осмотр уже утром. Дорохов поблагодарил понятых, пообещал хозяину вернуть украденное мясо.
Простатин, услышав такое заверение, покачал головой и переглянулся с Варфоломеевым.
Усаживаясь в сани, Саша вначале решил ехать к Крученому сам и показать этим скептикам, как надо использовать найденные улики, но потом, вспомнив Фомина, передумал. Точно таким же уверенным, не терпящим возражения тоном приказал:
— Езжайте к Крученому домой. Сначала на месте, товарищ Простатин, вынесите постановление о производстве обыска. Если Крученый дома, в первую очередь изымите обувь и его верхнюю одежду — дошку. Если найдете, откуда вырван этот клок, покажите дырку понятым и подробно опишите. Осмотрите сани, может, где-то окажется кровь или отыщется дробь. Кстати, осмотрите лошадь, возможно, в нее попали дробины. — И уже мягче, улыбаясь, добавил: — Если это дело Крученого, то он у нас не выкрутится. Я буду в отделе.
Выпрыгнув из саней, Дорохов, не дожидаясь возражений, зашагал к себе.
— Видал? Чай пить пошел, а мы работать. Он меня еще ночью замучил. Примени Байкала раз, примени другой.
— Да ну тебя! — прервал проводника Простатин и хлестнул вожжой лошадь.
В отделе дежурный передал Дорохову, что его спрашивал начальник милиции. Саша подробно рассказал Сидоркину, как он произвел осмотр места преступления, как в соответствии с требованиями криминалистики изъял вещественные доказательства. Очень довольный собой, показал гипсовые слепки следов.
Начальник слушал, вздыхал, мельком взглянул на вещественные доказательства и как-то очень грустно сказал:
— Учти, Дорохов, что кражи скота нас замучили. Неделя пройдет — и новая кража, а мы и старой-то ни одной не раскрыли. Не знаю, как на этот раз, поможет ли тебе криминалистика, но ты все-таки загляни в старые дела. Надо что-то предпринимать. У тебя в уголовном розыске пять человек, ты — шестой. Дыбов и Простатин люди опытные, я ведь специально велел с тобой ночью на происшествие ехать Степану Простатину. Зиновьев, Акимов новички, сами сделать ничего не могут. А проводник, мне кажется, собаку просто терпеть не может, вот и не ходит она по следу. Сейчас главное — всем работу по уму дать. Молодых пошли на рынок, а сам вместе с Дыбовым пересмотри по аналогичным кражам дела. Может, там какие-нибудь зацепки есть.
Начальник говорил как-то безнадежно, словно заранее знал, что раскрытие и этой кражи обречено на провал.
Дорохов вернулся к себе расстроенный. Он уже жалел, что не поехал к Крученому. Дыбов принес ему дела — тоненькие папки, в которых и было всего по четыре-пять протоколов. Дел оказалось четырнадцать. Саша быстро подсчитал количество похищенного скота и только развел руками:
— Да тут же целое стадо! Четыре коровы, три борова и двадцать четыре овцы, не считая сегодняшних. Зовите, товарищ Дыбов, остальных ребят, посоветуемся.
Пришел высокий, с бледным веснушчатым лицом Иван Зиновьев, застенчиво улыбаясь, бесшумно открыл дверь Николай Акимов в армейском, еще от солдатской службы, обмундировании. Вчера при знакомстве он понравился Дорохову своей простотой и доброжелательностью.
— Садитесь, давайте посоветуемся, — мягко произнес Александр, — как нам все-таки с этими кражами разделаться.
— Начались кражи весной прошлого года, — объяснил Дыбов. — И ни одной мы не раскрыли. Хоть и побегали по каждому делу на совесть. Судя по всему, орудует одна шайка.
— Тут, по самым грубым подсчетам, мяса получается не меньше трех тонн, — вставил Акимов.
— На рынке-то они не продают. Я там всех мясников знаю. Пойду на всякий случай посмотрю, — поднялся Зиновьев. — Может, в этот раз на свежей баранине попадутся.
— Вряд ли, — усомнился Дыбов. — Скорее всего, они куда-то мясо сдают оптом. На станции есть закусочная, могут и туда. Если вы не возражаете, пусть Акимов поинтересуется, чем у них сегодня кормят. Заведующий там проходимец, пробы негде ставить.
Работники ушли, а Саша вместе с Дыбовым углубились в папки. Оказалось, что две трети краж совершены в районе. В пригородном совхозе осенью, после того как воры свели вторую корову, рабочие совхоза по очереди караулили по ночам на скотном дворе и наконец застали воров. Попытались их задержать, но они скрылись. Уже днем на зимнике — дороге, по которой после морозов ездили в город, — нашли следы телеги, ведущие в Петровск-Забайкальск. В другом деле были показания потерпевшего, который видел вроде бы двух воров, да в темноте их плохо рассмотрел.
Дорохов читал дела, выписывал места краж, фамилии потерпевших и очень волновался. Простатину пора бы вернуться, как-никак прошло целых три часа.
Заходил к Дорохову начальник милиции, посмотрел, как они с Дыбовым добросовестно листают страницы злополучных папок, постоял и уже с порога спросил, нет ли чего нового. Но Саша, скрывая волнение, только пожал плечами.
К обеду в отдел буквально ворвался проводник:
— Скорее едемте. Там Простатин с Байкалом остались, как бы беда не случилась.
— Говори толком, что там? — поднялся навстречу проводнику Дыбов.
— У кобылы, то есть лошади Крученого, из ноги пять заячьих дробин выковырнули.
— Давайте по порядку, — попросил Дорохов.
— По порядку, значит, так: приехали, а Крученый спит. Жинка его говорит: «Захворал». Простатин вызвал тестя во двор: идем, мол, сани и лошадку твою посмотрим. Зашли в конюшню, вывели кобылу на улицу, глянули, а у нее левая ляжка вся в бугорках, а из них еще сукровица сочится. Степан велел привязать Байкала возле конюшни, а самому в ветлечебницу за ветеринаром. «Я, говорит, сам с Крученым потолкую». Пока ветеринар собрался, время прошло. Вернулся, а Простатин в кухне с наганом в руке стоит, а против него Крученый и Коська Каргин, дружок его, на полу сидят, рядом с ними тесть, а бабы на всю избу голосят. Мне Степан велит: «Возьми в сенях веревку да свяжи всем троим руки». Я не только веревку принес, но и Байкала в избу завел, связал их, собаку охранять посадил, потом понятых позвал. Тут доктор кобылу осмотрел и из каждого бугорка по дробине выковырял. Та самая дробь, заячья. Начали обыск. Простатин сани перевернул, на копыльях снизу кровь. Вернулся в избу, дошку Крученого осмотрел, под левым рукавом дыру нашел. Видать, тот клок, что на заборе остался, как раз и подойдет. Вот тогда Степан велел мне за вами ехать, одним не справиться. — От длинной речи Варфоломеев вспотел, вытер рукавом полушубка лицо. — Поедемте, а то как бы чего там не стряслось. Эти двое хоть и связанные, но совсем озверели.
За спиной проводника появилась любопытная физиономия Петрова, и Саша приказал:
— Дыбов, Зиновьев, езжайте с Варфоломеевым. Пусти же там Байкала мясо отыскать. Может, в снегу где? На кровь-то он должен работать.
— А вы не поедете? — удивился проводник.
— Я Акимова подожду, да и с делами разберусь. — Саша прекрасно понимал, что ночью на месте происшествия преподал Простатину хороший урок, и, чтобы не переборщить, решил пока не вмешиваться в его действия.
Обыск дал отличные результаты. Под сараем нашли хорошо замаскированное подполье, а в нем свежее мясо и бочки с заквашенными, подготовленными к выделке овечьими и одной коровьей шкурами.
Только к концу дня, когда уже стало темнеть, все собрались в отделе. Развели по разным комнатам арестованных. Простатин и Дыбов зашли к Дорохову, подробно все рассказали и поинтересовались, кого из преступников будет допрашивать он сам.
— Никого. Сами и допрашивайте. Только показания записывайте подробнее. Да, кстати, товарищ Простатин, зайдите к начальнику милиции, доложите о результатах.
И Дорохов как можно непринужденнее углубился в бумаги.
— А вы разве не докладывали? — еще больше удивился Простатин.
Дорохов только пожал плечами:
— Действуйте!
Часам к восьми вечера, уже после того, как преступников поместили в камеры, коротко подвели итоги. Крученый сознался в семи кражах, его напарник — в пяти. Оба показали, что воровали вместе, но рассказали о разных случаях.
Едва Саша переступил порог дома, как Гликерья Дормидонтовна накинулась на постояльца:
— Где же это ты с трех часов ночи шляешься? И не обедал, поди? Садись-ка, я тебе пельмешков подам. Так, парень, и окочуриться враз можно. Слыхала, ты злодеев-то поймал, что скот со дворов сводили?
— Кто же вам про это рассказал? — искренне удивился Саша.
— Да мы тут друг у дружки на виду и все про всех знаем, — усмехнулась женщина. — А сказала мне Агриппина, она в понятых была, когда воров обыскивали.
— Я же на том обыске и не был, — продолжал удивляться Дорохов.
— Гапка-то слыхала, как Степа Простатин сказывал Крученому, что новый начальник приехал, так он теперь всем нашим варнакам по науке головы поскрутит. Про тебя, значит, говорил. Да ты ешь, ешь. Пельмешки с мороза. Может, стопочку с устатку поднести? Не пьешь? Гляди-кося, и не куришь? А может, ты больной? Али богатство решил скопить?
Саша улегся в постель и не мог заснуть, хотелось разобраться, подвести итог первому дню. Правильно он себя вел? Правильно. На месте преступления в первую очередь нужно найти следы, зафиксировать их, а потом использовать. Это же все знают. Почему не побежал к начальнику с докладом об удаче? Хотелось ведь. Вошел бы и небрежно доложил: «Вы вчера во мне сомневались? Сами год возились с кражами, а я их за один день раскрыл». Ну а что же Сидоркин? В глаза, может, и не сказал бы, а уж наверняка подумал бы: «Хвастун этот Дорохов, случайно повезло, а он уже со своей удачей как с писаной торбой носится». А как бы ребята отнеслись, если бы он их отстранил да за допросы сам принялся? Ведь каждому интересно записать показания изобличенного преступника. Протокол-то начинается как? «Я такой-то, сего числа допросил такого-то». Не только здесь, начальству, а и в прокуратуре, в суде будет ясно, кто первый получил показания преступника. Вот он, Сашка, допросил бы — и бегом докладывать, а работали-то все. Еще хуже, чем начальник, отнеслись бы к нему сотрудники. А с ними-то не один день трудиться…
Хозяйка, поленившаяся на ночь протопить печь, боясь, что простудит хорошего постояльца, заглядывала к нему дважды и с материнской заботой поправляла сползающее с кровати одеяло. Но этого Саша не заметил. Зато он отчетливо увидел, как в боковушку вошел дядя Миша, ласково потрепал его по волосам, заботливо укрыл одеялом: «Спи, молодец, все правильно. И дальше ребят своих не обижай, помогай им, ведь теперь это твоя обязанность, а как дальше жить — думай. Думай, Саша».
«ВЫ, ТОВАРИЩ НАЧАЛЬНИК…»
Постепенно Дорохов разобрался со старыми, не раскрытыми преступлениями. И чем меньше их оставалось, тем больше проявляли подчиненные уважения к своему новому начальнику. Шли за советом к нему не только молодые Акимов и Зиновьев, но и опытные Дыбов и даже Простатин. А Степан ввел манеру при посторонних называть Сашу на «вы» и «товарищ начальник». Впервые, когда, войдя в кабинет, он обратился к Саше официально и на «вы», Дорохов, увлеченный разговором со свидетелем, этого и не заметил, но когда Простатин еще раз повторил столь уважительное обращение, Александр даже подумал, что под этим кроется какой-то подвох. Лишь потом он понял, что его новые коллеги заботятся не только о нем, но и об авторитете своей службы. А какое может быть уважение людей посторонних к уголовному розыску, если начальник мальчишка, а подчиненные похлопывают его по плечу? Видно, Дорохов интуитивно нашел верную линию поведения. Интуитивно? Так для интуиции нужен опыт. Кое-какой опыт у Саши уже был. В школе, а затем в институте ходил он в застрельщиках и комсомольских вожаках и еще тогда понял, что от окриков толку мало. Главное — уметь показать, пробудить интерес. И еще Саша знал, что самое трудное надо брать на себя, не перекладывать на чужие плечи… Ну а уроки Фомина и Попова? Их Саша особенно ценил…
Вот только с Варфоломеевым отношения у него не складывались. Не нравился он Дорохову, и все тут! И были к тому причины. Равнодушный какой-то человек, да и собаку свою не любил. А разве можно сделать помощника, настоящего друга из собаки, которую окриком и пинком воспитываешь?
Собак Саша любил с детства. Это только в Иркутске, в коммунальной квартире они с отцом не могли держать хорошую лайку, а пока жили в деревне да по разным военным городкам, у них всегда была собака, а то и по две сразу. Особенно запомнился Саше Лохмот — огромный пес, крупнее любой лайки. Дед привез его месячным щенком зимой откуда-то с Байкала. Притащил за пазухой и сказал, что щенок от самых лучших зверогонов. И щенок стал таскать по избе всякие тряпки да лохмотья, вот и прозвали его Лохмотом. Серьезная из него собака выросла. На охоте с отцом медведя один на один запросто держал, а изюбря или сохатого — и говорить нечего. Но своенравный был пес. Кроме отца, никого не признавал. Считал ниже своего достоинства обращать внимание на деда, Сашу, а тем более на мать. Он и к отцу относился как-то снисходительно. Вот когда на охоту собирались — другое дело, характер раскрывался. И то не завизжит, не запрыгает от радости, как другие собаки. Потянется раз-другой, прищурит глаза, вильнет хвостом, словно из вежливости, и по селу вслед за хозяином вышагивает степенно. Умные у Лохмота были глаза! Сядет он в сторонке и смотрит, и кажется, все-то он видит, все понимает. Вот такие же глаза были и у Байкала.
С первых дней Дорохов завел привычку приходить на работу чуть пораньше. Зашел однажды за конюшню, где был вольер. Пес лежал за проволочной изгородью в конуре на соломенной подстилке, высунул передние лапы на порожек, положив на них голову, и как-то снизу вверх, Саше показалось — изучающе, стал рассматривать гостя. Посмотрел, посмотрел, а потом отвернулся. «Не показался», — подумал Саша. Тогда он тихонько позвал собаку. Байкал поворочался в своем жилье и убрал голову совсем. «Гордый! Ну точь-в-точь Лохмот».
Дорохов стал заходить к Байкалу каждое утро и обязательно приносил что-нибудь вкусное. Первый раз сахар пес не взял. Посмотрел, куда закатился брошенный кусок, и даже не захотел к нему потянуться. Правда, на следующий день обрезки колбасы сжевал. Ел медленно, словно нехотя, ради приличия. Через несколько дней Байкал встретил Сашу сидя на снегу и повиливая хвостом. Дорохову даже показалось, что пес ему улыбнулся.
О том, что Варфоломеев относится к тренировке собаки спустя рукава, знали все. А проводник всякий раз отвечал, что собаку «поставят», в смысле научат работать, в школе, куда летом все равно их с Байкалом вызовут на переподготовку. К разговорам этим привыкли и оставили Варфоломеева в покое. Но Саша подумал, что вряд ли стоит дожидаться этой самой переподготовки, ведь хорошая розыскная собака, да еще в сельской местности, большое подспорье.
Однажды утром он попросил Простатина вместе с ним сходить в рощу, что начиналась прямо за отделением милиции, и посмотреть на тренировку Байкала.
Проводника, помощника из рядовых милиционеров и Байкала застали на опушке. Было видно, что все трое отбывают повинность. Варфоломеев делал вид, что хочет чему-то научить собаку, а Байкал столь же вяло выполнял его не очень четкие требования.
— Вы, товарищ начальник, отвлеките Варфоломеева, чтобы он не видел, куда я пойду, — попросил Простатин, — а я проложу след, кое-что разбросаю по дороге и вернусь в отдел. Пусть-ка потом Варфоломеев вместе с собакой пробегутся по этому следу и соберут все мои «похоронки».
Через час в уголовном розыске разразился скандал. Все четверо сотрудников прорабатывали проводника, а Дорохов, усевшись в сторонке, слушал.
— Давай платок и газету, — требовал от Варфоломеева Простатин. — Газета свежая, я сегодня еще ее и не разворачивал, положил прямо на снег. Если собака не почуяла, то ты и сам ее мог заметить. А платок что, тоже не нашел? От него одеколоном за пять верст несет.
— Что ты с него платок требуешь? — вмешался Дыбов. — Он прошлой осенью в бурьяне мешок с вещами не нашел. А я потом целую неделю уговаривал вора, чтобы показал, где вещи бросил.
Проводнику припомнили все его промахи и ошибки. Варфоломеев сидел растерянный и не пытался даже оправдываться.
— Не умею я их тренировать, — наконец выдавил он из себя. — Но все сделаю, честное слово. Вот бы книжку мне какую…
— Есть в городе при Осоавиахиме секция любителей собак, — сообщил Дыбов, — вместе с ними тренируй.
— А книги в канцелярии всякие лежат, целый шкаф, — подал голос Простатин. — И все служебные. Должно быть, и насчет собак есть.
В тот же день Дорохов отыскал в шкафу стопку интересных книг. Нашлись учебники по судебной медицине, по судебной фотографии и многие другие. Оказалась книжка и по тренировке розыскных собак. Ее торжественно вручили Варфоломееву. В ближайший выходной Саша уселся за книги. В городе было тихо, никаких происшествий, а дома тепло и уютно. Начал с фотографии. В институте увлекался этим делом. Там была даже фотолаборатория и не только пластиночный аппарат Ленинградского оптико-механического завода, но и очень редкий узкопленочный ФЭД. Саша снимал, проявлял, печатал и даже ретушировал. В общем-то, у него выходили довольно красивые фотографии, но теории он не знал, тем более ничего не смыслил в специальной исследовательской фотографии…
Хозяйка несколько раз пыталась оторвать Сашу от книг, советовала пойти погулять, говорила, что на дворе весной запахло, что грех сидеть в такую погоду дома, но Саша только качал головой. Позвала его обедать и снова принялась за свое.
— И что ты за человек? То знай спишь, то сутками торчишь на своей работе, а теперь, как бирюк, засел за книжки. Пошел бы погулял. Девку себе какую присмотрел, не то на лыжах побегал бы. Зачахнешь так.
Дормидонтовна быстро привязалась к своему постояльцу и совершенно искренне принимала в нем участие.
К вечеру, когда Саша заканчивал выписки из книжки по фотографии, к нему заглянула хозяйка. Посмотрела на разложенные на столе бумаги, вздохнула:
— Пойдешь куда иль дома будешь? Не пойдешь, ну тогда жди. Я тут к родне сбегаю, а приду — самовар сготовлю. Вместе чаевничать будем.
Сколько ходила Дормидонтовна, Саша не заметил, но вернулась она не одна. Было слышно, как хозяйка весело с кем-то разговаривала, но только не мог разобрать ответы, уж больно тихо говорила гостья.
— Иди, Дмитрич, вечерять, — снова заглянула в боковушку Дормидонтовна и шепотом, заговорщически попросила: — Да рубаху смени, сродственница моя в гостях.
Саша снял футболку, в которой обычно ходил дома, надел шелковую косоворотку, брюки от костюма и, чтобы угодить старушкам, вытащил из-под кровати темные штиблеты. Оделся и направился на кухню. К его удивлению, стол был накрыт по-праздничному в зале. На скатерти оказались расставлены закуски, бутылка водки, а за фикусом, возле окна, на лавке отыскалась и гостья — «старушка» лет восемнадцати, статная румяная девушка в синем кашемировом платье и в черных хромовых полусапожках. Она сидела очень прямо, положив крупные рабочие руки на колени, точно на фотоснимке, что делают на базарах… Когда Саша вошел, гостья опустила глаза и перебросила толстую русую косу на грудь. Дормидонтовна, суетившаяся у стола, хитро улыбаясь, подошла к нему.
— Вот познакомься с Любашей, племянница моя. Иду домой, а она мне встречь. «Что вы, тетя, к нам не заходите да как поживаете?» — «Заходи, — говорю. — Как живу — увидишь». Ну и затащила ее домой, думаю, чайком девку побалую.
Любаша стала совсем пунцовая, неловко протянула Саше большую твердую ладонь, а когда сели за стол, то так ни к чему не прикоснулась, лишь отпила несколько глотков чая. Как ни старалась Дормидонтовна разговорить постояльца и племянницу, так у нее ничего и не получилось. За весь вечер Любаша только и сказала, что работает на стройке и собирается учиться на инженера, а Саша начал было рассказывать о судебной фотографии, да осекся, понял, что тема не очень застольная.
Девушка засобиралась домой, и Дорохов понял, что просто обязан проводить ее. Но и на улице разговора не получилось, шли молча, всю дорогу Саша злился на себя и на Дормидонтовну и никак не мог придумать, о чем говорить. Девушка спросила, видел ли он картину «Ошибка инженера Кочина», но Саша в Петровск-Забайкальске еще ни разу не был в кино. Люба попыталась рассказать о фильме, но так и не успела — подошли к ее дому. На прощание она не очень уверенно пригласила Сашу вместе с Дормидонтовной заходить к ним в гости. Вернувшись, Саша во избежание повторного сватовства соврал старушке, что у него в Иркутске осталась невеста.
ПОЕЗДКА В ХАРАУЗ
Через неделю Сашу вызвал к себе Сидоркин и неожиданно предложил:
— Собирайся. Завтра утром поедем в район, дней на пять, на шесть, проверим работу участковых инспекторов, в сельсоветах побываем. У тебя, говорят, есть знатное ружье, вот и прихвати его. Может, на гусей сходим. А то, гляжу, совсем ты заработался.
…В Забайкалье, и верно, пришла весна. Южный ветер продул, просушил дорогу, согнал с сопок снег, а тепло, что стояло днем, съело его даже по оврагам и распадкам. Почки на деревьях набухли, а на тальниках лопнули и покрылись желто-серым пухом. На солнцепеке, по буграм появилась зеленая поросль. Дикий лук выпустил тонкие острые перья со спичку, а то и в полторы. Возле города, куда ни глянь, по сопкам лазили старухи да ребятня, собирая к столу молодой лучок — первые витамины. По серому, прошлогоднему жнивью потянулись за тракторами черные полосы. Перевернутые лемехами плугов пласты, отливающие на солнце жирной чернотой, обследовали грачи, вразвалку разгуливающие по пахоте. Даже днем по небу шли косяки птицы…
Сидя в автомобиле, Дорохов с удовольствием смотрел по сторонам. Он знал, что село Харауз, куда они ехали, основано староверами, расположилось на границе с Бурят-Монгольской республикой. И ландшафт здесь был совсем не таежный. Всюду виднелись пологие увалы, сплошь покрытые жнивьем. Перед самым селом Сидоркин попросил шофера остановиться и указал Саше на низину, где по стерне разгуливало несколько табунов диких гусей. До них было полтора-два километра, и паслись они отдельными группками в двадцать пять — тридцать штук.
— Пошел гусь. Это только передовые партии, — объяснил начальник, передавая Дорохову бинокль. — Начнется валовый пролет, тут на пашне голого места не найдешь. Неделю, а то и две будут жировать, а потом дальше на север.
Село Харауз было большое и богатое. Каждый дом, что крепость, обнесен высоким тыном, и полдвора под крышей. Нельзя здесь иначе. Снега такие, что без крыши скоту во двор и не выйти. Лесу вдоволь, тайга-то рядом, вот каждый хозяин и покрывал щепой все надворные постройки и довольно большой кусок двора.
Правление колхоза и сельский Совет размещались в большом, рубленном в две длины, доме. Навстречу машине вышел участковый инспектор села Хлынов. Простые домотканые брюки, заправленные в мягкие, из юфти, ичиги, ярко-синяя косоворотка навыпуск, подпоясанная широким форменным ремнем, на котором торчала кобура с револьвером. Ремень, наган да фуражка только и свидетельствовали о его должности, в остальном участковый ничем не отличался от колхозников. Сидоркин оглядел его и, очевидно, не заметил в нем ничего необычного. Поздоровавшись, попросил его познакомить Дорохова с делами и поинтересовался, нет ли каких происшествий.
— Все нормально, — словно обидевшись на начальство за сомнение, степенно ответил участковый.
— Председатель колхоза у себя? Ну, я к нему. А куда вы нас на ночлег определите?
— Хотите ко мне, — предложил участковый, — или, как всегда, к Прокофию.
— Как Прокофий-то Алексеевич? Здоров?
— А что ему делается? Живой, здоровый, все жалел, что не едете. А я ему говорю: «Подожди. Начальник вот-вот заявится». Я к нему подскочу на вашей машине?
— Ну, давай. Спроси разрешения на ночлег. Нас в этот раз трое, а потом Андрей пусть сюда за мной с машиной вернется, я тут пока с председателем переговорю. — И добавил, чтобы шофер взял в багажнике сверток и передал Прокофию гостинцы. Ему и хозяйке.
Прокофий Алексеевич, степенный пожилой человек, появился в калитке одновременно со звуком тормозов останавливающейся машины. Прикрывая от солнца ладошкой глаза, зажав в кулак черную небольшую бородку, осмотрел приехавших, поздоровался с шофером за руку. Спросил, где сам. И, не дождавшись ответа, протянул руку Саше.
— Вас раньше не видел.
Участковый пояснил, что это тот самый начальник уголовного розыска, который Крученого поймал.
Прокофий задержал Сашину руку. Видно, хотел сказать, что он, Саша, уж больно молод, но вместо этого несколько раз повторил, что рад новому знакомству.
— Лексеич, пустишь ты всех троих к себе на постой или где другое место искать? — спросил участковый.
— В избе взвод разместится, заезжайте.
Хозяин распахнул массивные ворота, рассчитанные на то, чтобы в них прошел, не зацепившись, воз сена или соломы, и машина въехала во двор. Под навесом Саша увидел верстак и возле него гору свежих стружек. Прокофий Алексеевич, перехватив его взгляд, объяснил:
— Плотничаю в колхозе. Осенью и зимой собираю бригаду — и в тайгу за добычей, а весной и летом вот у верстака. Сейчас гусь пошел, надо бы сбегать, да все не с руки. Ну, теперь с Леонтием Павловичем выберемся.
Саша начал рассказывать, что по дороге видели уйму гусей, а охотник только улыбнулся:
— Это еще не гусь. Разведка. Когда гусь основной пойдет, аж стон стоит. Ну чего мы на дворе торчим, айда в избу.
Саша вынул из машины чехол с ружьем, и хозяин сразу оживился:
— Никак, начальник новым ружьецом обзавелся?
— Нет, это мое, — гордо ответил Саша.
Шофер достал из багажника ружье Сидоркина, передал участковому небольшой чемодан, вытащил аккуратно упакованный объемистый сверток и вручил его Прокофию Алексеевичу.
— Это вам гостинцы.
Прокофий Алексеевич, взвесив сверток в руке, закачал головой:
— Тяжеловато. Видно, и припас охотницкий есть. Вот за это спасибо. Нонче с патронами к берданке совсем плохо. К дробовику у заготовителя навалом, а для берданы ни патронов, ни гильз. Что же мы опять встали? Хозяйка вон в окошко все глаза проглядела, а выйти стесняется.
Дом стоял высоко, на широкое резное крыльцо вело пять ступеней. Сени просторные, с оконцами под потолком для воздуха, по стенам пучки сухих пахучих трав. Из сенцев двери в избу и в подклеть-кладовку, в углу тесовые полати, чтобы спать летом, когда в избе жарко. Просторная, ничуть не меньше сеней, кухня, и посредине большой обеденный стол. С другой стороны чело русской печки. В левом от двери красном углу — иконостас. Образа без окладов, потемневшие от времени, на некоторых и лика не разобрать. Из кухни дверь в другую комнату, тоже светлую и просторную, из которой вышла пожилая женщина, явно успевшая принарядиться в темный шерстяной сарафан и повязать на кику пестрый платок.
— Встречай гостей, Маланья, да вот гостинец принимай. Павлович прислал. — И хозяин положил на стол пакет. — Ставь самовар!
— А ты, Тимофей Спиридонович, скажи начальнику, чтобы поторапливался. Часа в четыре надо на низах быть, а туда час добираться. Гусь на воду рано с кормежки пойдет, а там еще осмотреться следует. Пообедаем и поедем. Туда на Андрюхином тарантасе сейчас не добраться. Мокреть. Я Карьку своего в ходок оборудую. А вы с нами? — Охотник посмотрел на Сашу.
— Если возьмете.
— Возьмут, возьмут. А начальник наш не опоздает, — подтвердил участковый.
— Ну, раз так, ждем к обеду. Занеси, Андрюха, всю амуницию Леонтия Павловича в дом. У него, поди, патроны еще прошлогодние, мелочишкой заряжены. Я ему тут десяток на гусей заправлю. — Обращаясь к Дорохову, спросил: — А у вас какой калибр? Двенадцатый? Так же, как и Павлович, с трехдюймовкой ходите? А у меня двадцать восьмой: и на белку, и на птицу. Вертайтесь скорее.
Участковый инспектор Хлынов подробно докладывал Дорохову обстановку. Он был местным уроженцем, работал на руднике в Красном Чикое и несколько лет назад поступил в милицию. В разговоре Саша поинтересовался, почему Хлынов не носит полностью форму, а тот только развел руками:
— Каждый день форму-то трепать, так она же вид потеряет. Разве ее от срока до срока хватит? Если бы вы сегодня не приехали, я бы подседлал мерина и на заимку наведался. Председатель колхоза просил посмотреть, как там дела. Скоро скот на лето перегонять будем. Я ведь еще и член правления колхоза. А на заимку надо. Работает там один тип не больно хороший, в воровстве попадался, судили его в соседнем районе за кражу лошади. Три года отсидел, прошлый год вернулся, женился на одной вдовушке. Да не в этом суть. Браконьерничает вовсю. Летом коз бьет, осенью двух изюбрей свалил. Я вызвал, предупредил, а он только усмехается. «Что, говорит, медведи жалуются?» Поймать никак не могу. У той женщины муж охотничал, от него винтовка осталась, и где-то, говорят, японскую добыл. И обыск я делал, и караулил. — Участковый развел руками: — Видно, оружью-то в тайге прячет.
В комнату заглянул шофер.
— Собирайтесь! Начальство в машине.
Жена Прокофия Алексеевича расстроилась. Собрала на стол обед, а гости отказались, сказали, что в дороге закусят.
У Саши не было охотничьих сапог, и хозяйка принесла ему высокие бродни сына. Вынимать ружье из чехла он не стал, решил вытащить на месте, чтобы по дороге не запылилось, да и не побился бы дорогой родительский подарок.
Прокофий сел в ходок. Тронулся по дороге вслед машине.
ОХОТА
Перед тем как свернуть к болоту, Сидоркин и Дорохов пересели в ходок, а Андрей вернулся в село.
На место прибыли раньше, чем намечал Прокофий Алексеевич. Возле огромной скирды надергали целый ворох соломы, погрузили на ходок и прямо по прошлогоднему скошенному полю поехали к воде. Болото пролегало между двумя пологими увалами и лентой уходило вдаль. Над ним носились стайки уток, но гусей нигде видно не было. В низине, недалеко от воды, Прокофий Алексеевич сбросил охапку соломы и велел Дорохову оставаться.
— Солому подстели и немного на себя притруси, жди гуся с увала. С пашни. Первую стаю пропусти, а по другим уже бей. Если не заметят тебя, то низко пойдут. — И сам с Сидоркиным отправился дальше.
Саша собрал ружье, зарядил его патронами с крупной дробью и стал ждать. Солнце подошло к вершине невысокой сопки, с болота потянуло сыростью, а лёта все не было. Правда, над головой проносились утки парами и маленькими стайками. Один гуляка-селезень пролетел настолько низко, что Саша отлично рассмотрел его весеннее перо. Зеленовато-синяя шея, окаймленная белой полосой, сияла в закатных лучах солнца, а маховые перья на крыльях отливали радугой. Добывал он таких щеголей, и не раз.
Убьешь, посмотришь — красив до невозможности, и жалко станет, что стрелял.
В стороне, куда уехал Сидоркин с охотником, гулко ударили два выстрела, за ними третий посуше, и Саша занервничал: там лёт, там стреляют, а у него как заколдовано. Неожиданно пара гусей появилась с болота. Саша не видел их, налетели они со спины. Прямо над собой услышал свист крыльев, хотел подняться, но заставил себя лежать и не шевелиться, гусей рассмотрел уже в угон. Они прошли низко, на полвыстрела, и он бы достал их обоих, но решил по разведчикам не стрелять, а то, что это делала облет гусиная разведка, сомнений не было. Рано гусям делиться на пары, да и не гнездятся они в этих местах, сказывал охотник.
Саша представил себе, как гусиный вожак там, на кормежке, оглядел свою стаю, увидел, что все захотели пить, перестали собирать просыпавшееся с осени зерно и оставшиеся колоски, и крикнул вот этим двум: а ну, мол, слетайте, проверьте, что там и как, да сейчас же обратно, не вздумайте в воде хлюпаться, купаться вместе будем.
Поднялись двое, все осмотрели, не заметили его, Сашу, и сейчас докладывают: тихо, мол, кругом, летим поплаваем, поплескаемся, напьемся и обратно пшеничку собирать. До Севера далеко, надо здесь жирком запастись. Раздумывая над повадками этой умной и древней птицы, Саша услышал недалекий гусиный гогот, и вдруг со стороны почти опустившегося солнца из-за увала на бреющем полете свалилась на Сашу вся стая. Саша и в этот раз переборол себя, вжался в землю и без движения пролежал несколько мгновений, пока над ним пронеслась стая. Пропустив последних, оглянулся, увидел, как гуси, распластав крылья, спланировали на болото и, едва опустившись, сразу начали пить. Набрав в клюв воды, высоко поднимали головы, вытягивали шеи, чтобы водица свободно скатывалась, и пили снова. Вторая стая, не выше, чем первая, прошла молча. Гуси летели настолько низко, что отчетливо видны были их лапы, вытянутые вдоль туловища, и черные глаза, словно переспевшие ягоды черемухи. Только по третьему табуну Саша выстрелил дважды. Сначала он хотел стрелять по первому гусю, но пожалел вожака. Отыскал стволами в середине стаи темно-серого гусака, остановил мушку на шее, повел ружьем, словно провожая птицу, и ударил из правого ствола. Шея гусака переломилась, согнулась, и птица, сложив крылья, упала в нескольких шагах. Второго ударил из левого ствола «под перо» вдогон. Тот тоже упал и не шевельнулся. Саша поднялся, принес свои трофеи и больше уже не ложился, а просто сидел на соломенной подстилке. На желто-серой стерне он был хорошо заметен, и следующие табуны стали облетать его стороной. Очень удивило Сашу то, что гуси на воде никак не отреагировали на его стрельбу. Их «разговор» стал более шумным, но с болота они так и не поднялись.
Довольный охотой, он уложил ружье в чехол, связал птиц и потихоньку пошел по следу ходка. Сидоркин с Прокофием Алексеевичем тоже больше не стреляли. Еще засветло они выехали из-за бугра.
— Ну как, охотничек, сколько добыл-то? — подъезжая, весело спросил Прокофий. — Увидев ружье в чехле, удивился: — Ты что же, оружью свою в кожу упрятал прямо на охоте! А как налетят на штык? Достать не успеешь.
Укладывая гусей в передок ходка, Саша пожал плечами:
— Там их набить много можно, а зачем? Пару взял, и хватит.
— Ты, часом, не наш ли, забайкальский? — спросил охотник.
— Нет, он иркутянин, — объяснил Леонтий Павлович. — Но, видать, охотник, раз птицу бережет.
ЮШКА СЛЕПНЕВ
Начальник милиции не стал возражать, когда Дорохов на следующий день собрался с участковым Хлыновым верхами на заимку. До заимки было далеко, верст двадцать, и они ехали не торопясь. Пересекли поле, поднялись по крутому распадку. Высокие сопки расступились, и между ними протянулась елань.
— Летом травы тут по грудь, — рассказывал Хлынов. — С одной елани с этой, почитай, всему скоту на зиму кормов хватает. Только возить далековато приходится. А летом коровушкам да телятам чистый санаторий. Там, в вершине, — участковый плеткой указал на синеющую вдали сопку, — у нас летняя ферма. Здесь ведь чем хорошо, даже в самую жару? Мухи мало. Не мучает она скот, потому что постоянно ветерок продувает, а муха ветра не любит. С утра снизу воздух тянет, а с обеда от вершин вниз холодком несет. Снега на тех сопках все лето держатся.
Саша спросил, откуда здесь браконьер взялся.
— Сам он, Юшка-то, местный. С детства с ружьем по сопкам лазил, отца его в мировую на германском фронте сгубили. Сестры люди как люди, а этот пакостником был. Все замки в селе пересчитал. Подрос — на Север, на прииски, подался. Вернулся с золотишком, да не в коня корм — все спустил. Приняли в колхоз, а какой он работник? Лишь бы лето прокоптить, а как осень, так в тайгу. То орехи бьет, то охотничает. На охоте волк чистый. Один сезон его Прокофий в своей бригаде терпел, а потом заявил председателю: «Не возьму Юшку, видеть этого варнака не хочу». Сколотил Юшка себе свою бригаду. Позарились два наших мужика на его добычливость, но на другой год с ним больше не пошли.
— Чем же досаждал им этот Слепнев?
— Зверюга он. Если выводок нашел, первым делом матку бьет, а потом остальных подчистую. Ему говорят: «Дичь переведешь», а Юшка им: мол, на мой век хватит. Шишковать идет — после него в кедраче голое место. Наши мужики еще многие по старинке табак не смолят, а он нарочно все зимовье продымит. Чашку там, ложку каждый свою бережет, только отвернутся, а Юшка уже из чужой посуды хлебает. Приедем, а он наверняка гурана уже завалил. А ведь сейчас козла от козы не отличишь. Козел-то старые рога сбросил, а новые еще не выросли.
— А почему Слепнева Юшкой зовут?
— Ефимий его полное имя. Но все Юшка да Юшка. За что же его полностью да по батюшке величать?
Спускаясь с сопки, пробираясь сквозь заросли ельника, они выехали на чистое место, в низинке заметили трех коз. Видно, спугнули их раньше, и козы, проскакав метров триста, остановились, с любопытством разглядывая верховых. В чаще взлетели несколько тетеревов, белые хвосты петухов хорошо были видны сквозь ольховник.
— Косачей да и другой дичины у нас тут навалом, — похвастал Тимофей Спиридонович. — Вон туда пониже да полевее ток есть. В прошлом году видел петухов там побольше сотни. Драку подняли, как на базаре. Недалеко от заимки знаю глухариный ток. Если есть охота, утром сбегаем. Там глухаря — как ворон. Ягодники здесь богатые, а в луговинах тоже корма хватает. А бить их — кто тут бьет? Юшка? Дак он вместо глухаря лучше козлуху или гурана завалит. Ближе ходить и мяса больше.
На берегу речки, на небольшой, в полтора-два гектара, ровной площадке расположилась летняя ферма с просторным скотным двором, телятником и двумя жилыми бараками. Еще издали Дорохов и Хлынов заметили колхозников, поправлявших крышу и менявших столбы в изгороди.
— Здесь работают шесть человек, — объяснил Хлынов. — Пять мужиков да Степанида, Юшкина жена, за повариху. Едва на заимке заметили верховых, как один из колхозников бросил работу и направился в барак.
— Вон тот, что ушел, и есть Юшка.
Подъехав к людям, Хлынов чинно, не торопясь, слез с лошади, с каждым поздоровался за руку. Саша тоже поздоровался и вместе с Хлыновым направился в барак. Сразу с крыльца оба оказались в кухне. За длинным столом возле большого закопченного чайника сидели Слепневы, попивали из эмалированных кружек чаи и мирно разговаривали о чем-то своем. Юшка, невысокий, чернявый, юркий мужичонка с гладко бритым нагловатым лицом, сразу же заговорил, ухмыляясь, поглядывая на жену:
— Здорово, Тимоха. Соскучал там за мной в Хараузе, прискакал проведать? Садись чай пить. А это кого же за собой приволок, никак, охотник или тоже ваш, милицейский?
Женщина не шевельнулась. Как сидела, подпирая щеку левой рукой, посматривая то на мужа, то на нежданных гостей, так и осталась. На вид была постарше Юшки, но лицо сохранило свежесть и казалось довольно приятным.
— Что сидишь как неживая? Наливай людям чай, варениной попотчуй, проголодались, поди, с дороги.
— Благодарствуем. Чаевали под крутым отвалом. Познакомиться вот с тобой хочет наш начальник уголовного розыска, затем и приехали.
— Сам начальник? Так ведь он же еще пацан! — рассмеялся Слепнев. — Или у вас кого постарше на это место не нашлось? Ладно, побеседуем. Выйди, Степанида, на двор.
— Отчего же, пусть сидит, — спокойно сказал Дорохов. — Я действительно хотел с вами поговорить. Удивляюсь вот, вроде вы намного старше меня, человек, как говорится, в возрасте, а терпите, что все вас Юшкой зовут.
Степанида взглянула на мужа и на Дорохова и с явным интересом стала ждать, как повернется разговор.
— Меня хоть как назови, только выпить поднеси, — отшутился Слепнев.
— Ну так я вам сам объясню. Не уважают вас, Слепнев, люди. Председатель колхоза говорит, что вы плохо работаете. Соседи не дружат с вами потому, что вы к ним без почтения. Друзей, приятелей у вас нет.
— Ты, начальник, брось эту канитель разводить. Я ее в разных местах слышал. Раз приехал разговаривать, по делу говори.
— Я и говорю по делу, — спокойно продолжал Саша. — Вот никак не пойму: что, вас медом в исправительном лагере кормили, что вы туда снова проситесь?
— Зря, начальник, тот срок мой вспоминаешь. Мне суд пятерку определил, а я их за три года отбыл. Потому что вкалывал как лошадь. День за два считали, вот и выпустили досрочно.
— Вот видите, — обратился Саша к Степаниде. — За проволокой, да под охраной, ваш муж работал хорошо. Можно сказать, отлично, а здесь, в колхозе, за прошлый год у него всего семьдесят трудодней. Если считать в среднем, то всего один день за шестидневку получится. В лагере бы так работал, по такой арифметике только б через тридцать лет освободился.
— Нет такого закона, чтобы сверх срока держали.
— Ну хорошо, это я так, к слову. А сейчас о другом. Вот вы, Слепнев, сказали нашему инспектору, что по чужим кладовкам да по сараям лазить перестали.
— Что верно, то верно. Как пришел домой, еще и слуха не было, чтобы где что у людей нашкодил, — подтвердил Хлынов.
— И никто не скажет, не обижаю я людей, а если и выпью, дак за свои или за Степахины.
— Людей вы не обижаете, так это со страха. Чего доброго, заявят, а еще хуже — поймают да самосуд устроят. Поэтому вы и решили грабить тайгу. Но браконьерством заниматься не дадим. Не позволим выбивать под корень зверя и птицу. Считайте, что я вас предупредил. Будете продолжать безобразничать — арестуем. И еще — сдайте винтовки. Принесите добровольно.
— Нет у меня винтовок, и ты, начальник, не пугай, в тайге меня еще и поймать надо. Да вот скажи своему Тимохе, чтобы по пятам не ходил. Неровен час, где ни то поскользнется. — Слепнев уже оправился от растерянности и вел себя в своей обычной наглой манере.
— Зря вы угрожаете, Слепнев. Никто вас не боится, со всем сельским активом вам не справиться, а участковому я помогу. Хотелось, чтобы и ваша жена в стороне не оставалась. Для нее-то ведь лучше, когда вы дома, а не в тюрьме.
Женщина горько вздохнула и молча вышла из барака. Участковый инспектор, с интересом слушавший разговор, тоже поднялся.
— Я ведь знаю, Слепнев, почему ты на заимку подался. Решил пантачей погонять. Так учти, что и прошлогодних изюбрей тебе никто не забыл. А в этих местах я все солонцы знаю, и, если хоть где твой след найду, берегись. Ну, бывай, погостевали — и хватит. Поехали, товарищ начальник, солнце-то уж за сопку перевалило.
В километре от заимки Хлынов слез с коня, подождал Сашу, взял оба повода и привязал лошадей к березе.
— Здесь лучше пешими. Солонец тут отменный. Весь зверь с ближайшей округи на него соль лизать идет. Через месяц, а то чуть пораньше у изюбрей панты поспеют. Тогда и начнется отстрел. На наш сельсовет в этом году всего две лицензии дали. Одну Прокофию, а вторую Мишаньке Гостеву, тоже знатный охотник, и все. Слепнев просил, но ему отказали. Он под одну лицензию пяток зверей завалит. Если схватят с изюбрем, он сразу предъявит разрешение на отстрел. А поди узнай, первый это пантач или пятый?
Незаметно Дорохов и Хлынов вышли на небольшую лужайку. Посредине ее была неглубокая яма, заполненная талой водой. Вокруг ямы чернела земля с мелкой, едва пробившейся, но уже истоптанной травой. Мелкие двойные ямочки в форме параллельных запятых оставляли своими копытцами козы. Углубления чуть больше, подлиннее — следы изюбрей. Совсем большие лунки отпечатали раздвоенные копыта сохатого. Хлынов несколько раз обошел солонец, внимательно рассматривая землю, долго разглядывал почву под двумя березами, стоявшими неподалеку, и позвал Сашу:
— Смотрите сюда, побывал уж тут Юшка-то. Видно, собирается ладить лабаз на березах.
Действительно, под деревьями была отчетливо видна свежепримятая легкой обувью земля, вдавленные прошлогодние травинки, сломанные сучки.
— Значит, и винтовка у него где-то здесь, раз пантачей собрался добывать. Промашку мы с вами сделали, товарищ начальник, нужно было перед разговором хотя бы на этот солонец заглянуть. — Хлынов посмотрел на солнце, подкатившееся к горизонту, и предложил: — Если поспешим, то до темноты еще на один солонец успеем. Посмотрим, что и как там, и заночуем на речке. Когда сюда ехали, приметил стожок сена. Будем спать как на перине, и лошадки похрумкают вволю.
Второй солонец оказался почти на середине дороги к селу, в распадке, по которому резво бежал ручеек чистой ключевой воды. Небольшую болотину, окруженную кустарником и редкими елками, тоже истоптало зверье. На нижних ветках большой разлапистой березы, метрах в пяти от земли, Саша увидел помост из трех досок. К стволу березы поперек, как ступеньки, были прибиты короткие поленья. Блестящие шляпки гвоздей еще не успели и заржаветь. Дорохов влез на помост, на нем можно было свободно лежать, просматривая солонец. Повыше торчали коротко обрубленные ветки, специально для того, чтобы повесить на них сумку, телогрейку или еще что-то.
— Хорошо устроился, — решил Дорохов, — с комфортом. Как, Тимофей Спиридонович, разорим этот лабаз или оставим?
— Думаю, оставить надо, товарищ начальник. Если до дождя здесь Юшка не побывает, то потом и следа нашего не найдет. Может не догадаться, что все его труды нам известны. На ближнем-то к заимке солонце он специально ладить лабаз не стал, чтобы не заметили, а здесь, подале, сколотил. Наверное, думает, что про это место я не знаю. Ну, если потрафит, его можно тут прямо с винтовкой прихватить.
— А как это лучше сообразить, в селе обсудим. У вас найдутся ребята не из пугливых?
— У меня помощников много, а трусливых среди них нет.
— Ну вот и отлично.
К стожку подъехали уже потемну. Разворошив его, забрались в мягкое сено, чуть припахивающее прелью.
— Давайте утром послушаем глухаришек. Тут недалеко, на той стороне, в листвяге есть точок, — предложил Хлынов. — Десяток, а то и полтора петухов песни петь собираются. Моя старуха глухаря целиком тушит с картошкой да с приправой разной. Я собирался сегодня с вами, а она: «Возьми карабин, привези петуха». А мне совестно: колхозники в поле, а я за охотой. Не будешь же каждому объявлять, что по делу собрались. А у вас ружье. Пару собьем — и домой. Вы на глухарей-то ходили?
— Ходил с отцом и один. У нас их по Иркуту пропасть. Давайте заедем. Я, как в уголовный розыск поступил, ни разу на охоту не выбрался. В институте находил время. Бывало, едем на практику, так захвачу мелкашку, и в котле всякий раз дичь. Ружье отец почти полгода назад подарил, так поверите, я вчера с Прокофием Алексеевичем первый раз его попробовал, — уже сонным голосом говорил Саша.
Они проснулись до зари. Подседлали лошадей, ехали медленно и совсем недолго. Хлынов огляделся.
— Вот тут лошадей привяжем, там у тебя под седлом брезент сверху потника подложен, тащи его, я твоей кобыленке овсеца подсыплю, пусть завтракает, и пойдем.
Лиственницы еще только чуть залохматились, и сквозь ветви хорошо просматривалось небо. С востока, над сопками, оно посветлело. Тренькнула в кустах какая-то пичуга, ей ответила другая, выскочил почти из-под ног охотников бурундук и заверещал, заругался за беспокойство. Хлынов шел впереди, аккуратно ставил ногу на носок и ступал тихо, без треска. Саша за годы городской жизни разучился этому мудреному шагу и неосторожно сломал несколько сучков. Их треск резанул по ушам, и Хлынов пошел медленнее. Поднявшись на небольшой отвершек сопки, он остановился и шепотом объяснил:
— Здесь подождем. Где-нибудь тут затаились, света ждут.
Саша нащупал в кармане патроны, что еще с вечера отобрал из сумки, хотел зарядить ружье, но потом решил не торопиться. На дальних гольцах, покрытых вечным льдом, заискрился, зарозовел снег, и сразу посветлело. Словно по звонку, где-то рядом запела, засвистела птичья мелочь, а следом за ней внизу, где остались лошади, зачуфыкали тетерева, и вдруг, разрезая весь этот гомон, разнеслась над тайгой дикая, необычная глухариная песня. Она раздавалась близко, почти рядом. Подальше ответил второй петух, потом третий. Начался ток. Откуда-то сверху, с полгоры, на токовище подлетело еще несколько птиц. Прямо над Сашей, расстилая крылья, пронеслась на свадебный праздник глухарка. Ее серое перо даже в полумраке рассвета нельзя было спутать с черным нарядом петухов. Дорохов осторожно переломил двустволку, вложил патроны и закрыл, стараясь не подшуметь ток, но участковый его попридержал: подожди, мол, послушаем. И они замерли, наслаждаясь восходом, терпким таежным запахом, глухариным пением, раздававшимся под аккомпанемент всего пернатого населения. Когда совсем посветлело, на нескольких лиственницах на выстрел и подальше стали отчетливо видны таежные великаны. Они черными шапками развесились по деревьям. Одни сидели нахохлившись, прислушиваясь к току, другие, запрокинув голову, захлебываясь, пели, расхаживая по сучкам. Песни поднимались и откуда-то снизу, где петухи токовали прямо на земле. Сосчитав поющих глухарей по голосам, а молчунов «на подзор», Хлынов шепнул, что ток куда больше, чем он ждал. Указал Саше небольшую полянку, где, распустив крылья, разгуливали несколько петухов, никак не решаясь начать драку, и подтолкнул его вперед.
Осторожно ступая и осматриваясь по сторонам, Дорохов заметил копалух — глухарок, чинно рассевшихся на нижних ветках лиственниц. Они безразлично посматривали на горланивших женихов, делая вид, что все это их не касается.
Саша сдвинул у ружья предохранитель и, положив стволы на левое предплечье, медленно стал спускаться по косогору. Когда до токующих на земле птиц оставалось шагов тридцать, у Саши из-под ног вырвался камень и с треском и шумом покатился вниз. Глухари, словно от страшной опасности, взмыли вверх. Очень сухо один за другим треснули выстрелы, и два глухаря снова вернулись на землю. Саша присел, меняя в ружье патроны, а Хлынов остался стоять, прижавшись к дереву. Прошло совсем немного времени, и чуть дальше, возле каменной россыпи, затоковал глухарь. Ему ответил второй, затем сразу несколько, и ток возобновился, словно ничего не случилось. Те, что остались живыми, самозабвенно пели о любви. Сашу особенно поразили глухарки. Их вовсе и не расстроила гибель двух женихов, они нехотя перелетели на соседние деревья. Спускаясь к лошадям, Дорохов сбил случайно налетевшего тетерева. Косач, видно, проспал зорю и торопился на любовный турнир, но наткнулся на пущенный Сашей сноп дроби.
Возле лошадей, пока участковый крепил к седлам в торока дичь, Саша уселся на поваленную бурей лесину и почувствовал какую-то безотчетную тоску. Он не мог понять, что с ним происходило. В душе шевелилось неопределенное, необъяснимое беспокойство. Может быть, потому, что окружающая тайга была чиста и первозданна. И Саше захотелось остаться здесь, чтобы не возвращаться в тот мир, где за последние два года встретил столько всякой нечисти. И впервые он разговорился в общем-то со случайным человеком.
— Знаете, Тимофей Спиридонович, как только гольцы на рассвете заиграли, так здорово стало вокруг, у меня аж дух захватило. Вот сижу и думаю, остаться бы здесь насовсем. Зря, наверное, пошел в уголовный розыск. Окончил бы институт, приехал бы к вам или еще куда в колхоз агрономом, и все восходы и рассветы были бы мои. Жил бы просто, среди хороших людей. Охотился бы, рыбачил. А сейчас, — Саша вздохнул, — разные крученые, смоленые, да юшки. Это разве люди? Со мной парень один учился, вместе нас комсомол послал в милицию. Его отец тогда плакал. Он тоже агроном и хотел все свои труды сыну оставить, чтобы тот дальше продолжал. Начальство решило этого парня отчислить, но он сам уперся: «Буду работать в уголовном розыске, и все». А через два месяца его убили. А потом один дурак по глупости и со страху еще одного нашего комсомольца ранил… Нет, пули или там ножа я не боюсь. Боюсь к людям отношение изменить. Раньше я как жил? Учеба, комсомольские дела, бокс, охота, и кругом хорошие люди. Конечно, знал по слухам, что есть воры, бывают убийства всякие. Но это только по слухам. А тут, в уголовном розыске, сразу все перевернулось. С виду порядочная женщина оказалась заядлой воровкой и поначалу обвела меня вокруг пальца. Потом познакомился с рецидивистом, что еще при царе воровать начал. Он все о честности воровской нам болтал, а как ему туго пришлось, так свою помощницу, а может, и любовницей она его была, не моргнув глазом, на тот свет отправил, чтобы она чего лишнего про него не сболтнула. Пришлось столкнуться с такой человеческой подлостью, о которой и не подозревал. Иногда просто страшно — вдруг я смогу примириться с этим, — очерствею, что ли?
Участковый внимательно слушал, рассматривая что-то под ногами, несколько раз взглянул на Дорохова, а потом снова опускал глаза, чтобы не спугнуть его.
— Знаешь, Саша… — Участковый впервые Дорохова назвал по имени. — Трудно, наверное, всем у нас в милиции… Но ты тут не лишний, работа у тебя ладится. Мне ребята рассказывали, как у вас да что. С Федором Дыбовым вместе в армии действительную служил. Со Степаном Простатиным, почитай, родичи. Его жена наша, хараузская. Уважают они тебя. А те — чалдоны, зря хвалить никого не будут. Конечно, трудно тебе после спокойной учебы да без родни. Но смотри сам, зачем тебя Сидоркин сюда вытащил? На гусей ему одному с Прокофием сподручней. Мои дела он за час, за два сам всегда разбирал. Видать, хотел тебе уважение сделать, значит, ценит тебя. А запачкаться? Знаешь, как говорится, свинья грязи найдет. Так то же свинья! А если ты человек, то человеком и останешься, а в агрономы тебе уже теперь путь заказан. Я бы тоже на трактор сел. Жил бы спокойно и в два раза больше зарабатывал бы. Ну, а людей защищать от воров да от бандитов кто будет?
Возвратились они в Харауз в полдень. Прокофий Алексеевич осмотрел Сашину добычу, подул под перо, прикинул на руке и остался доволен.
— В этом году птица ладно перезимовала. Хватило кормов, вот и жирок под кожей есть. Айда-те чаевать, а то начальник дальше засобирался.
Александр еле уговорил Хлынова взять одного глухаря. За столом он попросил Сидоркина:
— Разрешите, мне, Леонтий Павлович, еще на денек в Хараузе остаться.
— Решил поохотничать?
— Нет. Помогу Тимофею Спиридоновичу со Слепневым разобраться.
— Давно пора, — вмешался хозяин дома. — Пакостный мужичонка. Таких, на мой взгляд, надо из тайги в город выселять. Там не шибко разгуляешься.
— Оставайся, — решил начальник милиции.
— Тогда еще просьба. Мои трофеи захватите, да и ружье тоже. Пусть шофер половину себе возьмет, а остальное завезет Дормидонтовне.
После майских праздников хараузский участковый доставил в город Слепнева. Привез не один, а в сопровождении двух парней — хараузских комсомольцев. Они втроем привели Юшку в уголовный розыск, и Дорохов, едва взглянув на них, не смог удержаться от смеха — настолько комично выглядела вся группа. Два здоровенных парня, увешанные оружием, а между ними маленький, невзрачный Слепнев. У Юшки фонарь под глазом, а у добрых молодцов носы и губы распухли. Сразу было видно, что в горячей схватке ребятам досталось куда больше.

— Ты что смеешься, начальник? Развяжи руки, я тебя похлеще отуродую. А вам, корешочки, это даром не пройдет. Встретимся, рассчитаюсь с каждым. За мной такие должочки не пропадали. И ты, Хлынов, запомни.
Дорохов велел увести задержанного.
— Молодцы, ребята, — похвалил он парней. — Ну, говорите, как удалось?
— Поболе двух недель мы с Мефодием на заимке жили, — рассказывал старший. — Юшка к нам попривык и, видать, опасаться перестал. Как панты у зверей доспели, стал он по ночам в тайгу шастать. Вчерась мы его высмотрели. Он в кулаки, а мы-то драться опасаемся. Вот оплеух и нахватали, пока скрутили. Винтовку он со всем припасом в дупле прятал, а дробовики на заимке под колодой.
— Карабин-то японский так и не нашли, — пояснил участковый. — Я тут все материалы на него привез. Доложу Сидоркину — и в прокуратуру. Мои комсомольцы, да и я сам, — в свидетелях. Следователь должен за дело браться.
— Вернетесь в Харауз, хорошенько поищите вторую винтовку, — посоветовал Дорохов, — надо бы и ее изъять. Судить-то Хлынова будут и за это оружие, что хранил незаконно. Но лучше бы и ту тоже найти. Спокойнее на душе будет.
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА — ХЛЕБ ДЛЯ КОМСОМОЛЬЦА…
Саша Дорохов был доволен собой. К нему наконец пришло душевное равновесие и некоторая уверенность в своих силах. И видно, поэтому даже походка изменилась. Он стал ходить размашисто, грудью вперед, высоко вскинув голову. В ту пору шел ему двадцать второй год. Было отчего немножко и загордиться, «забуреть», как говорили тогда его сверстники. Дела он распутывал успешно, преступления в Петровск-Забайкальске да и в районе сократились. И вдруг его вызвали на бюро городского комитета комсомола.
Саша собирался, насвистывая любимый мотив из фильма «Дети капитана Гранта»: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер…»
Он тайком от Дормидонтовны разглядывал себя в зеркало, хмурил брови, чтобы придать себе более значительный вид, щурил светло-голубые глаза — в прищуре они казались более глубокого, темного цвета. Жалко, что с усами у него ничего не получалось. На голове волосы росли буйной светло-золотистой вьющейся шапкой, а вот вместо усов торчала редкая рыжая щетина. Зато лицо загорело, обветрилось. Пропала юношеская округлость. Это Саше нравилось, и он еще плотнее сводил редковатые светлые брови. Да и фигура вроде бы ничего — подтянутая, поджарая. Во всяком случае, новый френч сидел как влитой, кожаный ремень блестел, а уж о сапогах, тех самых знаменитых, сшитых у дяди Кости, и говорить не приходилось. «Ничего парень», — оценил себя Дорохов и, продолжая весело насвистывать, вышел из дома.
На бюро горкома ему предложили рассказать об организации борьбы с преступностью в городе. Саша говорил чинно, размеренно, как и полагается, пил воду из стакана, предусмотрительно поставленного перед ним. Делал значительные паузы, поглядывая на собравшихся. В общем, все как положено. И вдруг… Вместо ожидаемых похвал ему всыпали по первое число. Особенно ополчился на него худощавый, рыжий парень в очках.
— А по-моему, ты, Дорохов, просто карьерист. «Мы сделали, мы добились»… — передразнил он Сашу. — А почему, кроме своей должности и уголовного розыска, ты ничего вокруг не видишь? Скажи, почему до сих пор бригадмила не организовал? Почему комсомольцев в помощь не зовешь? Общественная работа как хлеб для комсомольца! А тебя ничего не интересует, кроме твоей уголовщины. Оторвался от комсомола, от людей. На лекции не ходишь, в библиотеке не показываешься. В городской комитет зашел только на учет становиться да вот сейчас, когда пригласили. Может, ты и газеты не читаешь? Не ведаешь, что фашисты почти всю Европу захватили?
— Ну уж ты хватил, Петров, — прервал его секретарь, — помолчи пока, остынь. Но ты действительно объясни, Дорохов, — обратился он к Саше, — почему ваши комсомольцы в осоавиахимовские школы не ходят. В снайперской из милиции нет никого. Вы что же там, все отличные стрелки? По-моему, это непорядок. Давайте запишем: «Поручить комсомольцу Дорохову возглавить военно-спортивную работу в милиции». Кроме того, пусть Дорохов возьмется за организацию бригад содействия милиции по всему городу. Согласны? Вот и отлично. И еще: давайте обяжем члена бюро Петрова оказать помощь Дорохову во всех организационных вопросах. — Секретарь посмотрел на парня в очках. — Не возражаешь, Павел? Тогда перейдем к следующему вопросу.
После бюро Саша забрел на берег пруда. За Домом культуры была скамейка, он уселся на нее и час или больше просидел, обдумывая все, что услышал. В институте он был заместителем комсорга курса и сам вот так же, бывало, пробирал комсомольцев, а когда пришел в уголовный розыск в Иркутске, то как-то получилось, что их, практикантов, первое время не привлекали к общественной работе. Здесь, в Петровск-Забайкальске, сразу с головой ушел во всякие дела и… оказался карьеристом. «Загнул этот очкарик, — подумал Саша. — А вообще-то в чем-то они и правы».
Подходя к отделу, увидел, что окна начальника милиции освещены, и он сразу прошел к Сидоркину.
— Ты что, Дорохов, долго? Я уж звонил в горком. Говорят, ушел. Думал, не придешь вовсе. Рассказывай по порядку. Попало? Правильно. Скажу по секрету: мне на прошлой неделе в городском комитете партии тоже досталось. Давай думать вместе, что следует делать.
…Дорохов стоял на трибуне и всматривался в затемненный зал. Мгновенно вспомнились комсомольские собрания в институте, только там в зале сидели свои ребята, студенты, а здесь рабочие парни и девушки, комсомольцы чугунолитейного завода, которых Саша, к стыду своему, плохо знал. Правда, по служебным делам ему приходилось заглядывать в их клуб, общежитие, комитет комсомола, а вот так, со всей заводской комсомолией, встретился впервые. Он тщательно готовился к этой встрече, написал большой доклад. Черкал и выправлял его Сидоркин. И вот теперь, когда председатель собрания объявил, что с информацией о своей работе выступит начальник уголовного розыска комсомолец Александр Дорохов, он растерялся. Сначала хотел просто прочитать отпечатанный на машинке текст и вдруг понял, что от него ждут живого слова. И Саша начал говорить. От волнения первые фразы получились невнятные. Но когда с задних рядов крикнули, чтобы он говорил погромче, Саша собрался и почувствовал себя свободнее.
— Хочу вам рассказать об уголовном розыске, как сам туда попал, какие бывают преступники и как мы с ними воюем. Как убили комсомольца, еще не успевшего научиться работать.
Саша говорил долго, вспомнил Гришку Международного, рассказал о том, как старые рецидивисты вербуют себе помощников среди слабых парней и девчат, и только под конец, взглянув на часы, удивился: пролетело положенное время, а он и слова еще не сказал о том, ради чего пришел сюда, ради чего вместе с начальником милиции корпел над докладом.
— Товарищи! Все это я рассказал вам для того, чтобы вы имели представление о нашей работе, а главная моя задача в том, чтобы передать здесь вам просьбу комсомольцев и коммунистов нашего отдела: давайте все вместе объявим поход против шпаны и хулиганов. В уголовном розыске мы создаем бригаду содействия милиции и приглашаем вас вступить в нее.
В зале началось оживление, и посыпались вопросы, на которые Саша едва успевал отвечать. Из президиума ему подали две записки. В одной неизвестный автор спрашивал: верно ли, что в уголовном розыске работают бывшие воры и бандиты. Вторая была написана крупными аккуратными буквами и подписана:
«Катя Субботина».
— Сначала отвечу тому, кто не решился поставить свою фамилию. — И Саша прочел вслух записку. — Так вот, товарищи, такие слухи обычно распускают сами преступники, чтобы подорвать авторитет работников советской милиции. В уголовный розыск, да и вообще в милицию, принимают честных, проверенных людей, в основном коммунистов и комсомольцев. Теперь другая записка. Катя Субботина спрашивает, примут ли девушек в бригадмил. Будем только рады. Приходите, Катя, обязательно приходите.
«МАДЕМУАЗЕЛЬ ЛЕ ДАНТЮ» ЕДЕТ НА ЗАПАД
Когда Саша вышел из заводского клуба, к нему подошла высокая белокурая девушка и, улыбаясь, протянула руку:
— Это я Катя Субботина.
— Александр Дорохов, — отрапортовал Саша.
Девушка расхохоталась:
— О том, что вы Александр Дорохов, узнала не только я, но и все двести человек, присутствовавшие на вашей увлекательной беседе.
Саша отметил, что у девушки строгие темные брови и серые глаза, что одета она не по здешней моде. Короткое пальто, вместо сапожек аккуратные туфли, а серый берет небрежно натянут на одно ухо.
— Я рад быть полезен вам, Катя Субботина, — с подчеркнутой вежливостью произнес Саша.
— Сейчас поздно и темновато. А вы говорили, что у нас есть еще всякие нехорошие элементы. А посему не проводите ли вы меня?
Саша думал зайти еще в отдел, знал, что его ждет Сидоркин, но деваться было некуда.
— С удовольствием. — И он решительно подхватил девушку под руку.
— А это не обязательно. — И Катя независимо пошла рядом. — Вообще-то вы меня заинтересовали. Неужели вы сами задерживали того интернационального бандита?
— Участвовал, — буркнул Саша.
— Ну и это неплохо, — снисходительно обронила девушка.
— А вы-то сами чем занимаетесь? — плохо скрывая обиду, спросил Саша.
— Я врач, работаю в медпункте на заводе. Приехала в прошлом году из Свердловска по распределению, после окончания института… Свою профессию люблю. Люблю людям делать добро. Стоп, вот здесь я и живу. — Катя остановилась у небольшого деревянного дома. — А вы ничего, Александр Дорохов.
Саша засмущался, хотел ответить, что она тоже, мол, ничего, но не очень кстати пригласил заходить в уголовный розыск. Катя искренне рассмеялась:
— Всенепременно. А вы заглядывайте ко мне в медпункт. А еще лучше приходите сюда. У меня намечается маленькое торжество. Ну, до этого дня, думаю, мы еще с вами увидимся.
Доро́гой Саша придумывал слова, целые фразы, которые мог бы, просто должен был сказать этой девушке, но, увы, они пришли слишком поздно… А потом Саша как-то и забыл про Катю Субботину. Теперь он каждый вечер с двумя своими сотрудниками отправлялся в снайперскую школу. Стрельбе учились в основном заводские комсомольцы. В красном уголке милиции по вечерам стали собираться ребята с синими повязками на рукаве, с надписью: «Бригадмил». Они расходились по улицам, отправлялись на дежурства в клуб и во Дворец культуры, и в городе почти прекратилось хулиганство.
Однажды на инструктаже бригадмильцев Дорохов увидел Катю Субботину. Девушка невозмутимо выслушала, куда и с кем ей идти на дежурство, и попросила Сашу помочь прикрепить к рукаву синюю повязку.
— Ну вот я и пришла. А вы ко мне не заглянули.
Саша покраснел. И чтобы перевести разговор, предложил:
— Идемте, Катя, я покажу вам уголовный розыск.
Девушка явно была разочарована предельной скромностью обстановки. Но вот фотография Байкала, которая лежала у Саши на столе под стеклом, ее явно заинтересовала. Пес сидел возле низкой пушистой елки, слегка склонив набок голову и высунув язык.
— Какой красавец! Это о нем писали в газете, что отыскал в тайге заблудившегося ребенка?
Саша утвердительно кивнул. Он не стал рассказывать, каких трудов стоило им с Простатиным заставить работать проводника и собаку.
— Акимов, зайди на минутку, — позвал Дорохов. — У нас были увеличенные снимки Байкала. Давай подарим Кате Субботиной на память об уголовном розыске. У нее хороший вкус. Она сразу заметила ум и обаяние… — Саша сделал паузу, — Байкала, конечно.
— Сейчас сообразим.
Акимов вернулся с фотографией величиной с тетрадный лист, наклеенной на плотный картон, Катя потребовала дарственную надпись, и Дорохов четко вывел: «Кате Субботиной от преданных Байкалу сотрудников уголовного розыска». Саша посмотрел на профиль девушки и строгую прямую линию лба и носа и неожиданно предложил:
— Хотите, мы и вас запечатлеем по всем правилам сигналитической съемки?
Девушка вопросительно изогнула брови. Дорохов объяснил, что в криминалистике принято называть сигналитическими снимками те, что делаются в определенном масштабе и ракурсе. Покопавшись у себя в столе, вытащил карточку. На одном снимке заросший и всклокоченный тип был запечатлен в фас — лицом к аппарату и боком — в профиль.
— Ну что же, — согласилась Катя, — вряд ли мой профиль хуже, чем у этого бродяги.
Отступать было поздно, и ее усадили на специальный стул, прикрепленный к полу перед допотопным фотоаппаратом. Акимов сделал снимки, попросил было подождать, пока проявит, но Катя решительно отказалась, сославшись на долг, который призывает ее охранять общественный порядок.
— Долг есть долг, — согласился Саша.
Вечером он сам принялся колдовать в фотолаборатории. Пока высыхали негативы, достал из стола книгу, полистал страницы, отыскал фотопортрет молодой женщины и долго в него всматривался. Потом специальным карандашом сначала смягчил на негативе твердую линию бровей, убрал с лица тени, затем отретушировал овал, сгладил острый Катин подбородок, чуть-чуть поднял углы твердого рта. Подобрав подходящую бумагу, стал печатать карточки. Полученными снимками Саша остался доволен.
В середине шестидневки Катя позвонила Дорохову и объявила, что в субботу вечером ждет его к себе в гости на дружескую вечеринку. Саша собирался куда тщательнее, чем на бюро горкома. В магазине долго выбирал конфеты. Когда подходил к дому Кати, еще издали услышал мажорные звуки патефона.
В крохотной прихожей его встретила шумная компания. Саша не сразу рассмотрел лица, но зато реплики были достаточно прозрачными: «Братцы, тише! Милиция! А вот и наш Пинкертон! Ура блюстителям порядка!»
Катя в светлом расклешенном платье, с длинными бусами «под жемчуга» выглядела как нельзя празднично.
— Ребята! Хочу представить моего нового знакомого и, надеюсь, поклонника, — торжественно объявила она и подхватила Сашу под руку.
В большой комнате в углу стоял стол, застланный белоснежной простыней, к нему были подставлены две койки под байковыми одеялами, несколько разнокалиберных стульев, на тумбочке примостился патефон.
На столе, кроме винегрета, колбасы и миски дымящейся картошки, стоял довольно солидный графин с разведенным спиртом. Принесенные Сашей две бутылки шампанского и коробка конфет выглядели как городские гости на сельском празднике.
— Смотрите, девочки, а ведь наш Пинкертон еще и джентльмен! — радостно воскликнула Катя.
Саша никак не мог понять, зачем его пригласили и что здесь за торжество, чувствовал себя неуютно, но держался невозмутимо.
Из соседней комнаты вышел очень крупный, плотный парень в серой рубашке с ярким галстуком, он довольно долго и дружелюбно рассматривал Сашу через очки, чуть отставляя их от глаз. «Почти как лорнет», — усмехнулся про себя Саша. Наконец парень протянул ему большую лапу с коротко стриженными ногтями.
— Местный эскулап Петр Примакин. Между прочим, хирург… А к тому же известен как жених хозяйки дома. Примечай.
— А мне аппендикс уже вырезали, — с серьезной миной ответил Саша.
— Жаль, — вздохнул парень. — А я уже с удовольствием представил его на своей ладони.
— Только без лишнего натурализма, — прекратила пикировку Катя. — Да вы, Александр, его не слушайте. Врачи, как известно, не стесняются в выражениях.
— Я пытаюсь отгадать, что мы празднуем? — обратился Дорохов к окружающим.
— И не пытайтесь, — ответила толстенькая, краснощекая девушка.
— День рождения?
— А вот и нет.
— Помолвка?
— Это все впереди, — вздохнул хирург.
— Именины?
— Отгадать, Саша, невозможно, — очень серьезно сказала Катя. — Мы с Петей уезжаем.
— Куда же? — удивился Саша.
— Далеко отсюда… Поближе к западным границам. Вы же знаете, в армии нужны врачи.
Все примолкли и посерьезнели. Однако никто не мог предположить, что врачи там потребуются совсем скоро, менее чем через год… Много, очень много врачей, и не только врачей…
А сейчас летели пробки от шампанского, все смеялись, выяснилось, что шампанское пробовали только в Новом году, а вот так, запросто, его не пили. Потребовали завести и пластинку под стать — «Брызги шампанского», а потом дочь Утесова Эдит пела про делового пожарного…
Катя хотела сменить пластинку и спохватилась:
— А где же мой портрет?
Саша вытащил из чемоданчика свое произведение и протянул девушке. С плотной глянцевой бумаги смотрела красивая, нежная, с мягкой полуулыбкой и с чуть намеченными ямочками на щеках девушка, весьма отдаленно напоминающая ее — Катю Субботину.
— Петр, посмотри, что он сделал с моей физиономией.
Хирург надел очки, взглянул на карточку, потом на Дорохова.
— Да ты, брат-сыщик, шутник и мастер. Превратил Катю в мадам Ле Дантю, то бишь Ивашову. Удивительно. Очень похожа на миниатюру Бестужева. Да-а, здесь когда-то эта француженка скрасила жизнь декабриста Ивашова.
Дорохов скромно промолчал. Теперь-то уж о декабристах он знал многое. А Петр передал карточку девушке, сидевшей рядом, и продолжал:
— Вы, конечно, знаете, что сто десять лет назад в Петровском заводе появились удивительные женщины. Их привезли из Читы вместе с мужьями-декабристами. Они пренебрегли высоким положением в свете, добровольно разделили участь своих супругов. Княгини Волконская, Трубецкая, да и другие приехали в эти тогда глухие края. Среди этих женщин была и француженка Ле Дантю. Помнишь, я тебе говорил, — обратился он к своей невесте, — что ты чем-то на нее похожа? И твой сыщик тоже уловил сходство.
Дорохов разлил остатки вина, поднял стакан:
— Конечно, Камилла Ле Дантю, графиня Чернышева, Полина Гебль и другие прекрасные женщины достойны вечного признания и уважения. Но я предлагаю тост за наших девушек.
— В верности и самоотверженности которые никому не уступят, — подхватил Петр…
ВОЙНА
Третий день Дорохов жил на заимке у старого лесника. Просыпался до свету, седлал злого гнедого мерина и по холодку отправлялся в тайгу. Когда солнце поднималось высоко и начинало припекать, одолевал гнус, он выбирал распадок с ключом и где-нибудь на юру, где даже в безветрие дул ветерок, разгонявший мошку и комаров, останавливался и первым делом разводил дымокур. Стреноженный мерин сразу же подходил к костру с подветренной стороны и мордой лез в самую струю едкого
желтоватого дыма. Лошадь одолевали пауты.
Дорохов набирал в котелок воды, пристраивал его на огонь и потом, прихлебывая чай, думал свои невеселые думы.
Уже месяц шла война. Поредела милиция. С первых дней ушли на фронт опытные работники, среди них Федор Дыбов. А их, молодых, не взяли, несмотря на просьбы, рапорты. Сказали, что тут в тылу нельзя закрывать на замок их службу. Саша обивал пороги начальства, но безрезультатно. На прошлой неделе его вызвали в городской комитет партии и секретарь горкома безо всяких обиняков объявил, что его, комсомольца Дорохова, решили назначить начальником разведки партизанского отряда, который будет создан в случае нападения самураев, но готовиться к этому надо заранее. Секретарь разложил перед ним карту, ту самую, что лежит теперь у него в полевой сумке, отчертил синим карандашом северную часть Тарбогатайского хребта, в общем, велел отправляться в эти места и отыскать базу для отряда, найти укромные места, в которых можно было бы загодя, на случай войны на востоке, заложить оружие, боеприпасы и продовольствие. И еще велел разузнать, что за люди живут вокруг, можно ли на них положиться. Разговор был короткий, деловой, секретарь горкома пожелал ему счастливого пути, а потом уже, когда Саша хотел уходить, остановил:
— Дело тебе, Дорохов, поручаем огромной важности, смотри не проболтайся. Время теперь военное. Ты член призывной комиссии? Вот и отлично. На работе или там знакомым скажешь, что посылает военкомат в отдаленные села — разобраться с призывниками.
За эти дни Саша объехал добрую сотню километров, а найти то, что искал, не удавалось. Правда, у подножия одной сопки попалось несколько пещер, сухих и довольно просторных, но к ним было очень трудно добираться. На всякий случай он отметил их на своей карте-трехверстке и продолжал поиски. Срок его командировки истекал, а выполнить задание не удавалось. Наконец недалеко от Чикойского тракта, в безлюдном месте, в отвершке сопки нашел две удобные, большие, сухие пещеры. Не понравилось только, что в одной из них кто-то жил, судя по всему, года два-три тому назад. В остальном же пещеры вполне подходили. Охранять их могли два-три стрелка, так как сверху сопки открывался отличный обзор и далеко просматривались подходы к ее безлесой подошве.
«Почему именно мне поручили это задание? — раздумывал Саша, возвращаясь в город. — Ведь можно было найти коммуниста, выросшего в этих краях и знавшего с детства не то что пещеры, но и каждый ручей в тайге, любую ложбинку в сопках».
Докладывая о своей поездке, не вытерпел, спросил, почему не послали на это задание местных жителей. Секретарь строго посмотрел ему в глаза:
— Любопытствуешь, Дорохов, не в меру. Думаешь, если у нас здесь начнется война, то нам только одна база понадобится? А потом, ты же часто в селах бывал, примелькался людям, вот и послали тебя.
После возвращения из тайги Дорохов приутих. Слушая фронтовые сводки, перестал ругать начальство, не пускавшее его воевать. Перестал строчить рапорты. Теперь он знал, что и здесь каждый момент может начаться война и на этот случай ему уготовано серьезное дело.
Прошел месяц, второй. Фашисты захватили Белоруссию, Смоленск, рвались к Ленинграду, а на востоке было тихо. Правда, поговаривали, что и над тайгой пролетал самурайский самолет-разведчик. Шли слухи, что японцы забыли халхин-голский урок и снова стягивают войска к нашим границам. А Саша в своем поредевшем после призыва милицейском отделе продолжал заниматься обычными делами. Теперь он сам частенько по ночам ходил в патруль. Если видел, что сотрудники устали, брал Байкала, и вдвоем они обходили весь город.
В начале октября Сашу опять вызвали в горком. В приемной Саша увидел заместителя военкома и начальника склада взрывчатки рудоуправления. Вид у первого секретаря был усталый, осунувшееся лицо серым и угрюмым.
— Поедете в Иркутск. Получите груз. Старший — заместитель военкома. Дорохов отвечает за охрану. Начальник милиции советовал взять с собой собаку. Проводника брать не стоит. Нечего посвящать в это дело лишних людей.
Так Саша снова почти через два года оказался в Иркутске.
Оставив Байкала на попечение спутников, отправился в управление. Первым, кого он встретил, был заместитель начальника уголовного розыска Иван Иванович Попов. Он узнал Сашу, обрадовался, затащил к себе в кабинет и засыпал вопросами. Спрашивал, как поживает Торский, как дела на границе. Потом спохватился и позвонил по телефону:
— Зайди ко мне. Я тут одного твоего крестника поймал. Допрашиваю его, а он не сознается.
Пришел Фомин, и Саша, обнимая своего учителя, про себя отметил, что Михаил Николаевич похудел, возле запавших глаз появились новые морщины. Он тоже обрадовался встрече, осматривал Сашу со всех сторон, радостно улыбался:
— Смотри-ка, совсем настоящий мужик стал.
— Я вас обоих часто вспоминаю. Особенно когда трудно. Вы-то как тут живете?
— Живем… Уехал от нас Чертов. Картинского, да и многих ребят, призвали в армию. Из вашего пополнения только двое остались — Боровик и Нефедов. Оба у меня работают в группе. На них не жалуюсь. — Фомин взглянул на часы. — Скоро оба заявятся. Увидишь.
— Побегу! — Дорохов заторопился. — А то меня хватятся, а я на час всего-то и вырвался. Приду в другой раз, с ребятами повидаюсь, да и с вами мне еще побыть хочется.
— Ты зачем приехал-то? — поинтересовался Фомин.
— Не по своим делам я, дядя Миша.
— Приходи ночевать. Жена будет тебе рада.
— Наверное, не смогу. Не один я здесь, и как еще сложатся дела — не знаю. В крайнем случае позвоню. Мы на вокзале в гостинице остановились.
На следующий день после приезда Дорохов под вечер заглянул на вокзал. Походил по пустынным залам ожидания и на перроне столкнулся с Анатолием Боровиком. Высокая, всегда подтянутая фигура Боровика, как-то сжавшись, приткнулась к киоску, и Саша не сразу узнал его, а узнав, подумал, что он кого-то выслеживает. Подошел, поздоровался. Но Анатолий даже ответил как-то явно без интереса.
— Что, Толя, помочь?
— Нет, друг, ничем ты не поможешь. Разве вот только посочувствуешь. — Он разжал ладонь левой руки, где лежали карманные часы. — Подожди, сам увидишь…
Ничего не поняв, Дорохов стал глядеть в ту сторону перрона, куда с тревогой всматривался Анатолий. Мигнул красный глаз входного семафора и погас. Затем загорелся зеленый и издали послышался шум подходящего поезда. Длинный железнодорожный состав из одних теплушек оказался воинским эшелоном. Он не сбавил скорости и, прогромыхав на стрелках, скрылся в западном направлении.
Боровик сунул Александру часы:
— Видишь, двадцать часов десять минут, а в девятнадцать часов пятьдесят четыре минуты прошел точно такой же. Каждые шестнадцать минут эшелон. Я уже второй час здесь стою. Идут наши на фронт, а у меня душа разрывается…
— Что же ты, подсчитываешь переброску воинских сил? — съязвил Дорохов.
Боровик посмотрел ему в лицо. Глаза его были злыми. Саше даже показалось, что Анатолий вот-вот его ударит. Но тот достал папиросы и, затянувшись, устало сказал:
— Дурак ты, Сашка. Зачем мне считать силы? Люди едут воевать, а меня не пускают. Был в обкоме комсомола. Говорил, что по комсомольской путевке пришел в уголовный розыск. Просил путевку на фронт. Не дали и обругали. Сказали, что они тоже, весь обком, хотят на фронт. — И очень тихо добавил: — Сегодня батю моего отправили. Батю… Понимаешь? А я остался тут. Мне и матери в глаза смотреть стыдно. Провожать приходил и вот задержался.
Снова погас красный глаз входного семафора, вспыхнул зеленый. Снова без остановки прогрохотал эшелон. Вперемежку с пульмановскими вагонами шли платформы с танками. Было двадцать часов двадцать шесть минут. Стало зябко до дрожи. То ли от ветра, поднятого эшелоном, а может быть, оттого, что оба поняли: на фронт пошли сибиряки, забайкальцы, дальневосточники.
Дорохов знал, какие тяжкие бои идут на западе. Фашисты рвутся к Москве. Но он не слышал грохота бомбежек, лязганья гусениц фашистских танков, треска пулеметных и автоматных очередей, не видел разбитые и сожженные города и села, обездоленных, потерявших кров людей. Может быть, поэтому в его душе теплилась наивная надежда, что скоро война кончится. Что все обернется так же, как при конфликте на озере Ханка и при событиях на реке Халхин-Гол. Ведь не помогла белофиннам линия Маннергейма! Хотелось верить, что фашистов специально затягивают в глубь страны по какому-то особому стратегическому плану и скоро объявят об их полном разгроме. Но здесь, в Иркутске, на вокзале, постояв вместе с Боровиком час, за который перед ними промелькнуло четыре эшелона, он впервые по-настоящему понял, что идет великая война. Что на помощь Москве сняли войска с восточных границ…
Так и не удалось Дорохову больше вырваться в город. Не смог он еще раз увидеть друзей. Когда груз был получен и в ночь назначена отправка, он дозвонился Михаилу Николаевичу. Фомин пообещал приехать, расспросил, где, в каком тупике, находится их специальный вагон.
— Расстаемся мы с тобой, Саша, и неизвестно, когда встретимся. Жаль, что не сумел прийти к нам. — Фомин заглянул в приоткрытые двери вагона, увидел ящики, спутников Дорохова, Байкала, разлегшегося против двери, и тихонько присвистнул. — Ну ясно, что не мог. Ты Боровика видел?
— Пять дней назад мы тут с ним на перроне встретились. Он расстроенный был, и поговорить толком не удалось.
— Теперь уж не скоро свидитесь. Да удастся ли вообще? Сбежал Боровик из уголовного розыска. Дезертировал. — Фомин криво улыбнулся. — Всыпали мне сегодня за него, обвинили в притуплении бдительности.
— Дядя Миша! Вы все загадками говорите, что случилось? — перебил Саша.
— В день, когда отправили на фронт отца Анатолия, вечером Боровик долго разбирался со своими делами. Потом уже ночью, когда собрались по домам, сказал, что заболел, завтра пойдет к врачу и возьмет на несколько дней освобождение. Я, конечно, говорю: «Иди, подлечись». Он мне от своего сейфа ключи отдал — на случай, если что понадобится. Утром он позвонил, говорит, врач прописал постельный режим. Позавчера звоню к нему домой, спрашиваю у матери, как Анатолий себя чувствует. Та отвечает, что не знает, два дня назад уехал в командировку. «В какую, говорю, командировку?» Та удивилась и рассказала, что Анатолий оделся потеплее, взял с собой пару белья и уехал на какой-то прииск. Я отыскал ключи, что мне Боровик оставил, и открыл сейф. Все документы в порядке, сверху лежит револьвер, а под ним записка: «Простите, товарищи, нет сил больше отсиживаться в тылу и ловить жуликов. Иду защищать Москву. Своими руками, своей кровью». И подпись: «Уполномоченный уголовного розыска — Боровик». Ну, сразу шум на все управление, скандал… А сегодня мне на партийном бюро выговор вкатили за притупление бдительности.
Долго проговорили Фомин и Дорохов и только ночью, когда подали к вагону паровоз, распрощались, пожелав друг другу дожить до новой встречи.
СНОВА ЧИТА
В Петровск-Забайкальске Саша доложил начальнику милиции, что задание выполнил, и хотел отправиться домой, но Сидоркин его задержал.
— Жаль мне расставаться с тобой, Саша. Полюбил я тебя, как сына, да и работали мы с тобой дружно. Но приказ есть приказ. Отзывают тебя в Читу, в областной розыск. Попробовал отстоять, но ничего не получилось. Опять же перевод-то с повышением. Скажу по секрету, будешь начальником отделения по борьбе с особо опасными преступлениями во всей области. Сегодня же сдай дела и завтра выезжай. Мне уже звонили из Читы. На твое место прислали Лисина, да ты его знаешь, вместе вас в уголовный розыск по комсомольской путевке направляли. Только он в районе работал.
Опять неожиданно свалилось на Сашу новое назначение, сломало все его планы. Во время поездки в Иркутск он только договорился с заместителем военкома, что тот, несмотря на бро́ню, при первом удобном случае пошлет его на фронт, — и вдруг этот перевод.
Лисина он еле узнал — так он изменился за эти три года, возмужал, раздался в плечах, стал увереннее в движениях и даже говорил баском.
— Последнее время работал в Нерчинске старшим уполномоченным, — рассказывал Лисин. — А тут вызвали в Читу и велели ехать в Петровск-Забайкальск, принимать у тебя дела. Слушай, Дорохов, а как тут с жильем?
Но Сашке почему-то не захотелось навязывать Лисина Дормидонтовне, и он пожал плечами: найдешь, мол, чего там.
Горько было расставаться с городом, к которому привык, с друзьями-сослуживцами. На вокзале провожавшие пытались шутками и смехом развлечь Сашу. Простатин, заметив пристегнутый к рюкзаку большой охотничий нож в деревянных ножнах, даже засмеялся:
— Ножик-то, ножичек зачем в Читу берешь? Оставил бы Дормидонтовне лучину колоть. Там на охоту уж не походишь. Будешь сутками в кабинете сидеть.
Лисин, стоявший рядом, достал из кармана складной перочинный нож с множеством лезвий и предложил тут же меняться. Но Саша поначалу отказался. Он дорожил своим ножом: выковал его местный кузнец из обломка меча, завезенного в Сибирь, может быть, еще самим Ермаком, — но тут же подумал, что действительно в Чите более удобен складной нож, и под общие увещевания и смех в конце концов поменялся.
На первом же полустанке поезд задержали. Саша решил узнать, в чем дело, вышел в тамбур, соскочил на платформу. Его сразу ударило, захлестнуло морозным вихрем, прижало к ступенькам. По другим путям навстречу шел воинский эшелон. Вместе с клубами пара из теплушки вырвалась, кружась над составом, незнакомая песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…
Слова полоснули Александра. Запершило в горле. Вспомнилась сводка, что слушал днем. Фашисты получили по зубам под Москвой, но прорвались к Ленинграду, захватили половину Украины. Даже в Петровск-Забайкальске появились эвакуированные — женщины, дети и старики. Их сразу можно было отличить от местных, и не только по одежде, не приспособленной к сибирским морозам, а по изнуренным лицам, застывшей в глазах тоске.
Дормидонтовна привела к себе в дом бабку с мальчонкой семи лет. Он какой-то заморенный, запуганный. Хлопнет во дворе калитка, а он дрожит, озирается. Про бабку и говорить нечего. Приехали они из-под Смоленска. Старушка рассказывает и плачет: бомбежки, пожары, голод…
Дорохов вернулся в вагон, забрался на свою полку и попытался заснуть. Но перед глазами вставали то Боровик, сбежавший на фронт, то мальчонка, поселившийся вместо него. Перед отъездом Саша отдал Дормидонтовне всю мебелишку, которой обзавелся за это время, а эвакуированной старухе — свою дошку. Сам он уезжал в полушубке, что недавно получил как обмундирование. Мальчишке добыл валенки. Уже собрался уходить, а тут подошел этот пацан и попросил:
— Ты их убивай побольше, дядя Саша!
— Кого? — Не сразу понял Дорохов.
— Да фашистов. — И мальчик серьезно пожал ему руку.
…Как же убивать их, когда поезд несет его совсем в другую сторону, дальше от смертного боя и народной войны! Как жить ему, Дорохову, думал Саша. Написал кучу рапортов, писал о том, что с отличием закончил школу снайперов, доказывал, что может быть разведчиком… И все без толку… В разговоре с военкомом мелькнула надежда… А теперь все рухнуло. Ворочаясь с боку на бок, он так и не заснул до самой Читы.
На читинском вокзале его встретила женщина. Она смотрела с огромного полотна, прижимая к груди ребенка. Ветер колыхал холст, и казалось, что лицо и губы ее были живыми. Мать вопрошающе протянула вперед руку, и слова, написанные внизу, воспринимались не глазами, а сердцем, они звучали громко, на весь вокзал, на всю площадь, спрашивая его, Сашу: что он сделал для фронта?
Дорохов шел от вокзала пешком, отмечая про себя перемены. Всегда многолюдные, читинские улицы опустели. Навстречу попадались солдаты и командиры в одиночку и группами. Прошли строем несколько подразделений, с оружием, с полной выкладкой. Саша остановился, рассматривая роту солдат, вооруженных автоматами. Это оружие было редким, а тут целая рота. Штатской публики почти не встречалось. До управления всего три квартала, но Сашу дважды останавливал комендантский патруль. Только при второй проверке он сообразил, что его полушубок и шапку принимают за общевойсковую форму. Возле магазина, где когда-то покупал хлеб, вытянулась длинная очередь — старухи, женщины и несколько ребят. Мужчин в очереди не было. На весь длинный хвост два старика.
На службу он шел как на каторгу. Зачем ему это повышение? Фронт — вот куда ему надо. Отец прислал письмо, длинное, почти на четыре страницы, сроду таких не писал. Все советы, советы — на все случаи жизни, а под конец просьба не оставлять мать. Видно, не рискнул прямо написать, что ждет отправления на фронт. Отец будет воевать, а он, молодой и здоровый, проторчит в тылу. Кончится война, как он людям в глаза посмотрит?
В мирное время он был бы счастлив стать начальником самого боевого отделения в уголовном розыске. Шутка ли, отделение по борьбе с убийствами, разбоями и грабежами доверяют ему, комсомольцу Дорохову. Но сейчас это назначение его не обрадовало, более того — было некстати.
Деревянное здание управления, где он работал почти два года назад, показалось ему каким-то серым, неприглядным и еще больше нагоняло тоску. В подъезде вместо постового милиционера стояла девчонка. Милицейская форма сидела на ней мешком. Ее тоненькие ножки запросто могли войти в широкое голенище одного сапога. Кобура револьвера оттянула и перекосила пояс. Саша вспомнил бравых, подтянутых милиционеров, по которым посетители судили о всей милиции…
В коридоре на дверях бросились в глаза таблички с новыми фамилиями. Там, где недавно работал Торский, значилось:
«Н. С. Арзубов».
…В тот же день Дорохов получил отдельный кабинет и десять работников. Налицо оказалось трое: два парня, недавно переведенные из милиционеров, да старик из участковых. Старший уполномоченный Крутов лежал после ранения в больнице, еще трое находились в командировках.
Конечно, подумал Саша, при таком-то составе он самый опытный. Крутова он знал и прежде. Толковый, но с грамотешкой у него неважно. С теми, что в командировках, сталкиваться приходилось, ничем особенным они не выделялись. И снова Сашу охватила тоска. К концу дня к нему пришел старик комендант, передал ключ и ордер на комнату:
— Занимай. Комната хорошая, и человек там жил стоящий. Ушел на фронт с первых дней. Сейчас у меня таких хором хоть отбавляй. Не понравится — другую дам.
Зачем ему эти хоромы? И в управлении на диване можно спать. Все равно он задержится тут недолго.
Дорохов выполнял свои обязанности почти механически и ходил потерянный. Наконец он не вытерпел. С рапортом отправился к новому начальнику уголовного розыска.
Аркадий Порфирьевич Гущин, высокий, чуть ли не двухметрового роста, с длинным, каким-то унылым лицом, очень спокойно прочел рапорт.
— Тяжко тебе, Дорохов? А мне, думаешь, легко? Два сына воюют, один уже в госпитале, а я, здоровый мужик, тут, в тылу. — Он говорил тихо, медленно, словно маленькому ребенку. — Ходил к начальству с таким же рапортом. А мне спокойно так объяснили, что если не выправим положение с преступностью, то под суд отдадут, и тогда, может, и попаду на фронт, но только в штрафники. Зря ты мечешься. Мы тебя как дельного человека сюда взяли, а ты вроде саботажем вздумал заниматься. Ты у Крутова в больнице был? Плохо, что не выбрался. Все со своей обидой носишься. Звонил я сегодня его врачу, говорит, что вроде получше Крутову стало. Тебе не рассказывали, как его ранили? Нет? Тогда слушай. В его дежурство пришла женщина и заявила, что у нее скрывается дезертир, какой-то дальний родственник. Сбежал с пересыльного пункта — и прямо к ней. Сначала говорил, что его отпустили в гости на сутки, а потом сознался, что на фронт не хочет. А у этой заявительницы и муж и братья воюют. Ну вот она сначала его уговаривала самому объявиться, а когда гость не послушался, пришла к нам. Крутов взял с собой милиционера и вместе с женщиной пошел к ней домой. Договорились, что она откроет дверь, войдет и незаметно впустит Крутова. Но не тут-то было. Открыла женщина замок, а изнутри крючок накинут. Постучала. Гость открыл, увидел милицию и сразу выхватил из кармана своей шинели, что висела в коридоре, обрез охотничьей одностволки. Крутов женщину прикрыл, а заряд дроби ему самому достался. В плечо и в руку. Хорошо, милиционер вырвал обрез и скрутил дезертира. Ты к своим подчиненным хоть присмотрелся? Мне твой Костин нравится. Брали мы тут перед твоим приездом возле Атамановки одну шайку. Началась перестрелка. Смотрю, этот Костин прямо под огнем бегом к дому направился. После операции стал его отчитывать, а он и говорит: «Зря вы, товарищ начальник. На фронте люди на танки в рост ходят, а я тут перед всякой сволочью на брюхе ползти должен?» К Крутову вместе давай съездим, а подчиненных учи. Опыт у тебя есть, да, говорят, и в теории ты разбираешься. А на войну пока отпустить не могу. Тут у нас тоже всякое бывает. Ты знаешь, что наши заводы производят? Могу сказать, люди сутками от станков не отходят, чтобы на фронте нашим легче было. Кто же этих людей охранять будет?
Поговорил по душам с Дороховым и Николай Савельевич Арзубов.
— Это ведь я тебя рекомендовал на эту должность. Говорил, что ты человек серьезный, энергичный, умеешь работать, а ты слюни распустил и одно заладил: «На фронт, на войну». Да мы все воевать хотим, но можешь ты понять, что и наша работа людям, Родине нужна. Ишь герой какой выискался!
Николай Савельевич отчитывал Сашку долго, пригрозил, что сам поставит о нем вопрос на комсомольском собрании.
— Вот что, Дорохов, — перешел он на официальный тон, — подготовь все материалы об оперативной обстановке в области по линии своего отделения и доложишь на партийном бюро нашего отдела. Хватит тебе и двух суток. Если немного недоспишь, не страшно, меньше времени на всякую дурь останется.
Оперативная обстановка в области, и верно, была сложной. Военная беда, охватившая страну, взбурлила, взволновала и подняла на великий подвиг советский народ. Одни ушли защищать Родину, другие трудились самоотверженно, без отдыха, чтобы у воинов было все необходимое — и оружие, и хлеб, и одежда. Но находились и такие, что до поры до времени прятались по разным углам, а теперь, в пору всенародного несчастья, подняли голову. Усилилась спекуляция, воровство и разные махинации, связанные с продовольствием. Подонки, не желавшие служить в Красной Армии, объединились в шайки, собирая под свое крыло уголовников, бывших кулаков. В тайге появились банды, а на окраине городов, на приисках, даже в Чите стали совершаться разбои. И Дорохов почувствовал, какая огромная ответственность легла на его плечи.
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Ответственный дежурный областного управления милиции Александр Дорохов был готов к любым происшествиям.
Однако, тысяча девятьсот сорок второй год пришел в тихую, спокойную ночь. Объезжая городские отделения милиции, он видел, что на улицах не было шумных, веселых компаний, даже не встречались отдельные прохожие. Город затаился, словно прислушивался к далекой войне.
Ночь прошла спокойно, без всяких происшествий. Только под утро раздался тревожный звонок. На крупном механическом заводе кто-то забрался в столовую, что находится на территории самого завода, и совершил кражу. Саша выехал на место, осмотрел столовую и буфет, откуда было украдено несколько кругов колбасы, три пачки рафинада и две буханки хлеба. Исследовал замок, открытый гвоздем, и следы на полу.
— Территория завода охраняется? — спросил заместителя директора, сообщившего ему о краже.
— Конечно. Вы же, наверное, знаете, что мы производим? На завод мышь не проскользнет.
— Насчет мыши это вы верно сказали. А подростки у вас работают?
— Работают, — не удивился вопросу заместитель. — И в ночную смену тоже.
— Тогда пройдемте по цехам, — предложил Саша.
У станков на каких-то ящиках и скамейках стояли мальчишки. Среди них редко-редко попадались взрослые. В одном цеху в углу возле батарей парового отопления на куче пакли и какой-то ветоши спали человек десять таких же парнишек. К заместителю директора подошла женщина-бригадир. Поглядывая то на него, то на Дорохова, попросила:
— Не будите ребят. Им в утреннюю смену заступать и снова до вечера работать.
Саша посмотрел на мальчишек, и у него сжалось сердце. Припомнилось, как несколько дней назад, возвращаясь в управление, на Песчаной улице, возле самого леса, заметил на дороге нескольких ребят. Они шли гурьбой и что-то за собой тащили. Когда ребята приблизились, Дорохов увидел, что они везут санки с аккуратно связанными бечевой елками. Самому старшему из мальчиков на вид было лет десять. Размахивая руками, он возбужденно о чем-то рассказывал ребятишкам поменьше. Внезапно вся компания остановилась возле Александра. Маленький, курносый мальчонка в телогрейке, в лосиных унтах, с топориком за поясом выступил вперед.
— Мы вот спорим все с Кешкой, — указал он на своего вожака. — Скажи нам, дяденька, может к рождеству война кончиться? Кешка говорит, ударят морозы — и фашисты околеют от холода.
— Правильно соображает ваш Кешка, — решил подыграть ребятишкам Дорохов. — Дед Мороз, говорят, уже заработал медаль «За доблесть». Он ка-ак навалился на фрицев, ка-ак дал им сибирского холодка глотнуть, так они сразу и драпанули от Москвы, аж пятки засверкали. Куда же вы столько елок везете? Продавать?
— Зачем продавать? — удивился Кешка. — За елками еще завтра придется ехать. Не только себе, а на всех. В нашем доме тридцать шесть квартир, а отцы-то только вон у Севки, — Кешка кивнул в сторону худенького мальчика, который снизу вверх во все глаза разглядывал Дорохова, — да у Танюхи с Кланькой остались. Вот мы всем по елке и привезем. А вместо подарков пусть Дед Мороз фрицам еще снега да вьюги подкинет.
Распрощавшись с ребятами, Саша уже отшагал с полсотни шагов, как его вдруг догнал Кешка.
— Дядя, а у вас есть елка? — спросил он, переводя дух.
— Нет, друг, нету. Некогда за елкой-то, — признался Дорохов.
— Тогда подождите. Мы вам махонькую дадим. — Кешка сбегал и притащил пушистую елочку.
Дорохов хотел было спросить у бригадира, почему подростки спят прямо здесь, в цеху, но раздумал.
— Пойдем отсюда, — сердито предложил он заместителю директора. — Не буду я вашу кражу раскрывать. Черт с ним, с буфетом. Этим пацанам в школе бы учиться да играть возле елки. Ты руководитель крупного завода, подумал бы вместе с директором, как ребятам в новогодний праздник выделить по куску хлеба с сахаром… Тогда в буфет наверняка бы никто и не полез. Что у вас в клубе-то вчера было? Ничего? Елку бы пацанам организовали… Между прочим, это еще и не поздно.
Словно перевернулось что-то в душе у Александра после новогоднего дежурства.
И потом еще долго перед глазами вставали цеха завода, мальчишки на ящиках, в шуме станков и в скрежете металла…
Этот день начался обычной утренней пятиминуткой. Собрался весь наличный состав отделения обсудить план проведения операции на рынке.
Говорили громко, спорили, и Александр не сразу обратил внимание на приоткрывшуюся дверь. Заметил — вскочил с места.
— Отец! Да как же ты? Заходи!
Саше захотелось, как маленькому, броситься отцу на шею, и только в последний момент он удержался. Смущенно оглядел подчиненных. Крутов направился к двери первым, а за ним остальные.
— Мы тогда попозже, Александр Дмитриевич, зайдем, сами обсудим — и к вам…
Саша долго всматривался в родное лицо. До чего же отец изменился! На висках седина, щеки ввалились.
— Ну как ты тут, сынок? Я к тебе ненадолго. Вот покурю да на тебя посмотрю…
Отец распахнул полушубок, достал из нагрудного кармана гимнастерки портсигар, и Саша увидел рядом с орденом Красного Знамени блеснувшую серебром медаль, полученную за Халхин-Гол. Дорохов-старший несколько раз глубоко затянулся.
— Иди, Саша, отпросись у начальства и забирай на вокзале мать. Привез я ее к тебе не спросясь. Понимаешь, некогда было письма писать. Позавчера пришел приказ нашему полку на запад. Меня отправили к вам за новой техникой, вот и захватил ее с собой. Мать найдешь в воинском зале, сидит там на своих узлах. Так что иди. А у меня времени нет. Может статься, и не увидимся… — отец помолчал, — до победы. Не горюй, не вешай нос, казаче. Еще погуляем. — Он невесело усмехнулся. — Меня не провожай, не люблю. Отправляйся, она, наверное, все глаза проглядела. Береги ее, сынок.
Это была их последняя встреча…
ТУЕСОК РВЕТСЯ НА ФРОНТ
Весна тысяча девятьсот сорок второго года выдалась хмурая, дождливая.
Дорохов с матерью занимал комнату в коммунальной квартире верхнего этажа трехэтажного дома. Обычно он возвращался поздно, последним из жильцов, когда входную дверь уже закрывали на ночь. С лестничной площадки еще один марш вел на чердак, куда дверь была закрыта. В этом закутке было всегда темно, да и весь подъезд едва освещался тусклой, в шестнадцать свечей, лампочкой, которую в полночь обязательно кто-нибудь гасил. Фонарик он не брал с собой, так как берег батарейки. Вот и теперь в темноте плоским ключом он старался попасть в узкую щель замка.
Возле чердачной двери раздался шорох, и кто-то тихо, неуверенно спросил:
— Это вы, Дорохов?
Голос был спокойным и даже показался знакомым, однако Саша никак не мог вспомнить, где и когда он его слышал.
— Раз пришел, что же ты там стоишь, иди сюда. Ты один?
— Один я, Александр, один. Вот смотри!
Было слышно, как «гость» чиркнул спичкой, сломал одну, другую, выругался.
— Понимаешь, я сначала на чердаке сидел, а там сквозняк и холодина. Когда свет погасили, сюда перебрался, но отогреться никак не могу.
— Как же ты на чердак попал? Там же замок, — удивился Саша.
— Ха! Замок!
Наконец спичка вспыхнула и высветлила тощую фигурку человека в сапогах и шинели, с рукой на перевязи. Оплетки белого бинта виднелись и из-под шапки. Спичка разгорелась, и «гость» поднял ее над головой, освещая всего себя, видно, для того, чтобы Дорохов убедился, что нет у него оружия.
— Что же, так и будем через лестницу толковать? — спросил Саша. — Иди сюда, давай знакомиться.
— Мы с тобой, Александр, давно знакомы, только ты меня не признал. Леха я, по прозвищу Туесок. Неужели и теперь не вспомнил? Дело у меня к тебе, помоги.
В тощем человеке в военной форме Саша признал Чипизубова, вора, с которым познакомился при довольно странных обстоятельствах, в кино. Вместе с ним тогда смотрел фильм «Сын Зорро». Давным-давно это было, еще в той, довоенной жизни…
Первой мыслью было, что Туесок воевал, был ранен, сбежал из госпиталя и теперь не хочет на фронт, ищет предлог остаться в тылу.
— На фронт боишься? — в упор спросил Саша.
— Да ты что, с ума сошел, что ли? — возмутился Туесок.
— Ладно, идем. На кухне потолкуем. Чайку попьем да и закусим. Только учти, кухня у нас общая, на десять семей, соседей не разбуди. Посвети мне, а то я этот чертов замок никак не открою.
Дорохов вместе с Туеском потихоньку пришли на кухню.
Саша прикрыл дверь, разжег керосинку и поставил чайник. Сходил на цыпочках в комнату, принес миску дерунов, что мать припасла ему на ужин, заглянул в кастрюлю и поинтересовался, будет ли дорогой гость лопать суп.
Туесок, удобно пристроившийся на табуретке, молча кивнул.
— Ну, рассказывай, как на фронт попал, — попросил Саша.
Туесок снял с себя шинель и шапку, положил всю свою амуницию на скамью, поправил на голове бинт. Под шинелью у Лехи оказалась почти новая шерстяная гимнастерка. Такие же солдатские шаровары, заправленные в добротные яловые сапоги. Закурил папиросу, с жадностью глотнул дым.
— Понимаешь, не был я в армии. Таких, как я, не берут. Сам знаешь. Всю эту «сменку» Таська на барахолке купила. Помнишь Таську? Ну, она еще тогда мне передачи носила? Так вот. Я в лагере, а она каждый месяц ко мне — то еду, то одежонку какую привезет. Перед самым Новым годом приехала и говорит, что ты опять в уголовке появился и большим начальником стал. Задумал я с тобой посоветоваться. Я и попросил Таську одежонку подходящую мне приготовить да узнать, где живешь. Вчера сбежал и сразу к Таське. Переоделся, руку замотал, а она мне еще и голову. — Чипизубов потянул бинты, и под белой марлей показались коротко остриженные волосы. — Я в колонии всему начальству плешь проел. Нам разрешено раз в месяц заявления писать. Вот я каждый месяц и писал. — Лешка вытащил из-за голенища завернутую в газету пачку бумаги, развернул и передал Дорохову: — Смотри! Одиннадцатый месяц идет война, и заявлений здесь десять штук — и на каждом отказ. Все потому, что я рецидивист, три судимости у меня, да еще два года неотбытого срока. Не верят, что на войну рвусь, Родину защищать, что жизни за нее не пожалею. Вот и пришел к тебе. Ты, Саша, человек, я тебе верю, решай мою судьбу. Как скажешь, так и сделаю.
— Идем ко мне в комнату, поспим, только тихо, чтобы мать не разбудить. Она с дежурства, а утром подумаем, как жить дальше.
На следующий день Саша с трудом растолкал гостя. Спал Туесок, прикрывшись шинелью, на полу, на матрасе, что постлал ему в темноте хозяин. Спал крепко, посапывая, подложил обе руки под щеку, а проснувшись, вскочил, недоуменно озираясь.
— Ладно, иди умывайся, да будем решать, что нам с тобой делать, а заодно позавтракаем. Мать-то уже на работу ушла.
Пока Туесок умывался, Александр обдумывал, как ему поступить. Куда деть парня? Отправить его к Таське? Пожалуй, не стоит. В поселке или у нее на квартире Туеска задержит любой милиционер. А уж если местный участковый дознается, тогда все пропало. Докажи потом, что этот Леха бежал из самых лучших побуждений. Никто, пожалуй, не поверит. Да и не добраться Лешке к своей знакомой. На первом углу остановит патруль: «Ваши документы». Нет, так нельзя.
Взять с собой на работу? А вдруг начальство скажет: «Зачем нам отвечать за этого рецидивиста? Почему мы должны ему верить?»
Но нельзя же считать Туеска, которому и лет-то всего девятнадцать, безнадежным! Как же перевоспитывать, если не верить? Интересно, а сам-то он до конца верит Лешке?
Александр долил кипяток из чайника в кружку Туеску и пододвинул к нему блюдце с мелко наколотым сахаром. Заметил, как гость, прежде чем взять кусочек рафинада, отыскал самый крохотный и осторожно поддел его ложкой.
— Вот что, Леша. Я тут подумал, погадал и решил: оставайся у меня дома. Сиди и жди, когда вернусь. На улицу носа не показывай. А я пойду попробую искать ходы-выходы.
Дорохов знал, что намерение вора-рецидивиста Леонида Чипизубова, бежавшего из колонии, с тем чтобы попасть на фронт, осуществить не так-то просто, но всех сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться, он и не представлял.
Военный комиссар города объяснил, что осужденные к условному наказанию призываются в армию в тех случаях, когда в приговоре суд специально оговаривает: «с отправкой на фронт», и что из исправительно-трудовых колоний с последующим призывом в армию досрочно освобождаются только по решению выездных судов. В разговоре с военкомом Дорохов даже и не упомянул о Чипизубове, заранее предполагая, что тот ответит.
В управлении Александр первым делом поинтересовался у дежурного, нет ли сведений о побегах из колоний, но тот полистал свои «талмуды» и только пожал плечами. Дорохов отобрал дела, по которым следовало посоветоваться, и направился в прокуратуру.
Заместитель прокурора, пожилой мужчина, постарше Сашиного отца, принял Дорохова доброжелательно.
— Ну что, сыщик, опять, наверное, с какой-нибудь каверзой пожаловал? Я тебя давно раскусил. Если дело гладкое, без сучка, без задоринки, то с ним является тот, у кого оно в производстве. Если приходит гроза разбойников и убийц, значит, жди какого-нибудь подвоха. Выкладывай, с чем пришел?
К удивлению прокурора, в делах не оказалось ни «сучков», ни «задоринок». По одному Александр доложил, как выполнено его, прокурорское, предписание, а по другому нужен был всего лишь небольшой совет.
— Все у тебя? — недоверчиво спросил прокурор.
— Если позволите, у меня еще один вопросик. Получил на днях письмо от одного своего «крестника», — схитрил Саша. — Пишет из колонии, что хочет бежать на фронт, совета спрашивает, а я не знаю, что ему и ответить.
— Ну чего тут сложного? Напиши, чтобы обратился к начальству, соберут на него все характеристики, представят на досрочное освобождение, приедет выездной суд, и отправится твой «крестник» воевать. — Прокурор пристально посмотрел на Дорохова и заметил, что тот замялся. — Вы, уважаемый Александр Дмитриевич, что-то темните, как выражаются ваши «крестники». Говорите, какие еще там сложности.
— Этот самый парнишка отбывает наказание третий раз.
— Ага, рецидивист, — обрадовался своей прозорливости прокурор. — Сколько же ему лет?
— Девятнадцать. Дали ему четыре года лишения свободы, половину уже отбыл.
— Тут случай особый. Нужно умное ходатайство.
Дорохов возвращался на работу и ломал голову над тем, как же ему поступить дальше, и в какой уже раз ругал про себя Туеска и его приятельницу. «Вот дуреха! Вместо того чтобы бегать по рынку и покупать для парня одежду, прийти бы да посоветоваться».
Возле обкома партии он остановился. Вспомнился спокойный, рассудительный голос и внимательные глаза человека, который мог бы дать ему дельный совет. В этом Дорохов был абсолютно уверен. Постоял в замешательстве возле подъезда, а потом решительно вошел.
В светлой, скромно обставленной приемной секретарша взглянула на удостоверение Дорохова.
— Вы по личному вопросу?
— Нет-нет, что вы! По служебному. — Александр замялся, его бросило в краску.
Секретарша заметила, как он стушевался.
— Вы не можете мне рассказать, о чем речь?
Мягкий, доброжелательный тон помог собраться с мыслями.
— Речь идет о судьбе человека. Ему надо помочь. Помочь поверить в то, что существует справедливость, как это сделать — я не знаю. Ситуация сложная. Вот я и хотел…
— Вечером вы сможете прийти? Скажем, в двадцать три часа. Я доложу Константину Ивановичу, но только постарайтесь быть кратким.
Саша с благодарностью кивнул.
Возле управления на улице Дорохова остановила девушка. Он сразу же узнал Тасю, хотя лицо ее было заплаканным и вся она стояла перед ним расстроенная и несчастная.
— С утра вас, Александр Дмитриевич, караулю. Пришла с ночной, легла, а заснуть не могу. Собралась — и к вам. Дежурный сказал, что вас нет. — Ее серые, чуть раскосые глаза с надеждой смотрели на Сашу, а спросить она, видно, стеснялась.
— Весь день бегаю по городу, ищу способ, как выручить твоего приятеля.
— Где он? Посадили?
— Пока нет, а что будет дальше, не знаю. — Александру хотелось отругать девчонку, но он сдержался. — Приходи завтра. Думаю, будет все ясно…
Дорохов боялся, что Туесок, не дождавшись его, выкинет какой-нибудь фокус. В перерыв, раздобыв для гостя пачку папирос, поспешил домой. Открыл дверь квартиры и застыл на пороге. Вор-рецидивист Чипизубов, облачившись в старое Сашино галифе и грязную рубашку, старательно мыл пол в длиннющем коридоре. Стены сияли свежей побелкой. Возле Туеска суетились мать и две соседки, одна подносила ему таз с водой, вторая отскабливала натекшую на пол известку, мать по вымытому полу расстилала половики.
Увидев Александра, Туесок весело рассмеялся:
— Женщины решили устроить уборку, ну а я говорю: «Давайте помогу». Проходи, мы заканчиваем.
— Ну, Саша, ваш приятель просто клад. Чистоту навел — мы бы так и не сумели. Сейчас ему бутылку за труды поставим.
— Не пьет он, — опередил Саша.
— В рот не беру, — торопливо подтвердил Туесок. — Вот чайку — другое дело. — В глазах Лешки застыл немой вопрос.
— Вечером, Леня, получу совет. Сейчас встретил Тасю, она завтра придет.
Медленно тянулось время. Дорохов брался то за одно, то за другое дело, но все валилось у него из рук. Несколько раз мысленно прорепетировал свой рассказ и, еле высидев до половины одиннадцатого, отправился в обком.
После приемной, переполненной людьми, кабинет показался пустым и огромным. Боковым зрением Дорохов увидел на стенах две огромные карты. На одной флажки, соединенные черным шнурком, обозначали линию фронтов, и было отчетливо видно, как далеко зашли фашисты на нашу землю. Вторая карта на противоположной стене, без флажков, была своя — забайкальская. Хозяин кабинета с интересом рассматривал Дорохова.
— Здравствуй. Садись, рассказывай.
Александр коротко поведал историю Чипизубова.
— Немецкий начал учить? — искренне удивился Константин Иванович. — Давай-ка сюда его заявления.
Читал, подчеркивал карандашом отдельные фразы. Возле резолюции об отказе вывел жирный восклицательный знак, взглянул на Дорохова и повторил конец грозной фразы:
— «Рецидивистам не место в Красной Армии»… Сколько лет этому рецидивисту?
— Девятнадцать.
— Интересно. — Константин Иванович продолжал читать, а Дорохов старался понять по выражению его лица, что же он думает и как решит судьбу Туеска.
— Где он сейчас?
— У меня дома.
— У тебя?
— А куда же ему идти, если бы я его выгнал. Искать тех, кто его воровать научил?
— Почему своему начальству не доложил?
— Хотел выяснить, как тут быть. Ведь там, в колонии, таких роту можно набрать.
— А начальника уголовного розыска командиром — и всех под знамя «Анархия — мать порядка»? Так?
Александр потупился и не заметил, как в кабинете появилась секретарша.
— Ольга Юрьевна, скопируйте эти заявления, и обязательно с резолюциями. Пригласите ко мне на завтра, на утро, председателя областного суда, прокурора и начальника УНКВД. А этот молодой человек пусть днем заглянет к вам за ответом. Все, Дорохов. — Константин Иванович пожал ему руку и уже вслед, когда тот прошел половину кабинета, произнес: — На твоем месте и я, пожалуй, поступил бы так же.
На следующий день, к вечеру, из Читы по направлению к исправительно-трудовой колонии, что была в пятидесяти километрах от города, мчалась милицейская машина. Рядом с шофером сидел Дорохов, а на заднем сиденье, склонив голову на плечо Таси, устроился Леонид Иннокентьевич Чипизубов. Теперь на нем был ватный бушлат, шапка из искусственного меха, от военной формы остались только сапоги. Метров за сто от проходной Дорохов попросил шофера
остановиться.
— Иди, Леша, сам, а я через несколько минут следом.
— Хорошо, Александр Дмитриевич. Только дайте еще раз мне то письмо. Пусть Тася посмотрит.
Девушка осторожно взяла листок бумаги и вслух прочла отпечатанный на машинке текст:
— «Начальнику исправительно-трудовой колонии товарищу Павлову Б. И. Прошу вас рассмотреть возможность представления материалов на условно-досрочное освобождение Л. И. Чипизубова с последующей отправкой в действующую армию. Секретарь областного комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков».
— Ну, бывайте. Я напишу вам, Александр Дмитриевич. И тебе напишу. Жди, Тася.
Чипизубов пошел быстро, уверенно, словно за двое суток стал другим человеком. А может быть, помогла ему так решительно шагнуть за проволоку вера в людей. Дорохов подождал, пока Леха скроется за проходной. Захватил портфель и направился к начальнику колонии вручить письмо Константина Ивановича.
ПО СТАРЫМ МЕСТАМ
Дорохов сидел в кабинете начальника уголовного розыска, раздавленный внезапно свалившимся несчастьем. Гущин сообщил ему о гибели Володи Лисина. Казалось, совсем недавно Дорохов сдавал Володе дела в Петровск-Забайкальске, и вот его нет в живых…
— Сам понимаешь, лучше тебя никто не знает район. Собирайся и поезжай. Помоги найти преступников. Всю организацию работы забирай в свои руки. Вчера его убили. Мне Сидоркин под утро позвонил. Подробностей он и сам не знает, сказал, что выезжает на место преступления.
…И снова, как при похоронах Чекулаева, прогремел залп. Дорохов горестно прислушивался к гулкому перестуку первых комьев земли, попадающих на гроб. Эти удары тупой болью отдавались в сердце.
Прямо с кладбища всю оперативную группу, созданную для поимки преступников, собрали в кабинете начальника милиции. Сидоркин, осунувшийся и, как показалось Саше, сильно постаревший за зиму, докладывал собравшимся:
— Неделю назад Лисин верхом отправился по селам проверять работу участковых. Взамен тех, кто ушел в армию, мы назначили новых, неопытных, из стариков да невоеннообязанных, вот и приходится учить их на ходу. Позавчера утром Лисин был в селе Обор, позвонил дежурному, сказал, что выезжает в Харауз, не по тракту, а напрямик, через хребты, мимо заимки, но не доехал. Пришла в село его оседланная лошадь. Хараузский участковый почувствовал неладное и с одним колхозником отправился по следу. В десяти километрах от села прямо на дороге нашли убитого Лисина. При нем не оказалось ни оружия, ни полевой сумки с документами. Мы выехали на место. Судя по следам, преступников было двое. Возможно, Лисин встретил их на дороге, спешился, стоял с ними, разговаривал и курил. На месте нашли два окурка: один — самосад в газете, другой от «Беломора», обгоревшая спичка, гильза от трехлинейки да лужа крови. Лисин получил два ножевых ранения в спину и пулевое в голову. Из его же винтовки.
— А где вещдоки? — поинтересовался Дорохов.
— У меня, Александр Дмитриевич, — сразу же ответил Степан Простатин. — Окурок с самосадом маленький, в газетном тексте ничего не разберешь, а гильза, судя по заводской маркировке, с нашего склада. Кто они, эти двое, куда ушли — по следам не разобрать. Собаку не применяли, нет у нас собаки. Вместе с проводником Байкала призвали в армию. Оба преступника в сапогах, я там слепки гипсовые сделал. Дорога-то эта безлюдная. Народ там только в сенокос бывает. Никто в Хараузе посторонних не видел. Да и мужиков-то там осталось раз-два и обчелся. Нужно выезжать на место и искать, мы ведь там всего один день и поработали.
— Поедем, — решил Дорохов. — Час на сборы хватит?
Когда сотрудники стали расходиться, Сидоркин попросил:
— Не возражаешь, если я с вами не поеду? Нездоровится мне, боюсь, расхвораюсь окончательно, а тут дел уйма. Да и не нужен я тебе. Сам справишься.
В Хараузе никаких новостей не было. Чуть ли не до полуночи Дорохов и его сослуживцы разговаривали с колхозниками, но все без толку. Побывал Александр у Степаниды, жены Юшки Слепнева, с которым беседовал на заимке полтора года назад. На этот раз женщина встретила его бойко. Еще в сенях объявила, что позорить мужа никому не позволит.
— Ефимий мой, как все, воюет, фашистов бьет, и похлеще, чем другие. Смелый он, да к тому же охотник.
Степанида кинулась к божнице, вытащила из-за иконы смятый тетрадный листок, сложенный треугольником, повертела им перед носом у Дорохова.
— На, смотри. В солдатах он. Призвали. Пишет: сам добровольно попросился из колонии.
Александр взглянул на письмо, оно было отправлено меньше месяца назад. Выше адреса вместо марки стоял штамп: «Воинское».
Дорохову не хватало старых хараузских друзей — участкового Хлынова, охотника Прокофия. Еще в прошлом году ушли они воевать. Новый участковый раньше был счетоводом в колхозе, хоть и бегал, старался, но прок от него был невелик.
Правда, нашелся в конце концов в селе знающий человек — охотник Михаил Гостев, да вот беда: инвалид, нога не гнется. Потому и в армию не взяли. Но помощь оказать он согласился без раздумья.
Рано, перед рассветом, оседлав колхозных коней, Дорохов, Простатин и Михаил Гостев выехали на место.
Гостев сидел в седле боком, вытянув вперед левую ногу. Вчера при знакомстве объяснил Дорохову:
— Помял меня в молодости на берлоге зверь. Весь левый бок изодрал. Рука работает, а вот ногу в тайге, если надо через колодину перелазить, руками перетаскиваю. Но охотничать не бросил, работник-то в колхозе я никудышный, а по пушнине меня только Прокофий один обходил.
Поднимаясь на сопку, Гостев ехал первым, то и дело поглаживал шею своего мерина, ласково его понукал и разговаривал с ним, как с человеком. Не вытерпел и похвастал:
— Какой уже год охочусь с мерина. Он у меня к ружью приучен. По тайге шастает, как сохатый. Двух лаек держу. Вот так бригадой и зверуем.
Александр припомнил, как хвалил Хлынов этого охотника: «Две лицензии дали на изюбрей, одну Прокофию выделили, другую Мишаньке Гостеву, он справный охотник». Вот здесь в тайге и был нужен ему именно такой «справный» помощник — эксперт по таежным делам. Ехали по той же самой дороге, где Дорохов еще до войны проезжал с Хлыновым. Рассвет застал их на вершине первой сопки. Охотник сразу велел остановиться в ельнике, чтобы раньше времени их не заметили, а сам взял у Простатина бинокль и стал осматривать раскинувшиеся внизу луга — елань, речку, подступившую к противоположной лесистой сопке. Особенно тщательно осмотрел стога сена, сметанные по всей долине. Когда охотник вернул бинокль, Простатин передал его Дорохову.
— Вот там, метров на триста поближе реки, куст видите? Как раз рядом все и произошло.
Повторный осмотр места преступления ничего не дал.
— Зря ищешь, Александр! Я после твоих уроков каждый раз теперь на месте разгадки ищу. И тут все облазил.
— И правильно делаешь, Степан. — Дорохов еще раз взглянул на землю, впитавшую кровь Лисина, где теперь выделялось только бурое, покрытое инеем пятно, и оба направились к охотнику.
Михаил Гостев сидел на обрывистом берегу и ждал.
— Как, начальники, сыскали что аль нет? Взгляните на мою находку. — И указал на кострище на берегу.
— Недавно жгли. Дня три-четыре, самый крайний срок.
На дне небольшой ложбинки сохранилось пепелище маленького костерка. Здесь же валялась пустая, закопченная на огне консервная банка, крышка с которой, аккуратно срезанная ножом и изогнутая черпачком, оказалась тут же. Михаил хотел поднять их, но Простатин попросил не трогать.
— Обожди, Мишаня. Может, следы пальцев найдем. Что же, они, выходит, тут завтракали?
— Банка «микояновской» тушенки — маловато для двоих мужиков. Видать, еще водичку с речки кипятили. Вон листья скрюченные, значит, травку заместо чая заваривали. А потом и всласть покурили. — Гостев указал на два крохотных окурка. — Но с табаком у них плохо. Досмолили так, что едва ногтями самокрутку можно захватить. Тут они, видать, и заметили вашего начальника.
Дорохов посмотрел на узкую, мелкую речушку. На том берегу дорога ныряла в частый подлесок, и он понял, как рассуждал охотник.
— Наверное, ты прав, Михаил. Лисин появился на том берегу неожиданно. Они глянули — конный, да еще с винтовкой… И сразу бежать.
— По-моему, они раньше его заметили, а может, подслушали.
— Знать бы, кто они, откуда?
— Свои, таежные. Они тут дома. Вон костерик сгоношили — ни один городской его так не сладит. Ягоды с моховки заморозки-то сбили, а они нашли, собрали с листочками — чай варить. Пустые идут: без котелка, без провианту. Сами судите, без припасу, без чашки-ложки только крайняя нужда в тайгу загонит. А вот направились куда, не докумекаю. Может, в Харауз, а может, в Обор. Одно ясно: по тракту им не с руки. Тайгой идут. Пошто? Варнаки, видать, но места им эти известные.
— Что варнаки, Мишаня, то верно. Только куда подались?
Простатин закурил, предложил папиросу охотнику. Тот отказался и достал свой кисет.
После нескольких затяжек крепкого самосада указал вверх по елани.
— Мимо нашей заимки дорога в село Обор, откуда ваш начальник ехал. А вон в том распадке есть тропа на Чикойский тракт. Только ее мало кто знает. Надо поглядеть. Тропа тоже скажет, прошел кто аль нет.
— Далеко ли до тракта?
— Кто же его знает? — Охотник сдвинул шапку на лоб. — Коли хорошо идти, за день можно добраться.
— На заимке сколько народу? — с тревогой спросил Дорохов.
— Дед Лука — плотник наш, да со скотом бабы. До крепких морозов там будут.
— Вот что, Степан, мы с Мишаней тропу посмотрим, а ты давай обратно в Харауз. Собери людей: участкового вместе с нашим Зиновьевым, милиционера, да хорошо бы еще хоть одного-двух колхозников. И немедленно езжайте на заимку. Мы туда тоже подъедем. Побаиваюсь я за старика с женщинами. Легкая добыча для бандитов эта заимка, если они не ушли из этих краев. И еще свяжись с Сидоркиным. Пусть он вышлет группу на тракт, да чтоб тропинку отыскали, какая отсюда выходит.
— Вот гляди-ка сюда… — Охотник прутиком на земле прочертил линию. — На тракту есть крутой распадок, с одной стороны голец высоченный, а с другой — лобастая сопка, вся в кедраче, только вершина, как лысина, голая. Меж ними по распадку тропа.
— А на той лобастой сопке нет пещеры? — припомнил Александр.
— А ты отколь знаешь? — удивился охотник. — Целых две. Я еще парнишкой с батей белковал и в одной пещере мы жили. Потом за шишкой бывал.
— Вот что, Степан, обязательно скажи Сидоркину об этих пещерах.
— На минутку вас, Александр Дмитриевич, — отозвал Дорохова в сторону Простатин. — Ты, Мишаня, не обижайся, у меня к начальнику секретный разговор.
Когда отошли в сторону, Простатин продолжал:
— Вы имеете в виду те пещеры, где базу должны были заложить? Да не бойтесь, это ведь после вашего отъезда я ими занимался. На лобастой сопке пещеры оставили в резерве.
— Раз знаешь, легче будет объяснить. Езжай, а то солнце вон уже где. В колхозе все по работам разбредутся.

Простатин повернул коня в Харауз, а Дорохов с охотником переехали вброд речку и берегом двинулись вниз по течению. Охотник не торопился, осматривая берег, и Дорохов ему не мешал. Неожиданно сзади, с той стороны, куда отправился Простатин, хлестко ударил выстрел, затем другой, третий. Потом два почти слились вместе. Не сговариваясь, оба повернули лошадей, разбрызгивая воду, кинулись в реку. Едва выбрались на луг, как Дорохов погнал своего коня к дороге, но охотник прикрикнул:
— Ты что, сдурел? На дороге враз пулю словишь. Давай к тому березняку и закрайком.
В березняке Гостев снял с плеча карабин, загнал патрон в ствол и положил оружие поперек седла. Александр нацепил маузер на колодку, и оба, всматриваясь в кустарник, направились вперед. Пока они пересекали луга, слышали еще два выстрела, а теперь все стихло. Не доезжая дороги, свернули в сторону Харауза и на косогоре увидели убитую лошадь, что была под седлом у Простатина. Она лежала в луже крови, уже мертвая. Чуть в стороне валялась шапка Степана. Охотник резко, в два пальца, свистнул, подождал немного, свистнул второй раз. Никто не откликнулся, кругом стояла мертвая тишина, не было слышно ни шорохов, ни треска сучьев.
— Да где же он? Неужели убили? Сте-па-ан! — крикнул Дорохов, и сразу же откуда-то с вершины Простатин отозвался.
— Давайте сюда. Вверх по дороге. Езжайте смело. Ушли эти сволочи.
Они поднялись к Простатину. Степан достал папиросу, но спички ломались в дрожащих пальцах одна за другой.
— Стал подниматься на сопку, хотел закурить, пригнулся и вижу: мой карька ушами прядает и косится. Я глянул, а с сопки двое спускаются, между деревьями мельтешат, недалеко, метров сто — сто двадцать. Я с седла на землю, стряхнул с плеча карабин… Тот, что поменьше, заметил меня, за дерево и сразу выстрелил. С меня шапку как ветром сдуло. А вторым лошадь свалило. Я вмиг за лесину и начал палить. Они, как зайцы, вверх — да по чаще и за хребет. Выскочил следом, а они уже внизу, в сторону Харауза подались. Еще два раза пальнул, но без толку.
— Ну, карька! Выручил. Не учуял бы он бандитов, проводил бы ты, Александр Дмитрич, сейчас новый осмотр.
— Ты хоть рассмотрел их?
— Не очень. Тот, что пониже, стрелок который, в темном полупальтишке, в ушанке, в сапогах, за плечами небольшой мешок, светлее, чем тужурка. Второй высокий, в шинели, в шапке, тоже в сапогах. У него за плечами большой мешок, из обычной мешковины, чем-то набитый. По этому мешку, как по светлому пятну, я и палил.
Возле лиственницы в полтора обхвата, за которой прятался бандит, на земле в гуще увядшей травы веером лежали стреляные гильзы, поблескивающие латунной желтизной. Простатин собрал их. На донышке каждой были отштампованы звездочка, буква «П» и цифра «35».
— С нашего склада, — уверенно объявил Степан. — Те самые, что у Лисина забрали. Что будем делать?
— Давайте поднимемся наверх, на следы ихние посмотрим, — предложил охотник. — Может, зацепил ты которого?
— Не похоже. Промазал, — пожаловался Простатин. — Стрелял-то второпях, а потом уже далеко было.
— Но взглянуть надо, — настоял Дорохов.
На следах крови не оказалось. Было видно, как бандиты прыжками сбежали с сопки. Внизу, километрах в трех, параллельно хребту растянулась деревня.
— Видите болотце под сопкой? Я тут стоял и хорошо видел, как между кустов маячили.
— Там, подале, торная дорога на заимку, — объяснил Мишаня.
— Слушайте, может быть, они в село шли, когда с Лисиным встретились?
— Я тоже так, Дмитрич, разумею. Уж как ни то, а котелком да ложками в Хараузе разжились бы. После убийства где ни то отсиделись — и снова в село. Нонче в елань подались, да вот на Степана напоролись. Есть думка: по той тропе на заимку хотят прошмыгнуть. Но там обход, им подале будет, чем здесь. Видать, заделье у них в той стороне.
— Тогда так: бери, Степан, мою лошадь и вместе с Мишаней найдите бугорок повыше, поудобнее, чтобы в бинокль подальше луга просматривались, и караульте. А я пешком в Харауз, народ подыму, и по дороге прочешем все вокруг, до самой заимки.
— Негоже тебе, Дмитрич, одному, не напоролся бы на них часом.
— Ничего, Мишаня, тут до села, если побыстрей, то тридцать — сорок минут ходу. — Дорохов передал Простатину повод и зашагал вниз. — У заимки встретимся.
— Мы тут сверху покараулим, пока на поле выйдешь. В бинокль хорошо все видать.
Придя в Харауз, Дорохов первым делом из сельсовета позвонил в Петровск-Забайкальск, рассказал Сидоркину о перестрелке. Попросил срочно блокировать тропу, ведущую к Красночикойскому тракту.
— Помните, Леонтий Павлович, меня прошлой осенью в тайгу посылали? Я вам рассказывал о своей находке. Туда-то и выходит отсюда тропа. Очень прошу вас проверить. — Дорохову приходилось говорить так, чтобы ни окружающие, ни телефонистки на линии не догадались, о чем идет речь.
Группа собралась большая. Председатель колхоза, вооружившись карабином, решил принять участие в поиске. С ним на заимку отправился бригадир животноводов и два колхозника с охотничьими ружьями.
Связался Дорохов и с соседней, Бичурской районной милицией, те пообещали прочесать местность по направлению к Хараузу.
К своим работникам Дорохов прикрепил колхозников, и у него получилось три группы по три человека каждая.
— Учтите, преступники открывают огонь первыми, поэтому каждому следует внимательно смотреть по сторонам и при встрече с бандитами в первую очередь найти для себя укрытие.
По селу мгновенно разнеслась молва о том, что бандиты где-то здесь, поблизости, поэтому вооруженных всадников провожали все, кто был дома. Одни смотрели из окон, другие стояли возле калиток. Проезжая мимо дома Юшки Слепнева, Дорохов заметил у окошка Степаниду. Вид у нее был какой-то понурый. Она совсем не походила на ту бойкую женщину, которая еще вчера хвасталась мужем-фронтовиком.
Прочесывание даже городского парка дело сложное, а в тайге искать бандитов — все равно что вычерпывать пруд ложкой… Все три группы перевалили сопку, спустились в елань, перешли вброд реку, и уже на той стороне их нагнал Простатин.
— Вы на заимку, а мы с Мишаней дорогу к Обору посмотрим. Вас заметили сразу. Как только на вершину председатель выбрался, Мишаня говорит: «Сам отправился». В бинокль хорошо видно.
— Езжайте. Только осторожно, опять не наткнитесь. К вечеру у брода встретимся. Я на заимку, узнаю, как там дела, и обратно.
Люди на заимке работали как ни в чем не бывало. Они даже не слышали о случившемся. Председатель сразу же занялся хозяйственными делами, а Дорохов подробно стал инструктировать участкового и уполномоченного уголовного розыска Королева. Выпив наскоро чаю, он собрался обратно. К нему присоединился и председатель колхоза.
— Бригадир с моими мужиками на пару дней здесь останется, ему работы хватит, — решил он. — А я с тобой, Дорохов, у меня тоже дел хоть отбавляй. — Председатель взглянул на солнце и определил: — Засветло домой доберемся.
На первом солонце они осмотрелись.
— Чувствует зверье, что у меня охотников не осталось, прямо целые тропы попробивали, — проворчал председатель. — А человек-то сюда, видно, не заглядывал.
На втором солонце, ближе к Хараузу, Александр увидел слепневский лабаз, который они с Хлыновым обнаружили раньше. Дощатый помост, пристроенный на березе, оказался целым. Только доски от дождей и времени стали совсем черными. Дорохов осмотрел яму, в которой лесные жители лакомились солью. Всюду были их следы.
— Здесь тоже никто не появлялся, поедем, что ли. — Председатель направился к лошадям, привязанным в стороне.
Но Александр задержался. Еще раз обошел вокруг ямы. Ему не понравился один след у самого края, и он решил рассмотреть его поближе. След, и верно, был необычным: круглый, глубокий. Казалось, что кто-то воткнул в землю пол-литровую бутылку и затем вынул. От удивления Дорохов даже присвистнул. Осмотрел высохшую и уже примороженную осоку, кустарник, вернулся к лабазу.
— Не мешкай, поехали, — позвал председатель.
Но Александр все ходил вокруг, то заглядывал на деревья, то обшаривал кусты и наконец нашел то, что искал: в частом тальнике под самые корни был засунут хорошо заостренный березовый кол длиной метра полтора. Сверху кол был прикрыт охапкой сухой травы.
«Ну вот, теперь все правильно. Только до поры до времени болтать не следует», — подумал Саша и направился к лошадям.
Простатин и охотник нигде не нашли следов и, как ни старались, рассматривая всю округу в бинокль, не заметили ничего подозрительного — ни дыма от костра, ни шевеления веток.
«Как же лучше поступить?» — соображал Дорохов. Хотелось вернуться в Харауз и ночью покараулить на окраине. Но село большое, и трудно было предполагать, откуда и к кому пожалуют бандиты. А потом, раз они утром или на рассвете ушли из Харауза, то, наверное, там им уже больше делать нечего. Скорее всего, снова заявятся сюда, на солонцы. Караулить на дороге бесполезно: в десяти шагах по лесу пройдут — и не заметишь. А вот посидеть у солонца, пожалуй, есть смысл. Александр решил отправить Простатина с председателем в Харауз, а самому с Мишаней остаться здесь.
— Езжай, Степан, в село да собери кого сможешь, организуй ночью наблюдение. Сидоркину позвони, нет ли там чего нового. А мы с Гостевым вернемся на заимку и еще тут кое-что посмотрим. Как, Мишаня, не возражаешь? Скажи, Мишаня, в какое время суток зверь на солонец идет?
— Мелочь всякая — козы, кабарга — еще до темна, а крупный зверь — изюбрь, сохатый — ночью или под утро приходит. Медведь, дак тот и днем на солнце в засаду может залечь.
— Заедем на ближайший солонец. Хочу кое-что показать тебе да посоветоваться.
Гостев долго рассматривал березовый кол, потом, потихоньку ковыляя, обошел солонец и не мог скрыть удивления:
— Повезло тебе, Дмитрич, бандитскую похоронку сыскал. Видать, позапрошлую ночь кто-то из них здесь сидел. И, никак, крупного зверя ждал. Вот ума не приложу, кто бы это мог быть. Караульщик тот должен быть мне знакомый, раз ему солонец известный. Бывало ране, случаем забегали на этот солонец оборские, так там вроде и нет промеж промысловиков ни одного варнака. Юшка Слепнев тут пакостничал, так он, говорят, воюет.
— А что, Мишаня, если я где-нибудь тут поблизости ночку покараулю? Вдруг этот охотник снова появится?
— Дело говоришь, Дмитрич. Только одному нельзя. Да и одежонка на тебе не та. Ночью уже заморозки, лету давно конец, не высидишь. Вот чего: побежали-ка мы с тобой верши на заимку, да побыстрее. Чтоб до темна обернуться. Одежонкой запасемся. Участкового прихватим, он обратно коняг наших заберет. Зачем их мучить? Да и заржать лошадка со страха может. Думаю, охотник тот, чтобы следа своего зверю не показывать, должон с дороги к лабазу прийти. Вот мы возле самой тропочки и заляжем.
— Может, тебе не надо, Мишаня?
— Ты за меня, Дмитрич, не бойсь. Я ведь только наперегонки не могу, а руки у меня крепкие. Тут, как я понимаю, коли что, так руками орудовать придется. Хватит болтать, лезь в седло, да побежим.
Совсем недалеко от березы с помостом, за кустом возле малозаметной тропинки, Дорохов разостлал дождевик, кинул на него телогрейку, положил перед собой маузер, фонарь и накрылся козьей дохой. Серо-коричневый мех слился с землей, и любому, даже бывалому таежнику, в темноте могло показаться, что за кустом просто большая кочка. Мишаня с уполномоченным уголовного розыска Зиновьевым расположились в нескольких шагах напротив. Как ни старался Александр, но рассмотреть, где они улеглись, так и не смог. Ночь легла темная, без ветра, но зато и без заморозка. Где-то рядом перед самым носом у Саши прозвенел комар, потом еще один. Чуть в стороне за солонцом заблеял козел. «Бяв-бяв» — оглушительно прокатилось по тайге.
«Надо же, орет-то как, — подумал Саша. — Городской человек услышит ночью и не поверит, что у трусливого козла такой бас, скажет, не иначе как медведь». Дорохов знал, что козел чаще всего вопит со страху. Вот и сейчас пришел полакомиться солью, а от солонца людской дух. Подпрыгнул галопцем на месте да и рявкнул во все горло на всякий случай: вдруг испугаются те, что бродили тут, да бросятся бежать!
Гуран — как величают козла в Забайкалье — крикнул еще, ему отозвался в стороне второй, третий. Видно, тоже торопились за солью. Через некоторое время от ямы донеслось чавканье. Совсем низко пролетела какая-то крупная птица, ее не было видно, зато отчетливо слышался шелест маховых перьев. Под чьей-то тяжелой поступью громко треснул сучок, и Дорохов, взяв в левую руку фонарь, правой сжал пистолет, подтянул под себя колени, чтобы мгновенно вскочить, ждал. Треск повторился снова, но уже дальше. Зашелестели кусты, кто-то большой уходил от солонца.
Вскочить? Бежать следом? Но Мишаня-то лежит спокойно, он-то знает, кто там пошел, и не обратил внимания. Очевидно, зверь. Лось или изюбр. Но почему он брел со стороны дороги? А кто им может запретить бродить там, где захочется?
На солонце и впрямь собралась большая компания. Слышны были вздохи, довольное посапывание, прыжки. Ловко придумано с этим колом. На черной земле даже в самую темень отлично видно белый кол. Лежи потихоньку на лабазе, направь ружье на кол и жди. Если пришел козел, самый крупный, и стал напротив, то своей тушей он закроет только половину или две трети белизны. Нужен гуран — стреляй. Не нужен — жди другого зверя. Придет изюбр, то за ним весь белый столбик скроется. Скрылся — стреляй. Вот и вся охота.
Интересно, сколько же сейчас времени? Наверное, уже начало первого. По всем охотничьим правилам сейчас уже эти бандиты на солонец не придут. В такое время лезть на лабаз — только распугать всех. Может быть, уже следует собраться да уходить. Все равно торчать тут без толку.
За солонцом послышался крик, похожий на клекот, на тявканье собаки, на морду которой надет очень тесный намордник.
«Изюбр, — сообразил Александр. — И тоже обеспокоен людским духом».
Через час или полтора Мишаня встал. Слышно было, как он завозился со своей дохой. Медленно, совсем без шороха, подошел к Дорохову, присел рядом на здоровую ногу и шепотом заговорил:
— Слышь, Дмитрич, седни не пришли. Давай-ка заберемся потихоньку на сопку да поглядим, нет ли где огоньку. Без костра ночевать-то не будут.
— Как же ты пойдешь?
— Ниче. Я тут знаю в полверсте чистую проплешину, вот по ней не торопясь и поднимемся. Оттуда должно далеко видать. Если костер жгут где, заметим. Сворачивай всю одежонку, а я разбужу Ивана. Сморило его. Как сказал ему, что ждать боле нечего, так враз и заснул.
Едва Александр открыл деревянную кобуру, чтобы вложить пистолет, как от незначительного щелчка сразу ожил солонец. Бросились врассыпную звери, и по удалявшемуся треску сучьев и кустарника можно было определить, что среди легких коз был кто-то и более крупный.
До восхода солнца просидели они, по очереди рассматривая в бинокль все окрестности, но нигде не заметили не только огня, но и отблеска притушенного костра. Утром была та же картина. Вернувшись на солонец, при дневном свете под руководством охотника уничтожили следы своего пребывания, затем вышли на дорогу и встретили участкового с лошадьми. Тот оказался догадливым и привез с заимки завтрак: вареную картошку в мундире, еще не успевшую остыть, пяток соленых огурцов и довольно солидный кусок сала.
Вторую ночь коротали в засаде у солонца, но бандиты так и не появились. Теперь Дорохов лежал вместе с охотником, слушал таежную ночь, ему хотелось поговорить, но он себя сдерживал. Ночью в тайге неосторожный звук может спугнуть не только зверя, но и охотника. В голову лезли, просто не давая покоя, мысли об отце. Больше месяца не было от него писем. Саша представлял себе фронт в сполохах огня, с трассами пулеметных и автоматных очередей и сырой окоп, отца в мокрых сапогах, озябшего, похудевшего, окруженного горсткой солдат. И ему самому стало зябко и тоскливо. Появилось раздражение: даже Туесок будет воевать, а он — Дорохов — гоняет тут людей, мотается по сопкам и допускает просчет за просчетом, и бандиты до сих пор на свободе… Туесок! Перед самой поездкой в Харауз приходила в уголовный розыск Тася и передала ему письмо от красноармейца Чипизубова. Лешка писал, что сбылась его мечта и он грызет военную науку в учебном полку и ждет не дождется, когда отправят на фронт, чтобы всем доказать, что он — Чипизубов — сможет драться с фашистами не хуже других…
Уже под утро, незадолго до рассвета, охотник предложил:
— Поспим маленько да опять на ту проплешинку подымемся. Может, по утрянке где их заметим. А днем ты хорошенько в Хараузе покопайся. Может, пока мы тут их караулили, они где на сеновале отсиживаются?
— Была такая мыслишка у меня, Мишаня. Была. Днем поеду, покопаюсь да поговорю по душам кое с кем. Но ведь и тут-то бросать все нельзя. Вдруг появится?
— В одночасье могут объявиться, — согласился охотник. — Особо если в Обор им подаваться надо али куда подале.
Но и утро прошло бесполезно. Спускаясь с сопки, чтобы встретить участкового с лошадьми, Мишаня заметил верхового, скакавшего из села. Он взял бинокль.
— Хлестко гонит конягу. Торопится. Видать, случилось что. Без винтовки. Никак, Степан? Что же он без оружия-то? Пожалуй, через полчаса, а то и помене здесь будет. — Охотник перевел бинокль в другую сторону. — А там и завтрак наш едет. Но, пошкандыбали вниз.
«Конечно, зря Простатину скакать сюда незачем, — подумал Дорохов. — Неужели в Хараузе опять беда стряслась?» Ему стали рисоваться картины одна страшнее другой: наткнулись на бандитов, они еще кого-то убили и опять ушли. Сколько же погибло? Один, два или больше? Почему упустили? Наверное, нужно было Степана оставить здесь, а самому отправиться в село. Может быть, он сумел бы избежать жертв, уберечь людей. Черт, как он медленно едет…
Простатин подскакал одновременно с участковым, спрыгнул с лошади, подошел молча.
— Все, Саша! Все. Взяли вчера возле пещеры на Чикойском тракте. Без выстрела.
— Обоих?
— Ну да. Знаешь, кто Лисина убил?
— Догадываюсь. Раньше говорить не хотел. Слепнев Юшка. Мы его тут на солонце ждали, а он проскочил. Кто второй?
— Тоже судимый и дезертир.
На следующий день в Петровск-Забайкальске Дорохов сидел в своем бывшем кабинете. Чуть в стороне у окна расположился Простатин, а у самой двери — Зиновьев, посредине комнаты на стуле застыл Слепнев. Сначала он молчал, потом стал ругаться, захлебываясь, глотая окончания слов, брызгая слюной от ярости.
— Гады вы все! Сволочи! Скажи спасибо, Простатин, что винтовку твоего начальника не успел пристрелять, а то бы не обвысил, вместо шапки в лоб пулю загнал. Все равно убегу и убивать вас буду, где только встречу, где только придется. Винтовка-то моя целехонькая осталась, и припас есть. На вас хватит. А ты, Дорохов, лучше не попадайся: встречу — задавлю.
— Что с вами будет, трибунал решит. — Александр хотел сказать что-то еще, а потом попросил: — Уберите его от меня, ребята, не могу на него смотреть, еще, чего доброго, не сдержусь. Прокуратура с ним разберется.
Слепнева увели в камеру. Вернулся Простатин и доложил:
— Слепневский напарник на допрос просится.
— Ну его к черту! Передадим следователю.
— А может, вызовем? Я бы сам с ним поговорил, да мне же нельзя, я вроде как потерпевший.
— Раз потерпевший, ладно. Скажи Зиновьеву, чтобы привел.
Вскоре в кабинет вошел высокий сутулый мужчина, лет на десять — двенадцать моложе Юшки. Армейская шинель висела на нем, как на тощем манекене. На пороге он снял шапку.
— Проходите, садитесь. — Дорохов заметил лицо растерянное, в глазах страх и вместе с тем решимость. — Кто вы, откуда?
— Песков Севастьян, с Зеи. Я с повинной.
ТАЙНИК НА РУБАШКЕ
…Караван шел медленно. Тяжело груженные кони выбивались из сил, карабкаясь на островерхие перевалы. На крутизне лошади пригибались и взмыленными мордами касались земли, вьюки сползали на круп, растягивая сыромять подпруг. Тропа скатывалась вниз, и вьюки скользили вперед, в кровь растирая натруженные лошадиные спины. На узких местах люди взбирались выше, привязывали веревки к скалам или деревьям и страховали груз, через опасные места лошадей проводили в поводу. Неровен час, сорвется какая и с грузом загремит в пропасть. Измучились лошади, измотались люди. Да и мало их было, втрое меньше, чем лошадей. Со стороны караванщики походили на казаков. В лохматых папахах, в поддевках толстого сукна, у каждого за плечами новенькая четырехлинейная винтовка, а на поясе в кобуре или просто за ремнем большие американские револьверы смит-вессон. Только один из сопровождающих ехал верхом и одет был побогаче — в бекешу, подбитую каракулем, и соболью шапку. Двадцать семь дней шел караван из далекой Учурской тайги, и пути ему было, однако, еще на полмесяца. Трогались в путь с рассветом и шли дотемна. Иногда останавливались рано, если не выдерживали лошади. В этот переход отстал хворый казак. Отстал на целую версту и едва плелся следом, опасаясь свалиться с кручи. Тропа нырнула в узкую низину, вывела на полукруглую песчаную косу, окруженную обломками скал. Тот, что в каракуле, велел отабориться. Солнце стояло высоко, и можно было идти еще да идти, да больно приустали кони. Свалили груз в одну кучу, собрали плавник для костра, горстями поделили лошадям овес пополам с ячменем, а затем все столпились перед огнищем. Внезапно из-за ближайших валунов ударил залп. Эхо разбросало по скалам грохот ружей, как бы раскалывая ущелье. Кони, сорвавшись с привязей, в страхе заметались по берегу. Их ржание, крики застигнутых врасплох казаков заглушались выстрелами. Старшой каравана да еще один завалились за вьюки и вдвоем стали отстреливаться. Они насчитали восемь ружей, выставленных из-за камней. Старшой хладнокровно подвел мушку своего винчестера под чей-то лохматый чуб и плавно потянул за спуск. Бандитская берданка соскользнула со скалы. Казак подцепил второго, тот словно ужаленный вскинулся из-за валуна во весь рост и получил из винчестера еще гостинец. Но падали мертвыми и казаки. Трое метнулись к реке. Двое, раскинув руки, распластались на песке, так и не добравшись до воды. Из всей охраны каравана остались в живых только двое, но один из нападавших зашел с тыла и в упор расстрелял обоих. Отставший казак спрятался на вершине и видел, как шайка принялась за грабеж. Первым делом сбросили в воду мертвых, и река стремительно унесла их вниз. Потом двое погнали лошадей за следующий перевал, а остальные взялись разбирать груз. Атаман велел отложить в сторону двенадцать вьюков, каждому члену шайки по два, а остальные шестьдесят три перетаскали в скалы. Туда же унесли амуницию и оружие убитых и все завалили камнями. Потом разворошили песок, прибрали и подчистили косу, словно и не было здесь час назад кровавой расправы. Привязали к веревке голыш, перебросили через реку, и, когда веревка зацепилась накрепко, все шестеро взвалили на плечи вьюки и переправились вброд.
Уцелевший из всей охраны хворый казак всю ночь, притаившись, просидел на вершине скалы и утром, убедившись, что поблизости никого нет, принялся, казалось бы, за непосильную работу. Раскопал бандитский тайник и стал таскать груз на вершину. Работал лихорадочно, видно, страх прогнал хворь. Сначала брал по одному вьюку, да и с тем припадал на каждом шагу, потом втянулся и стал носить по два. В переметных сумах отыскал сушеное мясо, несколько сухарей и, возвращаясь, жевал на ходу. В стороне от реки в глубокую расщелину опустил шестьдесят один вьюк, несколько берданок, патроны. Закрыл все сверху кошмой, а потом завалил камнями. Несмотря на страшную, нечеловеческую усталость, казак торопился убраться из пагубного места. Надел на себя заплечную сумку с пожитками и едой, связал широким кушаком два тюка и перекинул через плечо. Взял в руки берданку, зарядил и поплелся по тропе, шатаясь под грузом, в сторону, куда угнали лошадей. Когда поднялся на верх самой высокой скалы, остановился, снял груз, достал из мешка чистую холщовую рубаху, расстелил ее на ровном обломке гранита, вынул из патрона крупную свинцовую пулю и прямо в черный порох накапал несколько капель спирта из фляги. Подождал, пока порох растворится, и небольшой заструганной щепкой стал рисовать. Сначала на холсте появилась река, затем дальние хребты, потом прибрежные скалы. Выждав, когда солнце почти опустилось, сделал отметку. Несколькими линиями обозначил высоту, за которой в щели остался груз. Уже в сумерках казак внимательно осмотрел тюки. Они были маленькими, вершков десять длиной да пять в окружности, но каждый весил пуд. На одном он вспорол верхнюю упаковку из брезента, снял ее и наполовину подсунул под тот самый гранит, что служил ему столом, привалил еще камнями. Под брезентом оказалась мягкая оленья кожа. Ее постигла та же участь, только бросил ее казак в сторону от тропы и привалил так же камнями. Под кожей была парусина, ее безжалостно проткнул ножом, и из мешка потекла на тропу темно-желтая блестящая струйка.
Вторую ночь скоротал казак без огня в стороне от тропы. Утром на берегу рассыпал остатки золота из первого вьюка, засунул обрывки парусины между камнями, оставив часть на виду. Второй пуд золота уложил в заплечный мешок и тронулся в путь…
Севастьян Песков сбросил шинель, стянул гимнастерку, под ней оказалась грязная, заношенная стеганая жилетка-душегрейка, надетая прямо на нижнюю рубаху. Стащив душегрейку, положил ее перед Дороховым. Тот передал ему обломок безопасной бритвы… Вскоре на столе была разложена спинка старой рубахи с четко сохранившимися штрихами и линиями.

— Вот сдаю. Добровольно. Чистого золота-шлиха там шестьдесят один пуд. Казак, что перепрятал золото, был мой дед. Тогда, в тысяча девятьсот втором году, на железной дороге его схватила полиция. Один из охраны, что бросился в реку, спасся и показал, что это мой дед навел бандитов на караван. Половину шайки полицейские убили в перестрелке. Остальных после суда расстреляли. Деда отправили на каторгу, и домой его привезли уже после революции — без ног. Отморозил в тех краях, однако рубаху эту сберег. Отца моего убили в империалистическую. Мне, единственному в семье мужику, дед перед смертью открыл тайну золота, велел сыскать, да сразу-то мне не повезло. В драке зашиб одного старателя и попал в тюрьму, а потом в колонию. Там сдружился с одним нашим, зейским, Агеев его фамилия, зовут Николай, и рассказал ему про тайник. Стали готовить побег, Николай ушел, а мне не удалось. Из колонии нас взяли в воинскую часть, в солдаты. Вот со Слепневым сбежали из эшелона, уже у вас здесь на станции. Юшка Слепнев зазвал домой заглянуть. В гражданское, говорит, надо переодеться, а уже потом за золотом подаваться. Никола Агеев там на Зее меня ждет. Обещал в подмогу кое-кого подобрать и амуницию приготовить. Милицейского вашего я не убивал. Слепнев, чистый псих, вырвал у того из ножен тесак и два раза пырнул, а потом еще и из винтовки. И меня чуть не шлепнул за то, что не стал ему помогать. Вы проверьте, у вас там, наверное, известно. Золотишко-то так никто и не нашел. Лежит оно в той расщелине, а я решил открыть его государству.
ПО ПЛАНУ ДОРОХОВА
Поезд мчался на восток. Александр ехал третьи сутки и спал без просыпа половину пути. Даже проводница забеспокоилась. Подошла, разбудила:
— Товарищ командир! Вы не заболели? Может, чайку?
А теперь ему не спалось. Он лежал на жесткой полке, смотрел в потолок вагона, думал.
Шутка ли, от Читы ему нужно проехать тысячу семьсот километров по железной дороге до станции Тыгда, потом сто двадцать на попутной машине, а оттуда уже самолетом. Огромна Читинская область. И это только на восток. А если на запад, то там еще четыре сотни километров. На север и говорить нечего — до самой Якутии, а на юг — до маньчжурской границы. Припомнилась газетная заметка: в Зейско-Учурском районе, откуда шел тот караван, эвенкийский колхоз «Пионер» получил в вечное пользование, по государственному акту, сто тысяч гектаров земли, а в колхозе всего сотня человек. Не обрабатывают они эту землю, охотничают да пасут оленей. Стада у них тысячные…
Долго готовил Дорохов эту поездку. Все оказалось куда сложнее, чем предполагалось вначале. Ударили морозы, пали снега, и только тогда решили осуществлять намеченное. Александр взглянул в примороженное окно. На полянах лежал снег. Обронили лиственницы нежную хвою, и тайга стала по-зимнему белой.
Он отчетливо помнил, с какой завистью смотрел в детстве на проходившие поезда. Скорее, это была и не зависть, а щемящее чувство утраты. Проходил мимо поезд, и хотелось бежать за ним вслед, догнать и мчаться в чужие края. Дорохов прикрыл глаза и усмехнулся. Было это давно, словно в другой жизни.
Тот двенадцатилетний паренек собрал однажды таких же огольцов, и решили они махнуть за границу, освобождать от ненавистных мандаринов китайских кули. Кончилось все плачевно. Всыпали классно — по первому разряду. Жили они тогда в военном городке, все приятели были тоже дети военных. Чтобы драться с мандаринами, нужно оружие, вот и «заняли» они у своих отцов-командиров револьверы и пистолеты. Самое интересное то, что Сашку порола мать. Отец, сжав зубы, молчал, а потом приказал: «Ну, хватит». Позже понял Александр, что у отца была недюжинная сила воли. Понял, что за оружие, которое он стащил, не миновать бы отцу трибунала. Отец! Саша перестал уже надеяться, а тут пришло письмо. «Жив, здоров, воюю. Просто не мог сообщить раньше». Не мог! Что же с ним там происходило? Хорошо, что письмо отправлено всего десять дней назад. Может, еще живой?..
Летчик, высокий молодой парень, упакованный в меха, словно только что вернулся с Северного полюса, подтолкнул его ко второй кабине. Забираясь в самолет, Дорохов увидел перед кабиной пилота козырек из целлулоида, на двух же других их не было, и кабины походили на ящики, обитые фанерой, покрытой лаком.
— Садись лицом к хвосту, меньше продует. Козырьки мы поснимали, чтобы не мешали перевозить груз, — объяснил пилот.
Но Александру хотелось лучше видеть, и он уселся лицом к винту. Несмотря на низкую скамейку, похожую на ту, что возле печи ставят под ноги, его голова и плечи оказались снаружи.
СП-3 — санитарно-пассажирский трехместный самолет — пробежал по заснеженной взлетной полосе, оторвался и тут же над аэродромом кругами стал ввинчиваться в небо, набирая высоту. На нем развозили не только врачей и больных. Когда не было экстренных рейсов, на таких самолетах отправляли пассажиров и почту.
Перед взлетом пилот поинтересовался, как устроился пассажир.
— На оленях ездил, на лошадях тоже. На плотах и лодках плавал, а вот на собаках да на самолетах не приходилось.
— На собаках оно, конечно, вернее, но ничего, привыкнешь. Достань-ка там под скамейкой ремни, я тебя пристегну покрепче, чтобы ты с первого раза не потерялся, — отшутился пилот.
Лететь было интересно, внизу причудливо извивалась река. Она уже стала, и в отблесках солнца лед казался тонкой черной лаковой пленкой. Тайга изредка расступалась, и появлялись небольшие поселки. Хребты сопок были совсем рядом. На перевале треск мотора согнал стадо оленей.
Летчик указал рукой в лохматой перчатке на видневшиеся вдали строения и начал снижаться. Прииск Октябрьский оказался большим поселком. В центре виднелось несколько двухэтажных домов, длинные склады, отвалы уже промытой золотоносной породы и множество крохотных избушек, от которых в небо тянулись столбы белесого
дыма. Самолет приземлился так же мягко, как и взлетел.
— Ну вот и приехали, да побыстрее, чем на собаках. На них бы ты двое суток тащился по перевалам, — балагурил летчик, помогая Александру выбраться из кабины. — Не замерз?
— Малость просквозило. Но думал, будет хуже.
Начальник приискового отделения милиции Аркадий Мудриков обрадовался Дорохову.
— Прилетел, наконец! А то я все жду, жду. Идем сначала определю тебя на постой, а потом и за дело. Новостей у меня особых нет. У нас, Сашок, тут тихо, спокойно. А вот у соседей пошаливают. Но это разговор длинный. Я, как шифровку получил, все ждал, но от твоего имени ко мне никто не приходил. А комнату для тебя в гостинице вторую неделю держу.
Через час оба вернулись в отделение. Они были почти ровесниками и знали друг друга, не раз встречались в Чите, когда Мудриков приезжал с докладами или на совещания. Вели переписку по делу Пескова.
— Обстановка у нас такая, — докладывал Мудриков, — Николай Агеев на прииске не обнаружен. Еще до вашей телеграммы я, как узнал, что Агеев бежал, отыскал нескольких его знакомых и даже родственников. Но ни одного сигнала о том, что он здесь, не поступило. Под осень в окрестностях соседнего прииска было три вооруженных нападения. Сначала ограбили дом лесника. Пришли четверо, двое с винтовками, забрали продукты, охотничье ружье, два ватника. Через несколько дней на одном ручье мыли золото двое старателей, та же четверка напала. С полфунта золотого песку отняли и мелочь разную. И последнее: есть у соседей на берегу реки фактория. Бандиты связали заготовителя, завхоза, сторожиху, забрали боеприпасы, три новеньких двустволки, а ружье, что отняли у лесника, бросили. Взяли муку, сахар, чай, крупу — всего килограммов четыреста — и скрылись. Связанных нашли через сутки, когда бандитов и след простыл.
— Как же они такой груз унесли?
— Подожди, Александр Дмитрич, слушай все по порядку. Самое интересное, что лесник живет на полпути от нас к тому прииску. Чуть дальше двое старателей, а фактория находится на пятьдесят восьмом километре.
— Выходит, эта четверка от вас шла.
— Выходит, что так. Увезли все награбленное в лодке, а вот куда подались, не ведаю. Могли на шестах вверх подняться, могли вниз уйти. Но самое интересное я тебе оставил на десерт: главарь этой четверки очень похож по приметам на бежавшего Агеева. Я послал своего работника показать потерпевшим его фотокарточку, и они все, как один, его опознали.
— Как предъявляли-то? — не вытерпел Дорохов.
— По науке, как положено. Две фотографии похожих и третья Агеева.
— Значит, он все-таки здесь?
— Предполагаю, что где-то здесь. Скорее всего, в родные края подался. Кстати, пониже прииска, где живет мать Агеева, в соседнем районе уже Амурской области, видимо, эта же четверка свела двух коров, а из колхозного амбара вытащила несколько мешков муки.
— На зиму запасаются?
— Может быть, на зиму, а может быть, в путь-дорогу собираются, за золотом. Скажи мне, Александр, этот ваш Песков показывал карту Агееву?
— В том-то и дело, что показывал. Они в колонии в одном бараке жили, и Песков выбрал в друзья Агеева, потому что он тоже с Зеи, да еще и потому, что этот Николай крепкий мужик и говорил, что свою родную реку знает как пять пальцев. Где же он сейчас, Мудриков? Где будем искать?
— Судить трудно, но скорее всего, где-нибудь возле дома в тайге околачивается. За золотом если и пойдут, то к весне, а потом, карты-то у них нет.
— Почему же они к тебе на прииск не заявились?
— Думаю, что с Агеевым в банде кто-то наш поселковый, вот и не захотели Здесь на глаза попадаться.
— Где у вас по вечерам народ собирается?
— Любители выпить — в чайной, остальные — в клубе. Сегодня из Благовещенска самолетом кинокартину привезли.
— Пойду пройдусь, — объявил Дорохов, натягивая полушубок.
— Мне с тобой или здесь подождать?
— Лучше подожди. Я не задержусь.
Дорохов зашел в пустой клуб, на всякий случай оглядел молодежь, ожидавшую, когда откроется касса, и направился в чайную. Втайне он надеялся, что, как только войдет, сразу столкнется с медведем, вставшим на дыбы, увидит на стенах чучела глухарей и уток, чистые скатерти, доброе, приветливое лицо официантки и роскошное меню. Но надежды не оправдались. Чайная оказалась самой обычной столовой, шумной, да еще и прокуренной, с какими-то кислыми, едкими, ударившими в нос запахами. В дальнем углу за одним из столиков увидел Леонида Чипизубова в компании трех бородатых мужиков. На столе у них стояла начатая бутылка спирта, немудреная закуска. Все четверо оживленно беседовали. Туесок что-то рассказывал, жестикулируя обеими руками, причем левая, уложенная в лубок и забинтованная потемневшим от грязи бинтом, мелькала над столом куда чаще.
Дорохов подошел к буфету, и буфетчица, она же кассир, объяснила, что спирт только на боны, а если у военного есть рейсовые продовольственные и хлебные карточки, то он может получить обед с хлебом. Александр выпил стакан жидкого чая и вышел на улицу. Отыскал тропинку, ведущую к каким-то сараям, и в их тени остановился. Довольно быстро из чайной выскочил Чипизубов, огляделся, заметил Дорохова и кинулся к нему.
— Приехал? Слава богу. Думал, Митрич, что и не дождусь. Просто устал тебя караулить.
— Утром, пораньше, приходи в гостиницу. Спросишь третий номер. Сейчас иди, а то еще нас вместе увидят.
Мудриков разостлал на своем столе газету, обухом финки расколол на мелкие кусочки крепкий, отливающий синевой рафинад, заварил прямо в чайнике кусок черного плиточного чая, налил Дорохову и с жаром продолжал доказывать:
— Мы же не знаем, сколько у Агеева людей. Здесь было четверо, а у соседей они грабили впятером. А может, у него сейчас с десяток собралось. Значит, и оперативная группа должна быть не меньше. Я ведь думал, что ты из области ну хотя бы трех работников привезешь.
— Где я их тебе трех возьму-то? Что, ваш район один, что ли? Я говорил начальнику, он и слушать не стал. Сказал, обойдетесь местными силами.
— У меня местные силы — сам-десятый. Милиционеров пять человек, два уполномоченных уголовного розыска, два участковых. Еще секретарь, она же паспортистка. Я могу взять только одного уполномоченного, обоих участковых и одного милиционера. Отделение на замок не закроешь. У меня же в КПЗ арестованные сидят, их охранять нужно.
— Ладно, Мудриков, не паникуй. Четверо твоих да нас двое — уже шесть. Еще бы нам на всякий случай двух-трех человек — и вполне хватит. Пойдем завтра в партком прииска и попросим трех коммунистов. Лучше давай маршрут обсудим.
— Маршрут тут известный. До Овсянки доберемся на машине. В транспортном отделе мне «самовар» обещали.
— Какой еще «самовар»?
— Полуторатонку, что на дровах ходит, видел? У нас они тут все на газогенераторные установки переведены. Вместо бензина в кузов чурочек набросаешь, едешь и по дороге подкидываешь. Сидишь у печки, греешься — одно удовольствие. Жаль только, чайник пристроить некуда. От Овсянки на лошадках придется. На конном дворе получим тройку обозных кляч, запряжем их в сани и уже по Зее по льду вниз вот до этого села. Здесь и обоснуемся. — Мудриков ткнул в небольшой кружок на карте на левом берегу Зеи и от него карандашом скользнул еще ниже. — На этом прииске и живут старики Агеевы. Их адресок дал Пескову этот Николай. Прииск маленький, раньше там народу много было, но золотишко все выработали, и осталось теперь всего восемь — десять семей. Но имей в виду: магазин золотоскупки работает. Принимают там золото от мелких старательских бригад, что в округе по разным ручьям моют. Магазин снабжает старателей продовольствием, товарами, по бонам, конечно. Старик Агеев — отец Николая — лет тридцать ходит с обозами. Небольших приисков много. Вот как реки станут, так туда завозят продукты и товары. Других дорог у нас пока нет. В будущем, говорят, в этих местах железная дорога пройдет — Байкало-Амурская магистраль. Да когда это будет? Война все планы нарушила.
— Слушай, Аркадий, а как у тебя с оружием?
— Есть винтовки, ручной пулемет.
— Пулемет ни к чему. А винтовки придется брать. Хорошо бы вообще без стрельбы обойтись. Знаешь, был у меня в Иркутске один знакомый, старый розыскник Шульгин. Так он говорил, что стрельба в уголовном розыске да погони разные только при провалах операции, а нам с тобой эту операцию проваливать никак нельзя. Так что попробуем без шума этих бандюг собрать.
— Хорошо бы, — вздохнул Мудриков.
Дорохов услышал стук в дверь и взглянул в окно. На улице было еще темно. Быстро одевшись, открыл дверь. Заспанная дежурная по гостинице объяснила:
— К вам там один инвалид просится. Я ему говорю: «Приди позже, спит еще человек», а он твердит, что позже не может, утром уезжает в госпиталь или на комиссию, не поняла. Пустить?
— Пустите, раз просится, — согласился Александр, а сам ругнул про себя Лешку. Не мог дождаться утра, когда в гостиницу двери откроют, чтобы дежурной на глаза не попадаться!
Чипизубов на этот раз был одет полностью по форме. В шинели, в валенках, в шапке со звездочкой, бросался в глаза чистый бинт на левой руке. Раздевшись, он сразу же подпоясал гимнастерку ремнем, и Дорохов заметил, что подворотничок у него подшит свежий. И сам он казался спокойным и уверенным. Дорохов достал из своего чемодана несколько пачек любимого Лешкой «Беломорканала» и положил перед ним. Тот с удовольствием закурил и начал рассказывать.
— Добрался сюда, Дмитрич, нормально. В Тыгде, как велели, три дня прожил, но знакомых никого не встретил. Здесь устроился у одной старушки. Сын ее в армии, а она осталась одна. Корову держит, поросенка, огород, тем и живет. Я ей по хозяйству помогаю, так она с меня и денег не берет. По прииску побродил, но и тут знакомых не оказалось. Да в такую-то глухомань и раньше рецидивисты не забирались. Жулики, они все больше по железной дороге, по городам, а по тайге свои варнаки шастали. Они нашего брата не любили, ну и мы их, конечно, не жаловали. Мы с ними только за решеткой встречались. Этакому варнаку таежному убить человека — последнее плевое дело. В тайге он как дома, зато в городе чужак, от тележного скрипа в любую подворотню кидается. Вот вчера видели со мной в чайной трех мужиков. Тот, что справа от меня сидел, старик, еще царскую каторгу отбывал. Показывал на ногах повыше щиколоток следы от кандалов. Я с ним неделю как познакомился. Он мне прошлый раз рассказывал, как раньше на горбачей охотились. Горбачами называли старателей, что в одиночку уходили в тайгу добывать золото. Отыскивали богатые ключи, держали их в секрете и сами там промышляли. Чтобы пробраться к такому месту по бездорожью, продукты и инструмент несли на себе — на горбу. Когда возвращались с золотом, их подстерегали варнаки. Выйдет такой бандюга с винтовкой из поселка, найдет себе местечко и караулит. Появится одинокий человек — он его из ружья. Потом оберет до нитки и в сторону от тропы оттащит. Старик сказывал, по тайге полно скелетов под мхом спрятано. Думаю, этот тут на прииске много чего знает. Его бы надо хорошенько проверить.
— Проверим. Я скажу начальнику отделения.
Областное управление милиции в Чите через высокое военное командование выпросило в учебном полку красноармейца Чипизубова для выполнения серьезного секретного задания. Леонид должен будет прикинуться дезертиром, выдать себя за блатного, найти бандитов и войти к ним в доверие, а потом помочь ликвидировать всю банду.
— Ну, ты как? — спросил Дорохов Лешку. — Не передумал? Не боишься?
— Ничего я не боюсь!
— Тогда иди. Вечером жди в чайной. Мне пора собираться.
Александр торопился. Вчера они с Мудриковым условились идти в партийный комитет прииска.
Секретарь парткома, кряжистый, бородатый, чем-то напоминавший Дорохову охотника Кирьяна, знакомого ему по делу Гришки Международного, принял их доброжелательно.
— У вас ко мне длинный разговор? Ну, раз так — ждите. Сидите тут, секретов у меня не предвидится.
В кабинет вошли два парня лет по девятнадцати, а может быть, и того меньше, они потоптались посередине комнаты, один вышел вперед, теребя в руках шапку.
— Дядя Гоша! Отпусти ты нас с Енькой. Как родного отца, просим. Что мы, хуже других? Опять папаня велит с ним собираться. Пока в тайге валандаться будем, война закончится.
Секретарь вышел из-за стола, обнял обоих парней за плечи — все трое оказались одного роста, — ласково уговаривая, подталкивал парней к дверям.
— Нельзя вам, мужики. Никак нельзя. Не зря за вас троих хлопотали. Прииску нужно мясо, а на войну пушнина. Так что вы подавайтесь в тайгу. Может, и сохатины сумеем на фронт отправить.
Следующий посетитель был пожилой щуплый мужчина, он поспешно подошел к секретарю, пожал руку и, не присаживаясь на предложенный стул, начал рассказывать:
— В воскресенье я Коську взял, и баба моя с нами увязалась. Пошли мы на прошлогодние отвалы, ну, туда, где отработанная порода из шахты подавалась. Полдня мыли с прохладцей, не торопясь. И знаешь, Георгий, сколько получилось? Без малого пять граммов. А Коська какой еще работник. Ему девятый годок всего. Вот, думаю, пойду, Георгию расскажу. Может, там, на этих отвалах, старательскую промывку развернуть? Осталось там золотишко. Его и ребятишки и бабы без труда могут добыть. Подумай над этим делом. Если их сагитировать, приисковому плану была бы подмога…
Вслед за ним шумной ватагой ввалились в кабинет человек пятнадцать старателей. Их бригадир, старик, из потайного кармана, пришитого к подкладке телогрейки, достал небольшой листок бумаги, бережно развернул, расправил на широкой, обветренной, заскорузлой ладони и молча положил на стол перед секретарем.
Секретарь взглянул на листок, так же бережно взял его в руки и стал читать вслух:
— «Квитанция № 74815, выдана Центральной кассой Октябрьского приискового управления. Принят от бригады № 3 дневной намыв золота в количестве четырнадцати килограммов пятьсот тринадцать граммов в фонд обороны»
[4]. Спасибо вам, товарищи, за этот подарок фронту, — растроганно произнес секретарь и крепко пожал руку каждому.
Ушли довольные собой приискатели, и секретарь, обращаясь к работникам милиции, попросил рассказать о своем деле.
Дорохов достал из папки копию протокола допроса Пескова.
— Прочтите, потом расскажу все подробности.
По мере того как секретарь читал, удивление на его лице сменяла заинтересованность. Александр, наблюдая, разложил на столе кальку, на которой была скопирована карта со старой рубашки.
— Наше руководство поручило мне передать эту карту приисковому управлению, пусть ваша разведка разберется как следует. Вдруг, и верно, там тонна золота?
Секретарь рассмотрел кальку, снова прочитал место в протоколе, где Песков называл некоторые ориентиры, и подтвердил:
— Слышал я когда-то разговоры об этом караване, но не знал, что есть карта. Может быть, это таежная байка — приискатели любят разные истории друг другу передавать, — но проверить нужно. По рассказам разным не раз находили богатые месторождения. Спасибо. Проверим. Наша геологоразведка не только сама месторождения ищет, но и прислушивается к старикам. — Секретарь свернул кальку и положил в папку. — Сейчас с ними посоветуюсь.
А Дорохов продолжал:
— Но к вам мы пришли с Мудриковым по другому поводу, с просьбой. Дайте нам трех коммунистов в помощь для задержания бандитов. За неделю думаем управиться. За группой Агеева уже есть несколько дерзких грабежей, кроме того, он эту карту в подлиннике видел.
— Что касается помощников, дам. Видели двух молодцов, что ко мне заходили? Братья, погодки, оба комсомольцы, охотники, смелые парни. Пошли, Мудриков, кого-нибудь к Вавиловым, пусть зайдут ко мне оба, а я еще одного подберу. Банду действительно брать надо по-быстрому. Если еще в чем помощь понадобится, приходите. — Секретарь попрощался по-таежному: — Путем-дорогою вам.
— И вам по той же, — весело ответил Александр.
Еще два дня ушло на сборы, и рано утром вся оперативная группа выехала с прииска. Дорохов настоял, чтобы Мудриков сел с шофером и показывал дорогу, а сам забрался в кузов. Он волновался и хотел по дороге получше присмотреться к своей оперативной группе. Брать вооруженных преступников с тем, кого не знаешь, всегда рискованно. Работник уголовного розыска и участковой были опытными людьми, и один милиционер тоже не вызывал сомнения, а вот другой Александру не показался. Был он какой-то чересчур франтоватый и все время болтал без умолку. Охотники, особенно третий, уже в годах, задание партийного комитета приняли серьезно. Когда им предложили получить со склада винтовки, все трое отказались.
— Свои карабины возьмем. Коли до стрельбы дело дойдет, то наше-то оружие проверено, не подведет.
В кузове машины они устроились вместе — втроем. А между ними примостился Лешка. Братья Вавиловы пытались было выяснить, кто он да что, но Чипизубов что-то буркнул, и они отстали. Ехали молча, думая каждый о своем.
Когда до Овсянки оставалось каких-нибудь три километра, переезжая по льду через речушку, застряли. На быстрине проломился лед, и оба задних ската оказались в воде. Пока возились, втаскивая машину на берег, промокли все насквозь и основательно промерзли. В Овсянку прибыли потемну.
У местного участкового обсушились, переночевали и утром на трех санях тронулись дальше. Винтовки и карабины завернули в мешковину и припрятали в сани, так чтобы встречные не заметили и не стали ломать голову, куда это и зачем подались вниз по Зее-реке десять мужиков с оружием. До места ехать нужно было целых два дня. А там, остановившись в селе, уже действовать. Чем быстрее приближалась развязка, тем сильнее Александра Дорохова охватывало волнение. Он знал за собой эту особенность. Успокоение и холодный расчет приходили сразу с началом действий, а до тех пор мучали сомнения: все ли сделал? Нет ли просчета? Сейчас, сидя в санях, Дорохов даже не замечал красоты зейских таежных берегов. Все мысли захватила предстоящая операция. Агеев беглец, есть банда, их нужно брать. И брать немедленно. Тем более Песков дал его адрес. Просто грех им не воспользоваться. Но на эту явку кого попало не пошлешь. Стали искать подходящего человека, разведчика, который смог бы не только войти в доверие к Агееву, но и подвести бандитов под оперативный удар. Дорохов предложил Чипизубова. Составили план, утвердили у начальства. Истребовали солдата Чипизубова из учебного полка, снабдили документами, а понадобилось их два комплекта. Один настоящий — для комендантов и других властей, второй поддельный — для Агеева. По вторым документам должно быть видно, что Ленька никакой не раненый и никто не давал ему отпуск, а состряпал бумаги он сам, вор-рецидивист Туесок, для того чтобы добраться к нему, Агееву. Прежде чем отправить Чипизубова в тайгу, пришлось познакомить его с Песковым, и не просто познакомить, а дать возможность вдосталь наговориться. Мало было знать в лицо Севастьяна Пескова, пришлось Чипизубову изучить его манеры, разговор. Ведь Агеев не дурак и поймет, что Песков не отдаст, не доверит карту первому встречному. Не отдал ведь он ее даже Агееву. Значит, Лешка ему друг, а раз друг, значит, должен знать все, что может быть известно близкому человеку, о каких-то задумках, о семье. Не простое это дело — подготовить такого разведчика.
Угревшийся в санях, несмотря на мороз, Дорохов посмотрел на Чипизубова, пристроившегося рядом. Оказалось, спит себе разведчик сном праведника. Как будто послезавтра не ему отправляться на свидание с бандитами.
На следующий день оперативная группа вышла в свой последний переход. К вечеру следовало остановиться в селе, откуда дальше утром разведчик должен был уйти один. Днем Дорохов почувствовал неладное. Еще вчера милиционер, что был помоложе, жаловался на головную боль, а сейчас его бил озноб. Мудриков дал ему полкружки спирта и велел остальную дорогу лежать в санях. Но не только болезнь милиционера обеспокоила Александра. Он заметил, что и разведчик держался как-то странно. Предложили и ему глотнуть спирту, но он наотрез отказался, часть дороги бежал следом за санями, похлопывая себя по ногам и груди, словно замерз и хочет согреться. Вечером, едва расположились на ночлег в сельском Совете, стало ясно, что заболел и Чипизубов. Он весь горел. Отыскали местного фельдшера, градусник показал тридцать девять и восемь. Фельдшер долго выслушивал и выстукивал парня и под конец заявил, что у него воспаление легких. Прописал аспирин, горчичники и постельный режим.
— Все! Все полетело к черту! — говорил Мудриков, когда они остались вдвоем с Дороховым в кабинете председателя сельского Совета. — Сам посуди, два-три дня на поправку Чипизубову мало, а через три дня не только все село, но и на прииске будут знать о том, что мы тут застряли. Значит, узнает и Агеев. Ты что же, думаешь, что у него нет тут своих доброжелателей? И они не преминут ему донести. Ты вчера видел, как возчики со встречного обоза здоровались с нашим участковым? У меня, у других моих работников тоже найдутся знакомые, сразу между ними пойдет разговор, куда мы да зачем. Найдутся и такие, что предупредят бандитов. Прячьтесь, мол, милиция понаехала.
Дорохов понимал, что Мудриков прав, но сказать ему было нечего.
— Давай оставим больных на попечение фельдшера, денег дадим, а сами на прииск. Допросим стариков Агеевых, пусть говорят, где сын прячется, — предложил Мудриков.
— А если не скажут?
— Кто-нибудь из соседей поможет, не все же там в бандитских пособниках.
— Хорошо, найдем честных людей, скажут, видели сына Агеевых. Больше того, подтвердят, что он где-то тут скрывается. Будем тайгу прочесывать?
— Но не возвращаться же с пустыми руками! — стал сердиться Мудриков. — Сто пятьдесят километров отмахали, людей с работы сорвали…
Дорохов хотел возразить, сказать, что он отмахал не сто пятьдесят, а целых две тысячи километров, что готовил операцию больше месяца и она вот тут сорвалась потому, что ни Мудриков, ни шофер не заметили полынью и не попытались ее объехать.
— Что ты в панику бросаешься? Давай все обсудим, подумаем, как быть. Выход нужно искать.
Мудриков несколько успокоился и не очень уверенно посоветовал:
— Может, поговорим с охотниками. Думаю, один из Вавиловых, тот, что пошустрее, подойдет. Отправим его вместо Лешки. Проинструктируем как следует. Попытаемся?
— В тыл к фашистам я бы этого Вавилова послал не задумываясь: честный, смелый, отличный стрелок, да и следопыт к тому же. А тут же перед бандитами нужно сыграть роль и убедить их в том, что это не игра. Да потом, ты же сам говорил, что есть среди них кто-то из вашего поселка. Вавилов будет им по нашему сценарию байки рассказывать, а из-за куста вылезет бандюга да и заявит: «Не слушай его. Врет он все. Это же охотник Вавилов». Как думаешь, что будет дальше?
— Убьют, — вздохнул Мудриков.
— То-то же. И тебя, и твоих ребят ждет такая же участь, если вы пойдете на разведку. Узнают вас и расправятся, какой бы пароль вы ни назвали. Ты вот что скажи, Аркадий: где бы нам граммов двести пятьдесят — триста золотишка на время добыть? Чипизубову на расходы мы выдали двадцать граммов, вот бы к ним еще?
— Это зачем же? — удивился Мудриков.
— Мыслишка одна проклюнулась.
В ЛОГОВО К БАНДИТАМ
В кабинете председателя сельского Совета стоял старый бронзовый подсвечник с маленьким огарком свечи. Всю ночь оперативная группа крупным напильником пилила его по очереди и старательно собирала опилки. Потом опилки эти, словно аптекарские порошки, заворачивались в бумагу. Когда таких порошков оказалось двадцать восемь, работу окончили. Тем временем Мудриков сжег часть старой резиновой галоши, добавил в сажу немного горячей воды и на нижней рубашке, которую предварительно взяли у одного из участников группы, на спине перерисовал карту, на свой страх и риск изменяя ориентиры: точку захода солнца он чуть передвинул к северу, и сразу ущелье, где было запрятано золото, сместилось.
В чужом потрепанном костюме, собранном по частям, что называется, с миру по нитке, Дорохов чувствовал себя неудобно. Ватные брюки Вавилова оказались слишком длинными, а валенки милиционера растоптанными. От старого и заношенного свитера неприятно пахло по́том. Только телогрейка и шапка третьего охотника оказались впору. Александр отошел от деревни с километр, огляделся. Дорога в полумраке рассвета казалась пустынной. Он вынул из-за пояса наган с облезлым воронением, вытащил из него патроны, пощелкал курком, проверяя, исправно ли поворачивается барабан, осмотрел каждый капсюль. Потом зарядил револьвер снова и опустил в карман брюк. Из голенища правого валенка достал небольшой самодельный нож, попробовал его остроту на ноготь. Остался довольным, снова засунул за голенище. Шел он быстро, размышляя, как все получилось. Перед самым его уходом Мудриков спокойно достал из полевой сумки блокнот и потребовал, чтобы Александр на всякий случай сообщил ему свой домашний адрес в Чите. Туда же записал приметы маскарадной одежды, а в довершение велел ему, Александру, назвать год выпуска и номер револьвера, который в обмен на маузер взял Дорохов у заболевшего милиционера. Этот номер особенно четко остался в памяти — 1602437. Конечно, Мудриков поступил правильно. Все это нужно на тот случай, если Александр не вернется. Но получилось все как-то уж очень откровенно, что ли. Словно в святцы на панихиду записал еще живого человека, с его же согласия.
Интересно, сколько шагов вон до той колдобины? Если чет, значит, все будет хорошо. Саша остановился, а потом, тронувшись, начал считать, стараясь шагать ровно. Оказалось двадцать восемь. Значит, все будет в порядке. Эх ты! Чудак суеверный, а еще комсомолец… Все зависит от тебя самого. Неужели не сумеешь провести каких-то паршивых бандитов? Интересно, а нет ли осечек у револьвера?
— Слушай, ты, друг! Хватит киснуть! — вслух проговорил Александр. — Пой! — И тут же затянул свою любимую песню о комсомольцах, уходивших на гражданскую войну.
Наезженная санная дорога на льду петляла, крутилась от одного берега к другому и оказалась на удивление пустынной. Здесь Зея была широкая, и дул непрерывно въедливый встречный ветер, который в тех краях зовется хиус. Дорохов то и дело прикрывал лицо рукавицей.
— Страшно тебе, Сашка? — громко сам себя спросил Дорохов.
— Конечно, страшно! Не очень, но все-таки страшновато.
— Но ты же мог не ходить.
— Но ведь больше некому. Нас только двоих бандиты наверняка не знают: Туеска и меня. Как же не пойти, раз Туесок в горячке лежит. Они же останутся на свободе, будут воровать, грабить, убивать.
— Значит, ты герой!
— Какой там, к черту, герой, когда иду и поджилки дрожат.
Дорохов подошел к берегу, на котором чернело несколько домов, вытянувшихся в одну линию. Всеми окнами они уставились на реку, словно хотели получше рассмотреть растерянное лицо начальника отделения областного уголовного розыска по борьбе с особо опасными преступлениями. Но, едва ступив на берег, Александр успокоился и уверенно направился ко второму с краю рубленому пятистенку. Вплотную к дому примыкал крытый наглухо двор, и у Александра мелькнула мысль о том, что бандиты запросто могли устроиться на зиму прямо здесь, возле дома. Решительно Дорохов поднялся на крыльцо. Огрызком веника аккуратно смел снег с валенок и потянул на себя дверь. В большой и просторной кухне у печки суетилась женщина лет пятидесяти. Она сунула в угол рогатый ухват и уставилась на гостя.
— Здорово, маманя! Пусти обогреться!
— Заходи, мил человек. Откеле идешь — с низу аль с верху?
— С верху. С Октябрьского. Выхожу на железную дорогу. А к тебе заглянул привет Николаю передать от его дружков-товарищей.
— Какому еще Николаю?
— Ты Агеева будешь?
— Ну!
— Значит, сынку твоему.
— От кого привет-то?
— Ну, мать! Ты чистый прокурор. Лучше б стопку поднесла, пожрать чего дала, а потом и за допрос принялась. — Саша нагло прошел к столу, скинул с плеча мешок, снял шапку и уселся на скамью.
— Нет у меня стопки, — нахмурилась хозяйка, — а щей налью..
Саша демонстративно втянул в себя запах и, входя в роль, мечтательно продолжал:
— Щец горяченьких, да еще и со свининкой, похлебать не худо, но без стопки какая еда перед дальней дорогой! Золотоскупка-то работает?
— А пошто ей закрываться-то?
— Тогда, может, сходишь, мать, в магазин? — Дорохов развязал холщовый мешок, достал замызганную тряпицу, развернул.
Пока он возился, женщина подошла к столу и увидела в тряпье кучу одинаковых пакетиков. Дорохов взял верхний, протянул ей:
— Сходи, мать. Возьми литровку спирту, пару пачек махры, хлебца и, если есть, сала. Или там еще чего. — Завязал снова тряпицу, подкинул сверток на руке и сунул в карман ватных штанов.
Хозяйка набросила на плечи овчинную кацавейку, повязала шаль, взяла плетенку и повторила свой вопрос:
— От кого привет-то?
— От Севастьяна Пескова.
— Это ты сам будешь Севастьян?
— Опять допрос? Жрать хочу, аж скулы сводит, а ты все на своем. Я Сашка, понимаешь? Корешок Севастьяна. Он просил кланяться твоему сынку, если мимо буду. Да ты поторопись. Мне еще знаешь сколько топать сегодня?
— Что же, ты у нас и не погостюешь?
— Дальше пойду. Мне бы до лютых холодов на железку выскочить.
Женщина хотела что-то сказать, да, видно, раздумала. Заглянув в другую половину избы, поманила кого-то, и к ней вышли двое мальчишек, похоже, братья. Один в кухне забрался на печь и улегся с явным намерением стеречь гостя, второй, чуть постарше, лет двенадцати, натянул треух, полушубок и вышел вместе с хозяйкой.
— Как живешь? — решил сломать напряженную тишину Александр.
— Ниче…
— Звать-то как?
— Витек.
— А по батюшке?
— Николаевич, — улыбнулся парнишка.
— Что же ты, Виктор Николаевич, не в школе?
— Учительница захворала.
— А тот? — Александр кивнул головой на дверь.
— Коська-то? Седни не пошел.
— Школа здесь?
— Не. Внизу. Восемь километров.
— Так каждый день и ходите? — искренне удивился Дорохов.
— А че? Мы на лыжах. А когда пурга, у тетки ночуем.
Виктор Николаевич оказался человеком неразговорчивым, и навязываться с расспросами Александр не стал. Быстро вернулась хозяйка, подозрительно взглянула на гостя, потом на внука. Поставила на стол литр спирта, вытащила из корзинки кусок замороженного сала, две банки консервов, большую круглую буханку хлеба и две пачки махорки. Достала из-за пазухи пакетик, что получила от Дорохова и протянула ему.
— Семь граммов взяли. Тут еще три осталось.
Александр широким, небрежным жестом отвел руку женщины.
— Оставь себе, мать. За постой.
— Заночуешь? — явно обрадовалась хозяйка.
— Нет. Надумал ночевать в селе, где его школа. — Александр кивнул на мальчишку. — Там одной солдатке нужно поклон передать.
— Это какой-же?
— Ну, мать! И все-то тебе надо выпытать. Собирай обедать. Тяпнем по рюмашке, да буду собираться.
Он уловил, как женщина подала знак мальчишке отправиться в комнату и пошла следом за ним. Не слышал Александр, что она спрашивала у внука, но, видно, Виктору Николаевичу надоели ее вопросы, и он огрызнулся.
— Че пристала? Ни об чем не говорили. Только и спрашивал, пошто в школу не пошел.
Хозяйка вернулась и суетливо стала собирать на стол.
«Где же Коська? — раздумывал Дорохов. — Бегает по своим мальчишеским делам? Так ведь вызвала его с собой бабка. Неужели послала к бандитам и те вот так, днем, и заявятся сюда? Не может быть. Встретят по дороге? Возможно. Человек какой-то непонятный, да и опять же с золотишком. Есть прямой смысл перехватить. Я, конечно, неважный горбач, можно сказать, и осталось-то у меня всего десять граммов этого презренного металла, но им-то это не известно. А может, я все придумал? Сидит Коська у дружка, а я тут голову себе забиваю».
За стол сели вдвоем. Хозяйка поставила перед гостем миску наваристых щей, стакан, тарелку соленой черемши, от которой сразу острый чесночный запах заполнил всю кухню, по настоянию гостя достала себе лафитник зеленого стекла. Саша наполнил его до краев спиртом. Налил и себе треть стакана.
— Пошто мало? Тебе воды подать, аль так будешь? Наши мужики без воды глотают. Да и я привыкла.
Хозяйка выпила спирт, даже не поморщившись, подцепила на вилку пучок темно-зеленых листьев и степенно, не торопясь, закусила. Один раз за свою жизнь пил Александр неразведенный спирт — после того, как поздней осенью, случайно оступившись, искупался в Ангаре. Отец вытащил, налил ему полкружки и заставил выпить. Сашке тогда показалось, что у него все внутри сгорело, а отец, смеясь, объяснил, что спирт надо пить на выдохе. Все это промелькнуло, пока рука подняла стакан. Проглотить спирт удалось, не уронив своего достоинства. Прихлебывая щи, закусывая черемшой, Александр отрезал изрядный кусок сала. Не хватало ему вот тут еще и опьянеть. Хозяйка, видно осмелев от первой рюмки, сама налила себе и опять полстакана Дорохову.
«Вылить? Увидит — и сразу всему конец. Кто же тут спирт выливает? Отказаться? Так зачем посылал? Пить? Свалюсь. Как быть?»
— Давай, хозяюшка, за здоровье!
Агеева так же ловко, как и первую, проглотила вторую рюмку, а Сашка отпил глоток и, разбрызгивая остатки, закашлялся. Женщина вскочила, подала ковшик воды и сама объяснила:
— Видать, не в то горло пошло. Да ты закусывай. И приляг с дороги, я тебе на лавке постелю. Скинь катанки, они на припечке обсохнут. Сам-то откуда?
— Иркутский.
— Сюда-то как попал?
— Опять за свое. Больно уж ты дотошная баба. Привезли меня сюда, привезли. Под конвоем. Не захотел дальше ехать, теперь сам вот иду. Может, и верно, немного храпануть? Где сынок-то, Николай? Мне бы поговорить с ним надо.
— А кто ж его знает? Отдыхай пока. В ночь так и пойдешь? — Агеева спрашивала и каждый ответ выслушивала внимательно, словно старалась распознать подвох. И почему-то ей очень хотелось, чтобы гость остался.
— В ночь и пойду, — снимая валенки, ответил Дорохов.
Когда из-за голенища выпала финка, он ее поднял, подержал в руке и, поиграв лезвием, положил в головах, под свернутый хозяйский полушубок.
— Видать, бедовый ты. С пером бродишь.
— На всякий случай, мать.
— Где же это Севастьян Песков запропал?
— Подстрелили его. В больнице лежит. В какой? В каменной. — Сашка хохотнул. — С решетками… — И вытянулся на лавке.
Опять стали мучить раздумья. Почему хозяйка намерена его задержать? Где парнишка? Сколько же прошло времени? Вышел он, Сашка, около восьми утра. Шел самое малое два часа. Значит, около десяти он пришел в этот дом. В десять или в начале одиннадцатого ушел мальчишка. Сейчас, наверное, уже час или даже начало второго… Что же ему, остаться здесь или уходить, так ничего и не разузнав? Сытный обед и спирт помимо воли клонили в сон. Дорохов боролся со сном, ворочался с боку на бок, хотел встать, выйти на улицу, пройтись, но совсем неожиданно захрапел, и не нарочно, а самым естественным образом.
Женщина подошла к нему, постояла возле лавки, вглядываясь в спокойные черты лица гостя, нагнулась над самой головой и слегка подула на веки. Первый сон оказался крепким, веки гостя даже не дрогнули.
— Видать, уркаган отпетый, а дрыхнет, как ангелок, — проворчала хозяйка и принялась убирать со стола посуду.
Совсем не громко хлопнула в сенцах дверь, но Александра словно толкнули в бок, и он как ошпаренный вскочил с лавки, сунул руку в карман ватных брюк и вцепился в рукоятку нагана. Из второй половины избы открылась дверь.
— Чего вскочил? Внучек мой, Костенька.
Было слышно, как в сенцах кто-то обметает валенки, обивая снег, а потом в кухне появился мальчишка. Шапка его была сильно обсыпана снегом, сам он, раскрасневшись, скинул полушубок, стащил валенки и, ничего не сказав гостю, отправился на другую половину.
Александр тем временем достал с печи свои просохшие валенки, ловко замотал портянки и не торопясь стал обуваться.
Появилась вместе с Костей хозяйка.
— Куда заспешил? Давай чаевать. Коля тебя повидать хочет. Придет к ручью, как стемнеет.
Ага, значит, клюнули! Сколько же сейчас времени? Часа два, а то и больше. Значит, если считать, что Костя ушел в десять, то обернулся он туда и обратно за четыре часа. Наверное, и у бандитов просидел час, а может, больше. Тогда на дорогу ушло три часа, туда и обратно. Недалеко, где-то здесь под боком, километров пять-шесть, от силы восемь.
— К ручью, говоришь? А сколько туда идти?
— Тут рядом. Скоро дойдем, — ответил уже осмелевший мальчишка. — Только папка велел темноты дождаться.
— Ну, тогда чайку попьем, — согласился Александр.
Едва стемнело, Дорохов стал собираться. Сложил в мешок хлеб, сало, консервы, туда же опустил пачку махорки, хотел засунуть сверток с опилками и золотом, но раздумал. Вторую пачку махорки опустил в левый карман телогрейки, подпоясался тонким сыромятным ремнем и за пазуху, как противотанковую гранату, засунул почти полную бутылку спирта.
— Бывай здорова, мать!
— Путем тебе, дорогою.
— И тебе по той же.
Коська шел впереди, а Дорохов, приотстав, шагал сзади и левой рукой, прямо в кармане, разорвал пачку махорки и стал в горсти разминать табак. Мял старательно: на случай свалки горсть мятого табаку в глаза действует отлично. По укатанной санной дороге поднялись на бугор, и едва спустились, мальчик свернул на малозаметную тропинку и придержал Александра за руку.
— Здесь, дядя.
Негромко свистнул, в кустах за ручьем ему сразу в ответ прозвучал тихий свист и совсем отчетливо, словно рядом:
— Ты, Коська?
— Я.
Крадучись, видно, по привычке, чтобы не треснула под ногами ветка, из кустов вышел человек и, не доходя до Дорохова шагов пять, остановился. На левой согнутой в локте руке лежало ружье. Стволы угрожающе смотрели вперед, на него — Сашу. Стоял Николай Агеев боком, видно готовый мгновенно вскинуть ружье, дважды нажать курки и кинуться прочь.
«Боится! Или, по крайней мере, опасается», — мелькнула мысль, и Дорохов решил забирать инициативу в свои руки.
— Здорово, Никола! Привет тебе от Севастьяна. Присядем где-нибудь и глотнем за него спирту. Я тебе расскажу все, что знаю, и подамся дальше. Не привык я к вашим медвежьим порядкам. — Саша вытащил из-за пазухи бутылку и вплотную подошел к бандиту. Зубами вынул пробку и протянул Агееву спирт. — Пей!
— Зачем же тут? Идем к нам. Переночуешь, расскажешь честь по чести, а может, и остаться до весны захочешь.
— Буду выходить на железку. Чего ж здесь зиму торчать? На лесоповалах и так надоело.
— Не захочешь — уйдешь. Зато поговорим по-людски, а заодно и выпьем. Свежениной тебя подкормим. Тут недалеко. Напрямик версты две. Но мы кругом ходим, чтобы следа не давать. Топай, сынок, домой… Идешь, что ли?
— Пойдем. Все одно. Думал у одной молодухи переночевать. Ладно, подождет. Ну, давай на дорожку по глотку. — Высоко запрокинув голову, хлебнул из бутылки. В темноте не было видно, как, закусывая снегом, он с отвращением выплюнул спирт. Приложился и Агеев, тоже закусил снегом, закинул за плечо новенькую двустволку и пошел вперед. Александр заметил, что оба курка у централки были взведены.
Идти с ним в бандитское логово? Идти. Конечно, идти. Узнать, где оно находится, посмотреть, пощупать каждого своими руками, а потом накрыть всю шайку одним ударом.
Внезапно Дорохова осенила мысль, что он допустил просчет, что бандиты решили заманить его к себе, чтобы отнять золото, а с ним попросту расправиться.
«Ну, это вам не удастся». Саша нащупал в кармане тряпицу с опилками от подсвечника и, проходя мимо сваленной бурей лесины, споткнулся. Поднимаясь, сунул под дерево злополучный сверток, и сразу на душе стало легче.
Перед косогором остановились. Агеев показал рукой куда-то в темень и объяснил:
— Вот и пришли. Тут сотня шагов осталась.
— Знаешь, Никола, я вот иду и все думаю, что глупость спорол. — Дорохов помолчал. — Есть у меня золотишко, чуть поменьше фунта. Чтобы с ним к вам не тащиться, его возле твоей хаты в снегу прикопал.
— Где?
Александр хмыкнул в ответ:
— Да так я тебе не объясню. Показать надо.
— Ничего, завтра мать баню топить будет, сходим попаримся, а заодно и песок заберешь.
Раздвинув елки, Агеев открыл тесовую дверь, и оба оказались в небольшом тамбуре, из которого вторая дверь вела непосредственно в бандитское жилье. Землянка была большая и на удивление удобная. Ее вырыли в ельнике, в косогоре, потрудившись на совесть. Справа и впереди тянулись двухъярусные нары. Слева большая сложенная из камня печь с металлической плитой и конфорками. Посредине выструганный из досок стол, над ним керосиновый фонарь «летучая мышь».
За столом трое бандитов играли в карты, а еще два обросших мужика валялись на нарах. Все пятеро при их появлении встали, и в землянке вмиг стало тесно. Агеев объявил:
— Гостя привел. Пускай расскажет, что про Севастьяна знает.
Александр чуть оттолкнул в сторону главаря, подошел к столу, поставил бутылку.
— Расскажу, только для начала хватим по стопарю, да пожрать бы немного. — Повернулся к плите, грея над печью руки, заглянул в полуведерный чугун, в котором кипело мясо. Рядом с ним в маленьком походном котелке тоже булькал наваристый бульон, из которого торчала тонкая косточка. Сбросив на нары мешок, телогрейку и шапку, Александр увидел, что черный бородатый мужик поднялся с нар, поставил на стол алюминиевые кружки и стал разливать спирт. Агеев тоже разделся и, посмотрев на черного, велел:
— Дели на два раза.
— Че тут двоить! — огрызнулся мужик. — Тут если одному, то как раз на два, а на всех только понюхать.
Дорохов взял пододвинутую ему кружку, вытащил из маленького котелка за кость кусок мяса и увидел на лицах бандитов хитрую усмешку. В глазах бородатого запрыгало, заиграло злорадство, и он сразу почувствовал какой-то подвох, и именно в этом чертовом котелке, но отступать было поздно.
— Со свиданьицем. — Саша поднял кружку, проглотил спирт и откусил кусок. Боковым зрением уловил, что именно этого момента с напряжением ждали все окружающие. На вид мясо походило на баранину, только с каким-то щелочным привкусом, и было ясно, что, когда его поставили варить, совсем не добавляли никакой приправы.
— Что же вы, черти, хоть бы луковку кинули или черемши. Привкус бы отбило.
— Неужели собачатину раньше жрал? — удивился черный.
— А ты на Колыме был? Там собака первое дело. Только для хорошего гостя, — сдерживая судорожно подступивший к горлу комок,
нашелся Сашка.
— Это мы бобика на пробу сварили, — засмеялся худой, какой-то весь сморщенный мужичонка. — Зимой по снегу корову там или овцу не уведешь. Враз найдут. У нас тут каждый пацан — следопыт. А коли запасы кончатся, придется за собак браться. Вот и сварили. Шкуру на ноги, на носки, а мясо на пробу.
— Собака — это хорошо. Вкусно! — разошелся Сашка. — Только мясо надо сначала вымачивать и приправу добавлять. Я пока по лагерям да по колониям болтался, много чего повидал да попробовал. Вот кошки плохо. Но при нужде тоже можно.
— Про жратву ладно, потом расскажешь. Давай говори про Пескова, — перебил черный.
— Пескова я не видел. — Дорохов посмотрел на притихших, насторожившихся бандитов. — Ранили его. Шли они втроем. Севастьян Песков, Юшка Слепнев и Туесок — Леха Чипизубов. После побега убили какого-то начальника, забрали оружие, за ними погоня. Начали отстреливаться. Но их схватили, один Туесок и ушел. Добрался до Октябрьского, но там его поймали. Я с ним в КПЗ вместе сидел. Когда Туесок узнал, что меня выпустят, попросил к тебе, Николай, зайти и рассказать, что и как.

В землянке стало как-то по-плохому тихо. Бандиты обдумывали его рассказ и с недоверием смотрели на Дорохова. Александр ждал перекрестного допроса.
— Куда же ты теперь? — спросил лысый мужик.
— Обожди, — остановил приятеля чернобородый. — Куда ему потом, мы тут порешим. Пусть обскажет, кто он да откуда и как на прииск попал.
— Проверка документов, значит! — усмехнулся Александр. — Только ты, чертов медведюга, учти, я к вам не напрашивался. Сами зазвали. А теперь пытать собираетесь. По какому закону вы, таежные кусошники, мне, блатному человеку, допрос чините?
Дорохов все больше распалялся, сыпал жаргонными словами, и на какое-то время от его наглости оторопели все шестеро. А Сашка вошел в роль и словно одержимый копировал Юшку Слепнева, кричал на всю землянку:
— Вы, гады, в тюрьме пискнуть боитесь, под нарами сидите, а тут силу решили показать?
Агеев оказался самым выдержанным. Он молчал и, казалось, с интересом наблюдал за гостем. Чернобородый встал, оттолкнул соседа и шагнул к Дорохову.
— Хватит болтать! Выворачивай карманы. — Взял с нар мешок Дорохова и кинул его лысому: — Погляди, чего у него там.
«Сейчас навалятся, начнут обыскивать, найдут оружие, и тогда крышка, — промелькнуло в сознании. — Надо действовать». Александр шагнул навстречу черному, вырвал из кармана наган и ткнул его револьвером в живот.
— Молись, падло! Сейчас в рай отправлю.
В землянке повисла тишина. Сашка уловил, что бандит, сидевший на нарах, потянулся к ружью.
— Эй, ты! Не тронь берданку, шмальну! — И напустился на Агеева: — Ты что же, Никола, сидишь? Уйми своих оглоедов. На, возьми мою пушку, а то я завалю кого-нибудь сгоряча. — И Дорохов бросил свой револьвер на колени Агееву.
Лысый отодвинул от себя мешок гостя, чернобородый, потоптавшись, опустился на нары, остальные в растерянности молчали.
— Скажи, Никола, своим мужикам, я к вам просился? Ты меня сам в свою берлогу зазвал. Принес вам ксиву, а вы мне права качать. — Александр медленно стянул свитер, а затем нижнюю рубашку, скомкал ее и бросил Агееву.
— Вот. Туесок просил передать.
Тот схватил рубашку и прикрикнул на остальных:
— Тихо вы, разбазарились, как бабы, вместо того чтобы с человеком потолковать. В мгновенно наступившей тишине он рассмотрел карту. — Так это же не та, что мне Севастьян показывал.
— Конечно, не та. Перед побегом он ее каждому срисовал. Эту Туесок с себя снял, велел тебе отдать.
Сашка взял со стола бутылку, посмотрел на свет и, увидев, что она пустая, с сожалением вздохнул. Агеев подтолкнул сидевшего рядом бандита, кивнул головой на тамбур, тот вышел и вскоре вернулся с четвертинкой. Главарь сам налил третью часть четвертинки гостю, и Дорохов с показной жадностью выцедил спирт.
— Держим на всякий случай, — объяснил Агеев. — Может, кто заболеет или поранится. — Из большой кастрюли он вытянул кусок мяса и пододвинул миску гостю.
Александр, убедившись, что выдержал первую проверку, с удовольствием принялся за еду — на этот раз ему предложили сохатину. Прожевав кусок, стал говорить, обращаясь к Агееву:
— Туесок просил передать, чтобы вы его выручали. Охрана там в КПЗ никудышная. И ночью связать старика милиционера пара пустяков. Нас освободили четверых и на следующий день должны были гнать в Зею в военкомат. Освободили, чтобы с бабами попрощаться, чтобы они бельишко да еду какую собрали. Но у меня бабы нет, и хаты там нет. Я в чужую хату нырнул. Смотрю, там золотишко и эта игрушка. Отдай-ка мне ее обратно. — И, забрав револьвер у Агеева, сунул его за пояс.
— На Октябрьский как попал, у кого жил? — впервые заговорил сухощавый бандит.
— Нигде не жил. Только добрался, нашел одну старуху. — Сашка обрисовал дом, где жил Туесок. — Пустила переночевать, утром пошел в магазин, на улице схватили — «Кто такой, откуда? Документы?» До этого нас из колонии передали в строительную роту. Ее в Зею, из Зеи двадцать человек на Ясный, на строительство обогатительной фабрики. Там документами разжился и пошел на железку. Вот такие, братцы, мои дела. Про ваши не спрашиваю. Сидеть в вашей берлоге не собираюсь.
Саша потянулся к нарам, взял висевшую на гвозде гитару, ударил по струнам и запел:
С своей верной ватагой гарцуя,
Я разграблю хоть сто городов.
И с дарами я к милой вернулся,
Все отдал это ей за любовь.
Посмотрел на притихших бандитов, быстрее перебрал струны и сменил грустную старую воровскую песню на озорной куплет.
КОНЕЦ БАНДЫ АГЕЕВА
…Дорохов лежал на нарах, похрапывал, громко сопел, изображая крепко заснувшего, уставшего с дороги человека. Но ему было не до сна. Он был уверен, что бандиты ему поверили. И теперь обдумывал, как вести себя дальше. Как вырваться из этой компании, чтобы уж потом вернуться сюда с Мудриковым и всей группой? Мудриков! Он, наверное, тоже не спит. Договорились, что сегодня оперативная группа поедет дальше по Зее. Минует прииск и остановится в том самом селе, где школа, в которую бегают дети Агеева. Там должен ждать его возвращения. Ждать Мудриков будет еще в течение полутора суток или, вернее сказать, двух с момента ухода Дорохова. Если тот к этому сроку не вернется, начнет действовать. Возьмется за мать Агеева и через нее будет искать ход вот в эту самую землянку. Главным образом для того, чтобы выручить его, Дорохова, если он к тому времени останется живым. Ну, живым-то он, пожалуй, будет, если, конечно, не совершит какой-то ошибки… Но вот как отсюда выбраться, раньше чем у Мудрикова кончится срок ожидания? Может, удастся уйти после бани? Интересно, сколько же человек пойдет париться?
Так и не заснул Саша в бандитском логове до самого утра.
Спозаранку Агеев вышел из землянки, посмотрел на небо, по каким-то признакам определил, что скоро, возможно к ночи, пойдет снег, и сразу всех разогнал. Двое бандитов ушли в тайгу проверять силки и ловушки, двое отправились на ближнюю речушку, где у них стояли снасти на рыбу.
— Мы тут каждый день снега ждем, — объяснил он Дорохову. — Новая пороша все наши следы да тропки покроет. Вот и пользуюсь случаем.
Саша попробовал разговориться с оставшимся бандитом. Это был хлипкий мужичонка лет сорока, весь всклокоченный, неприбранный. Расхаживая по землянке, он все время подтягивал ватные штаны, словно опасаясь, что они вот-вот свалятся. Разговора не получилось, так как бандит хмыкал или отвечал невпопад. Дорохову показалось, что его одолевают какие-то заботы и сомнения. Агеев же, наоборот, приставал с расспросами. Его интересовало все. Берут ли в армию из колонии и кого? Как поступают с дезертирами, если они сами решают объявиться? Что выдают по карточкам. Победят ли фашисты или их в конце концов погонят с русской земли? Каждый вопрос он задавал осторожно, видно, старался скрыть, что его интересовало. Когда Дорохов попытался заговорить о детях, Николай Агеев сначала хотел что-то сказать, потом махнул рукой и быстро вышел из землянки, словно вспомнил о каком-то безотлагательном деле. Но Александр успел заметить, как он несколько раз тяжко вздохнул, словно ему не хватало воздуха.
«Видно, жалко парнишек, а ребята и впрямь славные, — подумал Саша. — Видно, мучает отца их судьба».
В полдень втроем похлебали вчерашнее варево и улеглись на нары. Оба бандита очень быстро уснули. Хоть вставай да уходи. Но уйти вот так сейчас было нельзя. Если даже не догонят, поднимется переполох. Разбегутся кто куда, пока вернешься с оперативной группой. Спрячутся по разным углам, переждут какое-то время и потом, собравшись на новом месте, станут еще злее.
Нет, так не годится. Не за тем ты сюда шел, Саша, чтобы разогнать шайку. Но как же быть? Словно сквозь пелену возникло лицо Фомина, и дядя Миша обычным ровным голосом повторил свое любимое наставление: «Не торопись, Сашок. Не спеши. Думай. Думай и ищи правильный выход. До сих пор у тебя все шло как надо, и дальше все будет зависеть от тебя самого. Не торопись, не спеши и думай».
Как ни медленно тянулось время, но все-таки завечерело. Агеев выглянул из землянки и стал собираться. Осмотрел ружье, переменил патроны, взял с полки еще несколько штук и сунул в карман телогрейки.
— Мужикам скажи, чтобы пушнину не подпарили, — наказал он оставшемуся бандиту, — какую принесут. Да печку не прикрывайте, а то задохнетесь, как котята. — И уже Дорохову: — Ты котомку-то с собой возьмешь?
— А чево с ней таскаться? Пускай лежит. Я у вас недельку погостюю, — беззаботно ответил Саша, скрывая радость.
А ему и было от чего радоваться. Идут вдвоем и до утра могут задержаться. Думал, и этот недотепа увяжется, а он, слава богу, тут остается. Везет, ну просто везет… «Смотри, как бы это везенье тебе боком не вышло», — осадил он самого себя.
— Мяса поболе свари, — попросил Саша оставшегося бандита. — Спирту принесем пару бутылок. Никола, а где моя рубаха? Что же я, без сподней пойду? Свитер-то на голое тело натянул.
— Одевай. — Агеев нехотя достал из изголовья своих нар разрисованную рубашку. — Дома я тебе дам чистую на сменку, а эта мне останется. Как найду золотишко, и тебя не обделим. А может, еще и с нами заживешь? Пошли, что ли?
«Как же быть? — в который раз спрашивал себя Дорохов, шагая следом за главарем. Мысли, точно снег в пургу, кружились и путались. — Нельзя идти на прииск. Нужно брать по дороге. Отойти подальше от землянки и тогда действовать. Интересно, откуда будут возвращаться «охотники» и «рыболовы»? Спросить или не стоит? Вот будет номер, если я этого схвачу, да напорюсь на тех! Придется уйти подальше. Вдруг поднимется стрельба? Надо, чтобы в землянке слышно не было. Может быть, у прииска?»
Шли не торопясь. Агеев повел в обход, совсем не тем путем, что шли вчера. Неожиданно Николай стал отчитывать Дорохова за расточительность. И открылся ему в новом качестве.
— Зачем золото тратить на спирт? Золото — это жизнь. Можно купить оружие, продукты и зиму просидеть без грабежей и воровства. По чернотропу еще куда ни шло: забрал, ушел — и концы в воду. А сейчас попробуй сунься, враз найдут. А при золоте голодным не насидишься. Хорошо тебе подфартило с песочком?
— Подфартило. Жаль, мало было, — усмехнулся Саша.
— Сколько?
— Я же тебе говорил, чуть помене фунта.
— Зря ребятам моим про песок сказал, кое-кто может и позариться.
«Так-так! Значит, сам решил при случае моим золотишком воспользоваться, или, может, думает, поделюсь? Ну что же, мне опилок не жалко. Идем, дальше видно будет».
Примерно через час они выбрались на дорогу.
— Сено тут возят. Еще немного — и выйдем на берег Зеи, а там до дому с километр, — обронил через плечо Агеев. Он по-прежнему шел впереди с ружьем наизготовку.
— Подожди, Никола! Присесть бы где, портянка сбилась, ногу трет.
Нашлась возле дороги сваленная бурей лесина. Александр стал переобуваться. Агеев сел рядом, прислонил к дереву ружье и принялся сворачивать папиросу. Дорохов закончил с валенком, ударом ноги отбросил ружье, отскочил в сторону и наставил револьвер.
— Не шевелись. Буду стрелять. Я из уголовного розыска.
Агеев так и застыл с клочком газеты, на котором горкой была насыпана махорка.
— Подними руки, повернись спиной и ложись вниз лицом.
Александр сам удивился своему спокойствию. В его ровном голосе звучала холодная уверенность. Может быть, поэтому бандитский главарь четко выполнил все команды и дал связать себе руки. Сыромятный ремень, которым подпоясался Александр, уходя в разведку, пришелся как нельзя кстати. Кроме ножа и патронов, в карманах у Агеева ничего не оказалось. Закинув за плечи ружье, Дорохов приказал:
— Вставай — и пошли. Да не вздумай бежать.
Теперь, когда напряжение спало, Саша заметил красоту подсвеченного луной и снегом березняка, вперемешку с ельником обступившего дорогу, и почувствовал мороз. Засунул револьвер за пазуху и стал отогревать окоченевшие от металла пальцы. Совсем недалеко оказалась Зея. Они спустились на лед и по наезженной дороге пошли вниз. С момента задержания бандит не проронил ни одного слова. А Дорохов говорил без умолку:
— Посмотрел я вчера на твоих мальчишек, и жалко их стало. Отец бандит и собственных детей в пособники превратил. Ты хоть думал, что их ждет? Была бы у них мать, она бы тебе за них глаза повыцарапала. Старуха только над тобой дрожит и ради тебя внучат губит, а заступиться в вашем углу за них некому. Думал, что все о тебе знаю. Целый месяц, считай, каждый день с Севастьяном Песковым в тюрьме толковал. Он мне твердил: «Агеев человек, у него совесть есть». Перечитал я показания людей, которых вы грабили, и там показалось, что ты совесть не всю потерял, когда не дал чернобородому над женщиной издеваться. В колонии о тебе справки наводил. Сказали, что работал исправно, из пятерки три года честно отбыл, и потом вдруг побег. И еще мало, что ушел. Главарем банды стал. Грабить начал. Ладно, раз бандит, грабежи — дело понятное, а вот как же ты с Виктором да Константином Николаевичами так обходишься? Вырастут, ведь по отцовской дорожке пойдут. Что молчишь-то, как язык откусил? Себе жизнь сломал и детям губишь. А ты знаешь, какая здесь жизнь после войны будет? Мимо вас пройдет новая железная дорога. Построят заводы, города. Люди таежные свет увидят. А ты бандит. У детей, если они по твоей дорожке и не пойдут, все равно твоя жизнь пятном останется. Давай так: придем в сельсовет, пиши явку с повинной. Будем считать, что сам, добровольно, сдался. Опять молчишь? Дурак ты, Никола. Я же с тобой тут от чистого сердца толкую, а там, в сельсовете, допрашивать на протокол буду.
— Не получится явки с повинной. Ненадобна она будет, — первый раз отозвался Агеев.
— Это почему же ненадобна? — возмутился Александр.
— Пока дойдем, руки отмерзнут. Чем я свою беду отрабатывать буду? — Агеев вздохнул, еще ниже опустил голову и угрюмо обронил: — Видно, на роду мне положено бандитом подохнуть.
— А ну стой! — Александр попробовал развязать ремень, но сыромятная кожа стала словно железной и едва поддалась ножу. — А теперь три снегом.
Минут десять Агеев растирал руки то об снег, то о валенки и под конец, сдерживая стон, шевеля пальцами, поблагодарил:
— Спасибо. Начали отходить.
В сельсовете, где разместилась оперативная группа, когда Дорохов представил Мудрикову и остальным Николая Агеева, у всех отлегло от сердца, свалилась тяжесть. Их напоили чаем, отогрели, и Агеев принялся писать заявление о явке с повинной. По требованию Александра он написал, что добровольно поможет оперативной группе взять без перестрелки всех своих соучастников, и в то же утро сдержал слово.
Дорохов, вернувшись в Читу, подробно доложил о ликвидации банды. Начальник уголовного розыска его внимательно выслушал, спросил, как обстоит дело с Чипизубовым. Александр рассказал, что сразу по возвращении сам лично сдал его командиру запасного полка.
— Молодец, Дорохов. За эту операцию представим тебя к награде. Но видно, не судьба нам дальше вместе работать. На, читай. — И Гущин вытащил из папки бумагу.
«Телеграмма. Начальнику управления милиции Читинской области.
Немедленно откомандируйте Александра Дмитриевича Дорохова в Москву для работы в уголовном розыске Главного управления милиции НКВД СССР. Генерал-майор милиции Овчинников».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Дорогие читатели!
Прежде чем нести в издательство свою книгу, автор дал прочесть ее некоторым своим товарищам, в том числе и тем, чьи фамилии здесь упоминаются. Вот что написал Михаил Николаевич Фомин.
…Помню комсомольское пополнение, что перед войной пришло к нам в Иркутский уголовный розыск. Начал свои первые шаги в уголовном розыске в моей группе и автор этой книжки. В то время действительно была высокая преступность. Оставались рецидивисты дореволюционной школы, подобные Международному. И они не только сами совершали преступления, но вербовали себе помощников среди неустойчивой молодежи. И хотя Саша Дорохов герой литературный, но в нем я узнаю черты многих своих учеников.
Сейчас у нас в Иркутске давно нет деревянных тротуаров, нет кошевочников, уже много лет как нет бандитизма. Я частенько бываю в уголовном розыске и знаю: есть дни, когда в суточном рапорте о происшествиях всего несколько слов: «Преступлений по городу и области не зарегистрировано».
Большой удачей своего бывшего практиканта считаю то, что он сумел интересно и ярко рассказать об условиях работы в уголовном розыске тридцатых годов. Показал сложность борьбы с остатками преступного мира, доставшегося Советскому государству от царской России. Только зря автор меня уж больно расписал.
Иркутск
Подполковник милиции в запасе
Михаил Николаевич Фомин
* * *
…Вместе с автором книги Игорем Скориным я начал работать в Иркутском уголовном розыске в 1936 году. Так же, как Сашу Дорохова, очень внимательно, с дружеским теплом меня учили розыскному делу старые коммунисты, в том числе и М. Н. Фомин, им я обязан многим. И я рад, что широкий круг читателей узнает, как велась борьба с преступниками в то время и какие люди работали в милиции.
В 1963 году, когда мне присвоили звание генерала милиции, я написал письмо в Иркутск Михаилу Фомину и Михаилу Кихтенко и поблагодарил их за учебу, за то, что они научили меня правильно понимать жизнь, в общем, поставили на ноги.
В книге называются далеко не все подлинные фамилии, но я, например, вижу в Боровике Анатолия Дубовика, того самого, который по окончании Великой Отечественной войны вернулся домой блестящим военно-морским офицером. Думаю, что комсомольцам восьмидесятых годов будет интересно познакомиться с теми, кто в тридцатых годах был на переднем крае борьбы с преступностью.
Москва
Генерал-майор милиции в запасе
Иван Иванович Попов
…Александра Дорохова я не знаю, а вот автор этой книжки Игорь Скорин и верно приехал в Читу и месяца три спал на диване в моем кабинете. Были и те дела, о которых говорится в книжке, — в Петровск-Забайкальске и на Зейских приисках, где сейчас идет великая стройка. Я прочел книжку и вспомнил свою молодость, трудные дни в уголовном розыске, хотя в этой службе всегда трудно.
Владивосток
Подполковник милиции в запасе
Николай Савельевич Арзубов
…Эта книга о тех временах, когда уголовный розыск работал в особенно сложных условиях. Сейчас к услугам оперативного работника ЭВМ, телетайп, портативные радиостанции, скоростные машины и помощь общественности. Теперь на службу криминалистике пришла техника, и эксперты в состоянии ответить почти на любой вопрос. В тридцатых годах работники уголовного розыска, конечно, ничего подобного не имели. В то время на весь Советский Союз была одна Высшая школа милиции, сейчас их больше десятка. Создана Академия МВД СССР. Сейчас в милицию пришли образованные, высококультурные люди, имеющие не только теоретическую, но и практическую подготовку.
В те далекие времена было сложно бороться с преступниками-рецидивистами. Если в первые годы Советской власти профессиональные преступники действовали в открытую, то позже, стараясь избежать репрессий, ушли в подполье, замаскировались. Полковник милиции Игорь Скорин прослужил в уголовном розыске более тридцати лет и в своей повести сумел достоверно рассказать о сложной работе того времени. Книга позволит читателю познакомиться не только с работой угрозыска. Она рассказывает об основном принципе социалистической законности — неотвратимости наказания, о гуманизме советских законов и деятельности милиции по перевоспитанию людей, преступивших закон.
Москва
Генерал-лейтенант милиции в запасе
Александр Михайлович Овчинников
Скрягин А. Потупа А и другие авторы
Повести
 /
/ 
Александр Скрягин
МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
1
Загадочное исчезновение
Стас закончил печатать последний лист обвинительного заключения по делу о хищении винных материалов работниками ликеро-водочного завода.
С чувством исполненного долга он поднялся из-за стола, распахнул окно и понял: в город пришла осень.
Потому что только весной и осенью тридцатилетний, отнюдь не похожий на мечтателя капитан милиции Станислав Александрович Алексин испытывал странное труднообъяснимое чувство. Точнее всего это чувство можно было бы определить, как ощущение присутствия в мире тайны.
Весной эта тайна чудилась где-то в необозримой дали, за горизонтом. Путь к ней лежал через далекие страны, незнакомые города и светящиеся голубым неоном, словно гигантские телеэкраны, международные аэропорты. Осенью же эта тайна была здесь, близко. Она плавала в стеклянном сентябрьском воздухе. Просто ее трудно было заметить, как бесцветную медузу в голубой морской воде. Но она была рядом, и он ощущал ее будоражащее присутствие. При этом вразумительно объяснить, о чем должна рассказать эта тайна, он бы не смог. Но был твердо уверен: если бы удалось ее разгадать, он бы узнал что-то очень важное об окружающем мире и себе самом.
Стас вернулся к письменному столу, запер четыре пухлых тома вино-водочного дела в сейф и совсем было уже собрался позвонить жене домой, что идет обедать.
Он еще не знал, что сегодня утром в областном художественном музее произошло хищение ценного экспоната, так называемого «Золотого Рога изобилия». И что ведение следствия поручено старшему следователю городского отдела внутренних дел капитану милиции Алексину Станиславу Александровичу — то есть ему.
Он не успел позвонить жене, потому что коротко и требовательно звякнул черный аппарат внутренней связи.
…Музей находился в двух шагах от горотдела, поэтому Стас не стал вызывать служебную машину, а пошел пешком.
Во время ходьбы ему думалось лучше всего. Медленно двигаясь в городской толчее, он прокручивал в голове полученную им первичную информацию о похищении.
То, что в ней содержалось, прямо скажем, обескураживало. В ориентировке оперуполномоченного уголовного розыска, начавшего поиск экспоната и преступника, говорилось, что исчезновение золотого изделия из музейной витрины произошло в промежутке между девятнадцатью часами прошедших суток и восемью утра суток, ныне идущих. То есть как раз тогда, когда оно произойти не могло.
Не могло, потому что именно в это время работала специальная охранная сигнализация, и здание музея было полностью блокировано для внешнего мира. Наличие всех экспонатов, в том числе и Рога, в восемнадцать пятьдесят девять подтверждалось записью в музейной книге осмотра экспозиции, в которую ежедневно заносились проверки наличия экспонатов перед сдачей музея на пульт вневедомственной охраны. Включение сигнализации в девятнадцать ноль-ноль подтверждалось записью в книге дежурного по пульту.
Проверка установленной в музее охранной сигнализации показала, что последняя находится в исправном состоянии. Причем, дежурившие на пульте офицеры заметили, что система обладает очень высокой чувствительностью и в ветреную погоду срабатывает даже в результате простого давления воздуха на оконные стекла. Но в эту ночь все было спокойно, и рядом с цифрой «7», под которой на пульте значился художественный музей, всю ночь мирно горела зеленая лампочка.
Золотой Рог исчезнуть не мог. И все-таки он исчез. Словно какая-то сверхъестественная сила отодвинула толстое витринное стекло, подхватила его и бесплотной тенью пронесла сквозь чуткую электрическую сеть, охватывающую по периметру все здание музея.
Осмотр дверей парадного и служебного входов, а также окон обоих этажей тоже ничего не дал: следов проникновения внутрь помещения обнаружено не было. Правда, в ориентировке оговаривалось: в музее имеется еще один вход. Этот вход когда-то вел в исчезнувший теперь генерал-губернаторский сад и был заложен едва ли еще не в годы революции двумя прочными железными балками. По этой причине сигнализационный датчик на нем не устанавливался. Но разблокирование этой двери нынешней ночью также установлено не было.
Стас не мог не верить добросовестности оперуполномоченного уголовного розыска. И асе же рядом с этим пунктом он поставил в уме восклицательный знак: «Проверить! Все-таки датчика-то на двери не было…»
На витринном стекле отпечатков пальцев не оказалось. Впрочем, это было и неудивительно: снаружи стекла ежедневно протираются музейными смотрителями, а возможно, тряпкой по витрине прошелся и преступник.
Дело выглядело прямо-таки загадочно. Но Стас не отчаивался. За годы работы в милиции ему уже приходилось не однажды приступать к ведению дел, на первый взгляд не имевших как будто никаких зацепок. Но при внимательном рассмотрении всегда оказывалось, что это не так. Рано или поздно из тьмы происшедшего вырисовывался механизм преступления. Стас, в общем, не сомневался: так будет и на этот раз. И все-таки испытывал тревогу. Она рождалась не оттого, что Рог представлял собой значительную материальную ценность. Хотя он стоил больше, чем он мог заработать за девять лет безупречной службы, не это волновало его — ему приходилось расследовать хищения и покрупнее. Главным было то, что Рог представлял собой художественную и историческую ценность. По существу, он принадлежал не только ныне живущим, но и бесчисленной череде грядущих поколений. Поэтому Стас ощущал тяжесть ответственности не только перед своим начальством, пусть даже самым высоким, к этому он уже успел привыкнуть. Но словно бы и перед самим человечеством.
И это было отнюдь не легкое чувство.
Похищенный экспонат представлял собой Рог изобилия на круглом пьедестале с опорной подставкой в виде извивающейся змеи, выполненный целиком из драгоценного металла (золота высокой пробы) и покрытый в средней части росписью эмалевыми красками. Роспись изображала идиллический сюжет с обнаженной пастушкой и амурами.
Автор произведения был неизвестен. По поводу времени и места его создания у специалистов также не было полного единодушия. Наиболее вероятной считалась точка зрения, согласно которой Рог был изготовлен во Франции во второй половине XVIII века.
До вчерашнего дня в постоянной экспозиции музея Рог не выставлялся. Но после того, как его изображение стало широко известно горожанам по продающемуся во всех киосках «Союзпечати» настенному календарю с его фотографией, выпущенному местным издательством, в книге отзывов музея появились многочисленные записи с требованиями выставить Рог для обозрения. Рог был извлечен из сейфа и выставлен в одной из витрин. При этом витрина была, как и полагается, опечатана печатью главного хранителя музея. Но, вопреки имеющейся возможности, датчик охранной сигнализации на выдвижном стекле витрины установлен не был. Главный хранитель музея объяснил это оперуполномоченному уголовного розыска спешкой введения Рога в экспозицию. Он показал, что заявка на подключение витрины к сигнализационной системе была сделана, и сегодня техник должен был установить датчик на выдвижном стекле. Но как раз в минувшую ночь экспонат из витрины исчез при совершенно загадочных обстоятельствах, пробыв открытым для обозрения граждан всего один день.
Этакий ненавистник популярности! — подвел черту своим размышлениям Стас. В имеющемся массиве информации ему виделись пока две мерцающие тревожным красноватым светом точки. Первая — забытая дверь без датчика охранной сигнализации. Вторая — в общем-то объяснимая, на первый взгляд, и все же какая-то чрезмерная спешка в вынесении Рога из хранилища в витрину на обозрение. В конце концов, что решал один день? Казалось, можно было подождать подключения витрины к сигнализационной сети, однако… По чьей же инициативе, интересно, это было сделано? — задал он себе вопрос.
За годы работы следователем сначала районного, а затем городского отдела внутренних дел Станислав Александрович убедился в поразительном однообразии большинства совершаемых преступлений.
Драка. «Был сильно пьян. Из-за чего ударил, не помню… Нет, конечно, убивать его не хотел…»
Кража. «Вижу, стоит мотоцикл… Сам не знаю, как оказался за рулем… Он завелся, я поехал. Вовка сказал, что можно хорошо продать, он знает мужика, который купит…»
Хищение. «Сначала брал не для себя, для дела… Угостить нужных людей, подмаслить, подмазать, где надо… Потом привык, стал считать, что за все сделанное для родного хозяйства заслуживаю большего…»
Его даже мутило от этого тошнотворного однообразия.
В последнее время он все чаще ловил себя на остром желании крикнуть сидящему перед ним с опущенной головой подследственному: «Боже мой, да ведь у тебя в голове три миллиарда клеток, тебя десять, а то и пятнадцать лет учили, ты каждый вечер смотришь телевизор и читаешь газеты, чтобы такой вот ты появился на свет, понадобилось три миллиарда лет эволюции живой материи — от комочка первобытной слизи до кроманьонца, — неужели ты не мог сообразить, чем для тебя все это кончится? Рано или поздно, но — обязательно! Неужели ты не видишь на один сантиметр дальше своего носа?».
Направляясь в областной художественный музей, старший следователь ГОВД, капитан милиции Алексин еще не знал, что здесь ему впервые предстоит встретиться с делом совсем иного порядка.
2
Временной люфт
Музей помещался в бывшем дворце-резиденции краевого генерал-губернатора. Он был расположен на возвышении в самом центре города. Это был старый двухэтажный особняк, с зубчатой, похожей на крепостную, башенкой посередине.
«Наверное, — думал Стас, — генерал любил стоять на башне, обозревая синие степные дали, и ощущать себя капитаном на судовом мостике, уверенно ведущим в будущее доверенный императором край. Может быть, вглядываясь в туманный западный горизонт, он думал о покинутой столице, и ему виделся Невский проспект в стеклянной кисее холодного балтийского дождя и манящий теплый свет окон многочисленных петербургских салонов. И ему нестерпимо хотелось вернуться в этот опьяняющий комфортабельный мир.
Или ночами он велел выносить на плоскую каменную крышу башни широкое плетеное кресло и, удобно устроив в нем свое грузное генеральское тело, аккуратно протирал стекла двадцатикратной морской подзорной трубы в медном начищенном корпусе, потом наводил ее на огромный желтый круг сибирской луны и подолгу с удивлением рассматривал резкие черные кратеры и горные цепи, бесконечно чужие и в то же время совсем такие же, как здесь, на земле».
На высоких дверях музея висела табличка с оттрафареченной надписью: «Санитарный день». Стас обошел здание кругом и с противоположной стороны, как раз напротив парадного входа, обнаружил маленькую обитую жестью дверь. Он открыл ее, миновал крохотный тамбур и оказался среди каких-то больших деревянных ящиков, фанерных щитов и поставленных друг на друга колченогих стульев. Откуда-то сверху били яркие солнечные лучи. Оглядевшись, Стас понял, что находится как раз под парадной лестницей, против основного входа. Сделав несколько шагов, он попал в пустынный вестибюль. Стояла ничем не нарушаемая стеклянная тишина. Стас ступил на парадную лестницу. И — тишина разлетелась на тысячи осколков: лестница оказалась металлической, и ступени загудели под его шагами. Поднявшись на площадку между этажами, он от неожиданности замер: прямо перед ним стоял высокий молодой человек в темном костюме с приспущенным галстуком. Он настороженно смотрел на Стаса.
«Галстук, как у меня», — отметил Стас и понял, что молодой человек — это он сам. А перед ним — огромное, выше человеческого роста, настенное зеркало.
«Ну дела, сам себя не узнал! — изумился он. — Не музей, а какой-то заколдованный замок». Он пригладил волосы, шагнул на ступеньку второго пролета и увидел сидящую вверху, на площадке второго этажа, женщину. Точнее, сначала он увидел только ноги в темных прозрачных чулках и легких красных туфельках, а лишь потом фигуру женщины целиком. Женщина смотрела куда-то в сторону, будто не слышала его гудящих шагов.
Стас был на середине лестничного марша, когда она, наконец, повернула голову. Взглянув на него, она сняла ногу с ноги и тесно сдвинула колени.
Внешность женщины была не рядовой. В ней было что-то восточное. Скульптурная сухая головка с туго стянутыми назад черными блестящими волосами, монгольские скулы, изящно-хищный вырез маленьких ноздрей и огромные, темные, недобро смотрящие глаза. В ее крохотных розовых ушах жирно поблескивали золотом тяжелые серьги-полумесяцы, похожие на грозные янычарские ятаганы.
«Что-то из эпохи кровавого Тимура, покорителя Азии: утонченно-изящное и варварское в одно и то же время, — подумал Стас. — Человеческие черепа, которые отделывали золотом и превращали в винные кубки, и застолья с беседами об оттенках печали, которые бывают в глазах у юных дев…»
На женщине было красное вязаное платье, сзади волосы перехвачены алой лентой. Красный цвет — ее цвет. И он выбран безошибочно.
— Музей закрыт. Разве вы не видели табличку? — сухо произнесла она.
Фраза у нее прозвучала как-то ненатурально. Будто она прекрасно знала, кто такой Стас и зачем он пришел.
Стас поднялся по ступенькам и встал на лестничной площадке перед негостеприимной незнакомкой. От женщины исходил аромат духов, горьковатый, тревожный и волнующий.
— Видел… — специально чуть помедлив, сказал он. — И все же решил зайти.
— Вам, собственно, что нужно? — с явной злостью в голосе произнесла она.
— Директора или главного хранителя, — радуясь, что давно научился держать себя в руках, добродушно улыбнулся Стас.
— Вы из милиции? — опустив глаза, словно сдерживаясь, чтобы не нагрубить, спросила женщина.
— Да. — Стас вынул из внутреннего кармана служебное удостоверение и, раскрыв, показал ей.
Музейная грация подняла глаза, они излучали почти открытую враждебность.
Такой прием его удивил.
За годы работы в органах внутренних дел Стас заметил, что недоброжелательное или реже ироническое (дескать, ну и профессия!) отношение к работникам милиции встречается не так уж редко, но держится оно до той поры, пока сам человек не попал в беду. А уж если попал, если встретил тебя в подворотне десяток подвыпивших юнцов с наглыми от водки глазами, если, придя с работы, увидел распахнутый шкаф без всего зимнего гардероба, если, выйдя утром из дома, обнаружил, что твои новенькие «Жигули» стоят «раздетыми» — без резины, колпаков и подфарников, а на блестящем, еще вчера без единой крапинки борту выцарапано ржавым гвоздем короткое слово, если, наконец, на твоих глазах в темном парке рядом с танцплощадкой выкручивают руки девчонке, приставив ей к горлу нож, — куда только девается показная лихость, — «зачем она, эта милиция!». Милиционера зовут, как в детстве отца или старшего брата, для которого нет ничего невозможного, «который все может».
За это Алексин и любил работу в милиции — за ощущение своей принадлежности к могучей и справедливой силе.
Здесь же Стас почувствовал, как на него повеяло реальной атмосферой враждебности. Враждебности совершенно непонятной.
В самом деле, в музее произошла кража. Кража не рядовая. И вот человека, пришедшего найти и вернуть Рог, встречают так, как будто он его украл. Странно.
— Пойдемте. — Женщина резко поднялась. — К сожалению, наш директор в командировке. На месте — Самсон Сергеевич. Это — главный хранитель музея. Я вас провожу…
С обеих сторон лестничной площадки были большие белые двери. Левая, та, что ближе, — полуоткрыта, и за ней виделась манящая перспектива пустынных музейных залов.
Женщина сделала указующий жест рукой, и они вошли в эту дверь. Зал, в котором они оказались, — просторный и светлый. На одной его стене высились окна с белыми полупрозрачными шторами. Сквозь полуоткрытые рамы осенний ветерок надувал их, словно корабельные паруса.
На противоположной стене — галерея портретов в тяжелых позолоченных рамах. Первым висел портрет миловидной женщины в пышном платье, какие носили в давно ушедшие времена — в прошлом веке, а может быть, и еще раньше.
— Императрица Елизавета Петровна… Дочь Петра I, дщерь Петрова. Неизвестный художник XVIII века, — сказала суровая провожатая, заметив его взгляд. — Видимо, этот портрет был сделан еще до восшествия ее на престол, когда она находилась в опале во времена правления кровавой императрицы Анны Иоанновны. Это — гордость нашего музея…
Стас заметил, что голос спутницы немного потеплел.
От движения раздуваемых ветром штор по лицу будущей императрицы побежали солнечные зайчики вперемежку с причудливыми тенями, и ему показалось, что лицо дочери Петра на секунду словно наполнилось жизнью и даже хитровато улыбнулось…
Второй зал был значительно меньше и темнее. Два небольших окна снаружи были огорожены кронами старых кряжистых тополей. В темных углах зала молчаливо застыли белые античные статуи. У одного из окон стоял высокий стеклянный параллелепипед с двумя полками внутри. На верхней стояли изящные фарфоровые чашечки и несколько покрытых росписью блюдец. Нижняя была сиротливо пуста.
— Да, да, мой Рог стоял именно здесь, — сказала женщина.
— Почему вы говорите «мой»? — спросил Стас.
— Потому что в музее именно я занимаюсь изучением коллекции произведений декоративно-прикладного искусства из металла. А отнюдь не потому, что я взяла его с этой полки, и он спрятан теперь у меня дома. Товарищ следователь, не ловите меня так примитивно. Я хочу хорошо думать о нашей милиции, — с усмешкой произнесла она. — Знаете, раз уж вам все равно придется меня допрашивать, то сделайте это сейчас, не откладывая.
— А почему вы считаете, что мне обязательно придется вас допрашивать? — спросил Стас.
— Потому, что это именно я, несчастная, вчера дежурила… — ответила женщина.
Стас ищуще посмотрел по сторонам. Его спутница сделала приглашающий жест в сторону низкого полированного столика. На столике лежал альбом в красной бархатной обложке с белой табличкой. На ней было выведено тушью: «Книга отзывов». Они сели за столик друг против друга.
— Ирина Викторовна Полякова, младший научный сотрудник, — представилась женщина.
Она неожиданно сменила манеру поведения и теперь старалась быть мягкой и обаятельной. Но это у нее не очень-то получалось. Женщины — прекрасные актрисы, но Ирину Викторовну подводили глаза. Все-таки в глубине они оставались злыми.
«А может быть, я просто не могу забыть тот ее взгляд, полный такой явной враждебности?» — подумал Стас.
Он назвал себя и спросил: — Скажите, Ирина Викторовна, до того, как Рог был выставлен в витрине, он хранился у вас в запаснике?
— Нет, — покусывая губы, ответила Полякова. — Я отвечаю за хранение всей коллекции экспонатов декоративноприкладного искусства, кроме изделий из драгоценных металлов. Они, по инструкции, находятся в сейфе у главного хранителя. За хранение экспонатов из драгметаллов отвечает лично он.
— Ясно, — кивнул Стас. — Вчера вы были дежурным научным сотрудником, значит, именно вы закрывали залы музея и включали сигнализацию, так?
— Я, — опустила голову Полякова. — Между шестью и половиной седьмого мы вместе с дежурным смотрителем обошли все залы и сверили по книге осмотра экспозиции наличие экспонатов… Все было в порядке. И Рог находился на месте.
— А кто кроме вас видел в это время экспонат?
— Ну, во-первых, Доманская, смотритель зала, она в этот день дежурила, потом, как раз когда мы заканчивали обход экспозиции, а второй зал, где стоял Рог, мы осматривали последним, ко мне подходили сотрудники нашего отдела, спрашивали, поеду ли я в выходной в лес за грибами. Смотрительницы первого и второго залов стояли рядом. Все они видели Рог, — пожала плечами Ирина Викторовна, и золотые ятаганы в ее маленьких ушах растерянно закачались. — Вы можете спросить у них самих.
— А потом?
— Потом все они ушли. Буквально через две-три минуты мы с Доманской закончили осмотр экспонатов, и Аделаида Игоревна попросила меня отпустить ее, потому что на семь часов у нее был талончик к участковому врачу, и она тоже ушла…
— Простите, кто ушел? — переспросил Стас.
— Аделаида Игоревна Доманская, смотритель зала, которая вместе со мной дежурила в этот день.
— А вы?
— А я осталась ждать, когда из музея выйдут те, кто еще оставался…
— А кто еще оставался? — чувствуя, что выходит на что-то важное, спросил Стас.
Ирина Викторовна как будто внутренне подобралась.
— Директор и главный хранитель — Белобоков Самсон Сергеевич… — после чуть заметного колебания ответила Полякова. — Они оставались в кабинете у директора. В этот день директор улетал в командировку в Москву, ну и передавал
Белобокову, Самсону Сергеевичу, дела.
— И все? — быстро спросил Стас.
— Все, — грозно тряхнула ятаганами Ирина Викторовна.
Кое-что как будто начало вырисовываться.
— Ирина Викторовна, а где вы находились после окончания осмотра экспозиции? — стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно безразличней, спросил Стас.
— Там, где вы меня встретили. На площадке второго этажа.
— Значит, последний раз вы видели Рог около половины седьмого, и после этого вы лично не видели: на месте он или нет?
— Не видела, — чуть слышно сказала Полякова.
«Ну вот, — отметил про себя Стас, — еще раз подтверждается старое следственное правило: если в документе все временные куски слишком гладко прилегают друг к другу, это почти всегда не соответствует истине. Видимо, мы инстинктивно стремимся упростить ситуацию и представить картину событий максимально ясной, а в жизни так не бывает, и между идеально совпадающими кусками времени всегда есть люфт…
В данном случае примерно полчаса. Между тем моментом, когда Рог с достоверностью видели в витрине второго зала, и тем моментом, когда была включена сигнализация, и похитить его из витрины стало уже невозможно. В это время, видимо, и была совершена кража. Тогда все сразу становится понятным. Экспонат унесла сквозь сигнальную систему не сверхъестественная сила. Музей, скорее всего, ушел под защиту охранной сигнализации, когда Рога в витрине уже не было…»
— А во сколько вы закрыли музей?
— Около семи вышел директор, а где-то через минуту-другую, Белобоков. Когда они вышли, я закрыла двери, спустилась вниз и включила сигнализацию. Потом позвонила на пульт в милицию и спросила, включилась ли она. Мне ответили, что все нормально. Вот и все. Я закрыла дверь черного хода и ушла.
— А ключ от двери черного хода?
— Ключ от двери черного хода дежурный сотрудник уносит с собой. А утром на следующий день открывает музей.
— У ключа есть дубликаты?
— Да, есть еще два ключа: у директора и главного хранителя.
— Так… — протянул Стас и на всякий случай спросил: — А они не ждали вас внизу?
— Нет, — поправляя волосы, ответила Полякова. — Белобокое всегда провожал директора, когда тот уезжал куда-нибудь. И в этот раз они вместе уехали на вокзал. Когда я спустилась, их уже не было.
Ирина Викторовна замолчала и смотрела куда-то в сторону.
Стас размышлял над услышанным.
Итак, похититель — не посторонний человек. Он — работник музея. Тот, кто находился в нем в рамках временного люфта, то есть примерно между восемнадцатью тридцатью, когда Рог еще лежал в витрине, и девятнадцатью часами, когда включили охранную сигнализацию.
Размышляя, Стас открыл книгу отзывов, автоматически заскользил взглядом по строкам и сразу же споткнулся о запись, сделанную ярким красным фломастером: «Благодарим сотрудников музея за доставленную радость общения с прекрасным. Нам очень понравилась экскурсия, которую провела по его залам экскурсовод Л. Петроченко. Больше всех экспонатов нам понравился Золотой Рог, который все мы уже видели на календарях, продающихся в „Союзпечати“. В жизни он такой же красивый, как на фотографии. Большое спасибо!!! — учащиеся 8 класса средней школы № 55». Под записью стояло вчерашнее число. Оно было трижды подчеркнуто.
— Товарищ следователь, у вас есть еще какие-нибудь вопросы или я могу быть свободна? — неожиданно официальным тоном прервала Ирина Викторовна его размышления.
Стас почувствовал себя как в танце, в котором партнерша хочет взять на себя роль того, кто ведет. Не очень приятное ощущение.
«Характер!» — внутренне усмехнулся Стас.
Горячие глаза Ирины Викторовны недобро заблестели.
«Боже мой, да отчего же младший научный сотрудник Полякова так не любит следователя, а? — спросил себя капитан Алексин. — Такой взгляд, пожалуй, одним характером не объяснишь».
3
Кто-то из троих…
Кабинет главного хранителя представлял собой небольшую часть музейного зала, отделенную выкрашенной в белый цвет фанерной загородкой. Все пространство его стен занимали различного размера пестрые холсты без рам. Привычных табличек с названиями на картинах не было. Вместо них с боков торчали белые, похожие на аптечные, ярлычки. На них ярко-лиловые цифры и буквы — шифр, по которому в специальной картотеке можно найти соответствующую данной картине карточку с названием, именем автора, указанием года создания и состояния сохранности.
На письменном столе, за которым сидел главный хранитель, как раз стояло несколько деревянных каталожных ящичков, какие бывают в библиотеках. Кабинет освещала настольная лампа с оранжевым абажуром.
— Я знал, знал, что с этим Рогом что-нибудь случится! — проговорил Самсон Сергеевич Белобокое и прикрыл лицо ладонью. — Все просто ужасно! Ужасно! Никогда в музее не случалось ничего подобного! Никогда! И вот на тебе, на тебе! — шептал он. — И как нарочно, накануне защиты! Ну, как нарочно!..
На вид Белобокову можно было дать любой возраст между тридцатью и сорока годами. Он уже заметно начал лысеть. Лицо у него было круглое, полноватое, с правильными чертами, но какое-то слишком бледное и вялое. Даже цвет губ не отличался у него от цвета лица. Наверное, чтобы как-то компенсировать эту цветовую невыразительность, он носил очки с розоватыми стеклами.
Рука, которой он закрывал лицо, была будто слегка опухшая. На нем была пестренькая рубашка в мелкую красно-синюю клетку и хорошо завязанный темно-синий галстук. На спинке его стула висел серебристо-серый бархатный пиджак.
— Я говорил, говорил директору: к чему спешить? Установят сигнализацию и тогда — пожалуйста! — пусть все любуются на этот треклятый Рог! Сколько угодно! Но он просил! Он даже настаивал, да! Рог стал символом музея, и посетители должны его видеть!.. Конечно, ему можно спешить! Ведь за хранение экспонатов отвечаю своей головой в первую очередь я, я! Не он!..
Самсон Сергеевич с отчаянием махнул рукой и замолчал с выражением страдания на лице.
— Значит, на помещение Рога в витрину без датчика сигнализации настаивал именно директор? — спросил Стас.
Самсон Сергеевич опустил глаза и едва слышно прошептал: — Да, он… именно он.
И, будто спохватившись, добавил:
— Хотя, конечно, я не снимаю ответственности и с себя, но ведь это правда! Именно он.
— Самсон Сергеевич, вы говорили, что с Рогом что-то должно случиться. Как понимать эти ваши слова? У вас были какие-то конкретные подозрения?
Белобокое выдвинул центральный ящик своего письменного стола, порылся в нем, достал крохотную баночку вьетнамского ментолового бальзама, поддел ногтем крышечку, покрутил подушечкой указательного пальца по яично-желтой мази и стал тереть свой правый висок. В комнате резко запахло аптекой и словно бы несчастьем.
— Простите, ради бога… Совсем расклеился… — слабым голосом сказал он. — Голова… Нет, нет, конкретных подозрений у меня не было, конечно, нет. Разумеется, нет! Откуда им быть? Ведь никогда, никогда в музее ничего подобного… Но, знаете, предчувствие, интуиция… Вы верите в интуицию? Я верю. Понимаете, последнее время с этим Рогом происходило что-то странное.
Стас насторожился.
— Сначала эта история с фотосъемкой. Потом неожиданная популярность календаря с его фотографией… Поверьте, Рог неплохой. Но у нас есть вещи не менее, а более высокохудожественные. И эта известность, не вполне заслуженная…
— Простите, Самсон Сергеевич, а что это за история с фотосъемкой, про которую вы упомянули?
— Около двух месяцев назад наш фотограф делал слайды с нескольких наших экспонатов, в том числе и с Золотого Рога. Они необходимы нашим научным сотрудникам для сопровождения лекций, используются при изготовлении печатной продукции, как, например, этого знаменитого, — Белобоков грустно усмехнулся, — календаря!.. И вот во время съемки Василий — это наш бывший фотограф — как-то неловко поставил Рог, он упал, и сбоку у него откололся маленький кусочек эмалевой росписи. Конечно, Василий был за это строго наказан… Теперь он, кстати, вообще не работает в нашем музее. О повреждении красочного слоя был составлен соответствующий акт, все, как положено. Но, в общем, сам того не желая, Василий помог обнаружить любопытную вещь. На том месте, где отскочил кусочек эмали, обнаружились выгравированные на металле латинские буквы «t» и «h». Стало ясно, что под эмалью скрывается какая-то надпись. Мы обратились в криминалистическую лабораторию, там просветили Рог рентгеновскими лучами, и оказалось, под эмалевой росписью на металле выгравировано слово «Elisabeth», французский аналог русской Елизаветы. Это, к сожалению, и дало основания некоторым нашим научным сотрудникам выдвинуть гипотезу якобы этот Рог принадлежал знаменитой авантюристке XVIII века, выдававшей себя за внебрачную дочь императрицы Елизаветы Петровны. Когда по поручению Екатерины 11 граф Орлов-Чесменский похитил ее из Италии и привез в Россию, именно так — Elisabeth — она подписывала свои письма императрице с просьбой о помиловании… Кстати, современная историческая наука считает, что у Елизаветы Петровны действительно были внебрачные дети, но с этой авантюристкой они не имеют ничего общего.
Хотя… — история эта темная. И давно минувшая… Нам-то какое до этого дело? Ну, был этот Рог у авантюристки или не был… Как теперь это докажешь? Я не раз говорил Ирине Викторовне, к чему эти дилетантские рассуждения? Зачем все эти разговоры, разжигающие нездоровый интерес?
И вот — пожалуйста! — теряя спокойствие, с отчаянием махнул рукой Самсон Сергеевич и принялся натирать виски пряным вьетнамским бальзамом.
— Да, Самсон Сергеевич, — начал Стас, стараясь казаться совершенно безразличным, — а вы уверены, что в 19.00 Рог находился на месте?
Белобокое помолчал, глядя в баночку с бальзамом, сильно потер рукой лоб.
— Да, — тихо сказал он.
— Вы сами это видели или просто так думаете?
— Да, я сам это видел. Я уходил из залов где-то около семи, минут без пяти семь. Рог лежал в витрине. Я хорошо это помню.
Аптечный запах бальзама в кабинете главного хранителя стал совершенно нестерпимым. У Стаса даже защипало в глазах. Он немного поколебался и спросил:
— Самсон Сергеевич, скажите, у вас есть какие-нибудь предположения о похищении Рога?
— Не знаю… Не знаю! — замотал головой Белобокое. — Я уходил из залов последним, и, — он сглотнул, — Рог был… в витрине.
Белобокое внезапно наклонился и вплотную приблизил свое лицо к Стасу. В полумраке его глаза блестели каким-то лихорадочным фосфорическим светом.
— Товарищ следователь… Я вам скажу. О! Это хищение организовано против меня. Да, да! Против меня! Знаете, у меня столько врагов, как у всякого человека, который работает, а не делает соответствующий вид, как некоторые наши руководители! В том числе и наш директор! Да, да, я не боюсь говорить это вам. Вы должны знать все! И я скажу ему это в лицо, как только он вернется, обязательно скажу! Это хищение предпринято, чтобы уничтожить меня! Им всем завидно, что я заканчиваю кандидатскую… Но кто им не дает делать то же самое? Кто? Пишите, работайте, ради бога! Я, как главный хранитель, это только поддержу! Однако, нет! — развел он руками. — Вместо этого шипение по углам! Сплетни, слухи, косые взгляды! — Белобокое снова закрыл лицо пухлой белой ладонью.
— Простите, — осторожно наступал Стас, — а когда вы говорите «они», кого вы имеете в виду?
— Ну, никого конкретно… Поймите меня правильно, — не открывая лица, зашептал Самсон Сергеевич, — их «вообще» — моих завистников в коллективе…
— Так вы утверждаете, что кто-то мог похитить Рог с целью навредить вам, так?
Белобокое молча кивнул головой.
— И кто же это, по-вашему, мог быть? — продолжал гнуть свою линию Стас. — Говорите, невинному человеку это не повредит, а следствию вы можете помочь. Это ваш долг.
— Нет, конкретно я не могу… Я не знаю, — совсем ослабевшим голосом прошептал Белобокое. — Поймите меня правильно. Конкретно я не могу…
«Конкретного человека Самсон Сергеевич назвать не может, а этак интеллигентно, косвенно бросить тень — вполне», — отметил Стас.
Самсон Сергеевич сидел, закрывшись рукой, с видом совершенно обессиленного человека. Стас понял, что сегодня он вряд ли сможет услышать от главного хранителя что-нибудь новое, и поднялся.
Город встретил его свежим ветром с реки и привычным веселым шумом. В озабоченной городской толпе, плывущей навстречу ему, то здесь, то там мелькали забытые за лето снежно-белые форменные фартучки школьниц. В руках у них были завернутые в целлофан букеты красно-белых гладиолусов. На Стаса повеяло давней грустью первого сентября, когда каникулы, полные бескрайней свободы, оставались за спиной, и начинались бесконечно длинные школьные будни…
Стас медленно шел к себе в горотдел и прокручивал в голове беседу с Белобоковым. Его показания означали, по крайней мере, одно из двух. Или все-таки музей ушел под охрану сигнализации вместе с Рогом внутри, и тогда его вынесла оттуда нечистая сила, во что, естественно, Стас поверить не мог. Или Рог изъял из витрины кто-то из тех, кто находился около временной точки девятнадцать ноль-ноль часов в помещении. А таких людей было только трое: директор, главный хранитель и дежурный научный сотрудник Ирина Викторовна Полякова. Рог мог взять кто-то один, но возможен и сговор нескольких лиц в том или ином сочетании.
В тот же день Станислав Александрович дал телеграмму в Москву о срочном отзыве из командировки директора музея Александра Михайловича Демича.
4
Тайна самозванки Елизаветы
Этот вечер в доме следователя Алексина был не совсем обычным. За вечерним чаем супруги оживленно беседовали о… XVIII веке. За закрытой дверью спали набегавшиеся за день дети. Верхний свет был выключен. Марина при свете торшера разливала чай из большого чайника с голубыми незабудками. А в затопленных темнотой углах вставали тени давно исчезнувших лиц и событий…
О, этот окутанный легендами XVIII век русской истории! Еще совсем недавно огромный, неладно скроенный, да крепко сшитый боярский корабль русской державы лениво дрейфовал в будущем море мировой политики. Подводные течения как-то сами собой, медленно, почти незаметно для глаз относили его к упрямо неизменному, словно улыбка Будды, Восточному берегу.
И вдруг внезапно, как по мановению волшебной палочки, все переменилось. Бешеная рука Петра развернула корабль на 180 градусов. Курс — на Запад!
Византийские палубные надстройки — за борт! Восточную степенность — к черту! Вместо опоры на сладко кормившихся с бескрайних родовых земель бояр, постепенно возвращающих былые удельные волости, — опора на безземельное, нищее, пьющее только на государственное жалованье и потому верное дворянство. Вместо длинных бород, приказов и стрелецкого войска — пудреные парики, оберколлегии и гвардейские полки.
Мы — европейцы, и только европейцы! И пусть азиатская часть России неизмеримо больше европейской. Это лишь приложение к Европе, правда, приложение, дающее изрядную фору в политической игре с другими европейскими столицами. Ну, какая из них имеет столько земли, полной необозримых запасов отличного леса, плодороднейшего чернозема, первосортной пушнины, металлических руд? Какая?
Только Москву в европейскую столицу переделывать долго, да и переделаешь ли? Климат не тот. Нужна новая столица!
Еще совсем недавно были безлюдные топкие берега Финского залива. Но вот сырые и холодные пространства огородили стенами толстой каменной кладки, сверху укрыли от вечно моросящего дождя мягким кровельным железом, обогрели каминами и голландками. А чтобы внутри не поселилась старая московская патриархальщина, Петр влил в кровь семьи бояр Романовых кровь немецких курфюрстов Голштейн-Готторпских, тем самым вплетая русскую правящую династию в общую кровеносную систему давно породнившихся между собой европейских монархов.
И за ограненными стеклами новеньких дворцов, чиновничьих домов и ночлежных чердаков в рыжеватом свете восковых свечей и масляных светильников затеплилась новая европейски подобная жизнь. Из залитых светом мировых столиц через сырые безлюдные пространства мазурских и лифляндских болот полился хорошо настояный, пряный экстракт романо-германской цивилизации — книги, патенты, моды, интриги и запутанные тайны европейской политики.
Одна из этих тайн — загадка самозванки Елизаветы, провозгласившей себя дочерью умершей императрицы Елизаветы Петровны, внучкой Петра и, значит, конкуренткой в правах на Российский престол царствующей к тому времени уже более десяти лет Екатерине II.
Ее принято называть княжной Таракановой.
Это имя закрепилось за ней с легкой руки писателя прошлого века Данилевского, посвятившего самозванке один из своих самых известных исторических романов. Данилевский бесспорно был талантливым беллетристом, но он не всегда располагал подлинными фактами. В его время многие документы, рассказывающие о темных семейных и государственных делах дома Романовых, были закрыты для кого бы то ни было. Княжна Тараканова действительно существовала в истории, но с самозванкой Елизаветой, претендовавшей на Российский престол, она не имеет ничего общего.
Дочь Петра I, императрица Елизавета, действительно имела тайных детей. В этом сходятся почти все историки, изучавшие русский XVIII век. Их отцом называют графа Алексея Разумовского, возлюбленного Елизаветы с тех лет, когда будущая императрица жила скудной, по сути опальной жизнью, в кровавые времена «царицы престрашного зраку» Анны Иоанновны и ее фаворита Бирона. Тогда он еще звался просто Алешкой Разумом. И это неудивительно, ведь в российские графы и графы Священной Римской империи он попал из черниговских свинопасов. Однако таким возвышением Разумовский испорчен не был и, по отзывам современников, остался человеком простым и незаносчивым.
Точное число этих внебрачных детей неизвестно. Но как будто все сходятся на том, что среди них была дочь, которая получила имя Августы Таракановой. Воспитывалась она за границей, а по возвращении в Россию в уже зрелом возрасте была помещена в женский монастырь под именем монахини Досифеи.
Есть сведения, что Екатерина II встречалась с ней и, должно быть, убедила отказаться от каких-либо претензий на русский престол. Так это или нет, но на императорскую корону Августа Тараканова никогда не претендовала и мирно скончалась в московском Ивановском монастыре за два года до наполеоновского нашествия. Похоронили ее в Новоспасском монастыре, недалеко от родовой усыпальницы бояр Романовых.
Это все, что известно об Августе Таракановой.
Реально же на русский престол претендовала другая женщина, которая никогда себя княжной Таракановой не называла и, скорее всего, даже не слышала этого имени.
В 1773 году, когда в Поволжье бушевал пожар Пугачевского восстания, в Париже появилась загадочная женщина, именовавшая себя сначала принцессой Владимирской, а затем и дочерью умершей императрицы Елизаветы. Ее принимают в самых аристократических домах и даже кругах, близких к французскому королевскому двору, и как будто верят, что она — та, кем себя называет. Ходят слухи, будто у нее в руках подлинное завещание императрицы Елизаветы, где она называет своей единственной законной наследницей свою дочь Елизавету, то есть — ее. Вокруг нее группируется польская шляхта во главе с князем Карлом Радзивиллом, недовольным избранием на польский престол вместо него самого русского ставленника Станислава Понятовского. До Петербурга доходят известия, что новоявленная родственница Романовых собирается отправиться в Константинополь просить помощи в восстановлении своих законных прав на престол у турецкого султана.
Сначала Екатерина не придавала этим слухам никакого значения и лишь удивлялась, как трезвые европейские политики могут всерьез заниматься этой комедией. Уж она-то прекрасно знала, где находится настоящая дочь Елизаветы! Но в конце концов, она сочла нужным принять свои меры.
Екатерина решила доставить самозванку в Петербург. Поискала подходящие кандидатуры для исполнения задуманного предприятия и остановилась на своем отставном любимце графе Алексее Орлове. Обладавший неотразимым мужским обаянием, победитель турок при Наварине и Чесме буквально в считанные часы влюбил в себя самозванку, назвался ее сторонником, обещал жениться и обманом, под предлогом прогулки, завлек на русский военный корабль «Три иерарха». И вокруг Европы через Гибралтарский пролив, Атлантику и Балтийское море повез принцессу в Россию. Для безопасности его сопровождала вооруженная до зубов русская средиземноморская эскадра.
У берегов Англии он узнал, что Елизавета ждет от него ребенка. Это не остановило героя XVIII столетия. Вскоре за Елизаветой закрылись железные ворота Петропавловской крепости.
И начались допросы.
А уж в чем — в чем, в этом слуги Российского двора успели напрактиковаться немало. Еще недалеко было страшное время Анны Иоанновны, когда по этой части был накоплен опыт воистину уникальный! И хотя просвещенная монархиня, Екатерина II, состоявшая в переписке с Вольтером и Дидро, отменила пытки при допросах, многие утонченные методы остались.
Однако пленница упорно рассказывала какую-то странную полуфантастическую историю. История эта с небольшими вариациями состояла в том, что она воспитывалась где-то на Востоке, скорее всего, в Персии. Кто ее родители, ей неизвестно. Ее опекуном был якобы знатный персидский вельможа, которого она называла князь Гали или Али. От его имени происходит и ее собственное: Алина, Лина, Елизавета. Этот персидский князь будто бы и привез ее в Европу, в немецкий портовый город Киль. Он же и снабжал ее неограниченными средствами.
Елизавету сначала уговаривали сказать правду, потом угрожали, затем лишили всех личных предметов, посадили на грубую арестантскую пищу и поставили в ее комнату караульных солдат, которые должны были находиться там и днем и ночью. Елизавета страдала. Есть то, что ей предлагали, она почти не могла. Особенно ее ранило безотлучное присутствие мужчин. И все же продолжала упорно стоять на своем и со слезами отчаяния говорила, что ничего, кроме рассказанного, не знает. Свою странную историю пленница повторяла и на исповеди перед смертью. Даже во время агонии она цепенеющими губами продолжала шептать, что не знает, кто ее родители и кто она сама…
В крепости у Елизаветы родился сын. Правда, факт этот является спорным. Некоторые специалисты считают это красивым преданием, созданным, чтобы возбудить сочувствие к Елизавете. Однако ряд серьезных историков прошлого века были уверены в реальности этого события. В частности, известный публицист и историк Мельников-Печерский, внимательно изучивший историю самозванки и посвятивший ей одну из своих больших работ «Княжна Тараканова и принцесса Владимировская», не сомневался в том, что в крепости у мнимой дочери императрицы Елизаветы Петровны появился ребенок, отцом которого был ее похититель граф Алексей Орлов.
В заключении у пленницы обострилась давно мучившая ее чахотка. На исходе 1775 года она унесла в могилу тайну своего рождения и жизни.
Итак, можно утверждать, что самозванка Елизавета не была дочерью императрицы Елизаветы. Видимо, сомневаться в этом не приходится.
Но кто же она была?
Самые ранние ее следы обнаруживаются в Киле. Откуда она там появилась, неизвестно. После этого начинается ее прямо-таки феерическая карьера в европейских столицах: Берлин, Лондон, Париж. Везде ее принимают в самых аристократических домах. Она ведет жизнь, поражающую своей роскошью и расточительностью многоопытных европейцев. Откуда на это берутся деньги — не ясно.
Эта женщина обладает редкой красотой. Едва ли не каждый встречавшийся на ее пути мужчина, не исключая и представителей коронованных фамилий, становится ее восторженным поклонником. Каково ее настоящее имя — неизвестно. Она называется то девицей Франк, то девицей Шель, то госпожой Тремуйль, то принцессой Владимирской, то, наконец, Елизаветой, внучкой Петра Великого.
Какова ее национальность — непонятно. Одинаково свободно она говорит на немецком, французском, итальянском…
Кто же была эта загадочная женщина? Существует версия, неизвестно откуда взявшаяся и ничем не подтвержденная, будто она была дочерью бедного трактирщика из Праги. Но встает вопрос: как ей в сословной, еще феодальной Европе удалось стремительно войти в круг самых аристократических и даже царственных домов того времени? Герцог Шлезвиг-Голштейнский, князь и граф Лимбургский даже предложил ей стать — не любовницей — супругой! Это немецкий-то аристократ, щепетильный в вопросах генеалогии до последнего волоса!
Откуда у нее брались столь значительные средства? Был случай, когда она помогла тому же графу Лимбургскому выкупить из долгов графство Оберштейн. Ведь не табакерку, не карету, даже не фамильную драгоценность, — целое, пусть небольшое, государство! Вот так дочь трактирщика из Праги! Ну, кредиторы, ну, деньги в долг… Все это у нее было. Но и тогда деньги под честное слово не давали, требовали гарантии, и весьма серьезные, тем более такие деньги! Скажем, сам герцог Шлезвиг-Голштейнский получить у банкиров таких денег не смог. Они тщательно проверили его финансовое положение и отказали. Женщине, без роду-племени, национальности и даже фамилии, — дали… А известный английский банкир Дженкинс предложил ей вообще вещь неслыханную — кредит без всяких ограничений и долговых процентов!
Говорят о том, что, возможно, ее финансировали английское и французское правительства, которые, боясь усиления России в Европе, решили использовать самозванку для создания внутренних затруднений Екатерине II. Но вряд ли здравомыслящие европейские политики могли всерьез рассчитывать на то, что самозванка, не знающая даже русского языка и не имеющая никакой опоры в стране, могла составить хоть какую-то конкуренцию Екатерине, пользующейся полной поддержкой русского дворянства.
Так кто же она, эта странная женщина, подписавшая свое последнее предсмертное письмо Екатерине II одним словом Elisabeth?
В некоторых документах, посвященных самозванке, упоминается какой-то Золотой Рог, которым она очень дорожила и ни за что не хотела с ним расстаться, хотя в заключении потеряла интерес ко всем остальным драгоценностям. Судя по беглым упоминаниям, Рог был выполнен из золота, без какой-либо росписи. На средней его части лишь было выгравировано — Elisabeth. Но ни по каким документам судьба этого Рога не прослеживается, и о достоверности этих сведений судить трудно.
Те, кто бывал в Третьяковской галерее, наверняка останавливались у знаменитого исторического полотна русского художника Флавицкого «Княжна Тараканова». На картине изображена красивая измученная женщина, стоящая на кровати с расширенными от ужаса глазами. В окно с металлическими прутьями хлещет вода. Спасаясь, взбираются на кровать, на платье несчастной огромные мокрые крысы. Она в ужасе смотрит на неумолимо наступающую воду, на этих всплывших из темных глубин жирных отвратительных тварей. Эта картина мало кого оставляет равнодушным, вызывая острое сочувствие к несчастной женщине. Но, не умаляя ее изобразительских достоинств, все же следует заметить, что она не соответствует исторической правде. Ведь ни настоящая княжна Тараканова, мирно скончавшаяся в монастыре более тридцати лет спустя после изображенного здесь Петербургского наводнения 1777 года, ни самозванка Елизавета, умершая от обострившейся после родов чахотки за два года до него, не могли оказаться в таком положении.
Еще во времена декабристов на одном из зарешеченных окон верхнего этажа Алексеевского равелина Петропавловской крепости были видны выцарапанные слова: «Oh, Dio mio!» (итальянское — о, мой бог!). Есть основания думать, что это последний след, оставленный на земле таинственной красавицей, загадка которой не раскрыта до сих пор.
Вот примерно о чем рассказала капитану милиции Алексину его собственная жена, студентка-заочница последнего курса исторического факультета.
5
Четвертый…
Станислав Александрович сидел на скамейке против бывшего генерал-губернаторского особняка. Он смотрел на забранные изнутри решеткой окна первого этажа и подводил итоги этого необычного дела.
Рядом с музейной башенкой дрожало круглое и гладкое, как яичный желток, сентябрьское солнце. Ласковый, но с ощутимой льдинкой внутри, ветерок шевелил кроны старых тополей у входа. Листья на них только начали желтеть, но шелестели они уже не по-летнему мягко, а жестко, словно они были сделаны из жести, царапались друг о друга.
Вчера Стас добросовестно проверил версию о хищении музейного экспоната через неблокированный охранной сигнализацией выход в генерал-губернаторский сад. Для этого ему пришлось внимательно исследовать старый особняк.
Построенный в середине прошлого века, в памятный для России год отмены крепостного права, он пережил не одно поколение своих хозяев. До самой революции дворец оставался резиденцией краевых генерал-губернаторов. В феврале семнадцатого в нем на несколько месяцев поселился присланный из Петрограда верховный комиссар Временного правительства. А в октябре аристократичный особняк наполнился гулом зычных голосов, и его металлические ступеньки загудели под крепкими шагами. Он стал Домом Республики, в котором разместился штаб Рабочей Красной гвардии. И над его плоской башенкой заплескался на ветру сатиновый красный флаг.
В мае восемнадцатого белочехи свергли Советскую власть на всем протяжении железной дороги от Самары до Владивостока. И под охраной чешских легионеров и желтолампасного сибирского казачества во дворце поселился колчаковский наместник.
В декабре двадцатого года в город вошла Красная Армия. Дом Республики стал штабом командарма Тухачевского. Но вскоре особняк снова сменил жильцов. Новая власть решила открыть в лучшем здании города художественный музей.
Приспосабливаясь к требованиям сменяющих друг друга обитателей, здание перестраивалось не один раз. Замуровывались старые ходы. Залы загораживались фанерными стенками, а в них прорезались новые двери…
Чтобы попасть к неблокированному входу, нужно было миновать узенький коридорчик, проходящий мимо кабинета главного хранителя, и попасть в крохотную комнатку, которая когда-то служила лестничной клеткой. Хозяйственные смотрительницы залов устроили здесь нечто среднее между комнатой отдыха и кухней. Широкий подоконник окна был уставлен баночками с вареньем, чашками и блюдцами. В одной из стен этой комнатки была прорезана дврь, которая открывалась сразу на узкую, круто падающую вниз спиральную лестницу.
Посередине ступеней из старого посеревшего гранита с желтоватыми зернами человеческие ноги за многие годы проточили ощутимую впадину. Лестница была зажата между двумя глухими стенами. Даже страшно было задирать голову, чтобы увидеть потолок: вдруг потеряешь равновесие и покатишься по каменной спирали вниз.
Стас спустился по лестнице, осторожно нащупывая ногой каждую новую ступеньку. На одном из витков он увидел замурованный проем двери. Несколькими витками ниже в стене была большая полукруглая ниша.
«Интересно, для чего она служила? — задал себе вопрос Стас. — Может быть, в ней стоял какой-нибудь светильник? Но почему тогда она только одна? Одной лампы было бы мало на всю лестницу…»
Еще ниже из стены торчало несколько стальных стержней с шарообразными металлическими головками. Стас коснулся их ладонью: шары были гладко отполированы, как это бывает от частого прикосновения человеческих рук.
Лестница вывела на небольшую площадку под каменной аркой. Площадка была чисто подметена. У одной из стен стоял деревянный, обитый железом сундук. На полукруглой крышке его лежала перевязанная шпагатом стопка каких-то важных пожелтевших бумаг с едва различимыми типографскими буквами.
Стас подошел к сундуку, снял стопку, почему-то немного помедлил и открыл крышку. Сундук был пуст. И Стас неожиданно поймал себя на том, что испытал чувство разочарования. «Смешно, ты что, хотел обнаружить там древний клад или украденный Рог? — спросил он себя. — Прямо как мальчишка…»
Дверь в глубине под аркой была крест-накрест заложена широкими железными полосами. Их концы имели специальные ушки, через которые в кирпичи были вбиты штыри с большими плоскими шляпками. Он потрогал штыри, попытался их раскачать и даже, уперевшись в стену ногой, выдернуть, но не смог уловить ни малейшего колебания. Они словно вросли в стену.
Никаких следов снятия железных полос ему обнаружить не удалось.
Для очистки совести он решил осмотреть дверь снаружи Задняя стена особняка, куда выходила дверь, имела вид далеко не парадный. Толстые куски штукатурки, состоящие из многолетних разноцветных слоев, от собственной тяжести во многих местах отвалились, обнажив старую темно-малиновую кирпичную кладку. Две покрытые трещинами ступени заросли густой, начинающей желтеть травой. Из травы выступал меловой, чисто вымытый дождями обломок какой-то статуи — кисть руки со жатыми в кулак пальцами Чуть поодаль высился поставленный набок деревянный ящик. Стас нагнулся и ногой раздвинул траву. На усыпанном сухими желтыми семенами земле лежала пустая водочная бутылка и стоял целехонький, мохнатый от пыли, граненый стакан. Классического детективного окурка на земле не было.
На бывшей двери в исчезнувший генерал-губернаторский сад висел огромный ржавый замок. На его клепаном корпусе отчетливо виднелась выдавленная полукругом надпись: «Заводъ Бр. Бергъ, 1916 г.». Ключей от этого замка в музее, разумеется, давно уже не было. После самого тщательного, разве только без пробы на зуб, осмотра Стас понял: отправить замок на экспертизу для oбнаружения свежих следов можно лишь вместе с дверью, да то если ее саму удастся снять с вмурованных в стены петель.
Да и к чему экспертиза?
Дверь открывалась внутрь, и поэтому прибитые крест-накрест широкие железные полосы на внутренней стороне двери решительно перечеркивали версию о проникновении преступника через неблокированный сигнализацией вход. И, значит, на данный момент перед ним оставалась только одна версия, вернее, группа версий — «Кто-то из троих».
— Кто-то из троих… Но кто? — в который раз спрашивал себя Стас.
Ирина Викторовна Полякова. Тридцать два года. На излете молодости. Красива, но личная жизнь пока не складывалась… Причиной является, вероятно, характер. Такие или вообще не выходят замуж, — мужчины, как правило, их просто боятся, хотя поначалу и влюбляются, — или превращают мужей в вечных ответчиков за свою недостаточно удачную судьбу. Впрочем, наверное, таким любая судьба кажется недостаточно удачной. Пушкинскую старуху из сказки о золотой рыбке в молодости вполне могли звать Ирина Викторовна Полякова. Кстати, самозванка Елизавета, упорно стремящаяся завоевать все более высокое положение в этом мире, видимо, тоже была из этой неугомонной семейки. И тоже получила свое разбитое корыто в виде персонального места в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.
Ирина Викторовна любит модно одеваться. Но, спрашивается, кто из женщин этого не любит? Так-то так. Но все любят, да не все могут: мода — подруга дорогая. А младший научный сотрудник Полякова при заработной плате в сто десять рублей может. Хотя живет одна, помогать ей как будто некому. Отец умер. Мать проживает со второй, младшей дочерью, тоже незамужней, в Москве. Вряд ли они могут оказывать Ирине Викторовне существенную денежную помощь. В Москве бывает довольно часто. В том числе и в командировках. Только в этом году была в столице три раза. Дважды — в музеях: плановая стажировка и работа в архиве музея имени Пушкина. Летала к матери в связи с ухудшением ее здоровья. Из Москвы часто привозит дефицитные дамские вещи, демонстрирует их подругам в музее. В спекулятивной перепродаже их не фиксировалась…
Да не слишком ли много поездок в столицу? Москва, Москва…
Да, Москва дает возможность прямого выхода на любителей искусства, которые имеются среди аккредитованных в столице дипломатов и представителей западных фирм.
Но, если уж придавать такое значение выходу на Москву, другими словами, на международный рынок произведений искусства, то Самсон Сергеевич Белобокое подходит на роль подозреваемого в еще большей степени, поскольку бывает в столице чаще. И как главный хранитель музея, и по делам, связанным с защитой кандидатской диссертации. В этом году уже пробыл там в общей сложности почти полтора месяца. Имеет обширные знакомства среди столичных искусствоведов и коллекционеров, в том числе и с небезупречной репутацией. Знает некоторых, регулярно бывающих у нас граждан западных стран, интересующихся искусством, чего и не скрывает. И даже дважды выступал консультантом представителей фирмы «Сотби» во время приобретения ими в Москве альбомов русского искусства XVIII века. Значит, авторитетом Белобокое у них пользуется, и связи с ними у Самсона Сергеевича достаточно крепкие.
Характер, на первый взгляд, не из сильных. Хищение Рога повергло его чуть ли не в прострацию. Но, если приглядеться, все его слова во время беседы были хорошо продуманы. Этак ненавязчиво отвел подозрения от себя: дескать, это же он персонально отвечает за сохранность Рога, хищение грозит ему служебными неприятностями, сам он похитителем быть никак не может. Наоборот, он — жертва, против которой и направлено преступление. Заявил, что подозрений на чей-нибудь счет у него нет, однако подчеркнул: инициатором поспешного вынесения Рога из сейфа в витрину без датчика был директор. И походя, между делом, его весьма нелестно охарактеризовал. Одним словом, в эмоциональной обертке своего, на первый взгляд, совершенно расстроенного душевного состояния, преподнес по сути готовую, хорошо продуманную версию. Вот так.
Ну, и о чем это говорит? Ни о чем…
Остается еще директор — Демич Александр Михайлович. Но этот случай…
Додумать до конца свою мысль о директоре музея Стас не успел. Он был настолько погружен в себя, что даже вздрогнул, когда неожиданно услышал над собой глубокое концертное меццо-сопрано:
— Товарищ следователь! Я вам не помешаю?
Стас поднял голову. Прямо перед ним стояла придворная статс-дама. Не какая-нибудь юная фрейлина, тоненькая капитанская дочка, а именно дама во второй половине своей бурной жизни: погрузневшая, но еще далеко не утратившая юной энергии. На голове у нее гордо топорщился гигантский ядовито-зеленый бархатный берет, похожий на переспевший гриб-обабок с торчащей вверх маленькой бессильной ножкой. Дама в упор смотрела на Стаса горящими желтыми тигриными глазами.
— Прошу вас, — указал Стас на место рядом.
Дама с достоинством и остатками былого шарма разместила свое внушительное тело в черном шелковом платье так, чтобы на скамейке между ней и Стасом осталось приличное расстояние, и затем повернулась к нему всем своим солидным корпусом. Стас был вынужден сделать то же самое. Таким образом, еще не начав беседу, они уже оказались в положении людей, ведущих заинтересованный разговор. Стас оценил этот маневр. Дама положила ногу на ногу, достала сигарету и выжидательно посмотрела на Стаса. Он полез было в карман за спичками, но из огромной дамской сумки с бесчисленным количеством красноатласных перегородок была извлечена розовая французская зажигалка-столбик и величаво протянута в его сторону.
— Прошу вас, следователь.
Стас принял зажигалку из большой теплой ладони и щелкнул колесиком. Статс-дама глубоко, по-мужски, затянулась, выдохнула длинную струю дыма и энергично помахала рукой, разгоняя синие нити, повисшие в легком осеннем воздухе.
— Делопроизводитель музея Ада Львовна Курочкина, — с графским достоинством произнесла она и, многозначительно взглянув на Стаса, добавила:
— Деловая переписка, особые поручения, приказы по личному составу… Но сейчас речь не обо мне! Это он, Белобокое.
Ада Львовна выдохнула новую мощную струю дыма и замолчала, устремив взгляд на какие-то иные миры, с видом человека, разгадавшего тайну.
— Что — Белобоков? — после довольно продолжительного молчания спросил Стас, возвращая даме зажигалку.
— Белобоков виноват во всем этом! Он один. О-о-о! — вдруг гневно воскликнула Курочкина. — Это — хитрец, скажу я вам! Это — Мазарини! Это — ходок! Вы даже не представляете, какой это ходок! Это просто агрессор какой-то! Следователь, я расскажу вам все! — Ада Львовна блеснула своими тигриными глазами и ожесточенно затянулась несколько раз подряд.
— Это именно он отбил Ирину у Василия. Если бы не Белобоков, она давно бы стала его женой! Конечно, Ирку я тоже не оправдываю… Чем соблазнилась? Ну, скажите мне, чем? Должностью? Конечно, в наше время это кое-что значит… Женщина должна иметь мужа с положением! Но главный хранитель провинциального музея — это еще не бог весть что такое! Диссертация? Но еще неизвестно, допустят ли его к защите… Это еще бабушка надвое сказала, это мы еще посмотрим! — грозно покачала она перед носом Стаса своим внушительным пальцем.
Ада Львовна замолчала, как будто потеряв нить разговора, но тут же подняла глаза к небу и стенающим голосом продолжала:
— Но Василий! Василий! Господи! Ведь он любит ее! И без нее просто пропадет! Вы знаете, ведь я как мать ему, ну, прямо как мать! Ведь он же сирота! Кроме Аделаиды Игоревны Доманской у него никого нет. Она приходится ему теткой, да и то, по-моему, не родной…
Ада Львовна порылась в царстве матерчатых отделений своей бездонной сумки, достала маленький кружевной платочек и приложила его к глазам. Но в следующую секунду она взмахнула им, словно боевым знаменем:
— Но рано или поздно правда восторжествует! Я уверена, я просто уверена в этом!
И она грозно встряхнула своей несколько выцветшей и поредевшей, но еще вполне львиной гривой прически.
— Простите, о каком Василии вы говорите? — спросил Стас, чтобы что-то спросить. От гражданки Курочкиной с ее запутанной любовной проблематикой у него понемногу начинало трещать в голове.
— О Василии Маркуше, конечно! Нашем фотографе! — с видом крайнего удивления непонятливостью собеседника воскликнула Ада Львовна.
— Но
ведь теперь он в музее не работает? — попытался выплыть из этой безнадежной путаницы Стас.
— Да! И это тоже подстроил он, Белобокое! — гневно сверкнула своими тигриными глазами статс-дама. — Это он подстроил так, чтобы Демич уволил Василия. Ну, выпил на работе? Ну, с кем не бывает? Господи! О, низкий человек! О, сластолюбец! Иезуит! Он сделал это из ревности! А Василий? Бедный Василий! Как же теперь он? Ведь он просто пропадет! На наших глазах гибнет человек! И все, буквально все молчат! Никто не хочет осадить этого беспринципного карьериста, по трупам ближних идущего наверх! — патетически воскликнула Ада Львовна и на этот раз уже погрозила Стасу кулаком.
Стас понял, что перед ним одна из тех переполненных жизненной силой натур слабого пола, которые просто не смогут существовать, если не будут выплескивать часть переполняющей их эмоциональной энергии для обличения одних и обожания других. И то и другое у них чрезмерно, а зачастую и беспричинно. Но если бы они не делали этого, то, скорее всего, просто взорвались бы изнутри.
Их колоссальное эмоциональное поле, как правило, искажает объективную картину мира до неузнаваемости. В результате этого ценность выдаваемой ими информации близка к нулю. Ее нужно проверять и перепроверять.
Стас хотел уже, сославшись на занятость, покинуть гражданку Курочкину и найти свободную скамейку где-нибудь подальше, но почему-то не сделал этого. Через очень непродолжительное время он искренне похвалил себя за выдержку.
— Знаете, позавчера, это было как раз накануне похищения, когда они с Василием выходили из музея, я просто залюбовалась этой парой… — доверительно дотрагиваясь до руки Стаса своей большой теплой ладонью, сказала Ада Львовна. Теперь она обращалась к нему, как к старому знакомому и союзнику по борьбе:
— Я даже хотела подойти и сказать ей: «Иришунчик, посмотри, кто перед тобой! Прекрасный молодой человек! Ты будешь с ним счастлива! И я позавидую тебе, как женщина — женщине!..».
И тут что-то щелкнуло в мозгу у следователя Алексина: «Что значит — вместе выходили из музея? Что значит „вместе“?»
— Выходили вместе после работы? — ощущая внезапный холодок в груди, спросил он.
— Ну да! — выдохнула дым Курочкина. — Василий и Ирочка… Я сидела как раз на этой лавочке и ждала свою приятельницу, с которой…
Дальше Стас уже не слышал.
Но ведь Ирина Викторовна утверждала, что к концу рабочего дня в музее, кроме троих — ее самой, директора и Белобокова, — никого не было!.. Значит, был еще и четвертый!
— Большое вам спасибо! — сказал он статс-даме, поднимаясь.
— Ну что вы… — потупилась она, — долг каждого честного человека помочь следствию. Я знала: вы поймете, что во всем виноват он, Белобокое! Я почувствовала это сразу. Вы — наш! Можете и дальше рассчитывать на мою помощь!..
И она величаво протянула ему свою полную, несколько увядшую руку. Как сообразил Стас, для прощального поцелуя.
6
Подозреваемый
Профессия следователя, которую Стас избрал, учила многому: наблюдательности, умению логически мыслить, по нескольким деталям выстраивать в воображении большие куски реально происшедших событий — умению, которому позавидовал бы любой писатель или режиссер, — и, главное, учила видеть, точнее ощущать другого человека.
В последнее время Станислав Александрович замечал, что почти безошибочно предугадывал, как поведет себя тот или иной человек, что скажет и о чем будет молчать.
Но в этом странном музейном деле все вели себя не так, как им, казалось бы, следовало себя вести.
— Нет, Рог я не брал, — опустив голову, еле слышно проговорил Василий Васильевич Маркуша.
Станислав Александрович встал из-за рабочего стола и подошел к окну. На улице сеял безнадежный осенний дождь. В такую погоду хочется быть там, где тепло, горит электричество, запотели изнутри окна, накурено, и стоит веселый шум голосов. И даже залетающий в распахнутую форточку режущий осенний ветер кажется приятно освежающим морским бризом. Но в такую погоду не очень-то весело сидеть в голом служебном кабинете, даже если этот кабинет твой собственный.
— С какого времени вы находились в музее в день кражи и что вы там делали? Ведь вы были уволены из музея месяц назад, так?
Маркуша долго молчит, потом поднимает голову и начинает говорить.
Станислав Александрович смотрит на его смуглое лицо, редкую черную шкиперскую бородку, и у него возникает ощущение, что перед ним очень уставший человек, уставший едва ли не до полного безразличия ко всему происходящему. А из паспорта в нарядной красной обложке следует, что этому человеку недавно исполнился тридцать один год.
— Меня никто не увольнял… Я сам ушел из музея. По личным мотивам, — говорит он, делая большие паузы, словно забывая предыдущие слова. — В музей пришел, чтобы встретиться… чтобы поговорить с Ириной… — он замолкает, потом тихо добавляет, — Викторовной… По личному делу… Все это касается только нас двоих… Это было где-то около половины седьмого… Может быть, чуть позже… Не помню точно.
Станислав Александрович ждет, что Маркуша еще что-нибудь добавит. Но он молчит. Все окно залепили, словно бесцветная рыбья икра, тесно прижавшись друг к другу водяные шарики. Время от времени они сливаются в одну большую каплю, которая, оставляя за собой полоску серебристой фольги, быстро скатывается вниз. Дождь. На белом подоконнике — маленькая овальная лужица. Видно, плохо пригнана оконная рама. Подоконник недавно покрашен, поэтому вода не растекается,
а лежит на белой блестящей поверхности прозрачной холодной линзой.
— Как же получилось, что никто из тех, кто бывал в музее, вас не встретил и даже не видел? Вы прятались?
— Нет, я не прятался… — голос Маркуши делает некоторый подъем, но тут же снова угасает. — Я не хотел, чтобы… Просто, когда директор и Белобокое спускались по лестнице, я стоял за кассой… Естественно, они не могли меня видеть. Когда они вышли из музея, и Ирина… — он помолчал, — Викторовна стала запирать парадную дверь, я вышел из-за кассы… Вот и все…
— Вам самому не кажется такое поведение несколько странным, а?
— Да, может быть… — голос Василия становится едва слышным. — Наверх я не поднимался, и Рог я не брал… Зачем он мне? Нет, Рог мне не поможет… Дело ведь не в Роге… Никакой Рог не поможет. Будь в нем хоть в десять раз больше золота.
Станислав Александрович только теперь заметил, что на лице у Василия, несмотря на смуглый цвет, рассыпаны округлые темно-коричневые веснушки.
— Почему?
— Потому, что я — неудачник… Даже нет, я так — никто, — тяжело выговаривает Маркуша, разглядывая что-то на полу. — Меня нет… Может быть, меня действительно нет? Ну кто я? — он поднимает голову и отсутствующим взглядом смотрит перед собой. — Фотограф? Какой я фотограф… Сейчас так может снимать каждый любитель… Писатель? Писатель, которого никто никогда не печатал. И дело даже не в этом. Я ведь сам понимаю, что это не литература, а так… детские игры. Я — никто.
На секунду его взгляд оживает:
— Ведь у всех что-то есть. Например, «Жигули», дача. Собственная квартира… Жена и дети… Семья. Кто-то уже стал большим человеком. Кто-то делает деньги. А что есть у меня?
Маркуша словно ждет, что следователь ответит, но Станислав Александрович молчит, и его взгляд опять гаснет и становится мертвым.
— А ведь сначала все было не так, — голос Василия из бесцветного вдруг становится упругим. — Казалось, на старте было все! У меня, а не у них… Учеба? Да что там учиться в школе-то? Господи! Это каким же надо было быть идиотом, чтобы сидеть весь вечер за уроками, да еще получать тройки! Девчонки? Никаких проблем! Каждая была рада хотя бы пройти рядом…
А потом все. Пустота. Как будто и не было этих десяти лет. Как сон. Но они были… И их не было. Да, да, я хорошо помню то, что происходило в школе, на первом курсе института, а потом словно провал… Как будто ничего не было. У всех были эти десять лет, а у меня не было. Кто-то украл их у меня…
«Ты самый красивый… Ты самый умный… Ты самый лучший… Самый-самый. Ведь ты — наследник!» Чего? Химер! — Василий резко обрывает себя и замолкает. Потом глаза его гаснут, и перед Стасом снова безразличный ко всему человек, из которого словно ушла неведомо куда жизненная энергия.
— Нет, Рог мне не поможет, — почти шепчет он, тихо качая головой…
Станислав Александрович, отложив ручку и лист протокола, смотрел в слепое окно и думал о том, что у таких вот симпатичных, неглупых ребят есть все для жизни, кроме осознания одной старой истины: ничто в этом мире не приходит само собой. За то, что хочешь иметь, нужно бороться, драться, карабкаться… И только тогда оно приходит. Конечно, иногда биться приходится долго, очень долго, чрезмерно долго, но никогда — безрезультатно, никогда! Если только не бросишь на полдороге…
— Хорошо, Василий Васильевич, а где вы провели ночь, в которую было совершено хищение?
Маркуша провел рукой по лбу, словно приходя в себя, и тяжело вздохнул:
— Я был… Что, это так важно?
— Важно.
— Да, все равно… Часов до одиннадцати, может быть, до половины двенадцатого я был у Ирины… Викторовны дома. Мы наконец-то до конца выяснили наши личные отношения и что каждый из нас хочет от жизни. Вот. Как оказалось, мы совершенно по-разному смотрим на эти вещи, — еле заметно усмехнулся Василий.
— А после?
— А после… — Маркуша махнул рукой, — после так… В городе был. На вокзале.
— Дома не ночевали?
— Не ночевал…
— С вами был кто-нибудь, кто может это подтвердить?..
— В общем, нет. Я был один.
— А во сколько пришли домой?
— Около семи утра. И лег спать.
Станислав Александрович выработавшимся быстрым разборчивым почерком дописал лист показаний:
— Прочитайте все, что записано, и распишитесь под каждым листом отдельно. На последнем листе распишитесь не внизу, а там, где кончается запись ваших показаний… Да, да, здесь.
Читать Василий не стал, а сразу расписался во всех положенных местах. Когда дверь за ним тихо закрылась, Станислав Александрович снова подошел к слезящемуся окну.
Итак, в ночь похищения Василий Васильевич Маркуша, бывший фотограф музея, а в настоящее время человек без определенных занятий, дома не ночевал и внятно объяснить, где находился, не может. Это первое. Второе. Имеет основания быть серьезно обиженным на главного хранителя музея Самсона Сергеевича Белобокова по мотивам личного характера. А пропажа Рога, за который Белобокое несет персональную ответственность, безусловно событие для него не из приятных и даже угрожает дальнейшей карьере. Третье. Чувствует себя несостоявшейся личностью, неудачником и психологически, видимо, нуждается в каком-то поступкё, позволяющем утвердиться в собственных глазах. И далеко не всегда, как показывает опыт, такой поступок имеет знак «плюс». Последователей Герострата в истории, к сожалению, хватает… И, наконец, четвертое. В настоящее время находится на иждивении тетки и нуждается в денежных средствах. Вот так. Как в детской игре «горячо-холодно»… Неужели «тепло»?
За окном зажглись уличные фонари, неоновые рекламы и водяные шарики на стекле разноцветно засверкали. Будто за окном начался веселый праздничный карнавал. Но за окном было безлюдно, и по-прежнему накрапывал мелкий осенний дождь.
И Стас почему-то представил себе стоящую у забранного толстыми прутьями окна Петропавловской крепости красавицу Елизавету. Тускло горит рыжевато-синим пламенем лампадка в углу. В темноте у двери вырисовывается огромная фигура гренадера: длинные черные усы, тяжелое ружье с примкнутым широким штыком. А за окном идет такой же мелкий, нудный, нескончаемый дождь, за которым прячется непонятный, незнакомый, враждебный город Екатерины. Изредка из этого мокрого мрака долетают страшные звуки, похожие на вздохи какого-то кошмарного чудища. И в груди у пленницы рождается изматывающее, сосущее чувство безнадежности:
«Нет, не вырваться отсюда, никогда больше не увидеть милого сердцу залитого веселым солнцем Ливорно, никогда больше не выйти на Версальский паркет, ловя на себе восхищенные, влюбленные, завистливые взгляды, никогда уже не осуществиться заветной цели и мечте всей жизни, ничего этого никогда уже не будет…» Веселый, щедрый, солнечный, прекрасный мир навсегда задернулся для нее занавесом холодного, колючего, северного дождя…
7
Концерт Мендельсона осенью
Еще вчера город был плотно закрыт сочащимися влагой фиолетовыми облаками с мелькавшей в разрывах ослепительно белой мякотью, а сегодня снова в по-морскому голубом небе сияет осеннее солнце.
Номер дома, который искал Стас, был прибит на старом, но крепком, будто гриб-боровик, кирпичном двухэтажном особнячке. Влажная угольно-черная земля вокруг него была сплошь усеяна праздничными лимонно-желтыми и бледно-зелеными кленовыми листьями. В нескольких минутах ходьбы, отгороженная гигантскими плитами девятиэтажных домов, шумела моторами центральная улица, а здесь стояла уютная, прямо-таки деревенская тишина. Лишь из-за зеленого забора соседней стройки раздавался редкий стук тракторного двигателя, жалобный и одинокий. Будто накануне зимних холодов оттуда все ушли, а трактор почему-то взять забыли. И вот теперь он в одиночестве ходит по территории, пытаясь делать какую-то знакомую работу, словно пес, который по привычке продолжает сторожить давно покинутую хозяевами дачу.
На ветхом козырьке подъезда с заржавленными металлическими узорами сидел, грациозно изогнувшись, маленький рыжий котенок. Он по-детски, в упор таращился на Стаса своими круглыми удивленными глазками. Его шерстка поблескивала в солнечном свете красно-синими алмазными искорками.
Стас шагнул под навес и открыл дверь. После веселого солнечного дня тьма в подъезде показалась почти непроглядной. Он постоял, давая привыкнуть глазам, и по скрипящим деревянным ступенькам поднялся на второй этаж. На дверях двух выходивших на лестничную площадку квартир табличек с номерами не было, но Стас почему-то сразу твердо выбрал ту, которая была обита старым серо-зеленым дермантином.
Стас не ошибся. Дверь распахнулась почти в ту же секунду, когда он прикоснулся к звонку. Перед Стасом стояла пожилая дама с сухим строгим лицом. Ее светло-серые, прозрачные, как две большие капли воды, глаза смотрели внимательно и спокойно. Лицо дамы все еще было красивым. На ней было строгое черное платье с белыми кружевами и маленькая черная шляпка-таблетка с паутинчатой вуалькой. В руках дама держала длинные, такие же паутинчатые перчатки.
После, думая об этой встрече, Стас с удивлением вспоминал, как в первое мгновение он был твердо убежден: перед ним стоит не живой человек, а портрет, музейный экспонат. Один из тех, что были развешены по стенам бывшего генерал-губернаторского особняка. Это странное ощущение длилось всего мгновение, но это мгновение было.
— Здравствуйте, молодой человек! Я давно жду вас. Ведь вы — следователь, не так ли? — рассеивая наваждение, произнесла женщина. Говорила она, почти не раскрывая рта и не шевеля бесцветными губами. Голос у нее был сухим, словно старый бумажный лист.
— Прошу вас, — сделала она приглашающий жест рукой и, повернувшись, пошла в глубь квартиры. Стас последовал за ней по узкому, как пенал, неосвещенному коридору. Впрочем, узким он казался оттого, что вдоль одной из его стен тянулся длинный камод с бесчисленным количеством выдвижных ящиков. Их медные ручки в темноте тускло поблескивали. В конце коридора Аделаида Игоревна Доманская открыла дверь, и они оказались в неожиданно веселой комнате. Это ощущение рождалось от светлых обоев в мелкую бело-голубую полоску.
Кроме широкой железной кровати, маленького столика и двух стульев, в комнате ничего не было. Лишь на стене над кроватью висела большая потемневшая картина в широкой багетной раме. Картина изображала сражение парусных кораблей. На раме была прибита медная пластинка, на которой было выгравировано: «Граф Алексей Григорьевич Орлов жжет флот капудан-паши Хасан-бея в Чесменской бухте в 1770 году».
На черной, маслянистой воде горел неуклюжий корабль с огромной, похожей на обитый кружевами гроб, кормой.
В желто-алом гигантском пламени обреченно метались фигуры матросов. На переднем плане изображено маленькое длинное суденышко с русским военно-морским Андреевским флагом. Оно устремлялось к темной громаде еще одного корабля со спущенными парусами.
Стас вспомнил прочитанное когда-то, что в Чесменском бою русские пустили в атаку на турецкую эскадру, запершуюся в бухте под защитой береговой артиллерии, специальные суда-брандеры, загруженные горючими материалами. Вблизи турецких кораблей русские моряки, выпрыгнув на шлюпки, зажгли брандеры и направили их пылающие костры к бортам турецких судов. Маневр был неотразим. Сгорел практически весь турецкий флот. Турки потеряли убитыми более десяти тысяч, русские — одиннадцать человек. Российский флот завоевал полное господство в Эгейском море. Момент атаки и был запечатлен на картине.
Под картиной висели две маленькие фотографии в овальных картонных рамочках. На одной, видимо, еще дореволюционных времен, стоял, сжимая эфес шашки, статный офицер с широкими слитками погон на плечах. На другой — заразительно-белозубо улыбался человек с большими залысинами, в рубашке с полосатым отложным воротником, какие носили в первые послевоенные годы.
Осмотревшись, Стас понял, что одна из стен комнаты представляла собой тыльную сторону поставленных друг на друга книжных полок. За полками оказалась еще как бы маленькая комнатка. Ее стены также были заставлены до потолка книжными полками. В этой комнатке-библиотеке стояла тахта, укрытая ярким желтым покрывалом. На тахте лежала большая подушка с явно заметной вмятиной от головы. Туда же был втиснут торшер с маленьким столиком и шнурочком-выключателем, удобно висящим как раз над подушкой. На торшерном столике лежала начатая пачка финских лицензионных сигарет «Салем» и стояла тяжелая хрустальная пепельница. Она была ослепительно чиста.
Книги на полках не жались ровными рядами, а лежали как попало — стояли вертикально, лежали плашмя, были составлены шалашиком. Корешки их не блистали непорочной аккуратностью, нет, было видно, эти книги читали и перечитывали. Внутри одной из полок стоял мощный транзисторный приемник с выдвинутой, насколько позволяла высота полки, суставчатой антенной, похожей на корабельную мачту. В окружении потертых книжных переплетов его блестящий, крепкий, набитый электроникой корпус казался пришельцем из другой жизни, словно современный отель, неожиданно выросший среди старых деревянных домишек захолустного морского побережья.
Рассматривая внутренность этой комнатки — шкафа, Стас почувствовал, что его тоже рассматривают. Он повернул голову к Аделаиде Игоревне. Доманская действительно с каким-то странным выражением смотрела на него. Стас не успел определить это выражение, потому что как только он обернулся, она согнала его с лица.
Презрительно взглянув на Стаса, в комнату вошел знакомый рыжий котенок. Цепляясь коготками за покрывало, он взобрался на тахту и свернулся клубком посередине.
— Да, да, вот здесь мы с Василием и живем… За полками — его комната, — неопределенным тоном сказала Аделаида Игоревна и замолчала.
Она стояла, теребя в руках перчатки и вглядываясь в колеблющуюся листву за окном. Судя по ее виду, она собиралась куда-то идти.
— Аделаида Игоревна, кажется, я не вовремя, — сказал он. — Вы куда-то собирались? Собственно, я мог бы вас проводить, если вы не против, и поговорить с вами по дороге…
— Да, действительно, я должна идти на концерт. Вы любите Мендельсона, молодой человек, — вдруг строгим взглядом музейного смотрителя, заставляющим поеживаться посетителей, посмотрела она на Стаса.
— Мне больше нравится Гендель. Его Пассакалия — моя любимая вещь. И еще Бах.
— Гендель… Бах… — раздумчиво протянула Аделаида Игоревна. — Я рада за вас, молодой человек! Но осенью… осенью, — медленно проговорила она, аккуратно натягивая на свои худые тонкие пальцы паутинчатые перчатки, — надо слушать Мендельсона. Послушайте старую женщину, молодой человек… В крайнем случае, Моцарта. Гендель и Бах — не для осени. Осень требует прозрачности… Итак, вы согласны стать моим провожатым? Вот и прекрасно. Идемте, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Они вышли на улицу. В соседнем детском саду за низким деревянным заборчиком играли дети, и их голоса отчетливо звенели в легком осеннем воздухе. По сравнению с летними днями, улица казалась похудевшей и посвежевшей. «Как Марина после отдыха на Балтике», — отметил про себя Стас.
— Аделаида Игоревна, — нарочито официально произнес он, — в музее совершено хищение экспоната, являющегося национальным достоянием. Долг каждого человека — помочь следствию. Я хочу задать несколько вопросов, которые касаются вашего племянника Василия. Поймите меня правильно, это моя обязанность.
Доманская наклонила голову, что можно было истолковать как знак согласия.
— Если можно, объясните мне, почему Василий ушел из музея?
— Боюсь, здесь я не смогу быть объективной, — не поднимая головы, тихо проговорила Доманская. — Василий — родной мне человек, сын моей сестры Риты. Я воспитала его… Рита умерла, когда ему не было пяти лет. Отца Василий никогда не знал. Он бросил сестру еще до его рождения. Я заменила ему и отца, и мать.
Аделаида Игоревна опиралась на руку Стаса, и он подлаживался к ее маленьким частым шагам.
— И я могу гордиться своим воспитанником, — она вскинула на собеседника свои прозрачные строгие глаза, — Василий — честный и умный. Он аристократ по духу. Понимаете? Порядочность у него в крови. Да, да, я могу гордиться, что так воспитала его! Ему чужд дух интриги и подсиживания.
Ее голос потерял свою сухость, в нем зазвучали молодые живые интонации.
— К сожалению, у нас все больше становится других — бесчестных и мелких, не считающихся ни с чем ради достижения своих целей!
Аделаида Игоревна внезапно остановилась, ее глаза утратили выражение холодного спокойствия:
— Наверное, мне не следовало этого говорить, но я скажу: его вынудили уйти из музея! Вы-ну-ди-ли! — раздельно произнесла она.
— Кто? Директор?
— Нет, нет! Демич здесь ни при чем. — Доманская в упор посмотрела на Стаса. — Да вы ведь прекрасно знаете, о ком я говорю… Знаете, знаете! — пригрозила она ему пальцем. — Неужели нет? Я говорю об этом интригане и карьеристе — о Белобокове! И ни о ком другом!
Аделаида Игоревна потеряла свою портретную монументальность, она волновалась: ее бледное лицо порозовело, и светло-голубые глаза помолодели.
— Да, я отвечу на ваш вопрос, хотя это личное дело Василия. К сожалению, так случилось, что Василий и Белобокое полюбили одну женщину. Женщину малодостойную, но не в этом суть… Белобокое повел себя низко… Он решил уничтожить соперника, пользуясь своим служебным положением! Это — безнравственно, прямо скажем — подло! Когда-то за это можно было вызвать на дуэль! А там — бог решит. К сожалению, сейчас нравы переменились.
Доманская внезапно резко оборвала себя и замолчала.
— Простите, Аделаида Игоревна, — после значительной паузы, давая ей успокоиться, сказал Стас, — мне не хотелось бы вас обижать, но все же, по долгу службы, я обязан задать такой вопрос: в каком часу ночи в день похищения Василий вернулся домой?
— Что значит, в каком часу? — холодным тоном переспросила Аделаида Игоревна. — Василий имеет обыкновение возвращаться домой вечером, а не ночью, — строго взглянула она на Стаса. — Ну, может быть, что-то около одиннадцати… Я не помню точно.
А вот это была неожиданность!
«Выгораживает племянника? — подумал Стас. — Но для чего, если сам он утверждает, что в ту ночь не ночевал дома и вернулся лишь под утро. Странно…»
Они стояли на ступеньках Концертного зала. На площади рабочие разравнивали дымящийся бархатисто-черный слой свежего асфальта. От него струилось тепло и веяло сладковатым запахом нефти.
— Нет, все-таки осенью нужно слушать Мендельсона, молодой человек… Да, каждое время года имеет свою музыку. Каждое! Запомните это! — подняла вверх указательный палец Доманская. — Итак, молодой человек, вы идете со мной на концерт? У меня абонемент на двоих. Обычно мы ходим вдвоем с Василием. К сожалению, сегодня он занят. Я вас приглашаю. Уверяю, не пожалеете!
— Искренне вам благодарен, — светски склонил голову Станислав Александрович, — однако вынужден отказаться, дела! — сожалеюще развел он руками. — Хотя, — вдруг неожиданно для самого себя произнес он, — Мендельсон осенью… Знаете, я согласен!
8
Преступник?
Станислав Александрович стоял у раскрытого окна своего кабинета и смотрел, как внизу, на улице, молодая продавщица в красной вязаной шапочке продавала глянцевато-блестящие цилиндры кабачков и похожие на отливки больших шестеренок патиссоны. У прилавка с овощами стояло несколько женщин. Они поминутно нагибались, перебирали овощи, низко наклонялись, что-то говорили продавщице, оборачивались друг к другу.
Стоя у окна едва ли не с самого утра, Стас открыл для себя интересную закономерность: лоток с овощами работал только в двух режимах. Либо возле него вообще никого не было, и продавщица, присев на деревянный ящик, рассматривала прохожих, либо у прилавка сразу собиралась целая группа покупательниц. Пока у прилавка никого не было, горожанки, словно не замечая его, равнодушно шли по своим делам. Но стоило к овощам подойти хотя бы одной женщине, как сейчас же все спешащие по улице потенциальные покупательницы не могли спокойно идти мимо. У лотка мгновенно выстраивалась очередь.
В этом Стас увидел какой-то особый, присущий женщинам закон инстинктивного подражания друг другу: «если кто-то покупает патиссоны, почему бы и мне не купить? Обязательно нужно, как это я раньше не подумала?…»
Сделав этот вывод, Станислав Александрович порадовался своей наблюдательности. Нет, следователь Алексин не забыл о своих служебных обязанностях. Но опыт говорил ему, если зашел в тупик, если перебрал все варианты и не находишь выхода, единственный путь — отвлечься, полностью выбросить из головы мучащую загадку. Пройдет какое-то время, и неожиданно появится совершенно новая мысль. Как правило, настолько очевидная, что будешь лишь удивляться, как она не приходила в голову раньше.
Однако сегодня этот, прежде не подводивший его, закон срабатывать не хотел.
«Сейчас хорошо бы выпить маленькую фарфоровую чашечку кофе, не растворимого, конечно, а сваренного из жареных зерен. С дырчатой легкой пенкой», — подумал Стас. Вообще-то кофе он не любил и только осенью получал от него удовольствие. Может быть, потому, что впервые попробовал настоящий кофе в турпоездке по Болгарии, куда они вместе с женой поехали сразу после свадьбы. А это было как раз волшебной балканской осенью. Они были счастливы, и, наверное, поэтому все, связанное с тем временем, навсегда осталось для него прекрасным…
Горы торжественно и неспешно облетали светло-лимонными буковыми листьями. Прямо рядом с их кемпингом на бархатной черноте неба висела оранжевая южноевропейская луна, похожая на древнюю монету. В воздухе пахло лавром античных триумфов, а внизу, у моря, рядом с маленькой рыбацкой деревней, собравшиеся у высокого костра усатые другари пели задушевное: «Эй, Балкан, ты наш родной…»
Они с Мариной были людьми общительными, не робея спускались по каменным ступеням к костру, подсаживались к рыбакам и начинали петь вместе с ними.
Тогда они с Мариной решили объездить весь мир. Конечно, только вдвоем. Потом пошли дети, и путешествия пришлось отложить…
Следователь Алексин потер лоб и понял, что слишком далеко отвлекся от лежащего перед ним дела. А проведенным им следствием было установлено следующее.
Шофер такси (парковый № 213) опознал Василия Маркушу по предъявленной фотографии и показал, что около двадцати трех часов тридцати минут посадил данного гражданина в машину на площади Маяковского и по его просьбе доставил к железнодорожному вокзалу. По дороге у транспортного института он взял двух попутчиков, видимо, супружескую пару, которая вышла из машины на улице Серова. В ноль часов пять минут шофер высадил Маркушу на привокзальной площади. Время шофер запомнил точно, так как ожидал пассажиров со скорого поезда «Владивосток — Москва», прибывающего в город по расписанию в ноль часов пятнадцать минут.
Далее в деле шел лист, в котором говорилось, что после подробного разъяснения ответственности, наступающей за дачу ложных показаний, водитель также признал, что за двадцать рублей продал пассажиру после его настоятельных просьб оказавшуюся у него случайно бутылку водки. По словам водителя, он пытался отдать указанному гражданину сдачу, но тот этому решительно воспротивился. Водка, утверждал он, была приобретена им еще утром для празднования дня рождения тещи.
После допроса водителя в деле находился рапорт дежурного пункта транспортной милиции старшего лейтенанта Кармацких. В рапорте указывалось: неизвестный гражданин, оказавшийся впоследствии Маркушей, был задержан сержантом Ганжой во время хождения по вокзальным путям в нетрезвом состоянии и доставлен в линейный пункт милиции. Об этом в журнале учета информации имеется соответствующая запись. Время задержания — ноль часов пятьдесят шесть минут. В результате беседы с гражданином Маркушей старший лейтенант Кармацких решил не вызывать машину спецмедслужбы, а оставил его в линпункте до шести часов утра.
В разговоре со следователем Кармацких добавил, что решил не вызывать машину медвытрезвителя, так как гражданин Маркуша произвел на него впечатление порядочного интеллигентного человека, у которого произошли какие-то серьезные неприятности на личной почве. А кроме того, после беседы с Маркушей выяснилось, что они учились в одной школе и, хотя лично до этого момента друг друга не знали, имеют общих знакомых.
Около семи часов утра Василий Маркуша стоял на пороге своей квартиры. Как показала уборщица, мывшая лестничную клетку, он два раза позвонил, но ему никто не открыл. После этого он воспользовался своим ключом. Все.
Да, странно, странно вел себя в ночь похищения бывший фотограф музея, а в настоящее время человек без определенных занятий Василий Васильевич Маркуша… Прятался за кассой, демонстративно отмечался у свидетелей, как пьющий по поводу личных неприятностей. В принципе, вся его ночь вроде бы просматривается. Но если присмотреться, далеко не все так гладко: есть солидный промежуток времени — минут в сорок — между тем, как его высадил водитель такси, и тем, как задержал сержант Ганжа на вокзальных путях. Есть отрезок времени между тем, как он покинул гражданку Полякову, и моментом, когда сел в такси. Отрезок небольшой, но, в общем, достаточный, чтобы оказаться в музее, вскрыть неблокированную витрину и…
Как будто из тех четверых, кого следователь Алексин мог отнести к категории подозреваемых, именно Василий Маркуша больше всего подходил на роль преступника. И все же Стас чувствовал: здесь что-то не так. И это не давало ему работать, заставляя наблюдать жизнь овощного ларька и выводить законы, регулирующие поведение прекрасной половины человечества. Внутренне он почему-то был твердо уверен: Василий Маркуша Золотой Рог не брал.
Но тогда кто? Кто?
Правда, был еще один вариант.
Но вариант настолько малореальный, что принимать его во внимание было просто смешно. Ему даже лень было о нем думать.
Стас посидел, посмотрел на телефонный аппарат и, наконец, просто ради того, чтобы очистить совесть, чтобы в случае неудачи расследования, которая становилась все реальнее, он мог сказать себе: «Я сделал все, что мог», взял телефонный справочник. Он набрал нужный номер, представился и задал интересующий вопрос. Сначала он подумал, что на том конце провода просто ошиблись, невнимательно посмотрели, проглядели. Он прибавил начальственной строгости в голосе и попросил проверить еще раз. Там проверили и уже с явной обидой подтвердили прежний ответ.
Стас даже похолодел. По телу пробежала покалывающая волна. Загадочное исчезновение Золотого Рога получило простое и ясное объяснение.
С этой минуты капитан Алексин твердо знал, кто был похитителем Рога…
Вечером того же дня из Москвы, наконец, вернулся директор музея Александр Михайлович Демич.
А ночью произошло событие, после которого что-либо изменить в этой истории стало уже невозможно.
9
Реликвия рода Чесменских
Что-либо изменить в этой истории стало уже невозможно после происшедшего ночью трагического события, о котором Стас узнал из рапорта дежурного по областному управлению внутренних дел.
Утром по выработавшейся привычке он автоматически пробежал глазами рапорт со сводкой происшествий за истекшие сутки.
Под номером 12 с заголовком «Несчастный случай» шло сообщение о смерти гражданки Доманской Аделаиды Игоревны (русской, 1912 года рождения, беспартийной, пенсионерки, работавшей смотрителем областного художественного музея), наступившей в результате принятия чрезмерной дозы успокаивающего медицинского препарата типа «элениум». Бригада скорой медицинской помощи была вызвана в 5 часов 40 минут утра племянником гр. Доманской гр. Маркушей В. В. (русский, 1952 года рождения, беспартийный, образование высшее, в настоящее время — неработающий, последнее место работы — фотограф областного музея), проживающим вместе с Доманской. По заключению врача Скоробогатова В. И., констатировавшего смерть, она наступила около 3 часов утра.
Когда он заканчивал читать сообщение, зазвонил его рабочий телефон, и дежурный научный сотрудник областного художественного музея сообщила растерянным и обрадованным голосом: «Только что, после открытия музея, Золотой Рог обнаружен на своем месте в витрине второго зала».
А еще через несколько минут Станиславу Александровичу позвонили из канцелярии и попросили забрать пришедшее утренней почтой на его имя письмо. На конверте значился знакомый ему обратный адрес и фамилия отправителя: Доманская А. И. Судя по штемпелю, письмо было отправлено вчера, видимо, еще до утренней выемки корреспонденции из почтовых ящиков.
Вот что было в этом письме.
«Я, Аделаида Игоревна Доманская, и мой двоюродный брат Морис Дьяковски, проживающий во Франции, являемся в настоящее время предпоследними потомками фамилии графов Чесменских, основателем которой является граф Александр Алексеевич Чесменский, внебрачный сын графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского и Великой княжны Владимирской, которую граф по приказанию императрицы Екатерины II похитил из итальянского города Ливорно и доставил в Россию[5]. Александр Алексеевич Чесменский был рожден в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 7 ноября 1775 года. Его крестным отцом был генерал-прокурор Российской империи князь Вяземский. Крестной матерью — жена коменданта Петропавловской крепости генерала Чернышева.
Нам с Морисом известна тайна происхождения нашей прародительницы. Для того, чтобы раскрыть эту тайну, еще не настал срок. Этот срок, по предсказанию, близок. Если Морис решит, что время для этого пришло, он предпримет соответствующие шаги. Скажу только, что ее происхождение высоко и почетно[6].
Мой брат женат, однако детей у него нет. Возраст его весьма почтенен, и наследников ожидать не приходится. Мой единственный ребенок умер еще в младенческом возрасте. Моя сестра Рита, мать Василия, умерла, когда ему не было пяти лет. Поэтому единственным продолжателем рода графов Чесменских является мой родной племянник Василий. Я хочу, чтобы Вы это знали.
Теперь о Золотом Роге. Он принадлежал нашей прародительнице Великой княжне Владимирской и был подарен ей ее воспитателем и покровителем персидским князем Гали[7]. Он является нашей фамильной драгоценностью. По завещанию, переданному нашими предками, он не может быть разлучен с нашей семьей. Рог связан с фамилией графов Чесменских таинственными узами и всегда должен находиться рядом с ними. В противном случае наш род прекратится.
В свое время ему еще предстоит сыграть предназначенную важную роль[8].
То, что именно Василий невольно помог обнаружить на Роге имя нашей прародительницы — не может быть простой случайностью. Это событие подтверждает, что наша фамилия связана с Золотым Рогом особыми узами.
Долгие годы я следила за Рогом и находилась рядом с ним по поручению моей матери.
Рог был конфискован в 1918 году из дома моей бабки Анны Петровны Доманской и помещен в запасники Эрмитажа. В 1924 году, по указанию наркома Луначарского, он был передан в наш музей.
В своем последнем письме хочу сказать, что я прикладывала все силы, чтобы выполнить свой долг хранительницы рода Чесменских. Я сделала все, чтобы заменить Василию рано умершую мать и отца, которого он никогда не знал (он оставил Риту еще до рождения ребенка). Василий получил образование, в совершенстве знает английский и итальянский языки. Он умен, добр и честен. Но, очевидно, до конца заменить ему родителей я не смогла. Я чувствую, что мой племянник глубоко несчастлив: он не может занять подобающее ему место в жизни. Василий уже не мальчик, однако до сих пор он не смог найти женщину, которая стала бы ему верной спутницей и продолжательницей исторического рода графов Чесменских.
Мне казалось, что лучший выход в том, чтобы оставшиеся члены нашей фамилии воссоединились, и заботу о Василии взяли на себя его родственники — близкий ему по крови человек, мой младший кузен Морис, и его супруга Анни. Последний раз мы виделись с ними восемь лет назад в Москве, куда они приезжали как туристы. Еще тогда они настоятельно предлагали взять на себя заботу и ответственность за судьбу Василия. Мой брат — хорошо обеспеченный человек. У него земельная собственность в Северной Франции. Он является также совладельцем одной крупной торговой фирмы. Я надеялась спокойно умереть, зная, что Василий в надежных руках. Разумеется, в этом случае Рог, с которым семья Чесменских не может разлучаться, должен был уехать вместе с ним. Ввиду предстоящего отъезда Василия во Францию, я и решилась на похищение.
Но, несмотря на мои настойчивые уговоры, мой племянник отказался покинуть границы России.
В эти дни я много думала… Я вспомнила всю свою долгую жизнь, и мне стало отчетливо ясно: жить без своей нынешней Родины Василий не сможет. Она, Россия, внутри каждого из нас. Любой русский — лишь ее маленькая копия. Иногда хорошая, иногда плохая копия. И если человек не стал счастливым здесь, то тем более не станет счастливым в другом месте. Наверное, Василий прав — за счастье нужно бороться здесь. А иной цели у человека быть не может. Ведь это только кажется, что человек ищет богатства, любви и славы. Это не так. На самом деле он ищет счастья. И обрести его он может только на Родине. Другого пути нет.
Прошу считать это письмо моим официальным признанием. Рог был взят из витрины мной. Должна сказать, что кражей это я не считаю. Повторяю: Рог по историческому праву является родовой реликвией Чесменских и принадлежит только нам.
Пишу эти строки, чтобы Вы знали, что Рог взяла я одна, и чтобы — не дай бог! — не пострадали невинные люди, а тем более — мой племянник. О взятии мной Рога он ничего не знал и не знает.
Теперь, после того, как стало ясно, что Василий останется в России, мой поступок теряет всякий смысл. Рог должен находиться там, где находится наследник рода Чесменских. Поэтому он тоже должен остаться в России».
Дальше несколько строк было аккуратно зачеркнуто, и затем шла приписка:
«P. S. Уважаемый Станислав Александрович! Совсем скоро настанет день, когда выпадет первый снег. Советую Вам отложить в этот день все свои заботы и просто походить по белому городу, внимательно посмотреть вокруг, прислушаться к себе и подумать… Боже мой, какое это счастье, просто вдыхать холодный воздух с ароматом первого снега, в котором слышится легкий намек или воспоминание о головокружительном мпахе самого первого, только что разрезанного на две половинки-лодочки огурца!.. А скорее всего, первый снег пахнет соком крепкой капустной кочерыжки, вырубленной прямо на холодном воздухе. Моя бабушка всегда рубила капусту после того, как ударял первый заморозок, осенние лужицы покрывались тонким, в кружевных разводах инея, ледком, черная жидкая осенняя грязь на огороде за ночь застывала, и отпечатанные в ней следы наших с Морисом маленьких детских сапожек становились каменно-твердыми. А когда утром мы с Морисом сбегали с высокого деревянного крыльца нашего дома в огород, под ногами у нас звонко хрустели остекленевшие за ночь еще зеленые и сочные помидорные стебли…
Это было в Петербурге. Шел девятнадцатый год… Нас всех — бабушку, ее дочерей — мою и Мориса мать — новая власть выселила из нашего дома на Невском, за Фонтанкой. Здесь Невский уже не был первым проспектом империи. За Фонтанкой начинался мир загадочных узеньких улочек, сумрачных дворов-колодцев, доходных квартир и ночлежек. Конечно, он не так красив, как тот знаменитый „пушкинский“ проспект от Адмиралтейства до Аничкова моста. Но для меня — это и есть настоящий Петербург. Это мир несчастных и человечных героев Достоевского. Это мир моего детства.
В это время мужчин в нашей семье не было. Дедушка умер, когда бабушка была совсем молодой: она одна растила своих дочерей. Мой отец, кадровый офицер русской армии, погиб на германском фронте в 1915 году.
Когда мы провожали папу на фронт, мне было два с половиной года. Мать говорила, что вряд ли я могу это помнить. И все же я помню. Бесконечную стену странных желтых пассажирских вагонов и вокруг огромное число людей в темно-зеленой форме, в одинаковых низеньких, будто примятых, фуражках. Наверное, в такой же форме с золотыми погонами, как на фотографии в нашем доме, стоял рядом с нами и мой отец. Но живого отца я не помню. В памяти у меня остался лишь сытный запах новых кирзовых сапог и резкого одеколона. Этот запах заполнял все вокруг… А над платформой звучал пронзительный вальс, откоторого нестерпимо хотелось плакать. Самой минуты прощания я не запомнила. Но иногда мне снится, как сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей мимо меня бегут высокие желтые вагоны. Мне кажется, это оттуда. Иначе почему вагонам быть ярко-желтыми? Ведь только до империалистической войны так красили вагоны первого класса, а потом, в войну, все пассажирские поезда покрыли защитным цветом, а уж затем и вовсе все поезда стали одинаково зелеными.
И до сих пор, когда мимо меня идут солдаты, и я слышу запах кирзовых сапог и дешевого резкого одеколона, я вижу перед глазами тот перрон, заполненный людьми в одинаково примятых фуражках с маленькой тульей, и, кажется, ощущаю свою руку в большой теплой ладони моего отца.
Из всех мужчин семьи тогда, в девятнадцатом, жив был только отец Мориса. Но он в составе русского экспедиционного корпуса находился во Франции. После революции его части были интернированы французским правительством, и дядя сидел в офицерском лагере под Марселем. В лагерях офицеров вербовали к Деникину и Юденичу. Но мой дядя отказался идти в добровольцы.
После выселения мы переехали на Васильевский остров. В рабочей слободке Балтийского судостроительного завода, почти на берегу Финского залива, бабушка за бесценок купила большой опустевший дом с огородом. Его бывший хозяин погиб, сражаясь с Юденичем под Царским Селом, а жена с детьми уехала к родственникам в деревню.
Странно, я столько забыла за свою жизнь, а все эти, в общем-то, неважные подробности помню ясно и отчетливо. Будто все это происходило вчера.
Жить было трудно. Мы выращивали на продажу капусту, помидоры. Тем и кормились. От тех лет у меня осталось воспоминание о свежем соленом ветре с Балтики и надежном добром тепле, идущем от забеленных кирпичей русской печки в самой большой комнате нашего нового дома.
В двадцать четвертом, когда жить стало уже легче — разворачивался нэп, — из Франции пришло письмо от отца Мориса. Он получил французское гражданство и звал всех нас к себе. Бабушка в это время была уже совсем плоха. Тогда она и рассказала дочерям тайну нашей фамилии и Золотого Рога. По решению бабушки, ее старшая дочь с сыном Морисом должны были уехать к мужу во Францию. А мы с матерью оставались в России вместе с Рогом. Вскоре бабушки не стало.
Мы с матерью вслед за фамильной реликвией переехали сюда в Сибирь. Здесь моя мать вторично вышла замуж за учителя музыки. Но фамилию сохранила свою — Доманская. От их брака родилась дочь Рита, моя единоутробная сестра. Василий — ее сын. Мама умерла перед самой войной, в сороковом.
Сама я дважды была замужем. С первым мужем мы разошлись после двух лет совместной жизни. Мой второй и настоящий муж, мой Алексей Кириллович, умер в сорок Девятом от военных ран. Это был чудесный человек, лучший Из тех, кого я знала в своей жизни. Вернулся он с войны слабый, как ребенок. Желтый весь, худой. Ничего мне было не надо, только одно: выходить его, чтобы он жил. И он как будто поправился. Снова, как раньше, до войны, веселый стал. Он был учителем географии и опять пошел работать в свою школу. Да, видно, не судьба. Вечером лег спать, а утром не встал. Осколок, сказали, вошел в сердце… Мой сын от первого брака умер в младенческом возрасте. Во втором браке детей у меня не было. Не могла я их иметь после того, как в сорок втором на нефтебазе меня ударило двухсоткилограммовой бочкой с солидолом.
Мужчин не было, и мы, работницы музея, грузили на товарном дворе эти бочки со смазкой для танков в эшелоны, уходившие на фронт. Облепив ее огромную тушу, мы закатывали бочку по наклонному настилу из досок в раскрытые двери вагона… Я помню, товарный двор и железнодорожный путь были залиты невероятно ярким, неестественно, белым, словно застывшая молния, светом. Все предметы в нем отбрасывали непрозрачные черные космические тени, какие, наверное, отбрасывают зубчатые стены кратеров на Луне. Свет давали укрепленные на крыше склада два зенитных прожектора. За годы войны мы отвыкли от яркого света. В кухнях и над номерами домов горели маленькие, словно луковицы, тусклые желтоватые пятнадцатисвечевки. От этого, а может быть, от нашей усталости и голода свет прожекторов нестерпимо, до боли, резал глаза. Однажды мы работали до полуночи. Очень устали. А потом неожиданно подали литерный эшелон, который нужно было обязательно загрузить.
Мы почти уже подняли первую бочку, осталось совсем немного, и она бы покатилась по вздрагивающему полу вагона, но, наверное, мы слишком ослабли за ночь, у нас не хватило сил, и бочка, на мгновение замерев на месте, вдруг медленно пошла назад на нас. Девчонки завизжали и посыпались вниз, на платформу. А я не успела. Бочка придавила носок моего кирзового сапога. Сапоги были большие, размера на три больше, чем нужно. Это спасло мне ногу, потому что бочка придавила сначала лишь пустой носок сапога. Но после этого она продолжала медленно накатываться на мою ногу, на меня, а я уже не могла сдвинуться с места. До сих пор во сне я вижу, как она неотвратимо надвигается на меня, тяжелая, словно асфальтовый каток, отбрасывая на выкрашенные известью доски страшную черную тень. Еще мгновение, и меня бы расплющило по настилу. Но в это время одна из его досок проломилась, бочка на минуту, словно живая, стала стоймя и, сильно ударив меня в живот, полетела вниз на платформу. Я упала вслед за ней и очнулась только в больнице.
Такое уж это было время. Война. Отечественная.
Боже мой, а как мы радовались, когда пришла победа! Наш сосед дядя Миша стоял на крыльце и угощал всех прохожих запрещенным фиолетовым самогоном. Мы с Ритой, матерью Василия, танцевали друг с другом прямо на улице. Вокруг нас собрался сначала наш дом, а потом, наверное, весь рабочий квартал. Дядя Миша, отставной солдат, потерявший левую руку под Царским Селом, неловко прижимая правой рукой к боку, вынес на крыльцо черный дерматиновый ящик патефона. Поставил на пластинку сверкающее хромом ушко мембраны, и всю ночь для нас звучали прекрасные „Амурские волны“. Это был вальс моего детства, моей юности… Его плавающие звуки заполняли весь мир и уносились к звездам.
Утром мимо нашего дома молодой командир строем повел молоденьких солдат на станцию разгружать вагоны. Взявшись за руки, мы загородили им дорогу. Качали бледных тыловых солдатиков в длинных неподшитых шинелях. А их командир в золотых, таких же, как у отца на фотографии, погонах белозубо и заразительно смеялся. И я отчетливо помню, у меня возникло странное чувство, будто все мы — одна огромная, дружная, добрая семья. И в ней никто никогда не сможет сделать друг другу ничего плохого. Мне кажется, тогда так чувствовали все.
Нет, что ни говорите, тогда люди были другими: ближе друг к другу, честнее и добрее. И не ссылайтесь на войну! Война лишь обнажает то, что есть.
Но, пожалуй хватит об этом. Все эти воспоминания имеют значение только для меня одной. Ведь это моя жизнь. Для других же это просто сентиментальное бормотание не в меру разоткровенничавшейся старухи.
Вам же молодой человек, я, собственно, хочу сказать о другом: знайте, первый снег — это великое чудо! Всмотритесь: еще вчера город был голым, серым, скучным. И обреченными были лица прохожих: в этом промозглом мире нет и не может быть ничего веселого и интересного. Вот так и будет всегда, до самой смерти: скука, скука, скука… И вдруг город запел ровными белыми пересекающимися плоскостями. Их свет будто упал на лица, и они ожили. И каждый почувствовал, красота, любовь, радость — не придуманы, они живут в самом мире, совсем рядом, вот за тем углом дома или уж наверняка вон в том подъезде. И я их обязательно встречу.
Поэтому, какие бы важные дела государственной службы ни преследовали Вас в этот день, отложите их. Такой день бывает только раз в год. Терять его нельзя. И я уверена, тогда Вы, наконец, поймете, в чем заключается та великая тайна, предчувствие которой приходит к Вам осенью и весной. Не удивляйтесь, Вы никогда не говорили мне об этом, но разве я не права?
Желаю Вам всего лучшего.
С искренним уважением
Аделаида Доманская,
графиня Чесменская.»
10
Все точки над i
Стоял ясный воскресный день. Было по-летнему тепло, но на набережной царило уже осеннее безлюдье. Асфальт набережной совсем выцвел за лето, и теперь, поблескивая на солнце гранями впрессованных в него песчинок, был похож на благородный серый гранит.
На одной из скамеек удобно расположились Стас и его старый друг, директор музея Александр Михайлович Демич. Они были знакомы с того времени, когда курсант Алексин был избран заместителем секретаря комсомольской организации высшей школы милиции, а Саша Демич возглавлял оперативный комсомольский отряд университета.
На скамейке между друзьями стоял расписанный пышнохвостыми павлинами синий китайский термос. Демич аккуратно разливал в пластмассовые чашки кофе. Он лился тонкой лаковой струйкой, распространяя вокруг себя в осеннем воздухе сладковато-пряный аромат. Демич любил и умел готовить кофе и по своему вкусу добавлял в него немного корицы.
Друзья молчали, оттягивая момент начала интересующего их обоих разговора.
— Конечно, письмо не оставляло сомнений, кто похитил Рог, — наконец, первым начал Демич. — Но каким образом, еще не получив его, ты пришел к выводу, что это была именно Доманская? Ведь, казалось бы, ничто не указывало на это…
— Да, действительно, — отхлебнув кофе, сказал Стас, — графиня Чесменская избрала путь настолько простой, что из-за этой простоты он долгое время не приходил мне в голову. Я рассуждал так: если Рог не мог пропасть из музея после блокирования его сигнализацией, значит, он был взят во временной люфт между тем, как его с достоверностью видели последний раз смотрители, и моментом взятия музея на пульт вневедомственной охраны. Поэтому, естественно было предположить, что это мог сделать кто-то из тех, кто находился в этом интервале в музейных залах — то есть Белобоков, Полякова, ты и, как оказалось потом, Василий Маркуша…
— Скажи, Стас, — прервал его Демич. — Значит, ты всерьез рассматривал меня в качестве подозреваемого?
Станислав Александрович помолчал. Затем долил себе кофе и сказал:
— В общем-то личное знакомство не является основанием для исключения из числа подозреваемых. Но тебя я вычеркнул из своих реальных версий сразу. И решил: если следствие все же выйдет на тебя, обращусь к руководству с просьбой об изъятии у меня дела о Роге, как у лица небеспристрастного. Но, говорю честно, в это я не верил. Поэтому реально в числе подозреваемых оказались трое. Каждый из них теоретически мог похитить Рог.
— Да, ты рассказывал, что тебя удивила и насторожила непонятная неприязнь, с которой тебя встретила Полякова. Как ты теперь это объясняешь? — спросил Демич.
Стас усмехнулся:
— Во-первых, характером, отнюдь не расположенным к нашему брату — мужчине. А главное, тем, что Ирина Викторовна понимала, что наиболее вероятным подозреваемым станет главный хранитель, ее жених Самсон Сергеевич. А может быть, она и сама считала, что кража Рога — его рук дело, ведь она-то знала, что Маркуша наверх не поднимался. Тебя же, вероятно, она, как умная женщина, умеющая разбираться в людях, из числа вероятных преступников сразу исключила. Таким образом, я, не догадываясь об этом, явился в музей в роли безжалостной судьбы, занесшей меч, чтобы разрушить выношенные ею жизненные планы. Но это только теперь я все понимаю. А тогда, в самом начале следствия, такое отношение к представителю закона бросало на Ирину Викторовну весьма невыгодную тень.
Ну, а уж Василий прямо-таки напрашивался на роль преступника: был лично обижен на хранителя Рога Белобокова и его похищением мог мстить Самсону Сергеевичу. Страдал комплексом неудачника и нуждался в каком-то поступке, который помог бы ему утвердиться в собственных глазах. Испытывал недостаток в деньгах, так как нигде не работал и работать как будто не собирался. Это возможные мотивы. Плюс к этому — наводящее на подозрение поведение: прятался за кассой, странно провел ночь, дал невнятные показания…
Преступником мог быть каждый из них, но никаких Реальных улик в отношении ни одного из них мне обнаружить не удалось. Я зашел в тупик.
Стас замолчал и стал рассматривать лежащий на скамейке бледно-фиолетовый кленовый лист. Потом продолжал:
— И находился в тупике до тех пор, пока не связал в уме три, на первый взгляд, не связанных между собой факта.
Первое. Рядом с Рогом в интересующий меня интервал времени находился еще пятый человек — Аделаида Игоревна Доманская. Собственно, с того момента, когда они вместе с Поляковой завершили вечерний осмотр экспонатов, и начался временной люфт. Но она выпала из моего поля зрения, так как в этот же момент исчезла, сославшись на семичасовой талончик к участковому врачу.
Второе. Когда Василий Маркуша после проведенной в милиции ночи пришел домой около семи часов утра, несмотря на звонки, дверь ему никто не открыл, и он был вынужден воспользоваться собственным ключом. Но ведь около семи утра Доманская, которая уходила на работу к десяти, когда музей открывался для посетителей, должна была быть дома. И племянник был в этом уверен, оттого так настойчиво и звонил. Пожилые люди спят очень чутко, и не слышать звонков Василия она не могла. Значит, дома ее не было.
И третье. Это ответ Доманской на мой вопрос о том, во сколько ее племянник вернулся домой в день похищения. Она ответила: как всегда, что-то около одиннадцати. Это означало: либо она по каким-то причинам скрывает отсутствие племянника в часы похищения, либо… сама не ночевала дома. В этом случае Доманская выдвигалась в ряд подозреваемых. Но ее ранний уход из музея к врачу как будто обеспечивал ей прочное алиби.
И только окончательно зайдя в тупик, я додумался задать себе вопрос: а ушла ли она? Задал я этот вопрос не очень всерьез, от безвыходного положения. На всякий случай. Почти не надеясь на успех. И чтобы рассеять сомнения, позвонил в поликлинику по месту жительства Доманской, где, как я выяснил, она состояла на учете. Я попросил проверить по книге регистрации посетителей, выдавался ли Дам некой талончик к участковому врачу или любому из узких специалистов. Нет, ответили мне, ни один из врачей поликлиники ни в семь часов, ни вообще в тот день гражданку Даманскую не принимал.
И тогда я понял: путь хищения, избранный Доманской, был до наивности прост, и, как ни странно, именно в силу этого столь труден для раскрытия. Я взял за аксиому, что Рог не мог пропасть из витрины ночью, когда музей был блокирован охранной сигнализацией, и, значит, пропал за несколько минут до ее включения. И эта ошибочная аксиома долго не позволяла мне построить другие версии.
На самом деле Рог исчез из витрины как раз ночью, когда сигнализация работала…
— Не отключила же ее Доманская? — удивленно вздернул брови Демич.
— Конечно, нет! Ей и не нужно было это делать. Потому что в это время она была в музее. — Стас помолчал. — Ведь из музея она никуда и не уходила.
— Но ведь Полякова заявила, что она отпустила Доманскую, и та ушла. Какой же смысл ей было выгораживать Доманскую? — недоуменно спросил Демич.
— А она ее и не выгораживала, — ответил Стас. — Она сама была уверена, что Аделаида Игоревна ушла к врачу. На самом же деле она осталась в музее.
— Но каким образом?
— Элементарно простым. После окончания осмотра залов Доманская расписалась в книге осмотра на лестничной клетке между двумя дверями, ведущими в экспозиционные залы, и засобиралась домой. Дождавшись, когда Полякова зашла в одну из дверей или спустилась на первый этаж, или просто отвернулась, короче говоря — потеряла ее из виду, ведь Ирине Викторовне и в голову не приходило, что Доманская хочет остаться в музее, Аделаида Игоревна снова вошла в еще незакрытые двери экспозиции и затаилась где-то в круговой анфиладе пустых залов. Не видя больше Доманскую, Ирина Викторовна была искренне убеждена, что та ушла к врачу, к которому так спешила. Полякова закрыла залы, включила сигнализацию и ушла домой. Ночью, защищенная от любых посторонних глаз из внешнего мира охранной сигнализацией, Доманская спокойно подошла к витрине, отодвинула стекло и вынула оттуда Золотой Рог, который считала своим. А потом, наверное, протерла витрину мягкой фланелькой, как это делала всегда по своим смотрительским обязанностям.
На минуту оба друга представили себе, как она стоит в пустом зале — строгая, тонкая, седая — на фоне едва выступающих из тьмы старых портретов, и сама кажется в фосфорическом лунном свете не живым человеком, а одним из них. Принадлежащим истории музейным экспонатом. О чем она думала тогда? О своей далекой загадочной прародительнице и ее тайне? Вспоминала свою длинную, нелегко прожитую жизнь? Или думала о судьбе последнего из рода Чесменских — своем племяннике Василии? А может быть, представляла себе, как пахнет первый снег, выпавший на огороде на Васильевском острове, — снег ее детства? Кто знает?..
— А утром, — после долгого молчания сказал Стас, — когда пришедшие на работу сотрудники вошли в залы, но еще не обнаружили пропажу Рога, она тихо, не обращая на себя внимания, вышла из своего укрытия и смешалась с остальными смотрителями, будто и сама только что пришла на работу. Вот и все. Просто до наивности.
— Отказ Василия выехать за границу — продолжал Алексин, — сделал преступление Доманской для нее самой бессмысленным. Более того, как видно из ее письма, в дни после похищения она поняла, что Василий не будет счастлив, уехав к родственникам во Францию, свое место в жизни ему надо искать здесь. И, значит, само похищение Рога было ошибкой. Оно было ошибкой и потому, что Василий оказался одним из самых вероятных подозреваемых. У Доманской были основания бояться, что за ее преступление придется отвечать тому, ради кого оно и совершалось, — племяннику, надежде фамилии. Когда Доманская поняла это, она написала свое последнее письмо и приняла снотворное…
Но до этого она возвратила Рог на его законное место в витрине второго зала. После вечернего осмотра экспонатов, перед самым закрытием дверей, когда в музее уже никого не было, она, сославшись на забытую сумочку, вернулась к витрине, отодвинула стекло и поставила Рог на место. Датчик на стекле к этому времени был уже установлен, но сигнализация была еще не включена, и помешать ей никто не мог. После этого она спокойно вышла на площадку, попрощалась с дежурным научным сотрудником и ушла домой.
И когда ты вернулся из Москвы и утром, встревоженный, прибежал в музей, Рог спокойно стоял на положенном месте.
Друзья молчали. Стыл в пластмассовых чашках кофе.
— Ну, а теперь я хочу задать тебе вопрос, — сказал Стас, — как специалисту. Действительно ли этот Золотой Рог принадлежал самозванке Елизавете?
— Трудно сказать… — Саша Демич пожевал попавшуюся кофеинку. — В документах о самозванке упоминается Рог, сделанный из золота. Но никаких оснований утверждать, что это именно наш Рог, нет.
— Да, но надпись? Elisabeth, Елизавета? Ведь именно так называла себя самозванка! Разве это не серьезный аргумент?
— Ну, Стас, какой же это аргумент? Елизавета — это издавна одно из самых распространенных в Европе женских имен.
— Да, ты прав, — вздохнул Стас.
— Так что, вполне вероятно, история Золотого Рога так же, как и родословная, идущая от графа Орлова и таинственной самозванки, могли быть просто красивой легендой, придуманной в одном из поколений небогатой дворянской семьи Доманских для обоснования знатности своей фамилии и воспитания, несмотря на бедность, гордости и достоинства в своих детях. Тогда на каком-нибудь подходящем Золотом Роге и могло быть выгравировано имя самозванки, а потом в целях придания Рогу большей загадочности скрыто эмалевой росписью.
— Но ведь все это может быть и правдой? — со скрытой надеждой спросил Стас.
— Может быть и правдой… — задумчиво ответил Демич. — Но чтобы с научной достоверностью установить это, надо провести расследование посложнее, чем то, которым ты занимался, — усмехнулся он.
Стас стал серьезным.
— Знаешь, — сказал он, — мне почему-то хочется, чтобы все это оказалось правдой. А тебе?
— Мне почему-то тоже… — устремив глаза в небо над рекой, согласился с другом Демич.
В безбрежной синеве гроздьями поднимались к солнцу белоснежные торжественные облака. На реке крутобокий буксир с длинными усами расходящихся к берегам волн упорно тянул против течения чистенькую нефтеналивную баржу. Речной ветер большой прохладной ладонью трогал разгоряченные лица друзей. А из-за их спин доносился ровный, ни на минуту не смолкающий монолитный гул большого города.
Жизнь продолжалась. И, значит, продолжалась история.
Александр Потупа
ОТРАВЛЕНИЕ
— Людям не нужно видеть правду, сказала мать, — они сами ее знают, а кто не знает, тот и увидит, так не поверит…
Андрей Платонов
I
Детективная сентименталь, сказал ты, по сюжету — автобусное чтиво, не более, однако же…
Однако же, мы снова проскочили свою остановку, — ответил я, — вот в чем фокус — мы все время проскакиваем свою остановку.
II
Любопытно, как наши потомки опишут общественный транспорт последней четверти двадцатого века?
Устроят специальную экспедицию во времени?
Стоило бы.
Только на собственном опыте постигаешь то, что не дается никакими моделями и лабораторными экспериментами. Самое страшное оружие — не пистолет и даже не атомная бомба, а локоть ближнего, и чем ближе сей ближний, тем опасней его локоть.
Обычно будущие историки быстро постигают острую суть этого тезиса оглядываясь назад, не так уж сложно опознать отпечатки неукротимых локтей на многих и многих судьбах.
Великие озарения из простых ощущений — разве редкость?
Как бы внушить это озарение моей юной соседке в направлении вправо-назад?
Она невольно благодетельствует меня густым запахом «Лесного ландыша» отнюдь не худшее, чем можно дышать в переполненной консервной банке, но локоток — ее локоток! — отрастила же инструмент самоутверждения, и сказать неудобно, сам знаю, что не в такси едем, и пошевелиться нельзя, несмотря на вполне приличную комплекцию, не могу пошевелиться, даже вздохнуть как следует и то не могу.
В остальном же на автобус и внутриавтобусную жизнь грех жаловаться жизнь как жизнь, не хуже и не лучше большинства других ее форм, кое-что даже интересно, а мятые бока — не слишком высокая плата за интересные наблюдения.
Есть в автобусном ритуале своеобразная философия: переминаешься на остановке, головой нетерпеливо вертишь, и да здравствует первая утренняя радость — наконец-то подошел, родимый, и тут обычные чудеса ловкости плюс немного удачи — прыжок на заветную подножку, хватаешься за что-нибудь не слишком мягкое, могучий толчок грудью, впереди нечто сплющивается, кряхтит, но ты преисполнен правотой своего напора, ты врываешься в Мир и ты должен занять там свое место, напор бурлит в тебе: пройдите, хрипишь ты, там же свободно; хотя прекрасно понимаешь — какая уж там свобода, пальцем пошевелить нельзя, однако эффект обязательно будет — каждый инстинктивно шатнется вперед на какой-то сантиметр, и дверь закроется за твоей спиной, а не перед твоим носом — существенная разница с точки зрения самолюбия, не говоря уж о ее величестве трудовой дисциплине, здесь толковый социолог с динамометром сработал бы отличную диссертацию о наших ежеутренних подвигах во славу ее величества, незримых и неоплачиваемых.
Итак, ты попал в Мир — это уже причастность к чему-то целенаправленному, однако спина твоя все еще припечатана к двери и хорошо бы только своей тяжестью, и с вожделением смотришь ты на пробившихся, которые возвышаются в проходе, нормально держатся за поручень, прижавшись бедрами к спинкам сидений, они завоевали свои позиции, им ничто не грозит, они занимают свои и только свои кубические дециметры пространства, и сквозь них никому не придет в голову прыгать к выходу, а на сидящих ты смотреть стесняешься — это заслуженные борцы, проявившие себя еще на начальной остановке среди полусотни других, менее расторопных, теперь они по праву уходят в заоблачные выси передовиц и спортивных новостей, не заваливаются при каждом толчке, не клюют носом впередистоящего товарища, разве что редким презрительным взглядом выстрелят в явного мятежника, попытавшегося захватить своим портфелем краешек сидения — читать мешает, и остается им лишь одна забота — вовремя подняться и с наименьшими потерями покинуть автобус, то бишь Мир.
Следующая остановка — ловишь себя на странном занятии: твоя спина прижимает дверь, пневматика пищит, шипит, но твоя спина, поддержанная всей мощью спрессованного коллектива, легко справляется с этим злобным шипением, да и входить, в общем-то, некуда, фактически ты спасаешь потенциального пассажира от риска сорваться с подножки, творишь, значит, доброе дело, но и тут вопрос везения — хорошо, если на первой остановке никто не пожелал выйти именно через твою дверь, но вот двое умников пробираются как раз к этому выходу, пробиваются — сильно сказано, скорее игра в «15» без свободной клетки, обмен несуществующими местами, и ведь не влезают же друг на друга, на плечи — таинственные свойства автобусного пространства, здесь и кривизна, и черные дыры, и невесть что наименованное, бесполезно отыскиваемое физиками в прозрачном ночном Космосе, а пока замечаешь щель, в которую запросто прошмыгнул бы лет тридцать назад, приходится действовать сугубо ненаучно, и надо же — проскочил, ты уже в проходе, у тебя вполне солидное место, иная категория.
Остановка, открывается дверь, выпрыгивают двое хилых юношей, зато цепляются человек пять, выжимая из тебя тихое кряхтение: ну куда, куда, и так битком набито; однако благодаря новому мощному напору приклеиваешься к спинке сидения — это совсем высокая ступень, можно вцепиться в поручень и спокойно подумать, если б еще не локоток соседки справа-назад, и держаться было бы не обязательно, все равно не упадешь, но думать, надеясь на поддержку окружающих, опасно, не заметишь, как они расступятся и чего доброго боднешь кого-нибудь не того…
Ушло, наконец, это пожарное дело — тяжелая история, черт возьми, на сотку тянуло, вроде бы, очевидное умышленное с очевидными отягчающими особая жестокость, да и пожар мог кого-то в соседних квартирах погубить, с другой стороны, дикий какой-то сюжет, погиб-то пацан одиннадцати лет, родители — алкаши последней степени, за полбанки что угодно отдать готовы, во всей квартире четыре предмета мебели, включая сооружение, на котором спал ребенок — на подставках несколько досок, застеленных полусгнившим ватным одеялом, на лоджии пятьдесят три пустые бутылки — похоже за последнюю неделю, и сам Огурцов с месяц нигде не работает, и еще толпа набежала, черт бы ее побрал, дорогу перекрыла, смех — следственная бригада в осаде, митинг: нам их отдайте, сами разберемся; и разорвали бы на месте граждан Огурцовых, разорвали бы, ведь сучье свойство соседей — пару лет обживали новый дом, спокойно наблюдая, как гробят мальчонку, бьют, кормят от случая к случаю, пьют при нем, дерутся при нем, тут же совокупляются, а потом, когда мальчик погиб, на тебе — взрыв справедливого гнева, гневаться ведь легче и приятней, чем просто помогать, когда еще можно помочь.
И мотивы, и обстановка — все, казалось бы, в одну точку, сам Огурцов бросил работу, денег мало — на «чернила» не хватает, а тут щенка еще корми-одевай, да и как раз умыли парня и одели во все самое чистое, что было в доме, спать днем уложили, хотя и ночью обычно ему спать не давали, с лежанки спихивали, если надобность в ней возникала, очаг пожара — в ногах постели — первая, можно сказать, загадка, не слишком ли сложно, да и другое — папаша с утра пьян, курит одну за другой, окурки разбросаны повсюду, даже на антресолях, дверь осталась незапертой, пожарники подтвердили странное убийство, и сразу же забурлили сплетни: дитя веревками к постели привязано и снотворным напоено; чушь собачья, не было ни веревок, ни снотворного, все куда проще и страшней — полстакана вина перед сном полуголодному одиннадцатилетнему мальчишке, и его просто сморило, да и сердечко никудышное, астма и все такое, обгорел-то он мало, смерть от асфиксии, выключение дыхания, а уйти не смог — установлена только слабая попытка сползти с лежанки.
В общем, сто четвертая статья — убийство по неосторожности, умысла все-таки не было, был обычный пьяный приступ заботы раз в полгода, это не редкость — вдруг детеныш становится центром внимания, о нем просто вспоминают, сынульку моют, причесывают, несчетно целуют, окропляя слезьми не слезами, а именно слезьми, покупают ему сто граммов дешевых подушечек или полкило «Мишек» — в зависимости от количества мятых рублей и трешек в кармане, не забыв, конечно, прихватить бутылку-другую, и напиваются за здоровье сынули до опупения, так было и в пожарном деле — Огурцова испытала прилив материнских чувств, умыла и переодела мальчика и побежала на работу, она и потом, когда ее вызвали, выглядела почти трезвой, а папаша Огурцов решил уложить сына спать и слегка подпоил, кстати, соседи признали, что о подпаивании младшего Огурцова знал весь дом и довольно давно, обычно мальчишку убаюкивали с помощью «чернил», чтоб не возиться, а папаша Огурцов постоял над кроваткой, покачался, побормотал насчет родненькой кровиночки, слезой побрызгал и решил сделать для сына нечто необычное, решимость-то и проявилась в швырянии на пол горящего окурка, а вышло — в угол постели, потом Огурцов пошел в магазин, купил родненькой кровиночке двести граммов конфет «Ирис» и пару бутылок «Агдама» лично для себя, по пути домой встретил двух «ты-меня-уважаешь?», распили, закусили по конфетке, Огурцов собрал деньги и снова пошел покупать вино, этим и объясняется долгое, около часа, отсутствие Огурцова и недовес в кульке конфет, как всегда, все объясняется…
Потом — двадцать четыре допроса, красочный гнев свидетелей создает панораму — не в веревках и снотворном беда, это от скудости воображения, вся беда как раз в дикой простоте и обыденности случившегося, например, в привычной дозе «чернил» перед сном — это похуже замков с вампирами и любой бандитской шайки с базуками, а легенды — варианты реальности, обычно сглаживающие варианты, иногда слишком сглаживающие, что ж, сегодня последние подписи, все, конец делу, пусть суд разбирается, ахают судебные завсегдатаи, встают дыбом аккуратно прилизанные шевелюры общественности, и говорят, говорят, говорят, дрожащими умами докапываясь до причин, которые вроде бы в непросыхающих очередях за пойлом, а корни, тьфу, чертова мистика — нет корней, кому-то мерещится, что нет корней, что проблему решит хороший крестовый поход на порубку побегов, а корней нет, потому что быть не может, ладно, сегодня — последние подписи, конец делу, завтра — дежурство…
Вот и место освободилось с точки зрения Мира, то бишь автобуса, положение, жаль только, что через две остановки вылезать, с удовольствием покатался бы, все, как в жизни, очень похоже — только приблизишься к далекой цели, и на тебе — слазь, твоя, братец, станция, прямо обидно…
Осень чудесная, побродить бы по парку, чтоб листья под ногами шевелились, спокойно побродить, мысли прозрачные, позвоню завтра Лене, вытащу в парк на воскресенье, надо просто так походить, поговорить — что она за человек не пойму, то сумерки, то сполохи, но кажется, не из этих практичных девочек-однодневочек, осень чудесная, редкий сентябрь.
Пора вставать и проталкиваться к выходу, самое глупое в Мире-автобусе — проскочишь свою остановку, не успеешь вовремя выйти, тогда чувствуешь себя ненужным, а все предыдущие достижения и вмятины в боках представляются напрасными, выбраться по-людски — тоже искусство, оставить после себя поменьше злобных вздохов, отдавленных ног, спущенных петелек на чулках и нервах.
Свой кусочек пространства отсюда не вытащишь — в этом все дело, ты выйдешь, а через секунду твое место заполнится другими пиджаками и мыслями, но в самое первое мгновение в перекрестных лучах безразличных и издерганных взглядов вспыхнет там нечто вроде памяти о твоих движениях, если поймаешь этот сгусток энергии своей спиной, поймешь — не любой ценой, вот в чем суть — не любой ценой…
Подъезжаем.
Пора.
III
Денек-то какой, боженька милостивый, денек-то какой выдался.
Вроде, осень уже, а не захолаживает.
На лавочке посидеть бы малость, ведь бегаю ж, как угорелая, все бегаю и бегаю, а чего — ума не приложу.
Эх-хо, и не помянут толком-то, никто не помянет, разве что Коленька, голубочек мой, всплакнет когда…
Грехи мои тяжкие, мешок-то, словно пудами набитый, еще пару бутылочек отыщу и до дому, хватит на сегодня, хватит, небось рубля на четыре с полтиной наберется.
И как косточки мои старые терпят, хрустят, а терпят…
Все так в жизни — к терпению приспособлено, кленок вот возрос, а сколько ж ему терпеливости отпущено — и колод терпи, и хулиганов ножик терпи, и когда пьянь поганая перед тобой штаны расстегивает — терпи, пьянь эта, холера ей в бок, все от ее идет, вся погибель от ее, потому зенки свои чернилами зальют и выпенивают, весь свет перед ними наискось, будто и нелюди какие, скотина дикая.
И Сергеевна вот, что ни день плачется — сынуля за ворот заложит и в морду норовит кому попадя, хорошо, когда по моей заедет, а по чужой, так милиция хвать и поехали, только бегай, вызволение сыночке делать, начальнику ихнему слезу лей, на работе сыновой заступничества проси…
Хоть в чем мне Божечка помог — дочушек умненьких дал, ученых, и лишку не употребят, а зятья — тоже, хоть работяги и дочушкам моим не чета, а меру знают, Борька и вовсе с душой — как ни приду к ним в гости, и обходит, и усадит, и бутылочек пустых, что есть в доме, принесет, и Коленьку смотреть умеет.
Может, и непутеха он, младшой зять, живой копейки нигде не приварит, но уважением берет — Томка в ем души не чает, пылинки с его сдувает, значит, довольна, и слава те, Господи.
Как оно жизнь с людьми-то выворачивает — что Томка, что Надька прифуфыриться любят, коврик какой, стекляшечку лишнюю прикупить, но Надька-то на своего, как трактор, прет: у меня, кричит, диплом есть, а ты, дубина бестолковая, какой-такой мужик, если копейку расшевелить не можешь; зря она орет, к лишнему заработку толкает, Гена, он смешком-смешком, а и взаправду пахать умеет, серьезный мужчина…
Эх-хэ, пусто сегодня в садике, до получки далеко — не шибко разопьешься, вот к той скамеечке подойду и хватит, сил больше никаких…
Генка на другой год машину купить думает, а Надька и рада: будем, говорит, бабуся, кататься всюду — по городу и за городом, смотреть, где какие магазины, участок заведем, малину посадим, а нынче ведро малины, сама знаешь, в цене — постоишь часок-другой на рынке, и что там твои пустые бутылки, тебе, бабусенька, надо уже полегче дело делать, бутылки-то они тяжелые, а с малинкой мы тебя прямо до рынку докатим, постоишь часок, и никаких тебе тяжестей, только бы машину нам купить.
Вот тут-то он и запрятан — корень Надькин, очередь совсем подходит, а у них пока не хватает, обидно ей: надо говорит, бабусенька, полторы тыщонки добавить, ведь в долг у кого чужого нехорошо брать, потому все удовольствие потом отравлено будет, у тебя, говорит, тыщи три или больше на книжку положено, грузом мертвым застряли, а ты ж, говорит, и пенсию имеешь, и на работе работаешь, и бутылки собираешь.
А Томка — другое, до машины у них нос не дорос, та на ковер большой просит, внученьку под ножки — знает про мою немоготу внуку отказать, знает, хитрюга.
Прицепились репейники неотвязные, дай, бабусенька, дай, а я им толкую: книжку свою внучатам поровну разделить хочу, когда завещать стану, чтоб обиды-зависти между ими никогда не было, чтоб в их моя память когда всплыла, а ты, говорю, Надька, и ты, говорю, Тамарочка, давным-давно на своих ножках стоите, и помощь вам какую или подарки я всегда делаю, а деткам вашим очень к часу будет, когда женихаться пойдут, по тыще рубликов каждому обернется, бабуську свою добрым словом помянут, опять же, говорю, вас-то без всякой книжки подымать пришлось, потому мы в каких трудностях после войны были, однако ж, выучила я вас.
А Надька злобится, когда я про учение говорю: не нужен он мне был, этот техникум, кричит, я бы у станка вкалывала, по два с лишним куска имела, а теперь задницу по конторам протираю, плевала я, кричит, на инженерство свое, ты мне им мозги не запудривай.
А Томка сразу издевку учиняет: ты, смеется, соображаешь, толстопузая, что у станка вкалывать надо, горлом там план не сделаешь, а ты только горло раскроешь, и в конторе твоей начальство трясется.
Старшая, ясное дело, в накладе не останется: сама, кричит, утка общипанная, от учения хоромов не нажила, а Борька твой — блажной, еле тебя с дитем кормит, так вы дитенка-то бабке всегда подсовываете — любимчик ведь, потому бабка вам продуктов всегда накупает, так и дурень последний жить-поживать будет…
Эх-хэ, сцепятся — не уймешь, до синевы лаются, обидой-завистью друг дружку хлещут, и Надька непременно верх берет, а Томка плакать принимается, жалко мне ее, любит она своего Борю, хоть лбом об стенку, а любит, и живут же, поди, годков пятнадцать, и мужик такой — не ангелом слеплен, не досмотришь — заложит, а то и за какую юбчонку цапнет, а взгреет его Томка, так дома сиднем сидит, сына смотрит, картинки свои малюет, бумажки старые пачкает, бывает и красиво, только в толк не возьму — людей-то нелюдских каких-то выводит, сильно глазастеньких, я и не видела на своем веку, но Борьке-то, может, они и ведомы — когда совсем молодым был, говорят, по-серьезному рисовать учился, потом вроде не так жизнь его повернула, и учиться он бросил, в слесаря подался, к лучшему оно, конечно, но хоть халтурил бы малость по малярной части — добрый рублик имел бы да и какую копейку в загашник, потому нельзя мужику без загашника, никак нельзя, а то не Богу свечка, прямо, иногда по жалости трешку ему сунешь втихую, а он, как собака глазищами одними спасибкает, хоть плачь тут, а когда разок про малярство ему намекнула, озлился зятек, чуть не месяц видеть меня не желал, и Томка тогда два раза прибегала, словами последними обзывала меня, потом Боря забыл про все — отходчивый он, с душой, хотя может, и душа-то не ахти какая, но опять же вокруг Томки многие другие и вовсе без души обходятся, вот только Коленьку не приманивал бы рисованием своим, будет у мальчонки судьба колдобная — не задастся что, так и обида всю жизнь заедать станет, не слепая ж, понимаю, что Борька до сих пор на болты-гайки свои, как на проклятие Господне смотрит…
Ну вот ладушки, и набегалась, к магазинчику потопаю, сил нет, уходят силы-то.
И как мои косточки старые терпят, хрустят, а терпят…
Не буду стирку сегодня делать, завтречка перед работой успею, Бог даст, Надя заглянет в гости звать, заодно клянчить примется насчет машины, а у Гены день рождения сегодня, и меня, само собой, не звали, куда уж там, гости придут, из Надькиной конторы начальник какой-то, а бабуся — она и на завтра сгодится, подарок зятьку все едино сделает, бабусе селедочку устроят, чернилец стаканчик поднесут, а бабуся, конечно, и внучек не забудет, подарочки какие даст, а бабусе кусочек тортика вчерашнего оставят.
Эх-хэ, жизнь такая — сами шею молодым подставляем, на самих себя обижаться надобно, сами-то ой как горюшка-лихонька хватили, так хоть им полегче пусть будет, однако полегче — оно не то еще, что получше, не со всем душа свыкнуться поспевает, чего лапа гребет, ох, не совсем, иной раз хвать-хвать, это хвать, то хвать, глядишь, и душеньку свою каким непотребством заляпал, а душеньку-то не отстирать, ох, не отстирать ее.
Точно сказилась Надька, немедля машину хочет, как зайдет, прихлюпывать сразу начинает, зависти свои выговаривать: вот у племяша Петьки бабка дом в деревне продала, Петька гарнитур отхватил заграничный, да у Сергеевны будь мой язык неладен, что дочушкам про то наболтал, — у Сергеевны-то пенсия такая же и уборщицей, как я, работает, а сынуле своему, балбесу пропойному, мотоцикл купила; так он, поганец, три дня всю улицу глушил, точно под бомбежкой жили, а потом спьяну в столб въехал, чуть не полную тыщу угробил — в сарае теперь хламом валяется, а Сергеевна нет-нет и захвастает: знаете, говорит, сынку мотоцикл купила, долгов наделала, раздавать буду; а сама — гордая; поди ж ты, так и выходит нынче — почитай, полгорода на домах деревенских ездит, да свинок черноухих на стены коврами развешивает, да пенсиями нашими по переулкам тарахтят, на все не раззавидуешься, да и счастья от того прибывает ли, и Петька ведь мамаше своей кусочек хлеба едва подносит, и Сергеевна никак глаза не просушит.
А ну их к лешему, дочушек моих распрекрасных, все равно допекут нытьем своим, мне-то ничего и не надобно, похоронят как-нибудь — себя не опозорят, родственность-то они уважают, хоть и цапаются друг с дружкой, а когда праздник праздновать — на людях, значит, — всегда вместе, не любят, чтоб осудительно про них говорили, потому, оставлю себе сотенку-другую, а все, что просят, им отдам напополам — пусть свои ковры и машины покупают, завтра-то сниму с книжки и пойду вечерком Гену поздравлять, соберу их всех за столом и скажу: Генка, скажу, беги в магазин за коньячком, бес неуважительный, чтоб с любимой тещей за твое здоровье по стопочке опрокинуть; а у Генки-то глазенки на лоб полезут — не привыкший он тещу коньяком поить, не гость ведь теща, а так — дароносица ходячая, а я опять скажу: скиньтесь, детушки, с Борей по четыре поганых рублика, устройте теще угощение порядочное, а то чернила эти проклятые видеть не могу, дух у них тяжелый, недобрый дух; Боренька первый не выдержит просьб моих, у его до коньяка слабина, рассказывал, дескать в молодые годы, когда рисовальному делу учился, только и пил что коньяк, помощь родительскую по ветру пускал, вытащит он мятые рубли и Гене сунет, а тому — куда денешься? — пиджак придется натягивать и в магазин бежать, Надька плечами передернет, а Томка фыркнет только — дескать, бабуся наша совсем того, не коньяки ей гонять положено, а о душе думать, да ладно уж, придет Гена, повеселеет от свежего воздуха, да и выпивка новая есть, придет, бутылочку откроет, а я так скажу: где ж, Надька, скажу,
самая большая фужера, что я к прошлому Новому году дарила, подавай, скажу, мне самую большую фужеру; тут Надька глазом блеснет, но фужеру подаст, выпьем мы чин-чином за здоровье Геннадия Алексеича, и все на меня глазенками вспотевшими уставятся, а я нехотя вроде пробурчу: надумала я кой-что; и замолчу, и все замолкнут, аж трамвайное дзиньканье за три улицы слышно станет, потому как дойдет до их голов неповоротливых, что бабка Настя важное дело имеет, а я так скажу: надумала я кой-что, деньжонок хочу вам малость подбросить, может, по тыщонке, а может, и поболе, погляжу, как уважать станете; и ох уж, что начнется дочушки в обе щеки губами влипнут, зятья по кухне митуситься будут, как угорелые, совать на стол всякие тарелки с вчерашней закуской, ладошки потирать, а Надька, дура ошалевшая, внученек моих позовет: бегите, закричит, бабусеньку свою золотенькую целовать, по ее доброте машина у нас скоро будет; а Томка опять же в слезу ударится, мокрым носом в меня тыкать, словно щенок какой — радость всеобщая получится, а я хоть коньячку малость пригублю, потому как с Тамарочкиной свадьбы не пробовала, и светло станет вокруг, словно не кухня замызганная, а площадь соборная, и все прощают друг дружке, будто обиды светом смывают и чище от того становятся.
Так и сделаю, ей-богу, так и сделаю; пусть минута светлая посетит моих дочушек, да и меня напоследок…
Завтра постирушку устрою и в кассу побегу, нет, лучше сначала в кассу, чтоб неусталая была.
А мешок — пудовина проклятая.
И как косточки мои старые терпят, хрустят, а терпят…
IV
Фу-у, сил моих нет, поуходили, наконец.
Полсотни тарелок, горюшко горькое, и как эту мусорную яму разгрести?
А Генка, паразит, дрыхнет себе, насосался, комар плешивый, еще бы целый ящик спиртного угробили.
Сорок пять Генке, сорок пять, и мне вот-вот столько же стукнет, и куда годы торопятся, морда оплывает, груди — хоть в футбол гоняй, и Мишке, чувствую, наплевать, раньше и мимо не пройдешь, чтоб лапа его куда-нибудь не заползла, а теперь скалится, морально устойчивый стал, галстучек в горошек, быть ему большим начальником, как пить дать…
А Томка, дрянь такая, могла бы и остаться, хоть словом перекинулись бы — все легче, и с посудой помогла бы, мелкая она баба, сестреночка, зря я ей доверилась, да назад не вернешь, ловка все-таки, тихая-тихая, а достанет чего душе угодно, всюду влезет, вот и эту штуковину добыла и в кусты, не знаю ничего и знать не хочу, хорошо хоть вместе идти согласилась, а то все шишки на меня.
Борис ее совсем чокнутый стал, ну чего он в Мишу вцепился, ну не понимает Миша этой живописи, и фиг с ней, так ведь и Борька — недоучка несчастный, все старые тряпки Томке перепачкал, хату свою сверху донизу замалевал, бездельник он, одно слово — блажной, мой-то хоть немного варит, дубина, конечно, поговорить не о чем, но рубль чует, как пес, ни одной халтуры не упустит, только характера семейного совсем нет, деньги принесет, в кресло завалится, и хоть кол теши — никуда не вытянешь, ничем не расшевелишь, знает же, паразит, что у меня с Мишей шуры-муры, а принимает его с поклончиком — все ж начальник отдела, а чего кланяться-то, ведь Мишка в наших чертежах ничуть не главней, чем Гена в своих унитазах и тройниках, а уж имеет Гена раза в полтора больше, и то, когда на халтуру не сильно жмет, и собой Гена не хуже, и приодела его в импорт, и говорит более или менее гладко, правда, молчит больше, однако ж про восемь классов ни один черт с виду не догадается, и жена у Гены, тьфу-тьфу, покраше, чем мухоморная Мишкина телка, а вот поди ж ты: натура такова — раз кто начальник, значит, важнее тебя, вроде иконостаса бабкиного для поклонов предназначен, дурная натура, терпеть не могу, ведь в Мишке и цены-то всей, что в себе уверен, а умишком не силен, когда в колхозе ухаживать начал, такую пыль пускал — заграницы все объездил, с министром знаком, а сам-то и до Бреста не доезжал, и про жену свою околесицу сплошную нес, черт-те что городил, ох, мужики, паразиты…
С тарелками вроде все, а вот гусятницу неохота чистить, как канцелярским клеем шкварки поприлепливало, а мыть-то все едино надо, завтра не до того будет, какая уж там посуда, и узор на той тарелке какой-то поганый, ядовитый узор, точно — ядовитый, холера ей в бок, этой Томке, даже тарелку приличную для такого случая выбрать не могла, жена художника называется, фуфло безвкусное…
А Петр Антонович — забавный такой мужик, эх, сбросить бы годков десять, и здорово он компанию веселит, надо Машутку вместе с ним еще разок затащить, сходу анекдотами сыпать стал, до всякого выпивона всех ржать заставил, чего он там, ага… приходит муж домой, а из-под дивана, что-то там из-под дивана, нет, не то, да и что кроме пыли найдешь под нынешним диваном, какого там любовника — это уж не любовник будет, а камбала, хэ… вот и анекдот, как же их сочинять просто — приходит муж домой, а под диваном камбала, а он спрашивает жену: где достала? а она: в магазине; а он: в магазине окуня давали; и в морду ей, смешно…
Тошно.
Все тошно, особенно, когда чернил нажрутся, оно дешево, конечно, но… но сколько ж эти мужики в себя портвейна вливают, будто пойло и взаправду на вино похоже, но при их аппетитах им водочкой или марочным вином баловаться никак нельзя — семьи по миру пустят, паразитство сплошное, но что ему, мужику, на свободе делать-то, баба по хозяйству жарит-варит, какой выходной — детки, стирка, глажка… ох-хо, а мужикам только б чернил нажраться — какие у них еще желания? — разве телек поглядеть, ну, час глядит, два, надоедает, и правильно, сама не выдерживаю — то трам-бам-тара-рам, то физиономии какие-то из космоса улыбаются, им-то хорошо, чертям, разок слетали и работать не надо, небось все имеют без очереди, посидели бы в нашей конторе с восьми тридцать до семнадцати, да в обеденный перерыв за сосисками с кошелкой побегали, знали бы, как ручкой махать…
К черту все это, тошно, перехватила сегодня, нервы-то, нервы, с виду только — железная баба, ну ничего, скоро машина будет, участок получим, клубника, машина, благодать, с работы удеру, уже и стаж за двадцать, и доходу побольше получится, здоровья сберегу целый воз, Люська скоро невестой станет, школу через год кончит, устраивать куда-нибудь надо, устроим, конечно, и замуж отдадим, а там — пару лет, глядишь, и Наташенька вслед за сестричкой, поживем спокойно, в удовольствие, только б ребята хорошие попались, это ж каждой надо на кооператив дать, не сюда, ясное дело, с зятьями тянуть, ох-хо, вот и зятья скоро, и внуки — отгуляла, Надюша, отгуляла свое, ну и Бог с ним, зато поживем с Генкой тихо, руки у него что надо, дачу хорошую сладит, будем по полгода на природе торчать, по грибы ездить, внуков посмотрим, а баба Настя прабабкой станет…
Станет.
И у меня две дочки…
Только б зятья тихие попались, непьющие, вроде Бори и Гены, Борька, конечно, многовато закладывает, но не алкаш, другое плохо — юбочник он, паразиты мужики, а Гена — совсем ангел, тусклый малость, но жить с таким можно, по праздникам, конечно, как все — нарежется, но в неделю не гуляет, припасешь бутылочку чернилец к воскресенью, он и рад, никаких заначек не держит, хоть и тряпка паршивая, а хорошо, чтоб кому из моих — хоть одной бы — такой достался.
Лишь бы не алкаша в дом, все выгребет, еще и спалит, вот и Петр Антонович рассказал кошмар какой-то — костер под кроваткой устроили и собственного дитенка к ней привязали, паразиты, зверье, в чистенькое одели, даже помыли перед тем, сынок пить им мешал, кушать хотел… у-у-у, гады мерзкие, сама бы стреляла, говорят, перед сном вина ему дали, десятилетнему-то это почти такой же, как Томкин, тьфу, кошмар ночной, и еще оправдывались — мы, дескать, ни при чем, мы не поджигали, денег, видишь ли не хватало дитя кормить, ну и отдали бы в детдом, паразиты сумасшедшие, а пили-то каждый день у всех на виду, люди, они все видят, не скроешь, недаром на месте прибить их хотели, так милиция пожалела, от соседей защитила, вот таких-то и защищают, совести хватает, отдали бы народу, народ бы на клочки разорвал, ведь дом подожгли, мало — сына своего, так ведь дом спалить могли, соседи наживали-наживали, по копеечке скребли, может, кто и застраховаться не успел, и все прахом, да тут на месте голову оторвать мало, я бы костер под ними развела, чтоб помучились как следует, и что за родители на белом свете — неужели для детей чего жалко, я — так все отдам, не то что баба Настя.
Фу-у, вот и гусятница готова, а сколько еще всего, наверное, уже час ночи, выспаться следовало бы, может, и высплюсь, до самого Томкиного прихода дрыхнуть буду…
Ну чего мамаша скопидомничает, Плюшкина корчит, неудобно прямо, ходит за пустыми бутылками по всему городу, как нищая или как алкаш натуральный, пенсия есть, работает, всегда свободный рубль имеет, так вздумала ж внукам наследство оставить, надеется — помянут ее внуки, как же, помянут, мои-то Люська и Наташа, поди, и меня не вспомнят, хотя бабку они, конечно, любят, но любовь внуков, как дым, смерть дунет — вмиг улетучится, и чего мамаша жилится, дала б сразу на эту злосчастную машину, и все хорошо, а то решила три книжки до совершеннолетия устроить, пока то совершеннолетие наступит и очередь проскочит, и вообще неизвестно, сколь машины стоить будут, да и чего рубли солить, другие вот машины и дачи деткам покупают, вроде нашей Климовой — без году неделя, сопля щенячья, только из института, окладик курам на смех, а глади ж шубка — тыща, кооператив — три тыщи, гарнитуры тысяч пять, муженек такой же сопляк, двадцати пяти нету, на «Жигулях», паразит, ее возит, все понятно — папаши-мамаши, наследственное, это ж лет через двадцать, к нашему возрасту, миллионерами Климовы будут, если с такого фундамента начинают, не то что мы — своим горбом, везет же людям.
Спина ноет, не та Надюша стала, ох, не та, раньше три дня подряд дела могла вертеть — хоть бы хны, и плясала еще, как на Томкиной свадьбе, а теперь ерунда, может, оставить эту грязь, не так уж и много тут.
Может, и холодец выкинуть?
И завалиться на боковую часиков до десяти утра — гори оно все огнем, не угнаться мне за Климовой, ни за кем не угнаться, даже за Томкой, она хоть Бориса своего обожает, ей лучше, а я кого?
Дочки уйдут, забудут, а вспомнят — внуков подкинуть, деньжат стрельнуть, подарок получить.
Ох, баба Настя, скоро и я бабой Надей стану, и о моих тыщах детки размышлять будут…
Пойду-ка спать, а то натворю чего-нибудь, страшного чего-нибудь натворю.
V
Куда это я иду?
Ах да, в парикмахерскую.
Глупо Надька придумала, сейчас и парикмахерша на морду взглянет испугается.
Уже или нет?
Руки потные, надо спешить, отпросилась на часок — ерунда, время-то известно, ну, парикмахерская, ну и что?
Не дури себе голову, так должно было случиться, должно было случиться, должно, и все.
Ничего страшного, только бы не расклеиться.
Надо бы сосисок прихватить по дороге, из-за Надькиных именин ничего не сготовлено. Боря на работе перекусит что-нибудь, а вечером сосиски сварю, бутылочку куплю, не скажу за что, просто куплю и на стол поставлю — он обрадуется. Коленьку в постель пораньше загоним, сосиски сварю, бутылочку охлажу, Боря холодненькое любит, горчичка есть — чего еще надо? — Боренька потом целоваться полезет, будет полчаса в лифчике копаться, хорошо…
А завтра хлопоты начнутся, а может, и не завтра, Надька скажет когда, она обещала, все равно когда, теперь уже все равно когда.
А если возвратиться бегом, лётом — успею, наверное, успею, она руки еще не обтерла, ну, чего же я думаю, ну…
Тьфу, нервы проклятые, прохожие оборачиваются, это плохо, глазастые какие-то, вдруг прибегу, увижу, заору, точно заору, ужаса не выдержу, куда мне, слабачке, нельзя, уже поздно…
И правда, сосисок раздобуду, сварю, винца выпьем с Боренькой, я в его руки зароюсь, мягкие у него руки, быстрые, прямо вся у него в руках пригреешься, ничегошеньки не надо, так и усну, и не приснится ничего Боренькины руки все сны всасывают, никогда снов не видела, если в руках его засыпала.
Жизнь мутнющая, скукота, носишься, как машинка заводная, из угла в угол носишься, а для чего, спрашивается, ведь осточертели эти чертежики-мутожики, только и думаешь, чтоб на бюллетень смыться, день-деньской бы жарила-парила, Коленьку тискала, а тут — черти, как проклятый, перерисовывай.
Судьба хитрозадая какая, ведь Боре — хлебом не корми — карандаш или кисточку дай, день подряд рисовать будет, а меня через полчаса скукотища за горло хватает. Надька хоть наорется на службе вволю, а тут только и глотаешь пыль, и зарплата ерундовая. Борька ни о чем думать не хочет, плевать ему, что потом будет, хоть бы халтурку какую брал, с его-то ремеслом — где-кому покрасить, да и слесарить бы мог — на копейку дела, а как загребают, другие уже на своих «Жигулях» на халтуру выезжают, не то что Борька.
Хочет, чтоб спокойно ему было, чтоб жизнь вокруг не шелохнулась, потому и от рисования отступил, бутылку уважает, поганец, и смеется: все, говорит, художники лакают; так ведь и не художник он, выколотил он из себя свое дело — то не удалось, это не пошло, выколотил, слабость, она чего хочешь выколотит.
А Петр Антонович, длинноносый этот гоголь, Надькиной подружки любовник, рассказывал вчера про пожар — ужас какой-то, в кино такого не увидишь, в книжке не прочтешь, ведь надо ж — сына родного сожгли, как Коленька или помладше немного, кого хочешь жги, но ребенка!
Алкаши дурные, мамашка, говорят, на вокзал ездила, мужиков ублажала, когда рублевки какой на опохмел не хватало, а супруг терпел, да что терпел — сам же пил на эти деньги, скот свинский…
Тьфу, чтоб он лопнул с его свистком, точно иглу в ухо сунул, на красный свет лезу, улицы не вижу, совсем баба спятила — руки мокрые, только что не капает с них, хорошо хоть не подошел ко мне штрафовать и отчитывать, разревелась бы, тютя несчастная, слабачка.
Интересно, если бы мне на вокзал пойти или так какого-нибудь дядьку подцепить, чтоб Борька знал, побьет или обругает?
Может, и не обругает — плевать ему на все, мне вот не плевать на него, а ему — с высокой вышки, ей-богу, не любит он никого, кроме Коленьки, меня не любит, когда женились, талант свой потерял и весь интерес потерял, с трещиной он, оттого и ласковый — в бабу, как в пьяный сон ныряет, вынырнет, фыркнет и опять дела ему ни до чего нет, потому и изменять ему не интересно. Надькин тюфяк, так он хоть пару раз морду женке бил, Надька в синяках, как в печатях ходила, смирный Генка, смирный, а только взорваться умеет, а Борька все терпит, себя самого со счетов списал, а остальное и терпеть легче, не хочет по жизни митуситься, а вдруг он и прав, и не надо митуситься — прожил себе без мучительства, и хорошо, туда ведь праведность свою не утащишь.
А если ему про все рассказать, вот лупал бы глазенками, вот лупал бы, перекосился б, точно перекосился, и ведь презирал бы меня целый месяц, а то и побольше.
Жизнь мутнющая.
Ну, хоть тут повезло, совсем очереди нет на прически, хоть тут повезло…
VI
Везет мне…
Чтоб оно провалилось такое везение, наверняка мертвое дело, внешне просто, как детективный роман, а по сути похоже на многомесячный лабиринт.
Явно какое-то соучастие родни, хуже не придумаешь, чаще всего взаимная утопиловка, получается, иногда такая пена из вранья взбивается — диву даешься.
Впрочем, прокуратор Ваня заберет это дело, есть основательные подозрения, что заберет, не оставит, и поскорей бы забрал.
Глаза закрою — трупы, глупость какая-то, в машине же сижу, кругом дома, троллейбусы, лица, город в спешке крутится, а закрою глаза, и трупы, то ли опыта еще маловато, то ли просто нервишки, рефлексы, черти их побери, точно как тогда, с пацаненком обгорелым.
С первой минуты — прозрачное дело, валяются два здоровых гражданина, горьким миндалем несет, недопитая бутылка «Агдама», вторая и не откупорена, только по полстакана и успели, на столе еще огурцы, холодец расковырян, сало толстыми ломтями нарезано, бабка на грани помешательства кудахтает: дочушки, дочушки; странная бабка, совсем слезами залилась, увидел, как из шкатулки деньги достала, так и стукнуло сразу — ради денег постояльцев отравила, документов при трупах не обнаружено, но такое как раз бывает и с теми, кто на минутку в магазин выскочил, и с теми, кто пятый год на дне без ксивы отлеживается, но здесь похоже на первый случай — руки у граждан не фраерские, с железками долго возились, да и вещей мужских в доме не видно, и постелей лишних нет…
Потрясающая девчонка на остановке, нечто парящее, консерваторское, нет, не то, нельзя, чтоб консервами пахло, может, театральное, в скорее всего, обычная мисс Такая-то Контора или мисс Первый Курс Политеха, и мама трясется, когда лифт после одиннадцати хлопает, с ума сходит: все они одинаковы, доченька, своего добиваются, будь умничкой, не огорчай свою мамочку; цветная вырезка на стене — какие-нибудь лабсы-фигляры, акустические приставки к музыке, а может, правда — парящее, стихи читает, пианино, свечи, жаль, что зеленый глаз загорелся, не всегда хочется видеть зеленый свет…
Что же произошло?
Неужели обычная сотка, пункт «а»?
Скажем, ясно, что не постояльцы, на то и соседи — муха от ока их недремлющего не скроется, спасибо Патрикеевой, памятливая гражданка крупнокалиберный пулемет какой-то — чуть всю историю улицы не выдала, летопись ходячая, все и про каждый двор, что уж тут утаишь, зятья — в этом соль, потому-то и причитала бабка про дочушек, контраст — двое цветущих мужиков на тот свет упорхнули, родители, может быть, живы еще, а вот для тещи это горе — полгоря, главное — дочки во вдовое положение перешли, внуки сиротами стали, свое — самое больное, свое горе главней чужого психология, ничего не поделаешь.
Так за что же она зятьев ухлопала?
И поверить трудно, что она, ведь циана достать — попробуй, по Анастасии Кузьминичне не скажешь, что такая разворотливая, по внешности, конечно, а в остальном и почище чудеса бывают, опять-таки сотая статья выходит — умышленное убийство двух или более лиц, пункт «г», а могло ведь и более получиться, мог и кто-нибудь третий к вину или к закуске подойти, например, дружка захватили бы, впрочем, если вдуматься, так и есть — более, две семьи без отцов, а дети, должно быть, большие, подростки, мамаши начинают великую битву за сохранение жизненного уровня, чтоб штанов и юбок деточкам не меньше купить, а деточки — сами по себе, тут-то и проявятся настоящие отягчающие, а еще вариант — одна из жен в психиатричку попадет, хорошо еще оправится и работать потом сможет, а иначе и вовсе конец семье; была семья, обедали вместе по воскресеньям, телевизор смотрели, пуговицы теряли, велосипед к майским купить обещали, и на тебе — крах, как при моем первом убийстве, жена так и не пришла в себя, труп увидела и с тех пор словно в другой мир скатилась, любила или просто свыклась, срослась, опасно срастаться, но кому такое посоветуешь, дескать, не срастайся, вдруг супруга твоего ножом пырнут, да, дела…
А дело прокуратор Ваня точно заберет, все-таки особо опасное — утечка ядов, двойное убийство, вполне прокурорское дело.
Приклеилась же к Ивану Константинычу забавная кличка — руки мыть любит, чистюля, убежденный гигиенист, и плохого, разумеется, ничего нет, труп — не облако, да и об облако по нынешним временам нетрудно испачкаться, к тому же Пилат не столько мыл, сколько умывал руки, не ведая что творит, и ведать не мог, всегда ведь есть риск, что на тысячу лжепророков один порядочным человеком окажется — в этом вся опасность, потому и судить так трудно, известны какие-то закономерности, попробуй их каждый раз использовать, недублируемый это эксперимент — человеческая жизнь, не всякий пророк — демагог, а в среднем — каждый, вероятно, пророков в среднем вообще быть не может, такому в лучшем варианте светит роль конферансье в чужой политической программе, средний пророк для среднестатистического зрителя, возможно, на этом и поскользнулся прокуратор Иудеи Понтий Пилат, увлекся усреднением, однако в историю попал, не знаю попадет ли Иван Константинович, то тяга к усреднениям у него феноменальная, даже когда в шахматы играет — не игра, а сплошные цитаты из классиков, общая оценка по общим принципам, люблю у него выигрывать, получит мат и начинает объяснять, что мат нетипичный, вроде и не мат, недоразумение, отклонение от нормы, а что есть норма, на сколько процентов жизнь наша из отклонений состоит, а в нашем деле поневоле становишься специалистом по отклонениям, бедняга Иван Константинович — не его это стихия, из себя выходит, когда атаку на короля не по правилам ведут, а уж нарушение закона необычным способом для него личное оскорбление, сейчас мало кто помнит, что и кличку свою Ваня недаром заработал — на крупном хищении дефицитных материалов в медицинском НИИ, по сути же, руководство решило свести счеты с одним толковым малым, который изобрел очень полезную установку, допустив при этом две тяжелых ошибки, во-первых, заставил установку действовать, а во-вторых, что гораздо хуже, вполне откровенно объяснил на ученом совете, чем занимается лаборатория одного неприкосновенного зятя, дирекция задергалась, но быстро пришла в себя и попыталась показать — смотрите, дескать, кто критику-то наводит, древний приемчик, еще на новгородском вече за такие приемы на месте морду били, но теперь время интеллигентное, и весь фокус, на который попался молодой и активный Иван Константиныч, состоял в дикой путанице с документацией, ясно было только одно — изобретатель дефицитные материалы действительно применял, причем ровно столько, сколько требовала установка, хоромов не нажил, нажил предынфарктное состояние, ибо не мог доказать, что материалы отпускались ему по устному разрешению, попробуй подшей к делу давно угасшие колебания воздуха, тем более, материалов изобретатель на копейку взял, а куда девалось все остальное — другой вопрос, но Ваня добросовестно поработал, директора под выговор подвел, а вот проблему изобретателя решил чисто по-пилатовски — ввиду отсутствия серьезного криминала передал дело на рассмотрение администрации и общественных организаций, и оказался изобретатель в положении мелкохищенца, словно палку колбасы с мясокомбината уволок, полежал месяц в больнице и подальше от сраму уехал, а зять, между прочим, остался…
Расстроился сегодня Иван Константиныч, когда сберкнижку бабкину обнаружили, тютелька в тютельку — две тысячи восемьсот рублей снято, как в шкатулке, и поплыла сразу очевидная версия, опять какие-то отклонения назревать стали.
Останови я сейчас машину и скажи кому-нибудь из бегущих по своим неотложным делам, что сзади у меня два тела с ранними трупными признаками, а впереди — тяжелый разговор с вдовой или с двумя вдовами сразу, ошалеет человек, не вяжутся такие отклонения с этим сентябрьским днем, ясным и гладким, но поговори с человеком полчаса и начнется другое — каждый ведь уверен, что он сам и только он — настоящее отклонение, и неприятности у него необычные, и радости не как у всех людей, и заслонит все это мои трупы, останутся малые детали, душещипательная сплетенка для друзей и соседей.
Сильна эта Патрикеева — все про соседей знает, даже адрес старшей дочки; на месте опознание устрою, а завтра дело уйти может, будет прокуратор Ваня в нем копаться, тещу допросами зондировать, он, кажется, вполне убежден в ее причастности, но если не из-за денег, то зачем же она так — или дочек заедали? — да ведь обычно мать к терпению призывает хранить мужика в доме — лучше уж с мордобоем, чем без мужика, если приходит и на стены блюет — ничего, если совсем исчезнет — плохо, поганая психология, в сущности, комплекс неполноценности, но факт, почти универсальный факт семейной жизни, капитанского мостика мужик в основном утратил, а другого места не нашел, к детям приспособиться трудно, к хозяйству — тем более, мужик — охотник, а корму он добывает не больше, чем жена, толку от него в семье и подавно меньше, крупное дело далеко не каждому по зубам, так и идет — к чему, собственно, идет? — что-то тут не додумано, нельзя равенство превращать в тождество, несложно и до абсурда досчитаться, а всякая проверка вызывает истерику: ах, так ты не уверен, что «а» равно «б», значит, ты — анти-а или анти-б; чертовщина какая-то, есть ведь закрепленная традиция, физиология, наконец, вот и хороший повод задуматься насчет равноправия, сами же дамы плюнуть норовят, когда мужчина растворяется без остатка в быту, сами же бутылочку подсовывают, чтобы в глазах его какая-нибудь искорка мелькнула, чтобы рука назойливей стала, чтоб зарычал по-хозяйски, на худой конец, но лев в зоопарке — это лев в зоопарке, не царь зверей и вообще не зверь, неохота ему публику развлекать, даже размножаться неохота, помирает от тоски, а мужик, тот не помирает так сразу, все-таки — эволюция, цивилизация, он в магазин идет, потом к таким же зоопарковским в подворотне бутылку половинит, и елки-палки — чудо, ни втыков на работе, ни супружеского жужжания: вот люди ж-живут, вот люди ж-ж-живут; ни боли зубной, ни нравоучительных посиделок у родственников, а сплошная свобода и мужское взаимопонимание; это только завтра будет; я смену и ты смену, я в магазин, а ты — стирку; а потом: какой ты мужик, в каждую кастрюлю нос суешь, за каждую мелочь цепляешься; а куда ему нос совать, за что цепляться, какой он, в сущности, мужик, так полуавтоматическое приспособление для дома, для семьи, бесплатный комментатор передачи «А ну-ка, девушки!»: ты за рыженькую, а я за худенькую, очень симпатичная, да нет, я не в том смысле, ну ладно, ладно, будем за рыженькую письмо писать; братец ты мой, Тимоша, и жалко мне тебя, и не скажу ничего — поздно уже, не проснешься, да и с Натальи твоей вполне станет письмо в «Вечерку» накропать о моральном облике советского следователя, который устои образцовой семьи подрывает, а ведь писал же ты, Тимоша, нечто поинтересней писем в поддержку рыженькой — «ее отличает высокая эрудиция и любовь к любимому делу», и ничего, кроме яиц, варить не умел, а теперь чахохбили готовишь в трех вариантах, прогресс, Тимоша, прогресс…
Что же будет?
Два ручья слез или похуже — сухие глаза и гипсовая маска оторопи, именно оторопи, не ужаса, ужас потом придет, при опознании, лучше три перестрелки, чем одно оповещение родственников, ничем ведь не поможешь, разве что воды поднесешь, за черту беды человек только один ступает — из одной своей жизни в другую свою жизнь, что-то сразу ломается, что-то остается и жесткой тягой тянет назад, в ушедшее, как будто испытание на разрыв, а чем помочь, чем тут помочь, в чужую жизнь не впрыгнешь, как в уходящую электричку, попробуешь — наверняка расшибешься.
Случайности здесь, конечно, нет, цианистый калий на дороге не валяется, пути его добычи найти можно, но надо специально их искать, ради шутки не станешь бегать по темным личностям и бешеные деньги платить, пакостное дело эти утечки, где-то работает канал и просачивается не какая-нибудь ерунда, а смерть в чистом виде, даже не «французский ликер» из антифриза, догадались же сыграть на любви к импортным наклейкам, хитрые мошенники — не больше ста граммов этиленгликоля на бутылку, остальное сладенький сироп и легкая парфюмерия, и почти тысяча процентов чистой прибыли, не могли только рассчитать всех вариантов пьющей души, например, что найдется идиот, который с горя выдует две бутылки этой гадости, закупил, видишь ли, к десятилетию свадьбы, а жена, не дожидаясь юбилея, попросту сбежала — получилась смертельная доза любви, как сказали бы в прошлом веке.
С цианом пока сталкиваться не приходилось, хотя ясно, что под хороший спрос каналы найдутся, нашлись ведь в этой недавней истории с наркотиками сестричка, хорошенькая, как юная богиня, а уколы больным делала водичкой, безобидным дистиллятом, и наркотики дружкам загоняла, она — ампулу, ей сапожки, она — две, ей — пальтишко, зарплаты с гулькин нос, помощи ниоткуда и никакой, а одета как принцесса, и все ноль внимания, она уже на круиз в очередь записалась, а все — ноль внимания, лишь постепенно врачи догадываться стали, больные уж очень нервно вели себя во время обследований, требующих приличной наркотической инъекции, а водичка, конечно, не действовала, поставили ловушку, нас вызвали, а она в слезы: а что мне делать, кричит, как мне одеваться прикажете, вышла б замуж за толстый кошелек — все поздравили бы, а тут — в тюрьму; с изгибом девочка, спросили ее: понимаешь, что такое наркотики? то же самое убийство, заживо ведь убиваешь; а она: хотят из жизни уходить, говорит, пусть уходят, не держу, да и вы не удержите…
Трудно удержать, это так, трудно, особенно когда помощи никакой и ниоткуда, расплющивают обстоятельства человека, мерка теряется, ради мелочи сиюминутной готов черт знает что в мир впустить, зажалеет себя, жалость до полного распада защекочет, и тут ему любой капли достаточно, вся вселенная в одну точку сжимается — в очередное желание, ни прошлого, ни будущего, одно настоящее с раззявленной пастью, попробуй насытить ее, все туда бросаешь, самого себя бросаешь, а пасть щерится, ухмыляется: мало, мало; еще хочет, но с другой стороны, девчонке-то сапоги в две ее зарплаты не кажутся мелочью, она за честь почитает препятствия устранить между собой и сапогами, даже если чья-то жизнь от того перекосится, и не нашлось ведь праведника, который вовремя спросил бы: откуда, золотце, на ножках твоих сапоги в две зарплаты; но не хуже ли другое — грешника не нашлось, который с другим вопросом и чуток пораньше к ней подошел бы: а как же ты, милая, на свои семьдесят четыре чистыми обуться-попудриться сумеешь, чтоб рубликами и шоколадками не пачкаться, чтоб ненароком дефицитную ампулу в кармашек не сунуть; меня бы спросил, другого, третьего, всех спросил бы, смотришь, и ответ нашелся, только редкость — грешники, исчезают они в самый неподходящий момент из нашего окружения, и из истории вдруг исчезают, тогда что уж девчонка — целые народы пускаются сметать препятствия между реальностью и благоденствием своих фюреров, и банальные хищения, мошенничества и убийства превращаются в патриотический долг, не нашлось поблизости ясновидящего грешника для несостоявшегося актеришки или недоучившегося учителишки, зато потом во множестве являются праведники: за счет чего бомбы делаешь, почему так много концлагерей строишь; да поздно всеобщая эйфория, глаза, уши, желудки — все наркотиками переполнено, что там десяток ампул…
Вроде бы этот дом, на пятом этаже, может, и нет никого, может, она на работе, лучше б — на работе, еще час, пока узнаю, дозвонюсь, подъеду, еще целый час он для нее жив будет, будет, поросенок этакий, рублевку прятать, за брюками в химчистку бежать или доставать что-то очень необходимое, будет жить, торопиться домой, улыбаться, хотя он уже никуда не торопится и ничему не улыбается, блаженно неведение, иногда три десятка лет ждут пропавшего без вести, и после похоронки ждут, но труп перед глазами — это черта, та самая, через которую перешагнешь и нет лазейки назад.
Значит, Надя, Надежда Васильевна; бедная Надежда Васильевна, чем же тебе помочь?
VII
Подвела, сучка поганая…
Кошмарное дело выходит, какого ж черта эти паразиты несчастные к бабке поперлись, неужели дома опохмелиться не могли, закуски ведь — холодильник лопается.
Знала я, чуяло мое сердце — подведет эта слабачка, разнюнилась, выла бы втихую, Борьку-то не воскресишь — каюк ему, так в крик ведь паразитка ударилась, первый раз вижу, чтоб эта тихоня так орала, и визгу, точно свинья под ножом, да еще царапаться, морду бить родной сестре, психичка, одно слово — психичка недоделанная…
А следователь — проныра, сразу все ему ясно стало, иначе не морочил бы меня допросом после такого случая, пожалел бы, нет не пожалел, догадался паразит, по минутам мой день высчитал, а что толку с моего вранья, Томка сей же момент, как в себя придет, все выложит, да и бабка жива — конец тебе, Надежда Васильевна, кругом конец и просвета не видно.
Как быть, как быть-то теперь, куда деваться?..
Ну, выскочу я отсюда, побегу, куда побегу, зачем: найдут, да и не выскочу, наверное, пропуск какой-нибудь нужен, коридор противный такой, серый весь, плакаты, плакаты, плакать хочется от всех этих плакатов, сейчас они Томку в чувство приведут, как орешек гнилой раздавят, и давить-то нечего, рассыплется Томка, от первого же вопроса рассыплется, на меня все свалит: Надька подговорила, Надька холодец сделала, Надька яд запустила, Надька мамочку покушать уговаривала, а я, дескать, чистая вся, застенчивая, сестре старшей боялась перечить, у-у, стервь, слабачка поганая, а кто ядик-то приволок, кто про холодец придумал, где-то ж достала эту ампулу, если б не достала, разве случилось бы такое — не подушкой ведь мамашу душить, не топором же рубить, даже подумать противно, так и жила бы потихоньку, и никаких дел, никаких милиций, померла бы баба Настя без нашей помощи и внукам бы по тысчонке оставила, и машину на следующий год купила бы, а главное, чтоб Генка был жив, да он за год побольше бабкиного состояния зарабатывал, и для чего я все дело затеяла, да еще с этой дурой, ни дна ей, ни покрышки глупой бабе, обеих нас в тюрьму засунут, а то вдруг не тюрьма — целых две смерти устроили! — следователь что-то про умысел говорил, но какой же тут умысел, мужиков-то никак гробить не собирались, а вдруг и взаправду — высшая мера, и вот же паразитство — меня приговорит, а Томку жить оставит, она признается, все им выложит, на меня с три короба навалит, а я запиралась, следователю врала, на меня все бочки и покатятся, кошмар какой-то — придут здоровые бугаи с ружьями, стрелять в меня будут, пули мою грудь в клочья изорвут, кошмарушка какой…
Что делать, что делать… хоть бы поговорить с кем, выплакаться, а слез нет, глаза пересохли, в голове свист сплошной, вдруг Томка не скажет ничего, тогда на мамашу подумают, вот что надо — пусть на нее и думают, ей уже все равно, да и не расстреляют, скажут: старая, пожалеть надо; а ей разве не все равно где помирать — дома, в больнице или в тюрьме, а нам, а мне — не все равно, молодая еще, пожила бы, девчонок на ноги поставила, при них век свой коротала бы, а вдруг они тоже — холодец, нет, все бы им отдала бы до последней копеечки, только б жить тихонько, воздухом дышать, коридора этого не видеть.
Что же с доченьками будет?
Люсенька бойкая очень, целовалась уже, очень бойкая, свихнется доченька, как пить дать, да еще хата отдельная, парни узнают — тучей налетят, и Наташенька не удержится, вот горе-то, а бабка уследить за ними не сможет, да и переживет ли такое?
Как быть, как быть, хоть в стену эту серую с разгона головой шмякнуться, и все — ни мыслей тяжелых, ни Надюшки, бедовой бабы, ох-хо, не за тот конец ухватилась я, не за тот конец, и ни в ком оправдания не увижу, девоньки мои не поймут, что для них же старалась, подумают, что приданое их разграбить хотела, наследство бабкино увести, не поймут, дурехи, что наследство без толку пролежало бы, а машины тем временем не дешевеют, в моих руках оно в рост пошло бы и для них же послужило, им и досталось бы кому ж еще, не поймут, ничего не поймут, охают меня, не примут никогда.
И Мишенька не вспомнит, нет, не вспомнит, и без того давно уж остыл, а тут и про знакомство забудет, стесняться станет…
Все отрезано, как ножом острым, отрезано и точка, никого не найдется, кто с добром обо мне подумает, и подумать некому будет и передачку послать.
Есть хочется, до чего же есть охота, кто бы знал, хоть домой бы отпустили на часок под честное слово, холодильник там от жратвы лопается, поужинала бы с дочками в последний раз, попрощалась, вещичек каких собрала, квартиру пропылесосила немного — все легче, чем сидеть в этом коридоре, дурнотой маяться и стенки глазами сверлить, небось до утра и хлеба не дадут мне, преступнице поганой, кто я для них — убийца, мать убить хотела, мужика своего прикончила, заодно и Томкиного прихватила, господи, аж слюна подкатывает, до чего ж есть охота, хоть бы конфета завалящаяся в кармане нашлась, так ничегошеньки и нет…
А как на работе узнают — ой что будет, одним бы глазком взглянуть, Миша ошалеет, а Машенька, когда с ним встретится, мимо проскользнет, и у обоих печенка от ужаса в пятки покатится, столько ведь всякой вкуснятины в гостях у меня поели-попили, у отравительницы кошмарной, Мишка, тот всю жизнь икать будет — какую женщину бросил, разве его телка способна на такое, а Петр Антонович пойдет по компаниям анекдоты травить: был, дескать, у настоящей убийцы в доме, она полгорода на тот свет загнала, но меня не обманешь, я-то ее насквозь увидел и разоблачил; и все жить станут своей жизнью: Миша — телку свою обнимать, Машенька своего Петра Антоновича до загса доведет, как миленького, дочки помучаются немного, потом по замужам повыскакивают, баба Настя попричитает и снова примется бутылки собирать, всю судьбу свою по мусоркам растеряла, копеечку добывала, и остаток туда же пустит, а Федор Тихонович матом крыть меня станет, злющим таким, многоэтажным, и сколько ж лет грязюкой вслед кидать будет, привязан он к Генке, как отец родной, а главное — халтуры вместе соображали, на Генкином дне рождения он прямо такой тост и бухнул: береги своего мужика, золотые у него руки, а ты, мать твою разэдак, ни хрена не понимаешь, молиться на такого мужика должна; даже супруга его прослезилась от умиления, заикаться они начнут, когда узнают, все-то позаикаются, одной мне вроде бы смешно, а не смешно ведь совсем, потому что жизнь простой стала, до конца ее видно, как в коридоре этом.
Все же стерва ты, Томка, натуральная стерва, ну, не достала бы этого яду проклятого, и беды не вышло бы, не пошевелить бы тебе пальцем, и беда мимо, так ведь пошевелила, в денежках-то побольше моего нуждаешься, Тамара Васильевна, куда как побольше, хотела, чтоб тебе с Борей хороший кусочек перепал, а потом — на сестричку все свалить да Коленькой прикрыться, не выйдет сестричка, не выйдет, вместе утопнем в этом болоте.
А не пойти ли мне добровольно все рассказать, пока сестренка моя в свою пользу дело не извернула, пока глаза следователю жалостью не залила, тогда, пожалуй, поздно будет, следователь скажет: ага, как прижали тебя, Надежда Васильевна, так и начала ты слюной ядовитой на сестру брызгать; точно, попрошусь-ка я на допрос, будь что будет: яд, скажу, она достала, а когда достала — меня подговорила помочь ей, саму отравить грозилась; пусть проверят — яд-то и взаправду она доставала, а где — понятия не имею. Томка никогда ни звука на эту тему не издала, а кто кого подговорил — вилами по воде писано, пусть догадываются, к тому ж у меня двое детей, а у нее один, меня им жальче будет: а помогала, самую малость, холодец приготовила, а яд она сама впустила, я и не знала, думала, что Томка какую-нибудь бабкину пищу травить собирается; а может, так повернуть: вообще ничего не знаю, пригласила меня сестричка холодца мамуле отнести, я и пошла с ней, она просила не говорить никому, я удивлена была, но про яд и не догадывалась.
Ай да Надька, молодец-баба, молодец, что сразу не расквасилась, правду не выложила, теперь все отлично, только одно и выяснять пойдут — где и как Томка яд достала, это быстро выяснят, и тогда ей веры никакой, а я скажу: хитрюга она, воспользовалась Гениным днем рождения, подлила яду в готовый холодец, а потом на меня все подозрения обрушила.
Но Томка, паразитка, все выложит как есть, что же делать — очная ставка будет, ага, я ей так скажу: для чего ж ты, скажу, Томочка, под меня бомбы суешь, ведь следователь — не Бог, он же только человек, вину мою, скажу, никто не докажет, потому что нет этой вины, но по ошибке могут и в тюрьме подержать, подумай, скажу тихим таким голосом, чтоб ее озноб до костей пробрал, подумай, Томочка, прежде чем сестру в ложке злобы своей топить, подумай, что с Коленькой будет, вот если по правде все вышло бы, у меня, тетки родной, Коленька стал бы жить, а иначе пропадет он, мои-то дочки — взрослые, а я могу и целый годик невинно страдать, другие инстанции разберутся — выпустят, а ты все равно надолго сядешь, что ж с Коленькой-то станется? Ай да Надька, ай да Васильевна, в самую точку влепила, а вдруг и вправду Томка весь грех на себя примет, тогда я на что угодно пойду, и Колю к себе возьму, выращу — поумней, чем у отца с матерью получится, и передачи Томке каждый месяц делать буду, только бы на себя подговор взяла и меня выгородила, для чего ж вдвоем нам гореть, ей — все равно, от доставания яда не отвертеться, а я чистой могу выйти, и перед бабой Настей обелиться постараюсь, простит как-нибудь…
Молодец, Надька, — умная баба всегда ум покажет.
И есть вроде расхотелось…
Так и сделаю, сейчас на допрос пойду, будь что будет, а Томка поймет меня, только бы не перла, как тогда на работе, царапаться не лезла, только бы выскочить мне дала, и ей пристанище будет после тюрьмы, не расстреляют же, все-таки женщина с дитем, да и я на суде выступлю с жалостливой речью, эх, Томку бы мне сюда на пяток минут, я бы с ней быстро договорилась, и ей легче, а то и сговор и корысть припишут, за это и срок добавят, ну да черт с ней, пойду.
Ради ее же Коленьки пойду…
VIII
Спать хочется.
Хорошо, что пешком надумал пойти.
Голова не работает, транспорт не работает.
Обойдусь, придется обойтись без того и без другого…
Три пятнадцать.
Вот-вот посереет, уже началось, фонари расплываются, прохладно и пусто, хоть посреди мостовой топай.
А начиналось так просто — прогулка в парке, опасное место сентябрьский парк, не углядишь, и голова наполнится желто-зеленой скрипичной каруселью — это нечто оттуда, из юности.
Ходили, взявшись за руки, десяток годов как ветром сдуло, Лена молчала, я молчал, а годы все убывали, хорошо хоть до нашей скамейки дошли, пока мне восемнадцать не стукнуло и не начались акробатические номера, и тут молчание лопнуло, как воздушный шарик, потом — пожар, настоящий пожар, очнулись часа в два, Лена готовит кофе, а я валяюсь и чувствую — сгорела моя неприкосновенная свобода, по крайней мере, ожоги неизлечимы, и комната моя медленно вокруг своей оси вертится…
Три двадцать, к четырем доберусь, странно — до чего же спать хочется, ничего, полвоскресенья в моем распоряжении, потом знакомство с будущей тещей, она завтра из отпуска возвращается, обязательно что-нибудь насчет подарочка отпустит: приготовила доченька к приезду…
Жаль, что без всех этих декораций не обойтись, но ничего не поделаешь — традиция, Ромео в джинсах — это для нее, а для тещи — другое — черная тройка, жалованье, превосходное у вас печенье, лучше чайку…
В понедельник писанины по уши, закрываю сестриц, гора с плеч, н-да, дельце,
чушь собачья, а не дельце, это ж надо — так быстро следствие завершилось, бедняга прокуратор Ваня, придется ему искать поставщика циана, с Тамарой Васильевной возиться, ну он-то ее за день-другой до ума доведет, расколет.
А с убийством все же пришлось помучиться, когда ехал к старшей сестре, думал, как утешить, ее-то утешить, ну и баба, спаси нас судьба от таких леди Макбет местного значения, рано ее с первого допроса погнал, надо было прямей атаковать, переусложнил, понимаю — врет, а подозрениям своим верить боюсь, хотя попробуй такому поверь — на реальное дело не похоже, а сюжеты для черных романов не по моей части.
Ловко она на втором допросе вывернуться хотела, огромная сила воли собраться успела, рассчитать на несколько ходов вперед, и очную выдержала отлично, надо же, какую едкую мыслишку сестрице подкинула, сынишку, значит, от полного сиротства спасти, и здесь, пожалуй, вторая моя ошибка — ведь Тамара чуть-чуть не спряталась в эту версию, пришлось бы потом еще несколько дней возиться, однако, как часто бывает, две ошибки сложились в полезный шаг, во-первых, до рези в глазах ясно стало, что главарь Надежда, характер она спрятать позабыла, а Тамара — «женщина слабая, беззащитная», даже не Мерчуткина, просто слезистого строения человек, в сущности, не глупа, может быть, поумней сестры, но абсолютно неустойчива, а колебания ее понять несложно — мать, ребенок без присмотра остается, и вообще, привыкла старшенькой подчиняться, во-вторых, очень уж, складно Надежда Васильевна оборону строила, вроде не подкопаешься — ад Тамара доставала, тарелку, такую, чтоб ни в одном из домов аналогичной не было, она же покупала, на тарелке ни одного следа — пользовались перчатками, а перчатки, конечно, ликвидированы, холодец Надя варила — не отрицает, так ведь ко дню рождения, что особенного, но очень уж хотелось Надежде Васильевне начисто оправдаться, настолько поверила она в свою линию обороны, что на третьем допросе стала с жалостью на меня погладывать, тут я понял — созрела, пора козырь показать, а козырь, как чаще всего случается, в акте экспертизы спрятан, в мелком, на первый взгляд, факте — ад в холодце не локализован, практически равномерно распределен по объему, следовательно, введен был в жидкое варево и тщательно размешан.
Недурно придумала эта Орлова, в девичестве Горобчук, — съест пожилая гражданка Анастасия Кузьминична неизвестно чем отравленный холодец из неизвестно чьей тарелки, брякнется сморщенным трупиком под стол, полежит денек-другой, тут сердобольные дочушки навестят, дверь взломают, заохают, запричитают, похороны устроят, милиция побегает, побегает и успокоится, может, бабка самоубийством покончила, мало ли, и вдруг — дикий зигзаг судьбы, целились в мать, поубивали собственных мужей, и Тамара теряет голову — ушел любимый человек, на остальное ей наплевать, остальное полностью вытеснено, а вот Орлова — по-другому, она в нокдауне, но быстро, почти сразу приходит в себя, инстинкт самосохранения требует еще одной жертвы, и она начинает толкать на плаху сестру, ведь не дура же — понимает, что дело пахнет вышкой, однако толкает.
Холодец готовила, разумеется, в ночь перед днем рождения, еле застыть успел, разумеется, никто не присутствовал, разве что муж раз на кухню заглядывал, — с удовольствием подписала эти показания, вполне, между прочим, правдивые, у Тамары в тот вечер допоздна засиделась соседка, так что участвовать в приготовлении младшая сестра никак не могла, это проверено, а потом пришлось объяснить, что холодец бы отравлен до затвердения…
И выстрелила в меня Надежда Васильевна Орлова таким жутким взглядом, что спина взмокла, мгновенно она ситуацию оценила и весь заряд своего несостоявшегося спасения в мою переносицу выпустила, многое в своем кабинете повидать мне пришлось, но такую злость — никогда, и получилось так, словно с этим взглядом вся сила покинула гражданку Орлову, попуталась она немного, повиляла для порядка и вышла на полное признание, прорвало ее, все изложила, причем совпадение с показаниями матери и сестры почти стопроцентное.
С профессиональной точки зрения — скучное дело, в сущности, простое, неопытны сестрицы Горобчук, могли бы и получше кашу заварить, думали по наивности своей, что убийство — легкий способ наживы, но век не тот, одиночке-дилетанту и здесь путь заказан, всему учиться надо, всерьез учиться, кстати, у Орловой в этом направлении задатки есть, может в заключении ума-разума поднабраться, дадут ей лет десять — гуманность, то да се, а по сути дела, ни в какую нормальную колею ей уже не войти, скажем, отсидит, а потом что — дети знать не захотят, мать помрет, вряд ли и полсрока протянет, мужа нет, дикое положение, найдется ли святой, который помочь не побрезгует, нет ведь, пожалуй, тот случай, когда тюрьма родней любой свободы покажется, тем более, что Орлова очень быстро станет не последним человеком в арестантской иерархии, вообще это заблуждение, что каждый человек предпочитает любую свободу любой тюрьме — в клетке можно иметь не так уж много, зато вполне определенных благ, а на воле нередко только одно благо — сама воля, да и то при внимательном рассмотрении оказывается не воля — иллюзия, хорошо сработанная иллюзия, ползал ведь на коленях по моему кабинету Митюхин — двенадцать ограблений с применением огнестрельного — ползал и хрипел: посадите, хрипел с пеной на губах, как отца родного прошу, Богом заклинаю, Марксом вашим заклинаю, посадите, любое дело пришейте, только чтоб до конца моих дней сидеть, стукну ведь кого под горячую руку, насмерть стукну, сердце мое чует — насмерть, вышку отхвачу, будет на вас и его и моя кровь, а помирать насильственно неохота; в основном, верно — там он туз, на воле — никто, даже не нуль, а сильно отрицательная величина, ничего, кроме формулы «жизнь или кошелек» не знает, а формула-то скользкая — вдруг кто-нибудь предпочтет сохранить кошелек, потому Митюхин и пришел ко мне через месяц после завершения своей последней отсидки, свобода его смертью пахла.
А другой полюс, сто тысяч световых лет от Митюхина, и все-таки Тимоша, знал ведь, что в клетку прыгает, однако плюс сто и должность, года полтора прошло, и стал Тимоша называть клетку работой, распасовку входящих-исходящих — литературной деятельностью, стишки — хе-хе — грешком молодости, телерыженькую — замечательным представителем нашей транспортной молодежи, и самое любопытное, что все это правда, абсолютная истина в новой Тимошиной системе отсчета, и служба не такая уж клетка, можно привыкнуть, и бумагодвижение требует серьезности, и рыженькая — чудо, особенно, когда улыбается, просто весь фокус нового восприятия — в смене системы отсчета, Тимоша сменил вроде бы безболезненно, но думается, — сел в чужую, и вскоре это скажется, вскинет однажды Тимоша голову, взглянет поверх своего солидного служебного положения, увидит горизонты иного цвета и смысла взвоет, взвоет и ползком поползет к этим иным горизонтам, только поздно не было бы…
Без четверти четыре.
Тишина.
Вовсю светает, и спать расхотелось, может, не усну теперь?
Обидится Иван Константиныч, прокуратор Ваня: сливки Русецкий снял, а самую грязь мне оставил, хм, сливочки, скисшие сливочки, впрочем, эти яды дело долгое и грязное, наверняка сестры зацепили лишь самый кончик длинной ниточки.
Почему-то Тамара Васильевна обо всем рассказала, а о том, как циан добывала — ни слова, спросишь — она в истерику, плачет, о муже причитает, сначала и внимания не обратил, думал — естественная реакция, случайное совпадение, но уже на втором допросе понял — нет, увиливает она, скрывает что-то, что?
Впрочем, нет преступлений без какого-нибудь неясного хвостика, во всяком случае, мне встречать не приходилось, хоть одна ниточка для размышлений обязательно найдется, человек связан с прошлым гораздо сильней, чем кажется, вырвешь его, изолируешь, но ведь тысячи нитей, тысячи нитей, одни сразу обрываются, другие лопаются, но есть и такие, что по-прежнему куда-то ведут, с чем-то связывают, бывает, что через десятки лет они снова раскаляются и обжигают, возможно, что и здесь такая нитка, лет восемь назад, еще до моего прихода в отдел велось очень крупное дело по ядам — до сих пор легенды ходят, подпольное производство, отлично налаженный сбыт, даже попытки выйти на международный рынок, и не исключено, что одна из ниточек этого дела не обнаружилась тогда, ушла в тень, чтобы теперь проявиться в трагедии сестер Горобчук, а может, и новый подпольный трест, поинтересуюсь потом у прокуратора Вани, обязательно поинтересуюсь…
Еще два квартала, и дома.
Настроение чего-то испортилось, какого дьявола в такую чудесную ночь о таких вселенских пакостях думать, серенады петь надо, воспарять, влюбился ведь, сам не ожидал, а влюбился по уши, как пацан, а тут эти проклятые бабы по извилинам топчутся, Митюхин ползает, мерзкая все-таки профессия, и не потому, что с грязью возиться кому-то надо — это пакостная выдумка бездельника, и не потому, что она кому-то вымирающей кажется — для них все на свете тождественно собственному символу веры; а потому что все время находишься среди изломов и трещин, судьбы, характеры, пропасти душ — иногда такое наружу выхлестывает, темное, необозначенное и страшное, что ни одному профессору психологии в бреду не представится, как будто и не пронеслись над нами пятьдесят веков цивилизации, и не должно это нечто необозначенное затопить мир, отравить его забвением человека и истории — в этом цель, но цена зачастую непомерна, и кусочек этой ночи тоже входит в цену сражения с нечто…
Все, спать, немедленно спать, никаких трещин, думать только о Лене, о цветах — обязательно добыть хороший букет цветов, сигареты кончились, к лучшему, вдохну напоследок эту сентябрьскую ночь без дыма, чистую ночь…
IX
Сальца бы кусочек.
Сало волей пахнет.
Может, дачка будет на следующей неделе.
Холодно.
И здесь зябко, а в мастерской точно недотапливают, еще повезло, все ж не работы на воздухе.
Совсем распустилась, колтун расчесать завтра надо, опять у Купревны чесало одалживать…
Сейчас бы под толстое одеяло из ваты, настоящую стеганку, простыню крахмальную, а хрен с ней, с простыней, главное — одеяло, чтоб залезть под него целиком и покряхтывать от теплоты и мягкости, и под спину чего-нибудь помягче, хоть диван какой завалящий, и чтоб не трогал никто, досыта нахрапелась бы, часов до двенадцати.
Хорошая штука одеяло, если ваты не жалели, чтоб толстенное было и большое — под ноги подоткнуть и голову укутать, чтоб пахло хорошо настоящими духами, и если б еще Борьку на несколько минут рядом, тело теплое, пусть сопит вовсю, третий сон досматривает, ничего мне такого не надо, только чтоб возле уха сопел, голову ему под мышку суну, а руками, боже мой, чтоб я только руками не делала, на волю бы руки выпустила, хоть вы погуляйте, но тихо — Боречку не разбудить, пусть хоть на год еще раскрутят, один хрен, Надька вон десятку получила и жива, пусть хоть год подкинут, а Борьку дадут на несколько минут, чтоб под мышку к нему ткнуться.
А проснулся бы случайно, боже, как целовала бы, он с ума сошел бы от поцелуев моих, Купревна научила — опытная стервь, вроде платы за прокат, все у нее водится — и расческа хорошая, и жидкости всякие вроде одеколона, и все чего пожелаешь, только вцепится потом, обкусает, обслюнявит — целый день отмываешься, добрая вроде баба, а тошнючая, липкая какая-то…
Очухался бы Боренька, а я ему: не желала я того злого случая, Боренька, лапочка ты мой, котенок мягонький, не желала, травили мы с Надькой мамашу свою, дуры бабы, а вышло — мужикам нашим в гробы полечь, и не проводила я тебя даже, не попрощалась с тобой, вот выйду, Боренька, отсюда, цветов раздобуду, на могилу твою приду, тогда попрощаемся, а ты Генку за меня попроси, ничего я к нему плохого не имела, так уж получилось, ты добрый, Боренька, поймешь меня, дуру невообразимую, семью нашу вконец искромсала, как-то сейчас наш Колюшка с бабкой мается, а она расхворалась совсем, куда ей трое внуков…
Ох, Надька, Надька, курва хренова, ну какие черти тебя на ужас этот пихнули, и сейчас-то норов свой собачий смирить не можешь, всем поперек, наказание лишнее терпишь, а лаешься, характер свой поганый всем под нос суешь — шпонкой тебя ущемили, пайку отобрали, по шее врезали, так ведь муть все это, Надька, главное-то своими руками испохабили и угробили.
Все угробили, и прощения не будет, выйду я почти через шесть лет, статейка-то звонкая — от звоночка до звоночка отсиживать, сколько ж похабели тут на меня налипнет, да хрен с ней, с похабелью, времечко отмыло бы, но куда выйду-то, кого другого — семья ждет, а меня кто ждать будет, детки наши, Надька, дуреха горькая, и знать нас не желают, а потом — тем паче, стыдиться станут, наляпаемся мы пятнами черными на их биографии: где твой отец, спросит твою Люську жених: а она: отравлен матерью; а где мать, спросит невеста моего Колюшку: в тюрьме отбывает за отравление отца моего, ответит Колюшка и сдохнуть мне пожелает; нет, конечно, врать будут, сказки придумывать про летчика-испытателя и про мать, которая не выдержала его геройской гибели и от разрыва сердца скончалась, или другую сказку придумают и будут зубами за нее хвататься, даже поверят в нее, а появишься — посмотрят, как на выходца с того света, лишнего человека, который явился — мало семьи, — чтобы и сказку тоже разрушить, гнать станут поганой метлой, и вообще, сбегут они подальше отсюда, от людского злого языка, сбегут и адреса не оставят, не доищешься — вроде и деток никогда не было, а баба Настя плоха совсем, еле ходит, годик какой протянет, может, два, и упорхнет ее добрая душа, хоть внуки проводят — не одиноко помрет.
Не пойму вот — простила она или нет, неужели простила?
Не хочет разговаривать об этом, а внуки у нее вечно заняты, то да се, а попросту — видеть они нас не могут, Надька, такое дело — старую шлюху Купревну и то дети навещают, а нас не желают, и не увидим мы их никогда, эта факт.
Холодно, нету Бореньки, не появится — как ни зови, хоть бы одеяло ватное, пусть год-другой сроку накинут, один хрен, выходить-то все равно некуда, вот только к Бореньке съездить, прощения у него по-настоящему попросить, Колюшку издали увидеть, издали, чтоб не помешать ему в новой его жизни — и всех делов-то, других и нет, потому и выходить-спешить некуда мне, за одеяло, ей-богу, пару лишних лет приняла бы, глазом не моргнула, теплота была бы и мягкота сплошная.
Охоньки, спать надо.
Может, приснится что похожее.
Хоть бы приснилось…
X
Осень-то опять ладная.
Теплехонько.
Посижу какую минутку на скамеечке, Коленьку подожду, вот уже из школы бежать должен.
Совсем развалюхой стала, дай Бог хоть зиму перезимовать, изнутри нечто долбит, наружу просится, и ходить — ногам невмоготу.
И как косточки мои старые терпят, хрустят, а терпят…
Девки чего-й-то с Коленькой загрызаться стали, что ни день загрызаются, и меня слушать совсем не хотят, Люсенька взрослая уже, кавалера завела, домой поздно приходит, Надькин у ней характер, чисто Надькин, горластая, а Наташенька — невесть в кого, сама не жмотничает, но за сестру держится, та ей деньжонок рупь-другой подбрасывает, скоро и Наташенька на работу пойдет, полегче нам, только с мальцом беда — как его-то одного оставить, не опора ему девки, не опора, да и я уже скопытилась, вот-вот с работы погонят, руки тряпку-то выжать не могут, спасибо Коленьке — помогает когда, а девки стесняются, думают — зазорно возле бабки старой крутиться, все из дому убежать норовят.
Ведь недавно ж резвая была, смотришь — и бутылочек соберешь, а теперь — куда там, ведра с водой не поднять, грехи тяжкие, за что это Господь покарал-то, за что?
Уж лучше было бы мне одной того холодца съесть, и мучений таких не выпало бы — поплакали бы надо мной, денежки поделили, может, и памятничек какой на могилку поставили, вышло бы все куда как к лучшему, жили бы детки и внуки, бабку изредка добрым словом поминали, а дочки с годами казниться стали бы, но я уж за них замолила на том свете.
Съела бы того холодца поганого и покоилась вместо хлопот, а то три внука в мои-то годы — за всех трясусь, а трястись-то нечему, рухлядь и есть рухлядь.
И деньжата вчистую слизаны, как ударил Господь по жизни нашей, так и пошло — зятьев похоронила, полторы тыщи на похороны-памятники утекло, и то ж глупость получилась, потому на памятниках каждому надпись заказала «вечная память от жены и деток», так Генкина родня скандал учинила, брат его в милицию даже попал, хотел Генкин памятник порушить, не понимают баламуты, что девки-то мои ничего против мужей не умышляли, любили их, смотрели, как могли, обхаживали, хорошие они жены были, нечего зря пинать, а что против меня, старухи, затеяли, пусть их бог судит, я им не судья, а уж родня мужнина и подавно.
Тоже мне родня называется — хоть к детишкам подошли бы, приласкали когда, гостинчику принесли, к себе зазвали на обед-ужин, хоть спросили бы меня, старую, каково сладко мне с тремя-то внуками приходится, а внуки совсем не виноваты, что отцов-матерей потеряли, ох, родня-родня…
Опять на следующей неделе к дочкам ехать, змеюки они, понятно, а все ж жалко, маются там в неволе, ни деток, ни мужиков, харч казенный — горький, а детки-то и ухом не ведут, хоть бы пару слов написали, так нет — знать не хотим, ведать не желаем, простить не умеют за отцов своих.
Знала б я, как дело повернется, на себя всю вину взяла, что со старухой-то сделаешь, сказала бы: по злобе зятьев потравила, простите дуру окаянную; в тюрьму бы, конечно, пошла, так доченьки не оставили бы, сподручней им по очереди было бы передачки возить, да и померла бы вскоре, все едино долго не протяну, зато детки при матерях — другой спрос, как-никак легче росли бы…
Эх-хэ, если бы да кабы, ведь тот милиционер в гражданском никаким вракам не поверит — там яд некий страшный был, где купила да почем, может, запираться стала бы, только пользы мало, ловкий он больно, с подходом, запутал бы меня, темноту древнюю, вон и Надька на суде на него наговаривать пошла, извернуться хотела, а пшик получился, потому что правда она на свет вылезет, куда не сунь ее, горемычную, в одну щель засунешь, из другой вылезет.
Людям в глаза теперь смотреть стыдно, и прошло уж два годика с половинкою, почитай, три уже с той осени, а все стыдно, которые поумней те ласково, а которые поверх души глазенками шныряют, те норовят уколоть побольней, то внучатами с подковыркой поинтересуются — не безобразничают ли без отцовского присмотра, то про дочек всякую пакость спрашивают, тошно с такими умниками, кому я что плохого сделала — работала всю жизнь, не разгибаясь, копейку добывала, дочек подняла, теперь вот внуков тяну, как могу.
Только дочки нелюдские такие вышли, где ж такое видано, чтоб на родную мать отраву насылали за рубли паршивые, для них же и для внуков старалась, а они дождаться моей кончины не хотели — вот и наказал господь, да как наказал-то, подумать страшно, волосы дыбом встают, жадюги получились, но и то правда, что от меня они не много премудрости видели — одна работа с утречка, другая с вечера, и разговоров-то всех — что купить, да почем продать, еда, одежда, дрова, да чтоб в люди выйти, да платили чтоб хорошо, чтоб хату обставили всем, как у людей, чтоб все, как у людей, а у каких людей-то, люди-то разные, и копейка к ним по-разному идет, к одним прямо так и валит одна к одной, а к другим — мимо да мимо, только нельзя ж вслед за каждой копейкой дорожку свою кривить, а дочушек-то некогда было обучать этой премудрости, кто сам понятие заимеет — хорошо, а у них не пришло такого понятия, а может, надо было успеть и рассказать — бутылочек не добрала бы малость, зато не вышло бы конца прижизненного, копеечка живая нужна, да, живая, а вот дочушки теперь вроде мертвые…
Эх-хэ, хоть бы зиму перезимовать, Коленька еще чуток подрастет.
И как косточки мои старые терпят, хрустят, а терпят…
Надо у Сергеевны пятерку одолжить, на передачку последние пятнадцать рубликов затратились, теперь на дорогу набрать надо, билетик на поезд купить.
Осень-то какая знаменитая, совсем, как та, совсем…
XI
Зануда эта Зинаида, каракатица.
Ну, заехал Саньке в морду, чего приставать: за что, почему?
Надо — вот почему, ему-то чего плохого моя мамка сделала, дразнить вздумал, так и в морду получил, и все тут.
Если Зинаида еще раз Люську в школу вызовет — сбегу, совсем сбегу, нельзя с Люськой дел иметь, дешевка она, только и давит — вроде моя виновата, а ее — не тронь, святая прямо, так не дали бы ей в суде на два года больше, не дали бы, а Люська тогда злится, краснеет, как помидор, и обязательно пакость какую-нибудь придумывает, пуговицы на штанах пообрезает — утром хвать, и в школу опоздал, или тетрадку во что-нибудь вонючее умакнет, еще и в ботинок пописать догадалась, унитаза ей, психичке дурной, мало — настоящая психичка, недаром три года назад, когда это случилось, в больнице лежала с вывихом мозгов, хоть и говорит, что теперь здоровая, а все равно с вывихом, пристает все время — скажи ей, что ее мамаша не виновата, а моя виновата, скажи и все, скажешь — целую трешку дать может, и давала, только противно, вроде что-то свое стыдное из-под полы продаешь, за мамку-то некому заступиться, стерва она, конечно, это Люська точно говорит, но и тетя Надя — стерва, да и побольше еще, нечего тут врать, только Люське правда до фонаря, ей так подай, чтоб она довольна осталась — это и будет правдой.
И Наташка на ее стороне, она Наташке рубль сунет, тогда вдвоем в меня вцепятся, спасения никакого, но и бабушка говорит: нельзя за каждым рублем себя ломать; а Наташка потом на этот гадкий рубль меня же мороженым угощает или в кино зовет — пойми девчонок.
После случая с ботинком пришлось пригрозить Люське, что все-все Ибрагиму расскажу, он парень хороший, жалко, что уедет, когда отслужит здесь, а сначала хочет на Люське жениться, дурак, конечно, я лучше бы руку отрезать дал, чем на Люське жениться, съест она его, и про наших родителей Ибрагим ничего не знает, Люська врет ему, что погибли они в автомобильной катастрофе на собственной машине, хочет показать, что жили не хуже, чем на юге живут, а Ибрагиму эта выдумка страшно нравится, и любит он повторять: родителей я тебе не верну, говорит, а вот машину, как только из армии приеду и про невесту скажу, отец сразу подарит, будет у нас своя машина.
Люська тогда разревелась, как маленькая: Колюсенька, хлюпает, родненький, не надо говорить, может, жизнь моя в нем, перепортишь ты все: жалко мне ее стало, и вообще, всех мне жалко, даже Саньку, хотя в морду я ему правильно дал.
Сбежать бы куда подальше, в Сибирь на стройку, а лучше на корабле поплавать, только не возьмут, мал еще, скажут, не посмотрят, что по росту здоровый лоб, да и как сбежишь — бабушка совсем разболелась, часто говорит: ради тебя, Коленька, тяну еще; а тогда бабушка сразу умерла бы, тяжко ей, Люська и Наташка ничего не понимают, думают с бабушкой спорить можно, как с молодой, а у нее сердце больное, чего с ней спорить, она ведь нас в детдом не отдала, к себе взяла, и Люська и Наташка живут при ней как за пазухой, а лаются чуть не каждый вечер: как же ты дочек воспитала, кричат, если они убийцами получились, смотри, нас так не воспитай, мы тебе не позволим так воспитывать…
Да разве бабушка кого-нибудь воспитывает, она не вредная, не ругается, только плачет; если что не так сделаешь или Люська поздно загуляется, или кричать они на нее начинают — тогда я готов глаза им повыкалывать, над бабушкой-то зачем издеваться, ничего, вот кончу восемь классов, уведу от них бабушку, сам работать буду, а ей не разрешу, и к мамке тогда поеду, чтоб бабушке спокойней было, страшно, правда, еще разревусь, как девчонка, вспомню, как мы с папой в кино ходили, хорошо было, и папа рисовать учил, до сих пор лучше всех в школе рисую, когда работать пойду, сам учиться буду, красок накуплю, кистей, а папин мольберт еще долго выдержит, только ножку приклеить надо, тогда я осень рисовать буду, скверик нарисую и большой-пребольшой желтый лист посреди дорожки, папа говорил, что в картине надо обязательно что-нибудь главное найти, главный образ того, о чем хочешь сказать, вот я и напишу большущий желтый лист и небо такое, как сейчас, хоть ныряй в него, напишу сентябрь, а потом попробую бабушкин портрет сделать, руки ее рисовать трудно, карандаш вязнет, главного в них поймать не может, ну ничего, подучусь и нарисую, обязательно бабушку нарисую.
XII
Теплый сентябрь.
Пронзительное сентябрьское небо.
Слегка подкрашенный сентябрем скверик.
По скверику идет мальчик с потрепанной сумкой.
Мальчик думает о портрете, который он непременно должен сделать.
Он сворачивает налево, перебегает улицу, входит во двор.
Со скамейки навстречу ему подымается старушка.
Мальчик улыбается, старушка тоже.
Они рады друг другу.
И солнцу.
Минск, 1979
Александр Ярушкин, Леонид Шувалов
ГАМАК ИЗ ПАУТИНЫ
Детективная хроника
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Дежурные сутки
Ночь была темная, скорее южная, чем сибирская. Уличное освещение уже отключили. Казалось, во всем большом городе светится только одно окно. Но вот и это желтое пятно исчезло. Серой тенью на шоссе метнулась машина. Габаритные огни, словно трассирующие пули, прочертили ее след в черноте сентябрьской ночи.
10 сентября, воскресенье
02 часа 45 минут
Я зашел в дежурную часть сдать пистолет. Здесь было тихо, пусто, и от стен, обитых бежевым кожзаменителем, слегка пахло химией. Капитан Борисов, почти лежа на широченном столе, что-то записывал в журнал. Заметив меня, он на мгновение оторвался от своего занятия и бросил:
— Подожди, Ильин.
По его изрезанному морщинами усталому лицу я понял, что вздремнуть не удастся, тяжело вздохнул и, усевшись на стул, стал терпеливо дожидаться, когда он освободится. Наконец, дежурный положил трубку, щелкнул рычажком на пульте и, пригладив зачесанные назад седые волосы, повернулся ко мне:
— Пистолет пришел сдавать? — и, не дожидаясь ответа на свой вопрос, сообщил: — Рядом с райотделом, у здания «Метростроя», ребята из медвытрезвителя обнаружили раненого в тяжелом состоянии. Его доставили в Дорожную больницу. Поезжай-ка туда, допроси, а я уголовный розыск организую, пусть покрутятся, место людное, должны быть очевидцы.
— А осмотр? Ведь затопчут все.
— Не беспокойся, на месте происшествия остался сержант, будет тебя дожидаться. За экспертом я сейчас пошлю, — сказал Борисов и, увидев вошедшего в дежурку милиционера, обратился к нему: — Грищенко, твоя машина на ходу?
— Колесо полетело, — огорченно буркнул тот, — минут через тридцать сделаю.
Тридцать минут меня совсем не устраивали, и я, вспомнив, что сегодня дежурит оперуполномоченный ОБХСС, мой друг Семен Снегирев, с надеждой выглянул в окно. На площадке перед райотделом сиротливо стоял горбатенький «Запорожец».
Тишину коридора разрезал искаженный устройством громкой связи голос Борисова: «Оперуполномоченные уголовного розыска, срочно в дежурную часть!». Широко распахнулась одна из многочисленных дверей, и навстречу выскочили Петр Свиркин и Роман Вязьмикин.
Худой, внешне нескладный, но очень подвижный Свиркин пришел в наш райотдел сразу после окончания школы милиции. В наставники ему определили уже опытного опера, каким не без основания считался старший лейтенант Вязьмикин, и тот, со свойственной его характеру методичностью, принялся делать из Петра классного оперативника. Свои поручения Роман преподносил в несколько иронической форме, но Свиркин не обращал на это внимания, понимая, что за каждым советом кроется доскональное знание розыскной работы.
Увидев меня, Петр бросил на бегу:
— Здрасьте, Николай Григорьевич.
— Что стряслось, Николай? — чуточку флегматично пробасил Роман, останавливаясь и поглаживая большие казацкие усы.
Я в двух словах объяснил ситуацию, и он с легкостью, не очень вяжущейся с его громоздкой фигурой, бросился догонять своего подопечного.
Снегирев мирно спал за столом, опустив голову на папку с бумагами. Во сне он причмокивал губами и походил на розового хирувимчика. Когда так спят, будить всегда жалко, я постоял пару секунд и слегка притронулся к его плечу:
— Семен, выручай, надо срочно допросить потерпевшего, а наша машина сломалась, подбрось до больницы…
С трудом оторвав помятую щеку от импровизированной подушки, он укоризненно посмотрел на меня, послушно поднялся и поплелся к выходу.
03 часа 02 минуты
Кряхтя, охая и поскрипывая, снегиревский «Запорожец», выписав несколько опасных для своего существования поворотов, промчался мимо вокзала, проскочил тоннель, пробежал по Владимирской, влетел на пандус к приемному покою и, ахнув, впился кривыми ногами-колесами в асфальт.
Идти со мной Семен отказался:
— Вот от этого, Коля, ты меня уволь. Я лучше вздремну, — он поудобнее развалился в машине. — Ты же знаешь, я слабонервный, а там врачи… кровь…
Подойдя к двери приемного покоя, я с силой вдавил кнопку звонка и держал ее до тех пор, пока не услышал быстрые шаги. Медицинская сестра строго окинула меня взглядом, скользнула глазами по погонам и спросила:
— Что вы хотели, товарищ старший лейтенант?
— Следователь Ильин, — представился я и поинтересовался: — К вам доставили раненого, могу я с ним побеседовать?
— Он умер, — тихо ответила сестра.
От досады я чуть не грохнул кулаком по двери. Нет смысла говорить о ценности человеческой жизни. Мы боремся за нее каждый день. Это наш долг. Но другая наша святая обязанность — найти преступника. Скажу честно, в тот момент я подумал только об одном: оборвалась очень важная нить.
— Пойдемте, я вас провожу, — вырвала меня из оцепенения медсестра.
Сашка Стеганое, с которым мы были знакомы еще со школы, протянул жесткую, сухую от постоянного мытья спиртом руку — настоящую руку хирурга:
— Врачевателю человеческих душ, привет!
Я хмуро проговорил:
— Он что-нибудь успел сказать?
Стеганое развел руками:
— Увы, друг мой, увы… Пациент скончался до моего прихода. Пойдем, посмотришь.
На каталке, под простыней с расплывчатым больничным штампом, угадывались очертания тела. Я достал из папки бланк протокола осмотра и попросил Сашку:
— Найди, пожалуйста, парочку понятых.
Стеганое кивнул и неторопливо прошествовал к двери. Вернулся он минут через пять с двумя девушками в ладно сидящих белых халатах и, положив им на плечи руки, по-отечески представил:
— Верочка и Анечка, наши практикантки.
Девушки смущенно улыбнулись.
Сняли простыню. Для меня это всегда один из самых неприятных моментов в работе. Не завидую следователям прокуратуры, они имеют дело с покойниками гораздо чаще. Лицо погибшего было залито кровью, одежда тоже. Я вздохнул и приступил к осмотру.
Стеганов склонился к ногам убитого и озадаченно проговорил:
— Что же это он, бедняга, в одних носках гулял?.. Нет, не похоже, носки чистые…
Признаться, отсутствие обуви меня тоже удивило, но анализировать это обстоятельство было еще рано и, сделав пометку в протоколе, я, не отвечая на вопрос хирурга, продолжил осмотр. Сантиметр за сантиметром обследовав голову и тело, я ничего не мог понять.
— Где же ранение? — вырвалось у меня.
— Сейчас посмотрим, — Стеганов отстранил меня, профессионально, быстро и ловко осмотрел голову неизвестного, расстегнул на нем рубашку, удивленно хмыкнул и забормотал что-то под нос. Практикантки сосредоточенно наблюдали. Тем временем Сашка принялся с еще большей тщательностью изучать голову. Убрав с виска погибшего слипшиеся от крови волосы, он показал маленькую, меньше сантиметра, волнообразную рану. — Удар пришелся в височную артерию и смерть наступила от обильной кровопотери.
— Чем же это его? — подумал я вслух.
Сашка сказал:
— Это тебе, великий детектив, и предстоит узнать, а я — пас. Как говорится, это выходит за рамки моих скромных познаний. Обратись к судебным медикам.
Дверь, скрипнув, приоткрылась, и показалась круглая, с большими залысинами, голова Снегирева.
— Привет медицине! — Он перевел взгляд на меня. — Побеседовал?
— Опоздали мы…
Семен подошел к каталке и боязливо глянул на труп.
— Н-да, — невесело протянул он.
Когда мы с ним вышли из больницы, над Обью стелились белые языки тумана.
03 часа 15 минут. Свиркин
Петр, поеживаясь от ночного холодка, наклонился и постучал в окошко диспетчерской такси. Лысый, с одутловатым лицом, пожилой мужчина недовольно посмотрел на него сквозь толстое стекло:
— Что вы хотели, гражданин?
Петр приложил к стеклу удостоверение. Мужчина повернулся на стуле и открыл дверь диспетчерской. Когда Петр вошел в темное помещение, мужчина оценивающе оглядел его долговязую фигуру и не очень приветливо произнес:
— Что хотели, товарищ лейтенант?
— Задать пару вопросов, — сухо ответил Свиркин и сразу перешел к делу. — Вы ничего подозрительного сегодня ночью не замечали?
— Не замечал, мне своих хлопот хватает.
Петру не понравился тон, которым это было сказано, и он уже совсем было собрался одернуть диспетчера, но вспомнил наставления своего старшего товарища — Романа Вязьмикина. Одно из них звучало так: свидетелю от тебя ничего не надо, это ты пристаешь к нему со своими дурацкими вопросами, поэтому будь вежлив даже и без взаимности.
— Извините, но недавно у «Метростроя» был найден раненый мужчина… — терпеливо объяснил Свиркин, хотя сгорал от желания найти зацепочку, чтобы начать строить версии.
Диспетчер, чувствуя неловкость за свою резкость, развел руками:
— К сожалению, ничего не заметил, но вот когда я приехал, Серега Пахтусов сказал, что милицейская машина кого-то увезла в вытрезвитель.
— А кто такой Пахтусов? — быстро спросил Петр.
— Таксист наш, он меня подменял, пока я домой ездил перекусить…
— В какое время?
— Сейчас скажу, — диспетчер посмотрел на часы, — та-ак, уехал я примерно в два часа, Серега сидел здесь, приехал я в три, минут десять посидел, и вы подошли… Гак вы у сержанта спросите, — диспетчер указал на стоящего у здания «Метростроя» милиционера, — он должен знать.
Советы иногда бывают полезны, но этот запоздал, с сержантом Петр разговаривал пять минут назад, и поэтому он, поблагодарив, спросил:
— Как мне вашего Пахтусова найти?
— Сложно, — покачал головой диспетчер, — он по всему городу мотается. Если сюда заедет, направлю к вам, только скажите куда. Если нет, ищите утром в парке, когда смену будет сдавать, он из третьего.
Свиркин объяснил, как его найти, и распрощался.
04 часа 12 минут. Вязьмикин
Роман уже второй час, перешагивая через тюки, чемоданы и вытянутые ноги, бродил по вокзалу. Его движения были неторопливы, и со стороны он походил на старающегося убить время в ожидании поезда пассажира, но глаза цепко оглядывали сидящих, лежащих, снующих по залу людей. В очередной раз спустившись по широкой лестнице на первый этаж, он заглянул в комнату милиции.
— Ну как? — прогудел Роман.
— Кое-что есть для тебя, заходи, — пригласил его дежурный. — В соседней комнате Краснояров с одним типчиком разбирается.
Младший лейтенант Краснояров, по-старушечьи подперев подбородок рукой, с полузакрытыми глазами слушал несвязный лепет щуплого человека с исцарапанной щекой и заплывшим глазом. Увидев Романа, он вяло кивнул и так же вяло поинтересовался у задержанного:
— Документы твои где? — Он покосился на свои записи. — Гражданин Нудненко… или все-таки не Нудненко?
Человечек привстал на полусогнутых ногах, для большей убедительности молитвенно сложил грязные окровавленные руки лодочкой, прижал их к разорванной рубахе и заплетающимся языком проговорил:
— Я же сказал — Нудненко… И про документы сказал — у Машки они, в Верх-Туле…
— Ты сиди, сиди, — лениво махнул рукой младший лейтенант, снова покосился в свои записи и, будто никак не мог запомнить фамилию задержанного, по слогам произнес: — Нуд-нен-ко… или все-таки не Нудненко?
Человек с трудом поднял голову и неожиданно пристально посмотрел на Красноярова единственным зрячим глазом.
— Не смотри, не смотри… Десять минут назад ты говорил, что документы потерял, — сказал младший лейтенант, — и откуда у тебя три тысячи, толком объяснить не можешь… — Он повернулся к Вязьмикину. — Будете с ним беседовать?
Роман кивнул:
— Поговорю.
Человечек, откинув назад голову, перевел глаза на него и грустно вздохнул. Краснояров прикрыл веки.
04 часа 17 минут
У здания «Метростроя» наш эксперт-криминалист Глухов оживленно рассказывал что-то широко улыбающемуся милиционеру. Завидев меня, он взмахнул руками:
— Ну, Ильин, сколько же тебя ждать можно? Понятые, эксперт на месте происшествия, а следователя нет. Сержанта задерживаем, а ему работать надо, бороться за трезвенность.
— Все, все, — отозвался я, — сейчас начнем, Сергей Петрович, — и, склонившись к дверце «Запорожца», сказал Снегиреву:
— Спасибо, Семен… Ты домой?
— Какое там… В кабинет.
Милиционер подвел нас с экспертом к очерченной мелом площадке возле забора, где в центре полукруга был нарисован силуэт лежащего с раскинутыми руками человека. Понятые, не решаясь подойти, робко топтались в стороне. Глухов щелкнул фотовспышкой, и на асфальте явственно стали видны пятна крови. Потом он, тяжело охнув, присел на корточки и, что-то бормоча себе под нос, принялся разглядывать маслянистые кляксы неподалеку от силуэта. Я присоединился к нему.
— Машины стояли… и совсем недавно, — пробурчал Глухов, — мне так кажется…
— Мне тоже, — сказал я, — и, по-моему, две…
— Одна из них «Жигули», — эксперт ткнул пальцем в сторону следа протектора, четко обозначившегося на асфальте.
— Марки «BA3-2103», госномер А 54–55 НБ, — серьезно добавил я.
Глухов удивленно вскинул глаза, потом смекнув, буркнул:
— Иди ты… не мешай работать. — Он раскрыл криминалистический чемодан и начал собирать образцы масла и крови, предварительно запечатлев след протектора на фотопленку. Я присел у забора и стал заполнять протокол осмотра.
— Николай, это не твой? — услышал я голос эксперта и подошел к нему.
Рядом с забором, примерно в метре от места обнаружения потерпевшего, лежал мужской комнатный тапочек. Глухов щелкнул затвором своего «Зенита», я поднял тапок и, достав полиэтиленовый пакет, положил его туда.
…Борисов встретил нас мрачно:
— Нда-а, — почесал он затылок, — похоже, «ноль» повесили…
— Не надо так грустно, раскроем, — бодренько ответил я, успокаивая дежурного по райотделу, но на душе было не очень весело, слишком не в нашу пользу складывались обстоятельства. Пока мы не знали даже имени убитого, не говоря уж о другом. Как у нас называют, чистый «ноль», «темняк», то есть нераскрытое преступление, а с этими «нолями» очень даже неловко чувствуешь себя на оперативных совещаниях.
06 часов 23 минуты
Свиркин закончил свой рассказ.
— Как ты собираешься таксиста Пахтусова искать? — спросил я.
— Он найдет, он шустрый парень, — подал голос Вязьмикин, расположившийся на стуле между шкафом и сейфом напротив моего стола.
— Найду я его, Николай Григорьевич, обязательно найду, — горячо заверил Петр. — Если не явится, то к девяти поеду в парк.
— У тебя что? — обратился я к Роману.
— У меня — гражданин Нудненко, а, может, не Нудненко, — ухмыльнулся он. — Во всяком случае, очень подозрительный субъект, худющий, как Петр, только ростом поменьше, ободранный, а в кармане три тыщи… И так складно все рассказывает, аж сомнения сразу берут, не врет ли? Говорит, освободился недавно, восемь лет отсидел, там и заработал. Спрашиваю, где справка об освобождении, про какую-то Машку верх-тулинскую плетет, у нее, дескать, оставил, а адрес не знает, говорит, показать может. Правда, есть маленькое несоответствие в его трепе. Сперва Красноярову говорил, что потерял справку, а потом уже при мне, стал про Машку заливать.
— А где он сейчас? — спросил я.
Так Краснояров его в спецприемник повез, как бродягу, до выяснения личности.
— Это какой Краснояров? Маленький такой? — заинтересовался Свиркин, очнувшись от размышлений.
— Да белый такой, кудрявый, еще мелкими шажками ходит, — пояснил Роман и, пошевелив широкими пальцами вокруг своей коротко стриженной головы, изобразил прическу Красноярова.
— Слушайте, — прервал я оперуполномоченных, — давайте по делу говорить. При чем здесь Краснояров?
— Если по делу, то придется мне в Верх-Тулу ехать, — безрадостно отозвался Роман.
Свиркин вдруг подскочил и взмахнул руками, словно собирался взлететь:
— Ничего понять не могу! Почему потерпевший в носках?!
Роман с едва заметной снисходительностью взглянул на него и хмыкнул:
— Сам-то как думаешь?
Петр загорелся:
— Я так думаю: его мертвого выкинули из машины!
— Ну, мудрец, — вновь хмыкнул Вязьмикин, — он же был живой, когда ребята из медвытрезвителя его подняли.
— Ладно, пусть не мертвого, а раненого, какая разница?!
— Про тапок забыл? — победно глянул на своего молодого коллегу Роман. — Скорее всего, потерпевший с поезда за какими-нибудь беляшами побежал, он же в трико был и рубашке, да еще и тапочки — стандартная одежда пассажиров. Кстати, в это время несколько поездов проходило.
— Тихо, ребята! — вмешался я. — Петр, если ты считаешь, что погибшего привезли на машине, объясни, почему выбрано такое людное место? Все-таки стоянка такси, вокзал… Не слишком ли рискованно? — Я повернулся к Вязьмикину. — А ты мне скажи, пожалуйста, когда это на привокзальной площади в два часа ночи торговали беляшами? А?
Роман задумчиво потеребил ус и ответил:
— Может, и не за беляшами, мало ли зачем? Ты сам, Николай, говорил, что у погибшего на пальце белая полоска от перстня, да и денег у него не
обнаружено. Натуральный разбой! Представь, выбегает пассажир из поезда. В тапочках, в трико, в рубашонке, в руке гаманок зажал… Видит его какой-нибудь Нудненко-Чудненко и за ним…
— …В том гаманке — три тысячи, — закончил я за него.
Свиркин хихикнул. Роман дернул себя за ус и спрятался в тени сейфа. Воспользовавшись его молчанием, Петр вскочил.
— Может, погибший левачил? Привез кого-нибудь на вокзал, а тот его и убил, на перстень позарился или на машину.
— Или он тут рядом живет, вот и вышел в тапочках погулять, — не высовываясь из-за сейфа, подал голос Вязьмикин.
— Где же второй тапочек? — в раздумье произнес Петр.
«Действительно», — подумал я и набрал номер телефона.
— Ой, вы знаете, я боюсь его беспокоить, — выслушав мою просьбу, тихо ответила медсестра и, еще более понизив голос, добавила: — Он спит.
— Будите, будите, не бойтесь, — настоял я на своем и через минуту-две услышал в трубке недовольное сопение.
— Я понимаю, — сонным голосом, но в обычной своей манере, произнес Стеганое, — что мы расстались очень давно, что ты соскучился и жаждешь общения со мной… Но не мог бы ты позвонить мне вечерком… домой?
— Не сердись, Саша, посмотри у себя, может, у вас тапочек с ноги погибшего завалился?
— Слушай, старик, какие тапочки? Кто из нас спит?
Ты или я? Он же был в носках! Ты же сам зафиксировал это в протоколе, а Верочка и Анечка подписали. В носках! Повторяю по буквам: Николай, Осел, Слон, Корова…
Абезьян…
— Погоди, — перебил я, — посмотри, может, он в самом деле валяется где-нибудь на полу?
— У нас ничего не валяется! — возмутился Сашка. — В чем сдали, в том и приняли! Понял?! Звони как соскучишься…
Прерывистый зуммер возвестил о конце беседы.
— Ну что, нет второго тапочка? — догадался Роман. — Тогда мы побежали…
Свиркин открыл дверь и столкнулся со Снегиревым.
— Опер УР — вечно хмур! — поддел тот молодого оперативника.
— Нам некогда веселиться, — вступился за него Вязьмикин. — Это ОБХСС себе преступников выискивает, а мы их разыскиваем, нас за каждое нераскрытое преступление бьют.
Семен не успел ничего ответить, как аккуратно был отстранен плечом Романа.
— Вот черти, — пробурчал он, усаживаясь к окну, а затем задумчиво произнес: — Мне кажется, я где-то видел погибшего. Определенно видел. И совсем недавно…
Такого поворота я не ожидал и, не решаясь что-либо сказать, затаил дыхание. Семен словно нарочно не торопился и, устремив глаза в потолок, размеренно продолжал свои размышления:
— Где же я его видел? Так, так, так… Видел я его не раз… Значит, работал в одной из организаций, которые я курирую… Где? В фотообъединении? Нет… Вспомнил! — Снегирев поднял вверх указательный палец.
— Ну-у?! — выдохнул я.
— Дай сигарету.
Я быстро достал пачку и передал ему. Семен закурил и, выпустив струю дыма, небрежно бросил:
— На барахолке.
— Что, на барахолке?
— Видел его.
Забрав из рук Снегирева сигареты, я прикурил и разочарованно протянул:
— Знаешь ли, это все равно, что ты видел бы его в центре города… На вещевой рынок люди приезжают каждый выходной… Ни фамилии, ни адреса ты не знаешь, и узнать это практически невозможно…
— Это как сказать, — добродушно улыбнулся Семен.
— Ты можешь установить личность убитого? — недоверчиво покосился я.
Он с хитрецой взглянул на меня:
— Объясняю как другу. Погибший в джинсовом ряду крутился, было видно, что он там свой человек: здоровался со многими, по плечам похлопывал, беседовал. Правда, сам не торговал и не покупал, но…
— Надо туда ехать! Сегодня же воскресенье, иначе потеряем целую неделю!
— Что ты?! — вскинулся Семен. — Скоро конец дежурства, мне тещу с супругой на дачу везти, а с тобой поедешь на весь день!
— Какой день? Только туда и обратно, а потом вези свою тещу, — я постарался как можно увереннее взглянуть на него, хотя понимал, что «туда» и «обратно» не получится, но, увидев голубые наигранно-доверчивые глаза, рассмеялся и умоляюще произнес:
— Выручай, Семен, а?.. как я без тебя узнаю личность убитого?
— Николай, ведь дела об убийствах расследуются прокуратурой, — слабо попробовал сопротивляться он.
Я укоризненно посмотрел на него:
— Конечно, в понедельник материалы будут у следователя прокуратуры, но ты же прекрасно понимаешь, ничто не заменит поиска по горячим следам. Именно сегодня надо попытаться выжать из дела все возможное.
Семен глубоко вздохнул:
— Как ты насчет кофе?
08 часов 11 минут
«Запорожец» Снегирева, лавируя между машинами и людьми, приближался к вещевому рынку. Чем ближе к «толкучке», тем теснее становился поток автотранспорта, гуще толпа, бредущая по обочине.
— Илья Репин, «Красный ход в Курской губернии», — прокомментировал Снегирев, останавливая машину возле служебного входа.
На территории рынка было вообще не пробиться. От магнитофонно-пластового ряда веяло духом дореволюционной Одессы, смесью рока, диско, цыганщины и еще черт знает чего. Молодые люди, похожие друг на друга, в синей «фирменной» униформе напоминали бы воинское подразделение после команды «разойдись!», если бы не надменные, пренебрежительные лица, да не тяжелые мешки на помятых физиономиях. Они не зазывали покупателей, истошно крича, как торговцы с восточных базаров, а с безразличным видом демонстрировали «последние» пласты, упоминая при этом такие цены, от которых у сердобольных мамаш перехватывало дыхание, и мамаши тянули подальше своих упирающихся, словно молоденькие бычки, сыночков. Сыночки, старательно изображая на розовых, безусых лицах равнодушие, перетягивали родительниц к «джинсовому» ряду, где с «Монтаной» и «Леви» наперевес прохаживались все те же молодые в униформе, да вертелись их одинаковолицые спутницы. И здесь в ходу были такие цифры!.. Немного в стороне небритые мужики предлагали краны, ножовки, кисти, валики для наката с изображением огромных виноградных листьев. На земле красовались давно забытые госторговлей гипсовые собаки и кошки с прорезью для монет. Гипсовое зверье таращилось на всю эту сутолоку, а людское море двигалось, шумело, волновалось, перекатывая людей, как мелкий галечник, и порой выплескивая из своих глубин субъектов, довольно любопытных.
Сделав глубокий вдох, Семен, как опытный пловец, отважно бросился в буруны этого моря, успев крикнуть:
— Жди меня в комнате милиции, я скоро вернусь!
Вернулся он, правда, не очень скоро, но довольный собой.
— Лыков Владислав, — выпалил он, — я кое с кем переговорил, кое-кого порасспросил. Жалко, что я этим Владиком раньше не занялся.
— Адрес его узнал?
— Нет, но это не проблема, — ответил Снегирев и, помявшись, добавил: — Но самое любопытное, что на нашего покойничка, кроме Лыкова, по приметам еще один здешний завсегдатай похож, только фамилию его никто не знает, или говорить не хотят.
— Тогда давай с Лыкова начнем.
Семен взялся за телефон:
— Добрый день, девушка, мне бы один адресок…
10 часов 32 минуты
Вскоре, свернув на проспект Дзержинского, мы подъезжали к дому Лыкова. Квартира находилась на четвертом этаже. Поднявшись, я остановился, восстанавливая дыхание. Снегирев, не торопясь, где-то на третьем этаже. Я позвонил, открылась дверь, и мне стало ясно, что погиб не Лыков, хотя лицо стоявшего передо мной молодого мужчины, действительно, чем-то напоминало погибшего. Лыков удивленно смотрел то на меня, то на поднимавшегося по лестнице Семена. Я представился. В его глазах мелькнула тень беспокойства, но он быстро взял себя в руки:
— Проходите, пожалуйста, хотя мне не понятно, зачем я вам понадобился, вам и товарищу из ОБХСС, — слегка улыбнувшись, кивнул он в сторону Снегирева.
Тот в первую секунду опешил, но тут же вышел из положения:
— Вот она, популярность! Как кинозвезду всюду узнают, только автограф почему-то не просят. И вы, Лыков, наверное, не попросите, да?.
— Разумеется, нет, — снова улыбнулся хозяин.
Прошли в комнату. С любопытством разглядывая книги на стеллаже, Семен, не оборачиваясь, произнес:
— Владислав, что-то я в последнее время твоего двойничка не встречаю.
— Олега, что ли? — усмехнулся Лыков и, заметив, что Снегирев с заинтересованным видом перелистывает снятый с полки томик, с ехидцей спросил: — Есениным увлекаетесь? Могу дать почитать..
— С удовольствием бы, но в данный момент меня больше интересует Олег. Кстати, когда ты его видел в последний раз?
— Да я вообще с ним редко встречаюсь, да и то случайно.
Я вмешался в разговор:
— Так когда, где и с кем вы видели его в последний раз?
— Давно не видел, не помню, когда! Я же сказал, что встречался случайно! Он ко мне не приходил…
Снегирев поставил книжку на место и быстро спросил:
— А кто приходил?
Лыков отвернулся и, глядя на стену, неохотно ответил:
— Мишаня вчера был, деньги занимал. — Он помолчал и, повернувшись почему-то ко мне, резко бросил; — Да поймите же, завязал я с барахлом! На «балку» езжу только с друзьями повидаться!
— Если уж ты «завязал», помоги следствию, хотя бы правдивой информацией. Понял?! — подойдя к нему вплотную, резко сказал Семен, потом мягче добавил: — Меня интересует, когда Олег был на вещевом рынке… Никак не могу запомнить его фамилию. — Он поморщился, как бы пытаясь извлечь эту фамилию из своей памяти.
— Никольский, — подсказал Лыков.
Семен кивнул:
— Точно, Никольский… И как он поживает?
— Не знаю, — повел плечами Лыков.
— Ну-у… — укоризненно протянул Семен.
Лыков опустил голову и, глядя исподлобья, выдавил:
— Ребята говорили, должен сегодня появиться… с товаром, — и, увидев вопросительно поднятые брови Снегирева, пояснил: — Со штанами, будто сами не знаете, что он другим не занимается.
Снегирев удовлетворенно кивнул с видом человека, которому известно многое. Я вклинился в беседу:
— Владислав, кто такой Мишаня?
— Митя Мишин, музыкант из «Меридиана», — изумленно взглянул на меня Лыков, дескать, не знать Мишаню!
— Зачем он занимал деньги? — спросил я.
— Не знаю.
— Сколько?
— Полторы тысячи.
— Владик, а зачем ему столько? — тут же спросил Снегирев.
— Не знаю.
Чувствовалось, что Лыков начинает выходить из себя, сообразив, что поддавшись темпу вопросов, невольно стал говорить то, чего ему совсем не хотелось. Он мог замкнуться, и это тонко уловил Семен.
— Владислав, — улыбнулся он, — не темни… нам нужна твоя помощь.
Лыков покрутил головой, словно ему стал тесен воротник.
— Я и не темню, — уже спокойнее проговорил он. — Мишане привезли джинсы, много, а денег не хватило, вот он и прибежал ко мне… Только не надо впутывать меня в эту историю, я здесь ни при чем. — Он перевел умоляющий взгляд на меня.
Я не отреагировал на его мольбу и жестко бросил:
— Адреса Мишина и Никольского?
Лыков стал заискивающе объяснять, где живет Мишин. Адреса Никольского он не знал, сказал только, что тот живет где-то у нового моста через Обь.
11 часов 13 минут
В машине, развалившись на сиденье, я с деланным оживлением обратился к Снегиреву:
— Ну что, судьба ведет нас к Никольскому?!
— Не знаю, кого и куда она ведет, — нахмурился он, — а меня лично — под огонь жениных батарей, — и, не дожидаясь моих возражений, твердо заявил: — Все, еду домой!
Зная, что не выпущу его из рук, что он и сам не сможет бросить начатое расследование, что оба мы, как говорится, затравились этим делом, я не стал переубеждать Семена.
— Ладно, только подбрось меня до отдела, — спокойно сказал я.
Снегирев недоверчиво покосился на меня и повернул ключ зажигания. Всю дорогу он, насупившись, молчал, а я не дразнил его разговорами. Подрулив к РОВД, Семен сам нарушил молчание:
— Николай, ты иди, а я за бутербродами сбегаю.
— На дачу возьмете? — сделал я недоумевающее лицо.
Семен от такого нахальства оторопел и хотел, видимо, ответить тем же, но передумал и миролюбиво сказал:
— Да брось ты, Коля. Мы же со вчерашнего обеда ничего не ели, а нам еще к Никольскому.
Мне оставалось только удивиться его выдержке и сказать:
— Беги, я в уголовный розыск загляну. Может, у них что-нибудь проявилось.
Свиркин и Вязьмикин пили чай.
— В рабочее время чай распиваете?!
Свиркин смутился и торопливо поставил стакан:
— Так мы не завтракали, и дежурство наше кончилось.
Вязьмикин не отреагировал на мое замечание и продолжал громко швыркать.
— Давай, давай, Рома, — усмехнулся я, — сейчас Семен бутерброды принесет, будешь всухомятку давиться.
— Так бы сразу и говорил, — пробасил тот, отставляя стакан в сторону. — Я сейчас еще чаю накипячу.
— Николай Григорьевич! — с жаром воскликнул Петр. — Я Пахтусова, таксиста, нашел! Он на месте происшествия в начале третьего видел две машины. Они вплотную к забору стояли. Одна — «Жигули», красного цвета, другая — личная «Волга», ГАЗ-24, вишневая, буква «А» перед цифрами стояла Плохо только, что Пахтусов не заметил, когда машины уехали. Помнит, что когда «Спецмедслужба» подъезжала, их уже не было.
— Молодец, Петя, — похвалил я лейтенанта, — работай по машинам, — и, повернувшись к Вязьмикину, спросил: — У тебя что-нибудь есть?
Он устало махнул большой рукой:
— Ноги гудят… Ночь не поспи, да еще и по этажам полазь с этим поквартирным обходом… Пусто. Никто, как обычно, ничего не видел. Спали, говорят… И, действительно, что нормальному гражданину ночью делать? Ты не знаешь случайно, Николай?
Я почесал затылок и ничего не ответил.
— Вот то-то и оно, — удовлетворенно заключил Роман.
— А по Нуденко ты работал? — поинтересовался я.
Вязьмикин с укором посмотрел на меня:
— Слушай, дай чай попить… Где там твой Снегирев?! Не могу же я голодным ехать в Верх-Тулу искать подругу этого Нуденко.
— Идет! — оживленно выкрикнул Свиркин, высматривавший в окно Семена.
12 часов 24 минуты. Свиркин
Когда Петр попросил у капитана областной ГАИ составить список владельцев «Жигулей» красного цвета, тот озадаченно переспросил:
— Всех?!
Петр решительно кивнул. Капитан уныло посмотрел на него, помолчал, потом тяжело вздохнул:
— А можно что-нибудь попроще, а, лейтенант?
Лицо Свиркина разочарованно вытянулось. Ему стало ясно, сколько документов нужно переворошить, чтобы удовлетворить его просьбу, ведь в Новосибирске столько красных «Жигулей»…
— Можно и попроще, — грустно согласился он. — «Волга» ГАЗ-24… Госномер начинается с буквы «А». Цвет — вишневый…
— С этого бы и начинал, — обрадовался капитан.
Через несколько минут у Петра были адреса трех владельцев вишневых «Волг».
— Если все-таки понадобятся тебе эти «Жигули», — напутствовал его капитан, — приходи в понедельник. Тебе документы дадут, выписывай, покуда сил хватит.
12 часов 55 минут. Свиркин
Дверь открыла жена Краскова, автолюбителя, значившегося в списке под номером один.
— Только лежит под ней, лучше бы продал! — в сердцах бросила она. — Опять сломалась, вторую неделю чинит. Вот и сегодня с утра в гараже пропадает.
До гаражей было рукой подать. Пройдя по длинному коридору мимо множества пронумерованных металлических ворот, Петр остановился у распахнутого гаража Краскова. Из полумрака слышался жизнерадостный мужской хохот.
— Мне бы хозяина, — нерешительно произнес Свиркин, вглядываясь в темноту.
— Славка, это жена тебе покупателя нашла! — раздался дискант из едва различимой в полутьме группы и утонул в хохоте. На свет вышел невысокого роста, но крепкого телосложения лысоватый мужчина.
— Я хозяин, а что вы хотели? — спросил он и, обернувшись в сторону гаража, крикнул: — Да тихо вы! Раскатились!
Петр представился. Владелец «Волги» снова обернулся и попросил:
— Ребята, быстренько разбежались. У меня деловой разговор.
Из гаража, один за одним, похохатывая, вышли «ребята» в возрасте от тридцати до шестидесяти лет и разбрелись по своим кельям.
— Вы уж извините, собрались тут с друзьями посудачить.
— Ничего, ничего, — успокоил его Свиркин. — Скажите, Вячеслав Климович, у вас машина действительно не на ходу?
Хозяин «Волги» усмехнулся:
— Это вам жена, наверное, сказала?.. Да нет, на ходу, это я ей так говорю, а то надоела совсем. То туда вези, то сюда. Обленилась! В магазин — и то на машине норовит. На беду себе эту «Волгу» завел. Я ее в Сирии заработал. Ишачил там, как проклятый. А жарища! Меня туда в командировку посылали, сварщик я. Ну и заработал этот тарантас себе на горе.
Петр терпеливо и не без интереса слушал Краскова, который с увлечением рассказывал о далекой арабской стране, о ее нравах, обычаях, людях.
— А что?! Я и деньжат подзаработал, и сирийцам показал, как у нас в Сибири вкалывают! Я им говорю, что нам ваши плюс сорок?! Вот я в Тюмени работал, — он взял Петра под локоть и потянул в гараж, — я сейчас вам расскажу…
Свиркин высвободил руку и не совсем к месту, как показалось Краскову, спросил:
— Вячеслав Климович, этой ночью вы никуда не ездили?
Красков оторопело посмотрел на него.
— Нет, спал. Разве поедешь? Жене-то сказал, что машина того… А вы по аварии какой-нибудь проверяете?
— Да почти, — уклонился Свиркин.
— Можете посмотреть мою машину, целехонька, — обиделся владелец «Волги».
13 часов 03 минуты
Никольский, как сообщили нам в адресном бюро, жил Но улице со странным названием Лесозавод. Свернув с Владимировской вниз к Оби, туда, где раньше была Чернышевская пристань, Снегирев остановил машину около старого деревянного двухэтажного дома. Мы поднялись по лестнице с крутыми скрипучими ступеньками на второй этаж и постучали. На стук из квартиры никто не вышел.
— А вдруг погибший не Никольский, а еще один его двойник? — с грустной иронией проронил Семен.
— Все может быть, — в тон ему ответил я и постучал в дверь напротив.
Тишина. Я снова постучал.
— Кто? — раздался за дверью хриплый старческий голос.
— Откройте, пожалуйста, — попросил я, — мы тут к вашему соседу пришли, а его нет…
Дверь приоткрылась, но ровно настолько, чтобы говорящий мог высунуть голову. На нас уставились красные, маленькие, настороженные глазки, удивленно-изучающе хлопая редкими ресницами. Одутловатую физиономию старика покрывала мелкая сетка морщин и бледно-фиолетовых жилок, на голове торчали клочки седых волос.
Семен оттеснил меня и дипломатично начал:
— Отец, вы уж нас извините…
— Да, ничо, ничо, — перебил старик, — вы к кому пришли-то?
— К Никольскому. Не знаете, где он?
— Холера его знает. Он молодой, а я старый. Разве уследишь за ним. То туды, то сюды… Вчерась, вроде, дома был. Сегодня, врать не буду, не видал.
— А шума вчера у него не было? — попытался выяснить я.
Старик долго разглядывал нас, потом пробурчал:
— Не слыхал, я вообще недослышу, так что извиняйте, — и закрыл перед нашим носом дверь.
Мы переглянулись.
— Очень содержательный разговор, — съязвил Семен.
Я только пожал плечами и направился к другим дверям. Скрип дверных шарниров заставил меня обернуться. Из небольшой щели был виден глаз нашего собеседника. Старик смотрел на нас и молчал. Мы тоже ничего не говорили. Наконец он прохрипел:
— Вы у Карповны поспрашивайте, она с Олегом в дружбе живет. Вона ее дверь.
Дверь, на которую указал взгляд старика, нам открыли сразу. На пороге стояла крепкая пожилая женщина. Поздоровавшись, я спросил, как нам найти Никольского.
— А вы кто ему будете? — поинтересовалась она.
Я развернул удостоверение и показал его женщине. Она достала из кармана халата очки, водрузила их на нос и, взяв документ, медленно шевеля губами, стала изучать его, пригляделась к фотографии и вскинула на меня глаза, сверяя фото с оригиналом. Плюсовые линзы очков делали ее глаза большими, как у пчелы. Осмотр, похоже, удовлетворил ее, так как она, придерживая на груди халат, чуть отошла в сторону, пропуская нас:
— Проходите.
В комнате, несмотря на полдень, было сумрачно. Карповна пододвинула нам стулья, а сама тяжело опустилась на табурет и вопросительно посмотрела на меня.
— Вы не знаете, как нам найти Никольского? — повторил я свой вопрос. — Говорят, вы с ним в дружбе живете?
— Вам наговорят, — резко ответила хозяйка квартиры. — Это, верно, Ванька-алкаш натрепал?
— А что, неправда?
— Да какая там дружба?! Олег-то нас, соседей, и за людей, поди, не считает. Все свысока смотрит.
— Выходит, сосед на вас наговорил? — вставил Семен.
Карповна мельком глянула на него и ответила, обращаясь ко мне:
— Ванька что угодно наговорит. Сегодня он трезвый, с похмелья мается, поэтому и тихий, как божий одуванчик, а выпьет — покою от него нет… Дружба наша с Олегом простая: он пьет, я бутылки сдаю. Гости у него часто бывают, коньячком балуются, армянским. Иной раз за вечер пять-шесть бутылок высадят.
— Почему же он сам бутылки не сдает? — спросил Снегирев.
— Брезгует, не желает унижаться, — ответила Карповна и поджала губы, а потом, помолчав, задала вопрос, который, видимо, ее интересовал с момента нашего прихода: — Вам-то он зачем понадобился? Проворовался, поди?
Я ответил вопросом:
— Почему вы так решили?
— Так он же экспедитором в кафе работает…
— Ну и что? — наивным тоном поинтересовался Снегирев.
— А то! На зарплату так коньяки не глушат, — не глядя на Семена, сердито ответила хозяйка. — Видать, другие доходы есть.
— С кем же он пьянствует? — миролюбиво сказал я.
— А не поймешь с кем, — проворчала Карповна. — То ли мужики, то ли бабы… Все в штанах одинаковых, жинсы называются. Молодые все, сами знаете, какая она, молодежь…
— Скажите, — обратился к ней Снегирев, — а мужчины со свертками или с чемоданами к нему не приходили?
Я посмотрел на Семена. Вот что значит ОБХСС, все свое выясняет.
— Были и с чемоданами, — кивнула мне хозяйка, — всякие были.
Я все еще не был уверен, что погибший и Никольский одно и то же лицо, и поэтому спросил:
— Может, у кого-нибудь из соседей есть фотография Олега.
— Откуда? Он с ними не сильно якшается. Богатый больно, — съехидничала Карповна. — Две машины…
— Как две? — переспросил Семен.
— А так, — объяснила мне хозяйка. — Одна — красная, настоящая, а другая — на пальце. Так сам Олег говорит… Это перстень у него такой большущий, золотой, с камнями.
Я вспомнил незагорелую полоску на пальце трупа, вспомнил, что таксист Пахтусов видел у здания «Метростроя» красные «Жигули», и во мне стало крепнуть убеждение, что убит именно Никольский.
— Да, чуть не наврала! — хлопнула себя по лбу Карповна. — Совсем из ума выжила. Есть карточка! У Мишки из четвертой квартиры, они с Олегом на завалинке весной фотались.
Мишка оказался здоровенным детиной лет двадцати пяти. Удостоверение оказало на него магическое действие, и он, недолго порывшись в комоде, подал мне фотографию. Можно было вскрывать квартиру Олега Никольского. На снимке, наполненном весенними лучами солнца, он и Мишка щурились в объектив, лица были веселые, у Олега — чуть самодовольное. Как мало походило это лицо на то, которое, Стеганов накрыл больничной простыней! Я показал фото Семену, и тот кивком головы дал мне понять, что он тоже не сомневается — на снимке погибший. С разрешения владельца фотографии я опустил ее в карман пиджака. Выяснив у Михаила, что Никольский имеет машину «Жигули» марки ВАЗ-2106, госномер А 48–34, я попросил Снегирева съездить за экспертом. Пора было приступать к осмотру квартиры Никольского, а без эксперта этого делать не следовало.
13 часов 43 минуты. Свиркин
Доктора наук Брусничкина дома не оказалось. Его старенькая мать посоветовала:
— Удумал же! Детей и жену в «Волгу» свою усадил и покатил к узбекам, а я вот хозяйство в деревне оставила, сижу тут, как сторож, охраняю ихние мебеля… Вторая неделя уж пошла, как уехал. Вот так-то, милай.
14 часов 27 минут. Свиркин
Жена владельца третьей вишневой «Волги» нервно покрутила в руках милицейское удостоверение и, беспокойно заглядывая Петру в глаза, проворковала:
— На работе, ни выходных, ни проходных… И у вас тоже служба не дай бог… Что-то случилось?
— Автодорожное, — коротко ответил Свиркин, — среди проезжавших мимо машин была и вишневая «Волга».
— А-а-а, — облегченно протянула женщина, но настороженность в ее глазах не пропала.
На вопрос, где был ночью ее муж, она не очень уверенно ответила:
— Дома… где же ему еще быть?
Узнав, где работает муж, Петр направился к нему.
В окошечке пивного ларька гостеприимно горела вывеска: «Пиво есть» с изображением кружки и рака, которого большинство и видит-то только на картинках. День был довольно прохладный, хотя и светило солнце, поэтому народу у киоска было немного. Большие красные руки с массивным перстнем лихо подхватывали пустые банки, бидоны, канистры, затягивали их внутрь ларька и вскоре выставляли назад уже отяжеленные пенящимся напитком.
За киоском, в тени клена, скромно притулилась вишневая «Волга». Петр неторопливо подошел к ней и с равнодушным видом уличного зеваки заглянул внутрь. На светло-коричневом чехле заднего сиденья едва заметно проступали тщательно замытые разводы бурого цвета.
Петр шагнул к киоску и стукнул в дверь. Дверь распахнулась, и мимо оперуполномоченного прошмыгнула, старательно прикрывая лицо рукой, жена владельца третьей автомашины ГАЗ-24. Она, не оглядываясь, быстро направилась к автобусной остановке. Петр задумчиво посмотрел ей вслед и вошел в ларек…
— Поди, опять с девками катался, — ворчливо добавила Карповна, — только и делал, что развлекался. Отвеселился теперь, поди? — мгногозначительно посмотрела на меня хозяйка.
— Отвеселился…
Я сидел за столом и дописывал показания Карповны, когда в коридоре заскрипели половицы и в комнату заглянул Глухов:
— Сидишь пишешь?.. Сам не отдыхаешь и другим не даешь. Ведь с постели меня твой Снегирев поднял. Ночью вызывали и днем выспаться не дают… У меня один приятель долго терпел вот такие же воскресные выдергивания, а потом обиделся…
— Сергей Петрович, ты уж прости, но, сам понимаешь, ты у нас первый человек в этом деле, без тебя никак, — сказал я, прекрасно зная, что Глухов не очень любит, когда его нахваливают.
— Ладно тебе, — буркнул он, — пошли, что ли, квартиру вскрывать?
— Это как же без хозяина? — возмутилась Карповна, догадавшись, о какой квартире идет речь. — Непорядок это. Вы хозяина дождитесь.
— Нет уж, мамаша, мы его дожидаться не будем, — невесело хмыкнул Глухов, — как говорит один мой приятель, из морга не возвращаются.
Карповна только руками всплеснула.
В комнату погибшего мы вошли вдвоем с Глуховым. Карповна и Михаил, тот самый парень, что дал нам фотографию Никольского, приглашенный в качестве понятых, мялись у порога. Было сумрачно. Раскидистые тополя, росшие у самых стен дома, скрадывали дневной свет.
— Слушайте, в таких условиях я работать не могу! — недовольно заявил эксперт. — Зажгите свет!
Снегирев шагнул в комнату, щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Семен еще несколько раз щелкнул. Безрезультатно.
— Может, пробки перегорели? — подсказал Михаил. — Пойдемте, я покажу, где его щиток… — И они с оперуполномоченным вышли.
Я осмотрелся. Действительно, покойник жил далеко не бедно. Обычная печь отделана изразцами, дорогая мебель, японская стереоаппаратура; неплохая, хотя большей частью составленная из книг, приобретенных в обмен на макулатуру, библиотека.
— Пока они там сделают, — буркнул Глухов и, наигрывая на губах марш для духового оркестра, принялся за дело: сфотографировал обстановку в комнате, достал кисточки, баночки с порошком, дактопленку.
Я подошел к журнальному столику, на котором лежала раскрытая книга, и в это время неожиданно зажегся торшер, стоявший тут же. Его яркий свет желтым пятном упал к моим ногам, заиграл на полированной мебели.
— Наконец-то, — пробурчал Глухов, не отрываясь от своего занятия.
Появился Снегирев и удивленно произнес:
— Ты понимаешь, пробки были выкручены… А вы что при местном освещении? Люстру бы включили.
— Мы вообще ничего не трогали, — покрывая белым порошком поверхность стола, буркнул эксперт. — Покойничек свет забыл выключить, когда из дома уходил.
— Может, он пожара боялся и поэтому пробки перед уходом выкрутил? — предположил Семен и направился к платяному шкафу.
Глухов заметил его движение и гаркнул:
— Не трогай ничего!
Я поддакнул:
— Семен, ты поосторожней, могут пальчики остаться.
Размахивая кисточкой, Сергей Петрович огорченно констатировал:
— Похоже, кроме отпечатков пальцев хозяина никто следов не оставил.
— Слушай, ничего страшного, если я эту книжку возьму? — спросил я у него.
Эксперт покосился на журнальный столик:
— Бери, я там уже обработал.
Под книгой Дрюона лежала небольшая полоска бумаги с написанным от руки текстом: «От С — 100, С — 15».
Глухов через мое плечо взглянул на бумажку.
— Ребус какой-то…
Когда эксперт наконец разрешил проникнуть в платяной шкаф, Семен, недолго порывшись, без лишних слов, но с достоинством протянул мне большую бумажную этикетку с изображением ковбоя и надписью «Монтана».
14 часов 32 минуты. Свиркин
Видимо, жена владельца третьей вишневой «Волги» достаточно хорошо описала внешность оперуполномоченного, так как не успел Петр войти в пивной киоск, как большеголовый мужчина в засаленном халате радушно улыбнулся и, сделав гостеприимный жест, попросил минуточку обождать. Потом согнулся к окошечку и крикнул, что пиво кончается и очередь можно не занимать. Петр присел на обшарпанный табурет с железными ножками, стоящий в углу рядом с большим баком, и принялся рассматривать обстановку в этой полутемной каморке. Продавец пива быстро обслужил покупателей, напоминая каждому о его обязанности ждать отстоя пива, и, выставив наружу последнюю канистру, захлопнул окошечко и ловко развернул табличку. Теперь кружка и рак оказались внутри киоска, сообщая Петру, что пиво есть, а прохожим, что его нет в наличии.
— По кружечке? А, товарищ оперуполномоченный! — сверкнул золотой коронкой продавец пива.
Петр категорически отказался и полюбопытствовал, откуда тому известно, что он работник уголовного розыска. Вопрос вызвал у мужчины приступ жизнерадостного гоготанья.
— Я милицию за версту чую! — оптимистично сообщил он и, внезапно прервав смех, добавил: — Если серьезно, жена сказала, что вы мной интересуетесь. Вы с ней не столкнулись?
— Столкнулся, — многозначительно ответил Свиркин.
Мужчина весело загоготал:
— Она у меня такая! Любого обскачет!
Петр выждал, когда смешливый продавец пива немного успокоится, и сухо предложил:
— Давайте перейдем к делу.
— Давайте, — охотно согласился тот, устраиваясь напротив Свиркина, так, что его обтянутые линялыми джинсами^колени уперлись в острые коленки Петра.
— Вашу машину видели сегодня ночью у здания «Метростроя», — испытывающе глядя, сообщил Свиркин.
— Ну и что? — озадаченно спросил продавец пива.
— Вы там были? — почти утверждающе спросил Петр.
— Был, а что?
— Чехол заднего сиденья вашей машины в каких-то замытых пятнах. Что это за пятна?! — не сводя глаз, быстро проговорил лейтенант.
— Кровь, а что? — с еще более озадаченным видом выдохнул продавец пива.
Петр от такого признания слегка ошалел и машинально спросил:
— Чья кровь?!
— Скотская, а вы что подумали?! — начиная что-то соображать, чуть взвинченно воскликнул продавец пива.
Петр, все так же пристально глядя, раздельно произнес:
— Что вы делали ночью на вокзале?
— Друга встречал, а что, нельзя?
— Можно, — ответил Свиркин и быстро спросил: — Как его фамилия?
— Карлов, он директор вагона-ресторана, — слегка раздраженно принялся объяснять продавец пива. — Он из поездки приехал, я всегда его встречаю, он мне мясо привозит, фрукты… Вот и сегодня встречал, да мешок полиэтиленовый дырявый попался, сиденье испачкал, вот и пришлось замывать… А что случилось?
Петр, помня наставления Вязьмикина, уклончиво ответил:
— Проверяем одно обстоятельство. Кстати, где живет ваш друг?
— На Затулинке, вот и встречаю, автобусы в это время не ходят, а на такси у него денег нет, — продавец пива неожиданно разразился громогласным гоготом и, просмеявшись, предложил: — Если вы меня в каком-то обстоятельстве подозреваете, то можете у Карлуши спросить, я вас отвезу.
Петр вежливо отказался и с металлической ноткой в голосе спросил:
— Как же увязать ваши показания и показания вашей жены?
— В смысле?
— Она говорит, что всю ночь вы были дома, — склонив голову набок, с легкой ехидцей пояснил Петр.
— А что тут увязывать, наврала она вам. Решила на всякий случай сказать, что я дома был. Мало ли что…
— Предусмотрительная у вас жена, — тем же тоном похвалил Свиркин.
— Настоящий Штирлиц! — опять загоготал продавец.
— Почему вы выбрали именно это место для стоянки? — спросил Свиркин, сдерживая легкое раздражение, вызванное беспричинной веселостью собеседника.
— А я и не выбирал, еду по Челюскинцев, у самой площади мне красный «Жигуленок» дорогу пересек и шмыг к забору. Думаю, а я что, хуже? И за ним следом, рядом и встал. Тем более Карлуша знает, если меня внизу нет, значит, у «Метростроя». А вскоре и он нарисовался, мы и поехали.
— Сколько человек было в «Жигулях»?
— Я не присматривался толком, но, по-моему, один.
— Как он выглядел?
— Не знаю, — пожал плечами продавец пива, — я на него не смотрел, я на вокзал смотрел. Карлушу выглядывал.
— Вам ничего не говорит фамилия Никольский? — быстро спросил Петр.
Продавец удивленно посмотрел на него:
— Говорит, а что?.. Он в нашей столовой работал, если вы имеете в виду Олега Никольского?
— Почему вы говорите о нем в прошедшем времени? — въедливо поинтересовался Свиркин, не сводя глаз с лица собеседника.
Тот вскинул брови и почесал лоб.
— А как я могу еще говорить, если он уже скоро год, как уволился?
— И вы больше с ним не встречались?
— Зачем он мне нужен?! Джинсы я и без него достану! — ответил продавец и снова затрясся от гогота.
15 часов 36 минут. Вязьмикин
Дом, где живет участковый инспектор милиции, знал каждый житель Верх-Тулы, и поэтому Роман без труда нашел его усадьбу. Войдя в калитку, он увидел греющийся на солнышке желтый мотоцикл, шныряющих между его колесами кур и ленивого пса, безучастно посмотревшего на оперуполномоченного и вновь закрывшего глаза. Пес, должно быть, устал от бесконечных посетителей и уже давно утратил желание лаять на них. Роман кашлянул. Пес приоткрыл один глаз. Никто не отозвался. Тогда Вязьмикин басовито крикнул:
— Хозяин дома?!
Пес привстал, выкинул передние лапы, прогнул спину и протяжно зевнул.
— Хозяин дома?! — так же громко повторил Роман.
Пес опустил голову набок, удивленно взглянул на него, решил, видимо, что пора и власть применить, и, без особой охоты, гавкнул. Роман добродушно погрозил ему толстым указательным пальцем, и пес снова растянулся на земле, окончательно убедившись в отсутствии агрессивности со стороны гостя. Услышав за спиной возглас: «Что шумишь?», Вязьмикин обернулся и увидел показавшуюся из сарая взлохмаченную голову мужчины, который по случаю выходного дня, очевидно, был занят домашними делами.
— Доброго здоровьица… Вы участковый будете? — сказал Роман.
— Ну…
— Я из уголовного розыска.
Участковый недоверчиво посмотрел на него.
— Да я не из вашего райотдела, — пояснил Роман и развернул удостоверение.
Хозяин мельком, но зорко глянул на документ и пригласил:
— Проходи в избу, я сейчас. Руки вытру.
— Некогда мне заходить.
— Ну как желаешь.
— Меня Мария интересует. Есть, говорят, у вас в селе такая.
Участковый нахмурил лоб и почесал затылок:
— Мария?.. Мария? Понял! Только ее не Мария, а Марфа, по паспорту, зовут, — наконец сообразил он.
— Марфа Посадница, — хмыкнул Роман.
— Во-во, — усмехнулся участковый инспектор, вытирая руки каким-то старым халатом. — Как кто освободится, сразу к ней, пока снова не посадят, живет. А там, глядишь, и другой освобождается. Это ты точно подметил… Марфа — посадница. Никак не могу отучить ее от этого дела, сколько уж раз штрафовал за то, что живут у нее без прописки… Да толку… Совсем развинтилась девка.
— Не покажешь, где она живет?
— Отчего не показать, покажу, — участковый кивнул в сторону мотоцикла, — садись…
Когда Роман втиснулся в коляску, инспектор с грустью посмотрел на просевшее колесо, постучал его кончиком сапога, размышляя, вероятно, о том, что можно было бы и пешком дойти.
— Поехали! Поехали! — уже командовал Роман.
Еще молодая, но уже довольно потрепанная жизнью Марфа, увидев участкового, наигранно обрадовалась и бойко стрельнула глазами по большой фигуре Вязьмикина, но участковый не дал ей рассыпаться в любезностях и сурово одернул:
— Товарищ из города приехал. — Он указал глазами на Романа. — Так что ты не разглагольствуй, ему некогда. Что спросит — отвечай без утайки… Ты меня знаешь!
— Еще бы, — фыркнула та в ответ и настороженно взглянула на Вязьмикина.
Роман крутнул свой казацкий ус и без обиняков спросил:
— Вам знаком гражданин Нудненко?
Женщина отвела глаза и ничего не ответила.
— Знаком, знаком, — ответил за нее участковый, — по глазам вижу — знаком. — Он подошел к Марфе и негромко произнес: — Мария, не кобенься… Ты меня знаешь.
— Ну известен! — бросила колючий взгляд хозяйка.
— Мне бы его справочку об освобождении, а то задержали Нудненко без документов, он говорит, у вас справочка-то, — пояснил Роман.
— Нету у меня никакой справочки! — взорвалась женщина.
— Мария! — осадил ее участковый. — Тебя просят справочку об освобождении из мест лишения свободы гражданина Нудненко, поняла?!
— Сейчас посмотрю, может, завалялась где.
Женщина принялась переставлять посуду на столе, как будто документ мог быть среди грязных стаканов и огрызков хлеба.
— Мария, ты вон в ту сумочку глянь, — участковый кивнул на черную, с потрескавшимся лаком дамскую сумочку, висящую на гвоздике над разбросанной постелью.
Марфа порылась в сумочке и, вытащив оттуда розовый длинный листок, удивленно округлила глаза.
— И правда… Ты, что ли, Василич, подложил?
Инспектор поморщился:
— Мария…
— Дайте-ка сюда справочку, — протянул руку Роман. — Я, с вашего позволения, с собой ее возьму.
Женщина с безразличным видом пожала плечами:
— Берите, на кой… она мне?
15 часов 27 минут
Опечатав дверь квартиры Никольского, мы вышли на улицу. Глухов, похлопав пухлой ладонью по крыше «Запорожца», проворчал:
— Как сажусь в него, так удивляюсь…
— Чему? — открывая дверцу, подозрительно спросил Снегирев.
— Как нормальные люди, вроде меня, сюда влазят? — усмехнулся эксперт.
— Нормальные люди, Сергей Петрович, в костюмах пятьдесят шестого размера не ходят, — сказал я, откидывая переднее сиденье. — Пролазь…
Глухов сунул мне фотоаппарат и дипломат с криминалистическими принадлежностями и, глубоко вздохнув, протиснулся в салон.
Когда машина, с трудом преодолев крутой подъем, вырулила на Владимировскую, Снегирев задумчиво произнес:
— Николай, ты не думаешь, что таксист видел у «Метростроя» «Жигули» Никольского?
— Думаю или нет, а машину искать нужно, тем более что мы знаем и марку, и номер.
— Вы ищите, ищите, — подал голос эксперт, — только вначале меня до автобуса подбросьте.
— Мы тебя до самого дома довезем, — успокоил я Глухова, — только сначала в облГАИ заскочим, это по пути…
Дежурный по областному отделу Госавтоинспекции удивленно поднял голову:
— Что-то вы сегодня зачастили? Недавно ваш опер был, долговязый такой. Тоже «Жигулями» интересовался, только ему не одни, а все красные подавай…
Выслушав меня, капитан включил рацию, и в эфир понеслось: «Всем постам, всем постам. Я — „Волхов“. Разыскивается автомашина „Жигули“, ВАЗ-2106, красного цвета, госномер А 48–34 НБ. Машина угнана в ночь с субботы на воскресенье. Преступник, возможно, вооружен. При задержании соблюдайте осторожность». Повторив свое сообщение, дежурный отключил связь. Я уже собрался уходить, но в это время затрещала рация: «„Волхов“, „Волхов“, ответьте шестнадцатому. Прием».
Шестнадцатый пост ГАИ сообщил, что в Бугринской роще, недалеко от пляжа, им обнаружена объявленная в розыск машина, и попросил дальнейших указаний.
Капитан вопросительно посмотрел на меня.
— Пусть ждет, скоро подъеду, — бросил я.
Снегирев дремал, опустив голову на руль.
— Домой?
— Нет, в Бугринку. Обнаружена машина Никольского.
— Ты что, с ума сошел? — Семен сопроводил свой возглас протестующим жестом руки. — Все, что можно было, сделали. Что тебе еще надо? Не поеду… Да у меня и горючки не хватит.
Я молчал, понимая, что мы оба очень устали и его сейчас нельзя останавливать, разрядка просто необходима.
— Поедет, поедет, куда ему деваться? — пытаясь улечься на заднем сиденье, пробурчал Глухов. — И горючку найдет… — Он похлопал Снегирева по плечу. — Никуда мы, Семен, от этого Ильина не скроемся.
— Меня же жена ждет, теща. Мне их на дачу везти и вообще… — начал успокаиваться Снегирев.
— Ладно! Бросаем все и едем домой спать! — резко ответил я и отвернулся к окну.
— Тоже дело, — благодушно поддакнул Глухов.
Семен повернул ключ зажигания и буркнул:
— Поехали на заправку…
— Я же говорил, что поедет, — резюмировал эксперт, продолжая свои попытки устроиться поудобнее.
class="book">15 часов 58 минут
— Приехали! — разбудил меня голос Снегирева.
Я открыл глаза и увидел в десятке метров от нас, между деревьями, красные «Жигули», желто-голубой мотоцикл инспектора ГАИ и его самого: молодого, подтянутого, в сверкающих сапогах, перепоясанного белыми полосами ремней.
Когда я подошел, он доложил, что машину Никольского обнаружили рыбаки, обратившие внимание, что к ней никто не подходит в течение нескольких часов. Фамилии, домашние адреса и место работы рыбаков он записал.
— Где бы нам найти понятых? — прервал я его рассказ.
Осенний пляж был пуст. Только на середине реки покачивались на волнах надувные лодки с нахохлившимися фигурками любителей рыбной ловли.
— Может, начнем пока, а там, глядишь, и подойдет кто-нибудь, — предложил Семен.
— Вот оно и видно, что ты институт народного хозяйства заканчивал, — с кряхтением выбираясь из «Запорожца», ворчливо проговорил Глухов. — Недостатки образования сказываются: плохо уголовно-процессуальный закон знаешь… Без понятых и начинать нельзя.
— Где же их взять? — огляделся по сторонам Снегирев.
Положение спас инспектор ГАИ:
— У железнодорожного моста, на камнях, кажется, кто-то рыбачит. Съездить?
— Если можно побыстрее, — попросил я.
Инспектор уселся на своего желто-голубого коня и, привстав на стременах, помчался вдоль берега.
— Хорошо-то как! — мечтательно проговорил Глухов, когда мотоцикл инспектора скрылся за деревьями. — Воздух, река, травка… Сидим в кабинетах, ишемические болезни сердца наживаем, природу не замечаем, а тут… Тишь-то какая!
— Хотел я сегодня природой насладиться… — проворчал Семен и покосился на меня.
Я молча проглотил этот вполне заслуженный упрек.
Не успели мы выкурить по сигарете, как послышался рокот мотоцикла и появился инспектор с двумя мужчинами в брезентовых дождевиках.
Я разъяснил понятым их права и обязанности, и мы начали осмотр. Глухов щелкал затвором фотоаппарата, снимая «Жигули» со всех сторон. Снегирев уселся на пенек поодаль, чтобы не вызывать нареканий эксперта. Я достал платок, открыл дверцу автомашины и попросил понятых подойти поближе. Они заглянули в салон и поморщились. Все заднее сиденье и пол около него были, как пишется в протоколах, в пятнах бурого цвета, похожих на кровь. На полу лежал тапочек, точно такой же, как найденный при осмотре места происшествия у здания «Метростроя». Если бы в момент нападения Никольский был за рулем, кровь была бы и здесь.
— Сергей Петрович! — откликнул я Глухова.
Тот плечом оттеснил понятых и уставился на тапочек.
— А ты переживал, Николай, вот и второй, — проговорил он и, не оборачиваясь, крикнул: — Снегирев, принеси-ка мой чемоданчик!
Семен послушно исполнил его просьбу. Эксперт достал пробирки, скальпель и принялся изымать образцы крови. Я обошел машину и опять же с помощью платка, чтобы не оставить отпечатков пальцев, попробовал открыть багажник. Крышка легко подалась вверх. Обычный набор: запаска, лопата, трос, камеры, ключи, домкрат и другие принадлежности, какие всегда возят с собой автомобилисты. Мое внимание привлек торчащий из-под камеры уголок картонки. Это была багажная бирка. Такие прикрепляют в аэропортах к чемоданам. Ее нужно было изъять, но пока эксперт не запечатлеет на пленку расположение вещей в багажнике и не попытается снять с них отпечатки пальцев, этого делать не следовало, и я, опустившись на четвереньки, принялся ползать вокруг машины, раздвигая руками начинающую увядать траву. Это, похоже, позабавило понятых: они заулыбались, но вовремя погасили улыбки. На них уже сердито и строго смотрел инспектор ГАИ.
— Ильин! — услышал я голос Глухова и обернулся в довольно-таки неудобной позе. — Замри!
Не успел я отреагировать, как эксперт щелкнул затвором фотоаппарата и расхохотался. Инспектор ГАИ смущенно улыбнулся, но, покосившись на понятых, прикрыл улыбку рукой, имитируя кашель. Удовлетворенный удачным кадром, Глухов вернулся к своему занятию.
В траве, кроме пожелтевших от влаги и времени, твердых, как камень, окурков, консервных банок да битых бутылок — этих извечных спутников «культурного» отдыха, — я ничего не обнаружил. Оттирая зелень с коленей, я спросил у Глухова:
— Ты закончил?
— Заканчиваю, — отозвался эксперт, — можешь забирать свою бирку.
— Как с отпечатками?
— Пусто, все бензином протерто…
17 часов 31 минута
В полупустой столовой мы долго и молча боролись с бифштексами. Наконец я не выдержал:
— Какие будут версии?
— Убийство из ревности! — большим глотком допивая компот, заявил Глухов. — Сам же говорил, что Никольский женщин очень уважал. Вот обманутый муж подкараулил его и… рогами…
— На теле погибшего следов характерных для удара рогов не обнаружено, — усмехнулся я. — Но версия «обманутый муж» требует проверки.
Глухов тыльной стороной ладони вытер полные губы и произнес:
— Рекомендую обратить внимание на протекторы, если я не ошибаюсь, а ошибаюсь я, как ты знаешь редко, у «Метростроя» была именно эта машина. Помнишь след?
— Помню, конечно.
— Вот и я говорю: что Никольский там делал?
— Может, левачил? — вмешался Снегирев.
— Эту версию еще утром выдвинул Свиркин, — сказал я. — Давай что-нибудь поновее.
Семен поднял глаза в потолок и вдруг встрепенулся.
— Николай, переходи к нам в ОБХСС, не надо будет с покойниками возиться… Машина в Бугринке, Никольский у вокзала, выкрученные пробки в его квартире… Нет, не вижу никакого просвета.
— Дело говорит Семен, — подхватил Глухов. — Иди в ОБХСС. Видишь, какой он кругленький да розовый, ему же сроки расследования по ночам не снятся.
Снегирев допил кефир, поставил стакан на стол и невозмутимо ответил:
— Хороший цвет лица — признак здоровья. Больше молочного употреблять надо… А что касается сроков, так у нас они тоже есть.
— Ты мне другое скажи, — остановил его Глухов, — откуда в багажнике аэрофлотовская бирка?
Снегирев, не задумываясь, ответил:
— Может быть, случайно. Подвозил кого-нибудь или сам куда-нибудь летал.
— Может, и случайно, — устало согласился я, вставая из-за стола.
18 часов 34 минуты
Мы завезли Глухова домой и, распрощавшись с ним, поехали в райотдел.
Вид у Свиркина и Вязьмикина был еще тот, но и мы с Семеном выглядели не лучше. Все-таки тридцать часов на ногах давали о себе знать. Несмотря на усталость, Роман оживленно встретил нас:
— Я же говорил, этот Нудненко-Чудненко ни при чем! Деньги им заработаны честно, в местах лишения свободы. В справке об освобождении черным по белому написано, что выдано на руки три тысячи четыреста тридцать два рубчика семнадцать копеечек. Вот так-то…
— По-моему, ты говорил, он тебе не нравится, — вставил Петр, не упуская возможности подпустить шпильку своему наставнику.
Роман невозмутимо пробасил:
— Мало ли, что говорил. Нравится, не нравится, а человек правду сказал. Это всегда хорошо. Краснояров тоже порадовался…
— Слушайте, а кто такой Краснояров? — спросил Семен.
— Вы что, Семен Павлович, Красноярова не знаете? — искренне удивился Свиркин.
— Петя, кончай, — остановил я его, — рассказывай лучше, что узнал.
Петр, размахивая руками и в лицах изображая своих собеседников, принялся рассказывать о посещениях владельцев вишневых «Волг».
— Съездил я к этому директору вагона-ресторана. Карлов его фамилия, — закончил свой обстоятельный рассказ Свиркин. — Он слово в слово подтвердил показания пивника, только про мясо никак не хотел говорить. Твердит одно: где я его возьму? Не было никакого мяса! Пришлось в киоск возвращаться, изымать чехол, — Петр кивнул в угол, где лежал бежевый сверток. — На экспертизу надо отправить.
— А водителя «Жигулей» Карлов не запомнил? — спросил я.
— Нет, — покачал головой Петр.
— Плохо… Похоже, продавец пива к смерти Никольского отношения не имеет… А вот тот, кто сидел за рулем… — заметил я и рассказал оперуполномоченным о том, что удалось установить нам с Семеном.
— Нда-а… — прогудел Роман, — знать бы, кто сидел за рулем…
— Все! — резко поднялся я. — Пошли отдыхать!
Круг подозреваемых сужался, но от этого задача не становилась проще.
19 часов 48 минут
Дом, в котором вместе с тещей, женой и двумя детьми жил Снегирев, находился неподалеку от моего. Семен подвез меня к подъезду и затормозил. Прежде чем выйти из машины, я предложил сходить к нему и вместе покаяться перед его женой.
— Своя будет — будешь каяться, — уныло отрезал он. — Разберемся…
— Тогда будь здоров.
— Пока, — слабо махнул рукой Семен.
Во дворе мальчишки играли в футбол. Один из них неудачно пробил по импровизированным воротам, сооруженным из картонных ящиков, и мяч подкатился к моим ногам. Ребята выжидающе посмотрели на меня: бежать за мячом или дяденька пнет его? Я пнул.
В квартире было пусто. Должно быть, родители уехали в гости к брату. Я снял башмаки, ноги гудели. Пройдя в комнату, стянул форменный пиджак и упал на ^иван. Закрыл глаза и попытался заснуть, но из головы не шел Никольский, странная волнообразная рана на его виске, кровь, вывернутые пробки, полоска бумаги с непонятной записью, этикетка от джинсов, рассказ Петра с насторожившей меня фразой продавца пива: «Джинсы я и без него достану!», вынужденные откровения Лыкова, аэрофлотская бирка. «Что может дать эта бирка?» — подумал я и провалился в темный колодец тяжелого сна.
21 час 49 минут
Я не сразу сообразил, что меня разбудило. Очумело подскочив, я сидел на диване и слушал, как противно трезвонит телефон, но не мог заставить себя подняться и протянуть руку к трубке.
Наконец я переборол себя:
— Слушаю.
— Ну ты и спишь! — раздался бодрый голос Снегирева. — Чувствуется, что холостяк. Пришел домой, и никаких забот!
Я понемногу стряхнул с себя сонную одурь и даже нашел силы съязвить:
— Ты что, уже отошел после нокдауна?
— Нокдаун откладывается. Жена с тещей и детьми уехала на дачу электричкой, оставив очень миленькую записку, — усмехнулся Семен и поинтересовался: — Как ты думаешь, что можно узнать, имея на руках багажную бирку аэрофлота?
Я пожал плечами, словно Снегирев был рядом и мог видеть меня.
— Наверное, не знаешь? — продолжал Семен. — Так вот, пока ты спал, я взял трубку и позвонил коллегам в Толмачево, озадачил их. Они, конечно, поворчали, но обещали помочь. Вскоре перезвонили и сообщили, что бирочка наша была прикреплена к чемодану, а чемоданчик принадлежит некоему гражданину Семушкину Игорю Аркадьевичу, и прибыл этот Семушкин к нам из города на Неве субботним рейсом, в девять утра местного времени. И было у него два чемодана, даже чемоданища — общим весом под семьдесят кило!
Пока Снегирев рассказывал, сон окончательно слетел с меня.
— Работа по высшему классу! — восхитился я.
— Погоди, не перебивай, я еще не все сказал, — с ноткой гордости отозвался он. — Когда ребята мне выдали эту информацию, я им коньяк пообещал, за твой счет, разумеется, а потом совсем обнаглел и упросил их связаться с Ленинградом, выяснить, что за человек этот Игорь Аркадьевич. Ребята, конечно, обругали меня всякими нехорошими словами, но согласились, у них прямая связь есть.
Семен замолчал.
— Не томи же! — взмолился я.
— Ладно уж… Семушкин И. А. — студент одного из ленинградских вузов, вернее был студентом, в прошлом году привлекался за спекуляцию джинсами, но дело прекратили за недоказанностью, а Семушкина за пропуски занятий отчислили. Ему двадцать три года, он, как и ты, холост и тоже живет с родителями.
— Ну ты даешь! — выдохнул я.
— Да ладно, — скромно ответил Снегирев. — Спи дальше, я пойду душ приму.
22 часа 17 минут
Снегирев долго не подходил к телефону.
— Семен, ты машину отогнал в гараж?! — едва услышав его голос, крикнул я.
— Это ты, Николай?! — рявкнул он. — Ты что, сдурел?! Я же тебе русским языком сказал: я в ванной, душ принимаю…
— Не шуми, очень тебя прошу!
— Ты же знаешь, до зимы я машину под окнами держу, — уже спокойнее ответил Семен.
— Заводи машину, я бегу к тебе! Все остальное потом!
Мое напряжение передалось Снегиреву, и он ответил:
— Я уже вышел!
Позвонив в райотдел, я попросил дежурного срочно направить передвижную милицейскую группу по указанному мной адресу, кубарем скатился по лестнице, не дожидаясь лифта, выскочил из подъезда и побежал по направлению к дому Семена. Свет фар ослепил меня. Взвизгнули тормоза, распахнулась дверца.
— Куда?! — бросил Снегирев.
Упав на сиденье, я назвал адрес. «Запорожец» рванулся в темноту.
— К Мишину, что ли? — спросил Семен, проскакивая на красный свет. — Так я завтра к нему собирался.
Я молча кивнул. Сейчас не хотелось ни о чем говорить. Машина вырулила к дому номер пять. В первом подъезде света не было. Я бросился из «Запорожца», успев крикнуть Снегиреву:
— Будь осторожнее!
Рванулся в подъезд. Семен за мной. Хорошо, что выключатель оказался слева, я стал искать его именно там. Ярко вспыхнула лампа. На площадке первого этажа…
Но в этот момент я увидел холодные злые глаза и светлую полоску лезвия.
— Руки к стене! Не двигаться! Буду стрелять! — заорал над самым моим ухом Семен, еще утром сдавший пистолет.
Я кинулся к Семушкину и выбил нож.
Рядом стоял побелевший, с затравленными глазами Митя Мишин.
Раздалось завывание милицейской сирены, и в подъезд ворвались два молоденьких белобрысых сержанта. Я показал глазами на отскочившего к стене Семушкина, и они, быстро подхватив его под руки, вывели из подъезда.
— В отдел его, мы будем позже, — кинул я вслед.
22 часа 33 минуты
На город спускалась ночь. Изредка хлопали двери подъездов. Последние прохожие возвращались домой. Город погружался в сон. Мы молча стояли на крыльце и курили.
— Николай, объясни, как это тебе пришло в голову? — затушив сигарету, спросил Семен.
Я не знал, что ответить, как объяснить то внезапное внутреннее озарение, когда напряженная работа мозга, неоднократное сопоставление фактов приводит к единственно верному решению? Скорее всего, это и называется интуицией. Я знал одно — последним толчком послужил звонок Семена. Фамилия Семушкин заставила меня вспомнить и «С» на записке, и этикетку «Монтана», и то, что джинсами спекулировали и убитый Никольский, и Мишин. Я представил себе следующий ход «С». Я мог ошибиться и вызвать насмешки со стороны Снегирева, но я не имел права отбросить возникшую догадку, не проверив ее, так как мое бездействие могло стоить человеку жизни. Вот тогда-то я и бросился звонить… Но сейчас, сразу после случившегося, я не мог внятно растолковать это, и не нашел ничего лучшего, как отделаться весьма непритязательной шуткой.
— Читай Конан Дойля, — улыбнулся я. — Дедукция, Семен, дедукция…
— Ладно, Шерлок Холмс, — хлопнул меня по плечу Снегирев. — Идем к Мишину, а то он уже, наверное, заждался своего спасителя.
22 часа 41 минута
Дверь в квартиру была приоткрыта. Семен толкнул ее и пропустил меня вперед. Мишин сидел за столом, уронив голову на руки. Услышав наши шаги, он поднял ее. Лицо его все еще было бледно. С трудом разжав пересохшие губы, Мишин, еле ворочая языком, начал:
— За что он меня?.. Я же для него… я же ему… А он, он убить меня хотел! Сволочь! Подонок! — последние слова Мишин уже выкрикивал, подпрыгивая на стуле.
— Не надо истерик! Сядь! — процедил я.
Хотя сказано это было тихо, Мишин сразу обмяк и только пробормотал:
— За что? За что?..
— Надо думать, есть за что, — жестко бросил Семен.
— Нет, нет, — кинул умоляющий взгляд Мишин, — я ему ничего плохого не сделал!
Мы промолчали.
— Вы все знаете?! — горестно вздохнув, он сам же ответил: — Конечно, знаете. Иначе, зачем бы вы здесь оказались?
Видимо, он решил, что нам все известно о его делишках, и мы приехали только за тем, чтобы задержать его за спекуляцию, и случайно спасли ему жизнь. Разубеждать Мишина мы не стали.
— Мы, Дмитрий, многое знаем. Но лучше будет, если ты сам все расскажешь, — сказал Снегирев.
— Да, так будет гораздо лучше, — подтвердил я.
Он внимательно смотрел на нас, решая что-то для себя, и вдруг неожиданно вскочил и выбежал из комнаты. Мы бросились было за ним, но он тут же вернулся назад. В трясущихся руках Мишин держал большой чемодан. Лицо Дмитрия покрылось испариной, негнущимися пальцами он с трудом справился с замками, резко откинул крышку и швырнул чемодан на середину комнаты.
— Вы за этим приехали?! — выдавил он. За распахнутой дверью виднелся еще один такой же чемодан.
Мы переглянулись. Снегирев поднял выпавший из чемодана пакет, покрутил его в руках и сообщил:
— «Монтана».
— Дмитрий, — обратился я к Мишину.
Он вздрогнул и посмотрел на меня так, будто от моих дальнейших слов зависит его жизнь.
— Дмитрий, — повторил я, — поскольку ты сам, добровольно, — я сделал ударение на слове «добровольно», — выдал нам предмет спекуляции, мы сейчас все официально оформим… Дай-ка мне пару листков бумаги.
— Бумагу? — непонимающе уставился Мишин, потом чуть не бегом кинулся к секретеру, открыл дверцу и стал беспорядочно выкидывать на стоящий рядом стул документы, фотографии, паспорта на бытовую технику и, наконец, извлек пачку писчей бумаги. — Хватит?
Я улыбнулся:
— Хватит…
Закончив писать, я протянул протокол Мишину. Его руки никак не могли успокоиться, и он кое-как вывел свою подпись.
— Сколько мне дадут? — пролепетал Мишин. — Только не обманывайте, скажите правду.
Я объяснил, что наказание определяется судом. Закон безжалостен к закоренелым преступникам, но, вместе с тем, гуманен к лицам, оступившимся впервые, к тем, кто еще не потерян для общества, кто раскаивается и помогает следствию в установлении истины. У Мишина был только один выход — говорить правду. Ни я, ни Снегирев не торопили события. На кухне из плохо завернутого крана капала вода.
Мишин начал говорить. Он сидел, прикрыв глаза руками, и рассказывал, рассказывал. В такие минуты перебивать нельзя.
Прошлым летом Дмитрий во время отпуска был в Ленинграде. В одном из ресторанов встретил представительного мужчину, отрекомендовавшегося, как Клюев Даниил Михайлович, искусствовед. Они понравились друг другу. Встречались еще несколько раз. Однажды искусствовед спросил, сможет ли Мишин продать в Новосибирске джинсы. Отказать своему новому знакомому Дмитрий не решился и принял предложение. Через некоторое время, уже когда Дмитрий вернулся из отпуска, в его квартиру постучал Семушкин, передал привет от Клюева и пятьдесят джинсов по сто пятьдесят рублей за штуку. Пришлось бегать по знакомым и занимать деньги, но барыш стоил того — семь с половиной тысяч! «Брошу халтурить по свадьбам и похоронам!» — обрадовался Мишин. Хмель наживы вскружил голову. Он, конечно, знал, что преступает закон, но некогда было задумываться над этим — деньги дождем сыпались в его раскрытые ладони… Раз за разом приезжал «курьер» — Игорь Семушкин. Когда его долго не было, Мишин сам звонил Клюеву… Порой среди ночи не спалось, хотелось бросить все, ведь уже куплены машина, капитальный гараж, но сил не хватило, появилась привычка иметь деньги всегда, много денег, чтобы в любой момент, засунув руку в карман, можно было ощутить их ласковый шелест. Деньги легко доставались и исчезали еще легче, будто ненасытный ветер выдувал их…
Мишин прервал свою исповедь, попытался вынуть сигарету, ничего не получилось: руки ходили ходуном. Тогда он разорвал пачку, изломав несколько сигарет, и закурил, делая глубокие, судорожные затяжки. Огонек сигареты рывками побежал к фильтру. Тяжело, очень тяжело давалось признание. И по тому, как решительно он это делал, было ясно: ему не надо мешать. И мы продолжали слушать.
В этот раз все было как обычно. Клюев сообщил: «Жди Игоря в субботу, утренним рейсом». Мишин прождал все утро, но напрасно, он встревожился, но ближе к вечеру Семушкин позвонил, пообещал принести «товар» в воскресенье, однако не одну, а две партии. На сто джинсов денег у Дмитрия не хватало и пришлось перехватить у знакомых. Сегодня, в двенадцать часов, пришел Игорь. Получив пятнадцать тысяч, передал чемодан, который Мишин сразу же убрал на антресоли. Всегда спокойный Семушкин был не в себе, спросил, есть ли выпить. Выпили. Долго, не разговаривая, слушали музыку. Да и о чем было говорить? Около пяти часов «курьер» ушел. В начале одиннадцатого Мишин включил телевизор, показывали футбол. Внезапно погас свет, и Дмитрий решил, что это во всем доме, но услышал за стеной возглас комментатора: «Какой великолепный удар!».
Мишин умолк. Вероятно, ужас последующих событий промелькнул в его мозгу, но он взял себя в руки и продолжал:
— Я подумал, выбило предохранители, а щиток у нас в подъезде, и вышел на лестничную площадку. Там тоже было темно. Только я собрался идти за спичками, — лицо Мишина перекосила гримаса, как от боли. — И тут меня кто-то схватил сзади и зажал рот. От неожиданности я не смог даже шелохнуться… Потом свет, крик, вы… отлетевший в сторону нож и страшные глаза Семушкина… За что он меня?!. За что?
Обязав Мишина явкой в райотдел, мы оставили его наедине со своими мыслями и переживаниями. Ему было о чем поразмышлять.
11 сентября, понедельник
00 часов 03 минуты
Оставив «Запорожец» на площадке перед райотделом, мы с Семеном вошли в ярко освещенное помещение дежурной части. Увидев нас, молодой, с резко обозначенными чертами лица старший лейтенант, еще утром сменивший Борисова, поднялся и протянул мне лист бумаги.
— Держи, Ильин, за тебя работать пришлось… Это объяснение Семушкина.
Мы склонились над листом, на котором было старательно выведено: «Я признаю себя виновным в хулиганском поступке. Вчера я прилетел из Ленинграда в гости к девушке, с которой познакомился на прошлой неделе у себя в городе. Знаю только ее имя — Людмила, адреса не знаю. Мы договорились встретиться в ресторане „Новосибирск“ в субботу. Там мы познакомились с Мишиным, который сидел за нашим столом. Все крепко выпили. Не помню, как оказались у него. Проснулся я на следующий день. Людмилы не было. Мишин в оскорбительной форме отозвался о ней и смеялся надо мной. Потом мы опять пили до вечера, и я снова опьянел. Мишин стал хвастаться, как он увел от меня мою девушку. Мы поссорились, и он стал выталкивать меня среди ночи на улицу. Я разозлился и хотел ударить его ножом, но работники милиции меня остановили. Убивать Мишина я не хотел. Сопротивления работникам милиции я не оказывал. В своем поступке раскаиваюсь. Обещаю, что подобного больше никогда не совершу. Написано собственноручно…»
— Во дает! — хмыкнул Снегирев. — Что-то незаметно, чтобы он пьяный был.
00 часов 14 минут
Передо мной, вальяжно развалившись, сидел самоуверенный, модно одетый молодой человек. Его можно было бы назвать красивым, если бы не излишне правильные, напоминающие манекенов, черты лица, отдающие слащавостью и презрением к окружающему миру. Я смотрел в его светлые, наглые глаза, и неприязнь постепенно перерастала в ненависть, хотя следователь должен быть всегда спокоен, объективен и так далее. Я знал, у меня есть доказательства его виновности и будет добыта еще не одна улика. Чтобы не выплеснуть охватившее меня чувство, я перевел взгляд на Семена. Тот сидел у окна, сложив на груди руки, и тихонько насвистывал.
— Хорошо, что вы раскаиваетесь, — повернулся я к Семушкину. — Но вы забыли упомянуть, как привезли джинсы Никольскому и получили за них деньги… Ночью, а это было самое удобное для вас время, вы подошли к его дому. Помните, как погас свет? Как вышел Никольский? Как скрипели под вашими ногами ступени, когда вы несли тело в машину?.. Вы вернули себе «товар», забыв вернуть полученные за него деньги… Да, кстати, вы не знаете, куда пропал перстень Никольского?
— Прекратите меня разыгрывать, — сухо прервал Семушкин, — я вам не гимназистка. — Он положил ногу на ногу и спокойно добавил: — Вы же читали это, — кивнул он на объяснение. — В чем виноват — раскаиваюсь. А вашего Никольского, или как его там, я и знать не знаю! Давайте лучше спать пойдем, — с издевкой улыбнулся Семушкин, скривив тонкие губы.
Чтобы сдержать себя, я стал смотреть в окно. Было тихо. Изредка, сверкая под лучами уличных фонарей, проносились машины. Снегирев, продолжая насвистывать, с любопытством разглядывал Семушкина.
«Спать, так спать», — подумал я и вызвал милиционера, который увел Семушкина в изолятор временного содержания.
08 часов 32 минуты
Мама с трудом растолкала меня. Короткий сон не снял головную боль. Для порядка я сделал несколько приседаний, от которых весело захрустели суставы, и побежал принимать душ. Стало легче. Пощипывание одеколона на свежевыбритом подбородке и чашка крепкого кофе окончательно исцелили меня, солнечное утро, встретившее во дворе, вернуло бодрость.
Дежурный по райотделу передал мне изъятые у Семушкина при личном обыске сигареты, коробок спичек и несколько купюр разного достоинства. Все это я разложил на своем столе.
Дверь распахнулась, и ворвался Петр Свиркин.
— Николай Григорьевич, говорят, вы раскрыли убийство?!
— Похоже, раскрыли, — кивнул я, — садись.
Петр пристроился на стуле сбоку от моего стола.
— Это все, что у него было с собой? — удивился он. — А где же остальные вещи, говорят, он из Ленинграда?
— Из Ленинграда, — ответил я, машинально крутя в руках коробок спичек, — а вещи, наверное, в гостинице.
Повернув коробок еще раз, я заметил на нем цифру «45», написанную корявым почерком, как обычно бывает, когда пишут на весу.
— Смотри, — показал я Петру коробок. — Что бы эта цифирь могла значить?
— Какую это вы тут цифирь обсуждаете? — раздался бас Вязьмикина, он и ввалился в кабинет. — Что же получается? Работали по убийству вместе, а убийцу задерживаете без нас! Как в Верх-Тулу — так Роман, как автолюбителей отлавливать — так Петя… Уж и позвонить не мог, — укоризненно прогудел он, — мы бы подсобили. Теперь парни ехидничать будут, скажут, ОБХСС и следователи вместо уголовного розыска работают…
— Ладно, не сердись, — улыбнулся я, при виде отчаяния, которое Роман старательно пытался изобразить на своем лице. — Мы больше не будем… Скажи-ка лучше, что может записать на спичечном коробке находящийся в чужом городе человек?
Вязьмикин втиснулся на стул между шкафом и сейфом и пробасил:
— Мало ли что… Номер дома, квартиры, маршрут автобуса, шифр камеры хранения… Что в голову взбредет, то и запишет.
— Все верно, только на шифре — буква и три цифры, — задумчиво произнес я.
Свиркин подскочил, словно его ударило током:
— А если это номер ячейки камеры хранения?!
— Логично, — согласился я.
— Николай Григорьевия, я добегу до вокзала, проверю?! — Он кинулся к двери.
— А если эта ячейка не на вокзале, а на автовокзале, или на аэровокзале, а их у нас два, — остановил я Петра.
Вязьмикин усмехнулся и прогудел:
— Николай пусть сбегает, он шустрый парень. Все равно проверять будем…
— Ладно, беги, — махнул я рукой.
— Красноярову привет передавай! — крикнул вдогонку Роман.
09 часов 35 минут
Дверь медленно распахнулась, и в кабинет торжественно вошел Петр. Лицо его сияло, на вытянутых руках он бережно нес большой черный «дипломат». В эту минуту Петр напоминал средневекового посла, прибывшего с дарами ко двору московского государя. Два тощих, с реденькими бородками, аксакала в ватных халатах, вошедшие следом за ним, усиливали это впечатление. Они морщили почерневшие от солнца лица в свойственной народам востока улыбке и мелко-мелко кивали головами.
— Кто-то сомневался?! — с пафосом в голосе спросил Петр.
У нас не было оснований возражать ему.
Заметив мой недоуменный взгляд, Свиркин пояснил:
— Это товарищи понятые, они присутствовали при вскрытии ячейки.
Старички еще более интенсивно затрясли бородками.
Роман выбрался из своего закутка, забрал из рук Свиркина «дипломат» и, водрузив его на стол, попытался открыть замки.
— Что, не открывается? — полюбопытствовал Петр.
— Открывается, — буркнул Вязьмикин и, взяв из коробочки скрепку, изогнул ее.
Когда он откинул крышку, Петр охнул:
— Столько денег я ни разу в жизни не видел!
Старички бесстрастно смотрели на пачки купюр разного достоинства.
Роман усмехнулся:
— Можешь их теперь даже потрогать.
— Пересчитай, пожалуйста, — попросил я, принимаясь осматривать внутренности чемоданчика.
В кармашке лежали авиабилет до Ленинграда, паспорт Семушкина и перстень: золото с платиной, с шестью небольшими бриллиантиками. При виде перстня аксакалы зацокали языками. Пересчитав деньги, Петр округлил глаза:
— Тридцать тысяч!
10 часов 22 минуты
Дежурный по изолятору временного содержания открыл дверь. Беспощадная ночь наедине с самим собой сделала невероятное. Семушкин сидел в углу камеры, сжавшись в комок и подтянув колени к подбородку. Услышав скрип шарниров, он бросил на нас такой взгляд, от которого мне стало не по себе.
— Я не хочу, не хочу… Не расстреливайте! — забормотал он и вскочил на ноги.
Его блестящие глаза смотрели мимо меня. Лицо, потерявшее выражение самодовольства и наглости, почти не выделялось на фоне побеленных стен. Губы потрескались от сухости, и он быстро облизывал их языком.
— Гады! Менты! — взвизгнул Семушкин и, размахивая руками, перебежал в другой угол и встал к нам спиной. Потом, резко развернувшись, разразился хохотом и лукаво подмигнув, спросил: — Думаешь, если пришел с Никольским, — он ткнул в пространство за моей спиной длинным, тонким, трясущимся пальцем, словно там, действительно, стоял убитый им человек, — так я признаюсь?! Дудки! — Его лицо, руки и все тело непрерывно дергались. — Очную ставку подстроил?! Не выйдет! Пусть он говорит, будто я убил его, а я все равно не признаюсь! Дудки! — Голос Семушкина с каждым словом становился все более невнятным и вдруг перешел на визгливый вопль. — Я-то живой, а он мертвый! Ему не поверят, не поверят!.. Мне поверят!
Он забегал по камере. Мы с милиционером, вероятно, выглядели испуганно-глупо. Внезапно Семушкин вжался спиной в стену и в упор посмотрел на меня.
— Вы, правда, поверите мне? А? — просяще забормотал он. — Ведь он же труп, его нет, зачем вы его привели? Он вам все наврет!
Я молчал.
— А-а-а! Ты сам решил меня убить! Ты хочешь денег?! Не дам. Мои! — Он кинулся под нары и начал быстро шарить руками, потом вскочил и заорал: — Украли! Украли-и! Мои деньги украли! Все, все украли!.. Зачем я убивал?!. Отдайте мои деньги! — просяще забормотал он с еще большей настойчивостью и вдруг кинулся на нас с нечленораздельным воплем, но, сделав несколько шагов, стал медленно оседать, как бы сползая по стене, хотя стоял посреди камеры.
— Вызывайте психбригаду! — приказал я милиционеру, захлопывая дверь камеры.
11 часов 48 минут
Я аккуратно сложил в папку документы по делу Семушкина, чтобы отнести их в прокуратуру, когда вошел Снегирев.
— Мне сейчас сказали, что Семушкина забрала псих-бригада? Он что, на самом деле с ума сошел? — с порога засыпал меня вопросами Семен.
«Информация распространяется мгновенно, не успела „скорая“ отъехать, все всё знают», — подумал я и, завязав тесемочки на папке, ответил: — Похоже, на самом деле.
— Так что ж его и судить не будут? — забеспокоился Семен.
— Будут. Если врач прав, то в момент совершения преступления Семушкин отдавал отчет своим действиям. Значит, суда ему не избежать… — ответил я, бросая папку с документами в портфель.
20 сентября, среда
09 часов 07 минут
Я стоял у окна. Хлесткие порывы ветра срывали начинающие желтеть листья, швыряли их на землю, снова подхватывали и бросали в лица прохожим. Прохожим было не до листьев, подняв воротники, они боролись со своими готовыми сорваться и взмыть в небо шляпами. Я не сразу узнал Снегирева — нахлобученная до самых бровей шляпа с узкими полями, в которую он крепко вцепился обеими руками, скрывала верхнюю часть его лица.
Прикинув по времени, когда Семен будет проходить мимо моего кабинета, я открыл дверь.
— Семен, тебя не унесло? — поинтересовался я вместо приветствия.
— Не говори, настоящий тайфун…
— Зайди, — пригласил я, — переговорить надо.
Расстегнув видавший виды синий плащ, Снегирев опустился на стул.
— Хочу тебя обрадовать, — сказал я. — Дело по обвинению Мишина и К° в спекуляции джинсами поручено расследовать мне.
— Рад за тебя, — усмехнулся Семен, — в Ленинград поедешь…
Я развел руками:
— С удовольствием бы, но… дел по горло.
Снегирев насторожился:
— Что ты этим хочешь сказать?
— То, что в Эрмитаже побываешь ты… Мой начальник уже договорился с твоим.
— Знаю я эти Эрмитажи, — буркнул Семен, — в пассаж бы успеть заскочить… Опять Галина ворчать будет, — грустно добавил он, потом оживился: — Вообще-то, я не против!
— Вот и отлично, — я открыл сейф и подал Снегиреву отпечатанный на машинке список вопросов, которые ему предстоит выяснить в городе на Неве.
Пробежав его глазами, Семен хмыкнул:
— Спасибо…
— Пожалуйста, — вежливо ответил я. — Да, забыл тебе сказать, вчера был у следователя прокуратуры Осипова, он допрашивал меня об обстоятельствах задержания Семушкина, тебе это еще предстоит. Оказывается, волнообразная рана на виске Никольского образовалась от удара обычным складным ножом «Белка», тем самым, что я выбил из рук Семушкина, просто лезвие было непрочно закреплено в рукоятке и в момент удара немного проворачивалось по осевой линии. Осипов показал мне заключение эксперта.
— А мы-то гадали, — протянул Семен и встал, намереваясь идти.
Я остановил его:
— Кстати, Осипов просил зайти не только для допроса, он тоже приготовил задание для тебя.
— И как у тебя только язык повернулся про Эрмитаж говорить, — укоризненно вздохнул Семен.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Последний аккорд
21 сентября, четверг
10 часов 12 минут. Снегирев
Семен с любопытством озираясь по сторонам, неторопливо брел по Невскому проспекту. Ему приходилось бывать во многих городах, но в Ленинград он попал впервые. Больше всего его поразила не своеобразная архитектура, не сырая дождливая погода — обо всем этом он был наслышан, начитан, и не раз вместе с Юрием Сенкевичем осматривал достопримечательности Северной Пальмиры. Семена поразило то, что на Невском такая же толчея, как и на улице Горького в Москве. Все куда-то спешили, и он, невольно поддавшись заданному городом темпу, ускорил шаг. Свернув в одну из узких улочек, Снегирев закрутил головой, вглядываясь в таблички с номерами домов.
— Молодой человек, вас какой номер дома интересует? — услышал он и, обернувшись увидел невысокого коренастого старика с пышными седыми усами.
Встретившись взглядом с приветливо прищуренными глазами старика, Семен улыбнулся:
— Никак не могу милицию найти.
Старик покрутил вверх кончики усов и участливо спросил:
— Неприятности у вас?
— Нет, мне по работе надо.
— А-а-а, — протянул старик, — это другое дело. Если вы не возражаете, я провожу вас…
Снегирев не возражал и вскоре, выслушав по пути небольшую лекцию об историческом прошлом улочки, по которой они шли, поблагодарил старика и, распрощавшись с ним, толкнул массивную дверь. Пройдя мимо дежурной части, он отыскал кабинет с табличкой: «Оперуполномоченный ОБХСС Баталин В. Р.» и, негромко постучав, вошел туда. Сняв шляпу, Семен нерешительно замер у порога с видом человека, впервые попавшего в подобное заведение.
— Что вы хотели? — поднял на него глубоко посаженные глаза молодой мужчина в сером костюме спортивного покроя, свободно сидящем на широких плечах.
Снегирев застенчиво улыбнулся и сообщил, что прибыл в командировку из Новосибирска.
Рывком поднявшись из-за стола, мужчина упругими шагами приблизился к Семену и протянул руку:
— Капитан Баталин… Валерий Родионович…
Семен посмотрел на него снизу вверх и, ответив на крепкое короткое рукопожатие, в свою очередь сообщил фамилию, имя, отчество и звание.
— Как долетели? — усаживая гостя в стоящее у журнального столика мягкое кресло, поинтересовался Баталин.
— Хорошо, ножка попалась, — благодушно откинувшись на спинку, сообщил Снегирев.
Баталин, задавший этот дежурный вопрос из соображения общепринятых норм вежливости, вначале пропустил мимо ушей ответ Снегирева, но потом озадаченно кольнул того взглядом.
— Как лечу в самолете, все время гузка попадается, а сегодня — ножка… куриная, — пояснил Снегирев.
Баталин сдержанно улыбнулся.
Обсуждение ленинградской и новосибирской погоды, разговоры об условиях работы и о том, чьи начальники лучше, заняли минут пять. Сошлись на том, что погода разная, а начальники одинаковы.
— О Клюеве удалось что-нибудь выяснить? — перешел к делу Снегирев.
— Кое-что, — ответил Баталин и пояснил: — Вчера, сразу после вашего звонка, я запросил о нем данные. Оказалось, никакой он не искусствовед, работает грузчиком на базе «Росторгодежда». В 1972 году был судим за мошенничество и, после освобождения в семьдесят девятом, в поле нашего зрения не попадал.
— А Семушкин?
— С этим я лично знаком, а в прошлом году задерживал у Гостиного двора за спекуляцию джинсами, но… — Баталин огорченно выпятил нижнюю губу, — незадача вышла, покупатель сбежал, а Семушкин воспользовался ситуацией, стал вопить на всю улицу: «Что вы меня хватаете, за свою цену штаны продал!» Народ собрался, жалостливые всегда находятся, с виду-то он пай-мальчик. Меня же хулиганом и выставили, — горько хмыкнул Баталин, помолчал и поинтересовался: — В Новосибирск что его занесло?
— Все те же джинсы, — вздохнул Снегирев. — Из-за этих тряпок он даже на убийство пошел.
— Да вы что? — удивленно выдохнул Баталин. — А я принял его за мелкого спекулянта.
— Наверное, таким и был… Начал с малого, а потом, похоже, Клюев его к рукам прибрал и сделал своим курьером. Кстати, у Клюева и в нашем городе были соучастники: Никольский, Мишин и, как я выяснил буквально перед самым отлетом, Лыков… Им и возил джинсы Игорь Семушкин. Возил, а потом, видно, подсчитал, какой барыш получают они, сравнил с тем, что ему перепадает, и решил из пешек в ферзи прорваться. Правда, кончилось это для него плачевно, — Семен постучал согнутым пальцем по своему высокому от залысин лбу, — с ума сошел.
— Да вы что? — еще больше удивился Баталин.
— Реактивное состояние, — подтвердил Снегирев.
— Кого он убил?
— Компаньона своего — Никольского, хотел и с Мишиным расправиться, да мы его задержали прямо с ножом в руках. Если бы не мой приятель, следователь, конец бы Мишину.
— Да-да, дела… — покачал головой Баталин. — Может, он и третьего скупщика хотел прикончить?
Раньше такая мысль не приходила в голову Снегиреву, но тут он задумался.
— Лыкова? — переспросил он. — Черт его знает…
Вообще, последние полгода Лыков не поддерживал связь с Клюевым, хотя… — Семен поморщился: — Никак не могу отделаться от мысли, что два часа назад в вашем аэропорту я видел Лыкова… Может, и не его, что ему здесь делать?..
— Странно… А ты не обознался?
— Мог обознаться, — взъерошил редкие волосы Семен. — Он так быстро шмыгнул в такси, что я толком и не разглядел.
Снегирев раскрыл большущий и в настоящий момент почти пустой портфель из натуральной, но изрядно потертой кожи, достал картонную папку и, развязав тесемочки, протянул Баталину, лист бумаги. Тот прочитал и с сочувствием в голосе произнес:
— Вот и мне такие же задания следователи подкидывают… С чего думаешь начать? — Так же, как и Снегирев, он, видимо, не очень любил работать в тисках определенных заранее вопросов, и поэтому, вздохнув, предложил: — Давай с Клюева и начнем.
— Да мне неудобно тебя отрывать, — незаметно для себя и Семен перешел на ты. — Я уж сам.
— Нет, так дело не пойдет, — возразил Баталин, — ты же города не знаешь, будешь плутать, а у меня машина.
12 часов 07 минут. Снегирев
Баталин остановил «Жигули» у шестиэтажного дома с высокими окнами и разбросанными по всему фасаду причудливыми лепными гирляндами. Кивнув в сторону узкой низенькой арки, ведущей во двор, он пояснил:
— Вот здесь и обитает Клюев Даниил Михайлович, квартира шесть… Ты со старушками поговори, наши старушки все знают.
— Наши тоже, — усмехнулся Семен. — Спасибо.
— Не за что, — отозвался Баталин, — ты тут выясняй, что хотел, я минут через тридцать вернусь и поедем к нему на работу.
— Договорились, — сказал Семен и вышел из машины.
Пройдя под арку, похожую на длинный коридор, Снегирев очутился в маленьком, мощеном брусчаткой дворике, окруженном со всех сторон унылыми грязно-желтыми стенами. Он закинул голову и, увидев далеко-далеко вверху серый прямоугольник неба, почувствовал себя на дне глубокого колодца…
— Товарищ, вы кого-то ищите? — услышал он звонкий старческий голос и заметил сидящую на облезшей табуретке возле крошечной клумбы с чахлыми цветочками пожилую женщину в черной шляпке и зимнем пальто. От нудно моросящего дождика ее защищал допотопный мужской зонт. На румяном лице старушки читалась готовность помочь.
Снегирев сложил руки на животе и чуть поклонился:
— Добрый день.
Старушка благосклонно кивнула:
— Вы не подскажете, Клюев здесь проживает? — вежливо спросил Семен.
В глазах старушки мелькнула настороженность.
— Да, в нашей квартире, — ответила она и вдруг подняла вверх палец и прислушалась.
Семен непонимающе смотрел на нее.
— Извините, кажется, телефон, — старушка резкоподнялась и засеменила к подъезду. — Вы меня подождите, я сейчас вернусь.
Снегирев кивнул и прислушался. Никаких звонков не раздавалось. Подивившись остроте слуха женщины, он вынул из кармана измятую пачку сигарет и закурил.
Сигарета кончилась, но старушка все не появлялась. «Не лучше моей тещи, не оторвешь от телефона», — взглянув на часы, подумал Семен, услышал за спиной быстрые шаги и только хотел обернуться, как его с двух сторон крепко подхватили под руки. Он резким движением попытался высвободиться, но это ему не удалось. Шляпа съехала на глаза, Семен откинул голову, возвращая ее на место, и встретился глазами со старушкой, которая, облокотившись на подоконник, наблюдала за ним из окна второго этажа.
10 часов 53 минуты
— Разрешите, Николай Григорьевич? — просунулась в дверь моего кабинета голова Мишина.
— Ну что, не подошел Лыков? — спросил я.
— Наверное, уже не придет.
«Очная ставка срывается», — подумал я и пригласил Дмитрия войти. Вызывал я их на десять часов, Мишин был точен, неявка Лыкова настораживала.
Дмитрия до сих пор смущала роль обвиняемого, и он, скромно потупившись, присел на краешек стула. Я вынул из ящика стола бланк протокола допроса и, проставив дату и время, обратился к Мишину:
— Мы уже с тобой говорили о многом… Насколько я помню, ты занимал у Лыкова полторы тысячи…
— Занимал, — не поднимая головы, подтвердил он, — на те джинсы… из-за которых чуть жизни не лишился.
— Когда ты с ним познакомился?
— Года полтора назад, — немного подумав, ответил Дмитрий.
— Где?
— В нашем ресторане, он к одной официантке ходил. Как-то после закрытия я со своими ребятами из оркестра выпивал, у ударника сын родился, вот и решили немного отметить. А Владик как раз Райку встречать пришел, мы их и пригласили. Он бутылок пять шампанского на стол выставил, так и познакомились…
— И после такого шапочного знакомства он тебе полторы тысячи одолжил? — усмехнулся я.
Мишин вскинул глаза:
— Почему шапочное? Мы и на «балке» встречались, но это было позже, когда я вернулся из Ленинграда.
— А что Лыков делал на вещевом рынке?
Дмитрий отвел глаза:
— То же, что и я, штаны сдавал.
— Где он их скупал?
— Я его об этом не спрашивал, — ответил Мишин и, встретив мой укоризненный взгляд, добавил: — Я, правда, тогда не знал!
— А когда узнал? — быстро спросил я.
— Весной, — выдохнул он.
— От кого? — также быстро задал я следующий вопрос.
— Семушкин сказал, — Дмитрий приложил руки к груди. — Вы не подумайте, что я хочу что-либо скрыть от вас… Поймите, Владик все-таки мой хороший знакомый, и так сразу…
Я выдержал паузу и поинтересовался:
— Что же тебе сказал Семушкин?
— Однажды он принес две партии, я удивился, почему так много? Он говорит, отказался один из ваших. Я спросил, кто? Вот тогда он и назвал Лыкова… А позже и Владик признался, что от Клюева джинсы получал.
— И с весны он больше не торговал? — уточнил я.
Мишин покрутил головой:
— Нет. Он мне сказал, что завязал на время.
— Как на время? — не понял я.
— Примелькался на барахолке, вот и решил переждать, — пояснил Дмитрий. — Он не такой дурак, как я.
— Ну это вопрос спорный, — хмыкнул я.
— Что вы хотите сказать? — напрягся Мишин.
Я долго смотрел на него, а потом объяснил:
— Дмитрий, дела по спекуляции мне приходилось расследовать не один раз, и я прекрасно знаю, что одному сдать такое количество штанов не просто, ты бы обязательно, как и Лыков, примелькался на «балке», — вдруг я понял, что невольно перешел на терминологию спекулянтов, и быстро поправился, — на вещевом рынке.
Мишин поднял глаза, виновато посмотрел на меня и, снова опустив голову, пробормотал:
— Вы меня простите, Николай Григорьевич… Я сам хотел сказать, но не мог решиться… Я много передумал за это время… Мне не хотелось выдавать ребят, которые помогали сбывать джинсы, они и имели всего ничего, так, десятку-другую… Не хочу, чтобы и их засосала эта мерзость! — решительно поднял голову Дмитрий. — Если сейчас не остановить, они станут такими же, как я, или еще хуже — как Семушкин…
Я видел, что он говорит искренне, и помог ему:
— Вот и давай сделаем это вместе.
Мишин с готовностью кивнул.
— Каким образом ты давал им знать, что джинсы у тебя? — спросил я.
— Клюев сообщал, что вылетает Семушкин, и я договаривался с Трошиным, у него дома телефон, о встрече. Последний раз они тоже ждали, но Семушкин в субботу не появился, и я дал отбой… Короче, сегодня в девять вечера они ждут меня…
12 часов 25 минут. Снегирев
— Молодой человек, вы задержаны! — услышал Снегирев над самым ухом. — Уголовный розыск!
— Ребята, я свой! — нервно хихикнул Семен, прекращая попытки вырваться и стараясь разглядеть своих собеседников из-под вновь съехавшей на глаза шляпы. — Удостоверение в нагрудном кармане… Можете посмотреть.
Проследив за чужой рукой, извлекшей красную книжечку, он поинтересовался:
— Ну и как?
— Извините, товарищ капитан, — смущенно проговорил плотный крепыш с тяжелым подбородком, возвращая удостоверение, — накладка вышла.
— Ох, и накладки у вас, — усмехнувшись, проворчал Семен, сдвигая на затылок шляпу и одергивая плащ. — А еще говорят, ленинградцы гостеприимные… Хватают живых людей, даже документов не спрашивают. — Он смерил насмешливым взглядом второго оперативника.
Тот поправил сползшие с переносицы очки с дымчатыми стеклами и, поджав тонкие губы, буркнул:
— Когда на шее висит нераскрытое убийство, не до документов.
— Ребята, я никого не убивал, — простодушно улыбнувшись, внес ясность Семен, — у меня алиби, я только что из Новосибирска прилетел, билет и командировочное в кармане…
Оперативник в дымчатых очках поморщился и чуть приподнял уголки рта. Видимо, это означало улыбку.
— Хотелось бы надеяться, — ответил он и снова плотно сжал губы.
Крепыш, все еще немного смущаясь, спросил:
— Товарищ капитан, почему вас интересует погибший Клюев?
Лицо Снегирева вытянулось, словно он узнал о гибели близкого человека.
— Что?! — выдохнул он.
Увидев его изменившееся лицо, оперативники переглянулись, и тот, что в дымчатых очках, осторожно поинтересовался:
— Вы его знали?
Семен все еще не мог прийти в себя, смерть Клюева значительно осложняла задачу, и он, будто не расслышав вопроса, выдавил:
— Кто же мог его убить?
— Нам бы тоже хотелось это знать, — сказал высокий оперативник в дымчатых очках.
— Мы же не случайно на вас так накинулись, — извинился крепыш, потирая подбородок, — это было вызвано необходимостью. Никто его не ищет, не спрашивает, а сегодня, часа два назад, наконец-то появилась первая ниточка — приходил какой-то парень, интересовался Клюевым. Соседка позвонила нам, мы выехали, а он из-под нашего носа ушел. Тут снова старушка звонит — другой пришел, давайте быстрее, пока не сбежал… Мы и поторопились…
— Нам бы таких внештатников, — кивнул Семен в сторону окна, где обрамленная коричневым переплетом рамы виднелась старушка в черной шляпке, так и не снявшая своего зимнего пальто.
Оперативник в дымчатых очках, не дожидаясь от Снегирева ответа на вопрос своего коллеги, повторил его:
— Все-таки почему вы интересуетесь Клюевым?
— Санкция у меня на его арест, — вздохнул Семен.
— В смысле? — сказал крепыш.
— В прямом, с печатью нашего прокурора, — невесело улыбнулся Снегирев и пояснил: — Спекулировал Клюев по крупной…
— Ну и дела, — почесал подбородок крепыш. — Придется вам с нашей прокуратурой связаться.
— Свяжемся. — Семен тут же вспомнил мелькнувшую в аэропорту знакомую фигуру, быстро сунул руку в карман и, достав оттуда фотографию, попросил крепыша: — Покажите, пожалуйста, старушке.
Через несколько минут тот вернулся и озадаченно протянул:
— Она его узнала…
Семен деловито забрал фотографию, как фокусник, помахал ею в воздухе и, положив в карман, небрежно бросил:
— Два часа назад здесь был Владислав Лыков, мой земляк, кстати, тоже спекулянт, как и Клюев.
Оперуполномоченные озадаченно переглянулись, но раздавшийся в это время прерывистый автомобильный сигнал остановил готовый сорваться с их губ поток вопросов. Семен взглянул на часы и улыбнулся:
— А это ваш земляк, Баталин из ОБХСС, случайно не знакомы?
Оперативники дружно кивнули.
— Знакомы, он раньше в нашем райотделе работал, — пояснил крепыш.
14 часов 07 минут. Снегирев
Пожилой, с одутловатым, очень серьезным лицом следователь прокуратуры внимательно следил за рассказом Снегирева. Выражение его лица не изменилось и в тот момент, когда Семен, объясняя действия Семушкина, потянул Баталина за рукав:
— Валера, встань-ка, я на тебе покажу.
Баталин без особой охоты поднялся и вышел на середину кабинета. Семен привстал на носки и, обхватив его сзади рукой за горло, занес правую руку с зажатой в нее шариковой авторучкой, словно нанося удар в висок.
— Только Семушкину удобнее было, он повыше меня, — пояснил Снегирев.
— Значит, вы, Семен Павлович, считаете, что убийство Клюева дело рук Семушкина? — задумчиво проговорил следователь.
Снегирев мягко улыбнулся:
— Конечно. Смотрите: в пятницу вечером он убивает Клюева, ночью садится в самолет, в субботу он уже в Новосибирске и расправляется с Никольским, а в воскресенье пытается сделать то же самое с Мишиным.
Следователь перелистал лежащее перед ним уголовное дело, развернул фототаблицу и попросил:
— Семен Павлович, взгляните.
Снегирев склонился над столом и ткнул пальцем в одну из фотографий.
— У Никольского рана точно такая же, — кивнул он.
Следователь поднялся из-за стола и, пощипывая коротко стриженную щетку седых усов, прошелся по кабинету.
— Не исключено, что вы правы, — негромко, словно рассуждая с самим собой, произнес он. — Хотя у нас была другая версия… Понимаете, на даче, где был убит Клюев, я обнаружил скрытый в камине стальной сейф со следами взлома… Правда, убийце так и не удалось взломать его, наверное, торопился очень или испугался чего-нибудь. Все было перерыто, должно быть, искал ключ, даже карманы у погибшего вывернуты… А ларчик просто открывался — ключ был зажат в кулаке Клюева, причем намертво, только при осмотре трупа и обнаружили. Скорее всего, когда погас свет, Клюев был у своей сокровищницы и, прежде чем выйти из комнаты, предусмотрительно замкнул ее.
— Было над чем дрожать? — полюбопытствовал Снегирев.
— Было, — грустно усмехнулся следователь. — Порядка трехсот тысяч…
Снегирев присвистнул.
— Вот именно, — кивнул следователь. — Это нас и поставило в тупик, деньги-то нешуточные… Стали выяснять личность погибшего. Установили, что был судим за мошенничество. Подняли из архива дело. Оказалось, Даниил Михайлович Клюев до семьдесят второго года активно интересовался иконами и скупал их по деревням, представляясь работником музея, искусствоведом. Скупал за бесценок, подсовывая старикам сфабрикованные им заключения о том, что иконы особой ценности не представляют.
Семен встрепенулся:
— Он и Мишину искусствоведом представился, когда втягивал в спекуляцию.
— Вот-вот, это, должно быть, стиль его преступной деятельности. Клюев и тогда двух молодых ребят вовлек в свои махинации.
— А, может, это не Семушкин? — спросил Снегирев.
— Причастность к убийству Клюева его бывших соучастников исключена, — покачал головой следователь, понимая, что имеет в виду оперуполномоченный. — Мы проверяли… Парни повзрослели, поумнели, обзавелись семьями, работают. К тому же, у обоих абсолютное алиби.
— Так что, в семьдесят втором году не было известно о существовании дачи и сокровищницы? — предположил Баталин.
Следователь повернулся к нему:
— Имущество было конфисковано, в том числе солидная сумма денег. Я полагаю, точнее, теперь мне становится ясно, что эти триста тысяч Клюев нажил спекуляцией уже после освобождения из мест лишения свободы.
— А дача? — повторил Баталин.
— Дачи тогда не было и в помине, — махнул рукой следователь, — она позднее появилась, да и какая это дача?! Одно название, домишко мать Клюева построила, когда тот находился в колонии, из всякого старья. Там и смотреть-то не на что… Впрочем, в квартире у него не лучше: одна рухлядь. Соседи в один голос твердят: скромно жил покойник.
— Как Корейко, что ли? — усмехнулся Семен.
Следователь опустился за стол и потер виски.
— Еще хуже, — вздохнул он. — Я у матери его был, ей уже восьмой десяток, больная, с постели почти не встает, так она до сих пор убеждена, что ее Дане жить не на что… Жалеет его, ни о чем не просит, за ней соседи ухаживают, а он появится раз в полгода, она ему из своей пенсии десятку-другую дает… — Следователь грохнул по столу сжатой в кулак рукой. — И ведь брал же!..
Наступило неловкое молчание. Наконец Баталин прервал его:
— Зачем же прилетел Лыков?
— Может, за товаром? — предположил Снегирев. — Он же не мог знать о смерти Клюева.
Следователь пожал плечами:
— Возможны варианты…
14 часов 39 минут
Я подошел к кабинету оперуполномоченных уголовного розыска и только взялся за ручку, как за спиной раздался бас Романа Вязьмикина:
— Ильин, не ломай дверь, нас там нет.
Я обернулся. Роман неторопливо шествовал по коридору. Рядом, чуть забегая вперед и оживленно размахивая руками, шел Петр Свиркин. Как всегда он что-то доказывал своему коллеге. Лицо Вязьмикина было невозмутимо, и казалось, он не слышит, что ему втолковывает Петр, но лейтенанта это не смущало, и, только заметив меня, он нашел в себе силы прервать монолог.
— Николай Григорьевич, вы к нам? — разулыбался Петр.
— Нет, он просто перепутал кабинеты, — хмыкнул Вязьмикин, открывая дверь. — Проходи, Николай.
Не успел я опуститься на стул, как он округлил глаза и неожиданно жалобным голосом пропел:
— И никто не узнает, где могилка моя.
Я улыбнулся:
— Что это у тебя такое упадническое настроение?
— Он, когда голодный, всегда такой, — пояснил Свиркин и принялся греметь ящиками стола.
Роман сложил руки на груди, развалился на стуле и уставился в потолок.
— Вот черт! — воскликнул Свиркин, окончив свои поиски. — Ничего не осталось, когда это мы успели все съесть? — Он подозрительно покосился на старшего лейтенанта, но тот, словно не замечая красноречивого взгляда, продолжал смотреть в потолок.
— Вы что, не обедали? — удивился я.
— Когда?! — трагически воздел руки Роман. — Носишься тут…
Надо было выручать ребят, и я направился в свой кабинет, где-то в шкафу у меня была начатая пачка сухарей. Когда я вернулся, Роман заглянул в коробку и разочарованно пробасил:
— Это все?
Я развел руками.
Пока оперативники хрустели сухарями, я передал им содержание допроса Дмитрия Мишина и изложил свой план действий.
— Разумно, — согласился Вязьмикин, засунув руку в коробку в поисках сухаря. — Только как мы всех задержим? Я же не осьминог, — он оценивающе взглянул на Свиркина, — да и Петя на него не похож.
Петр оживленно вскочил:
— Надо спасать ребят! Уверен, что они еще способны свернуть с этой скользкой дорожки!
— Ой, — приложил Роман к щеке большую ладонь, — я тебе сколько раз говорил: не делай поспешных выводов, не кандидатскую пишешь.
— Ничего не поспешные! — горячо возразил тот. — Ведь они не какие-то матерые спекулянты, а мелкие сбытчики, и занимаются этим, скорее всего, ради форса. Подумай, сколько хороших и порядочных парней вокруг них. В том же институте есть отличный оперативный комсомольский отряд дружинников! Они мне столько раз помогали! — Петр замер и хлопнул себя рукою по лбу. — Николай Григорьевич, давайте их привлечем, я сейчас сбегаю, договорюсь!
Я замешкался, обдумывая предложение Свиркина, и Роман опередил меня.
— Николай пусть сбегает, он шустрый, — пробасил он.
— Хорошо, Петр, — сказал я. — Не забудь, ровно в двадцать один ноль-ноль.
15 часов 31 минута. Снегирев
Захлопнув дверцу «Жигулей», Баталин протянул Семену пачку сигарет и задумчиво проговорил:
— А следователь дельную мысль подкинул. Я после твоего рассказа тоже об этом подумал, ведь на базу джинсы поступают часто, в том числе и «Монтана». — Он повернул ключ зажигания, вырулил на оживленную магистраль и, ловко вклинившись в плотный поток автомашин, пристроился за большим рефрижератором.
Снегирев с интересом озирался по сторонам, прислушиваясь к рассказу Баталина о достопримечательностях города на Неве. Постепенно начинала сказываться разбитая переездами и перелетом ночь, угнетали смерть Клюева, отсутствие доказательств, путающийся под ногами Лыков. Семен откинулся в кресле и незаметно для себя задремал. Его ленинградский коллега еще несколько минут продолжал вдохновенный рассказ, но, услышав легкое посапывание, улыбнулся и чуть прибавил скорость.
Семен почувствовал что-то неладное. Было тихо и не трясло. Он открыл глаза и прямо перед капотом «Жигулей» увидел сглаженную временем кирпичную стену, уходящую ввысь.
— Где это мы? — разминая затекшую спину, спросил он.
— База «Росторгодежда», — усмехнулся Баталин.
— Надо же, заснул, — смущенно проговорил Семен. — И ты тоже хорош, человек первый раз в Ленинграде, а ты его спящим через весь город провез… Вот так и бывает в командировках. Другие по музеям да картинным галереям бегают… А я о чем детям рассказывать буду? В райотделе был, в прокуратуре был, на базе был — вот и все красоты. А чем райотдел милиции в Киеве отличается от райотдела в Минске? Только надписью: в Киеве — на украинском, в Минске — на белорусском, в Ленинграде — на ленинградском…
Баталин взглянул на его помятую физиономию и рассмеялся:
— Жалко было будить, больно сладко ты спал. В отпуск с семьей приезжай, весь город покажу, все музеи, дворцы и — никаких райотделов!
— Договорились, — вздохнул Семен и открыл дверцу.
В проходной Баталин переговорил с вахтершей и через минуту они бодро вышагивали по просторной территории базы к складу номер четыре. Подойдя к гигантским железным воротам, Баталин потянул на себя узкую дверь. Уныло проскрипели дверные петли, и оперуполномоченные оказались в сумрачном помещении с огромными стеллажами со всевозможными тюками и ящиками. На таких больших складах Семену прежде не доводилось бывать, и он, задрав голову вверх, прошептал:
— Масштабы… Даже «ау» крикнуть хочется.
— Да, нелегко будет отыскать здесь хозяйку…
Им еще долго пришлось бы решать эту задачу, если бы не молодой розовощекий парень, выехавший на электрокаре из широкого прохода между стеллажами.
— Завскладом ищите? — спросил он, притормозив возле них.
Семен кивнул.
— Вдоль этого ряда и направо, — махнул парень рукой, и электрокар бесшумно скрылся за поворотом.
Оперуполномоченные прошли метров сто, повернули направо, уперлись в тупик, развернулись назад, еще несколько раз поворачивали направо. Возникли ассоциации с мрачной таинственностью египетских пирамид и с судьбами грабителей сокровищниц фараонов. Становилось грустно. Наконец, они услышали человеческий голос:
«Уж от тебя я такого не ожидала!» — и обрадовались, как путники, утратившие надежду выйти к жилью, при виде далекого огонька.
— Я уж думал, мы достанемся на ужин какому-нибудь складскому Минотавру, — облегченно вздохнул Снегирев.
— Жуткое место, — поддакнул Баталин.
В ярко освещенном закутке сидящая за столом полная женщина распекала широкоплечего верзилу в черном халате, расползшемся на спине по шву. Большеносое и большегубое лицо верзилы выражало беспредельную тоску, и он еле слышно бубнил: «Галинаананьевна, я обещаю, Галинаананьевна, я больше не буду…» Заведующая складом довольно образно высказывала свои сомнения по поводу обещаний верзилы не злоупотреблять спиртными напитками в рабочее время, и в ее словах: «Слышала я твои обещания…» — звучала неподдельная горечь.
— Иди домой, чтобы духу твоего здесь не было, сегодня же докладную напишу! — увидев Снегирева и Баталина, замахала она руками.
Верзила обрадовался неожиданным спасителям и, буркнув: «Пиши, пиши, все равно работать некому», — лениво зашагал между стеллажами.
— Вот и надейся на них, — обратилась Галина Ананьевна к Снегиреву, рассчитывая на поддержку.
— Да-а, — сочувственно протянул Семен. — Клюев тоже такой?
— Нет, что вы, — ответила женщина и, внезапно насторожившись, зорко оглядела оперативников. — А вы кто?
Баталин представился. Заведующая складом удивленно вскинула редкие рыжеватые брови.
— О Клюеве ничего плохого сказать не могу. Уже два раза объясняла это вашим товарищам.
— Каким товарищам? — не понял Баталин.
— Как каким? Один крепкий, невысокий, а второй в очках, они на прошлой неделе приходили. А сегодня, часа полтора назад, еще один был, из ОБХСС.
Снегирев и Баталин переглянулись.
— Этот? — спросил Семен, показывая заведующей складом фотографию Лыкова.
— Да, — кивнула она и встревожилась. — Я что-то не так сделала? Он не из милиции?
— А почему вы решили, что он из милиции? — быстро спросил Баталин.
Женщина удивленно посмотрела на него:
— Он сам сказал, и уголок удостоверения я видела.
— Что же его интересовало? — продолжая держать снимок перед глазами заведующей складом, спросил Семен.
— Клюева искал.
— И вы сказали?
— А что я могла сказать? — чуть агрессивно вздернула плечами Галина Ананьевна. — Я сама не знаю! Болеет, наверное, он часто по больничному ходит. Раз на работе не появляется, значит, болеет, — уже увереннее заключила она.
— Ну вот, а вы говорите — хороший работник.
Какой же он хороший, если даже вас не поставил в известность о своей болезни? — покачал головой Баталин, желая удостовериться, знает ли женщина о смерти Клюева.
По ее реакции оперативники поняли: о случившемся ей ничего не известно.
— Да, хороший, — немного обиженно заявила Галина Ананьевна. — Непьющий, исполнительный, вежливый. А если у него здоровье неважное, так он в этом не виноват. Прогулов он не допускал, если нет на работе, знаем — болеет, больничный он всегда представляет… Лично у меня к нему претензий нет, да и не только у меня. Получатели из магазинов на него никогда не жалуются, другие грузчики кочевряжутся, а Клюева и просить не приходится, сам все делает.
— Вы нас убедили, — остановил ее Снегирев. — Значит, восьмого числа он был на работе?
— Был. У нас напряженный день выдался, как сейчас помню, только успевали крутиться, словно заводные. Даниил Михайлович и на складе работал, и машины разгружал.
— Каким магазинам вы отпускали товары в тот день? — как бы между прочим поинтересовался Баталин.
Заведующая складом насупилась:
— Так бы сразу и спрашивали, а то Клюев, Клюев, — она полезла в стол и вытащила толстую пачку фактур. — Пожалуйста, смотрите…
Оперуполномоченные примостились напротив нее, и Баталин разделил фактуры на две ровные стопки. Передав одну из них Семену, он привычно погрузился в изучение документов. Семен взглянул на доставшиеся ему фактуры, вздохнул, поплевал на палец и тоже зашелестел бумагами. Галина Ананьевна достала из ящика стола толстенную книгу, с грохотом кинула перед собой счеты и, равнодушно посматривая на оперативников, защелкала костяшками.
Вскоре Баталин толкнул локтем своего коллегу:
— Взгляни, Семен Павлович.
Заведующая складом стрельнула глазами по фактуре, на которую указал Баталин. Семен склонился над документом и присвистнул:
— Опять «Монтана», — он посмотрел на заведующую. — Клюев давно у вас работает?
— Второй год.
Снегирев представил штабеля фактур, которые предстояло просмотреть, и уныло произнес:
— Да-а… тут и за неделю не управишься.
Баталин похлопал его по плечу:
— Не переживай, поможем, — взял заинтересовавший их документ и показал завскладом. — Галина Ананьевна, не подскажете, кто получал эти джинсы?
— Там же написано — магазин «Рабочая одежда», — чуть нервно ответила она.
— Меня интересует, кто именно? — спокойно уточнил Баталин.
Заведующая складом повернула документ к свету и, взглянув на подпись, уверенно пояснила:
— Демидкина Мария Лаврентьевна, директор магазина.
— Смотри-ка, у вас директора товары получают, — повернулся к Баталину Семен, — а у нас все больше экспедиторы…
Тот промолчал, понимая, что наигранное удивление коллеги адресовано не ему, а заведующей. Галина Ананьевна, видимо, тоже догадалась об этом и, сердито щелкнув костяшками счет, отозвалась:
— А как же? Товар дефицитный, кому попало не поручишь… Мария Лаврентьевна джинсы всегда сама получает.
— Демидкина знакома с Клюевым? — спросил Снегирев.
— А как же?! Ему же приходится грузить ее товар!
— Какие между ними отношения? — попытался уточнить Баталин.
— Какие могут быть отношения у грузчика с директором магазина?! — рыжеватые брови завскладом сердито поползли вверх. — Неужели вы думаете?..
Заверив Галину Ананьевну, что они ничего не думают, а только стремятся выяснить, оперуполномоченные пустились в обратный путь по складскому лабиринту.
18 часов 12 минут. Снегирев
— Придется рисковать, — вздохнул Баталин, останавливаясь почти под самым знаком, запрещающим стоянку автомашин, — не бежать же по дождю, — он покосился на Семена, — тебе хорошо, ты в плаще.
— Правильно меня предупреждали, что у вас дождь каждый день, — заулыбался Снегирев, поплотнее надвигая на лоб шляпу.
В торговом зале магазина «Рабочая одежда» было светло, тепло и пустынно. Молоденькие продавщицы, собравшиеся у одного из прилавков, оживленно беседовали, не обращая внимания на полную старуху, примерявшую штормовку с эмблемой «Минмонтажспецстроя». Наконец, одна из них, заметив колебания покупательницы, подошла к ней.
— Мне кажется, вам в плечах немного тесновата, — заботливо проворковала она, — попробуйте пятьдесят шестой.
Старуха с трудом стянула штормовку и, переваливаясь с ноги на ногу, направилась вглубь зала.
Снегирев подмигнул Баталину и шагнул к стайке продавщиц. Приблизившись к ним, он скромно замер и, когда на него обратили внимание, извиняющимся тоном произнес:
— Здравствуйте… Я приезжий, из Сибири… — Девушки окинули его снисходительным взглядом, и Семен, еще больше засмущавшись, промямлил: — Мне брюки поручили купить… сказали, у вас бывают. — Он запустил руку в недра пиджака и, порывшись, выудил потрепанную записную книжку.
Под насмешливые улыбки продавщиц, Семен перелистал ее и, словно отыскав нужную страницу, прочитал по складам:
— «Мон-та-на»… называются… — Он с глуповатой улыбкой посмотрел на самую симпатичную из девушек и с надеждой спросил: — Есть?
Баталин, примерявший недалеко от прилавка такую же, что и старуха, штормовку, фыркнул и натянул на глаза капюшон.
Снегирев, мягко улыбаясь, продолжал вопросительно смотреть в серые безразличные глаза продавщицы. Та привычно улыбнулась и, вздернув остренький подбородок, ответила:
— У нас такие джинсы не бывают. Есть отечественные, по тринадцать пятьдесят… Показать?
— Как не бывают? — растерянно пробормотал Семен и зашевелил губами, словно прикидывая что-то в уме. — Шурин в отпуске был, говорит, восьмого сентября видел у вас такие, и племяш видел… Как не бывают?
Девушка надменно смерила его взглядом и с ноткой возмущения в голосе бросила:
— Не знаю, что вам шурин говорил… У нас все на прилавках, смотрите…
Семен не стал смотреть на прилавки, а попросил вызвать директора и, несмотря на уговоры, настоял на своем. За директором одна из девушек пошла, но вскоре вернулась и сообщила, что Мария Лаврентьевна примет настойчивого покупателя в своем кабинете.
Войдя к директору, Снегирев нерешительно замер у порога.
Демидкина, элегантная, с приятными, но чуть мелковатыми чертами лица, женщина лет сорока, пригласила его сесть.
Робко опустившись на стул, Семен любезно улыбнулся:
— Мне брюки нужны, «Монтана»…
Демидкина напряглась, но, увидев добродушное лицо посетителя, спокойно пояснила:
— Что вы, товарищ, это такой дефицит… мы импортные джинсы уже несколько месяцев не получаем.
Семен снова улыбнулся:
— Мария Лаврентьевна, вы же восьмого числа получали. — Он развернул свое удостоверение и протянул директору.
Заученная улыбка медленно сползла с ее лица, но Демидкина быстро нашлась:
— Ну и разыграли вы меня! — расхохоталась она, но в глазах смеха не было. — Конечно, получали, но джинсы это такой товар… в полчаса разошлись. Сами понимаете, не могу же я каждому покупателю это объяснять…
— А ваши работницы говорят, что в зал джинсы вообще не поступают, — продолжал улыбаться Семен.
— Ну что вы? — так же мило улыбаясь в ответ, парировала Мария Лаврентьевна. — Девочки недавно работают, вот и не в курсе, тем более, восьмого работала другая бригада.
— Разрешите? — раздался голос Баталина, и он вошел в кабинет.
Демидкина раздраженно взглянула на него, но, когда Семен представил своего коллегу, гостеприимно разулыбалась, вежливо кивнула и предложила стул.
— Мария Лаврентьевна, вам это лицо не знакомо? — продолжил беседу Семен, протягивая ей фотографию Лыкова.
Демидкина осторожно взяла снимок, повернула его к себе и, как показалось Снегиреву, с тревогой всмотрелась в лицо Лыкова. Секунду помедлив, она с облегчением пожала плечами:
— Я этого человека не встречала… Кто он?
Со стороны можно было подумать, будто Семен занят исключительно тем, как бы, вкладывая фото в карман, не помять его.
— Знакомый Клюева, — обронил он.
Пальцы Демидкиной вздрогнули, но, перехватив взгляд Снегирева, она быстро убрала руки со стола и, безучастным голосом, произнесла:
— Это, по-моему, был такой грузчик на базе?
Отметив про себя, что она говорит о Клюеве в прошедшем времени, Семен поинтересовался:
— Вы с ним знакомы?
— Как вам сказать? — задумчиво ответила директор магазина. — Видела на базе… и все…
— И все? — недоверчиво переспросил Баталин.
— И все! — твердо ответила Мария Лаврентьевна и встала, давая понять, что разговор окончен. Темно-синий костюм не скрывал достоинств ее фигуры. — Извините, мне нужно в зал…
— Нужно так нужно, — развел руками Снегирев, отвечая на ее улыбку добродушной ухмылкой.
На улице моросил холодный мелкий дождь.
— Зря ты от штормовки отказался, — перепрыгивая через лужу, крикнул Семен съежившемуся Баталину.
— И не говори! — отмахнулся тот и припустил бегом.
В машине Баталин включил двигатель и, передвинув рычажок печки на полную мощность, блаженно откинулся в кресле:
— Покурим?
Дождь мягко постукивал по крыше, мелкие капли, попадая на лобовое стекло набухали и, срываясь с насиженного места, юркими змейками сбегали вниз.
Баталин прервал молчание:
— Как тебе Мария Лаврентьевна?
— Интересная женщина, — многозначительно произнес Семен.
Баталин покосился на него.
— Думаешь, не до конца откровенна?
Снегирев сдвинул на затылок шляпу и пожал плечами:
— Такое впечатление, что ей известно о смерти Клюева.
— Считаешь, она была с ним связана?
Семен кивнул.
— Валера, нам с тобой известно, что восьмого сентября джинсы «Монтана» получал только магазин «Рабочая одежда». Клюев работает на базе, то, что он спекулянт — факт, то, что он регулярно отправлял через Семушкина джинсы — тоже факт, то, что девятого сентября джинсы «Монтана» доставлены Семушкиным в Новосибирск — неоспоримый факт, и в том, что при упоминании фамилии Клюева Демидкина занервничала, — сомневаться не приходится. Не слишком ли много совпадений?!
Баталин усмехнулся:
— Складно у тебя все получается, Семен. Только вот про Лыкова ты забыл.
— Почему забыл? Мы же говорим о Демидкиной, а она Лыкова не знает, — парировал Снегирев, — по глазам видно…
— Психо-олог, — протянул Баталин и взялся за рычаг переключения скоростей.
Машина медленно тронулась с места. Снегирев поудобнее откинулся в кресле и бросил прощальный взгляд на вход в магазин.
— Стой! — схватил он Баталина за рукав. — Лыков идет!
Баталин нажал на тормоз и успел заметить входящего в дверь магазина рослого мужчину в кожаной куртке.
— Здорово ты по глазам читаешь, — хмыкнул он. — Задерживать будем?
Семен не сразу ответил на вопрос. Он проследил, как Лыков уверенной походкой пересек зал и скрылся в коридоре, ведущем к кабинету директора.
— Не стоит торопить события, — наконец отозвался он, убирая руку с дверцы «Жигулей».
Баталин снова закурил. Щетки стеклоочистителей, словно метроном, отсчитывали секунды. Семен отстегнул ремень безопасности.
— Идем? — нетерпеливо спросил Баталин.
Снегирев покачал головой.
— Рано.
Сигарета догорела до фильтра, и, затянувшись, Баталин обжег губы.
— Черт! — воскликнул он. — Чего ждем, думаешь, с джинсами выйдет?!
Семен пожал плечами, посидел еще немного и, взглянув на часы, решительно открыл дверцу:
— Мне это уже перестает нравиться.
В торговом зале по-прежнему было пустынно. Быстро пройдя мимо удивленных продавщиц, оперуполномоченные побежали по коридору. Дверь в кабинет директора была закрыта.
— Уехала она, — услышали Баталин и Снегирев ворчливый голос и разом обернулись.
Пожилая женщина равнодушно возила мокрой тряпкой по полу, и делала это так монотонно, что казалось, рухни стена, она не прервет своего занятия.
— Куда? — огорченно спросил Снегирев, продолжая дергать за ручку.
— Когда? — таким же тоном выпалил Баталин.
— Куда — не знаю, — продолжая выписывать тряпкой полукружья, проговорила женщина, — но минут пять назад. К ней какой-то парень зашел, они и поехали, у нее же машина.
Баталин стремительно подошел к двери, ведущей во двор, и, выглянув наружу, огорченно развел руками.
18 часов 49 минут. Свиркин
Петр, прыгая через две ступеньки, влетел на четвертый этаж общежития. В коридоре было пусто, никто не сидел на подоконниках, не бродил, уткнувшись в конспекты, не шмыгал из комнаты в комнату в поисках сковородки, не выпрашивал у соседей пятерку до стипендии, и Петр в первую минуту даже опешил, но, сообразив, что для студентов настала горячая пора уборки, встревожился. Немного постояв в раздумье, он быстро зашагал по коридору, и, увидев приоткрытую дверь комнаты, где жил командир оперативного комсомольского отряда дружинников Степан Матюшкин, успокоился, и, вежливо постучав, вошел.
В комнате вкусно пахло жареной картошкой, и Свиркин с грустью вспомнил, что его обед состоял из чая с сухарями. На письменном столе, покрытом куском клеенки, стояла электрическая плитка, возле которой, помешивая ножом в большой сковородке, суетился мускулистый парень с мокрыми волосами и накинутым на плечи полотенцем. Увлеченный своим занятием, он не услышал, что в комнату вошли. Кинув взгляд на мускулистую спину парня и красные спортивные трусы, Петр громко продекламировал:
— Многие парни плечисты и крепки, многие ходят в футболке и кепке…
Парень обернулся и разулыбался:
— Петру Ефимовичу привет!
Свиркин шагнул к нему:
— Интересно, все студенты картофель убирают, а командир ОКОДа его поглощает…
В эту минуту Петр и интонациями голоса, и нравоучительностью высказывания, и солидностью немного напоминал своего старшего коллегу — Романа Вязьмикина.
Степан, пожимая его руку, парировал:
— Картошку все мы уважаем, когда с сальцом ее намять… А если серьезно, наш отряд занимается ремонтом общежития. Ребята у меня, сами знаете, дружные, работы не боятся, даже самой грязной, вот и поручили нам в рекордные сроки подготовить здание к учебному году.
— Это хорошо, что все твои парни в сборе, — усаживаясь на краешек аккуратно прибранной кровати, сказал Свиркин. — Дело есть, нужна ваша помощь.
— Петр Ефимович, давайте картошечки навернем, а потом и о деле, — снимая с плитки дымящуюся сковороду, предложил Степан.
— Да я… вообще-то обедал… — замялся Петр.
— Так уже ужинать пора, — рассмеялся Матюшкин, подавая ему ложку. — Вы уж извините, вилки все порастащили…
Петр смущенно покрутил в руках ложку, взглянул на обжигающегося румяными поджарками Степана, вздохнул и решительно воткнул свое орудие в гору картошки, понимая, что другого случая поесть сегодня не представится.
18 часов 58 минут. Снегирев
Узнав у заведующей секцией адрес директора магазина, оперуполномоченные стремглав выскочили на улицу. Баталин, забыв о дожде и не обращая внимания на лужи, бросился к своим «Жигулям». Семен тоже спешил, но не забывал глядеть под ноги. У машины неторопливо прохаживался, помахивая черно-белым жезлом, инспектор ГАИ. Баталин, на ходу вынимая удостоверение, быстро подошел к нему и, не дав открыть рта, выпалил:
— Извините, товарищ капитан, понимаю, что нарушил, но обстоятельства… оперативное мероприятие.
— Нам преступника задерживать надо, — дергая на себя дверцу «Жигулей», солидно проговорил Снегирев и, упав на сиденье, бросил: — Товарищ Баталин, поехали!
Инспектор покосился на старенькую шляпу Семена, кинул взгляд на вывеску магазина, еще раз пробежал глазами удостоверение Баталина и слегка улыбнулся:
— Техталон, пожалуйста, товарищ капитан, — лениво протянул он руку.
Баталин быстро подал талон, вздохнул, услышал щелчок, и вскочил в машину. Инспектор приложил руку в белой перчатке к козырьку:
— Счастливо задержать.
— Спасибо, — обиженно буркнул Семен и, когда «Жигули» тронулись, проворчал себе под нос: — Бывают же такие черствые люди.
Баталин глянул в зеркало, увидел удаляющуюся спину инспектора и прибавил скорость.
19 часов 14 минут. Снегирев
Семен резко нажал кнопку звонка, и за дверью раздался мелодичный звук колокольчика. Баталин внимательно смотрел на глазок в центре двери, не зажжется ли свет в прихожей. Прислушались — тихо. Семен снова нетерпеливо надавил кнопку, и опять оба замерли, напрягая слух. Но вот они уловили едва различимый шелест обуви и переглянулись.
— Откройте, милиция! — громко сказал Семен.
Они задержали дыхание, стараясь расслышать, что происходит за дверью.
— Какая еще милиция? — после продолжительной паузы спросил испуганный женский голос.
Это был голос директора магазина Демидкиной. Семен с Баталиным снова переглянулись, но теперь с таким видом, словно у них свалилась гора с плеч, и Снегирев бодро пояснил:
— Та самая, что беседовала с вами час назад… Мария Лаврентьевна, не в глазок же удостоверение показывать, все равно ничего не разглядите… Хоть на цепочку приоткройте, есть, наверное, цепочка-то?
Цепочка имелась и дверь приоткрыли. Расширенные от страха глаза Демидкиной обшарили с ног до головы невозмутимо стоящих Снегирева и Баталина, и, лишь убедившись, что перед ней и в самом деле сотрудники ОБХСС Мария Лаврентьевна осторожно отворила, а когда они вошли, быстро закрыла дверь, с опаской глянув на лестничную площадку.
По обстановке в однокомнатной квартире чувствовалось, что здесь живет одинокая женщина: на вешалке ни мужской, ни детской одежды, по комнате не разбросаны где попало газеты, не валяются на полу игрушки. Все прибрано, все на своих местах, вот только…
— Вы курите? — меланхолично спросил Снегирев, разглядывая под потолком остатки табачного дыма.
Демидкина рассеянно посмотрела в сторону люстры, где вокруг плафонов кружился сизоватый дымок, и тихо ответила:
— Иногда…
— Иногда? — мягко улыбнулся Семен, переводя взгляд на пепельницу, в которой лежали две недокуренные сигареты: одна — со следами губной помады на фильтре, другая — расплющенная, с высыпавшимися крошками табака, так обычно тушат сигареты, когда нервничают или очень торопятся.
Мария Лаврентьевна молчала.
Внимание Семена привлекли мокрые следы возле кресла.
— Вот уж не поверю, что такая аккуратная женщина ходит по дому в грязной обуви. — Он скользнул глазами по стройным ногам хозяйки, обутым в миниатюрные атласные тапочки, и добавил: — Да еще сорок второго размера.
Мария Лаврентьевна продолжала молчать.
Снегирев подошел к окну, откинул штору и, казалось, забыл, что привело его в эту квартиру. Баталин поглядел на Демидкину в упор и, отчеканивая слова как диктор, читающий важное сообщение, произнес:
— Мария Лаврентьевна, со мной, как вам известно, товарищ из Новосибирска. Ему надо выполнить очень ответственное поручение следователя, и не одно. Времени у Семена Павловича в обрез. Поэтому прошу вас дать искренние показания и без проволочек и недомолвок. Если вы начнете увиливать, он улетит без вашего чистосердечного признания, и для вас это будет совсем некстати. Со своей стороны, я заверяю вас, Мария Лаврентьевна, что ради товарищеской взаимовыручки я сделаю все, чтобы уже имеющиеся у нас доказательства вашей причастности к спекуляции джинсами подкрепить новыми фактами, и времени у меня будет предостаточно. — Баталин выдержал паузу и продолжил: — Итак, пока два вопроса: первый — что связывает вас с Лыковым? — Увидев как непонимающе вытянулось лицо Демидкиной, Баталин пояснил: — С тем самым, который только что покинул вашу квартиру… Вопрос второй — ваши взаимоотношения с Клюевым? — Он снова сделал паузу. — Это для начала. Остальные вопросы вам задаст Семен Павлович.
Похоже, речь оперуполномоченного прозвучала для Марии Лаврентьевны убедительно. Она опустилась на тахту и посмотрела на Снегирева, который к этому времени уже разложил на столе бланк протокола допроса, приготовил ручку и сидел, задумчиво подперев подбородок. Встретив его спокойный взгляд, Демидкина решительно откинула со лба волосы и начала торопливо рассказывать,словно боясь, что повторить показания еще раз у нее не хватит мужества.
— Я тогда, в магазине, не обманула вас, Лыкова я на самом деле не знала, сегодня впервые увидела, а фамилию, вообще, только сейчас услышала. — Она взглянула на Баталина. — Когда он пришел, я испугалась, не зря же вы показывали его фотографию, значит, разыскиваете. Сразу вспомнила, что Клюев убит, и еще больше испугалась, решила, что вдруг это он его. Лыков ввалился в кабинет и нагло улыбается, а когда привет от Клюева передал, мне совсем нехорошо стало… Уселся и говорит, расскажу о всех твоих махинациях со штанами, будешь тюремную баланду жрать, и хохочет, за спекуляцию, говорит, в крупном размере сидеть не пересидеть… У меня все в голове смешалось. Он успокаивает: дашь сто штанов, не буду заявлять. Я стала убеждать его, что у меня столько нет. Давай сколько есть, требует он, я и отдала двадцать восемь, знакомым оставляла. Завернула ему, а он еще больше обнаглел, стал деньги вымогать. У меня было с собой семьдесят рублей, даю ему, он — мало, дай тысячу, тогда отстану… Пришлось его к себе домой вести. — Демидкина так грустно посмотрела на грязные следы у кресла, словно сейчас больше всего ее расстраивало именно это. — Отдала ему деньги, и он пошел, а в дверях остановился и ухмыляется: «Передай Клюеву, пусть Владику брякнет, из Новосибирска дымком попахивает».
Снегирев старательно записывал показания директора магазина и, когда та замолчала, поднял голову:
— Откуда вам известно о смерти Клюева?
Демидкина вздрагивающей рукой провела по лицу, словно смахивая липкую паутину.
— От его соседей по даче… Я приехала к Клюеву в субботу… хотела просить оставить меня в покое… Я так вымоталась за эти два года!.. И, когда мне соседи сказали, что он убит… — Мария Лаврентьевна снова провела по лицу. — Мне стыдно об этом говорить, но я обрадовалась, наконец-то кончился этот кошмар!
— Мария Лаврентьевна, давайте по порядку, — попросил Семен. — Расскажите, когда все это началось?
— Два года назад… Клюева я впервые увидела на базе, он только-только устроился туда. Он мне показался приличным человеком, не пьяницей. Сколько раз приезжала, всегда вежливо разговаривал, шутил. Машину быстро загрузит, сам сбегает фактуры у завскладом подпишет, даже в кабину сесть поможет. Культурный… — горько усмехнулась Демидкина. — Перед Восьмым марта пришел в магазин, я его даже не узнала, в хорошем костюме, модной рубашке, ботинки до блеска начищены, букет цветов. Я своим бабьим умом подумала, узнал, что я разведена. — Мария Лаврентьевна опять горько усмехнулась: — …А у него свои интересы… Вскоре получала я дефицит — джинсы, Клюев попросил оставить ему одни. Оставила. Следующий раз попросил для друга. Оставила. Принес цветы и конфеты, благодарил… Я посчитала, что джинсы — это только повод для встречи со мной. Считала так до тех пор, пока не произошел тот ужасный случай… Приехала как-то с базы, разгрузили товар, не хватает ста джинсов. Меня чуть удар не хватил. Это же десять тысяч! А где я такие деньги возьму?! Позвонила на базу, там говорят, все точно отпустили. Я и не знала, что подумать, что предпринять… А вечером заявляется «мой ухажер», сочувствует. Расплакалась, конечно, а он пообещал к утру найти деньги, чтобы погасить недостачу. Я так его благодарила, еще подумала: бывают же такие отзывчивые люди… — Губы Демидкиной скривились все в той же горькой улыбке. — И действительно принес десять тысяч, даже расписку брать не хотел, но я настояла… Недели через две приходит с цветами и поздравляет с удачей. Я, конечно, не поняла ничего, просила объяснить, но он уклонился и вручил конверт, взяв слово, что вскрою его только дома… В конверте лежала моя расписка и… десять сотенных бумажек. — Демидкина тяжело вздохнула. — Вот тогда до меня дошло. Ночь не спала, а утром помчалась к нему на дачу, Клюев меня часто приглашал, но я не ездила, а тут… Встретил он меня радушно, как будто только и ждал моего приезда. А когда стала просить не втягивать меня ни в какие истории, рассмеялся: «Поздно, детка! Ничего не получится. С каждой сотни штанов будешь получать штуку… Только, ради бога, не вмешивай ОБХСС, сядем вместе и надолго…» Вот так все и началось…
21 час 00 минут
Свернув с оживленной магистрали, милицейский УАЗ мягко вырулил на узенькую, сжатую раскидистыми тополями, улочку. Я повернулся к Мишину:
— Далеко еще?
— Метров двести, Николай Григорьевич, угловой дом.
Вязьмикин, сидевший рядом с ним, похлопал водителя по плечу:
— Глуши двигатель и выключай фары.
Машина, почти неслышно шелестя шинами, покатилась под горку. Склонившись к лобовому стеклу, я всмотрелся в сгустившиеся сумерки. Не освещаемая фарами улица, казалось, стала еще теснее.
— А вот и Петя, — прогудел Роман, указывая на долговязую фигуру Свиркина, шагнувшего на дорогу из-за толстого тополя.
Водитель затормозил. Я приоткрыл дверцу.
— Все в порядке?
Петр доложил:
— Так точно. Дружинники на месте. — Он кивнул в сторону лавочки, на которой расположились пятеро молодых парней. — В дом вошли четверо мужчин и одна девушка.
Окна небольшого кирпичного дома были плотно занавешены, но и сквозь шторы вырывались сполохи цветомузыки, придавая всему вокруг вид сказочный и нереальный.
Мишин толкнул дверь, и мы с командиром оперативного комсомольского отряда дружинников Степаном Матюшкиным шагнули следом за ним в темные сени. Пол вздрагивал от стереокриков, родившихся на солнечных берегах Средиземного моря. Пройдя через кухню, мы попали в просторную комнату. В потемках трудно было различить лица молодых людей, устремивших на нас взгляды, тем более что лица постоянно меняли свой цвет: то становились зелеными, то фиолетовыми, то яркомалиновыми. Степан решительно подошел к магнитофону и утопил клавишу. В комнате стало тихо, как в ткацком цехе, в котором внезапно замерли все станки. Я щелкнул выключателем. Мишин шагнул на середину и, обведя взглядом сощурившиеся от яркого света физиономии, сообщил:
— Все, ребята. Товара больше не будет. — Он повернулся ко мне: — Познакомьтесь, это следователь Ильин Николай Григорьевич.
— Приплыли, — грустно констатировал юноша с коротко остриженными висками и откинулся в кресле.
— Сволочь! — взвизгнула угловатая девица в полосатых вязаных чулках выше колен и мини-юбке, вскочила и кинулась на Мишина, яростно колотя в воздухе маленькими кулачками.
Щуплый парень в застиранной майке с трилистником на груди схватил девицу за плечи.
— Сядь, дура!
Рослый рыжий юнец в кроссовках лениво разогнул спину, поднялся с дивана и медленно направился к дверному проему, ведущему в другую комнату. Он решительно не хотел со мной знакомиться, так как, сделав несколько шагов, стремительно рванулся туда, и мы услышали звон разбитого стекла, а следом могучий бас Вязьмикина: «Куда ты, огонек?!» Это охладило двух других юнцов, которые явно собирались последовать примеру рыжего и расправиться еще с парой окон. Матюшкин удивленно посмотрел на одного из них:
— Ухов, тебя же по болезни от сельхозработ освободили? — Степан обернулся ко мне и пояснил: — Он справку представил в деканат, что у него какой-то чрезвертельный перелом.
Ухов понуро опустил голову. Я взглянул на Степана:
— Остальные тоже ваши?
Он кивнул:
— Да, кроме Трошина, который в окно сиганул, его в прошлом году исключили.
В дверь заглянул Свиркин:
— Николай Григорьевич, вторая машина уже пришла. Едем?
Компания спекулянтов во главе с хозяином дома уныло потянулась к выходу. Во дворе, оживленно переговариваясь, толпились дружинники.
20 часов 47 минут. Снегирев
Когда «Жигули» подрулили к светло-зеленой панельной пятиэтажке, Семен искренне изумился:
— Я думал, у вас только старинные дома…
Баталин усмехнулся:
— Фильм «С легким паром…» смотрел?
— Там хоть посолиднее, а это… — разочарованно поморщился Семен.
Баталин снова усмехнулся:
— Зато ты, наверное, чувствуешь себя, как в родном городе?
— Это точно, — ответил Снегирев, распахивая дверцу.
Они остановились перед квартирой Семушкина, и Баталин позвонил. Дверь открыл пожилой мужчина в пижаме. В крупных руках с узловатыми пальцами он держал газету и очки и, подслеповато щурясь, смотрел на оперуполномоченных. Семен задержал взгляд на этих усталых руках и представился.
Лицо мужчины посерело, и он отошел в сторону, приглашая в крошечную прихожую с допотопной вешалкой. Прошли в комнату. Никакой роскошной обстановки, чистота и порядок. Казалось, будто и вчера, и месяц, и десять лет назад простенькие стулья стояли вот так же вокруг овального стола, так же почти бесшумно мерцал голубой экран «Рекорда», а перед ним тихонько покачивалось кресло-качалка, покрытое недорогим пледом. Хозяин включил трехрожковую люстру с плафонами из голубого стекла и негромко, разделяя слова, как человек, не привыкший помногу говорить, произнес:
— Садитесь, пожалуйста… Я знаю… получил письмо из Новосибирска от следователя прокуратуры. — Он, тяжело переставляя ноги, подошел к телевизору, выдернул из розетки шнур, положил на телевизор очки и газету и повернулся к оперуполномоченным. — Меня зовут Аркадий Леонтьевич, я отец Игоря. — Он долго не мог найти место своим натруженным рукам, наконец, заложил их за спину и с отчаянием взглянул в глаза Снегирева. — Товарищ капитан, как такое могло произойти?! В голове не укладывается! — Он беспомощно оглянулся по сторонам, словно ища поддержки. — … Матери нет, на работе задерживается, скоро конец месяца, план горит, она на заводе штамповщицей работает… А что мать?! — Аркадий Леонтьевич обреченно махнул рукой. — Тоже с ума сходит, ночами не спит… Упустили мы Игоря… Сами виноваты…
Снегирев взглянул на стену, где висела небольшая фотография молодого усача в лихо сдвинутой на затылок пилотке. Хозяин поймал его взгляд и, опустив голову, проговорил:
— Вот видите… на фронте я воевал… Ранен трижды… Медалями награжден… На заводе тоже не из последних. И все теперь перечеркнуто! Нет мне прощения! — Лицо Аркадия Леонтьевича ожесточилось. — За такого сыне меня самого расстрелять надо!
— Зачем же так, — мягко укорил его Семен.
— Я, товарищ капитан, слов на ветер не бросаю! Хоть сию секунду за такого сына отвечу! — Он схватил со стола папиросы и, ломая спички, закурил. Сделав несколько глубоких затяжек, чуть успокоился и виновато посмотрел сначала на Семена, потом на Баталина. — Извините… Но не могу я, сил нет… Как теперь людям в глаза смотреть?! Хоть на завод не показывайся!.. Еще наставником молодых зовусь, — лицо Аркадия Леонтьевича перекосила горькая усмешка. — Какой я, к черту, наставник?! Своего сына упустил… А ведь с сорок седьмого, сразу после демобилизации, на этом заводе. — Он отрешенно уставился в темный экран телевизора.
— Как же все-таки случилось, что Игорь… — начал Баталин, но Аркадий Леонтьевич не дал ему договорить.
— Не знаю, не знаю, не знаю! Какая-то сволочь втянула его, запутала… В школе он учился хорошо, по поведению никаких замечаний, в институт поступил… Не пил, даже курить только в институте начал… Потом стал приходить с запахом, тряпки иностранные появились… Говорил я матери! Она только: ладно да ладно, парень, дескать, в институте учится. Я его чистить начну, она заступается. Потом сама спохватилась, когда он по нескольку дней домой не приходил. Однажды стирала рубахи и нашла билет до Новосибирска, на самолет. А он говорит, у меня там девушка… Так и не сказал, где деньги на билет взял, а ведь на стипендию не полетаешь, и мы его не баловали. Тут я понял, паучище какой-то опутал сына и не отпускает, — хозяин снова закурил. — Но прежде всего вина на нас с матерью, не смогли гниль в его душе заметить. — Аркадий Леонтьевич тяжело вздохнул. — Письмо от следователя получили, мать в институт побежала, а Игорь, оказывается, два года как отчислен… Обманывал нас… Надо было сразу после школы взять его на наш завод… Да силен, говорят, мужик задним умом…
Снегирев слушал отца Игоря Семушкина, и ему было больно за этого рабочего человека, пытавшегося объяснить в первую очередь самому себе, почему он потерял сына. Семену очень не хотелось еще больше травмировать его, но он был вынужден, и, извинившись, попросил Аркадия Леонтьевича выдать предметы, которые могут представлять интерес для следствия, и пригласить понятых для обыска и описи имущества. Тот нацепил очки, долго, и, видимо, не читая, смотрел на постановление, санкционированное прокурором, затем обреченно выдавил:
— Понимаю, понимаю… Это должно было случиться… — Он встал, порылся в буфете, вытащил из-под белья авиабилет с расплывшимися от воды надписями и протянул его Снегиреву. — Что еще — не знаю… Ищите. — Он с надеждой посмотрел в глаза Семена и попросил: — Без понятых можно? Соседи все-таки… Позор-то какой…
Семен отрицательно покачал головой. Аркадий Леонтьевич еще больше ссутулился и, шаркая ногами, вышел из квартиры. Через пару минут он возвратился с двумя пожилыми мужчинами, которые прятали глаза, словно и они виноваты в том, что Игорь Семушкин совершил преступление. Хозяин уселся за стол, обхватил голову руками и не поднимал ее до самого конца обыска.
Обыск ничего не дал. Видимо, зная взгляды своих родителей на жизнь, Игорь не хранил дома ничего, что могло бы навести на мысль о его двойной жизни. Окончив необходимые формальности, оперативники вышли на улицу, но тяжелое чувство не оставляло их.
— Как же так? — уныло проговорил Снегирев, усаживаясь поудобнее в кресле «Жигулей».
Баталин повернул ключ зажигания и твердо сказал:
— Если бы нам были заранее известны все «как же так?», не совершались бы преступления. Для того и работаем, чтобы в конце концов научиться вовремя ставить диагноз и не доводить дело до хирургического вмешательства.
22 часа 55 минут. Снегирев
Глядя на черную, блестящую под лучами фар ленту шоссе, Семен размышлял вслух:
— …Лыков взял у Демидкиной деньги и джинсы, он знает, что выгоднее продать их в Новосибирске, значит, если у него нет больше дел в Ленинграде, он обязательно должен возвращаться в родные пенаты. Самолетом или поездом? Скорее всего самолетом, он же работает, и надолго отлучаться ему нельзя, можно вызвать подозрения. Задерживаться здесь ему тоже нет резона, вдруг Демидкина заявит в милицию…
Баталин отозвался:
— Сейчас заедем в агенство, узнаем, покупал ли он билет на самолет.
Машина остановилась возле большой стеклянной витрины, с которой улыбалась стройная стюардесса, приглашая редких прохожих летать самолетами Аэрофлота. Снегирев откинул ремень безопасности, вышел из «Жигулей» и, вздохнув полной грудью, потянулся, потом неожиданно замер и юркнул назад. В ответ на недоуменный взгляд своего ленинградского коллеги он прошептал, как будто кто-нибудь мог его подслушать:
— Лыков!.. Стоит в очереди!
— Где?
— Третья касса, пятый.
Баталин оживился:
— Будем задерживать?
— Подожди, подожди…
— Опять подожди, — с досадой бросил Баталин. — Уйдет!
Снегирев пристально посмотрел на очередь у кассы и хитро прищурился.
— Сейчас не уйдет, он же билет покупает.
Лыков, словно почувствовав, что за ним наблюдают, резко обернулся, и Снегирев быстро съехал по сиденью вниз, продолжая оттуда шепотом развивать свою мысль:
— У него ничего с собой нет, если возьмем, будет отпираться. Хорошо бы задержать его с поличным… Как бы узнать, где его вещи?
Баталин взялся за ручку дверцы.
— Ты тут посиди, пойду узнаю, на какой рейс он берет.
Хлопнула дверца, и Валерий ушел. Семен осторожно приподнял голову и посмотрел сквозь витрину. Лыков стоял к нему спиной. Баталин занял за ним очередь. Снегирев видел, как Лыков подошел к окну кассы и подал паспорт и деньги, получил билет. Выйдя из агенства, Лыков повертел головой и, закурив, шагнул в сторону «Жигулей». Семен отвернулся, надвинул на глаза шляпу и притворился спящим. Лыков постучал по стеклу:
— Шеф, свободен? — всматриваясь в темноту салона, развязно спросил он.
— Занят, — не своим голосом сердито пробурчал Снегирев, не поворачивая головы.
Выразительно махнув рукой и что-то не очень вежливое кинув в адрес несговорчивого «шефа», Лыков направился к стоянке такси. Семен с облегчением перевел дух.
— Пронесло? — открывая дверцу, усмехнулся Баталин.
— Не говори, чуть не влип.
— Он взял билет до Новосибирска на утренний рейс. За ним поедем, или в аэропорту брать будем?
— Зачем брать? — с хитрецой отозвался Семен. — Пусть сам добирается, а то вези его потом за казенный счет. Мне бы, Валера, билетик на этот же рейс и позвонить в Новосибирск…
— Понял, — кивнул Баталин, — сделаем. Давай документы.
Вскоре он вернулся и вручил Снегиреву авиабилет. Семен поблагодарил его и грустно поинтересовался:
— Сейчас на Исаакий пускают?
Баталин расхохотался:
— Вот этого я тебе организовать не могу. Поедем ко мне, с женой познакомлю, поужинаем, — и, пресекая возможные возражения, добавил: — Телефон у меня есть.
23 часа 49 минут
Наконец-то можно было немного передохнуть. Я сложил протоколы допросов соучастников Мишина в спекуляции, скрепил их большой скрепкой и принялся перечитывать. Аккуратные, нанизанные одна на другую, мелкие буковки с затейливыми завитушками — это показания Трошина и Ухова, записанные рукой Романа Вязь-микина; крупные, размашистые, стремительно рвущиеся вперед буквы — это запись показаний двух других парней, сделанная Петром Свиркиным. Чувствовалось, что все они рассказали правду. Мной были допрошены хозяин «явочной» квартиры и угловатая девица — Елена Тимофеева. Мишин был прав, когда говорил, что этих ребят еще можно спасти. Я это понял в тот момент, когда, усадив их всех в своем кабинете, стал рассказывать о судьбах Никольского и Семушкина. Моя речь произвела впечатление, это было заметно по их глазам.
Родители задержанных явились без промедления и, узнав, в связи с чем их чада доставлены в милицию, словно сговорившись, принялись убеждать меня, что дети совершили не преступление, а необдуманные поступки, и нельзя быть к ним чересчур требовательным. Пришлось и им поведать о Никольском и Семушкине, разъяснить ответственность за соучастие в спекуляции, а родителей Трошина и Ухова еще и неприятно удивить тем, что первый уже отчислен из института, а второй представил в деканат фиктивную справку о переломе ноги. Все это заставило сердобольных пап и мам опустить головы и надолго задуматься.
Всех «детей» разобрали, только за Леной никто не пришел, ее родители — геологи еще не вернулись из экспедиции, а бабушка плохо себя чувствовала. Лена сидела в углу, шмыгала носом и ждала, когда я освобожусь.
— Поехали, — сказал я ей, закрывая сейф.
Лена робко подняла глаза:
— Только вы бабушке не говорите… Родители через неделю приедут, я сама им все расскажу.
— Пойдем, а то дежурный передумает и придется нам топать пешком.
Уазик остановился возле подъезда, где жила Лена. Я проводил ее до двери, дождался, когда она нажмет кнопку звонка, и спустился вниз.
Водитель, выжав сцепление, повернулся ко мне:
— Куда едем, Николай Григорьевич?
— Домой.
22 сентября, пятница
04 часа 11 минут
Меня разбудил резкий, почти непрерывный звонок телефона. Я босиком кинулся к аппарату, мои родители не очень любят, когда мне звонят среди ночи. Схватив трубку, я услышал профессиональную скороговорку: «С вами будет говорить Ленинград».
09 часов 37 минут
Чуть свет я забежал к Снегиреву домой и обрадовал его жену Галину, сообщив, что Семен сегодня прилетает, взял у нее ключи от «Запорожца» и поехал в аэропорт «Толмачево». Оставив машину на стоянке, зашел в зал ожидания, пробился к справочному и, узнав, что самолет не опаздывает, направился к павильону, где пассажиры получают багаж. Устроившись на лавочке, закурил и принялся в ожидании самолета просматривать свежие газеты.
Когда объявили о посадке ленинградского рейса, я пересел на скамейку подальше от выхода. Подошел первый автобус, и в толпе высыпавших из него пассажиров мелькнула фигура Лыкова. Семена не было. Лыков неторопливо подошел к забору, достал сигареты и стал прикуривать. Закрыв пламя зажигалки ладонями, он склонился и из-под бровей зорко огляделся по сторонам. Пришлось отвернуться. Подошел второй автобус. Семена не было. Лыков, бросив недокуренную сигарету, направился к павильону. Подошла машина с багажом. Семена не было. Я отложил газеты и почувствовал легкое похлопывание по плечу.
— Привет, Коля, — раздался за спиной голос Снегирева.
Я обернулся. Ну, Семен! Хоть бы улыбку спрятал.
— Ты где пропадаешь?! Тут волнуешься, переживаешь, — с досадой бросил я.
— От Лыкова прятался, — снова улыбнулся Снегирев.
— Ну и как, удалось? — спросил я и тоже улыбнулся.
— Удалось. На посадке первым проскочил, с местами повезло — в разных салонах попались, а здесь, как шпиону, пришлось маскироваться, в кустах отсиживаться, пока он раскуривал.
Мы вошли в павильон. Пассажиры, теснившиеся у медленно текущей ленты транспортера, напоминали воробьев, окруживших большую гусеницу. Уловив момент, когда чемодан, кувыркаясь, вылетел из квадратного отверстия в стене, они радовались, если это была их вещь, и нетерпеливо вздыхали при виде чужого имущества. Неотрывно следя за плывущей по волнам транспортера кладью, граждане выхватывали свою и тянулись к выходу, где их ждала женщина со строгим лицом.
Лыков стоял чуть поодаль, словно процедура выдачи багажа его мало интересует, но глаза цепко следили за падающими на ленту транспортера вещами.
— Вон его чемодан, — подтолкнул меня локтем Снегирев.
Апатии Лыкова как не бывало, он сорвался с места и бесцеремонно вклинился в толпу. Пробежав несколько шагов с чемоданом, он замер. Мы с Семеном приготовились его встретить, но Лыков почему-то медлил. Он растерянно разглядывал свой чемодан, потом, видимо, приняв решение, двинулся к выходу, но вновь остановился. Я никак не мог понять, что случилось.
— Бирка оторвалась, — быстро шепнул Снегирев, — как бы не бросил чемодан!
Предсказание Семена сбывалось: Лыков, озираясь по сторонам, опустил чемодан на пол и ногой подпихнул его к транспортеру. Мы, протиснувшись сквозь неподатливый встречный поток граждан, спотыкаясь о чьи-то баулы, ринулись к нему. Лыков, увидев нас, заторопился на выход.
Я остановил его:
— Гражданин Лыков, вы забыли свой чемодан.
Он явно не хотел афишировать наше знакомство и, возмущенно округлив глаза, с нервной дрожью в голосе, но так, чтобы не услышали посторонние, бросил:
— Какой чемодан? Нет у меня никакого чемодана!
Следующий вопрос напрашивался сам собой.
— Тогда что вы здесь делаете? — улыбнулся я.
Моя улыбка, похоже, не ободрила Лыкова, он, не отвечая, сделал попытку обойти нас, но я пресек ее, крепко взяв его за локоть.
— Что вы хватаетесь?! — взвизгнул Лыков.
На нас стали обращать внимание. Дежурный милиционер, привлеченный шумом, решительно двинулся к нам. Снегирев укоризненно посмотрел на Лыкова:
— Зачем же так, Владислав? На чемодане отпечатки твоих пальцев, внутри — джинсы, двадцать восемь штук, у меня вот тут, — Семен похлопал себя по карману, — показания директора магазина «Рабочая одежда» Демидкиной, а у тебя, — Семен толкнул пальцем в грудь Лыкова, — тысяча рублей, которые она любезно презентовала тебе…
Лыков ошарашенно проследил за пальцем Снегирева, и его лицо пошло пятнами, видимо, местонахождение денег было указано точно.
Милиционер, приблизившись к нам, козырнул.
— В чем дело, товарищи?
Я развернул удостоверение и попросил сержанта пригласить двух граждан в качестве понятых. Тот понимающе кивнул:
— Проблем нет. Пройдите в комнату милиции, я сейчас.
Снегирев повернулся к Лыкову:
— Владислав, бери чемодан и пойдем.
Лыков озирался по сторонам, словно ища выход из создавшейся ситуации.
— Мне, что ли, нести? — с упреком в голосе произнес Снегирев.
Лыков опустил плечи и нехотя направился к чемодану.
Двое солидных мужчин были не очень довольны непредвиденной задержкой. Я заверил их, что роль понятых не так уж сложна и обременительна, записал их фамилии и попросил Лыкова:
— Откройте чемодан.
Тот обреченно вздохнул и стал шариться по карманам, будто не знал, где у него хранится ключ.
— Владислав, люди же ждут, — поторопил его Семен.
Наконец ключ был найден. Лыков еще немного помялся и откинул крышку чемодана.
Джинсы были на месте. Тысяча рублей тоже. Лыков извлек их из своего нагрудного кармана.
11 часов 03 минуты
За окном мелькали девятиэтажки нового жилмассива. Семен вел «Запорожец» молча. Лыков сидел рядом со мной на заднем сиденье, прикрыв глаза, и только по вздрагивающим векам было видно, что он не спит. Остановив машину у светофора, Снегирев через зеркальце бросил на него взгляд:
— Ну и как, удалось такси поймать? — улыбнулся он.
Лыков моментально открыл глаза и непонимающе произнес:
— Когда?
— Вчера, у агентства «Аэрофлота», — снова улыбнулся Семен.
Лыков обиженно насупился и буркнул:
— Следили, значит…
Снегирев не ответил на его реплику.
— Ты зачем покойного Клюева разыскивал? — спросил он и, увидев, что вспыхнул зеленый свет, быстро переключил скорость.
Лыков ошалело уставился ему в затылок.
— Почему покойного?!. Грузчик на базе сказал, что он болеет.
— О Демидкиной тоже он сказал? — не оборачиваясь, обронил Семен.
— Он…
Я ничего не знал о грузчике, но это меня не смутило.
— С чего это он тебе все выложил? — поинтересовался я.
— Бутылку поставил, он и разговорился.
— И что же поведал? — спросил Семен.
— Сказал, что Клюев вокруг нее крутился.
Снегирев посмотрел в зеркало.
— Как только такое в голову приходит?! До шантажа докатился!
— Какой шантаж?! — вскинул плечи Лыков. — Решил тряхнуть маленько и все, у нее не убудет.
— Клюева ты тоже тряхнуть хотел? — спросил я, начиная догадываться о цели поездки Лыкова в город на Неве.
Лыков отвернулся к окну.
— Да. Вы же интересовались Никольским и Мишиным, а они на Клюева работали, вот и решил сорвать с него под это дело, за информацию…
— Откуда ты знаешь Клюева? — спросил я, словно об этом мне не было известно из допроса Мишина.
— Товар у него получал, да потом завязал.
— Здорово ты «завязал», — хмыкнул Семен. — Как теперь распутывать будешь? — спросил он и, не дожидаясь ответа, принялся рассуждать, будто мы были в машине вдвоем: — Ты понимаешь, Коля, лезут в паутину, как мухи! Думают, это гамак, в котором легко и приятно покачиваться на ветерке. А гамак-то из паутины! Только ослепленным наживой он может показаться прочным и удобным. Заберутся туда, запутаются, паутина — штука липкая, тех, у кого груз преступлений поменьше, она еще выдерживает, а под другими рвется…
— А удар о землю чреват тяжкими последствиями, — в тон Семену проговорил я.
Лыков продолжая глядеть в окно, тяжело вздохнул.
Развернув «Запорожец», у крыльца нашего райотдела, Снегирев резко затормозил. Я сказал Лыкову, чтобы он ждал меня у дежурной части, и он покорно пошел к дверям. Проводив его взглядом, я склонился к окну.
— Семен, ты домой?… Галина уже заждалась.
Снегирев грустно покачал головой:
— В прокуратуру, к Осипову…
«Запорожец» подмигнул мне желтым глазком указателя поворота и, улучив момент, юркнул в поток машин. Я поднялся на крыльцо…
Валентин Маслюков
Александр Ефремов
ДЕТСКИЙ САД
Хроника одного преступления
Как ни поворачивалась к свету Нина Никифоровна Маврина, вынуждена была она признать, что с прошлого лета располнела. Светло-кофейное платье «сафари», что на арабском означает «путешествие», с простроченной ленточкой ткани, которая должна изображать патронташ, с узким длинным карманом у бедра — для охотничьего ножа, натянулось с трудом. Огорченно отвернувшись от зеркала, постучала в комнату к сыну:
— Дима, ты встаешь или нет? Опоздаешь на работу!
— Встаю.
Не открывая глаза, Дима нащупал магнитофон и нажал клавишу, тотчас грянула, лязгнула «хеви метал мьюзик». Под звуки забойной мелодии он повернулся на постели, укрыл голову подушкой и продолжал лежать в тяжелой, мутной полудреме. Но спать уже не давали. В дверь настойчиво, бесцеремонно постучал отец.
— Открой сейчас же!
— Папа, я не могу, — ответил Дима, приподняв подушку.
— Что значит — не могу? — сразу же взорвался отец.
— Я на голове стою.
— Меньше надо по ресторанам шляться, не будешь тогда по утрам на голове стоять! Открой, сломаю все к чертям!
Дверь содрогалась на расшатанных петлях, сыпалась побелка.
— Ну, правда, папа, я же йогой начал заниматься. Четыре минуточки только. Асану сменю, — соврал Дима, припомнив кстати руководство по йоге, которое разглядывали они вчера с пацанами, хихикая над особенно колоритными картинками.
Отец, должно быть, удивился. Отозвался он не сразу:
— Чего?
Музыку Дима выключил, отбросил подушку и отвечал примирительно, почти заискивающе:
— Асану, папа. Это значит стул или скамья там, а в йоге…
— Ты откроешь, черт возьми?!
Дима поднялся с кровати, подвинулся к двери, но впустить отца не решился.
— Батя, ну что ты хочешь?
— Что я хочу? Да я… Я много чего хочу! И самое малое из этого, чтобы ты вовремя возвращался домой. Самое малое!
— Папа, честное слово! — произнес Дима со всей возможной искренностью и выждал, прислушиваясь. — Ну, честное слово, время какое-то такое… Смешно за что-нибудь всерьез браться — месяц до армии! Меня два года будут укладывать баиньки в детское время. Сейчас пользоваться надо. Вот и мама говорит…
На той стороне мать у зеркала жевала губами, размазывая помаду, она бросила сразу, почти автоматически:
— Что я говорила? Ничего не говорила! Отца слушай! Он дурному не научит.
— Да чем пользоваться-то? — снова начал закипать отец. — Ты заработай сначала, потом пользуйся! У нас в семье так было! Твой дедушка в шестьдесят, больной, после операции, поднимался по стремянке на крышу, не держась, перед собой вот так вот лист жести нес, — расставил руки, показывая (хотя Дима все равно видеть не мог), как дедушка Кузьма поднимал жесть. — Он и умер-то во время работы — крышу крыл. Потому что люди просили, лучшего мастера сыскать нельзя было. Всю жизнь до последней минуты работал! А ты — пользоваться!
— Батя, я через месяц в армию пойду. Перебеситься надо, это же молодые годы, — и торопливо, чтобы упредить возражение, — а вернусь, ну вот честное слово — другим человеком стану! Армия меня на ноги поставит.
Дима припал к двери, пытаясь различить реакцию отца. Отец ждал продолжения.
— Возмужаю, остепенюсь, поступлю в институт. Хочешь — в политех, или, как мама хочет, — в нархоз. Честное слово! Женюсь.
Отец потоптался перед закрытой дверью, покачал неопределенно головой, хмыкнул:
— Ладно, поговорим еще. На смену из-за тебя опоздаю. Сегодня чтобы к десяти дома! Нет, к девяти!
И пошел.
Потом деликатно, одним пальцем постучала мать.
— Димочка, опоздаешь! Рубль на обед перед зеркалом. Обязательно бери первое, что-нибудь горячее. А на второе — натуральный кусок мяса. Ты слышишь?
— Слышу.
— К Лидии Григорьевне забыл вчера зайти? Я для нее колбасу держу. Забыл?
Когда ушла и мать, Дима с облегчением бросился на кровать — спиной на упругие пружины. С прежней силой грянула музыка. Расслабляясь, он достал сигареты и, лежа в плавках поверх смятой постели, закурил.
Ночью Дима вернулся домой около двух. Не зажигая света, снял в прихожей туфли и прокрался в ванную. Здесь разделся, тихо спрятал верхнюю одежду в стиральную машину и уже смелее направился через большую комнату к себе.
В ресторане Дима вчера не был, но только теперь, после утреннего столкновения, сообразил, что так и не сказал об этом, забыл возразить на самое главное обвинение. Теперь, когда бояться больше было нечего, он испытывал легкую досаду оттого, что растерялся, не сказал все, что следовало. Семнадцать лет, в конце концов, не маленький!
Слегка колеблясь в легком тумане табачного дыма, как мираж, маячило на подвесной полке перед Димой воздушное сооружение из сигаретных пачек: «Кент», «Мальборо», «Кемел»… Что-то вроде замка с башенками, стеной и подъемным мостом.
Созерцание блестящего, в золоте и целлофане, сооружения действовало на Диму Маврина умиротворяюще. Встретил он однажды в импортном журнале цветную, на целый разворот рекламу сигарет «Мальборо». Перевел с помощью словаря: «Приди в Страну Мальборо!». И эта страна сигарет, автомобилей, женщин вдруг поразила его своей полной иллюзией реальности. Страна Мальборо. Казалось, можно сделать шаг и нежданно проломиться через перегородку между жизнью и фантазией…
Когда блуждающий Димин взгляд остановился на часах, он на мгновение замер, потом испуганно соскочил с кровати и принялся, чертыхаясь, одеваться. Торопливо сгреб под зеркалом оставленный матерью рубль.
На улице, размахивая рычащим магнитофоном, застегивая еще на ходу куртку, Дима остановил такси и в машине, на просторном сиденье, путаясь, стал считать деньги — рубль и мелочь — хватит ли до заводской проходной.
— Выключи шарманку, — сказал водитель, не оборачиваясь.
Дима послушно вырубил маг, и в тот же момент машина затормозила на красный свет.
Вместе со случайными прохожими дорогу перед капотом такси перешел Сергей Сакович.
Вопреки обыкновению ходить быстро, Сергей едва плелся, останавливался у каждого объявления, томительно изучал циферблат часов. Он только что вышел из дому, и времени до школы оставалось ровно столько, чтобы не опоздать. Но можно было не идти вовсе. Для этого следовало повернуть обратно, засунуть портфель в подъезде под лестницу — и свободен. Обратный ход мучительно соблазнял простотой и привычностью.
После уроков классное собрание. Что они ему скажут?
Классная рассядется на стуле, обмахиваясь платком — ей всегда жарко, — постукивая указкой по столу: «Тише, тише! Вы можете посидеть спокойно хотя бы час? Решается судьба вашего товарища. Вам что, нет до него дела?». Потом она тяжело, всем телом повернется: «Ну, Сережа, мы ждем. Тридцать восемь человек сидят и ждут, что ты скажешь. Ну?
— И после долгой паузы (кто-то вздыхает в классе): — Я удивляюсь, Сережа, ты же умный парень, ты способный, ты мог бы учиться только на отлично. И вдруг эти выходки, побеги, оскорбительное твое поведение, эта беспредельная лень, равнодушие ко всему… Ты же умный парень!». — «Ага, вы, наверное, считаете, будто я о себе думаю, что дурак, — глядя на уличную афишу, отвечал Сергей, — дай ему скажу, что умный, он и растрогается, на доверие клюнет».
Самое интересное, что она-то, их усталая классная, больше всех и не верит, что именно сейчас, на собрании, решается его судьба. Она вообще в Саковича не верит. Ни в его способности, о которых сама распинается, ни в то, что из него когда-нибудь выйдет что-то путное. Может, раньше и верила, только давно рукой махнула. Забудется, засмотрится в окно на очередь у уличного лотка, на забитую людьми остановку троллейбуса и подумает, что если собрание затянется, попадет на самый час пик, опять придет домой поздно — вымотанная, нагруженная сетками и кульками.
Спохватится: «Ну, что, Сергей, долго будем молчать? Объясни всем нам. Скажи, наконец, может, тебе что-то мешает? Может быть, тебе не хватает чего? Чего тебе не хватает, Сергей?». — «Мне бы собаку, Клавдия Тимофеевна. Большого такого сенбернара. Я бы другим человеком стал!».
Втихую, прыснут, сгибаясь над партами. «А вот это не умно», — скажет классная, обидевшись. Весельчаки притихнут под ее взглядом. И снова тягостное молчание.
Потом выступит кто? Конечно, Оленька Татаринова. Классная ей кивнет незаметно, когда молчание очень уж затянется, и та сразу же встанет и сразу разволнуется. Покраснеет. Впрочем, это Оленьку не портит. Она убеждена, что он, Сергей, плохой мальчик, потому что недопонимает. Объяснить ему нужно. Найти для него какие-то особенные слова, которые все разъяснят, поставят на место. И будет, сбиваясь, искать эти слова. И сядет, злясь на себя, что не нашла, сказала все равно не так. И еще, наверное, подумает: если бы захотела, взялась бы сама, любого бы с головы на ноги поставила. И посмотрит на него, Сергея, оценивающе.
Краморенко с места крикнет: «Что мы тут разбираемся! А то он сам ничего не понимает! Придурок — и всех делов!». Начнется общий гвалт, девчонки будут кричать на Краморенко, а он только ухмыльнется.
Фантазия горячила. Сакович не заметил, что шагает широко, размахивая портфелем и разговаривая вслух.
Самое интересное, как повести себя.
Примитивно — отмолчаться. Они ругаются между собой, нервничают, спорят, а ты стой себе, с ноги на ногу переминайся. Ничего не слышишь, вспоминаешь о чем-то приятном, думаешь — шум вокруг будто прибой, глухой и монотонный.
А можно — огрызаться. Собаки так дерутся — дерзко и весело. Только не заметишь, как разволнуешься, сам начнешь все всерьез принимать.
Забавнее — учудить. Крамарь крикнет: придурок! А ты промолчишь, а когда дойдет очередь, спокойно так: «Ребята, я вам благодарен, что вы потратили на меня время. Поймите меня правильно, только сейчас я по-настоящему почувствовал, что есть люди мне не чужие, не равнодушные…». И пошло, и поехало. А потом обязательно по именам. «Вот ты, Володя, сказал то-то, правильно. Да, Оленька, мне действительно нужна твоя помощь, спасибо… А ты, Крамарь, назвал меня придурком. И тебе спасибо. За откровенность».
Сакович, не замедляя шага, расхохотался. Повернул к школе. В порыве деятельного возбуждения походя пугнул шестилетнюю девочку, что стояла у низенькой ограды детского сада:
— Ты что подсматриваешь? Марш домой!
Ира Чашникова вздрогнула, словно и в самом деле застали ее за занятием нехорошим — она глядела, как дети собираются на игровой площадке, — оглянулась на незнакомого парня и, не отвечая, побежала.
По дорожке через двор, за угол дома, в свой подъезд, запыхавшись, на третий этаж — застучала коленкой, ладошкой в дверь. Дверь квартиры — голая, обшарпанная — носила на себе следы взломов и там, где стоял первоначально замок, была заделана фанеркой.
На кухне Юра Чашников, известный более под кличкой Хава, и его друг Володя Якуш, все звали его только Яшка, напряженно прислушивались к стуку.
— Спрячь, — сказал Хава, поднимаясь, и Яшка тотчас задвинул под стол старую хозяйственную сумку. Глухо звякнули железяки.
На пороге стояла сестра.
— Чего явилась? — холодно осведомился Юрка.
Ира замялась, но ничего не сказала, молча протиснулась мимо брата. В пустоватой квартире Чашниковых, с выцветшими, изрисованными и местами продранными обоями, с редкой случайной мебелью, в проходной комнате у Иры бып свой, заповедный уголок. Между диваном, на котором еще валялась неубранная Юркина постель, и сервантом в полном порядке располагались на полу кукольные папа-мама, их дети и воспитательница детского сада. Кроватка здесь была аккуратно застелена, посуда вымыта и расставлена в картонном буфете, всюду царили чистота и гармония.
— Ну что, — сказал Чашников, вернувшись к другу, — как насчет Бары?
— Не, — покачал головой Яшка, — даст по рублю и все, гуляйте, малыши, ни в чем себе не отказывайте.
— А у магазина сразу заловят. Глухой номер.
— Слышал, на Серова пацанов посадили? За угон. Длинный на суд ездил. Ну, рассказывал!
Рассуждая, Яшка не терял времени — проволочным приспособлением пытался вытащить из винной бутылки завалившуюся внутрь пробку. Еще четыре бутылки стояли на столе голотые.
— А как поймали? — живо заинтересовался Хава. Поскреб на подбородке легкий, но уже раздражающий пух. Руки у Хавы были большие, темные от въевшейся в потрескавшуюся кожу грязи. Руки были намного старше, чем по-детски еще чистое и розовое лицо Юрки Чашникова, словно принадлежали они другому человеку, много повидавшему и пожившему. Огрубевшие на морозах, промасленные, изъеденные неизвестно от чего язвочками, в цыпках и ссадинах, руки эти, наверное, уже никогда нельзя было до конца отмыть.
— Как поймали? — повторил Хава.
Яшка хихикнул:
— По глупости, на ерунде. Черт!.. — пробка опять соскочила, и нужно было начинать все заново. — Обнаглели пацаны. Машин, может, двадцать угнали, катались по ночам. Покатаются и бросят. Одна машина у них в лесу застряла — на днище прямо. Они: бах-бах! — Яшка отставил бутылку, замахал руками. — Стекла побили и пошли. Говорят, разозлились, что пешком домой возвращаться. У одного — у дядьки машина, у другого — у отца, так он папаше всю машину переделал, все новое поставил — колеса, аккумулятор, зеркала. Колесо продавали за сто рублей.
Хава завистливо вздохнул.
— О… Одну машину совсем разобрали на запчасти. Сняли у какого-то мужика за городом гараж на семь дней, вроде для ремонта. За сто пятьдесят рублей. Машину раскурочили и бросили там. Ну, хозяин звонит через время, мол, забирайте, мне свою надо в гараж ставить. Они: хорошо, придем. И не приходят. Ну, месяц прошел: он звонит, они не приходят. Мужик уже допер, что машина краденая, задрейфил! Длинный говорит, на суде еще трясся. Стал эту машину, «Жигуль», сам разбирать, чего пацаны не сумели. Что разобрал, что автогеном порезал. И ночью по частям на тачке сам все вывез и в болото покидал!
Рассказывая, Яшка все подхихикивал, едва сдерживался, а тут и Хава захохотал. И когда на кухне появилась Ира, можно было подумать, что и она не утерпела, пришла узнать, из-за чего смех. Но Ира не улыбалась, напротив, терпеливо ждала, чтобы брат утих.
— Я есть хочу.
— А чего ты в садик не пошла? — возмутился Юрка.
— Расчески нет.
— Че-е-го?
Хава с Яшкой снова развеселились.
— Воспитательница сказала, у кого расчески не будет, наголо постригут.
— Многих постригли? Врет твоя тетя-воспитательница! Наголо они будут стричь! Скажи, мамка купила, да забылапринести. Подумаешь, расческа! Испугалась.
— Я не испугалась.
— Испугалась!
— Не испугалась, не хочу, и все!
— Совсем дитя темное! — радостно поделился с Яшкой Хава и ухватил сестру. — Скажи, испугалась!
— Пусти! — она дернулась.
— Забоялась воспитательницы!
— Пусти! Просто не хочу!
— Вот и врешь!
Девочка вырывалась из железных Хавиных рук, как пойманный зверек, голосок слезно дрожал:
— Я не вру, ну, пусти!
— У, черт, кусается, — расслабил, наконец, хватку Чашников. Девочка метнулась из кухни.
— Чем ее теперь кормить, а?
Помедлив, Юрка прошел в комнату. Ира в своем углу сидела отвернувшись.
— Так ты что, правда, есть хочешь?
Девочка не ответила и, показывая, что разговаривать вообще не собирается, чуть быстрей, чуть лихорадочней, чем требовали того кукольные обстоятельства, принялась рассаживать «папу» и «маму» вокруг игрушечного стола.
— Мы с Яшкой все съели, — сообщил Юрка, — а мамка теперь только после работы принесет.
Яшка, ощущая, должно быть, свою долю вины за съеденное и выпитое, подвинулся к Ире, заглянул через плечо и заискивающе спросил:
— А что это у тебя здесь? Это папка? А что упал? Пьяный?
— Отстань от Ирки! — разозлился вдруг Хава. — Упал, значит, упал. Иришь, ты, правда, обиделась? Хочешь есть?
— Не хочу!
— Ну и зря!
Он потоптался, не зная, что еще сказать. Сестра молчала. Хава взял с серванта растрепанную книгу, полистал. Обложки, первых и последних страниц давно не было, пошли на разные надобности, но текста еще хватало, и когда на улице шел дождь, а по телевизору мура — хоть на стенку со скуки лезь, — Хава иной раз брался перечитывать откуда-нибудь из середины. Это была единственная книга, имевшаяся у родителей — антиалкогольная брошюра. Чашников хмуро ее захлопнул, швырнул обратно, где взял, и снова обратился к сестре:
— Нашла из-за чего расстраиваться — расчески у нее нет. Яшка, у тебя есть расческа?
— Нету и никогда не было, — подхватил Яшка, — а гляди, какие лохмы!
Ира не улыбнулась, сосредоточенно укрепляла на стуле «папу».
— Хочешь, я пойду сейчас и куплю расческу? — спросил Юрка.
— И карандашей нету. Мама обещала, а все забывает.
— Что тебе рисовать не дают?
— Не, мне карандаши дали.
— Ну, так чего? — Юрка сделал паузу, ожидая реплики, и продолжал значительно. — Ира! Ты уже большая девочка. Ты должна понимать… Расческе твоей копейка цена! Это пустяк, понимаешь? Тьфу, ерунда! Я говорю в общем… м-м… Яшка, как я говорю?
— По-философски.
— Вот! В общем говорю. То есть, если взять, к примеру, что с тобой вообще в жизни может приключиться, то расческа эта твоя — дрянь, ерунда — наплевать и растереть! Сегодня нет, завтра мама купит — просто забыла; подумаешь! Что ей, денег жалко на твою расческу? Переживаешь из-за какой-то дрянной расчески, а что будешь делать, когда… Ну, Яшка, какое самое большое несчастье может с человеком случиться?
— Когда опохмелиться не дают?
— Дурак! Я серьезно. Ну, вот побьет тебя кто. Мальчишки побьют, а меня рядом не будет. Так что, ты тогда пойдешь топиться, если из-за дрянной расчески так переживаешь? Плюй на все! Посмотри на нас с Яшкой, какие мы здоровые и веселые. Потому что на все плюем. Яшка, покажи бицепс.
Яшка с готовностью стал задирать рукав.
— Гляди — моща!
Ира характер не выдержала, слегка оглянулась.
— Ты же девка, — наступал брат, — тебя всю жизнь все будут обманывать! Так что, каждый раз топиться? Сегодня в садик не пошла, завтра из-за пустяка пойдешь топиться? Да пусть они сами все утопятся! Если кто тебя обидит, пальцем тронет, ты только скажи! Да я им ноги повыдергиваю, руки переломаю! Кто во дворе замахнется или там игрушку отымет… Только покажи, кто! Слышишь?
Разгоряченный и взвинченный своей собственной беспрепятственной яростью, Хава замолчал с некоторым уже торжеством. Даже Яшка с любопытством ждал:
— Скажешь?
— Не скажу.
Юрка обиделся:
— Ну, пошутил, конечно, руки-ноги ломать. Просто припугну слегка, чтобы не обижали. Прямо так и скажи: вот этот, мол.
— Все равно не скажу.
— Ну, и черт с ней! — потерял терпение Яшка. — Пойдем, Хава!
— Подожди. Есть-то ты хочешь?
Ира упрямо молчала.
— Вот что, Яшка, придется ей наши бутылки отдать… Возьмешь, Иришка, на кухне две бутылки… Нет, все четыре. Пойдешь сдашь. Купишь молока, хлеба, ну, еще чего…
Она обернулась — и, кажется, не было обиды, слез:
— А мороженое можно?
— Яшка, можно ей мороженое купить?
— Можно.
— Можно, — отечески кивнул Юрка. — Купи. Только сдачу не забывай брать.
В большом шумном цеху — рядом на штамповке беспрестанно с глухим тяжелым звоном что-то хлопало — человеческому голосу не пробиться сквозь машинный рев, но никто и не пытался с Димой разговаривать. Наушники с гибким проводом, который вился к кассетному магнитофону на столе, отгораживали Диму от цехового гула.
Под звуки музыки метчик вошел в отверстие, мягко ломалась тоненькая стружка… Слабый, едва различимый хруст Дима не слышал, только, разом освобожденный от нагрузки, быстро завращался с обломком метчика патрон резьбонарезного станка. Маврин с испугом подхватил деталь — все, никому не нужный кусок металла.
В тоскливом раздражении он снял наушники и выключил магнитофон. Кончик сломанного инструмента застрял на глубине, наверное, пятнадцати миллиметров. Ничего не сделаешь, хоть ты тресни! Как и почему это случилось, понять невозможно. Дима машинально подвинул к себе чертеж: деталь не имела даже названия, лишь замысловатый номер. Почему-то это бесило его больше всего: неизвестно что, неизвестно зачем.
И никого поблизости, даже мастера на участке не было, только высится груда блестящих свежими срезами, необработанных еще железяк. Целая гора.
До конца рабочего дня оставалось еще час двадцать.
Так и не решив ничего насчет злосчастного метчика, Дима кинул на стол шабер, которым уныло поковырял входное отверстие, и направился к Мишке.
Не снимая защитных очков, Миша поднял голову.
— Видишь, вон у меня на столе инструмент валяется? — сказал Маврин.
Парень послушно оглянулся, куда показывал Дима, и кивнул, словно Дима сообщил ему нечто существенное.
— Надо мне смыться позарез. Если кто меня искать будет, мастер, может, скажешь, пошел в инструменталку, только что. А как смена кончится, инструменты мои спрячешь в правую тумбочку, детали от станка уберешь, — Дима протянул ключ. — Понял?
Миша скривился, ключ не принял.
— А что?
— Ты же знаешь, я мог бы соврать: бабушка безногая приехала, встречать надо, — интимно наклонился Маврин, — или водопроводчика дожидаться. Но тебе честно скажу: надо с одним парнем встретиться. Во как! Деловое свидание. Со Светкой поссорился. Хочу достать ей белые джинсы и помириться. Обещал. Не знаю, как и мириться, она же психованная. Я говорю: помолчи, пожалуйста! Она: сколько молчать? Да хоть весь день! И что? Ни слова за весь вечер больше не сказала, будто язык отняли. Я говорю…
— Давай ключ, — перебил Миша. Отвернулся и включил станок.
— Через час спрячь, — счел еще нужным пояснить Дима.
Миша кивнул, не оборачиваясь.
— У меня смена раньше кончается — малолетка.
Собрание затянулось часа на два. Когда одуревший Сакович вышел из школы, рядом оказалась Оля Татаринова. Сначала шли молча, и Сергей, незаметно поглядывая в ее сторону, замечал, как девушка нервно покусывает губу. Потом она сказала:
— Я с тобой пройду, да?
Сакович понимал, что Оленьке попросту хочется продолжить разговор, выговориться, и все равно не мог решить, как себя вести, в ответ лишь глупо кивнул.
Теперь, после решительного шага, ей стало свободнее.
— Ты хорошо сказал на собрании, честно.
Желание лицедействовать уже поостыло — устал. И потом, в начинающемся разговоре было что-то личное, доверительное, сверх того, на что рассчитывал, что ожидал. Ломаться не хотелось, и он неопределенно пожал плечами:
— Не так чтобы очень…
— Нет, нет, — она приняла эти слова как доказательство придирчивой честности Сергея. Заглянула в лицо. — Когда человек не боится сказать, что ошибся, ошибается, что ему нужна помощь, когда так говорит, значит, понял. Это перелом. В жизни бывает… Вот и у меня тоже, — добавила, опасаясь обидеть нравоучительным тоном, — когда не ладится, не ладится, а потом вдруг понимаешь, что нужно только взяться, взглянуть на себя честно.
Глаза у девчонки блестели от волнения.
«Дура», — мягко подумал Сакович, бросая на нее взгляд. Оленька ему нравилась.
— Я учился в четвертом классе, когда у нас появилась мачеха. Пришел однажды из школы, а она помыла пол. Ну и наследил. Она побила. Я первый раз убежал из дому. На одну ночь.
— А потом что?
— Потом? Ничего. Извинилась.
Оленька говорила тихо, словно боялась громким словом спугнуть, а он — нехотя, через силу. Историю про мачеху он умел рассказывать весьма красочно, но сейчас что-то не клеилось.
— Добрых людей гораздо больше…
— Добрых я вообще не встречал, жалостливые попадаются.
— И я тоже, к примеру, жалостливая?
Захотелось исправить.
— Таких, как ты, я не встречал никогда!
Прозвучало нелепо торжественно. Она только глянула искоса, не то оценивающе, не то недоверчиво. Глянула и ни слова в ответ не проронила. Не улыбнулась, не пошутила как-нибудь, чтобы выручить его, неловкость снять. А он тоже не мог сообразить, о чем же говорить после такой фразы.
Микрорайон «Юбилейный» как остров окружен полем. Небольшой совсем островок — разновысокие скалы-берега среди волнами всхолмленных полей. Школа, торговый центр, диспетчерский пункт автобусов — всюду рукой подать. Понимая, что сейчас это странное путешествие в неведомое, это тревожное ощущение близости кончатся, что сейчас расстанутся они, так и не сломав затянувшегося молчания, Сергей свернул на кружной путь за самые последние дома, откуда далеко виднелась свежая темная пахота.
Не то грачи, не то вороны с тревожным карканьем поднялись с пашни при их приближении и долго еще большой черной стаей кружили, не решаясь опуститься…
— Ты, может, насчет моего отца неправильно поняла? Он вообще-то одинокий, — сказал Сергей вдруг. Вспоминать собрание не хотелось, но это был единственный предмет, который связывал его с Олей.
Она посмотрела вопросительно.
— Видишь, отец всегда думал, что многого достигнет в жизни. А мать… у нее даже образования не было. Переживал, чувствовал, что достоин лучшего. Ну, и взял Венеру. Это мачеха, ее так зовут: Венера Андреевна. Ну, и взял навырост. Как ребенку пальто берут в расчете, что подрастет, на размер больше. А выроста как раз не получилось.
Оля слушала, сдвинув брови.
— Откуда ты знаешь, что навырост?
— Кой до чего сам дошел, кое-что и отец рассказал… Бежал я однажды на Черное море. Мы в это место ездили отдыхать, а потом я сам рванул. Сентябрь, там тепло. Сказал хозяйке, что родители отправили, ловил рыбу с местными, на винограднике работал. Ну, потом, когда уже сидел в детприемнике, в Сочи, приехал отец. Плакал, подарки привез. Вот тогда все и рассказал. Наверное, поссорились как раз с Венерой.
— Мачеха… красивая?
— Не знаю… Наверное, красивая. Вблизи трудно понять. Она — хищница. Может, ею и восхищаться можно, только вблизи страшно — съест. Любоваться хорошо на расстоянии.
— А мать?
— Мать? Она какая-то испуганная. Мать — жертва. Вообще, в жизни жертва. У нее такая роль.
— А ты?
— Что я?
— Жертва или хищник?
Сергей остановился. Оля смотрела как-то странно, и он сейчас только осознал, что рассказывая про отца, мачеху и мать, заговорил со злостью совсем не нужной.
— Я? — улыбка получилась натянутая. — Обо мне давай, как о мертвом, — помолчим.
Она продолжала глядеть, глядела на него изучающе, как не смотрела никогда раньше, и Сергей, пытаясь преодолеть смущение, неожиданно сказал:
— У меня, Оленька, мечта была. Угнать в колхозе лошадей и с верными ребятами в путь, куда глаза глядят — где галопом, где рысью, где у костра собраться… Только нет, Оленька, таких ребят. И на лошади я один раз сидел.
— Хорошенькая мечта. Украсть.
Ирония, казалось, так не свойственна Оле, так непривычно звучала в ее устах, что он снова не нашелся, что сказать, и только плечами пожал: мечта, мол, какая есть.
Теперь они совсем остановились, словно бы в нерешительности, на распутье. Сергей понял, что Олиного желания говорить, интереса, который заставлял ее идти с ним, поубавилось. А может быть, она просто ждала, что желание, интерес, если они есть, должен теперь проявить он сам. Должен сказать: «Давай, портфель понесу» или «В кино вечером сходим?». Что-нибудь такое, что означало бы его ответное желание и интерес.
И Сергей сказал примерно то, что она ждала, потому что обрывать эти едва начинающиеся, нескладно завязывающиеся отношения действительно не хотел:
— Слушай, поможешь по алгебре, по химии там? Я неплохо секу, просто запустил. Наверстать нужно.
— Помогу.
— Правда?
— Правда.
— Ну, дай пять!
Заметно покраснев, пожала протянутую руку.
Идиотская сцена, тут же понял Сакович и вдруг обозлился:
— Оркестр играет туш, на комсомольском буксире известный лоботряс Сергей Сакович. Из ничтожества, из подкладки сделаем человека, поднимем до себя, перелицуем на обратную сторону!
«Уйдет?» — еще юродствуя, испугался Сергей.
Она, похоже, не обиделась, а удивилась, и когда он уже кончил, все еще смотрела на него выжидательно и словно бы с недоверием.
— Ладно… Я пойду. Ты ведь теперь дойдешь уже сам до дому, можно больше не провожать?
Тут уж, конечно, нужно было придумать в ответ что-нибудь путное, но он, без всякой последовательности, промямлил:
— Значит, поможешь?
Она помолчала и сказала совсем не о том, что он спросил:
— Ты не такой плохой, как о себе думаешь… и не такой хороший, как себе кажешься.
Запуталась, решил Сергей.
— Кажется, запуталась… Нет. Правильно, — кивнула, — ты думаешь: вы считаете меня плохим, но еще не знаете, что я могу учудить, если захочу. Я гораздо хуже, чем вы только можете себе представить, вот вам! И в то же время ощущаешь: какой я замечательный, какой умный, хитрый, какой я внутри себя, нет, точнее — для себя, хороший, даже если какую-нибудь гадость и сделаю.
— Сложно. Сложновато для такой немудреной натуры.
— Вот именно! Вот ты и сейчас кривляешься, — нащупывая мысль, она начинала горячиться. — Немудреная натура! Вся эта каша не у меня в голове, а у тебя, понимаешь? Думаешь одно, а делаешь другое… А насчет алгебры… Конечно, приходи. Сегодня вечером. Буду ждать.
Она пошла. Юбочка коротенькая, какие носили только школьницы, а туфли-лодочки взрослые, дорогие. Стройные, крепкие ножки.
Сергей представил себе пристойных родителей Оленьки. Через полчаса после того, как он с девушкой уединится у письменного стола, тихо войдет мать с подносом — пирожные и чай. И культурно, и посмотреть можно, чем это дочь занимается с молодым человеком.
А ведь девочка всерьез, наверное, правила объяснять будет, с увлечением.
Чудеса!
А он, великовозрастный кретин, пристроится неудобно, где-то сбоку ее ученического стола — ноги девать некуда, — и будет украдкой, когда Оленька склонится над тетрадью, разглядывать девушку.
В эту минуту Сергей испытывал и раскаяние в ненужной откровенности, и волнение при мысли, что еще минуту назад Оленька была рядом, и приятную сумятицу в мыслях от того, что вечером она снова будет близко, так, что слышно дыхание. И от этой сумятицы становилось уже все равно, был ли он излишне откровенен, показался умен или глуп.
Работы было после зимы, если покопаться как следует, много. Михаил Павлович взялся за дело с тяжелым сердцем. Хоть и решил он ограничиться пока самым необходимым, «жигуленок» его являл собой вид растерзанный — капот, багажник, дверцы — все раскрыто настежь. В беспорядке по гаражу инструмент.
Лет пять назад, когда машина бегала свои первые тысячи, Михаил Павлович торопливо заскакивал по дороге с работы в магазин, покупал полировочные пасты, шампуни для ветрового стекла — всякую автокосметику, — а потом торопился к «жигуленку» как на свидание. Теперь пасты и шампуни стояли на полках начатые и забытые. Все это оказалось со временем не нужным, машина работала, возила и без полировки. Получив гараж, Михаил Павлович и вовсе успокоился: с тех пор, как машина стала под крышу, была спрятана за надежными замками, к ней можно было не заглядывать неделями. Прошлой осенью поставив «жигуленок» на консервацию, Михаил Павлович не интересовался им почти всю зиму. Но весна уже становилась летом и, по совести, давно пора было выезжать.
Вяло, словно не надеясь ни на какой результат, принялся он качать ножным насосом колесо, когда в воротах появился парень. Появился и стал, с откровенным любопытством заглядывая внутрь гаража. На лице парня читалась смесь неуверенности и наглости, служившая для Михаила Павловича отличительным признаком возраста между мальчиком и мужчиной и заставлявшая порой внутренне сжаться в ожидании пакости от розовощекого переростка.
— Давай покачаю, дяденька.
Голос на удивление мальчишеский для такого высокого, костлявого парня. И неприятный. Юношеский пух на подбородке, становившийся уже щетиной, придавал парню вид неопрятный и диковатый.
— Покачай, — безразлично произнес Михаил Павлович и освободил место. Будто испытать его намерения хотел.
А Хава в самом деле, не шутя, сразу стал к насосу.
— Колпаки нужны? Вот… обещал тут одному, гараж найти не могу, — спросил он, энергично действуя ногой.
Наглости Михаил Павлович уже не видел, одна неуверенность и даже какая-то искательность в голосе.
— Хорошие колпаки, правда!
Вместо ответа Михаил Павлович оглядел проезд. Гаражи, тот переулок, составленный из синих ворот друг против друга, в котором находился его бокс и который был виден из конца в конец, были пусты. Лишь в отдалении кто-то копался в старой «Волге».
Хава насос оставил:
— Таких колпаков у нас в городе ни у кого нет и никогда не было. Только гляньте!
Нет и не было в нашем городе. Михаил Павлович усмехнулся, улавливая защитный смысл этих слов, и несколько машинально, оттягивая момент, когда нужно будет сказать и сделать что-то по существу, сказал:
— Покажи.
В широко распахнутой, грязной, словно со свалки, хозяйственной сумке лежали четыре блестящих, отливающих хромовой синевой колпака. Не обыкновенные жестянки, защищающие от грязи крепежные гайки, а вроде как ступицы спортивного колеса из магниева сплава. На ложных спицах полосы черной матовой краски, пятью лучами расходящиеся от центра. Действительно, хорошие колпаки. Просто очень хорошие.
— Берете? Константин Семенович обещал по десятке за штуку.
— Встал я как-то ночью воды попить, — сказал Михаил Павлович, колпак из рук не выпуская и как бы сам себе, задумчиво, — глядь на кухне в окно — во дворе двое с моей машины фонари снимают…
— Если не хотите, так я уже и договорился, — с некоторой уже тревогой прервал его Хава.
— Я на балкон выскочил…
— У меня батя за границу ездит. Совтрансавто.
— Они, как зайцы, как тараканы от света, — воспоминание снова возмутило желчь, голос Михаила Павловича возвысился и окреп, — подлые же твари!
— Честное слово, батя у меня…
— Ну что, пошли, что ли? — это в воротах возник Яшка.
Михаил Павлович осекся.
— Что ты тут застрял? — спросил Яшка хмуро, хозяина будто и не замечая.
— Не, он берет, — отозвался Хава. — Только говорит, по десять рублей дорого.
Из ничего, без всякой причины и повода явилась вдруг наглость в тоне. Мальчишка, пацан заговорил так, словно это он, Михаил Павлович, должен бояться этих сопляков, шпаны подворотной… Заколотилось сердце.
— По рублю за штуку, — услышал Михаил Павлович свой голос и отвернулся.
Это был неясный, внезапный, почти случайный импульс — «по рублю за штуку», он поддался ему, еще не совсем понимая, почему, и только потом, когда, нервничая, стоял уже спиной к пацанам, додумал до конца и решил, что поступил правильно. Он хотел показать, что прекрасно понимает, откуда эти колпаки, и что, понимая, словно бы говорит: «Да, по рублю не цена для честного человека, а вы обойдетесь. Воровством, ребятки, много не заработаешь!». Если мальчишки согласятся, мизерная цена будет справедливым наказанием, плевком в лицо, если не согласятся, уйдут… что ж, моральная победа останется за Михаилом Павловичем.
Парни мялись, не уходили.
— Только нам обещали по десятке…
Михаил Павлович, ощущая удовлетворение, снизошел:
— Ладно уж, по трешке. И разговор окончен.
— Годится, — сразу согласился Хава и затараторил: — Правда, батя в Совтрансавто, чего надо, может привезти. Даже по заказу.
— Годится, — передразнил Михаил Павлович полувесело-полураздраженно. Брезгливо сунул деньги, не касаясь чужих рук в цыпках.
— Телефончик свой запишите и что нужно. Какие детали там. Батя и на базе может достать. По спецснабжению.
Хава ухватил край серой оберточной бумаги, застеленной на полке, и, не скупясь, отодрал огромный неровный клок:
— Вот! Телефончик только запишите.
Пожалуй, они много себе позволяли в чужом гараже. Михаил Павлович смотрел на оголенный по милости мальчишки край полки и чувствовал, что достаточно еще совсем небольшого толчка, чтобы он утратил равновесие. Вещь непозволительная для хорошо владеющего собой, интеллигентного человека. Из-за кого? Из-за чего? В конце концов, все, что они сказали, могло быть правдой. Почему обязательно украли?
Помедлив, Михаил Павлович сделал из небрежно оторванного Хавой обрывка аккуратный прямоугольный листок и стал писать: имя, отчество, номер домашнего телефона. Потом: «ВАЗ-2101, прокладка головки блока цилиндров, прерыватель сигнала поворотов, галогенные фары». Хотел еще продолжить, но раздумал, бросил карандаш, и тот, скользнув по полке, полетел на пол.
Мальчишка подхватил записку:
— Спасибо, дед!
Пацаны исчезли. Гаражи, тот переулок, составленный из синих ворот друг против друга, в котором находился его бокс и который был виден из конца в конец, были пусты. Подавленно оглядывался Михаил Павлович, стоя посреди безлюдного проезда.
Настроение испортилось окончательно.
Диме нравилось здороваться за руку, от этого испытываешь взаимное уважение. С чувством пожал руку всем, кто сидел за столиком: Ленька Кузуб, Борщевский, Сашка Матусевич.
— На минуту, ребята, только! Поршня не видели?
— Нет.
— Белые джинсы обещал мне достать. Для Светки.
— Посиди, сейчас девчонки придут.
— Меряют чего-то.
— В туалете, — ухмыльнулся Ленька.
— Не, побегу! С ног сбился, — сказал Маврин, опускаясь тем не менее на свободный стул.
Было еще пустовато. Несколько человек у стойки и в дальнем углу компания иностранцев. Маврин фазу определил, что иностранцы, хотя речи их слышно не было и одеты они были довольно обычным образом. Выдавало их, должно быть, то, что немолодые эти, не ресторанного вида, в дорожных куртках люди держались кучно и оглядывались вокруг с откровенным, каким-то простодушным любопытством, словно никогда не видели плетения из веревок, которым были завешены стены, ни даже обыкновенного советского телевизора, передающего программу новостей. Они переговаривались и показывали на экран, обсуждая, может быть, качество цвета, кто его знает что. Бросали иностранцы любопытные взгляды и в сторону Диминой компании, и даже лысоватый бармен в черном привлекал их доброжелательное внимание.
Бармен являл собой неуловимо изменчивое состояние достоинства. Одно, когда поворачивался к собеседнику, другое — когда, не глядя, не считая, принимал деньги, третье — когда профессионально точно, округлым жестом опрокидывал в бокал бутылку. Мимоходом включил он акустическую систему, грянула, сдавила уши «хеви метал мьюзик», завертелись катушки стационарного магнитофона.
— Во! — оживился Маврин. — Я сейчас свой врублю!
— Куда! — усомнился Ленька. — Ничего слышно не будет.
— Спокойно! — Маврин торопливо перекрутил кассету и, подгадав, нажал.
С заметным запаздыванием послышалась та же мелодия. Пацаны поняли. Радостно ухмыльнулся, сияя круглой физиономией, Борщевский:
— Давай вперед!
Дима перекрутил, нажал. Снова несовпадение.
— Дай, я!
— Не лезь!
С настоящим азартом уже крутили пацаны кассетник, пытаясь попасть в унисон с большим магнитофоном. Взвизгивала, не попадая, мелодия, слышалась возня, горячие реплики:
— Ну, дай сюда!
— Подожди!
— У, козел!
— Убери лапу!
И вдруг голос маленького магнитофона исчез. Кассета крутилась, а голоса не было.
— Да он работает? — спросил Ленька.
Маврин сосредоточенно припал ухом к самому динамику. Прислушался.
— Попали! Один к одному!
— Не различишь!
С не совсем понятной гордостью сидели они в свободных позах. Ленька похлопал Диму по плечу:
— Молодец!
Вернулись девушки, Наташа и Люба, сели.
— Видела твою Светку, — сказала Наташа с некоторой язвительностью, — ничего девочка.
— Девочка о’кей! — Дима цокнул языком. — Обещал ей белые джинсы достать. Представляешь: белые трузеры в обтяжечку, белые шузы, белая тенниска с надписью «Кам ту зе Мальборо кантри!», ну там еще белая сумочка через плечо — закачаешься! Не! Надо мириться!
Получилось хорошо — «трузеры». Он заметил, такое слово знали не все, но, что важно, переспросить никто не решился. Это значило, что за Димой оставили право на превосходство, на знание вещей и словечек, которые еще не стали расхожей монетой.
Английский Дима, конечно, учил в школе, но что там в памяти удержалось! Начал всерьез интересоваться, когда впервые услышал этот жаргон, стал собирать по слову, записывать на бумажки и заучивать тайком от друзей: вайфа — жена, блуевый — голубой, рингануть — позвонить, сейшон — вечеринка. А потом заговорил: все рты поразевали. Правда, большей частью приходилось тут же и переводить.
— А ты поссорился? — спросила Наташа.
— Я?! — Дима неопределенно пожал плечами, чувствуя, что теперь, после «трузеров», он может себе позволить некоторую пренебрежительность.
В этот момент музыка кончилась. Точнее, не кончилась — бармен выключил. От иностранцев поднялась девушка — переводчица, похоже, — сказала ему что-то, и тот выключил. Замерли большие катушки, и только маленький магнитофон на столе продолжал орать не очень сильным голоском.
— Англичане, — заметил Кузуб, кивая, — пли-из, говорят, плиз. Что-то им тяжелый рок не понравился.
— Видно, дома надоел, хотят хор Пятницкого.
— Ну, экзотику.
— А что, Дима, — обратилась к Маврину Наташа, — подойди к ним насчет джинсов.
— Не, размер нужен, — покачал тот головой, — если только кто партию привез. Вряд ли.
Между тем на экране телевизора плотная когорта полицейских, прикрываясь прозрачными пластиковыми щитами, двинулась вперед, с соседнего проезда размашистой рысью пошли конные констебли в черных мундирах и черных фетровых шлемах. Толпа шарахнулась в стороны, распадаясь, и вот уже могучие конские крупы мелькают среди человеческих голов и рук, кто-то упал, кого-то потащили, заталкивают в полицейскую машину. Слышны крики и возбужденные голоса.
Англичане притихли, все как один уставились на телевизор, переводчица переводила им телекомментарий.
Рассеянно переговариваясь, поглядывали на экран и Димины ребята, выключили свой магнитофон.
— Во! — подскочил вдруг Дима, указывая рукой на экран, где полицейские колотили по голове молодого человека в белых штанах. — Вот такие джинсы я хотел для Светки.
Он бросился к телевизору, торопясь показать, какие именно, но кадр уже сменился и Дима остался посреди прохода, сокрушенно махнул:
— Ну вот, куда вы смотрели? Только что видно было!
Повставали со своих мест иностранцы. Один из них, чтобы лучше видеть, вышел в проход, где и стоял, когда выскочил из своего угла Маврин. Англичанин обернулся и вдруг — обратился на своем языке. Дима опешил. Потом улыбнулся и, на всякий случай, кивнул. Англичанин, крепкий мужчина лет сорока пяти, шагнул вперед, широким жестом протягивая руку.
— Yes! — горячо говорил он, до боли тиская Димину ладонь. — Police had been sent into the coalfields to break the miners strike by violence and they did use violence and brutality to break us! But we shall overcome!
Ничего не понимая, Маврин еще раз улыбнулся, и тоже сказал «йес!», и потряс руку англичанину, просительно оглядываясь на переводчицу, припоминая судорожно какие-нибудь подходящие к случаю английские слова.
Дима был по натуре оптимист, а это значило, что всякое событие он умел толковать в свою пользу, то есть таким образом, чтобы почти всегда, при всяком стечении обстоятельств, получалось, что он, Дима, прав, что мнение его выслушано с должным вниманием, а действия, даже если они выражались как раз исключительно в высказывании мнения, всеми одобрены. И все же, хоть и был Дима по натуре оптимист, столь бурный отклик на выраженное им вслух желание иметь белые джинсы казался не совсем оправданным. Улыбаясь англичанину, Дима неуверенно сказал:
— Ченч. Обмен! Понимаешь? Чейндж. Я — тебе, ты — мне. Давай?
— Yes! — улыбаясь еще шире, говорил англичанин, и говорил, было уже очевидно, совсем не то, о чем Дима спрашивал. — Yes! Solidarity! International workers solidarity!
Подошла переводчица, молодая красивая женщина. Она одна здесь понимала обе стороны и потому смотрела на Диму неодобрительно. Помолчав, словно сомневаясь, стоит ли вообще иметь с Димой дело, сообщила:
— Тет Атфилд благодарит вас за горячее сочувствие, которое, как он считает, вы проявляете к делу борьбы английских горняков, — и пояснила: — Это группа бастующих шахтеров из Великобритании. Они гости наших профсоюзов.
— Many thanks to the soviet people. We appreciate your help! — снова загорячился англичанин. — Please, let us come to our table.
— Большое спасибо советским людям! Мы высоко ценим вашу помощь! — сказала переводчица. — Приглашает вас к своему столику.
Дима смутился. Следуя за англичанином к столу, где сидели шахтеры, он вопросительно оглянулся на переводчицу, но женщина, кажется, не собиралась его разоблачать, и Маврин, ощущая неловкость, решил поправиться:
— Солидарность! Но пассаран! Международная солидарность трудящихся. Мы — вам, вы — нам. Ченч. Обмен помощью!
Горняки, широко улыбаясь, потянулись к Маврину, принялись хлопать по плечу, пожимать руку, на разные голоса повторяя:
— Solidarity! No surrender! Workers unite! (Солидарность! He сдаваться! Рабочие, объединяйтесь!).
Снова Дима оглянулся на переводчицу:
— Можно, я еще скажу?
— Про джинсы?
— Нет! — истово прижал он к груди руки. — Честное слово, нет! Я же не знал, что это шахтеры! Откуда же я знал? Переведите, а? — Он повернулся к англичанам и заговорил громко, медленно, почти по слогам, сопровождая все для верности жестами:
— Я, — показал на себя пальцем, — ученик слесаря, — движение воображаемым напильником. — Пролетарий! И мой отец тоже рабочий. Мы вам помогаем. Наша бригада внесла деньги в Фонд мира. Я тоже внес. Два рубля. Солидарность!
— Можете не кричать, — усмехнулась переводчица, — я хорошо слышу, — потом лаконично, опуская подробности про два рубля, перевела.
— О! — послышалось со всех сторон, англичане вновь с энтузиазмом потянулись пожимать руку.
— Са-ли-дар-ност, — с трудом выговаривая русские звуки, сказал тот мужчина, который подошел к Диме первый, — ми — нам… Well?
— Мы — вам, вы — нам! — подсказал Дима, лучезарно улыбаясь и пожимая чьи-то руки. — Международная солидарность трудящихся. Но пассаран! Бандьера росса!
Здесь были не только шахтеры, но и жены их и даже дети — два мальчика и девочка. Пожилая женщина, что следила за разговором с напряженным вниманием, чертами лица, даже манерой слушать, напомнила вдруг Диме соседку его по лестничной площадке. И он непроизвольно поглядывал на нее, словно ждал, что сейчас она назовет его по имени и признается в розыгрыше. Когда же женщина заговорила, и не по-русски, а, как ей и следовало, по-английски, с характерным энергичным произношением, Дима не сдержал глуповатой улыбки.
— We shall give you this badge, — она протянула Диме большой круглый значок с надписью «Support the miners!».
— Это для тех, кто поддерживает стачку, здесь написано: «Поддержите шахтеров!» — пояснила переводчица.
— Спасибо, — сказал Дима.
Он вернулся к своим, сияя яркой круглой бляхой на груди. В ухмылках, во взглядах, которыми его встретили, читались недоверчивость и откровенное любопытство, будто Дима только что, на виду у всех, исполнил цирковой номер.
— Ну как, фейсом в грязь не ударил? — спросил Кузуб.
— А это что? — ткнула пальчиком в значок Наташа. — Это тебе вместо джинсов дали?
Но Дима в прежнюю игру не включился.
— Балда! — бросил он с чувством. — Много ты понимаешь! — И примолк, разглядывая латинские буквы. — Про джинсы начисто забыл. Вылетели из головы джинсы.
— Кстати, пока я не забыл, — шевельнулся молчавший до сих пор Сашка Матусевич, склонился к Диме. — Хаву, Юрку Чашникова, знаешь? Так он хвастался, что знаком с одной бабой — у нее целая партия белых. Так он сказал.
— Правда? — обрадовался Дима. — А где его найти?
Чашникова Дима встретил у винного магазина уже под вечер, когда начинало темнеть. Хава был весел, дружески обнял за плечо, закричал бесцеремонно на всю улицу:
— О чем ты говоришь, Мавр! Конечно, достанем! Правда, Яшка?
Яшка тоже был здесь и тоже ухмылялся, хотя оба были еще совершенно трезвые.
— Вмажешь с нами? Угощаем.
— Может, съездим сначала? — не очень уверенно сказал Дима.
— Ты что?! Сказали же — вмажем и сразу поедем! Двенадцать рублей сегодня заработали. Спасибо, дед! — это уже мужчине, что вынес из магазина загруженный мешок-пакет.
Саковичи ужинали. То есть ужинали Михаил Павлович, жена его, Венера Андреевна, и восьмилетний сын их Коленька, а Сергей — одевался. Они сидели в гостиной за столом, пили чай, а Сергей в рубашке и плавках, с голыми, голенастыми ногами, протискивался мимо отца за спинкой стула. Здесь в ящиках мебельной стенки лежало его белье, потому что это была по совместительству его комната, здесь, в гостиной, Сергей на диване спал и здесь занимался. Теперь на темном, полированном столе лежали мельхиоровые ложки и ножи, бумажные салфетки, а вокруг по комнате, на диване, на свободном стуле и даже на телевизоре — вещи Сергея. Больше всего Венеру Андреевну раздражали кеды — Сергей нацепил их вместо домашних тапок и шлепал при каждом шаге, надеть по-человечески потому что поленился, всунул ноги как попало, смял задники. Метались и шуршали по полу длинные шнурки.
Досталось, однако, не пасынку, а Коленьке: шлепок.
— Убери руку! — голос едва не срывается на крик.
Мальчишка пригнулся, облизнул вымазанные кремом пальцы и захныкал. Не в полную силу, а так, на всякий случай.
Оторвался от газеты Михаил Павлович, оглядел свое семейство: маленький Коля уставился в тарелку, Сергей в зеркало, а жена — в глаза — пристальным взглядом, который тотчас, едва поднял Михаил Павлович голову, сменился безразличием, скользнул куда-то дальше, растворился в пространстве.
— Составил я, Верочка, розу ветров, — сказал он тогда, неловко поерзав, — в декабре ветер дует в нашу сторону пятнадцать процентов от общего времени наблюдений, а в июле обратная картина — вся гарь сюда…
Но жена больше не оборачивалась. Привычно не обращал внимания на окружающих Сергей, стал перед зеркалом со штанами в руках и на лице у себя какой-то изъян разглядывал. Как отец и муж Михаил Павлович понимал причину того общего напряжения, которое едва уловимо ощущалось в атмосфере.
— Брюки ты мог бы не перед столом трясти — в ванной, например, надеть!
— Я сейчас совсем уйду, на весь вечер, — ответил Сергей, задумчиво потрогав красное пятнышко около носа.
Михаил Павлович сдержался.
— Сказал же кто-то из философов… — обратился он к жене.
— Перестань, сколько раз говорить! — Коленька заработал новый подзатыльник и заревел. Зазвенела под стол ложка.
— …комфорт умного человека — свежий воздух! Что там комфорт — здоровье! — в голосе Михаила Павловича слышалась обида. — Пишут: белые враги, белые враги! Хоть ты совсем от соли и сахара откажись, а если выхлопными газами дышишь?
Жена не откликалась. Сергей одевался. Рукава пиджака были коротки, он пригляделся, словно сейчас только это обнаружил, попробовал натянуть их на запястья. Михаил Павлович поднялся с кружкой недопитого чая, подошел к сыну. Прихлебнул.
— Вот ты сейчас сказал: уйду на весь вечер!
— К комсоргу класса меня заниматься прикрепили! — отозвался Сергей с ненужным, ничем не вызванным раздражением.
— Понимать не хочешь! Я ведь не о том, куда ты собрался, а о том, как и когда ты это сказал.
Сергей обернулся, не понимая, может быть, в самом деле.
— Я тебе замечание сделал, в мягкой, тактичной форме, а ты игнорируешь. Я тебе говорю об элементарной культуре человеческого общежития, элементарной! А ты мне фактически отвечаешь: я знаю, что я вам всем давно надоел, сейчас уйду и не буду вам мешать. Ты вкладываешь в ответ обидный смысл, которого никто, я повторяю, никто, — возбуждаясь, Михаил Павлович очертил кружкой всю гостиную, — никто не заслужил! Ты хочешь уязвить. И тебе, прямо скажем, легко этого добиться. Уверяю, это не трудная задача. Яд проник в жилы, и не знаю, как другие, а я — чувствую себя отравленным. Мне нехорошо.
Михаил Павлович откинул голову и — остановился, словно к своему состоянию прислушался. Расслабленно приоткрылся рот.
Несколько секунд Сергей молчал, а потом резко сказал:
— Ладно! Я остаюсь.
Забрался в кресло, уселся в нем, по-турецки скрестив голые ноги, — пиджак он уже надел, а брюки еще нет. Уселся — и посмотрел с вызовом. Михаил Павлович глянул на жену.
И снова она не пришла на помощь. Не вмешивалась.
— Кончай скорей, — хмуро сказала, обращаясь к Коленьке, — тебе заниматься пора.
— Ага, давай, топай, а то фонды экономического стимулирования иссякнут, — кивнул Сергей брату. Большой, тощий, неудобный, сидел он в кресле, и, даже сложившись, подобрав под себя ноги, занимал собой много места.
Помолчав, Михаил Павлович поставил кружку, кашлянул:
— Вот ты собрался к девушке… Смотри, у тебя шов на плече разошелся. Вот, сзади. Хорошо, я вовремя заметил, но ты — взрослый человек? Или ты, Вера, зашить не могла? Почему в этом доме никому ни до чего нет дела? — вновь начал он заводиться. — Почему я как в вату говорю? Все шиворот-навыворот! Звонят на работу и сообщают, что делается у меня дома! Уму непостижимо: из школы звонят начальнику отдела, начальник сообщает мне, а я прихожу домой и говорю сыну то, что он сам должен был мне рассказать. Вот так вот, вот так вот! Шиворот-навыворот!
Михаил Павлович яростно скрючил за спину руку, показывая, как оказалось все наизнанку, шиворот-навыворот, а Венера Андреевна молча достала иголку с ниткой и стояла посреди комнаты, безучастно ожидая, когда можно будет приняться за дело.
— Дай, я! — остановился Михаил Павлович. — Мой сын не пойдет на люди в рваном пиджаке! Я сам!
Забрал иголку и, почти не примериваясь, вонзил ее в плотную, толстую ткань — Сергей дернулся.
Михаил Павлович с силой пихнул сына обратно в кресло.
— Сиди! Сиди! — говорил он, вкладывая в быстрые стежки обиду и горечь. — Теперь уж сиди! — повторял он, затягивая толстую нитку так, чтоб намертво, чтобы без вопросов, раз и навсегда!
И вдруг — замер, когда случайно поймал взгляд своей жены. Она смотрела тем самым пристальным взглядом, который так задел его в самом начале. Смотрела отчужденно и холодно, будто через стекло изучала, через невидимую преграду, что, разделяя, делала излишней заботу о выражении лица.
— Чего? — растерянно спросил Михаил Павлович.
Венера Андреевна молчала.
— Ну, что ты смотришь! — взвился он, теряя самообладание. — Да, у меня нервы! Могут быть у меня нервы? Или это только у вас у всех нервы?
Оглушительно зазвенел телефон. Михаил Павлович вздрогнул, не сразу сообразив, что это, потом бросился в прихожую.
— Да?! — рявкнул он в трубку. И тотчас переменился. — Вячеслав Митрофанович? — От внезапности прошибло потом. Неверными руками перехватил трубку и снова сказал:
— Слушаю вас, Вячеслав Митрофанович.
Из Коленькиной комнаты, приглушенные дверью, раздались звуки пианино. Первая неуверенная нота, затем другая, выше, выше забирался Коля и, не удержавшись, со звоном вдруг, рассыпая хрупкие звуки, посыпался вниз. И сразу снова, без устали, с упорством — нота за нотой — принялся он карабкаться по ступенькам упражнения.
Оставшись в гостиной один, Сергей достал припрятанный на подоконнике за занавеской старый бинокль — медные окуляры, отполированные руками до блеска. Привычным движением пальцев сфокусировал линзы, и через многосотметровую даль выплыла перед ним расчерченная оконным переплетом чужая комната.
Там — никого. Разбросанные по ученическому столу тетради и книги освещала лампа, а дальше, за открытой в коридор дверью, тоже свет, но и там, в голубом коридоре, никого не было. На столе расположился кот, он сидел неподвижно, сыто глядел на вечернюю улицу и, наверное, ни о чем не думал, просто сидел, пользуясь покоем. Там ему было тепло. Серебрился ярко высвеченный бок.
Кот не занимал Сергея вовсе. Прижимая к глазам бинокль, он ждал. Из прихожей смутно доносился голос отца.
— …Конечно, Вячеслав Митрофанович… Вячеслав Митрофанович… Нет, я все понимаю… Конечно, там будут усматривать невыполнение плана по эффективности… Ну как, акт внедрения… — договорить отцу все не давали. — Надо воздействовать… форма эр-десять… да, да, извините…
Оля появилась бесшумно. Возникла в дверном проеме, подошла к столу и сразу легко на него взобралась. Ступая среди бумаг босыми ногами, она поддела кота носком — животное тяжело свесилось на ступне — качнула и энергичным броском запустила через комнату. Перевернувшись, кот мягко шмякнулся на диван, — не донеслось ни звука — подскочил и метнулся вон. Девушка была одета по-домашнему, в спортивное трико с закатанными по колено штанинами. Рядом с окном, на столе, она вырисовывалась четкой, темной фигуркой. Безупречно выверенный природой силуэт… Еще несколько мгновений позволила Оля себя разглядывать, потом потянулась тонкой рукой вверх, где-то под самымпотолком взяла штору и задернула сцену. Остался только переплет, цветы на подоконнике и плотный, непроницаемый занавес.
Сергей опустил бинокль.
Подавленный, стоял Михаил Павлович у телефона. Договорить, объясниться ему так и не дали, разговор с директором института кончился, оборванный на полуслове. Михаил Павлович прислонился виском к дверному косяку.
— Ты куда собрался? — произнес он негромко, когда Сергей снял с вешалки куртку.
Сергей пожал плечами.
— Я спрашиваю, куда ты собрался? — повторил отец, ощущая, как поднимается в нем, заволакивает сознание бешенство.
— У тебя короткая память, — обронил сын.
— Что это значит?
— А то, что когда вы разводились, ты обещал мне мотоцикл купить. Где же этот мотоцикл?
Отец замахнулся, но сдержал порыв, только зубы стиснул.
— Я же сказал, что к Оле иду, — Сергей отступил, — чего ты снова?
— Нет, — мотнул Михаил Павлович головой. — Хватит! Ты почему не сказал, что меня в школу вызывали? Опять врешь, как последняя… Никуда не пойдешь! Сколько терпеть можно?
— Меня заниматься прикрепили… Какое твое дело, куда я иду?
— Какое?
Появилась из кухни Венера Андреевна, прошла между отцом и сыном, боком чуть повернулась, чтобы никого не задеть, придержала полу длинного розового халата. Мельком глянул ей вслед Михаил Павлович.
— Какое? — повторил он, ухватив сына за штанину. — Это на тебе что? Ты знаешь, сколько это стоит?
— Это? — в свою очередь рванул Сергей брюки за край кармана.
— Ты в жизни заработал хоть один рубль, мотоцикл требовать? Только пакостить умеешь!
Высунулся из своей комнаты Коленька — смотрит круглыми от ужаса глазами, отчаянно страшно и любопытно. Венера Андреевна ладонью в лоб толкнула его обратно. Затолкнула лохматую мальчишечью голову и сама прошла, закрыла за собой дверь.
— Это?! — кричал Сергей. — Это жалкие штаны за двадцать пять рублей, у ребят джинсы за сто!
— За сто?!
— Хочешь знать, так. мне мать деньги на сберкнижку кладет! Школу окончу — у меня свои будут!
— Свои? Так и живи на свои! Ну, что же? Иди! Делай, что хочешь! Иди на улицу, ходи на голове, грабь, насилуй, режь, под машину бросайся!
Совсем белый от ярости, Сергей дрожал, не зная на что решиться. Выругавшись, бросился к двери.
Колька тарабанил на пианино что-то неистовое. Запоры не поддавались, Сергей беспорядочно дергал щеколды и защелки.
— Ну, давай, — язвил в спину отец, — ты же большой! У тебя деньги на сберкнижке!
Дверь оглушительно хлопнула.
Они перемахнули через низенький, почти игрушечный заборчик и, настороженно оглядываясь, направились к скамеечке под навесом. Двор детского сада в это вечернее время был пуст и тих.
Нарушая тишину лишь отрывочными междометиями, они открыли бутылку, и когда стакан из-под газировки обошел по кругу, стало понятно, что здесь действительно не потревожат. Все заговорили, ничего не опасаясь и перебивая друг друга.
Хава каким-то неестественным, пронзительным голосом рассказывал историю, начала и повода которой уже никто не помнил.
— …Ну вот, захожу я тогда в кабинет. Она с порога кричит: «По тебе колония плачет!». Ты, мол, училку облил. Я так молчу…
Маврин первый заметил деда. Дверь на первом этаже садика тихо, словно сама собой, раскрылась, дед, — это, понятно, был сторож, — медленно вышел на крыльцо и остановился, всматриваясь в их сторону. Придерживаясь за перила, медленно спустился на дорожку и направился к ним. На ногах у сторожа были валенки. В остальном он не походил на старичка из сказки, забытого здесь детьми. Вполне современный магазинный пиджак, разве что помятый сильно, наверное, сторож спал в нем, на голове туго натянутая зеленая шляпа, тоже помятая, похоже, старик и ее никогда не снимал…
Сторож остановился шагах в пяти, когда его заметили и Хава, и Яшка. Все замолчали.
На лице старика, словно набухшем от крови, в краснофиолетовых прожилках, нельзя было разобрать никакого выражения. Маленькие глазки моргали.
— Вы это, — сказал он без спешки, — бутылки пораскидали, поломаете что…
Ему не ответили.
Хава побелевшими пальцами сжимал бутылку, Яшка зачем-то нагнулся. Поднялся Дима.
На ногах он держался ровно и голосом управлял хорошо:
— Вас как зовут?
— Семен Трофимович, — тем же бесцветным тоном ответил сторож.
— Семен Трофимович, я вам ручаюсь, что все будет в порядке, — протянул руку. — Не беспокойтесь!
Настроение переменилось, будто выключили напряжение. Зашевелился Хава:
— Не бойся, дед, порядок! Садись к нам!
Поколебавшись, сторож пожал руку и присел на краешек скамейки. Яшка достал единственный на всю компанию стакан — мутный, захватанный.
— А что это у вас? — спросил Семен Трофимович с некоторым сомнением, которое, впрочем, больше относилось не к вину, а к самому факту: стоит ли пить? — Да… — вздохнул, — было время, ребятки, я, кроме коньяка, ничего не пил. Вот там водка, вино, не знал просто этого. Поверите?
Хава щедро булькал из бутылки:
— Верим, дед, верим!
Семен Трофимович нерешительно подержал стакан на весу.
— Я, ребята, сторож липовый — подменяю только.
Поколебался еще, потом чуть слышно чертыхнулся и, запрокинув голову, стал с видимым удовольствием пить.
Последние следы солнца уже пропали, в темных домах, которые окружали детсадовский дворик со всех сторон, подъезды различались лишь смутно, в вереницах окон то здесь, то там прорубались квадраты света. Окна и подъезды были далеко, и в центре большого, беспорядочного двора, где сидели ребята, ни один случайный луч не нарушал сгущающийся сумрак.
— Как гранаты наготове, — оглядев бутылки, заметил дед размягченно.
— Сейчас мы кольцо дернем, — хихикнул Хава, вцепился зубами в язычок плоской пробки и… застыл в этом неудобном положении.
— Юра!
Слабый голосок прозвучал неизвестно откуда.
— Что тебе?
Теперь они разглядели полускрытую невысокими кустами девочку лет шести.
— Иди домой.
— Чего надо?
Ира молчала. С той минуты, как ее увидели, она не тронулась с места, не переменила положения — светлое неподвижное пятно в кустах.
— Ну, что у вас — пожар, наводнение, потолок обвалился? — хмыкнул Яшка.
Хава распечатал тем временем бутылку и, не отрываясь от дела, — он наливал, пробуя на слух определить уровень вина в стакане, — недовольно процедил:
— Отвечай! Старшие спрашивают.
— Папка бьется, — слова скорее угадывались, чем слышались.
Больше никто с комментариями не лез, а Хава тянул.
— Ну, дальше. Чем бьется? Руками?
Девочка не ответила.
— А мамка что? — немного перелив в темноте, протянул стакан Маврину.
— Мамка кричит, повесится и порубает папку топором, когда он спать будет.
Хава молчал, думая.
— Слушай, парень, — начал Семен Трофимович, — беги скорей!
Ну их! Что я им, милиция, что ли, или вытрезвитель? Вот что, Иринка, беги домой и, если вправду будут убивать, зови, а я здесь, хорошо?
Девочка стояла.
— Ну что?
— Не пойду.
— Иди, говорю!
Девочка стояла.
— Да не бойся, дурочка. Пошумят и спать завалятся, первый раз, что ли… Главное, если мать в уборную пойдет и долго не выйдет, тогда возьмешь табуретку и заглянешь сверху через окошко. Не вешается ли. Поняла?
Хава повернулся к друзьям:
— Во девка! Не поверите! Отца в хату затаскивала. Открываю дверь — родитель на площадке копыта отбросил, и она его тянет, ревет, дура, надрывается, а тянет. Говорит, со двора. За такую девку я кому хочешь, лучшему другу голову сверну. Пусть кто тронет!
Хава легко впадал в истерику, и никто не пытался ему перечить.
— Она у меня нервная, пуганая. В обморок умеет падать. Чуть что — хлобысь — лежит!
Крик стал неровным булькающим смехом. Тогда засмеялись и другие.
— Вот бы нам так, — вставил Маврин, — научиться в обморок падать. Представляете, — и сам засмеялся, — вызывает тебя, к примеру, начальник цеха. Ты почему, говорит, так тебя разэдак, на работу не вышел?! Хватаешься за сердце и — брык — на пол. Переживаний сердце не выдержало. Накричали, мол, на тебя.
Смех превратился в общий утробный хохот.
— И ножками, ножками так — дрыг, дрыг!
— А начальник, ха-ха, начальник…
— Графин хватает, ха-ха-ха…
Яшка ползал по земле, держась за живот, и даже Семен Трофимович неопределенно ухмылялся.
— Ну что, — сказал Хава, вытирая слезы и подхохатывая, все не мог остановиться, — что ты стоишь, дура? Последний раз говорю, иди домой! — он перестал смеяться, чтобы придать голосу больше убедительности. Взял пустую бутылку, медленно поднял над головой. — Считаю до трех… Раз!
Пятно не исчезало.
— Два!
Перестали смеяться и Яшка, и Маврин.
— Два с половиной… ТРИ!
Резко пущенная бутылка полетела куда-то в сторону, послышался глухой взрыв стеклянного сосуда и в ту же секунду — отчаянная брань. Со двора, из-за заборчика.
— Серый? — неуверенно узнал Хава. И погромче: — Серый, ты, что ли?
— Убили кого? — всполошился Семен Трофимович.
— Серый, вали к нам!
Сакович появился из темноты всклокоченный, тяжело дыша. Даже Хава обеспокоился:
— Что, задел, что ли?
— Чуть не кончил. Мимо уха.
— Садись, вмажешь с нами!
Он сел, кажется, не очень понимая, что ему говорят.
— Не пью.
Это послужило поводом для оживленных комментариев.
— О, я говорил, не пьет! — Хава.
— Уникальный кадр, цены нет, — Яшка.
— Хороший парень! Ничего, посиди так, — Маврин.
Они находились в том состоянии, когда человеку кажется, что он пока не пьян, но сейчас станет, когда сладкая теплота разлилась по телу и от нахлынувшего ощущения невесомости становится немножко тесно, хочется простора, размаха. Но Сергей со стороны видел, что приятелям простор и размах ни к чему, они и ходить уже не очень горазды. Они были неприятны. Бешенству, с которым Сакович выскочил из дому, нужен был выход.
— Что, натрясли у малышни копеек и празднуете?
Шутка или оскорбление? Хава обиделся:
— Это ты, может, мелочишься. Мы на свои. Двенадцать рублей сегодня заработали, товар продали.
— Я так думаю, если бы на свои, не ограничились бы пустяками, что вам две-три бутылки. Правда?
Виновато заерзал Семен Трофимович.
— Вот что, ребятки. Надо сбегать кому… Моя доля.
Он достал откуда-то из одежд кошелек со старомодной защелкой и принялся, полуотвернувшись, шуршать бумажками.
— Трешка, — решился, наконец, — три рубля.
— Где ты сейчас возьмешь? — усомнился Маврин.
— Да? — Семен Трофимович заколебался и хотел уже прятать деньги, когда руку его перехватил Яшка.
— Ничего, придумаем что-нибудь. Не жиль, дед, давай!
Отобрав трешку, Яшка торопливо глотнул из бутылки, резво поднялся:
— Я сейчас, ребята! — и исчез в темноте.
А старик, похоже, все еще мучался сомнениями:
— Тогда, знаете что, хлопцы, надо вам поесть. Нехорошо так. Пошли ко мне, там закуска на кухне — винегрет. С полведра будет. Надо поесть.
…Винегрета действительно оказалось с полведра — огромная казенная кастрюля. Есть пришлось прямо из нее детскими вилками и ложками. Пацаны стояли вокруг большой, давно остывшей электроплиты в окружении баков, картофелечистки и других металлических агрегатов с блестящими нержавеющими боками, щурились от кафельной белизны вокруг.
— А где дед? — спросил Маврин.
— Сказал, сейчас придет, — пожал плечами Сакович.
Они остались на кухне одни. Приятное хозяйское ощущение свободы в служебном помещении, в месте, куда при других обстоятельствах их никогда бы не пустили, вызывало тихое, осторожное веселье. Как если бы ни с того ни с сего оказались они на самой середине центрального городского проспекта — никому нельзя, а они — на тебе — расположились. Пацаны хихикали и переглядывались.
— Я что думаю, — сказал вдруг Хава, понизив голос, — давайте садик почистим.
Мимоходом сказал, между прочим, так вот — пришла в голову мысль, и он, ни минуты не медля, по-товарищески ею и поделился.
Маврин перестал ухмыляться и глянул на Саковича. Сакович поднял на Хаву глаза и тотчас опустил. А Хава спокойно набрал ложку винегрета, отправил в рот и принялся медленно, целиком отдаваясь процессу, жевать. Хава жевал, а они молчали. Хава ничего больше не предлагал и не спрашивал, а они ничего ему и не отвечали. Помолчав, тоже взялись за ложки и стали есть.
Потом в сосредоточенной тишине из темного коридора, куда вела оставшаяся открытой дверь, послышались знакомые шаркающие шаги и покашливание.
— Дед идет, — шепнул Хава. Так, словно они о чем-то уже договорились, словно нужно было уже таиться, отделять себя от старика.
— Ешьте, хлопцы, кушайте! — сказал Семен Трофимович с порога кухни. — Это мне, старику, все равно уже, а вам ни к чему, вам кушать надо.
Подошел, тронул Саковича за руку, пощупал сквозь пиджак неожиданно сильными пальцами:
— Конституция деликатная.
Сакович высвободиться не сумел.
— Щупленький ты еще совсем, косточка нежная, — пояснил дед про «деликатную конституцию».
В ответ Сергей усмехнулся и сказал:
— Трудно тебе, дед, сторожем работать.
— На месяц только подрядился, — охотно отвечал Семен Трофимович. Это был уже не тот медлительный старик, который впервые появился перед парнями, глаза его после стакана вина блестели, речь стала живей. — Основного сторожа подменить, временно… Грех сказать, на старости лет девчонке на портки зарабатываю. Обещал внучке сто рублей на штаны.
— Джинсы, — поправил Маврин.
— Ну, что портки, что джинсы… — Семен Трофимович шумно вздохнул, не договаривая, и пацаны с готовностью заухмылялись. — Лет тридцать назад я бы девку в штанах увидел, плюнул бы. А теперь вот сам обещал, что поделаешь? А легко, думаете? Голова пробита — две войны прошел! Припадки бывают. Во, смотрите, — протянул над кастрюлей, растопырил заскорузлые пальцы. — Смотрите!
Смотреть было особенно нечего. Широкие, разбитые работой кисти, сухая, серая кожа.
— Под ногтями траурная кайма!
Ногти то ли от грязи, то ли еще по какой причине, заканчивались широкой темной, почти черной полоской, толстые, корявые, загибались вниз.
— Траурная это кайма, ребятки, — повторил старик. — Я ночью проснусь иной раз, принюхаюсь к себе, чую, сыростью пахнет. И холодно так, страшно на сердце станет…
Сакович перебил. Он воспринимал происходящее кусками, отрывочно, и говорил словно сам с собой, ни к кому не обращаясь:
— Ну, так ведь и пожил. Это как в автобусе: уступи место другому. Пора сходить!
Задетый репликой, старик обиделся, обернулся в поисках поддержки к Хаве:
— Разве я кому мешаю? Разве человек человеку мешает?
— Мешает, дед, — осклабился Хава тайному, только ему по-настоящему понятному смыслу слов, — когда в автобусе тесно, наступают друг другу на носки и пихаются. Или ты в автобусе никогда не ездил?
Не успел Семен Трофимович ответить, как с другой стороны быстро и жестко поддал Сакович:
— Берешься сторожить, а у самого припадки бывают. А если при исполнении? Тут же, небось, у тебя под охраной тысяч на двадцать?
— Ну да, на двадцать! — отозвался вместо деда Хава. — Откуда!
С недоумением огляделся вокруг себя Семен Трофимович, можно было подумать, что пытался он решить, сколько же на самом деле могут стоить ложки и вилки, кастрюли и поварешки — материальные ценности, вверенные на всю ночь его заботе и охране. И эта растерянность, даже тревога были уловлены и Хавой и Саковичем тотчас.
— Холодильник, — указал Хава, не замечая вроде бы старика.
— За полцены пойдет, — отметил Сакович.
— И куда ты его загонишь, холодильник? — хмуро хлопнул ободранную белую дверцу Хава. — Грузовик надо подгонять.
— Мелочами, мелочами наберется, — утешил его Сакович. — Кабинет заведующей вспомнил? Ковер там на полу, может, гардины, телефон…
Они кружили по кухне, а дед не успевал следить и понимать — кружилась голова. Загремело задетое Хавой ведро — посыпались, поскакали по всему полу чищенные, белые луковицы.
— Ну вот, лук просыпался, — сказал Семен Трофимович так, будто несчастье это случилось само собой, без чьего бы то ни было участия. — Соберем, и давайте, хлопцы, топайте. Вам домой пора, — он неловко опустился на колени и принялся подгребать к себе овощи. — Давайте, что стоите?!
И вздрогнул. Взревело за спиной, вроде взвизгнула, врезаясь в нервы и плоть, циркулярная пила. Семен Трофимович обернулся: это Хава врубил большую красную мясорубку, она отчаянно верещала на холостом ходу.
— Тьфу ты! Напасть! Выключи!
Не дождавшись, пока Хава повинуется, — тот, кажется, не торопился это делать, — старик тяжело поднялся; чтобы высвободить руку, переложил набранные луковицы, прижал их к груди. Скользкие, влажные, словно напитавшиеся водой луковицы трудно было удержать, они выскакивали и падали. Не обращая уже на это внимания, старик дотянулся до красной кнопки и выключил, наконец, обезумевшую мясорубку.
— Все, хлопцы! — сказал он тверже, с поднимающимся раздражением. — Все, топайте. Прямо и во двор.
Хава не двинулся:
— Мы поможем собрать!
— Кто же еще поможет? — поддержал его Сакович.
— Я сам. Идите!
Не сильно, только примериваясь, Семен Трофимович подтолкнул Саковича к выходу, тот шагнул и, наверное, оставил бы вовсе кухню, если бы не спохватился вдруг с деланной озабоченностью:
— Подожди, дед, одного же нету!
Действительно, Маврина не было видно еще с той поры, как Хава и Сакович затеяли вокруг сторожа игру в карусель.
— А где? — оглянулся Семен Трофимович.
— Имущество по садику считает! — сообщил Хава. — Пойду поищу, скажу, чтобы шел. Дед, мол, не велит.
Старик заколебался, но думать особенно было уже некогда, он двинулся наперерез Хаве и стал, преграждая ход в коридор, расставил руки. То ли дорогу закрыл, то ли Хаву хотел обнять, тот, по крайней мере, сделал вид, что понимает этот жест именно так — в смысле дружеской возни — и улыбнулся.
— Все, ребятки. Считайте, что я на посту — не пущу. Вон выход, — кивнул старик на дверь, что вела из кухни прямо на улицу, ту самую дверь, через которую они сюда и попали.
— Да что ты, дед? Ты чего? — бормотал Хава. Пытаясь еще пробиться нахрапом, на дурочку, Хава очутился в объятиях у Семена Трофимовича, а тот энергично и недвусмысленно пихнул его обратно.
Шутки кончились. Теперь они смотрели друг на друга, не мигая.
— Пусти, — произнес Хава негромко. С угрозой.
— Вон выход.
Не много знал Хава людей, которые в злую минуту, не дрогнув, встречали его остановившийся в бешенстве взгляд. И потому он ждал мгновения замешательства, чтобы дед дрогнул, чтобы переломить его взглядом, и тогда — ударить беспощадно. Кто дрогнул и отступил, тот уже обрек себя на гибель. Тогда уже не бить, а добивать остается.
Дед не дрогнул.
И Хава, чувствуя, что глаза начинают слезиться, а бешенства словно бы и не хватает, и не настоящее оно какое-то, не убедительное, сказал, наконец, отводя взгляд:
— Да вон же он, Мавр, — заглянул за плечо деда, куда-то в темный коридор.
Старик обернулся. Он подозревал, что не увидит у себя за спиной никого. Догадывался, потому что знал эту дешевую уловку мальчишеских драк еще в то время, когда родители Хавы обделывали пеленки. Догадывался — и обернулся, ибо хотел верить, что все обойдется еще по-хорошему.
Старик обернулся — подросток ударил.
Кулак коротко-жестко чмокнул о голову. Саковича передернуло — звук, будто стеклом по тазу.
— Хава! — вскрикнул он предостерегающе. От чего он хотел предостеречь и кого?
Вжался в белую кафельную стену, распластался в ужасе, вздрагивая при каждом ударе, при каждом хрипе и стоне. Отвращением выворачивало внутренности, но отвернуться не мог.
Старик лежал на полу, и только ноги его виднелись теперь из-за стола.
На мокром, в бисеринках пота лице Хавы — полубезумный оскал.
— Что ты сделал? — прошептал Сакович.
Хава взял неконченную бутылку, протянул:
— Выпей.
Сакович попятился, замотал головой: нет!
— Пей, я сказал, — приблизился Хава. — Пей!
Сакович пятился, спиной, рукой нащупывая дверную ручку. Наружу, на воздух. Спина упиралась в стену, рука скользила. Выхода не было.
— Пей же, гадина, пей! — Хава схватил его за голову, сгреб на затылке волосы и, больно ударив по губам, толкнул в рот липкое горлышко. Красная жидкость текла по подбородку, попадала за ворот, мерзкая, холодная жидкость. Под безжалостной, выдирающей волосы рукой Хавы Сакович запрокинулся и стал, судорожно сглатывая, пить. Стекло стучало по зубам, Хава держал бутылку, впихивал, со злобой приговаривая:
— Пей! Он не пьет у меня! Пей! Все выпьешь! Все!
Наконец Хава отшвырнул бутылку. Сакович закрыл глаза и тяжело, измученно задышал.
Когда открыл их, увидел перед собой возникшего из небытия старика. Семен Трофимович надвигался.
— Бей! — истошно завопил Хава. — Бей, Серый! Бей первым! — а сам отступил, приплясывая и беснуясь.
Сторож надвигался неотвратимо, дошел, добрался — вцепился в плечо проволочными, железными пальцами, встряхнул худое длинное тело парня.
Тогда Сакович ударил. Оттолкнул с отвращением и ударил, смазал по лицу, не в полную силу. Старик заревел, тиская его и сминая, Сакович рванулся, боднул головой, и старик разжал вдруг руки, нога его попала на луковицу, скользнула, и он, нелепо взмахнув, опрокинулся. Ударился затылком о стену, повалился на колени и — на пол.
Тело лежало без движения.
…Возникла в проеме бледная, испуганная физиономия Маврина.
— Что стоишь? — послышался Хавин голос. — Помоги.
Мощно пустив струю, Хава мылся под краном, вода обильно заливала рубашку, лилась на пол. Маврин, склонившись, помогал обмыть шею.
…Стоя на коленях, Хава снимал с руки Семена Трофимовича часы. Снял, бросил чужую, безвольную руку, она стукнулась о каменный пол. Потом передумал, положил руку на грудь, вторую, как складывают мертвому. Огляделся, что бы такое вставить вместо свечки.
— Дай, Мавра, ложку. Старик продрыхнет — во глаза вытаращит! Подумает, спьяну померещилось.
Ложка из пальцев выпала. Хава ее отбросил, снова огляделся, пошарил по карманам. Извлек какую-то смятую бумажку, хотел и ее бросить. Однако пригляделся и положил все-таки ее на грудь деда, расправил.
Это была записка Михаила Павловича с перечислением запчастей. И номер домашнего телефона.
…Послышались приглушенные переходами, коридорами звон стекла и вопли. И снова крики, звон, что-то тяжелое падало, рушилось.
В залитой светом кухне лежал старик, без жизни, без движения. Билась, шумела оставленная Хавой струя из крана.
Сакович спал плохо. Снилось что-то тяжелое, давящее — трудно дышать. Потом послышался стук в дверь: «Милиция!». Отвечала почему-то Венера Андреевна — не пускала. Говорила, говорила что-то, наверное, не хотела открывать, а в ответ снова: «Милиция!».
Нет, это был не сон. Сергей проснулся у себя дома на раскладушке с ощущением, что кошмар продолжается наяву. Действительно стучали и отвечала Венера — раздраженным, протестующим тоном.
— Так откройте же! — донеслось приглушенно.
Матово светилась стеклянная дверь в прихожую. Сакович, опасаясь даже сменить позу, замер. Он лежал одетый, в пиджаке и брюках, поверх смятой постели.
Загремели щеколды, и кто-то вошел. В разговор вступил отец, но объяснялись теперь спокойнее, без надрыва — не все можно было разобрать.
— Почему сейчас? — повысил голос отец.
Отвечали тихо.
— А что, нельзя сразу, на месте?
И снова ответ трудно было понять.
…Вдруг с ужасающей ясностью увидел: старик на полу со сложенными руками МЕРТВЫЙ.
Убийство…
— Я вас на машине отвезу, — выходя из терпения, громко возразил собеседник отца.
— Повестку дадим, отчитаетесь на работе!
Перемежая реплики какой-то суетой, некоторое время еще они топтались в прихожей, потом хлопнула дверь и стало тихо.
Не веря себе, Сергей выглянул из комнаты. В ответ смущенно улыбнулась ему Венера Андреевна. Здесь же, в прихожей, одетый для школы, вертелся Коленька, возбужденно, с ликованием сообщил:
— Милиция приехала! У них машина!
— Отца увезли: спросить что-то хотят. Глупости какие-то! — пояснила от себя Венера Андреевна и отвернулась, занялась Колькиным шарфом, показывая, что происшествие это не очень ее занимает.
Сергей скользнул обратно и ужаснулся — рукав пиджака, тот самый, что выставил он неосторожно на обозрение мачехи и брата, был запятнан чем-то густым и темным. Вино или кровь? Поднял к носу, принюхался. Засохшее, задубевшее пятно почти наверняка было кровью…
Из прихожей донеслось:
— Мы уходим, не опаздывай!
В очередной раз хлопнула дверь. Сергей принялся торопливо стаскивать пиджак. С левого плеча пиджак не сходил, как пришитый. Сакович завертелся, чтобы снять, отделить эту гадость, лапнул себя свободной рукой и спереди, и через голову, за спину, лихорадочно дернул ткань — нитки затрещали. Пиджак и в самом деле был намертво пришит к рубашке. Наверное, вчера вечером эту зловещую шутку проделал Михаил Павлович, когда, не разбирая, что к чему, безжалостно тыкал иголкой.
Кое-как стянув окровавленную одежду, оборвав на плече висящие нитки, Сакович схватил портфель, чертыхаясь, вытряс содержимое — учебники, тетради — на пол. Ногой подбил эту развалившуюся белым нутром кучу, под диван затолкал, а в пустой, освободившийся портфель сунул пиджак.
Щелкнули замки. Все! Концы в воду!
На улице, сдерживая возбуждение, Сергей огляделся.
Будничное, рассветное утро. Всюду люди. Торопливо шагает, тащит за собой ребенка озабоченный мужчина. Мальчик в пальтишке, подпоясанном солдатским ремнем, на шапке звездочка, он не успевает за отцом, спотыкается на бегу, хнычет:
— Папа, чего мы так быстро идем?
— Мы не быстро, где же быстро?
— Папа, давай потише!
— Потому что в садик опоздаем!
Сакович нерешительно сделал несколько шагов и остановился. Повернул обратно. Куда, он и сам не знал. Двинулся и снова остановился.
Мимо шли школьники. Девочки в незастегнутых куртках поверх легких коричневых платьиц. Тепло одетые малыши с ранцами за спиной. Взрослые ребята, несмотря на утренний холод, в одних пиджаках.
— Салют, Серый!
— Привет.
Сжимая под мышкой портфель, такой же, как у всех, Сакович, чтобы не выбиваться из общего ритма, направился следом. Со всех сторон торопились школьники. На узкой, стиснутой домами дорожке они сошлись уже в один поток. Поневоле двигался вместе со всеми и Сакович. Он шагал нахмуренный и все прибавлял ходу, обгонял одного, другого, все быстрей, быстрей, пока не исчезли, не сгинули сами собой остальные.
Обезлюдевший путь вывел Саковича к садику.
Еще издали увидел он, что за низеньким заборчиком дети. И на той самой вчерашней скамейке под навесом — дети. Галдят, с суматошными криками подхватываются вдруг бежать по каким-то своим срочным делам, ковыряются в носу, ссорятся и мирятся.
Влекомый жгучим любопытством Сергей дошел до самой ограды и остановился, вцепился в металлическую планку, шершавую и жесткую.
Во дворе садика не видно было нигде милицейских машин, не суетились санитары с носилками, не слышно было встревоженных громких голосов. Никаких следов того, что произошло ночью. Словно бы вообще ничего не случилось, словно бы не лежал сейчас у него в портфеле окровавленный пиджак.
И только намеком на то неладное, нехорошее, что отягощало душу, обнаружились там, где сидели они вчера, не замеченные вечером черные неряшливые надписи: «„Динамо“ — чемпион», «Fan. Rock groope».
Созерцая на кирпичной стене навеса большие, выведенные из пульверизатора несмываемой краской слова, Сергей не заметил, как появилась воспитательница, а когда встретил ее взгляд, повернуться спиной, бежать стало немыслимо. Напрягся, стараясь ничем не выдать тревоги. А женщина подходила все ближе, и было уже совершенно очевидно, что она заинтересовалась именно Саковичем.
— Мальчик, — начала за несколько шагов.
Сергей судорожно стиснул портфель. Руки закаменели. Болезненно вздувшийся портфель, за тонкой кожей которого прятался скомканный, скрученный, утрамбованный и все равно выпиравший наружу пиджак, остался на виду.
— Подай мяч!
— Мяч? — ошалело переспросил он.
Опомнившись, кинулся подавать. Поднял оказавшийся на дороге мяч, с суетливой неловкостью выронил портфель, подхватил кое-как и то и другое, бросился к воспитательнице.
К сараю Хавы Сергей бежал. Дверь была плотно притворена. Он замедлил шаг и, переводя дыхание, взялся за шаткую ручку.
Из темной глубины длинного, узкого пространства, захламленного случайными досками, старыми кастрюлями, кадками, уставились на него Хава и Маврин.
— Посмотри на этого придурка, — вместо приветствия сказал Хава и кивнул на Маврина. А тот лишь жалко улыбнулся, мелькнуло на лице что-то виноватое, просительное.
Хава вынул изо рта сигарету и смачно сплюнул. Он сидел на ящике из-под макарон на том самом месте, где была нарисована большая фига, напоминающая человеческое ли цо, и написано: «Сухой — дурак».
Сакович посмотрел на «этого придурка», на Маврина, а потом сказал со значением:
— Я сейчас в садике был.
— И что?
— Ничего… Как не было.
— Ну?! — Хава повернулся к Диме. — А я тебе говорил?! Сторож продрыхнет, даже в милицию звонить не станет. Сам же все устроил — побоится. Приберет там чего, да и все.
Все же Хава был настроен мрачно, морщился от головной боли и сигарету бросил, не докурив. Положил на ладонь и ловко, одним щелчком, запустил мимо Саковича в открытую дверь.
Маврин захныкал:
— А это? Это что?
На проходе в сарае стоял открытый ящик с маслом. За ночь желтая масса осела, плотно навалилась на картонные стенки. Немыслимое, вызывающее тошноту количество жира.
Еще на полках большая, килограмма на три коробка конфет и тут же конфеты навалом.
Еще в кузове игрушечного деревянного автомобиля медицинские шприцы, термометры, клизмы, пинцеты, стетоскоп.
Еще какие-то бланки, печать, ключи, настольный календарь вместе с громоздкой пластмассовой подставкой.
Еще мягкий резиновый попугай кверху лапами.
— Зачем брать надо было? Куда это все? Куда? — причитал Маврин. Он, кажется, готов был расплакаться.
— Козел ты, — процедил Хава, вертя в руках новую сигарету. — Выбросить! Знаешь, сколько масло стоит? Лучше Натке отнесем. Пусть сама выбросит, если продать не сможет.
Закурил, сгорбившись над сигаретой. Он выработал привычку прятать огонек спички в ладони, чтобы ночью, в темноте не увидел кто, и делал так даже днем, без прямой надобности. Затянулся и дохнул дымом, норовя Маврину в лицо, но не достал.
— Почему я не ушел вместо Яшки? — ныл тот. — Пошел и — привет! Сидел бы сейчас спокойно на работе… Валентина Николаевна сегодня дрель обещала мне выписать… Вечером бы к Светке пошел мириться.
— Мириться, — усмехнулся Хава презрительно и тяжело. — Кто тебя держит, сынок? Иди хоть сейчас — в милицию мириться. Зачем брали, зачем брали, — и закричал вдруг, поднялся на Мавра, глаза сразу бешеные. — Кто садик хотел почистить?
— Я? — приподнялся Дима.
— А то я! Мое дело предложить. А ты кивнул! Думаешь, больше тебя надо было?
— Я кивнул? — с выражением ужаса на лице. — Я против был!
— Против! — рявкнул Хава так, что Маврин отшатнулся. — Из-за кого, думаешь, я сторожа бил? Тебя же, гада, выручать!
— Меня? — слов не хватило, он уставился на приятеля в подавленном изумлении.
— Ты же начал! Ты же первый пошел по садику!
— Я пошел… Я ушел… Я просто так!
— Просто так, — хмыкнул Хава. Он почти успокоился. А Маврин возразить не нашелся, замолк, совершенно уничтоженный.
И тогда Сергей, который стоял у входа, участия в перебранке не принимая, сказал:
— Я что, собственно… Утром отца в милицию забрали.
— Ну?
— Что — ну?!
— Так что? Мой отец в милиции как родной, они без него просто скучают, не могут долго. Подумаешь — отца забрали! Если бы засыпались, так не отца бы, тебя самого замели! А что отца, так это даже хорошо.
— Думаешь?
— Конечно, — обнадежил Хава.
— А это? — Сергей пристроил на колене портфель и достал оттуда смятый, потерявший всякую форму пиджак.
Тут вот кровь, Хава, понимаешь. Старика-то…
— А ты не помнишь, как было?
— Нет.
— Мавра руку порезал. Ну, шкаф стеклянный, — кивнул на шприцы и термометры.
— Правда? — Сакович почувствовал, как против воли расползается по лицу дурацкая улыбка. Он сознавал, что все это обман и словоблудие, но овладеть собой, сдержать ухмылку не мог.
— Может, обойдется? — робко подал голос Маврин.
Хава фыркнул:
— Да вы что, пацаны? Старик алкоголик, много ли ему надо? Проспится, домой пойдет. Ой, да сколько раз было… Мало ли.
— Было? — Маврин нервно хихикнул. — Что, было и — ничего?
— Ну, видишь, перед тобой сижу. Зажило как на собаке.
— Вот он, порез, — Маврин протянул руку и все увидели на запястье и на ладони свежий, едва подсохший шрам. Маврин снова хихикнул: — Кровище!
Сакович пожал плечами и не очень уверенно предложил:
— Может, отец наехал на кого? Может, из-за машины?
— Что, машина есть? — заинтересовался Хава.
Сакович только кивнул, а Маврин выскочил на проход, замахал руками, закричал в возбуждении:
— Вот! Конечно, наехал! Это теперь быстро — сегодня наехал — завтра забрали!
Отстранившись от скачущего Маврина, — в узком проходе они едва могли разминуться, — Хава заметил:
— Человека задавить — не шутка!
Под этим напором Сергей дрогнул, заговорил, самого себя убеждая:
— Отец сейчас вот с такими глазами ездит, — изобразил что-то дикое, ошарашенное, — ничего не разбирает. Как он вообще всех не передавил, не знаю. Кандидатскую третий раз завернули, с мачехой грызутся, должность в отделе срывается — там какая-то возня, все возня, не поймешь — анонимки, комиссии. Он уже дороги не разбирает: то по тормозам на ровном месте, то прет по ухабам — всех к чертовой бабушке передавит!
— Загремит только так! — возликовал Хава и, испытывая потребность в действии, навалился на приставленные к стене доски, с воплем повалил их в сторону входа. Сакович отскочил, доски загрохотали, вываливаясь концами за порог, цепляясь за полки, подпрыгивая и сталкиваясь.
Яшка, наверное, и сам бы не сумел объяснить, отчего ему с утра так свободно и легко. Яшка сидел верхом на самодельном мопеде и глазел на окна школы. Малыши, четвертый, может, или пятый класс, низко склонившись, корпели над тетрадями.
Что-то объясняла у доски молодая учительница, мерно расхаживала, появлялась у окна и снова потом терялась, размытая зыбкими бликами стекол. Там, в классе, было, должно быть, очень тихо. Стриженый мальчишка — короткие совсем волосы топорщились цыплячьим пухом — уставился на Яшку с откровенным любопытством. С завистью.
Завидовать было чему, и Яшка снисходительно позволил себя разглядывать.
Мопед его останавливал внимание всякого, кто имел хоть какие-нибудь познания в технике. Потому что Яшкина конструкция ездила! Ездила, несмотря на то, что переднее колесо было больше заднего раза в три, а громоздкий никелированный руль задирался так, что сидеть можно было только откинувшись назад с опасностью опрокинуть на себя все сооружение.
Мальчишка за окном получил, похоже, замечание. Виновато обернулся к учительнице, снова глянул на мопед — торопливо и жадно. Яшка показал мальцу язык и затарахтел, изображая перестук мотоциклетного двигателя, потом соскочил на землю, побежал, пыхтя и потея, — нужно было долго разгонять машину, чтобы двигатель заработал взаправду — с жестким металлическим выхлопом и гарью.
Дорог для Яшки не существовало — он мчался через дворы и тротуары, закладывал лихие виражи у детских песочниц и тормозил на повороте обеими ногами сразу — дымились, стираясь об асфальт, подошвы туфель. Сигнала у машины тоже не было, и потому Яшка работал сам и за тормоза, и за сигнал — кричал малышне: «Ра-зайди-тись!», пипикал и гудел, и даже сиреной пытался завывать, пугая старушек, что пристроились у магазина торговать дохлыми прошлогодними морковками и луком.
День уже был в разгаре. Выскакивая ненадолго на тротуары больших улиц, Яшка видел толпы народа, плотно идущий транспорт, милиционера, свистнувшего вслед, снова исчезал во дворах и видел грузчиков у магазина, ящики с молоком, девушку в распахнутой кабинке телефона-автомата, видел хоровод мальчишек, играющих в настольный теннис, они все вместе, человек десять, быстро перемещались вокруг стола, каждый со своей ракеткой; отразив шарик, игрок должен был двигаться в общем хороводе дальше, на другой конец стола. Сложная эта игра поминутно сбивалась, отчего получались галдеж и суматоха. Яшка помахал ребятам, но не остановился, обошел грузовую машину, которая гидравлическим домкратом опрокидывала сама в себя мусорный бак, тонкая жестяная крышка хлопала и полоскалась, выскочил на школьный стадион, где по беговой дорожке одиноко трусил мужчина в ярком — красном и зеленом — костюме из блестящего пластика. Не оглянувшись, Яшка впритирку обогнал спортсмена, резко накренил мопед, заворачивая за угол бойлерной…
Перед пацанами едва успел затормозить. Когда мотор заглох, Яшка услышал, что они смеются. Мельком только взглянул на него Маврин, он тащил, прижимая к животу, тяжелый картонный ящик с маслом и делал вид, что совсем изнемог: ноги подгибались, Дима шатался, дурашливо хихикал:
— Сил, ребята, нет! Как это я вчера его приволок?
— Это ты со страху ослаб! — скалился Хава.
Яшка рукой помахал, чтобы обратить на себя внимание, и приветствовал:
— Наше вам!
Пацаны не откликались.
— Примета такая есть, — продолжал прежний разговор Хава, — если боишься — точно подзалетишь! Начнешь думать: чего да как… — и он отрубил пятерней в воздухе, отметая саму возможность думать, а значит — бояться.
— Ребята, вы куда? — спросил Яшка без прежней игривости.
Только теперь Хава оглянулся — они уже прошли мимо — и снизошел:
— К Натке. Сеструха Мамонта, знаешь? Джинсы белые для Мавра достать обещала.
— Вы что, серьезно? — удивился Яшка. — И масло ей тащите?
Ему не ответили. Яшка, однако, не обиделся, Хотя он, может быть, и не до конца понимал — почему, но все же, если честно, понимал, догадывался, что обижаться после всего того, что случилось ночью, права не имеет. Слез с мопеда и, толкая его радом, пошел за пацанами.
— Пиджак надо холодной водой замыть, — говорил Хава Саковичу, — только холодной, а не горячей…
— А что такое? — снова пытался подключиться Яшка.
— …Холодной замоешь, и никаких следов. Ну, совершенно. Потом даже места не найдешь, где там пятно было.
— Кровь, да? — не отставал Яшка.
Сгибаясь под тяжестью ящика, Маврин не поспевал за энергично шагающим Хавой, отставал от Саковича, и, оказавшись рядом с Яшкой, в хвосте, обратился к нему вполне дружелюбно, почувствовал товарища по несчастью:
— Вовремя ты вчера смылся! Там такое было!
— Так я пришел! — загорячился сразу Яшка. — Я же вернулся, пацаны, просто потом уже, поздно. В садик заходил! Уже никого.
Хава оглянулся, заинтересовался Сакович, в напряженной позе, удерживая масло, остановился Маврин, а Яшка, видя, что его, наконец, слушают, заторопился:
— Ну, точно! Что вы там наломали! Я как глянул — дед лежит — ну, думаю, будет! Я к деду подошел, хотел потрогать, ну, там пульс или что… Точно говорю, побоялся. Жутко стало. Ребята, кричу. И даже кричать как-то в пустом садике жутко. Никого! И дед лежит… А потом как дунул оттуда — не выдержал. Думаю, пацанам будет. Я там ничего не трогал.
— Ладно, слышали, — хмуро сказал Хава.
— Нет, правда! Я испугался. За вас же испугался. Дед вот лежит… Каменный пол этот кафельный, вот пол этот твердый, холодный, а он на нем затылком…
— Пьяный дед, спал, — поморщился Сакович.
Но Яшку как прорвало, настроения друзей он не замечал, не чувствовал:
— Вот это вот как-то меня… не знаю… Жутко стало!
— Трешку ты куда дел? — прервал его Сакович. — Что дед тебе дал.
— Трешку?
Сакович ухмылялся так, словно знал за ним, за Яшкой, что-то такое, что давало ему право на этот слегка презрительный, нетерпеливый тон. Недобро смотрел Хава. Ощущая неладное, Яшка заедаться не стал. Простодушное выражение, с каким смотрел он на своих приятелей, казалось совершенно естественным: глуповатая улыбка на бледном, никогда не загорающем лице, белесые, едва различимые брови и белобрысая, неухоженная шевелюра.
— Трешку я отдам. У меня она, — сказал Яшка, показывая полную готовность договориться по-хорошему.
— У тебя? — снова усмехнулся Сакович. — Ну, тогда за сигаретами смотай.
— Ты же не куришь? — удивился Маврин.
Сакович внимания на него не обратил:
— Ты на ходу, — велел он Яшке, — так что давай!
— Сигареты? — Яшка достал из кармана едва начатую пачку, протянул и, считая, видно, что инцидент с деньгами сторожа исчерпан, вернулся к рассказу: — Что же, думаю, такое? Все так хорошо было. Из-за чего передрались? За это же вломать могут — только держись! Это же не какой-то ларек вшивый почистили. Просто вот, за вас испугался.
Сигареты Сакович взял, стиснул пачку, скомкал в кулаке так, что труха посыпалась, когда начал он ее мять, растирать длинными, нервными пальцами. Яшка, наконец, в изумлении замолк, и тогда Сергей швырнул белый, бумажный и целлофановый комок на истоптанную землю.
— Ты чего?
— Сказал же, за сигаретами смотай! Не понял?!
Это было уже откровенное хамство.
— Я тебе в морду дам — смотай!
— Смотай, Яша, — донесся откуда-то голос Хавы.
— За сигаретами, Яша, — повторил Сакович, произнося каждое слово раздельно и весомо.
И под тяжестью этой Яшка напрягся.
— Сам смотай! — замахнулся он и стиснул зубы. Одной рукой приходилось удерживать руль, потому и замах получился несерьезный, неловкий.
А Сакович ожидать больше не стал — ударил. Глаза жестоко сузились, едва ли соображал он, зачем и за что. Яшка схватился за скулу.
— Хава! Чего он…
И осекся — удчрил сбоку Хава. Вместе с мопедом Яшка опрокинулся, загремел, ушибся больно о какие-то железяки и камни. Потом, не пытаясь подняться, заплакал от обиды, заскулил:
— За что, за что… Чего вы… у-у…
Яшка всхлипывал, размазывал слезы, а Хава, не замечая его, скомандовал:
— Пошли! Обещал явчера белые джинсы Мавре достать и достану, тварь последняя буду, достану!
С этими словами Хава достал из кармана часы, поскреб раковинку на корпусе и стал надевать. Часы оказались старые, побитые и не шли, он покачал головой, спросил мрачно:
— У кого время есть? Поставить.
Ни Маврин, ни Сакович не отозвались. Сакович вспомнил эти часы на вывернутой руке сторожа, вспомнил и ничего не сказал. Говорить было нечего.
Овощной лоток, где работала знакомая Хавы Наташа, оказался на самом деле не лотком, а павильоном, огороженным навесом с распахнутой настежь дверью. Перед дверью, за выносным столом Натка и торговала. Точнее, в этот момент просто стояла, переминалась с ноги на ногу. В деревянном ящике пылились мелкие, усохшие лимоны, а из-под бутылки с затрепанной, грязной этикеткой, на которой давно уже нельзя было разобрать, какая именно вода там содержалась, выглядывала сплошь почерканная накладная. В лучшие времена, должно быть, значились в ней и яблоки, и апельсины, и еще множество хороших вещей, но сейчас, судя по всему, времена эти минули, продавщица поглядывала поверх прохожих так, словно ей стыдно было встречаться с ними взглядом. Безнадежно пустые ящики, не помещаясь в загородке, громоздились и снаружи, рядом со столом.
Пробудило Наташу шумное явление Хавы с компанией.
— Помогите же кто-нибудь, — причитал Маврин, не поспевая за Хавой и Саковичем, — пальцы разгибаются масло ваше тащить.
— Для тебя же стараемся! — буркнул Хава. Он почти не обращал внимания на замученного ношей приятеля.
— Пошли они к черту, эти джинсы! Мамин магазин рядом, сейчас попадешься!
— Не скули!
В тоскливом своем одиночестве Натка искренне обрадовалась знакомым — заулыбалась, захихикала, прикрываясь ладонью. Это была молодая и откровенно некрасивая женщина: плоский утиный нос, обветренные щеки, обветренные еще больше — до красных цыпок — руки. Болезненное состояние собственной непривлекательности и постоянные столкновения с жизнью сделали Натку человеком нервным и неуравновешенным: выражение лица ее менялось поминутно, извивался в ухмылке широкий, подвижный рот, и она кусала губы, стараясь овладеть собой, выглядеть пристойно — сгоняла улыбку, и тогда суетились беспокойные пальцы — хватали без надобности, переставляли бутылки с минеральной водой, теребили пуговицы на пальто, барабанили по столу, терзали и без того уже истрепанную накладную. Одета Наташа была в стандартную униформу всех некрасивых женщин — зеленое пальто с рыжим воротником. Спереди прикрыто оно было не очень чистым передником.
— Мы к тебе, Натка, за джинсами, — сказал Хава.
В ответ она еще раз выразительно хихикнула.
Тяжело, со вздохом, Маврин опустил ящик масла на стол:
— Все! Чтоб они провалились!
— Это ему, — пояснил Хава, — белые джинсы ему нужные. Женские. Сорок четвертый или сорок шестой. Со вчерашнего вечера до тебя добираемся.
Натка смутилась:
— Да?
— Ты же всем говорила, что есть! Загнать можешь.
Натка задумалась:
— Но это не у меня.
Сакович, он держался безучастно, в разговор не вмешивался, при этих Наташкиных словах демонстративно хохотнул. Никто не спросил, чему он смеется. Маврин, тот и так уже, без этого дурацкого, издевательского смеха пришел в полное отчаяние:
— Что? Куда теперь? Больше никуда не пойду!
Маврин, наверное, совсем бы впал в истерику, но подошла покупательница, женщина средних лет, стала рыться в лимонах, и он примолк, придержал на время свои чувства.
— Что, у тебя джинсов нет? — виновато ухмыльнулась Наташа.
— Это все? — спросила покупательница, брезгливо переворачивая лимон.
— Нет, я для вас специально держу — тут вот, под прилавком, — вызверилась вдруг Натка. И так внезапно, без всякого предупреждения и повода произошла в ней перемена — от обольстительной гримаски к оскалу, — что даже Маврин опешил.
— Вы не грубите! — вспыхнула женщина.
— А вы что — сами не видите? Кто это купит? — Натка энергично тряхнула лоток с плодами. — Вы это купите? Ага, она это купит! Ждите! Глаза же есть!
Женщина приготовилась уже скандалить, но раздумала, только губы поджала и пошла прочь. А Натка помолчала, припоминая, о чем шла речь, и снова улыбнулась:
— Приходи к нам в общежитие, на Подлесной, знаешь? Найдем чего-нибудь.
— Так есть у тебя? — пытался уточнить Хава. — Мы тебе масло за это притащили.
— Масло?
Наташка сразу, едва пацаны подошли, заинтересовалась тяжелой, растрепанной по углам коробкой — спросить только про нее не успела, — теперь она воззрилась на масло в удивлении…
— Продашь, может, как-нибудь, — объяснил Маврин.
— Я продам? — совершенно уже поразилась Натка. — Мы не торгуем. Только овощи. Горплодоовощторг.
— Дура! — начал выходить из себя Хава. — Как-нибудь так! Понимаешь?
— Как?
Хава глянул оценивающе. Разобрать, однако, действительно Натка не понимает или притворяется, было невозможно. Хава смягчился:
— Ну, деньги, значит, себе возьмешь.
— А мне не надо. У меня все есть.
— Нам это масло все равно девать некуда, соображаешь? Проще выбросить. А мы тебе его отдадим за то, что ты насчет джинсов для Мавриной девочки похлопочешь.
— Нет у меня никаких джинсов!
— Ну, у подруги, какая разница!
— И подруги у меня нет. Я пошутила.
Смотрит, словно только на свет родилась. Хава порядком растерялся:
— Ну, что тебе, трудно? Ну, так просто забери. В холодильник положишь.
— Холодильник-то V тебя есть? — поддержал Сакович. — Что-нибудь у тебя есть вообще?
— Нет, ребята, несите, где взяли, — сказала Наташка без тени улыбки, без всякой дурашливости. На этот раз, похоже, она не притворялась.
Пацаны, ничего уже совершенно не понимая, переглянулись. А Натка, прерываясь и кусая губы, сказала:
— Что думаете… если… так все можно? Что хотите?..
И закрылась рукой — то ли плакала, то ли задумалась тяжело. Это Наткино отчаяние среди дружеского разговора было так непонятно, что Хава следил за ней уже с испугом.
— Ты чего? Мы же только предложили. В холодильник положишь, пока только, на время.
Натка молчала, никак не объясняясь. Зато Маврин вдруг странно отшатнулся за угол навеса, охнул:
— Все! Дождались!
— Что еще? — возмутился Хава.
— Мама идет. Здесь же, рядом работает! Я же говорил!
Препираться было некогда. Хава заметался, схватил совершенно потерявшего голову Маврина, затолкал его в Наташкину загородку.
— Обеденный перерыв у нее, я так и знал!
— Молчи, — шипел Хава злобно. — Молчи, убью!
Через щели между гофрированными листами белой жести видно было, как Нина Никифоровна — Димина мать — приближается, вот она уже совсем рядом, за тонкой стенкой. Пацаны притихли, затаились среди пустых ящиков.
Нина Никифоровна остановилась перед прилавком — кажется, сюда она и шла.
— Здравствуйте, — сказала Натка первая. — Я вам оставила три килограмма.
— Спасибо, Наташенька! Девочки мне передали.
Натка шагнула за загородку, нагнулась припрятанный кулек с апельсинами взять — лицо бледное, несчастное — и замер а, встретившись глазами с Хавой. Тот, на всякий случай, состроил страшную рожу, кулаком пригрозил.
Кулек она поставила на весы.
— Ну что ты! — тотчас с улыбкой принялась Маврина апельсины снимать. — Три, значит, три! Если мы друг другу не будем верить, то уж кому тогда и верить, правда?
И на коробку с маслом глянула. Натка тоже на нее посмотрела. Настала неловкая заминка. Потом Маврина, спохватившись, стала укладывать апельсины в сумку:
— А наш-то новый балда оказался. Говорят, долго в торговле не продержится.
— Кто балда? — спросила Натка. Она, кажется, с трудом только могла поддерживать связный разговор.
Если бы нужно было сейчас выбрать между бестолковой Наташкиной молодостью и благополучной, ухоженной зрелостью Нины Никифоровны, предпочтение, увы, было бы отдано зрелости. По крайней мере, для самой Мавриной выбор не представлял бы трудности. Рядом с Наткой, постоянно чем-то встревоженной, подавленно кусающей губы, Нина Никифоровна полнее ощущала радость бытия.
— Ну, наш новый директор, — пояснила она снисходительно. — Директор, говорит, гастронома — и без квартиры. Что это?
— Кто говорит?
— Директор. Но не мне, а тому человеку, который мне рассказывал. Есть, говорит, три тысячи свободных, ну вот если бы только знал, кому дать — вот, честно, пошел бы и дал. Ну, сколько же ждать? Она, ну, тот человек, которому он это говорил, возражает: Евгений Петрович, разве же можно? Кто же это о таких вещах кричит? Я для вас кто? Вы же понимать должны! Это только двое, кого касается, знать могут, это же интимное дело! Ты — дал, я — взял! Молчок! Забыли. Не было ничего. Интимное дело. Между двумя только связь должна быть. Нельзя сюда третьих мешать. Представляешь, она ему говорит? Нельзя же ходить по улице да размахивать своими тысячами — кому дать, не знаю! Кто же так делает? Когда человека-то найдешь, кому дать, ты же сам это поймешь, сердце вот екнет вдруг: он! Сердце подскажет, не ошибется. Сердце подскажет, кому дать!
— Сердце подскажет? — удивилась Натка. Все, что втолковывала ей Нина Никифоровна, она, кажется, прослушала.
Маврина запнулась, обиженно замолкла. Полезла за деньгами.
— Это же не я говорю… Ты сама-то в общежитии живешь?
— Да.
— От мужа совсем ушла?
— У-у…
— Говорят, что… — в некотором смущении, вроде бы заколебалась, продолжать ли, Маврина. Но Натка ей не помогла — смотрела выжидательно и пусто.
— Я же не виновата, все говорят. Что скандал был, очень уж… Да? Вещи, мол, выбрасывал… Просто по-свински.
— М-да.
— Бедная девочка! И что, говорят, свекровь была?
— Что?
— Свекровь тоже была, когда он вещи твои на лестницу выбрасывал. Была, а ничего не сказала. Так говорят. Я же сама не видела.
— Говорят… да…
— Так что… неправда?
— Правда.
Маврина вздохнула, покачала головой:
— Хорошо, что нет детей.
Натка сунула в рот стиснутую в кулак руку и теперь ожесточенно, ничего не слыша, грызла ногти — то один, то другой, кусала пальцы. Лицо ее исказилось мукой.
— Я как считаю, — решилась повторить Маврина, — хорошо, что нет детей. В твоем положении это хорошо. М-да… Ну, я пойду.
Казалось, Натка ничего не замечала, а тут забеспокоилась, припоминая что-то важное, замычала:
— М-м… Постойте… Это… м-м… Холодильник у вас есть?
— Холодильник?
— В магазине. Масло вот заберите. Некуда девать. Просили просто в холодильнике подержать.
Маврина изогнула брови:
— Масло? Кто просил?
— Да так… Ребята тут приходили.
С тонкой улыбкой жалости и превосходства глянула Нина Никифоровна на свою младшую подругу и решила задержаться. Снова водрузила сумку на стол.
— Знаешь что, девочка? А ты спросила у этих ребят, где они масло взяли? Целый ящик? Как это вот просто: принесли ящик масла.
— Нет, не спросила, — равнодушно ответила Натка.
— Так я тебе скажу тогда… Они его украли!
Нина Никифоровна выдержала паузу, чтобы Натка могла осмыслить сказанное, но та и теперь, похоже, не встревожилась по-настоящему.
— Звонили сегодня из райотдела… из милиции то есть, — растолковала Маврина, — предупреждали насчет масла. Если кто предлагать будет или что… Убили там кого-то, покалечили — не знаю толком. Директор наш с ними разговаривал. На всякий случай, говорит, имейте, девочки, в виду.
Услышав про убийство, Натка не испугалась даже, а просто стукнулась лбом в стиснутый кулак и сквозь зубы произнесла: — Ой! Ой! — раскачиваясь, не желая смотреть на белый свет, и мерно стучала кулаком по пустой своей, бестолковой и несчастной голове.
— Да что уж ты так? — заволновалась Нина Никифоровна. — Ничего тебе не будет. Надо признаться только. Тут уж не маслом ведь пахнет. Ты же не знала! Да хоть вместе давай позвоним. У меня еще, — глянула на часы, — двадцать минут, успеем.
Не решаясь сменить неловкие позы, в которых, как кому пришлось, замерли они в загородке среди ящиков, пацаны затравленно переглядывались.
Натка молчала.
— В крайнем случае, — настаивала Нина Никифоровна, — и опоздать можно, Евгений Петрович поймет. Масло кто принес? Ты хоть знаешь?
Если бы сама Нина Никифоровна знала, какие последствия проистекут из ее простодушного любопытства, по-человечески понятного и простительного… Ничто, однако, не предвещало беды. Когда хищной тенью возникла из проема тощая, скрюченная фигура Хавы, Нина Никифоровна вздрогнула от неожиданности, от испуга чисто физического, вроде того, который испытывала она, когда на мокром лугу с отвратительным шлепком выскакивала вдруг из-под ноги лягушка.
Нервно ухмыляясь, Хава бессвязно выпалил:
— Вы и сами знаете, кто масло принес!
Нина Никифоровна на Натку глянула в изумлении, а Хава, не давая опомниться, продолжал:
— Да, да! Мы его… правильно вы поняли — украли. Это масло мы украли.
Заинтересовавшись оживлением у прилавка, подошла какая-то женщина с хозяйственной сумкой. Дорогу ей закрыла растопыренной пятерней Натка:
— Закрыто! Идите, закрыто!
С видимым усилием Маврина сказала:
— Ты врешь!
Сказала почти бессознательно, не понимая, о чем и про кого говорит, брызжет слюной этот ошалевший мальчишка. «Врешь», — сказала она, защищаясь от угрозы, которая слышалась уже в одной только наглости самой по себе.
— Ага! — издевался Хава. — А сыночек ваш, Димочка, он с нами был. С нами, да… И своими ручками, вот этими вот ручками, вот так вот, ножками, ножками это масло вот и вынес! Ага! Димочка, сынок, покажись!
— Врешь! — повторила Нина Никифоровна помертвелыми губами.
— Покажись, дурашка, что же ты прячешься! — заглядывая в темное нутро загородки, чтобы извлечь оттуда Маврина, Хава изогнулся крючком.
И Маврина не выдержала, повторила за ним боязливо:
— Дима…
В тишине — все равно внезапно, вдруг, хотя и Хава, и Натка, и Маврина ждали — раздался грохот, опрокинулся ящик; зацепившись за него коленом, со стоном вывалился наружу Дима Маврин. Едва сумел он удержаться на ногах, отпрянул от растопыренных маминых рук и, стукнувшись еще раз, боком о стол, бросился бежать.
— Дима! — отчаянно вскрикнула Нина Никифоровна. Она даже рванулась следом, несколько шагов сделала — да куда там! Дима мчался, не оглядываясь.
Кричать уже было поздно, кричать теперь уже надо было на всю улицу, на весь город. Дима исчез, потерялся между людьми и постройками, а Маврина, не до конца еще сознавая, что же случилось, мешкала возле Наткиного прилавка, не знала, на что решиться. Когда, наконец, повернулась она к Хаве, глаза ее были сухи, брови сдвинуты, а рот исказила резкая складка.
— Ты, — указала пальцем, — мне за все ответишь! Я тебя в милицию сдам! Я тебе покажу! Я тебя в колонию засажу!
— Не шумите, — сказал Хава, натужно улыбаясь, — услышат.
— Попляшешь еще у меня!
— Вместе сядем с вашим сыном. Знаете, сколько за убийство дают?
На полуслове, с разинутым ртом, Маврина остановилась.
— То-то! — усмехнулся Хава. — Масло заберите. Это главная улика. Вы же соображаете, что будет. Хорошо надо запрятать, чтобы следов не осталось!
…Ящик был мучительно тяжел и неудобен. Выбиваясь из сил, — дыхание частое, неровное, — волокла Маврина свою заклятую ношу. Волокла неведомо куда и, не утираясь, плакала, слезы на щеках стыли. Невольно уступали ей дорогу прохожие, оглядывались вслед.
Парень с девушкой, молодые, дружелюбные, счастливые, обогнали Маврину легким, ровным шагом:
— Вам, может, помочь?
Маврина не реагировала. На ходу взялся парень за ящик с маслом, повторил громче:
— Вам тяжело? Я вижу, вам тяжело.
Она будто очнулась — дернулась вдруг в сторону, вырывая из чужих рук масло:
— Что надо? Иди своей дорогой!
— Я только помочь, — растерялся парень.
— Знаю я вас всех, сам такой же! — отрезала она с непонятной злобой.
Маврина пошла, а молодые люди, ошарашенные таким отпором, остановились. Юноша глянул на девушку, девушка на юношу. Сначала они глядели друг на друга с недоумением. Потом засмеялись и начали хохотать. А потом — целоваться. На виду у всех.
Когда Маврин решился перейти на шаг, он долго не мог отдышаться, измученный вконец. И может быть, парадоксальным образом, ощущение, что, загнанный и несчастный, достиг он предела своих сил, только и помогало теперь держаться: не думать, не вспоминать, не подпускать слишком близко к сердцу страх.
Большего несчастья никогда еще в Диминой жизни не приключалось, он представить себе не мог, чтобы на долю нормального, вчера еще совершенно не потревоженного судьбой человека выпали ни с того ни сего, без всякой явственной вины и повода, подобные испытания. Несмотря на то, что страшная, непостижимая беда уже произошла, произошла бесповоротно, Дима еще не мог охватить умом все непомерные, чудовищные размеры случившегося. Смутно угадывал он лишь одно: в неправдоподобности того, что случилось, в самих размерах несчастья таилось какое-то, неясное еще и для него самого, оправдание. И от этого чувствовал он всепоглощающую, мучительную жалость к самому себе.
Глазами, полными слез, глядел Дима на мир, и мир расплывался, терял свои привычные черты, мир казался зыбким, ненадежным, безрадостным местом.
Предостерегали издалека крашеные фанерные буквы: «Их разыскивает милиция».
Сколько ни вглядывался Дима в смутные, не имеющие выражения лица мужчин и женщин, обезвредить, задержать, сообщить о местонахождении которых призывали его афиши, ни в ком не мог он обнаружить что-то такое очевидное, что объяснило бы ему, как и почему все эти разные люди оказались в одном месте, категорически перечеркнутые по тексту красной полосой: опасный преступник! Ничего не могли объяснить отрывочные сведения: родился, учился, работал… Все шло, видно, как у всех, в потом — бах: опасный преступник! Потом случилось что-то такое, о чем не решались писать даже тут — в объявлении на стенде милиции — настолько это происшедшее было, наверное, стыдно и некрасиво. Родился, учился, работал, а потом — бах: опасный преступник! Вот и все. Больше о нем и говорить не хотят. И прочный висячий замок на витрине. Можно было подумать, что, собравшись вместе, эти люди обладали какой-то заразной, безнравственной силой, от которой следовало защищать и детей, и взрослых. Защищать вот так — тяжелым висячим замком.
Дима сгорбился, натянул куртку по спине вверх, почти на затылок, будто голову прикрыть хотел, потом потянул ее за отвороты вперед, неуютно поежился и побрел.
Здесь, вдали от новых микрорайонов, в старом городе, где стояли нетронутые с дедовских времен двухэтажные кирпичные дома, перекликались через дорогу настежь раскрытые двери крошечных магазинчиков, где пусто было, неторопливо на улицах, изредка только громыхали по разбитому асфальту прибывшие из района, замызганные весенней грязью грузовики, откуда здесь было взяться опасным преступникам?
Долго стоял Дима на совершенно пустынном перекрестке, ожидая, когда загорится ему зеленый свет. Машин не было вовсе, и люди ходили по улице как кому вздумается. А Дима начал движение, когда желтый сигнал сменился на зеленый, пересек проезжую часть и пошел на далекие звуки духового оркестра.
Могучие медные трубы играли «Прощание славянки». Щемящие звуки качали и влекли: чем ближе подходил Дима, тем сильнее, осязаемее они становились. Можно было уже различить отдельные инструменты: ритмичное уханье барабана, вздохи, горячечное дыхание больших и маленьких труб.
Дима завернул за угол и сразу очутился в узком треугольном сквере перед зданием военкомата. В тот же миг оркестр кончил, последний раз ударил барабан, замерли, стали к солдатским ногам трубы. И оттого, что трубы замолкли, послышались повсюду голоса. Сквер был полон призывников. Большей частью не стриженные, одетые с гражданской вольностью, они держались вразброд, компаниями, кто с кем пришел. Родители, знакомые, друзья, подруги.
Около солдат из оркестра собрались любопытные.
— Все время так? — спросил подвижный паренек с нахлобученной на самые глаза шапочкой «петушиный гребень».
Барабанщик покачал головой:
— Не, нештатный оркестр.
— Это как?
— Наряды, служба — как у всех, а уж сверх этого на плацу играем — для собственного удовольствия.
— Не слабо, — ухмыльнулся парень и скрылся обратно в толпу.
— А куда нас повезут? — спросил кто-то из-за спины Димы.
Солдат пожал плечами:
— Вон прапорщик знает.
— Знает, но не скажет, — поправил второй.
— Если знает, — уточнил третий.
— А если не знает, то, конечно, скажет, — тогда скрывать нечего, — закончил первый.
Ребята поняли, что их дурачат, заухмылялись. Но не так, как солдаты — открыто и весело, скорее, растерянно, даже виновато. Всего несколько месяцев, год отделял парней в военной форме от их сверстников в гражданской, но невидимый, хотя и ясно ощущаемый рубеж отделял их друг от друга. Солдаты держались спокойно, дружно, с тем чувством несуетливого, неброского достоинства, которое приходит ко много поработавшим, усталым людям.
На скамейке под большим узловатым каштаном сидел обритый наголо призывник. Склоненная над гитарой голова блестела. Он играл и пел. Хорошо играл, хорошо пел, и только, может быть, чуть торопил и без того энергичный ритм, словно последний раз пел, и обязательно надо было успеть, закончить и поставить точку: «Один говорил, что жизнь — это поезд, другой говорил — перрон…». Вокруг стояли, слушали. А девушка, что сидела рядом, не столько слушала, сколько смотрела. На руки певца, на лицо его — запомнить хотела. Надолго.
Дима и здесь постоял, постоял и дальше пошел.
— Под портянки носки шерстяные надевай, — сказала мать.
Сын кивнул.
— Не положено, — возразил отец.
Сын тоже кивнул.
— Как это не положено? — удивилась мать.
— Так, не положено и все, — невозмутимо сказал отец. — Я тебе, Коля, вот что скажу: служи хорошо. Начальству в глаза не заглядывай, не надо, а служи честно, добросовестно…
Тут он обнаружил вдруг, что рядом стоит Дима и, вытянув шею, слушает. И сын и мать тоже посмотрели на Диму, ожидая, что он что-нибудь спросит или скажет.
— Извините, — очнулся Дима. Двинулся прочь.
Главное лицо в сквере был прапорщик, стоило ему остановиться, чтобы дать себе передышку в беспрестанном сновании в военкомат и обратно, пальцем ткнуть в козырек фуражку, приподнять ее над взмокшими волосами, как тотчас, пользуясь заминкой, собирались вокруг люди.
— А это за что? — уважительно показал на орден Красной Звезды худой высокий призывник.
— За Саланг.
— Тот самый?
— Да. Кабул — Шерхан. Высшая точка. Перевал, — прапорщик обрисовал в воздухе дорогу и перевал на ней.
Помолчав, тот же парень снова спросил:
— Страшно было?
Прапорщик плечами пожал. Потом подумал и снова пожал плечами:
— Одним словом не объяснишь.
Ни торопить его, ни переспрашивать никто не решился. И только когда стало ясно, что больше прапорщик про свой страх ничего не скажет, один из слушателей, смущаясь и краснея, начал:
— Знаете, я, когда маленький был, часто об этом думал: вот как люди пытку переносят или в бою, нужно в атаку встать, а каждая пуля в тебя летит…
Прапорщик слушал серьезно и при этих словах чуть заметно кивнул.
— …И вот я думал: а я смогу? Думал, думал и всегда получалось, что смогу. А теперь вот, когда старше стал — теперь иногда не знаю…
Прапорщик снова кивнул:
— Это правда. Думай не думай, когда решающая минута приближается, все как будто заново приходится для себя определять… а потом и это уже не важно, остается только миг — подняться под пули. И вот тогда либо ты смог, либо не смог, а все, что ты раньше о себе думал, уже не имеет никакого значения. Либо встал, либо нет… Я десять лет в армии прослужил и никогда не слышал, как пуля над головой свистит, та, что в тебя метила… Ехал в Афганистан и, если честно, то точно так же вот сомневался: смогу ли?
— А были такие, что не смогли?
— Были.
Притихшие пацаны молчали. И тот, что спрашивал, напряженно нахмурил брови и тоже молчал.
Вылез вдруг Маврин, как дернуло его. Слишком уж много всего накопилось, накипело в душе, чтобы сумел он сдержаться.
— Я бы смог, — сказал он внезапно с отчаянием. — Я бы смог! Что, не верите? Смог бы!
Они не верили.
Не зная, как убедить, чем еще доказать, что он точно смог бы, в атаку бы поднялся и все, что надо, сделал не хуже других, никого бы не посрамил и не подвел, что жизнь, если надо, отдал бы, Дима руку к груди прижал, а на глаза его навернулись искренние слезы.
Кто-то явственно хихикнул.
— Это хорошо, — сказал тогда прапорщик. — Хорошо, что ты в себе уверен.
— А как вы орден получили? — снова спросил призывник.
— Орден? Потом расскажу. Строиться пора.
Прапорщик широко махнул рукой, отсекая разговоры, и повысил голос:
— Кого назову, выходи строиться! — развернул список.
— Андреев!
Неровный строй вытягивался вдоль аллеи, вольная толпа призывников постепенно редела.
— Лютый! — кричал прапорщик. — Где Лютый? Так. Миколайчик!
Стриженый гитарист торопливо поцеловал свою девушку, сунул ей гитару и поспешил в строй.
— Щетинин!
Щетинин оказался последним. Прапорщик еще раз глянул в список.
— Всех назвал?
Оставленный в одиночестве, Дима просительно засматривал в глаза. Прапорщик заколебался:
— Ваша фамилия как?
— Маврин.
— Маврин? — снова полез в список. — Маврин?
А Дима, словно надеясь на чудо, молчал. Но чуда не произошло.
— Нету Маврина, — сказал прапорщик.
— Меня не сейчас призывают, — заторопился Дима, — позже. Но я тоже хочу сейчас. Можно?
В строю засмеялись.
— Оставить смех! — начальственно оборвал прапорщик. Но он, похоже, и сам едва сдерживал улыбку.
— Вам надо к военкому обратиться.
— К военкому?
— Да.
— Прямо сейчас?
— Если примет.
— А он здесь?
— Все! — поморщился уже прапорщик. — К военкому, я сказал, к военкому, не мешайте, — и повернулся к строю.
— Так! Становись!
Оркестр заиграл «Прощание славянки», неровной колонной прямо по мостовой двинулись призывники, побежали следом родственники и зчакомые, заплакала девушка с гитарой. Она смеялась и плакала одновременно. Как-то совсем неуместно заулыбалась, махая рукой, а потом утерла слезу и снова улыбнулась. Тот бритый наголо гитарист не оборачивался ни на слезы, ни на смех, уходил все дальше и дальше. Оркестр играл «Прощание славянки».
Дима остался один.
В подзаржавевшем висячем замке ключ повернулся со скрипом. Хава раскрыл дверь сарая и бросил замок куда-то внутрь — тот загремел.
— За-ха-ди, да-ра-гой! — сказал Хава с «кавказским» акцентом. — Гостем будешь!
Но Сакович не улыбнулся:
— Ай, Хава, пойду я!
— Куда?
— Пойду и все… надоело… тошнит аж!
Они помолчали, и Хава, не зная, как еще поддержать товарища, сказал:
— Не переживай, перекантуемся как-нибудь.
— Перекантуемся! — с горечью повторил Сакович. — Ты же во всем виноват!
— Я?
— Понимаешь ты своей башкой, — постучал по виску, — что мы теперь все сядем? Масло ему понадобилось. Это же надо было додуматься! — и Сакович выразительно развел руками.
Хава помрачнел. Откровенное малодушие товарищей напомнило ему об одном обстоятельстве, которое он всегда держал в уме, о котором всегда помнил: топить будут его. Все будут топить.
— Знаешь, как обо мне написали в характеристике, когда после восьмого класса из школы в училище вытурили? Социально опасная личность с ярко выраженными антиобщественными наклонностями. Наизусть запомнил с тех пор.
— Это ты к чему?
— А к тому! Напугал он! Сядем! Мне отец сказал, что сяду, только я говорить научился и стащил пятнадцать копеек. Что мне, одному сидеть? Втроем веселее будет. Отец говорил, и там люди живут, и очень неплохо некоторые. За тебя и Маврина, конечно, не уверен!
В эту минуту Хава и сам верил, что в тюрьму сесть для него дело плевое, в эту минуту Хава готов был сесть, только бы рядом с ним оказались и Мавр, и Серый.
— Когда меня заберут — весь город вздрогнет! Я сяду, да уж вас всех побегать заставлю! Уж придумаю что-нибудь, не беспокойся! Вчера один мужик дал мне адрес и телефон, просил для него запчастей украсть. Так знаешь, что я с его запиской сделал?
— Ну, что?
— А вот то! Я ее пьяному старику вместо свечки в руки вложил!
— Ты серьезно?
Все рушилось, летело к чертям, в бездну. Границы кошмара и яви стерлись, Сакович смотрел на Хаву и не понимал уже, живой, во плоти перед ним Юрка и можно двинуть его в прыщавую рожу, или бесплотное зло, химера, от которой не убежать, не скрыться.
— Попомнит меня гнида эта Михаил Павлович!
— Михаил Павлович?!
— Не понравился мне мужичок почему-то…
— Михаил Павлович? А телефон? Телефон, Хава! — Сакович, теряя самообладание, схватил приятеля за грудки. — Телефон! Михаил Павлович — отца моего зовут!
— Не помню я телефон, откуда?
— 42-27-11?
— Кажется… Точно, он.
Медленно разжал Сакович на Хавиной рубашке руки.
— Все! Сели. Вот почему отца утром забрали. Накрылись калошей.
Да и Хава растерялся, вопреки всему, что только что кричал:
— А что, «Жигули» такие синенькие, да? Больше в гаражах никого не было…
Сакович не слушал, вскинул вдруг голову:
— Знаешь, как с убийством разбираются?
— Почему убийство?
— Это я для примера. Чей удар…
Невысказанную, недоговоренную мысль товарища Хава понял и, демонстрируя, что имеется в виду, кулаком себя пристукнул сверху, «по кумполу».
— Вот именно, — подтвердил Сакович. — Не важно, кто бил, сколько, важно, чей удар… ну, главный. От чего это самое…
Слово «смерть» Сакович выговорить не мог.
— Чей удар — тому вышка. А выживает старик — десять лет. Ты представляешь себе, что такое десять лет, помнишь хотя бы, что с тобой десять лет назад было? Ничего, туман один. Десять лет — это такой срок, когда в середине ты забываешь, что было до этого, и не в силах представить себе, что будет потом. Это жизнь за решеткой. Твой отец, которому было так хорошо, сколько сидел? Два года. А ты выйдешь — сразу как отец сейчас будешь. Можешь себе представить? Самые сладкие годы, когда сок из тебя брызжет, как из весенней березки, где они, эти годы? Вон — крылышками трепещут. Далеко в небе. Были — не были, а где они? Беги по земле, руками махай — не взлетишь, не догонишь!
Сакович паясничал, бегал, изображая собой взлетающую птицу, а Хава, напротив, сник и без прежней уверенности возразил:
— Да что ему, старику, сделается?.. А потом… ну, что теперь?
— Что теперь? Я к отцу сейчас поеду!
От горячечных слов своих Сакович и сам пришел в возбуждение, хотелось ему немедленно что-то сделать, предпринять, исправить, если еще не поздно, возбужденная мысль его скакала:
— Знаешь что? Ты здесь сиди. Я с отцом поговорю. Может, и ничего еще. Он же тебя не знает. Можно такое сочинить… Ну, и спросить надо, что там случилось…
Хава уныло хмыкнул:
— Михаил Павлович? Ну, завал.
Когда Сакович ушел, Хава уселся на ящик, тот самый, на котором утром пацанами командовал, но сейчас сидел он вялый, опустошенный. Хава понимал, что надо бы концы прятать, повыбрасывать все, что натащили из садика без всякого смысла и разбора, и еще кое-что повыбрасывать, что валялось тут с давних времен, но двигаться не хотелось. Машинально щелкал он в руках замком: поворот ключа туда, поворот сюда, открыл — закрыл. И лицо у Юрки Чашникова было грустное, впервые, может быть, за эти два дня человеческое — задумчивое.
Видением возникла на пороге сестра. Юрка не спросил ничего и позу не сменил. Ира сама с порога сказала:
— У нас садик обворовали!
— Кто?
Возбужденная от распирающих ее новостей, Ира, продолжая тараторить, прошла внутрь сарая:
— И сторожа тоже убили!
Хава побледнел:
— Кто тебе сказал?
— Все дети знают!
— И что, насмерть?
— Они его сначала убили, а потом на кухне… сварили и съели.
— Дура! — возразил Хава с некоторым облегчением. — Так не бывает!
— Бывает! Это людоеды!
— Людоедов не бывает!
— Бывают! — убежденно тряхнула головой Ира, а потом, без всякого перехода, вдруг обрадовалась. — Ой! А это конфеты у тебя?
— Не трожь! — взвился Сашников.
— Что, жалко?
— Они отравленные.
— Отравленные? — Ира, она уже схватила конфету из большой груды, остановилась в сомнении.
— Кто тебе сказал, что убили?
— Убили, но не насмерть. Я только попробую, а? Чуточку! — и она начала разворачивать.
— Как это не на смерть, ты что?
Но Ира ничего не ответила — сунула конфету в рот.
— Отравишься, я сказал! — мрачно пригрозил Хава. — Отравишься и умрешь.
Ира промычала с полным ртом:
— He-а! Не отравлюсь.
— Если людоеды бывают, то отравишься.
— А если не бывают?
— Тогда не отравишься.
Ира подумала и стала есть. Ела она долго, осторожно, боялась, наверное, раскусить то самое место, от которого отравишься. Съела, сглотнула последний раз. Еще подумала.
— Наверное, отравлюсь, — на брата посмотрела с ужасом. — Ты правду сказал? Отравлюсь?
Юрка вздохнул и погладил девочку по головке. От неожиданной ласки она застыла, не зная, как себя вести.
— Ирка, — сказал Юра дрогнувшим голосом, — эти конфеты из садика.
Глазенки остановились; медленно, не спуская с брата испуганного взгляда, она положила вторую конфету, которую тискала, не решаясь развернуть, обратно.
— Не будешь есть?
Помотала отрицательно головой.
— Да ты не плачь! Меня за это в тюрьму посадят. Все по-честному будет, как ты любишь, — сколько украл, столько и отмерят.
— …В тюрьму — это домой не будут пускать?
— Не будут.
— Даже на воскресенье?
— На воскресенье — тем более.
Ира подумала.
— А меня к тебе пустят?
— Нет.
— А если очень-очень попросить?
Юрка вздохнул:
— Я когда выйду, ты уже большая будешь. Невеста. Парни будут ухлестывать только так… Не до меня будет. Кто такой, не вспомнишь.
Глаза ее наполнились слезами:
— Нет, я вспомню!
— Ты вот что! С родителями не живи! Как восемь классов кончишь, сразу в училище поступай. Так, чтобы с общежитием. Хорошо бы в другой город. Ребята рассказывали, что в Ленинград даже берут.
— А мамка как?
— Я тебе из колонии напишу еще. Как в восьмой пойдешь, напишу, чтобы в училище готовилась. Обязательно. Главное — из дому уходи.
— А мамка как?
— Мамка?.. Мамке передай… передай… Ай! Ничего не передавай! Пусть живет как хочет!
Михаил Павлович глянул на часы:
— У меня мало времени! Что ты хочешь?
Сергей молчал. Раздражительный с самого начала тон, нетерпеливый жест — мало времени — не могли скрыть очевидную растерянность отца. И то, что он, протестуя, отложил сразу все свои дела, оставил работу и явился на встречу, говорило о чем-то таком, о чем не хотелось по-настоящему, до конца думать. Было бы легче, если бы отец отказался прийти, если бы за его обычной раздражительностью скрывалась уверенность, а не слабость.
— И вообще, что за манеры? Как ты по телефону разговариваешь? Вот тебе приспичило, я должен все бросить! — и отец нервно, едва ли не воровато оглянулся, словно сказал что-то такое, что нельзя было слышать посторонним.
Но толпа обтекала их равнодушно. В центре города, на людной улице каждый торопился по своим делам. И у каждого эти дела были — множество больших и маленьких дел, которые надо было все срочно переделать, чтобы отдохнуть и расслабиться. И только то дело, что было у них с отцом, одно общее дело, которое они пытались друг от друга скрыть, нельзя было никогда переделать, от него нельзя было избавиться.
— Я хотел спросить… что ты в милиции сказал? Про записку.
— Не понимаю.
— Со стариком что?
— Со стариком? С каким стариком?.. Подожди, откуда ты знаешь?
— Полгорода, папа, уже знает! Что с ним?
Глаза у Сергея были лихорадочные, лицо горело. Все утратило значение и смысл, вопрос остался только один. И слово только одно: старик. А отец уловил другое: полгорода знает. Уловил то, от чего так неспокойно было у него на душе.
— Вот только этого еще не хватало! — взвился он сразу же. — Чтобы ты еще лез! Вот все уже было, вот всего достаточно, по горло, вот так вот! — удушающим движением ухватил он себя за шею. — Что они хотели, я не знаю! Два часа! Понимаешь ты, я не знаю, чего они хотели! Я не знаю, откуда эта записка, и какой идиот припутал ее к этой дурацкой истории. Я не помню! Можешь ты это понять?
— Ты так и сказал? — переспросил Сергей быстро.
— Что сказал?
— Папа, хватит! Хоть сейчас-то не придуривайся! Со стариком что?
Как ни странно, окрик подействовал: отец запнулся и произнес потом нормальным почти тоном:
— Что? В реанимации. В сознание не приходит.
— Во сколько? Во сколько это тебе сказали? Ну, времени сколько, папа, было, когда тебе сказали, что он в больнице? Что жив.
— А тебе что?
— Ты можешь позвонить в милицию?
— Зачем?
— Я тебя спрашиваю, ты можешь позвонить в милицию про старика узнать?
— Нет, — Михаил Павлович миновал взглядом сына и повторил с обидой: — Нет! — полез во внутренний карман пиджака — один, другой, снаружи полапал, но ничего не достал, и неизвестно было, что вообще искал. — Нет, я в милицию звонить не буду! Хватит, со мной там уже беседовали. Два часа! Я не имею к этому случаю отношения! И не знаю, не знаю, кто этот старик, о котором уже полгорода знает!
— Папа, ну, я прошу тебя, а? Позвони куда-нибудь, узнай про старика!
— Зачем?
— Я знать хочу: жив или мертв! — прокричал вдруг Сергей в бешенстве. — Жив?! Или мертв?!
Дрожащими руками взял отец себя за воротник, по лицу провел машинально. Потревоженный утром милицией, забыл Михаил Павлович побриться, и теперь щеки его синели сизой щетиной. Выдавая возраст и непроходящую усталость, легли на лицо тени. Кажется, он начал что-то понимать, подозревать начал. И подозрение это было настолько чудовищным, что спросить прямо Михаил Павлович не решился.
— Если это важно… В больницу могу позвонить. Но уверяю тебя, я не имею ни к чему никакого отношения. Недоразумение.
Не обращая внимания на никчемное бормотание отца, Сергей полез по карманам в поисках монеты, принялся пересыпать с ладони на ладонь мелочь.
— Девушка! У вас двушка есть? — метнулся он к прохожей.
Девушка открыла сумочку, а он, заглядывая внутрь, нетерпеливо понукал:
— Позвонить только, понимаете? Две копейки!
— Нету, — сказала она, разгребая пальцами содержимое: зеркало, платок, ключи, белые и желтые монеты — все вперемешку.
— Как это нету?! — возмутился вдруг отец. Оттискивая Сергея, он тоже наклонился над сумочкой: — Дайте сюда!
Дернул за ремешок, запустил внутрь свою большую руку. Девушка, молоденькая совсем девчонка со взъерошенной по моде прической, растерянно оглянулась на Сергея и густо покраснела.
— Ну вот же! Как вы смотрели? — отец выхватил две копейки.
Сергей бросил девчонку, не извинившись, и поспешил за отцом.
— Не знаю я, как его фамилия! — говорил Михаил Павлович по телефону, а Сергей, не заходя в будку, пытался угадать, что там отвечают. — Подождите, молодой человек, подождите, я сейчас просто в другое место буду звонить, если вы ничего сказать не можете, чего вы тогда на своей работе сидите?.. Что значит, у вас больные?!.. Ну… Посто… Подождите… У вас никто не умер, с утра?..
Он закрыл трубку ладонью и беспомощно оглянулся на Сергея:
— Говорит, у нас не сторожа и не академики, а больные под фамилиями. Фамилию надо. Знать бы хоть, какого рода… ну, травмы.
Торопливо, опасаясь, что отец повесит трубку, Сергей кивнул:
— Я скажу.
— Ты? Ты скажешь?
От неправдоподобного этого удивления Сергей пренебрежительно отмахнулся. Было уже все равно, понимает отец до конца, о чем идет речь, или нет. И больше того. Попытка отгородиться от жестокой правды непониманием вызывала желание некрасиво и зло вывалить все сразу.
— Скажу, куда били, — Сергей ткнул себя в грудь. — Сюда вот… И сюда… Вот, в голову… А он упал, так вот, — изогнулся.
Побледневший отец поднял трубку и коротко сообщил:
— Черепно-мозговая травма.
Сергей, однако, не успокаивался:
— Нет, он вот так вот еще упал, затылком!
Стиснув трубку потными руками, отец наблюдал, а сын, вспоминая все новые и новые подробности, извивался, чтобы точно изобразить, как старик упал, и чем ударился, и куда его били сначала, а куда потом.
Вокруг уже порядочная толпа собралась, человек пять стояли рядом, наблюдали в изумлении за этой сценой, и еще люди подходили, издалека интересовались, что там такое происходит, останавливались.
Отец бросился к Сергею, схватил за руку.
— Чего? — бесновался тот. — Еще не все!
— Извините! — красный от возбуждения и стыда, бормотал отец, ни на кого не глядя, и оттаскивал упирающегося сына. — Извините, товарищи, простое переутомление.
— Ах, тебе за меня стыдно? Ему за меня стыдно! — крикнул Сергей в толпу.
Прохожие, не рискуя приближаться слишком близко, переглядывались между собой, они не понимали еще, что происходит: трагедия или фарс.
— Прошу вас, прошу вас, это не опасно, — говорил отец невесть что.
— Ему за меня стыдно! — сиял идиотской улыбкой Сергей. Отбивался, изворачивался лицом к свидетелям позора, но шел, позволял увлекать себя все дальше и дальше.
Отец затащил его в ближайший двор и тянул, не зная, где укрыться.
— Тебе еще не так стыдно будет, когда меня посадят! — брызгал слюной Сергей. — Когда мне вышку дадут. Вышку мне дадут, вышку! Я, может, человека убил!
— Негодяй!
Отец ударил по щеке. С ненавистью.
Сергей шатнулся, замолк.
А отец повернулся и пошел прочь. Потрясенный несчастьем, униженный злобным фиглярством сына, растерзанный болью, едва разбирал он дорогу и только одно понимал: прочь от толпы, от улицы, забиться в угол, спрятаться, исчезнуть, никого не видеть и не слышать. Перешагивал через какие-то плиты, прыгал через канаву, между сложенными одна к другой металлическими рамами пролезал, уворачивался от колес панелевоза, который обдал лицо горячей дизельной гарью. Узкие, заставленные с обеих сторон бетонными блоками и трубами проезды были разбиты машинами до глубоких, заполненных грязью рытвин. Михаил Павлович, боком пробираясь по обочине, влез в этугрязь по самые щиколотки, но не охнул, равнодушно только отметил, как проникла, затекла в правый ботинок холодная жижа, выпрыгнул на сухое. Здесь тоже были люди: строители.
Один, в подшлемнике с белой шнуровкой и ватнике, стоял, опираясь на отбойный молоток, другой, откинув полы синего плаща, опустился возле самого низа стены, в руках у него был мел. Они уставились на Михаила Павловича с мимолетным недоумением. Отвернулись и забыли, занятые своими проблемами.
— Сегодня кончишь, — сказал тот, что чертил по бетону небольшой прямоугольник.
— Этим бы молотком да проектировщиков по голове! — сказал рабочий в подшлемнике. — За что они деньги получают?
— Я тебе Клепкова пришлю, не стони! — поднялся с колен второй, пошлепал ладонями, отряхивая их от мела.
— Марка пятьсот, — возразил первый, — пушкой не возьмешь!
— Я тебе Клепкова пришлю! — упрямо повторил тот, что был в синем плаще и белой рубашке с галстуком.
Тупо слушая бессмысленный этот разговор, Михаил Павлович вздрогнул, когда ощутил прикосновение. Это был Сергей. Михаил Павлович не удивился.
Потом Сергей сидел у подножия коричневого холма, маленький, слабый, и плакал. Михаил Павлович стоял рядом. Гора шлака отделяла их от стройки, где возвышался незаконченный дом, двигался, вытягивал в стрелу кран.
— Прости, сынок, — сказал отец тихо. — За то прости, что я тебя ударил.
Сжавшись, Сергей обхватил голову руками, упрятал лицо в коленях, и как он реагирует, что думает, понять было невозможно. Но Михаил Павлович и не ждал ответа, он сам с собой разговаривал.
— Мне стыдно, — сказал он и губу закусил, чтобы удержать слезы. — Мне действительно стыдно, что я тебя ударил, потому что ударил не за старика, не за твое преступление, а за то, что я сам испугался. Я понял это, и мне стыдно, — снова вздохнул он судорожно и вынужден был несколько мгновений молчать. — Это нужно было понять, и сказать, и признаться, потому что… потому что надо же с чего-то начать. Дальше так не может продолжаться, ломать все надо, ломать и заново начинать. Заново. Я хочу, чтобы ты слышал: я сегодня струсил в милиции, просто струсил… Ты слышишь?.. Я им неправду сказал про эту дурацкую записку, солгал от страха, что на работу сообщат. Очень струсил… очень… На работе сидел сейчас — сердце схватило. Нитроглицерин вот…
Он достал маленькую пробирку с таблетками, показал. Но Сергей головы не поднял, плечи его чуть заметно вздрагивали.
— А из-за чего? — говорил отец. — Из-за чего?
Фыркнул раз, другой, и громко и часто заработал компрессор, а потом почти сразу же застучал отбойный молоток. От дробного стука Михаил Павлович сморщился, закрыл глаза и веки с силой стиснул, испытывая физическое страдание. Отскакивая от камня, высекая искры, сталь звенела на одной пронзительной, нескончаемой ноте, и от этого вибрировали нервы, связки, кости, мозг.
— Из-за чего все это? — повторил Михаил Павлович с болезненной гримасой. В страшном шуме ничего нельзя было разобрать, он нагнулся и прокричал, напрягаясь, чтобы сын мог слышать.
— Зачем вся эта мышиная возня? Кто будет заведующим отделом?! Я буду! Я буду заведующим отделом. А зачем?.. Наш институт в прошлом году… на рубль затрат обеспечил 87 копеек экономического эффекта… Институт закрывать с такой работой надо! Целиком! Со всеми отделами, секторами, должностями и окладами… А мы как будто не видим… самого главного… На главное нет времени…
Молоток замолк, и, ошарашенный внезапной паузой, замолчал Михаил Павлович. Потом сказал:
— Я ведь тебя по-настоящему не любил.
— Нет, не то, — стиснул виски, зажмурился отец, — не то говорю, просто…
Слова его снова поглотил воющий стук молотка. Михаил Павлович переждал немного, но звон не прекращался, и он, набрав воздуху, прокричал:
— Просто нет времени тебя любить!.. Вот что правда! — Кричать можно было только совсем короткими фразами, отсекая подробности, которые все равно нельзя было бы понять в этой катавасии. Только самое главное нужно было кричать, самое простое и важное. — Это страшно!.. На самое главное нет времени… Когда же остановиться?.. Чтобы во всем быть честным… Сосредоточиться на добром… понимаешь? Сосредоточиться!.. Мы все начнем заново… Все сломаем!.. Я тебя спрячу… К матери уедешь… Сколько лет не был… Просто посидеть рядом… успокоиться… сосредоточиться на главном…
Стук прекратился. Михаил Павлович, запнувшись, повторил:
— Я тебя спрячу.
И оттого, что сказал он это нормальным человеческим голосом, в котором можно было различить оттенки и чувства, в словах его послышалось отчаяние.
Сергей покачал головой и просто сказал:
— Я сейчас в милицию пойду.
Снова все потонуло в грохоте. Сергей молчал, не пытаясь перекричать оглушительную дробь молотка, и только когда отбойник замолк, когда рабочий отложил тяжелый инструмент, опустился на колено и, разглядывая неглубокую выбоину в бетоне, дрожащими, полускрюченными еще, застывшими в напряжении пальцами поправил мокрую прядь волос, Сергей тихо продолжил:
— Я не могу понять, как это все случилось. Когда… Когда я бил… Когда мы били старика… Мы его избили, папа, ни за что… Когда мы били старика… Мы избили его, как последние… подонки… Я уже тогда понимал, что происходит что-то ужасное… Как будто во мне что-то остановилось… Где-то глубоко-глубоко что-то замерло… Застыло, стиснулось… не знаю… Что-то такое маленькое внутри… Понимаешь, если бы я не промолчал, когда Хава предложил: давайте садик почистим! — ничего бы не было. Это точно. Это наверняка! Если бы, ну, хоть что-нибудь сказал… даже не очень решительное, промычал бы что-нибудь, проблеял бы или гавкнул — все равно — хоть что-нибудь сказал бы в ответ, ничего бы не было. Это точно! Главное, чтобы не катилось все само собой, как-нибудь, безразлично… Я тогда промолчал, и с той минуты… с той минуты…
Сергей так и не смог выговорить, что началось с той минуты. Махнул рукой, замолк, глаза его наполнились слезами.
— Пап, — сказал он и всхлипнул, — пап, как хорошо, что я могу тебе во всем признаться… Что есть кому признаться. Невмоготу молчать. Потому что… Потому что сам себе противен… Я в милицию пойду.
Сергей закрылся руками и зарыдал. Несмело, словно опасаясь, что сын оттолкнет, Михаил Павлович коснулся его плеча, провел ладонью по мокрой щеке, погладил волосы.
Грянуло «Прощание славянки». За высоким, но небрежно, с большими щелями сколоченным забором, который отделял стройку от улицы, шли призывники. Они шли под музыку нестройной колонной, сосредоточенные, серьезные, не глазели праздно по сторонам. Все громче и громче слышался оркестр, и вот уже могучие, щемящие звуки заполнили все вокруг.
Стало уже совсем темно, но никто не уходил. Они так и сидели все вместе на одной лавке перед входом в милицию — отец и мать Маврина, Михаил Павлович, отец Чашникова. Молчали.
Ира, присев на корточки, рисовала на асфальте.
Вышел капитан, хлопнул дверью, сбежал по ступенькам. Маврина встала. Капитан мельком взглянул и дальше пошел.
— Зря суетитесь, мадам, — сказал Чашников, — ОБХСС.
Чашников оказался невысоким, сухоньким мужичком. Совсем мальчик с виду, если бы не лицо, глубоко изъеденное морщинами.
Маврина садиться не стала.
— Есть ходы, — сказала она, понизив голос, — к одному человеку, но это будет стоить. Вы меня понимаете?
После тягостного молчания решился спросить Чашников:
— Что там еще за человек?
— Неужели думаете, я Вам это скажу?
Чашников презрительно скривился:
— В эти цацки сами играйте! Сколько заработали — столько получат. Мой-то уж не отвертится! — сплюнул и задумчиво растер туфлей свой плевок.
— Не понимаю, зачем нам ссориться? — не унималась Маврина. — В конце концов, есть какие-то общие интересы. Я, например, считаю, то есть совершенно убеждена, что вина, если разобраться, лежит на стороже… Взрослый человек! Пьет, ведет за собой! Вместо того, чтобы остановить несмышленышей, практически потакает им. Уверена, что любой объективный суд должен это учесть. Если только будет желание разобраться! Нужно твердо, принципиально, с самого начала заявить наше мнение. Наше общее мнение. Написать прокурору: так и так, мол1 Именно твердо! Такую бумагу вы подпишите? Прокурору?
Чашников пожал плечами:
— Про сторожа? Какая разница, подпишу.
— А вы? — обратилась она к Михаилу Павловичу.
— Но ведь, — слабо возразил тот, — мы даже не знаем, пришел ли старик в себя.
— Ой, ну что вы, — тонко улыбнулась Маврина, — понятно, что когда узнаем! Не сейчас же мы ее писать будем. Ну так как?
Заинтересовавшись какой-то важной, значительной интонацией в голосе тети, Ира подняла голову, посмотрела на отца и на чужих.
Взрослые молчали.
Суд состоялся в середине лета. Он определил окончательное наказание по статьям — 201 части 2, 96 части 1, 87 части 2 Уголовного кодекса БССР: Чашникову Юрию Петровичу — 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима, Саковичу Сергею Михайловичу — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима, Маврину Дмитрию Альбертовичу — 2 года лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.
Семен Трофимович лежал в больнице больше месяца. Потом выписался, но чувствовал себя по-прежнему плохо, часто случались обмороки. Через восемнадцать дней после суда над Чашниковым, Саковичем и Мавриным Семен Трофимович умер.
Данил Корецкий
ЗАДЕРЖАНИЕ
Глава первая
К окраине городские огни редели, в районе аэропорта от сплошной электрической россыпи оставались отдельные, беспорядочно разбросанные на темном фоне светляки; тем отчетливей выделялась параллельная курсу взлетающих самолетов цепочка ртутных светильников над Восточным шоссе, которая пронизывала широкое кольцо зеленой зоны и обрывалась перед традиционным жестяным плакатом «Счастливого пути!».
Здесь покидающие Тиходонск машины врубали дальний свет и на разрешенных сорока прокатывались мимо стационарного поста ГАИ, чтобы, оказавшись в черном желобе отороченной лесополосами трассы, ввинтиться наконец с привычной скоростью в упругий душный воздух.
Сейчас высоко поднятая над землей стеклянная будочка пустовала. Не знающие об обязательности ночных дежурств, с облегчением нажимающие акселератор водители не придавали этому значения, как не обращали внимания на проскальзывающие в попутном направлении радиофицированные машины с номерами одинаковой серии.
Скрытые от посторонних глаз события этой ночи становились явными только через восемнадцать километров, там, где половину трассы перегораживал желто-синий «УАЗ» с включенным проблесковым маячком, мельтешили белые шлемы и портупеи.
Видавший виды нелюбопытный «дальнобойщик», привычно повинуясь отмашкам светящегося жезла, выводил свою фуру на встречную полосу, объезжая яркое световое пятно, в котором мельком отмечал косо приткнувшуюся к обочине «шестерку» еще одного глупого частника, на своем опыте убедившегося, что ночная езда таит гораздо больше опасностей, чем преимуществ.
А другие глупые частники, завидев беспомощно растопырившуюся дверцами легковушку, примеряли ситуацию на себя, до предела снижали скорость, обращая бледные встревоженные лица к скоплению служебных машин, к занятым не поддающейся беглому пониманию работой людям в форме и штатском, но резкие взмахи жезлов и злые окрики затянутых в черную кожу гаишников заставляли их топить педаль газа и восполнять недостаток увиденного предположениями, среди которых было и успокаивающее — о происходящей киносъемке.
Действительно, софиты и яркие прожектора на восемнадцатом километре присутствовали и, подключенные к упрятанным в спецмашины генераторам, ослепительно высвечивали белый порошок безосколочного стекла на жирном черном гудроне, впечатанные в него обкатанные кругляши гравия, потеки мазута, камешки и блестящие латунные цилиндрики, каждый из которых Сизов обозначал бумажными трафаретками с аккуратно вырисованными цифрами. И съемка действительно велась, только не кинокамерой, а тремя фотоаппаратами и видеомагнитофоном.
Щелк, щелк… Откатившийся к самой кромке трассы жезл регулировщика — точь-в-точь как те, которыми размахивают ребята из группы заграждения и которые никто не думает фотографировать. След рикошета на лоснящемся асфальте, рваный клочок металла с остатками желтой автомобильной краски, темные, сливающиеся с фоном пятна — еще одну лампу сюда, нет, в самый низ и поверни, под косым углом — щелк, щелк…
Исторгнутые из окружающего мрака мириады комаров и мошек загипнотизированно роились в неожиданном море света, кусали, норовили залезть в нос, уши, глаза. Когда Сизов устанавливал последнюю трафаретку, копошащаяся масса облепила лицо, вгрызлась в губы и веки. Освободив руки, он резко выпрямился, хлестнул по щекам, размазывая катышки напитавшейся кровью слизи, брезгливо полез за платком.
Щелк — гильза под каллиграфически выписанным номером: семнадцать, щелк — непонятная выщерблинка, шелк, щелк…
Вспышки блицев били по слезящимся от тысячеваттных ламп глазам, усиливая раздражение. Он закрылся ладонью, попятился в тень, отвернулся к шелестящей лесопосадке и, ничего не видя, уставился в темноту.
Со стороны распахнутой, точно на секционном столе, машины доносились лающие команды Трембицкого: «Камеру ближе! Доктор, мешок… Лицо — крупно! Странгуляционная, что ли? Шею давай!»
Отснятые материалы увидит ограниченный круг людей, в конечном счете они навечно осядут в архивной пыли рядом с пухлыми картонными папками, помеченными зловещим красным ярлычком — СК. Сизов еще не знал, какого объема будет дело, сколько фамилий напишут на обложке, но очень отчетливо представил стандартный бумажный квадратик в правом верхнем углу, обыденно-канцелярский вид которого не соответствует исключительности того, что он обозначает: смертная казнь. Раньше писали: ВМН — высшая мера наказания, сути это не меняло.
— Что высматриваете в роще?
Мишуев подошел, как всегда, неожиданно.
— Все гильзы отыскали?
— Семнадцать. — Сизов, щурясь, повернулся. — Утром будет видно — все или нет.
— Посмотрите на обочине, там могут быть еще…
Опытный человек, даже не заглядывая в багажник брошенной «шестерки» и не зная, что лежит на обочине под брезентом, мог предвидеть ядовито-красный ярлычок в конце работы, которая сейчас разворачивалась на восемнадцатом километре.
Об исключительности дела свидетельствовали многие внешние признаки.
Недаром столько машин, недаром собралось все руководство прокуратуры области и УВД, недаром начальник отдела борьбы с особо тяжкими преступлениями лично дает указания, а старший оперуполномоченный собственноручно отыскивает и нумерует гильзы.
Сизов выругался.
Считается, если все подняты по тревоге, задействованы лучшие сотрудники, начальство лично присутствует и осуществляет контроль — это и есть высшая организация работы. Только один человек на месте происшествия придерживался другого мнения. Он полагал, что для дела было бы гораздо полезней, если бы большинство присутствующих мирно спали в своих постелях, набираясь сил для завтрашнего: оценки ситуации, анализа фактов, логических выводов, принятия глобальных управленческих решений.
А сейчас что: информации — ноль, улики рассеяны… Собрать, зафиксировать, закрепить их — дело узких специалистов, и они занимаются своей работой: важняк областной прокуратуры Трембицкий, судебно-медицинский эксперт, два криминалиста. Чем им поможет многочисленное начальство?
Только следы затопчут!
Завтра утром восстановленная по крупинкам картина происшедшего попадет в справки и отчеты, из которых тот же прокурор области почерпнет куда больше полезной информации, чем из собственных отрывочных и бессистемных наблюдений. А отыскивать гильзы вполне мог молоденький сержант, для этого не нужны опыт и знания сыщика с двадцатилетним стажем оперативной работы.
Так думал майор Сизов, шаря по заросшей травой обочине лучом мощного фонаря и впустую напрягая уставшие глаза. Впрочем, многие считали, что характер у него тяжелый.
Очередной приближающийся по трассе автомобиль не среагировал на огненные отмашки поста заграждения, подкатил вплотную. Значит, свои. Разве кого-то еще здесь нет?
Сизов выпрямился, незаметно массируя одеревеневшую поясницу. Номер он разобрать не мог, но по движению среди прокурорского и милицейского начальства понял, кто прибыл на восемнадцатый километр, еще до того, как грузный Сергей Анатольевич выбрался наружу.
Вот уж кому сам Бог велел спать-почивать: осведомленность, достаточную для осуществления общего руководства, представит суточная сводка, положенная ровно в восемь на широкий полированный стол, а вникать в подробности куратору административных органов совершенно ни к чему. Но нет — презрел неудобства, окунулся в самую гущу событий, работает наравне со всеми. Правда, толку… Велика еще сила инерции, ой, велика!
«Отставить неуместную иронию!» — почти услышал Сизов излюбленный окрик Мишуева. Правда, его самого начальник до сих пор одергивать избегал.
Но, похоже, скоро начнет.
Откуда-то сбоку вынырнул Веселовский.
— Видели? — кивнул он в сторону неразличимых отсюда брезентовых холмиков. — Мясорубка!
Сизов пожал плечами.
— Дальность почти километр, мощность соответствующая. А тут — с десяти метров… — И без всякого перехода спросил:
— Глаза не болят?
— А чего им болеть? — удивился Веселовский. — Я как огурчик — даже спать перехотел!
— Может, тебя и комары не грызут? — брюзгливо спросил Сизов, расчесывая зудящую щеку.
— Грызут, сволочи, спасу нет! Почти всю кровь выпили.
— Ну то-то же, — нравоучительно пробурчал Сизов и попытался не щуриться.
— Наших можно увозить? — совсем рядом спросил начальник УГАИ.
— Еще немного, — резко ответил Трембицкий. — Доктор хотел посмотреть выходные…
Силуэт следователя напоминал вставшего на задние лапы волка.
— Привет, Вадим! — окликнул Сизов. — Скоро заканчиваем?
— Кто там? — рыкнул важняк, вглядываясь в темноту, и сделал несколько шагов вперед. — Ты, Игнат? — продолжил он обычным голосом. — Здорово!
Думаю, за час уложусь. Оставлю оцепление, по свету надо сделать дополнительный осмотр. Сейчас все равно ни черта не видно и спать охота. Комары еще проклятые…
Оборвав фразу, Трембицкий заторопился туда, куда переместились прожектора и софиты и где судебномедицинский эксперт уже поднимал брезент.
Потянуло холодным ветром, сильнее зашумела роща, и Сизов подумал, что, если оказаться здесь одному, этот шелест покажется зловещим.
Между деревьями мелькнул свет, желтый круг выплыл на обочину, увлекая за собой две темные фигуры.
— У нас появилась версия, что стрелять могли из засады в лесополосе…
Фигуры приблизились. Мишуев с тяжелым аккумуляторным фонарем в руке водил по месту происшествия Сергея Анатольевича и старательно изображал осведомленного, компетентного, активного руководителя. Иногда эта роль ему удавалась, особенно если зрители не были профессионалами. Осветив Сизова, подполковник запнулся.
— Вы нашли гильзы на обочине?
— Ни одной.
— Надо будет утром тщательно все прочесать.
Мишуев огляделся.
— Пойдемте, Сергей Анатольевич, осмотрим машину.
Сизов понял, что Мишуев прокладывает маршрут таким образом, чтобы не столкнуться с Трембицким. Следователь руководил осмотром и не терпел, когда кто-либо забывал об этом.
Начальство переминалось у своих машин, отмахивалось ветками от комаров, переговаривалось вполголоса.
Сизов подошел к стоящим в стороне сыщикам, вгляделся в огоньки сигарет, кое с кем поздоровался.
— Есть что-нибудь?
— Кажется, нет. — Фоменко протянул жменю семечек. Сизов покачал головой.
— Заедаешь?
Фоменко втянул голову в плечи и оглянулся.
— Слышно, да? Я ж дома, вечером, в постели, под одеялом, — шепотом зачастил он. — Кто ж знал, что ночью поднимут…
— И чего ж ты здесь наработал? — с явственно различаемым презрением спросил Сизов.
— А что, все нормально, я ж на подхвате — прожектор носил, шнуры наращивал…
— Полный ноль, — ни к кому не обращаясь, сказал Веселовский, неотрывно глядя в сторону вскрытой «шестерки». — Может, наш начальник что-нибудь сейчас отыщет…
Мишуев подвел Сергея Анатольевича к распахнутому багажнику, посветил внутрь, начал что-то объяснять, но Сергей Анатольевич внезапно отскочил в сторону, зажал рукой рот и, круто повернувшись, бросился в темноту.
Мишуев обескураженно замолчал, посмотрел туда, где находился начальник управления, потоптался на месте и нерешительно пошел следом.
— Перестарался, — сказал Фоменко. — Зачем непривычному человеку такое показывать?
— А то не знаешь, зачем, — проговорил Сизов и сплюнул.
Через некоторое время Мишуев и Сергей Анатольевич присоединились к группе руководителей. Мишуев говорил что-то громко и возбужденно, потом направился к сотрудникам своего отдела.
— Курите? А работы больше нет?
Чувствовалось, что всплеск активности призван загладить допущенную неловкость.
— Почему преступники бросили машину? Никто не знает! А между тем это важная деталь. Значит, что?
Подполковник требовательно посмотрел на Веселовского, потом перевел взгляд на Фоменко.
— Значит, надо выяснить: каково техническое состояние автомобиля, может ли он двигаться и так далее…
— Завтра этим займутся специалисты, — устало сказал Сизов.
Мишуев пренебрежительно отмахнулся.
— Кто ждет — никого не догонит! Фоменко, проведите проверку всех систем: запускается ли двигатель, есть ли ход, ну и тому подобное…
Исполнительный Фоменко, привычно пошмыгивая носом, отшвырнул брызнувший искрами окурок, подтянулся и застегнул пиджак, демонстрируя готовность к немедленным действиям.
— Наследит в кабине, сотрет отпечатки, — не скрывая раздражения, произнес Сизов. — Потом придется дактилоскопироваться да объясняться. К тому же машина заперта, ключ у Трембицкого.
Казалось, Мишуев услышал только последнюю фразу.
— Ладно, с прокуратурой спорить не будем. А то что не так — на нас свалят. Так, Игнат Филиппович?
Тон у начальника был почти дружеский и слегка сочувственный, будто Трембицкий всегда сваливал на Сизова всякую напраслину, а сейчас он, Мишуев, этому воспрепятствовал.
Сергей Анатольевич уехал первым, почти следом рванули машины прокурора области и генерала, потом уехали замы, начальники отделов.
— Даю лишний час отоспаться, а к десяти — все у меня, — отдал Мишуев последнюю команду и хлопнул дверцей.
Восемнадцатый километр пустел. Один за другим исчезали в ночи красные габаритные огоньки. Мягкие персональные «двадцатьчетверки» бережно несли к Тиходонску по одному пассажиру. Разбитые, пропахшие бензином «рафики» и «УАЗы» приняли в себя столько человек, сколько сумело втиснуться.
На въезде в город, перед плакатом «Добро пожаловать в Тиходонск», шоссе перекрывал шлагбаум, и мигающий красный светофор загонял машины в длинный контрольный коридор, начало и конец которого чутко стерегли спрятанные до поры под землей стальные шипы спецсистемы «еж». Вооруженные автоматами усиленные наряды проверяли документы водителей, иногда заглядывали в багажники. Действовал режим операции «Перехват».
Спецмашины не досматривали, и они без остановки прокатились между металлическими барьерами мимо стационарного поста ГАИ. В тускло освещенном аквариуме, как и положено, несли службу два дежурных инспектора дорожного надзора. Лиц их рассмотреть, конечно, было нельзя.
Глава вторая
В невод заградительных мероприятий попали два угонщика, «дальнобойщик», загрузивший свою фуру «левым» виноградом, восемь пьяных, водитель без документов на машину и владелец доверенности с просроченным сроком.
В дежурную часть Центрального райотдела доставлен двадцатишестилетний рабочий «Эмальпосуды» Сивухин, который в сильной степени опьянения угрожал перестрелять оркестр ресторана «Рыба» из автомата.
На развилке Восточного шоссе и московской трассы автомобиль «Волга»-такси на большой скорости проследовал мимо передвижного заградительного поста, не подчинившись сигналу остановиться. Лейтенант Нетреба произвел четыре выстрела из автомата, ранив водителя в нижнюю челюсть.
Пассажиры не пострадали. Начато служебное расследование правомерности применения оружия.
Утром, когда информация о событиях прошедшей ночи легла в суточную сводку происшествий, можно было сказать, что розыск «по горячим следам» результатов не дал: лица, причастные к преступлению на восемнадцатом километре, не установлены, угнанный автомобиль ГАИ не обнаружен. Оперативка у Мишуева началась только в одиннадцать. Ожидая начальника, сотрудники отдела борьбы с особо тяжкими преступлениями расселись в его просторном недавно отремонтированном кабинете, сплошь обшитом светлой полировкой.
Раньше достопримечательностью этого помещения был огромный дореволюционный несгораемый шкаф французского производства с патентованными запорами, секретными блокировками и часовым механизмом, гарантирующим защиту от самых квалифицированных «медвежатников». В новый интерьер бронированный монстр не вписался, по команде Мишуева два десятка пятнадцатисуточников, сдавленно, но внятно матерясь, уволокли его в подвал, где он дожидался в лучшем случае вечного забвения, а в худшем — острых расчленяющих факелов синего автогенного пламени. Место уникального сейфа занял типовой «шкаф металлический канцелярский», удачно уместившийся в мебельной стенке между отделением для одежды и книжными полками с традиционными собраниями сочинений классиков.
Сизов, ставящий надежность и основательность несравненно выше преходящих красивостей моды, никогда бы не совершил подобного обмена. Он сидел на торце длинного приставного стола и, чуть склонив голову, смотрел на горячо обсуждающих вчерашнее происшествие Губарева и Фоменко. Приобретенная за многие годы оперативной работы способность ухватывать главное во внешности, манере поведения человека и обозначать его суть красноречивым псевдонимом, отражающим индивидуальность безымянного до поры до времени фигуранта, высветила в сознании подходящие псевдо: Двоечник и Гильза.
Причиной первого была вечная виноватость Фоменко: заискивающая скороговорка, уклонение от любого спора, куриная привычка втягивать голову в плечи. Правда, так он держался в основном с начальством, иногда — с коллегами, а когда встречался с блатными, стереотип поведения резко менялся: развинченная дерзость, стремительные угрожающие движения, обильный жаргон.
Почему Губарев ассоциировался с гильзой, Сизов объяснить бы не смог.
Очевидно, дело в широких прямых плечах и некоторой округлости тела, обещающей к сорока годам легкую полноту.
Сам Сизов, худощавый, костистый, с изборожденным морщинами загорелым лицом, крючковатым носом и цепким холодным взглядом маленьких желтоватых глаз, напоминал хищную птицу и вполне мог бы получить псевдо Гриф, если бы у него уже не было другого прозвища.
За две минуты до начала совещания в кабинет ворвался запыхавшийся Веселовский — сильный, тяжелый и пробивной, как метательный молот. Ему повезло: Мишуев не терпел опозданий и неблагодарности, а он совместил эти грехи, не сумев довольствоваться дополнительным часом отдыха.
— Что нового? — спросил Веселовский, не успев плюхнуться на стул, но ответа не получил, потому что наконец-то появился хозяин кабинета.
— Не извиняюсь за задержку, все заседание руководства было посвящено вчерашнему происшествию, — на ходу сообщил он и, с озабоченным видом обойдя приставной стол, опустился на свое место. — Вы все включены в состав оперативно-следственной группы…
Фразы получались значимыми и весомыми — сказывалась многолетняя тренировка. Имиджу Мишуев придавал большое значение. В любую жару ходил в костюме и галстуке, подчеркивая принадлежность к клану руководителей, имеющих отдельные кабинеты с кондиционерами. Держался вальяжно — неторопливо и очень уверенно. Правда, лицо было простоватым: маленький острый носик, выцветшие дугообразные брови, глазки-буравчики, тонкие губы.
Но с тех пор, как руководителей перестали выводить, словно особую породу, в лицеях да закрытых корпусах, простецким лицом никого не удивишь.
— Сейчас я изложу обстоятельства дела, которые были обсуждены на совещании у генерала…
Говорил начальник отдела хорошо поставленным голосом, напористо и энергично. По мнению Сизова, умение убедительно докладывать и красиво выступать на собраниях явилось главным фактором его успешной карьеры. А неспособность анализировать обстановку и избегать стереотипов поведения помешала стать настоящим руководителем сыщиков.
Сизов мог быть субъективным, но сейчас Мишуев действительно тратил время зря: сотрудники уже прочитали в сводке все, о чем он рассказывал.
Подполковник говорил только для Веселовского, который с интересом следил, как кусочки мозаики восемнадцатого километра складываются в целостную картину. Но именно этот интерес и выдавал его с головой, а неумение Мишуева просечь, что лежит в основе такой заинтересованности, подтверждало мнение Сизова. Закольцевав цепь своих умозаключений, Игнат Филиппович Сизов, известный в уголовном мире под прозвищем Старик, удовлетворенно откинулся на спинку стула.
— Работники ГАИ действовали профессионально неграмотно: их не насторожило упорное нежелание останавливаться, отчаянные попытки уйти от погони, они продолжали думать, что имеют дело с обычными нарушителями, и не приняли мер предосторожности…
Казалось, что сейчас Мишуев предложит наложить на убитых дисциплинарное взыскание.
— И вот результат — Мерзлов застрелен, как только вышел из машины, Тяпкин получил смертельное ранение, но сумел отбежать на обочину и дважды выстрелить. Похоже, мимо…
Мишуев сделал паузу, осмотрел всех по очереди — внимательно ли слушают.
— Преступники захватили патрульный автомобиль и скрылись. На месте происшествия найдено семнадцать гильз от автомата Калашникова. В багажнике брошенной машины обнаружен труп неизвестного мужчины с ножевым ранением в спину.
Мишуев налил полстакана крепкого чая из маленького потертого термоса, со вкусом отхлебнул.
— На моем веку такого еще не было, — сказал Веселовский. — Ну и дела!
Автомат, два убитых сотрудника, третий труп в багажнике… Как в Сицилии!
Мишуев отставил стакан.
— Что ж, с легкой руки Веселовского назовем розыскное дело «Сицилийцы». Но я жду от вас более плодотворных идей.
Мишуев вновь оглядел подчиненных.
Фоменко усиленно морщил лоб и писал что-то в большом отрывном блокноте. Веселовский напряженно постукивал пальцами по столу. Губарев рассматривал новенькую японскую авторучку. Сизов продолжал сидеть в прежней позе, никак не обозначая своей деятельности.
— Преступление необычайно тяжкое, вызывающее, оно поставлено на контроль там… — Мишуев показал пальцем вверх, где находился высокий чердак с узкими сводчатыми оконцами и где заведомо никто ничего поставить на контроль не мог, потому что обитая железом чердачная дверь была постоянно заперта на огромный замок. Сизов скучал и ожидал момента, когда каждый получит свою линию работы и можно будет разойтись по кабинетам.
— Мы должны раскрыть его любой ценой в ближайшее время! И я хочу, чтобы все это уяснили!
Начальник обращался преимущественно к бездельничающему Сизову, как будто зная, о чем думает старший опер.
А думал Старик о том, что через два месяца Мишуев должен убывать на учебу в академию с перспективой дальнейшего роста. И конечно, хотя никакое преступление, даже самое тяжкое и вызвавшее большой общественный резонанс, этому теоретически не помеха, в реальной действительности при зависших «сицилийцах» генерал его никуда не отпустит. Значит, год псу под хвост, а как сложится через год — тоже неизвестно… Хотя, наоборот, известно! Ведь ему сорок один — предел по возрастным ограничениям. Последний шанс!
— Больше месяца нам никто не даст! — сказал, как отрубил, начальник отдела.
Сизов усмехнулся. Действительно, надо раскрывать за месяц. А если не будет раскрываться?
— Что здесь смешного, Игнат Филиппович?
— Да это я так… К началу учебного года можем и не успеть…
Мишуев помолчал, потом ехидно улыбнулся.
— Лишь бы до пенсии успели.
Сизов отметил, что за последние годы подполковник научился владеть собой. А когда пятнадцать лет назад желторотый лейтенант Мишуев проходил у него стажировку, то багровел и срывался на крик от любого пустяка. Да и потом невыдержанность вписывалась ему в аттестацию неоднократно.
— Переходим к распределению обязанностей. — Голос Мишуева был спокоен. — Веселовский занимается брошенным автомобилем — судя по номерам, он из Краснодарского края, и следами на месте происшествия. Фоменко работает по розыску угнанной машины ГАИ. Сизов отрабатывает труп в багажнике.
Установить личность, проверить образ жизни, круг занятий, выяснить привычки…
Наверное, ему доставляло удовольствие растолковывать бывшему наставнику элементарные вещи, но Сизов не выдержал:
— Товарищ подполковник, вы так подробно инструктируете меня, потому что я самый молодой? Или наименее опытный?
Мишуев изобразил удивление.
— Помилуйте, Игнат Филиппович! Мы уважаем ваш опыт, но речь идет о серьезной работе. Зачем же демонстрировать амбиции? Но раз вы считаете себя самым умным…
Мишуев обиженно пожал плечами.
— Губарев ищет очевидцев — может, кто-то проезжал в то время по трассе, стоял на обочине, ремонтировался… Понимаю, надежды мало, но надо использовать все шансы!
Подполковник оглядел сотрудников еще раз.
— Вопросы есть? Нет. Через час представить планы работы. Сейчас все свободны. Веселовский, вы задержитесь…
Фоменко первым выскочил в двойную полированную дверь, лихорадочно закурил и медленно, поджидая остальных, побрел по обшитому под дуб коридору.
— Кто же так останавливает подозреваемых? — на ходу возмущался Губарев. — Надо было приготовить оружие, один вышел к машине, а второй прикрывает…
— Ты думаешь, они за преступниками гнались? — обычной скороговоркой спросил Фоменко, с силой выпуская табачный дым из угла искривленных губ.
— Они за червонцем гнались! Правильно, Игнат Филиппович?
Дерганый, нервный, Фоменко был знаменит тем, что за двадцать лет работы в розыске самостоятельно не раскрыл ни одного преступления. Он объяснял это невезением и давней травмой черепа. Травма действительно имела место, причем в связи со службой, соответствующая запись в послужном списке выполняла роль индульгенции. Впрочем, и для начальства он был удобен.
— Не знаю, — ответил Сизов и ловко завладел большим отрывным блокнотом. — Лучше покажи, что ты так старательно записывал?
На заложенном карандашом листе были коряво нарисованы машина, автомат и две фигурки, пересеченные точками. Кроме того, раз двадцать написано слово «ду-ра-ля».
— Да это я так, — привычно скривив губы, пояснил Фоменко. — Чтоб шеф не пристебался. Чего писать — дело ясное! Если б он сказал, где искать эту машину!
— Через пару часов спустись в дежурку и узнаешь.
— Думаете, найдут? Ну вы даете, Игнат Филиппович! Если опять угадаете, с меня бутылка! Распишу план — и все!
«Задушевные» разговоры Фоменко вел особым, с хрипотцой и надсадой, «блатным» шепотом, приближая лицо вплотную к собеседнику.
Губарев отпер полированную дверь. За ней дубовопанельное великолепие заканчивалось: предполагалось, что марафет в кабинетах оперсостава наведут во вторую очередь, в неопределенно-ближайшем будущем. Тусклые панели, растрескавшиеся потолки, унылая канцелярская мебель с инвентаризационными бирками из белой жести, непременные сейфы и решетка на окне.
Таких одинаково безликих комнат насчитывалось в Тиходонской области около трехсот, по стране — тысячи. Они образовывали единую сеть, процеживающую через себя горе и боль одних людей, коварство и жестокость других. Истории, которые приходилось здесь выслушивать, не располагали к мечтательности и сантиментам, поэтому обитатели их отличались резкостью, решительностью, жесткостью и грубоватой прямолинейностью. Эти качества, старательно ретушируемые в книгах и фильмах про сыщиков, позволяли им успешно противостоять тем, кто затевал примитивно-кровавые «дела» в заплеванных притонах или на тюремных нарах, тем, кто строил хитроумно обдуманные планы в купленных на общак особняках, словом, всему не признаваемому пока официально, но от того не менее опасному преступному миру — от мелкой уголовной шелупени до авторитетных воров в законе.
Сизов прошел к своему столу, сел, вытащил из календарной подставки лист бумаги.
— Сразу за план? — с уважением спросил Фоменко, пристраиваясь на подоконнике. — Я докурю и тоже пойду…
Но идти работать ему не хотелось, и он озабоченно поинтересовался у задумавшегося Сизова:
— Как же вы его будете устанавливать? По пальцам? А если в картотеке ничего нет?
«Они ничего не поняли, — подумал Сизов. — Губарев по неопытности, Фоменко по глупости. Разве что Веселовский… Тоже вряд ли. Но ему-то шеф растолкует, что к чему…»
— Чего его устанавливать, — вслух произнес Сизов. — Это хозяин машины… — Он взялся за телефон.
Губарев перестал перекладывать в сейфе картонные папки оперативных материалов.
— Почему? Может, хозяин сидел за рулем? А может, машина угнана, а труп случайный?
— Если бы хозяин сидел за рулем, они не подняли бы сразу стрельбу, вначале попытались бы договориться. И потом — труп голый, уложен в специальный мешок, к ногам привязан камень — значит, готовились убить — и концы в воду!
— А чего, правильно, — горячо зашептал Фоменко. — Все сходится…
Губарев пожал плечами.
— Если так, то почему начальник поручил такую простую линию вам?
«Молодец, парень, в самую точку, — подумал Сизов. — Потому что настала пора показать: Сизов выработался и ни на что больше не годен».
— Не знаю, — ответил он, набирая код Красногорска.
Когда Веселовский остался с Мишуевым наедине, тот жестом предложил садиться поближе, тяжело вздохнул, ослабил узел галстука.
— Александр Павлович, в этом розыске я целиком полагаюсь на вас.
Веселовский смешался.
— На меня? Я, конечно… Но почему?
— Объясню. Фоменко не хватает цепкости и настойчивости. Губарев молод, работает в областном аппарате без году неделя. Кто остается? — Мишуев смотрел выжидающе, и чувствовалось, что он знает, каким будет ответ.
— Как — кто? А Сизов?
Мишуев опять тяжело вздохнул и развел руками.
— Да, Сизов… Громкие дела, блестящие результаты, феноменальная способность прогнозировать развитие событий, неумение допускать ошибки. В управлении его прозвали «сыскной машиной», его имя так обросло легендами, что разглядеть за ними реальность довольно трудно.
Мишуев поднялся, обошел стол и сел напротив Веселовского, создавая непринужденную обстановку товарищеской беседы.
— А реальность эта весьма печальна. Сизову пятьдесят три, пенсия на носу, и все, что было, в прошлом. Он хорошо работал, он взял Великана, ликвидировал группу Шебалина, но это уже история. Да, я стажировался у него зеленым юнцом пятнадцать лет назад, но сейчас я — начальник отдела, подполковник, а он так и остался старшим оперуполномоченным, майором. А почему? Отсутствие гибкости, неумение строить отношения с руководством, неумное ерничество. И вот результат — поезд ушел. Кстати, и прежних результатов в последние годы уже нет.
— А ровеньковская сберкасса?
Мишуев небрежно взмахнул рукой.
— Там больше сделали ребята из райотдела. Одним словом, Сизов выработал свой ресурс. Поэтому я и определил ему легкую линию розыска, пусть спокойно проводит время до пенсии. Мы же должны оберегать ветеранов!
Мишуев снова встал и возвратился на свое место.
— Самая перспективная линия работы — у вас. Если постараетесь, обязательно получите хороший результат. А успех поднимет на ступеньку выше других. В связи с моим отъездом в академию ожидаются некоторые перестановки. Я думаю рекомендовать вас начальником отдела.
Мишуев наклонился вперед и перешел на доверительный тон.
— Так что вы, как и я, заинтересованы в скорейшем завершении этого дела. И в том, что наши личные интересы совпадают со служебными, ничего плохого нет, скорее наоборот. Вы со мной согласны?
Веселовский ошарашенно молчал, потом, опомнившись, кивнул.
— Согласен. Постараюсь оправдать доверие.
Голос у него был несколько растерянным, но Мишуев не обратил на это внимания.
— Ну и отлично. А теперь запишите про запас секретный ход. Записывайте, записывайте, — доброжелательно поторопил подполковник замешкавшегося сотрудника. Он видел, что сделанное предложение выбило Веселовского из колеи, и был рад этому: значит, заглотнул наживку, теперь будет землю рыть…
Веселовский приготовил записную книжку.
— Сивухин Алексей Иванович, — неторопливо, со значением, продиктовал Мишуев. — Рабочий «Эмальпосуды». На днях грозил расстрелять из автомата оркестрантов в ресторане «Рыба». По пьянке, конечно. Но что у трезвого на уме… Может, у него есть из чего стрелять?
Веселовский записал, но на лице его отчетливо отразилось сомнение.
— Я поручил Центральному райотделу собрать материал и оформить его по двести шестой, второй. Проследите за этим. А потом мы с ним поработаем по автомату «сицилийцев»…
Сомнение на лице Веселовского не исчезло. Неужели шефу не ясно, что это заведомо дурная работа? Мало ли кто что болтает, когда напьется! Но, с другой стороны, Мишуев ничего не делает зря… Значит, у него свои резоны. Что ж, начальству видней!
— Понял, — медленно произнес он и громко, уже без колебаний повторил:
— Все понятно, товарищ подполковник!
— Имей в виду, что для райотдела это мелочевка, могут не захотеть возиться, а карты имраскрывать я не хочу. Поэтому контролируй лично, если надо — сам подключись, но добей до конца. Проверь, как ведет по месту жительства, да и в ресторане он наверняка не первый раз скандалит… В общем, надо собрать все что можно! Но это запасной ход. Главное, конечно, машина и место происшествия. Работай в контакте с Трембицким, если надо — давай поручения Фоменко. Сумеешь отличиться — назначу старшим группы. Ясно?
Веселовский встал и принял стойку «смирно». Раньше он никогда этого не делал.
— Все ясно, товарищ подполковник! Разрешите идти?
— Идите.
Веселовский четко, как на строевом смотре, повернулся через левое плечо и почти строевым шагом пошел к двери.
Мишуев проводил его внимательным взглядом.
Глава третья
Предположения Сизова подтвердились: машину ГАИ обнаружили в тот же день брошенной в районе узловой железнодорожной станции за сто километров от Тиходонска. А в багажнике «шестерки» находился ее владелец Сероштанов — официант одного из красногорских ресторанов.
— Ну дает, Игнат Филиппович! Как загадает, так и выходит! — блатным шепотом выразил свое восхищение Фоменко. — В получку ставлю бутылку, как обещано!
Сизов съездил в Красногорск, побывал в расположенном на острове некогда модном, а ныне впавшем в запустение ресторане, где количество ежедневных драк превосходило число блюд в меню, опросил коллег убитого, потом переговорил с его соседями, родственниками, зашел в горотдел. Перед отъездом купил две палки копченой колбасы — снабжение здесь было получше.
Тиходонск встретил обычными для лета пыльными бурями и отсутствием новостей. Тонкая пачечка протоколов, привезенная Сизовым в видавшей виды кожаной папке, тоже не содержала ничего интересного. И хотя это обычная ситуация для первого этапа розыска, факт оставался фактом: выполнив все что положено, старший опер Сизов доказательственной информации не добыл, а значит, оказался в тунике. Никого не интересует, что место в тупике предопределено с самого начала отведенной ему линией розыска, да и оправдываться, ссылаясь на это, глупо — получится, что «плохому танцору всегда что-то мешает». Но Сизов никогда не оправдывался. И никогда не оставался в положении, в которое его ставила чужая воля.
Сидя за своим столом, Старик меланхолично жевал бутерброд с привезенной колбасой и сквозь решетку смотрел во внутренний двор управления, где стоял серебристый «Мерседес», изъятый у крупного деловика, возглавлявшего подпольный пушной цех. Губарев, который лихо расправлялся с бутербродами и одновременно нагревал кипятильником воду для чая прямо в стаканах, считал, что старший товарищ обдумывает хитроумные планы поимки «сицилийцев».
На самом деле Старик думал, что какая-то сволочь ободрала с арестованного «Мерседеса» никелированные фирменные цацки, а поскольку посторонние здесь не бывают, значит, это дело рук своей, милицейской, сволочи, точнее, твари, маскирующейся милицейским мундиром под своего. Скорее всего кого-то из сержантов дежурной смены.
Хорошо бы подловить пакостника и набить морду и, конечно, из органов — с треском. Но за это не уволят: мол, мелочь… А какая мелочь, если душа гнилая?
Допив чай, Сизов написал на листке календаря несколько адресов и фамилий, протянул Губареву.
— Поговори с ними аккуратно. Аккуратно, понял? Вначале от меня привет передай, это обязательно: так, мол, и так, Игнат Филиппович, Старик, про жизнь да здоровье интересуется… А потом про автоматы поспрашивай: где, что, у кого, разговоры там, слухи, предположения… И без всяких записей — люди этого не любят. А листок потом мне вернешь. Понял?
Губарев кивнул, похвалив себя за недавнюю проницательность.
— Что же ты понял? — с некоторой брюзгливостью спросил Сизов.
— Что надо сработать очень аккуратно, — смиренно, как и подобает старательному ученику, ответил Губарев, заглаживая развязную небрежность молчаливого кивка.
Сизов хмыкнул:
— Ну ладно, пошли.
Сбежав по широкой мраморной лестнице и отдавив тяжелую, украшенную бронзовыми щитами с мечами дверь, они окунулись в плотный разноцветный и шумный поток прохожих. В разгар рабочего дня по улицам города всегда катились толпы никуда не спешащих людей, стояли очереди у кинотеатров, не было свободных мест в кафе и ресторанах. Жители Тиходонска, служившего воротами Северного Кавказа и Закавказья, привыкли к такой особенности городской жизни, приезжие неизменно ей удивлялись.
Сизов и Губарев прошли по главной улице два квартала до перекрестка, где людская воронка засосала их под землю в длинный кафельный коридор, стены которого украшали мозаичные панно на исторические темы. Богато отделанные подземные переходы были еще одной особенностью Тиходонска.
Здесь Сизов, постоянно контролировавший обстановку вокруг, резко направился к сидевшему на холодном полу перед кепкой с несколькими медяками грузному человеку в клетчатой ковбойке, рукава которой были закатаны, чтобы обнажить розовые клешнеобразные культи.
Из щелок опухшего лица выглядывали безразличные ко всему глаза, но, когда Сизов подошел вплотную и, расставив ноги, сунул руки в карманы, взгляд инвалида приобрел осмысленность и колючесть.
— Подайте, Христа ради, начальничек, — привычно забубнил он и пошевелил клешнями.
Губарев пытался вспомнить статью, карающую за попрошайничество в общественных местах, и прикидывал, как сподручней выносить нарушителя, но Сизов, покопавшись в карманах, бросил в кепку несколько монет и, круто развернувшись, двинулся к выходу из перехода.
— Спаси вас Бог от ножа, пули, лихого человека, — облегченно заголосил инвалид.
Лейтенант догнал Сизова уже на лестнице.
— Он вас знает, что ли?
Сизов мотнул головой.
— Чувствует. Нахлебался…
Возле универмага сыщики расстались. Губарев направился к трамвайной остановке, а Сизов сел в троллейбус и через десять минут шел через небольшой сквер, неофициально называемый «клиникой», потому что вплотную примыкал к медицинскому институту.
Когда-то сквер был совсем другим — сплошь заросший бурьяном, лопухами, кустарником, вьющимся между деревьями диким виноградом, с замусоренными до непроходимости аллеями и старательно разбитыми фонарями. Под высокий кирпичный забор, огораживающий мединститут, были стащены скамейки со всей «клиники». Вечерами в непроглядной темноте, под тоскливый вой собак из вивария и бодрые ритмы джаза с танцплощадки соседнего парка имени Первого мая, именуемого всеми попросту «Майский», на этих скамейках шла насыщенная жизнь, ради которой их и тянули, сопя и чертыхаясь, в самое глухое и труднодоступное место.
Тогда не было баров и дискотек, плавучего буфета «Скиф» и видеосалонов, шальные деньги водились у немногих и тратились с опаской в специальных местах, нравы еще не успели испортиться и старая сотенная бумажка размером с носовой платок не могла служить универсальным ключом, открывающим любые двери. Развлечения были попроще и крутились вокруг «зверинца» — круглого бетонного пятачка, окруженного высокой решеткой, на которой, заплатив смехотворную по нынешним меркам сумму — трешку «старыми», можно было отплясывать шикарное танго и «развратный» фокстрот, а если франтоватые, держащие марку лабухи снизойдут к просьбам наиболее отчаянных голов и выдадут на свой страх и риск что-нибудь «ихнее», можно было подергаться под запрещенные ритмы, остро ощущая изумленные взгляды плотно обступившей решетку публики.
А на тех скамейках под глухим забором за густыми кустами выпивали перед танцами для смелости вермута или портвейна, реже — водки, туда же ходили добавлять, когда хмель начинал проходить. Туда же вели разгоряченную танцами и объятиями партнершу, с которой удалось столковаться, и на «разборы» тоже выходили туда. Здесь же при неверном свете свечного огарка дулись в «очко» и «буру», здесь же ширялись редкие тогда морфинисты — слово «наркоман» в лексиконе тех лет отсутствовало.
«Зверинец» в Майском и «клиника» считались в районе очагами преступности, хотя ножевые ранения случались не чаще двух-трех раз в год, а о жестоких беспричинных убийствах и слыхом не слыхивали. Потому почти каждый вечер трещали в «клинике» мотоциклы, шарили по кустам лучи тяжелых аккумуляторных фонарей, заливались условными трелями милицейские свистки.
Сизов — молодой, с упругими мышцами и несбиваемым дыханием — начинал службу именно здесь, и ностальгический характер охвативших его воспоминаний объяснялся тоской по безвозвратно ушедшим временам, когда ничего нигде не болело, впереди была вся жизнь с находками, взлетами и победами…
Пятидесятилетний Сизов, жизнь которого была почти прожита, а находок, взлетов и побед оказалось в ней гораздо меньше, чем ожидалось, усилием воли оборвал ленту воспоминаний.
«Клинику» давно расчистили, заасфальтировали аллеи, осветили оригинальными, «под старину», фонарями. Не стало глухого забора — прямо в сквер выходил фасад нового административного корпуса института, украшенный металлическими фигурами выдающихся лекарей всех эпох и народов. Пытающийся переключиться на приятные ощущения, Сизов некстати вспомнил, что, когда административный корпус строился, в подвале было совершено убийство. Правда, раскрыть его удалось за два дня.
Кафедра судебной медицины располагалась в старом, но крепком здании из красного кирпича с высокими узкими окнами. Дорогу заступил молодой длинноволосый парень в мятом белом халате.
— Куда следуем? — фамильярно спросил он, давая понять, что без его разрешения попасть внутрь совершенно невозможно.
— Мне нужен кто-нибудь из экспертов, — пробормотал погруженный в свои мысли Сизов.
— Ну, я эксперт, — довольно нахально заявил парень, и нахальство его было очевидным для всякого осведомленного человека, но, конечно, не для озабоченного невеселыми делами просителя, за которого он и принял Сизова.
Старик вскинул голову.
— А похож на сторожа или санитара. Иди, вари свое мыло, а то заставлю давать заключение по криминальному трупу.
Парень не очень-то смутился.
— Сегодня Федор Степанович дежурит, проходите прямо к нему, — как ни в чем не бывало произнес он и лениво посторонился. Не удалось произвести впечатление и не надо. Другим разом… Самоуважение у санитаров морга высокое, чему причиной соответствующие заработки. Побрить покойника, к примеру, тридцать рублей. Обмыть, переодеть, золотые мосты снять — полтинничек или еще поболе… Это только легальные доходы. А что скрыто делается за тяжелыми стальными дверями — кто ж углядит… Лидка-санитарка, правда, схлопотала выговорешник за отрезанную на шиньон косу, да коса мелочь…
Сизов спустился в цокольный этаж, где находилось бюро судебно-медицинской экспертизы, прошел по прохладному коридору, ведущему к серым стальным дверям с маленькими круглыми оконцами, круглосуточно светящимися тусклым и каким-то зловещим светом, без стука вошел в маленький, узкий, как пенал, кабинетик.
Федор Бакаев был одним из ведущих экспертов и по неофициальному распределению обязанностей выполнял функции заместителя заведующего бюро, хотя штатным расписанием такая должность не предусматривалась. Небольшого роста, с мелкими чертами лица, аккуратной бородкой, он мог бы играть в фильмах роль интеллигентного участкового врача из сельской глубинки.
Много лет Бакаев работал над диссертацией, но что-то не получалось, и его уже избегали спрашивать о времени возможной защиты.
Сыщик и эксперт поздоровались.
— Ты насчет трупа в багажнике? Как там его… Сероштанов?
— Точно. Как догадался?
— Больше у нас ничего подходящего для тебя нет.
— И слава Богу. Кто его вскрывал?
— Да я и вскрывал. Сегодня отпечатал акт, Трембицкий уже два раза звонил…
Бакаев, покопавшись в бумагах, протянул несколько схваченных скрепкой листов.
Сизов, привычно выхватывая главное, пробежал бледный, малоразборчивый текст.
— Значит, один душил веревкой, а второй ударил ножом?
Бакаев кивнул, сосредоточенно разжигая спиртовку.
— Кофе будешь?
Сизов отказался. Он не был брезгливым или чрезмерно впечатлительным, но то, что находилось совсем рядом, в тускло освещенном помещении морга, оказывало на него угнетающее воздействие. С того момента, как он спустился в цоколь, в сознании то и дело проявлялась многократно виденная картина: белый кафельный пол, белые кафельные стены, серые каменные столы и главное — то, ради чего существовало все это: белые, синие, фиолетовые пустые телесные оболочки мужчин и женщин, детей и стариков, бродяг и начальников, уравненные отсутствием одежды, секционными швами, одинаковыми процессами тления, унизительностью положения объектов исследования, складируемых на полках ледника, на полу.
Трудно поверить, но некоторых людей атмосфера смерти притягивает. До руководства бюро доходили слухи, а Сизов знал это наверняка — по ночам к санитарам приходили бесшабашные приятели и экзальтированные подруги, веселились, пили водку или медицинский спирт, занимались сексом, и привычные выпивка и секс на пороге морга воспринимались совсем по-другому, близость трупов придавала остроту и пряность этим занятиям.
Бакаев поставил на синее пламя огнеупорную колбу, по кабинету поплыл аромат кофе. Сизову казалось, что он смешивается с другим запахом, который просачивается сквозь тяжелые стальные двери, пропитывает стены, мебель, одежду, проникает в поры… Не терпелось выйти на свежий воздух.
— Где его одежда? — бесстрастно спросил Сизов.
— Трембицкий забрал, — усмехнулся эксперт. — Он тоже знает, где надо искать волокна наложения.
— Подногтевое содержимое?
— Ничего нет. — Бакаев перелил кофе в мензурку, сделал маленький глоток.
Сизов встал.
— Как говорится, и на том спасибо. Хотя я надеялся за что-то зацепиться…
— Горячий. — Эксперт поставил мензурку, посмотрел пристально, отвел взгляд. — Мне осточертели насмешки и подначки, — неожиданно сказал он. — Но если тебя заинтересуют антинаучные изыскания неудачливого диссертанта, то могу подбросить любопытный факт…
Бакаев невесело усмехнулся.
— Разумеется, он не охватывается официальными выводами экспертизы.
— Давай, подбрасывай, — все так же бесстрастно сказал Сизов и сел.
Эксперт протиснулся между столом и стеклянным шкафом со зловещего вида инструментами, съежился в углу над плоским металлическим ящиком, накрахмаленный халат обтянул спину, и Сизов впервые заметил, что эксперт сильно сутулится.
— Вот они… — Бакаев вернулся на место, но сутулиться не перестал, будто на него давило нечто, связанное с зажатыми в руке картонными листами.
Сизов не обнаружил ни малейших признаков любопытства.
Бакаев протянул картонки ему. В середине каждой был приклеен лист фотобумаги.
— Похожи?
Сизов не торопясь взял желтоватый картон, внимательно осмотрел изображенный на фотобумаге вытянутый прямоугольник с кружками на концах. Так же основательно обследовал фотоизображение на второй картонке.
— По-моему, одинаковые.
— Я бы так категорично не сказал, но то, что похожи, — факт. — Бакаев забрал картонки, бросил на стол.
— Не тяни резину. — Сыщику надоела маска отстраненного безразличия, но только тот, кто знал его давно, мог обнаружить, что сообщенное экспертом его заинтересовало.
— Это отпечатки орудия убийства на коже потерпевшего вокруг раны.
Один отпечаток — с трупа Сероштанова, который я исследовал позавчера.
Второй — с трупа Федосова, убитого семь лет назад в Яблоневке.
— Да? Ну-ка дай взглянуть еще раз…
Уже не пряча эмоций, Сизов схватил со стола электрографические отпечатки.
Глава четвертая
Вечером того же дня Мишуев проводил очередную оперативку. Обычно первым докладывал Сизов. Сейчас устоявшийся порядок был нарушен — начальник предоставил слово Веселовскому.
— У них не действовали фары, что, видимо, и привлекло внимание патрульных. Неисправность объясняет захват автомобиля ГАИ — без света на ночном шоссе не разгонишься.
— Логично, — кивнул подполковник.
— Под ковриком обнаружено два окурка сигарет «Мальборо», слюна соответствует крови первой группы…
Мишу ев сделал пометку в блокноте.
— Это очень важная улика. Только… Надо проверить, какие сигареты курил убитый.
— «Мальборо», — негромко сказал Сизов. — Кровь у него первой группы.
Мишуев резко отодвинул блокнот.
— Продолжайте, Александр Павлович.
Веселовский глубоко вздохнул и оглядел присутствующих.
— Пригодных для идентификации отпечатков пальцев при первичном осмотре не обнаружили. Мы со следователем организовали повторный, привлекли экспертов, обследовали в салоне каждый сантиметр… И на зеркальце нашли половину оттиска большого пальца.
— Не Сероштанова? — встрепенулся Мишуев.
— Нет. Проверили по нашей картотеке — безрезультатно. Послали в центральную.
— Это уже кое-что. — Мишуев снова сделал запись.
Сизов рассмеялся про себя. Повторный осмотр производил Трембицкий, искать отпечатки — дело следователя и эксперта. А Веселовский покрутился вокруг них и примазался к результату. Ну-ну!
— Плохо, что отпечаток неполный, — продолжал Веселовский. — Формулу для машинного поиска вывести нельзя, надо перебирать весь архив вручную.
Можно забуксовать надолго…
— Буксовать нам нельзя! — встревожился Мишуев. — Не цепляйтесь только за отпечаток, ищи те другие пути!
— Может, дадим объявление по телевидению? — предложил Сизов.
— А как это воспримут люди? — спросил подполковник.
— Да гак и воспримут: совершено преступление, милиция обращается к населению за помощью. Нелепых слухов убавится. Глядишь и подскажут…
— В обкоме не одобрят такую авантюру, упрекнут в политической близорукости. И будут правы, — покачал головой Мишуев.
— Не они же отвечают за раскрытие. И не они специалисты в розыске… — буркнул Сизов.
Фоменко наклонился к Губареву и громко прошептал:
— Во дает! Мне три года до выслуги, я ничего не слышал…
— Ставить вопрос должен профессионал. И настаивать, объяснять, убеждать… — продолжал гнуть свою линию Старик.
— Я не желаю прослыть демагогом, — сухо сказал Мишуев. — Хватит строить воздушные замки, давайте говорить конкретно, по делу.
Он повернулся к Веселовскому.
— Что еще у вас?
— Автоматные гильзы тоже направлены в центральную пулегильзотеку вместе с запросом о фактах пропажи оружия. У меня пока все.
— Хорошо! — с преувеличенной бодростью произнес Мишуев. — Веселовский показывает пример настойчивой, целеустремленной, а главное, умелой работы. Когда я был начальником уголовного розыска в райотделе, все мои подчиненные работали так, как он. И раскрываемость составляла почти сто процентов! Сейчас дело обстоит хуже… У Фоменко и Губарева, судя по рапортам, результаты нулевые, докладывать им нечего. Правда, может, у Сизова есть что-то, кроме прожектов? Кто-то видел, как преступники садились в машину Сероштанова? Или он рассказал, кого собирается везти?
Сизов уже понял, что к чему. Итак, начальник вытягивает Веселовского и опускает его. Что ж, это логичное развитие замысла…
— К сожалению, так почти никогда не бывает. Сероштанов — официант красногорского ресторана, знался со спекулянтами, фарцовщиками, сам не попадался. Занимался частным извозом, специализировался на междугородных рейсах. Кого вез в этот раз, выяснить не удалось…
— Жаль, что у самого опытного нашего сотрудника тот же нулевой результат, — сдерживая улыбку, сказал подполковник. — Думаю, что в сложившейся обстановке все должны переключиться на перспективную линию Веселовского. А Александр Павлович возглавит работу и определит задания каждому.
— Разрешите продолжать? — хладнокровно спросил Сизов.
— Разве у вас есть что-то еще? — удивился Мишуев. — Продолжайте, мы вас внимательно слушаем.
Удивился он искренне: что может рассказать человек, упершийся в тупик? Разве что напустить туману.
— Я встретился с судебно-медицинским экспертом Бакаевым. Он работает над диссертацией о возможностях электрографического исследования ранений для определения формы и особенностей орудий, которыми они причинены.
Смертельное ранение Сероштанову нанесено клинком односторонней заточки, длина — двенадцать с половиной сантиметров, ширина — полтора. На коже эксперт выявил отпечаток ограничителя характерной формы с шариками на концах.
— Почему этого нет в акте вскрытия? — насторожился Мишуев. — И что это означает?
— Признаки оружия позволяют определить его тип: фирменный автоматический нож, в котором ограничитель раскрывается одновременно с выбрасыванием клинка. В наших условиях вещь довольно редкая. Мне, например, не попадалась ни разу.
— Что же, это может сыграть определенную роль… — Мишуев повернулся к Веселовскому. — Александр Павлович, отметьте особенности орудия убийства, вдруг да выплывает где-нибудь…
— Я не закончил, товарищ подполковник, — холодно сказал Сизов.
Мишуев прервался на полуслове.
— Необычность ножа привлекла внимание Бакаева, ему показалось, что он уже встречал такой. Перебрал свою картотеку — у него почти тысяча электрографических отпечатков — и нашел! Семь лет назад он делал экспертизу по убийству Федосова на Яблоневой даче, все параметры ножей совпадают!
— Вот это да! Недаром говорят: Сыскная машина! — горячечно зашептал Фоменко.
— Да, Игнат Филиппович из-под земли улику выкопает, — довольно кивнул Губарев.
— Речь может идти о совпадении общих признаков, но не о полной идентичности, — равнодушно сказал Веселовский. — Мало ли похожих ножей!
— В том-то и дело, что мало! — в полный голос сказал Фоменко. — Я тоже ни одного не встречал.
— Это не аргумент! — бросил Веселовский. В его тоне появились новые нотки.
Мишуев некоторое время безразлично наблюдал за спором, потом постучал связкой ключей по столу. Когда наступила тишина, обратился к Сизову:
— Дело подняли?
— Еще не успел.
— И не трудитесь зря. — Подполковник повысил голос. — Я лично раскрыл это убийство! Тогда еще был старшим опером в районе, двое суток не ел, не спал, а на третьи взял некоего Батняцкого — большой мерзавец, между нами говоря. Дали ему, если не ошибаюсь, двенадцать лет.
— Вот и редкий нож! — хмыкнул Веселовский. — Нашли аргумент… Мало ли в жизни совпадений!
— Разобрались! — Мишуев прихлопнул ладонью свой блокнот. — Капитан Веселовский ставит задачу каждому — и вперед! Времени нам терять нельзя!
— Да, чуть не забыл, — сказал начальник, когда все уже встали. — Звонили из отделения боевой подготовки: завтра майор Сизов должен провести занятия в роте специального назначения. С учетом этого, Александр Павлович, определите нашему ветерану задание уменьшенного объема.
— Понял, — отозвался Веселовский. — Сейчас все собираемся у меня — распределим работу.
Он еще избегал подчеркивать свою руководящую роль, но опытный Фоменко в коридоре придержал за рукав Губарева.
— Видал, что делается, — заговорщически прошептал он. — Власть меняется, Веселовский уже главнее Филиппыча… Видно, и вправду его скоро того… На пенсион. Так что соображай…
— Чего мне соображать? — холодно спросил Губарев, отстраняясь.
— А того, — снова придвинулся Фоменко. — Ты с ним и на обед вместе и с работы вдвоем. Начальству это не нравится.
— Ты это всерьез? — Губарев впервые обратился к старшему коллеге на «ты», и в голосе его отчетливо сквозило презрительное недоумение, которое Фоменко почувствовал.
— Да ты не так понял, — зачастил он. — Что я, негодяй какой? Или Филиппычу зла хочу? Я ж о тебе думаю! Ты молодой, жизни не знаешь. Он-то уйдет, а тебе работать…
Губарев нехорошо выругался и вырвал руку.
Глава пятая
Специальная рота отрабатывала операцию «Тайфун». По третьему варианту: захват вооруженных преступников, скрывающихся в отдельном здании.
Макет здания — обшарпанная двухэтажка из красного некондиционного кирпича располагалась на краю полигона. Внешне она практически не отличалась от большинства домов центральной части города и могла легко вписаться в унылый ряд построек старого фонда на любой улице: Трудовой, Социалистической, Красногвардейской. Даже поклеванный пулями фасад жилищно-коммунальные власти привычно объяснили бы боями за освобождение Тиходонска в грозном 1942-м да недостатком средств на текущий и восстановительный ремонты во все последующие годы.
Сейчас видавшая виды стена не брызгала острыми фонтанчиками красного крошева и не отбрасывала зло свистящих в рикошете пуль: вместо обычных дистанционно управляемых фанерных фигур преступников изображали добровольцы из первого взвода, поэтому стреляли холостыми.
Несмотря на это, все были в бронежилетах под маскировочными комбинезонами и в касках, обтянутых камуфляжной тканью, — как при настоящей боевой операции. Только командир спецроты майор Лесков остался в лихо заломленном черном берете. Он стоял на рубеже атаки за кирпичным, по грудь бруствером, наблюдал, как члены группы захвата, прикрывая бронещитами головы и старательно прижимаясь к земле, смыкали кольцо вокруг осажденного дома, как группа прикрытия меняла позиции на более выгодные, как рассредоточивалась в ожидании команды группа резерва.
Время от времени он прикладывался к биноклю и рассматривал забаррикадированные деревянными щитами, досками и всяким хламом оконные проемы, из которых глухо дудукали короткие очереди.
— Поймал наконец? — азартно скривил рот майор, не отрываясь от бинокля. Сидящий на скомканном масккомбинезоне Сизов увидел, как тускло блеснули пластмасса и сталь коронки, и вспомнил, при каких обстоятельствах Лесков потерял три зуба.
— Нет ни черта! — отозвался снайпер, стоявший на колене справа от командира, там, где кирпичный бруствер уступом снижался до метровой высоты. Тонкий ствол малокалиберного карабина с оптическим прицелом напоминал комариное жало.
— Два окна слева и крайнее правое, по очереди. Они меняют друг друга.
Смотри внимательней, это тебе не мишени на веревочках!
Негромко пропел зуммер вызова.
— Первый, я третий, их двое, прием.
Майор Лесков поднял с кирпичной стенки изящный, как игрушка, датский приемопередатчик с короткой обтянутой резиной антенной. Кроме спецроты, таких купленных на валюту штучек ни в одном подразделении не было.
— Дома подсчитаешь. Доложи готовность, прием.
— Готовность три минуты. Через минуту — «Черемуха», через две — ДШШ и сразу — собак. У меня все.
— Пятый, ко мне, — скомандовал Лесков в микрофон. — Седьмой, готовьте Диану и Креза, после взрыва пускайте!
— Есть. Вас понял, — разными голосами ответила рация. Почти сразу сзади подбежал еще один снайпер и плюхнулся рядом со своим коллегой.
— Приготовиться, — сказал ему Лесков, следя за секундной стрелкой. — Верхний этаж — крайние окна слева и справа. И нижний — в середину, на всякий случай.
Второй снайпер изготовился. Ствол специального карабина по толщине напоминал полуторадюймовую водопроводную трубу.
— Огонь! — резко скомандовал Лесков.
Карабин грохнул, как охотничье ружье, снайпер левой рукой передернул скользящее цевье — вылетела картонная, опять же словно охотничья, гильза. Снова грохот выстрела, снова рывок цевья, дымящая гильза шлепнулась рядом с Сизовым, и он поспешно отшвырнул ее в сторону. Ударил третий выстрел.
— Верхние зарядил оба, а в нижние смазал. — Командир роты опустил бинокль и снова смотрел на часы.
Из верхних окон валили клубы слезоточивого газа.
— Они просто щит подставили, смазать я не мог… — пытался объяснить второй снайпер, но Лесков не слушал.
— Внимание всем, беречь глаза, — сказал майор в рацию и присел за бруствер.
Возле осаждаемого дома раздался резкий взрыв и, как знал отвернувшийся в сторону Сизов, сверкнула ослепляющая вспышка. Тут же ударили автоматы группы прикрытия.
Операция вступила в завершающую фазу, и, хотя облако дымовой завесы скрывало сцену штурма, Сизов хорошо знал, что там происходит.
Вскоре из начавшего редеть дыма бойцы группы захвата выволокли трех закованных в наручники «преступников» и, аккуратно уложив их в ряд на траву, с облегчением сбрасывали противогазы.
— Я его два раза через окно достал.
— Диана за штанину схватила, хорошо, успел ногу отдернуть…
— Надо было без «Черемухи», и так никуда бы не делись…
Возбужденно гомонили победители, недовольно бубнили что-то под резиновыми масками задержанные. Наконец с них сняли противогазы, освободили от наручников.
— Колька голову прикрыл, а зад выставил, думает — туда пуля не достанет…
— С оцеплением затянули, мы могли через заднюю дверь уйти…
— Петька, гад, в следующий раз будешь бандитом, я тебе тоже так руку выкручу…
— А вообще ничего, нормально сработали.
Кинолог нейтрализующим раствором промывал глаза повизгивающим собакам.
— Товарищ майор, зачем животных в «Черемуху» загонять? — недовольно обратился он к Лескову. — Думаете, им не больно? Ну если по необходимости, а сейчас-то?
— Ладно, не бурчи, — хлопнул его по плечу командир. — Бывает, и людей не получается жалеть. А на псах твоих все вмиг заживет! Лучше скажи, Шмелева не видел?
— Здесь я! — вынырнул откуда-то сбоку юркий крепыш с перепачканным сажей лицом.
— Ну, посчитал? — насмешливо спросил майор. — Сколько же их — двое или трое?
— Так они хитрили — один не стрелял! — Крепыш рукавом комбинезона вытер подбородок и щеки. — А когда взяли, ошибка и поправилась!
Он довольно засмеялся и подмигнул Сизову.
— Что скажете, Игнат Филиппыч? По-моему, норма!
— Учитывая, что объекты специально подготовлены… Опять же — противогазы… — Сизов кивнул.
— А что на третий вариант твой снайпер малокалиберку взял вместо СВД тоже норма? — наседал Лесков.
— Не трамбуй меня, командир! По мелочам накопить всегда можно, но в главном-то порядок! А снайпера будем воспитывать.
— Ладно, разбор потом проведем, — по-прежнему казенно сказал Лесков.
— Строй людей. — И, повернувшись к Сизову, вздохнул:
— Вот такого разгильдяя я сделал своим заместителем!
Тон, которым эта фраза была произнесена, перечеркивал предыдущую суровость и придирчивость командира к подчиненному. Напротив, выдавал, что между ними существуют давние неофициальные отношения. Впрочем, Сизов и так знал: Витька Лесков и Юрка Шмелев дружат с детства.
Пятнистые комбинезоны выстроились в шеренгу, майор Лесков представил Сизова и передал ему командование. Тот поставил бойцов полукругом лицом к дому, взял у комроты и его зама пистолеты, приказал выставить мишень в окне второго этажа.
— При штурме здания, любого другого укрытия, чтобы подавить огонь объектов задержания, деморализовать их, делаем так… — Старик зажал в каждой руке взведенный пистолет. — Левой ведем отвлекающий огонь: можно вверх, можно над головами, можно и сторону противника, но не сосредоточиваясь на прицельности, и двигаемся вперед, а правую держим для стрельбы на поражение. Показываю…
С неожиданной быстротой Старик бросился к зданию, подняв левую руку и разряжая обойму в чистое голубое небо. Когда затвор застрял в заднем положении, обнажив половину короткого ствола, он один раз выстрелил с правой, и мишень в проеме окна исчезла.
— Вот так, — скрывая одышку. Старик вернулся к строю. — Кто берется повторить?
Потом он показал такой же прием, но с автоматами, приклады которых зажимал под мышками. Зрелище было эффектным, но желающих повторить упражнение не нашлось.
— Управляться с ними сложновато, — согласился Старик, — но выучиться можно. Только на холостых надо долго работать, иначе сам искалечишься, да и других положишь. Смотрите, показываю еще раз…
Рота спецназначения восторженно гудела.
Старик продемонстрировал стрельбу из автомата от бедра, приемы ухода с линии выстрела противника, прицельную стрельбу из пистолета.
— То, что написано в наставлениях, годится для тира, но не для улицы.
Когда пуля летит параллельно земле на уровне груди, то о прицеливании по вертикали можно не думать. Остается горизонтальное отклонение. Если держать пистолет двумя руками, его убираешь быстрее и надежней.
Старик присел на широко расставленных ногах и, поддерживая левой рукой рукоять пээма, несколько раз выстрелил.
— На что похоже? На западный боевик? Верно, американские полицейские именно так и стреляют. Кстати, — обратился он к Лескову, — фанерные мишени не дают правильного восприятия цели. Мишень должна бытъ объемной.
Сделайте мешки с песком или опилкаками, тогда будет лучше ощущаться дистанция, да и пулю чувствуешь, можно контролировать промах, вносить поправки…
— Сделаем, Игнат Филиппович, — кивнул майор. — Чучела изготовим. В одежде, чтоб все натурально.
Он повернулся к бойцам.
— Нравится такая огневая?
— Класс! — отозвались пятнистые комбинезоны, а здоровый рыжий парень в десантной тельняшке, выглядывающей через распахнутый ворот, выкрикнул:
— Это наша работа, ей и учиться надо! А все эти лекции по международному положению… Пусть их замполиты слушают…
— Ты это брось, Борисов! Ты же не придаток к дубинке, бронежилету и автомату! Должен работать над собой, развиваться, повышать культурный и политический уровень, — скучным голосом произнес командир.
— На то есть газеты, радио и телевизор, — дерзко парировал рыжий.
— Смирно! — рявкнул Лесков. — На первый, второй рассчитайся! Первые номера два шага вперед, шаг влево, кругом! Свободный спарринг — десять минут. Приготовились!
Пятнистые комбинезоны, оказавшиеся в парах лицом друг к другу, привычно приняли боевые стойки.
— Начинай! — Майор рубанул рукой воздух.
— И-е-е-я!! — пронзительно разнеслось над степью, и пятнистые шеренги сомкнулись. Удар, блок, контратака, захват, бросок…
— И-е-е-я! — Пугающий крик должен деморализовать противника и поднять боевой дух атакующего. Рука, нога, перехват, кульбит с выходом в стойку, подсечка…
— Тигры, — довольно сказал Лесков, улыбаясь левой половиной рта, где были выбиты зубы. Вблизи отчетливо выделялся шрам, пересекающий губы и переходящий на подбородок, который придавал лицу командира зловещее выражение. — Их шпана боится куда больше, чем пэпээсников. На днях возле «Рака» окружили патрульную машину, чуть не перевернули, хотели задержанного отбить… А наши подъехали — разбежались кто куда. Потому что знают…
Командир роты оглянулся по сторонам и понизил голос:
— А Борисов в общем-то прав. Мы с Юрой увеличили объем служебной и боевой подготовки за счет политзанятий. Конечно, втайне от политотдела.
— Понятное дело, — отозвался Сизов. — Но если узнают, вдуют тебе по первое число.
— Наверное, так, — согласился майор. — А пока довольны. Как какая экскурсия, делегация — журналисты там, депутаты, иностранные гости, — всех к нам! Я уже составил вроде концертной программы: номер один — захват преступника, номер два — прием против ножа, номер три — против пистолета, номер четыре — прыжки через нескольких человек с выходом в стойку, номер пять — то же с поражением штыком деревянной мишени… Ну, в общем, все: работа с дубинками, скоростная стрельба. Теперь отработаем эту вашу штучку с автоматами — поставим гвоздем программы. А пока у нас «коронка» такая: кладем на подставки кирпичи, обливаем бензином и поджигаем. Человек пять по команде — бац! — голой рукой прямо в пламя — и кирпичи вдребезги, только горящие куски во все стороны! А потом Борисов, этот рыжий амбал, выходит с двумя бутылками и со зверскими криками разбивает их о собственную голову, одну за другой! И оскольчатыми горлышками ведет бой с тенью. Он служил в спецназе, там этим штукам и выучился.
А гости — в полном восторге.
Лесков взглянул на часы.
— Еще минута.
— Дач бы отбой. Они выкладываются изо всех сил. — Сизов тоже посмотрел время. — Мне нужно в город. Машина есть?
— Найдем, — майор кивнул. — А что до отбоя, то боец специальной роты не должен уставать. Наоборот, есть будут с большим аппетитом. Кстати, и вас без обеда не отпустим. Тем более сейчас везде начинается перерыв, так что спешить некуда.
Лесков еще раз взглянул на циферблат.
— Внимание! — рявкнул он. — Прекратить бой! Отдых — десять минут.
Решено раскрученное колесо рукопашной, схватки мгновенно остановилось. Фигуры в маскировочных комбинезонах опустились на траву. Чувствовалось, что лесковские тигры все-таки устали.
Только один боец остался на ногах и направился к командиру. Когда он подошел ближе, Сизов рассмотрел, что это Шмелев. Комбинезон замкомроты был расстегнут, на нем выступили мокрые пятна, и казалось, что от тела должен идти пар.
— Опять не удержался? — насмешливо спросил Лесков. — Ты же сейчас уже руководитель, твоя задача наблюдать, контролировать, поправлять. А ты по-прежнему ввязываешься в спарринги!
— Усложнял задачу, — улыбаясь, ответил Шмелев, и было видно, что он почти не запыхался. — Если кто слабее — становился на его сторону. Ну и сам попробовал против нескольких… Две пары держал…
Шмелев удовлетворенно облизнул пересохшие губы.
— Воды не взяли, жалко… Ну да сейчас подойдет автобус…
Вскоре привезли обед. Специальная рота, сидя потурецки, мгновенно выхлебала из алюминиевых мисок густой борщ, умяла котлеты с картофельным пюре и выдула несколько ведер компота.
Сизов пристроился на пустом ящике от взрывпакетов — на голую землю его не тянуло, да и ноги не складывались, как раньше, пожалуй, и в полулотос он бы уже не сел.
Рядом отдыхали Лесков и Шмелев. Глядя на их лица, Сизов подумал, что вряд ли какому-нибудь хулигану придет в голову даже спьяну пристать к Виктору или Юре. Да и припозднившийся прохожий в темном переулке не обрадуется, если кто-то из них попадется навстречу. Он усмехнулся.
— О чем вы, Филиппыч? — спросил Лесков.
Сизов помедлил с ответом.
— Да вот смотрю на, твоих парней. Знаешь, что это все мне напоминает?
— Сизов обвел рукой вокруг.
Пятнистые комбинезоны снова наполнились силой. Некоторые играли в ножички, некоторые устраивали шутливые схватки: кто-то выкручивал товарищу ногу, кто-то обозначил тычок растопыренными пальцами в глаза соседа, но был пойман за кисть и скручен в бараний рог, кто-то набивал о землю ребро ладони.
— Интересно, — сказал Лесков.
— Кизетериновский питомник, — еще раз усмехнулся Сизов и тут же добавил:
— Только без обид.
В Кизетериновке находилась школа служебно-розыскных собак.
— А чего обижаться, — комроты пожал плечами. — У каждой службы своя задача. У нас — гнаться, хватать, не пускать, драться, обезвреживать. И у овчарок примерно то же…
— Только они стрелять не умеют, — хохотнул Шмелев. — И противогаз никак не наденут. Да и вообще — наш парень с несколькими овчарками справится.
Реакция обоих была ненаигранной: обижаться они и не думали.
Рыжий Борисов принес из автобуса гитару, расчехлил ее. Пятнистые комбинезоны подсели ближе.
— У нас скоро бронетранспортер будет, — продолжал Лесков. — Сейчас можем у военных одалживать, но лучше свой иметь. И вертолет хочу свой.
— Чего играть-то? — подстраивая инструмент, спросил Борисов.
— «Чужие долги», «Реквием пехоте», «Про настоящих мужчин», — посыпалось со всех сторон.
— Давай «Песню обреченного десанта». — Голос Лескова перекрыл возникший гомон.
— Желание начальника, сами понимаете, закон для подчиненного. — Рыжий здоровяк сделал пробные аккорды. Шум стих.
Мы прыгаем ночью с гремящих небес
В пустыню, на джунгли, на скалы, на лес.
Ножи, автоматы и боезапас —
Завис над землею советский спецназ.
Жуем не резинку, а пластик взрывчатки,
Деремся на равных один против трех.
В снегу без палатки — и в полном порядке,
А выстрелить лучше не сможет и Бог…
Скажите про это «зеленым беретам» —
Пусть знают они, с кем им дело иметь
В ледовом просторе, в лесу или в поле —
Везде, где со смертью встречается смерть.
— Припев — все! — Шмелев взмахнул рукой.
Пусть даже команду отдали в азарте —
Сильней дипломатии ядерный страх.
А мы — острие синей стрелки на карте,
Что нарисовали в далеких штабах.
После рева нескольких десятков молодых глоток голос Борисова, казалось, звучал тихо и печально:
Мы первые жертвы допущенной спешки
И, задним числом, перемены ролей.
В военной стратегии мы — только пешки,
Хотя и умеем взрывать королей!
И у генералов бывают помарки:
Вдруг синюю стрелку резинкой сотрут…
Но мы уже прыгнули, жизни на карте,
А сданные карты назад не берут.
— Во дает! — Шмелев показал певцу большой палец. Тот никак не отреагировал, взгляд у него был отрешенный.
Министр покается: «Вышла ошибка,
Виновных накажем. Посла отзовут».
Его самого поругают не шибко.
От нас же внизу извинений не ждут.
Борисов сделал паузу, побитые мощные пальцы осторожно перебирали струны, вдруг он резко взвинтил ритм.
Мы падаем молча, закрасив лицо,
И лишь на ста метрах рванем за кольцо.
Мы знаем, что делать, задача ясна,
Но ваши ошибки — не наша вина!
Специальная рота дружно подхватила припев.
— Ну как? — спросил Лесков. — Это ведь тоже политико-воспитательная работа.
— Хорошо, — кивнул Старик. — Только вряд ли политотдел будет от нее в восторге.
— Да нет, — вмешался Шмелев. — Там сейчас нормальные ребята. К тому же понимают нашу специфику.
— Мне пора. — Сизов встал,с неудовольствием ощущая, как затекли ноги.
Лесков со Шмелевым проводили его до автобуса.
— Довезешь товарища куда ему нужно, потом в роту, — приказал майор водителю.
— Мне в нарсуд Центрального района, — уточнил Сизов. — А вы здесь надолго?
— Часа на два, — ответил комроты. — Еще немного песен, потом штурмовая полоса. Через недельку повторим занятия?
Пожимая протянутые руки, Сизов кивнул. Автобус развернулся и покатил к выезду с полигона. Старик смотрел в окно. Специальная рота пока пела песни…
Глава шестая
В примыкающей к дежурной части комнате для допросов задержанных Центрального РОВД Фоменко «прессовал» Сивухина — хулигана из «Рыбы».
— Люди в ресторан отдохнуть ходят, а ты свое блатовство показать? — тихо, по-змеиному шипел Фоменко, и губы его зловеще кривились. — Кому хочу — в морду дам, кого захочу — отматерю… Так?!
Он замахнулся и, когда Сивухин отпрянул, грохнул кулаком по столу.
— Боишься, сука! А там не боялся? Там ты смелый был, на всех клал с прибором. — Опер пригнулся к столу, как зверь перед прыжком, и снизу гипнотизирующим взглядом впился в бегающие глаза допрашиваемого. — И думал всегда при таком счастье на свободе кейфовать… Да?!
Фоменко снова замахнулся. Он «заводил» сам себя, и сейчас бешенство его стало почти не наигранным, в дергающихся углах рта собралась пена, зрачки маниакально расширились.
— Да я тебя в порошок сотру, падаль поганая! Ты у меня будешь всю жизнь зубы в руке носить!
Он перегнулся через стол и ткнул-таки кулаком в физиономию хулигана, но тот снова отпрянул, и удар получился несильным.
— Ну чего вы, в натуре, — плачущим голосом заныл Сивухин и принялся усердно растирать скулу, демонстрируя, что ушибленное место нестерпимо болит. — Чего я сделал такого особенного? Ну чего? Скажите, я извинюсь…
— Вот и молодец! — Фоменко выпрямился, лицо его приняло обычное выражение, и он даже доброжелательно улыбнулся. — Я знал, что мы найдем общий язык. Ты парень-то неглупый. Раз попал — надо раскаяться и все рассказать. Закуривай…
Он любезно протянул распечатанную пачку «Примы», подождал, пока трясущиеся пальцы задержанного выловят сигарету, встал, обошел стол и чиркнул спичкой.
Настороженно косясь, Сивухин прикурил.
— Да чего рассказывать-то? — После нескольких затяжек он расслабился, и в голосе прорезалась обычная блатная наглеца. — Двое суток на нарах, а за что? Хоть бы пальцем кого тронул…
— Не помнишь, значит? — Фоменко присел на край стола, нависая над допрашиваемым, отчего тот должен был чувствовать себя неуютно. К тому же, когда держишь голову задранной, затекает и деревенеет шея, устает спина, очень хочется сменить позу.
— Ну так я тебе расскажу… — Фоменко тоже закурил, но из другой пачки: не дешевую «Приму», а фирменные «Тиходонск». — Двадцать шестого апреля ты нажрался в «Рыбе» до потери пульса, обругал матом гражданина Костенко, который находился при исполнении служебных обязанностей, приставал с циничными предложениями к гражданке Тимохиной и ударил ее по лицу.
Фоменко выпустил дым в лицо Сивухину.
— Вот тебе эпизод номер один. Злостное хулиганство. Статья двести шестая, часть два. До пяти лет.
— Да не было ничего этого! — Сивухин от возмущения сорвался на фальцет — Не знаю никакого Костенко и Тимохину эту в глаза не видел! Это кто-то чернуху прогнал. Какие, на хрен, служебные обязанности?
— А швейцара дядю Васю не помнишь? — вкрадчиво спросил Фоменко и снова целенаправленно пустил струю дыма.
— Хромого, что ли? — вскинулся задержанный. — Он меня из бара вытолкал и таких хренов насовал… И я его разок послал.
— Вот-вот. А человек на государственной службе!
Сивухин скривился.
— Знаем, знаем… Тридцатник за бутылку! А Тимохина — это небось Лидка? Это к ней я, выходит, приставал? Да ее все знают, у ней даже прозвище Щека! Трояка не было, а она выделывалась!
— Значит, первый эпизод признал полностью. — Фоменко удовлетворенно улыбнулся. — А всего их ровно восемь. Как раз под пятерик и выйдет!
Казалось, в маленьком кабинетике воздуха не осталось — только сизый, расплывшийся слоями табачный дым. Сквозь него слабо светила и без того тусклая лампочка под давно не беленным потолком. Ядовитогорький туман обволакивал человеческие фигуры — сидящую на привинченном к полу табурете и облокотившуюся на исцарапанный, перепачканный чернилами стол. Фигуры размывались, теряли четкость очертаний, казалось, и квадраты решетки на окне проступают не через матовое стекло, а сквозь вязкую белесую массу, заглушающую бормотание дежурного за фанерной перегородкой. Сгустившийся до ощутимой плотности дым забивал нос, горло, легкие, застилал глаза.
— Ты что, приход поймал? — Черная рука протянулась из табачного облака, вцепилась в рубаху на груди, несколько раз встряхнула.
Сивухин пришел в себя.
— Жидкий на расправу! — довольно сказал Фоменко. — Чуть придавлю, и расколешься до самой жопы.
— За что пятерик? — с трудом выговорил Сивухин. — Ведь все так делают! И хромого матерят, и друг с другом лаются, и Щеку колотят! Чего же вам от меня надо?
— Вот это молоток! — Фоменко наклонился совсем близко. — Отдай автомат — и все! Я тебе явку с повинной оформлю, гуляй на все четыре стороны.
Сивухин отквасил челюсть.
— Ка-ка-какой автомат?!
— Тот самый, из которого грозил перестрелять весь оркестр, — буднично пояснил Фоменко. — Наших позавчера на трассе покрошили, слыхал небось? А ты проболтался про свою машинку. Сам виноват! Теперь отдавай — подтвердится, что не из нее, — и порядок. А хранение, так и быть, я тебе прощу…
— Да нет у меня никакого автомата! — заверещал подследственный. — Мало чего по пьянке наболтаешь! Кастет был, сам отлил, финка дома есть…
— Ты туфту не гони! — рявкнул Фоменко. — Финка уже у нас! А где автомат? Говори, сука!!
Он с маху, но расчетливо, чтобы не оставить следов, отвесил хулигану затрещину.
— Не понимаешь, что за убитых сотрудников спуску не будет! Я у тебя его вместе с печенкой выну!
Ядовитый туман в комнате для допросов становился все гуще.
Автобус спецроты довез Сизова почти до Центрального райнарсуда. Он прошел полквартала, перешел улицу и нырнул в пропахший сыростью подъезд старого и безнадежно обветшавшего здания. Здесь был только один зал заседаний, потолки которого наглядно свидетельствовали, что канализационные трубы второго этажа тоже давно пришли в негодность. Небольшие дела приходилось слушать прямо в клетушках кабинетов, где судья и заседатели теснились за одним столом, прокурор и адвокат сидели плечом к плечу между сейфом и окном, секретарь вела протокол на подоконнике, подсудимый стоял в углу рядом с вешалкой, а свидетель мялся у двери и после допроса выкатывался в коридор, где под плакатом «Судьи независимы и подчиняются только закону» томились родственники подсудимого и другие свидетели.
Сизов протиснулся к обитой черным дерматином двери и, не обращая внимания на табличку с расписанием приемных часов, вошел в канцелярию. За деревянным отполированным животами и локтями просителей барьером сидели неприступные в осознании своей значимости молодые девушки. Сизова некоторые знали, поэтому суровые личики смягчились, и архивариус согласилась, несмотря на неурочное время, отыскать нужное дело.
— Только завизируйте запрос у Петра Ивановича, а то сейчас у нас с этим строго…
Запроса на выдачу дела у Сизова не было, он сел к длинному столу и на официальном бланке написал: «Председателю райнарсуда Центрального района г. Тиходонска т. Громакову П. И. В связи с оперативной необходимостью прошу выдать для ознакомления ст. о/у майору Сизову архивное уголовное дело по обвинению Батняцкого. Начальник отдела УУР УВД Тиходонского облисполкома Мишуев». Поставив перед словом «начальник» вертикальную черточку, означающую, что документ подписывается другим лицом, Сизов резко черкнул свою фамилию.
У двери председателя майор остановился, постучал, дождался ответа и лишь после этого вошел. Он знал, что районные начальники очень чувствительны к знакам признания их авторитета.
— Что у вас? — Громаков оторвался от бумаг.
Когда-то он работал следователем прокуратуры, пару раз они встречались на местах происшествий и знали друг друга в лицо. Но сейчас никаких признаков узнавания председатель не проявил.
— Надо посмотреть архивное дело. — Сизов протянул запрос.
— Давайте. — Громаков положил бумагу перед собой, занес ручку для резолюции, но задержал ее, пробегая глазами текст.
Пауза затянулась. Громаков отложил ручку и медленно перечитал документ еще раз.
— А зачем, собственно, вам копаться в архивных делах? — неожиданно спросил он, не отрываясь от запроса. — Для этого есть вышестоящий суд, прокуратура. При чем здесь уголовный розыск?
Майор с удивлением отметил, что Громакова озаботила именно та бумага, которую он только что, не задумываясь, собирался подписать.
— И что это за запрос? — все больше раздражаясь, продолжал председатель. — Кто его подписал? Что вообще это за закорючки да черточки?
— Что с вами? За последний квартал я раз шесть получал дела именно по таким запросам. Кстати, и в вашем суде, — спокойно сказал Сизов. О том, что иногда девочки вообще не требовали никаких бумаг, он решил не вспоминать.
— Мало ли что было раньше… — Громаков наконец поднял голову и посмотрел собеседнику в лицо. — Надо же когда-то наводить порядок! Вот и пусть каждый занимается своим делом — уголовный розыск ищет преступников, а прокуратура проверяет судебные дела!
Громаков рано начал полнеть и лысеть. У него были пухлые щечки, пухлые короткие пальчики, которые нервно барабанили по натуральному дереву столешницы, а если снять с него пиджак и рубашку, то наверняка обнаружится пухлый живот.
В тесном юридическом мире, где известно друг о друге больше, чем в какой-либо другой профессиональной среде, знали, что Громаков был послушным следователем. Именно это качество легло в основу его карьеры и обещало ему дальнейшее продвижение по службе. Ведь послушание — очень ценное качество в глазах тех, кто занимается расстановкой кадров. На аппаратном языке это свойство называется «зрелостью» и «умением ориентироваться в обстановке».
Сизов по-своему оценивал «послушных», но даже с учетом этого не понимал, что же так взбудоражило молодого и перспективного председателя райнарсуда, почему у него нервно подрагивают губы и плещется беспокойство во взгляде.
— А если понадобится что-то уголовному розыску, надо все по форме: письмо за подписью генерала, с печатью как положено, чтобы было видно — это никакая не самодеятельность, — поучающе говорил Громаков и помахивал злосчастным запросом, который держал за уголок двумя пальцами. — Филькина грамота нам не нужна…
— У генерала, говорите? — перебил Сизов. — Хорошо, подпишу у генерала. Хоть у своего, хоть у вашего — он поближе.
Сизов показал в окно на расположенное по соседству здание Дома правосудия.
— Вы пока распорядитесь, пусть девочки найдут дело, чтоб зря время не терять. А я сейчас вернусь.
Наклонившись, майор вынул из руки ошарашенного председателя свой запрос и быстро вышел.
Через четверть часа он вновь положил на стол документ с резолюцией председателя областного суда: «т. Громаков! Выдать. И не надо разводить бюрократию».
Лицо преднарсуда сморщилось в кислой гримасе.
— Зачем же вы меня так подставили? — жалобно протянул он, — Перед самим Иваном Федоровичем бюрократом выставили… Да что, я бы сам не решил вопрос?
Укоризненно причитая, Громаков подписал запрос с тем же безразличием, с каким был готов сделать это в первую минуту. То, что насторожило его в документе, мгновенно вытеснилось недовольством начальства, хотя оно и было выражено в самой легкой форме. Сизов пожалел подчиненных Громакова, а еще больше пожалел правосудие.
Через десять минут Старик раскрыл архивное дело. Как и любое следственное производство, оно начиналось с постановления о возбуждении уголовного дела.
«… Следователь прокуратуры Центрального района г. Тиходонска юрист 3-го класса Громаков, рассмотрев материалы по факту обнаружения трупа гр. Федосова с признаками насильственной смерти, постановил…»
Сизов заглянул в конец следственных материалов. Обвинительное заключение тоже составлял Громаков. Значит, он вел расследование от начала и до конца. А теперь опасается постороннего глаза. Интересно…
Сизов приготовил ручку, лист бумаги и перевернул первую страницу дела.
«Начальнику Центрального РОВД г. Тиходонска. Рапорт. По подозрению в совершении убийства гр. Федосова мною задержан ранее судимый Батняцкий.
Прошу Вашего разрешения содержать его в дежурной части до утра… Ст, о/у ОУР капитан Мишуев». Косая резолюция: «Деж. Содержать».
Сизов хмыкнул. Действительно, времена изменились! Сейчас такие штуки и в голову никому не придут. А тогда казалось — в порядке вещей…
Где-то здесь будет явка с повинной.
Он перевернул еще один лист. Точно!
«… Я, Батняцкий Е. Ф., хочу помочь следствию и чистосердечно признаться в случайном убийстве, которое совершил в нетрезвом виде».
Сизов сопоставил даты и сделал первую выписку.
Громаков недолго пребывал в расстроенных чувствах, он догадался по благовидному поводу позвонить председателю облсуда и не услышал замечания о насаждении бюрократизма. Иван Федорович разговаривал благосклонно и даже соизволил пошутить. Значит, суровая резолюция предназначалась для этого настырного милиционера.
«Чего ему все-таки надо?» — снова колыхнулась беспокойная мысль, и Громаков раскрыл служебный телефонный справочник.
Через несколько минут в кабинете Мишуева раздался телефонный звонок.
Подполковник резко поднял трубку.
— Мишуев! — сухо бросил он в микрофон. Но сразу же лицо его расслабилось, он свободно откинулся в кресле, тон стал неофициальным. — Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Громаков. Да, пока на месте… В принципе решено, но ты же знаешь, зарубить могут в самый последний момент, тем более есть загвоздка… Вот-вот… Ничего, раскрою! Только так! Лучше о себе расскажи: ты уже председатель суда или еще исполняешь обязанности? Ну, поздравляю! Так что ты, брат, тоже растешь, я помню зеленого следователя, который боялся к трупу подойти! Какое совпадение?
Нет, никого не направлял. Сизов?
Мишу ев нахмурился.
— Что он хотел? Помню, на Яблоневой даче… А ты что? И правильно, нечего ему по архивным делам шнырять!
Мишуев резко выпрямился в кресле и напряженно застыл, нервно вертя в руке карандаш.
— Добиваться своего он умеет, в любую дверь войдет. И какое распоряжение дал Филиппов? Понятно… Выдал? Да уж, никуда не денешься. И он что? Внимательно, говоришь… И много выписывает?
Мишуев сломал карандаш, зашвырнул обломки в угол, ослабил узел галстука. Голос у него остался спокойным.
— Ну и пусть выписывает! У Сизова появилась своя версия по «сицилийцам», вот он и ищет зацепки в старых делах. Ничего необычного. А что он может выкопать? Батняцкий признался, приговор вступил в законную силу.
Ты же сам вел расследование и знаешь все обстоятельства. А в каком деле нет неточностей?
То, что услышал Мишуев, сильно ему не Понравилось. Голос его стал резким и холодным.
— Ну ты это брось! Что значит «доверился»? Ты был не маленьким мальчиком, а следователем прокуратуры! Важной процессуальной фигурой, принимающей самостоятельные решения! И, кстати, принял правильное решение, раз Батняцкий осужден на двенадцать лет!
Подполковник, поморщившись, отставил трубку в сторону, потом снова поднес к уху и продолжил прежним дружеским тоном:
— Не надо паниковать, Сизов — сотрудник уголовного розыска, а не прокурор, проверяющий качество проведенного тобой семь лет назад следствия!
— Он искусственно засмеялся. — И в его задачу не входит помешать твоей карьере. Вот так-то лучше. До связи.
Положив трубку, Мишуев достал из кармана платок, провел по лбу, встал из-за стола и озабоченно зашагал взад-вперед по кабинету. Вспомнив, подобрал обломки карандаша, возвратился на место, порывшись в ящике, нашел автоматический нож, какие десятками изымаются при обысках и, не пройдя по делу, оседают в столах оперработников и следователей.
Щелчок — из рукоятки выскочил блестящий; клинок. Мишуев принялся затачивать карандашный обломок, потом его внимание переключилось на нож, он несколько раз сложил его и вновь выщелкнул лезвие, вдруг швырнул недочиненный карандаш в урну, наклонился к селектору.
— Веселовский, зайдите ко мне.
Мишуев поправил галстук, достал из папки «К докладу» очередной документ, начал читать. Внезапно придвинул телефон, быстро набрал номер.
— Это опять я. Кто подписал запрос? Ну эту твою филькину грамоту?
Ага… Ты ее запечатай в конверт и подошли мне. Договорились? Ладненько.
Опустив трубку на аппарат, Мишуев задумался.
Коротко постучав, в кабинет вошел Веселовский.
— Разрешите, товарищ подполковник?
— Чем сейчас занимается Сизов? — строго спросил начальник отдела.
— Поехал в суд изучить старое дело, по которому проходил похожий нож, — с подчеркнутой четкостью доложил Веселовский. — Помните, он говорил об этом.
— А что там изучать? Ситуация предельно ясная. Вы определили ему направление работы?
— Да, Сизов выполняет задание, а своей версией занимается параллельно…
— Значит, недогрузили, оставили время на ерунду. Руководитель должен уметь ставить четкую цель и направлять подчиненных на ее достижение. — Подполковник сделал многозначительную паузу. — Когда я был начальником уголовного розыска в райотделе, мои сыщики не распылялись по «своим» версиям. Все били в одну точку. И раскрываемость приближалась к ста процентам. Потому и выдвинули в областной аппарат! За четырнадцать лет я прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела областного уголовного розыска. Кажется, я это уже говорил?
— Вроде нет, — неуверенно ответил Веселовский.
— Говорил. Но повторяюсь не из хвастовства. Хочу, чтобы вы сделали выводы, ведь от успеха этой операции зависит ваше продвижение по службе.
Ясно?
Веселовский молча кивнул.
— Я вам поручил направлять работу всех остальных, используйте возможность! Ваша линия самая перспективная, никто в этом не сомневается, кроме, пожалуй, Сизова. Не смущайтесь, загрузите его до предела, пусть тянет общий воз вперед, а не рвется в сторону! Его бесполезная самодеятельность никому не нужна!
Мишуев замолчал, не сводя пристального взгляда с липа подчиненного.
Много лет назад так смотрел Старик, когда бывал недоволен стажером, и тот чувствовал себя весьма неуютно. Став начальником, Мишуев специально отрабатывал холодный, пронизывающий насквозь взгляд и убедил себя, что достиг цели, хотя в глубине души шевелилось сомнение.
— Разрешите идти? — как ни в чем не бывало спросил Веселовский, и стало ясно, что никакой неловкости он не испытал.
— Подождите. — Подполковник указал на стул у приставного столика. — Присаживайтесь.
Строгость в голосе пропала.
— Я ведь учу для вашей же пользы. Привыкайте руководить людьми. Что у вас нового по «сицилийцам»?
Веселовский сел, отодвинул стул, устраиваясь поудобнее, извлек из внутреннего кармана пиджака пухлую записную книжку.
— Специалисты исследовали камень из мешка.
Мишуев почему-то подумал, что Сизов никогда не сказал бы «исследовали камень». «Осмотрели» — и точка.
— Это ракушечник, три карьера расположены вблизи трассы Красногорск-Тиходонск. Ребята поехали за образцами, попробуем привязать по химическому составу и следам распиловки.
Мишу ев сделал пометку в своем блокноте.
— А что с этим, как его, — Мишуев заглянул в календарь, — Сивухиным?
— Фоменко раскопал ему восемь эпизодов хулиганства. Да при обыске нашли дома финку и кастет. Носил с собой, показывал корешкам, пугал кое-кого, есть свидетели… Так что не выскочит!
Мишуев пренебрежительно махнул рукой.
— Это не велика победа. Если взяться, то можно всю эту шушеру пересажать, только руки не доходят. Да и потом — кто за них работать будет? С главным как?
Веселовский замялся.
— Фоменко только что вернулся, принес протокол. Признал он, вроде брал у какого-то Васи Чижика старый ППШ на продажу, не получилось — вернул обратно. А с пьяных глаз пришло на ум — и пригрозил автоматом. В общем, вроде что-то было, а ничего конкретного и нет. А вообще… — Веселовский запнулся и отвел взгляд в сторону. — По-моему, ерунда все это.
Фоменко надавил, он и затулил, чтобы в цвет попасть…
— Ну и ну! — Подполковник обозначил на лице недоумение. — Что за основания для таких предположений?
— Да мелочь он пузатая! Какие там автоматы… Сначала наболтал по пьянке, а потом — чтоб отстали. Приплел какого-то Васю, ни фамилии, ни адреса, ни толковых примет. Вот и ищи ветра в поле…
— А разве не стоит искать автомат, даже если он не связан с делом «сицилийцев»? — веско спросил начальник отдела.
— Ну почему же, стоит. — Веселовский снова смотрел прямо, с выражением готовности к любой работе.
— И я так думаю, — нравоучительно сказал Мишуев. — Даже если окажется, что этого ППШ не существует в природе, пройтись по связям Сивухина будет полезно. Кражи, грабежи, разбои — мало ли у нас «висячек»… Глядишь, что-нибудь и раскроется.
Он прихлопнул ладонью папку с документами, как бы подводя итог разговору. Веселовский встал.
— А Фоменко работает неплохо, — заметил вдруг подполковник. — Вот что значит дать человеку проявить себя. Между прочим, в его послужном списке за пять последних лет ни одного поощрения. Зато больше всего благодарностей у Сизова.
Мишу ев бросил взгляд на часы.
— Сейчас оперативка у Павлицкого, я доложу, кто и как работает. Пора пересматривать отношение к людям, хватит выделять любимчиков! И вообще — пришло время коренным образом менять стиль руководства…
Последняя фраза подполковника безошибочно определяла его место в происходящей расстановке сил внутри аппаратных группировок. Про коренные перемены и революционные усовершенствования любил говорить новый заместитель начальника УВД полковник Крутилин. Он был «варягом» — командовал уголовным розыском где-то на Севере, после окончания академии получил назначение в Тиходонск. Подобные высказывания вкупе с резкими и решительными действиями породили слухи, что у него мощная поддержка в Москве и прислан он не просто так, а с прицелом на место генерала.
Глава седьмая
Собрав бумаги в прозрачную пластиковую папку, Мишуев запер дверь кабинета и неспешно, с достоинством пошел по коридору. Не каждый начальник отдела участвует в оперативных совещаниях при генерале. Далеко не каждый Заместители, начальники управлений — ниже уровень представительства практически не опускается. В принципе он, Мишуев, должен доложить результаты работы отдела заместителю начальника — головного розыска, тот — начальнику, тот, в свою очередь, информирует зама генерала по оперативной работе и делает сообщение на совещании.
Однако в последние полтора года привычный порядок часто нарушался.
Возглавлявший УУР полковник Силантьев страдал камнями в почках и подолгу лежал в госпитале, его зам Игнатов всегда боялся принимать решения, а теперь, перед пенсией, старался вообще не попадаться на глаза начальству. Поэтому Мишуев непосредственно докладывал на оперативках то, что касалось борьбы с особо тяжкими преступлениями, а иногда и председательствовал от лица руководства уголовного розыска.
Его самого такое положение вполне устраивало: когда человек на виду, к нему привыкают. Силантьев проскрипит два годика, а он тем временем получит диплом академии и вернется как раз на открывшуюся вакансию.
Тьфу-тьфу… Трудно загадывать в таких делах. Обстановка меняется, тот же Крутилин с идеями омоложения аппарата. Игнатову уже сказал, чтоб готовился, того и гляди и Силантьева отправит по болезни. А поставит кого-то из своих северян или из местных — мало ли шустрых ребят.
Мишуев почувствовал усилившееся беспокойство и понял, что оно связано с недавним звонком Громакова. Активность Сизова в ревизии архивных дел ему совсем ни к чему. Дело усугубляется тем, что на эту чертову Сыскную машину трудно найти управу: он легко обходит всю иерархическую лестницу и заходит прямо к генералу. Говорят, тот начинал у него стажером. Может быть… Когда Крутилин докладывал об Игнатове, Павлицкий предложил на его место Сизова. Еще чего не хватало! Может, потому он так землю и роет? Впрочем, Крутилин не станет менять одного предпенсионера на другого, к тому же человека Павлицкого. Если, конечно, он будет принимать решения. А будет ли? Какая у него ни мощная рука в министерстве, а обком крепко поддерживает Павлицкого. Неизвестно, что перевесит…
По широкой мраморной лестнице Мишуев спустился на второй этаж, где располагались кабинеты руководства. У высокой отделанной под дуб двери он замешкался, перебрал, будто проверяя, документы в прозрачной папке, вошел в приемную, поздоровался с новой секретаршей, наглядно воплощавшей принцип омоложения аппарата, и сквозь темный тамбур между полированными дверями прошел в кабинет Крутилина.
Полковник был молод для своего звания и должности — недавно ему исполнилось сорок четыре. Жесткие черные с заметно пробивающейся сединой волосы, выпуклый лоб, светлые навыкате глаза, массивный прямой нос, нависающий над верхней губой, округлые щеки и детский, с ямочкой, подбородок.
Стоя под тяжелым взглядом почти навытяжку, Мишуев доложил результаты работы по «сицилийцам». Доложил удачно: ни разу не заглянув в бумаги и не сбившись.
— Почему на оперативное совещание при начальнике управления идете вы, а не руководство уголовного розыска? — глухим рокочущим голосом спросил Крутилин и презрительно выпятил нижнюю губу.
— Полковник Силантьев болен, — быстро ответил Мишуев и, чуть помешкав, продолжил:
— Игнатов… В общем, Игнатов послал меня.
— Понятно… — с тем же презрительным выражением протянул Крутилин. — У него более важные дела… Ладно! Посмотрим, как он уйдет: по выслуге или по служебному несоответствию!
На Мишуева будто холодом дохнуло.
«Ну и крут мужик! Верно говорят — не одну шкуру спустит!»
— И с чем же вы идете на оперативное совещание при начальнике управления? — голосом, не предвещающим ничего хорошего, продолжал полковник.
— С этой хреновиной?
Он кивнул на пластиковую папку, и Мишуев инстинктивно спрятал ее за спину.
— Анализ камня, идентичность карьера, — передразнил Крутилин. — И что дальше? Установили — камень из этого разреза. Ну? Его по паспорту выдали с записью в книге регистрации? Кому мозги припудривать?! Нужен круг отрабатываемых лиц, улики, приметы, связи! Нужна информация из уголовного мира: почерк, клички, «черные» автоматы! Вот работа сыщиков. А камень и следователь с экспертами изучат, вам вообще нечего туда лезть!
Крутилин резко встал из удобного кожаного с высокой спинкой кресла так, что оно, дребезжа металлическими колесиками, отъехало к стене, подошел вплотную к начальнику отдела особо тяжких, как будто хотел ударить. Мишуев непроизвольно попятился.
— А если не хотите работать или не получается, надо честно сказать и идти в народное хозяйство, мы вас поддержим, — другим, неожиданно миролюбивым тоном продолжил полковник. — И не надо никаких академий, чего деньги тратить…
Крутилину нравилось внушать страх, и он умел это делать. Он «колол» самых отпетых бандитов, чем и был известен во всех северных тюрьмах, колониях и пересылках. Сломив чужую волю, он переходил на мягкий, доброжелательный тон, который резко не соответствовал смыслу произносимого, и окончательно деморализовывал жертву.
Сейчас ему тоже удалось достигнуть цели — Мишуев чувствовал себя бесформенным пластилиновым комочком, над которым навис гранитный кулак.
— Жаль, меня не было в городе, я бы с места происшествия след зацепил, — так же мягко, даже с некоторой долей сочувствия говорил полковник. — Беда в том, что у вас профессионалов нет… Разве что Сизов… Я посмотрел все разработки отдела — он один действует как настоящий сыскарь.
По пристальному взгляду Крутилина Мишуев понял, что тому прекрасно известно о его взаимоотношениях с бывшим наставником.
— Я не все доложил, — попытался он выправить положение, но Крутилин отмахнулся.
— На совещании доложите. Там и послушаем, и решим, кто на что способен. Если работать тяжело, не справляетесь — пишите рапорт. Чего зря хлеб есть!
Последнюю фразу полковник произнес почти дружески.
Оставшиеся свободными десять минут Мишуев нервно курил в закутке на площадке лестницы черного хода.
«Ну их к черту, такие оперативки! — заторможенно думал подполковник, чувствуя, как постепенно высыхает спина. — Пусть Игнатов ходит, он за это деньги получает. Тут не авторитет заработаешь, а голову потеряешь.
Как с ним работать? Зверь! Пожалуй, Павлицкого он сожрет. Непременно сожрет! И всех его людей, как водится. И тех, кто стоял в стороне, обязательно… Ну и бойня будет! Нет, надо дергать в Москву. Пересидеть два года, пусть все закончится, устоится… Только похоже, что с этой идеей ничего не выйдет. Пока не раскроем „сицилийцев“, он и заикнуться об учебе не даст…»
В примыкающий к генеральскому кабинету зал заседаний Мишуев заходил в самом скверном настроении.
Начальник управления генерал-майор Павлицкий занял свое место во главе стола ровно в шестнадцать, как и было назначено. Выглядел он не по-генеральски — маленький, сухой, подвижный — и потому постоянно носил форму и требовал того же от подчиненных. Поэтому двенадцать человек по обе стороны длинной полированной столешницы были облачены в казенное сукно серого и защитного цвета. Только тринадцатый позволил себе явиться в светлом импортном костюме свободного покроя и сел не как все, а напротив генерала, в противоположный торец стола, получив возможность бесцеремонно осматривать собравшихся выпуклыми льдистыми глазами. У него был властный вид, внушительная фигура, уверенные манеры, и если бы посторонний человек вошел в зал, он бы не сразу определил, с какой стороны находится «глава стола» и кто руководит оперативным совещанием.
На такой эффект Крутилин и рассчитывал. Чувствовалось, что он собран и готов постоять за себя, если начальник попытается поставить его на место. Но генерал начал совещание как ни в чем не бывало, и, хотя на лицах офицеров ничего не отразилось, можно было с уверенностью сказать, что этот факт обязательно станет предметом кулуарного обсуждения и сделанные из него выводы окажутся не в пользу Павлицкого.
Первым заслушали начальника управления исправительных дел о массовых беспорядках в шестой колонии, затем докладывал Мишуев. На этот раз главное внимание он сосредоточил на Алексее Сивухине как перспективном фигуранте для дальнейшей разработки, про кусок ракушечника и поиск карьера упомянул вскользь, зато рассказал об отработке автовокзалов, которой занимается Сизов.
Сообщение прозвучало весомо, даже Крутилин к концу перестал презрительно кривиться. Генерал задал несколько вопросов о Сивухине, Мишуев толково ответил.
— Есть предложение одобрить проводимую отделом работу и предложить активизировать линию розыска использованного преступниками автомата, — подвел итог Павлицкий.
Возражений не было. Мишуев сел на место и перевел дух. Сивухин, конечно, пузырь, который рано или поздно лопнет. Но сегодня он удержал его на плаву, а это очень важно — не утонуть сейчас, сию секунду, потому что завтра будет уже другая ситуация, другие доказательства, другая обстановка.
Подполковник вполуха слушал выступление начальника УБХСС, совсем не слушал зама по хозяйственной работе, который возмущался нерациональным использованием автотранспорта, и насторожился, когда слово взял Крутилин.
— Я согласен с предыдущим выступлением. — Полковник навис над столом, упираясь в деревянную поверхность побелевшими пальцами. — Машины должны использоваться для раскрытия преступлений, расследования и выполнения других конкретных задач службы. На работу и домой можно ездить общественным транспортом. Поэтому я свою машину отдаю в пользование оперативного состава управления и призываю других сделать то же самое. Это раз!
Полковники, подполковники и один майор недовольно зашевелились.
— Второе, — не обращая внимания на возникший шумок, невозмутимо продолжал Крутилин. — Отмечаю низкий уровень исполнительской дисциплины руководства уголовного розыска. Я работаю полтора месяца, за это время Силантьев не выходил на работу по болезни, Игнатов самоустранился от руководства службой в связи с тем, что готовится к уходу на пенсию. Предлагаю на следующем оперативном совещании заслушать Игнатова и решить вопрос о его служебном соответствии. При отрицательном решении изменить основание увольнения с соответствующим уменьшением пенсионного содержания…
Присутствующие загудели. Пенсия, выслуженная за двадцать пять лет, — самое святое, что есть у увольняемого офицера. Замахиваться на нее не принято. Тем более что каждый может легко представить себя на месте обиженного.
— Третье, — полковник повысил голос. — При таком положении вещей совершенно не продумано направление в академию Мишуева. Учиться, конечно, надо, и, если он возьмет «сицилийцев» или хотя бы выйдет на них, можно будет его отпустить, но не оголяя руководства уголовным розыском! Значит, надо производить омоложение аппарата, особенно начальников отделов и управлений…
Дальше Мишуев не слушал. «… Или хотя бы выйдет на них…» Значит, не все потеряно…
Крутилин сел, глядя прямо перед собой. Получалось, что он смотрит на генерала.
— Вы закончили, товарищ полковник? — очень вежливо спросил Павлицкий.
— Закончил.
— Подведем итог, — не вставая, сказал генерал. — По первому пункту вы приняли решение, полностью входящее в вашу компетенцию. Отказ от использования личной машины можно приветствовать. Надеюсь, другие руководители последуют вашему примеру… А если нет, возможно, я сам издам соответствующий приказ…
Недовольный шумок снова всколыхнулся над длинным полированным столом.
— Может, действительно всем целесообразно пересесть на городской транспорт? Тем более мне известно, что вы задерживаете в нем карманников. На вашем счету четырнадцать задержаний по месту прежней службы и восемь — в московском метро, во время учебы. Я не ошибаюсь?
Крутилин очень внимательно посмотрел на генерала. В комнате стало тихо.
— Нет, товарищ генерал, не ошибаетесь. Все точно.
— Вот и хорошо, — кивнул Павлицкий. — Может быть, на транспорте установится порядок. Хотя лично я считаю, что руководители областной милиции имеют возможность более эффективными методами бороться с преступностью.
Крутилин, набычившись, не сводил с генерала внимательного взгляда.
— По второму и третьему пунктам, — монотонно говорил генерал. — Вы являетесь куратором оперативных служб и отвечаете за работу уголовного розыска. Поэтому для вас открыто широкое поле деятельности. Действуйте!
Принимайте решения в пределах своей компетенции, вносите предложения, если вопрос выходит за ее пределы. Кого увольнять, кого посылать на учебу, кого назначать на должность — это, извините, буду решать я. Снижать пенсию я никому не собираюсь, надо быть людьми и понимать: существуют болезни, усталость, нервные стрессы. Отбирать за это то, что пожилой человек зарабатывал всю жизнь, просто несправедливо…
— Правильно, Семен Павлович! — от души выкрикнул начальник УИД, и все одобрительно зашумели, бросая косые взгляды на Крутилина. Тот еще больше набычился, как боксер, прячущий подбородок от нокаутирующего удара.
— И последнее. Существует порядок, субординация, дисциплина. Я настоятельно прошу вас приходить к начальнику управления в форменной одежде.
Генерал выдержал паузу и, добродушно улыбнувшись, добавил:
— А в трамвае можете ездить в штатском. Что поделаешь, если у вас такое хобби!
Одиннадцать офицеров расхохотались. Мишуев улыбнулся одной половиной рта — той, что была обращена к генералу. Лицо Крутилина осталось невозмутимым.
— Все свободны, — объявил Павлицкий и встал.
Загремели стулья. У широкой двери, в которой открывалась только одна створка, на мгновение возникла давка.
— Ну и выдрал Семен Павлович этого петуха, — не особо снижая голос, говорил начальник информационного центра. — Насухую выдрал… Причем культурно…
Руководители курируемых Крутилиным служб открыто высказываться избегали, но перешептывались с улыбками. Поражение «варяга» было наглядным для всех, кроме него самого.
— Доложился неплохо, — буркнул он Мишуеву на ходу. — Лучше, чем у меня в кабинете. Жми на этого типа, он, видно, еще не полностью лопнул. И скажи своим: пусть дурака не валяют, шкуру спущу!
В коридорах управления было людно: сегодня давали зарплату, поэтому к концу работы все сходились на службу. К этому дню планировалось и возвращение из командировок.
Идя к себе, Мишуев покосился на дверь с цифрой 78, хотел было зайти, но передумал. Пусть сам, невелик барин.
За дверью семьдесят восьмого кабинета Губарев и Сизов доедали красногорскую колбасу, пили чай и вели тихую беседу.
— Я, говорит, вообще отошел, связи растерял, дайте жить спокойно, — пересказывал Губарев.
Сизов хмыкнул:
— Ну-ну…
— А этот, последний: «С дорогой бы душой и всем почтением, но нет ничего такого на примете, даже краем уха не слыхал…»
Старик доел бутерброд.
— Значит, один наган зацепил? Ну-ну… Нам-то он ни к чему, напиши рапорт да отдай в Прибрежный райотдел, пусть занимаются.
Губарев приготовил лист бумаги и тут же, чертыхнувшись, поднял его со стола — в нижней части расплывался мокрый полукруг.
— Стакан не вытер. Сегодня в Центральном дежурный на готовый протокол кофе пролил. Да, кстати, там Фоменко вертелся. Меня увидел — хотел спрятаться, спросил, что делает, — не ответил… Странно как-то.
Сизов молча поднял телефонную трубку, набрал четыре цифры внутреннего номера.
— Здравствуйте, товарищ Крылов. Как жизнь проходит? У всех быстро…
Слушай, Саша, что там у вас сегодня делал Фоменко? С кем работал? А на кой ему этот хулиган сдался? Ну и как, расколол? Да ты что! А, вот оно как. А для чего это им обоим? С тем-то ясно: лопнул, и все… А наш-то?
Чья команда? Вот так, да? Ладно, спасибо. До связи.
Сизов положил трубку.
— Ну что? — спросил Губарев, но Сизов не успел ответить, как в кабинет без стука вошел Фоменко.
— Здорово, мужики! — Он поспешно сунул каждому руку, быстро отдергивая ее обратно. — Зарплату получили? Ну и класс! Запирайте дверь…
Он распахнул пиджак и показал приткнутую за брючным ремнем бутылку водки.
— Как обещал, помните, Игнат Филиппович? Фоменко зря слово не бросит…
— Чем ты там занимался в Центральном с такой секретностью? — спросил Сизов. — Своих дел мало, решил району подсобить?
Фоменко с отвращением скривился.
— Да по «сицилийцам»… Выходы на автоматы ищу. Начальник велел не распространяться…
— Это что, его идея?
— Ну да… — Фоменко нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Хватит про работу, Игнат Филиппович, она и так в печенках сидит… Валек, нарежь закуску.
Он резко вынул из бокового кармана плавленый сырок с яркой зеленой этикеткой.
— Закуска у тебя всегда богатая, — отметил Губарев. — Игнат Филиппович, там колбаски не осталось? У меня полбатона есть и банка тушенки заначена.
Сизов порылся в сейфе, извлек мятую оберточную бумагу, в которой оказался небольшой кусок колбасы с веревочным хвостиком.
— Класс, мужики! — Фоменко суетливо застилал стол газетой. — Сейчас накроем, как в ресторане…
Сизов задумчиво оторвал веревку, понюхал зачемто колбасу и положил на стол. Как и большинство сотрудников уголовного розыска, он был не дурак выпить и еще помнил времена, когда в конце работы оперсостав, перед тем как разойтись по домам, открыто распивал несколько бутылок водки под немудреную закуску, чтобы снять напряжение и забыть кровь, грязь, человеческую жестокость, подлость и коварство, с которыми пришлось столкнуться вплотную за прошедшую смену.
Времена меняются — уже не ухватишь, выскочив на несколько минут в соседний гастроном, полкило любительской и отдельной, по триста граммов швейцарского и голландского, которые продавщица нарежет аккуратными тоненькими ломтиками, да и водку, если не зайдешь со служебного входа, не купишь без очереди, хотя она, зараза, и подорожала в четыре раза.
Но главное — отношение изменилось к этому делу. Закручивали постепенно гайку и завинтили до упора. Новые времена. А кровь и мозги человеческие выглядят, как и раньше, и запашок от лежалого трупа тот же, и в морге веселей не стало… А когда на пушку или нож выходишь, сердце еще сильней колотится да давление выше прыгает, чем тогда, — годы-то набежали. А антистрессовых препаратов не изобрели, остается старое, проверенное средство, тем более и привычка какая-никакая выработалась, никуда не денешься… У каждого в разной степени. Вот Фоменко — аж трусится от нетерпения, а Губареву просто любопытно, молодой еще… Хотя Веселовский тоже молодой, а очень уважает, ни одной возможности не упустит.
Старик прислушался к своим ощущениям. Он знал, что его искал Мишуев, и сам собирался к начальнику с рапортом, но расслабиться действительно не мешало. К подполковнику можно зайти завтра с утра.
Но, глядя на дружные хозяйственные приготовления Губарева и Фоменко, он почему-то не ощутил умиротворения и не настроился на общую волну предвкушения предстоящего застолья.
— Готово! — Фоменко придирчиво осмотрел разложенные на газете листы белой бумаги — вместо тарелок, горку нарезанного хлеба, сырка и колбасы, открытую банку консервов. — Сейчас, только стаканы вымою…
Он рванулся к двери.
— А Веселовского ты не звал? — спросил Сизов.
Фоменко остановился и поставил стаканы.
— Да я что-то его не понял, Игнат Филиппович. — Он широко развелруками, изображая крайнюю степень удивления. — Показал пузырь — он обрадовался, руки потер, у меня, говорит, бутерброды есть… Я говорю, мол, идем к ребятам, я Игнату Филипповичу обещался. А он подумал-подумал и отказался. Мол, работы много… — Фоменко снова собрал стаканы и понизил голос до шепота:
— Я думаю, он себя уже начальником чувствует. Ну и вроде как не хочет, чтобы все вместе…
Фоменко подмигнул.
— Ну и ладно, нам больше достанется. Я мигом. — Плечом он отдавил дверь и вышел в коридор.
Сизов посидел молча, хмыкнул.
— Ну-ну…
Встал, извлек из ящика стола свой рапорт.
— Ты вот что. Валек, пить-то вредно, помочи губы для вида, поддержи компанию. Я к Мишуеву.
Он направился к двери, на пороге остановился.
— И еще. Будете уходить — посмотри за ним. Если пойдет по центральной лестнице — не пускай. Сведи по запасной, во двор, а выйдет пусть через «город».
Здание областного УВД имело общий двор с городским, расположенным перпендикулярно. Фасады и соответственно подъезды выходили на разные улицы.
— Зачем это? — удивился Губарев.
— Потом скажу.
В коридоре Сизов столкнулся с сияющим Фоменко.
— Ну, погнали, — начал тот и осекся. — Куда же вы, Игнат Филиппыч?
— Начальник вызвал.
Лицо Фоменко потухло.
— Мы подождем…
— Да нет, начинайте сами. Дело, видать, долгое…
— Жаль… — Фоменко снова оживился. — Ну дай Бог не в последний раз.
Он юркнул в дверь семьдесят восьмого кабинета, раздался щелчок замка.
Сизов направился к кабинету Мишуева.
Начальник отдела особо тяжких находился во взвинченном состоянии.
Анализируя выпад Крутилина в свой адрес и неожиданное заступничество генерала, он понял, что оказался между молотом и наковальней. Превратиться в фигуру, на которой начальники будут что-то доказывать друг другу, — этого и врагу не пожелаешь. Любая твоя ошибка становится козырем в чужой игре, а кто работает без ошибок…
Сизов вошел без стука.
— Вызывали? Мишуев уставился на подчиненного тяжелым, как у Крутилина, взглядом, но тут же почувствовал, что сходство в данном случае может носить только пародийный характер. Раздражение усилилось.
— Вами крайне недоволен начальник управления.
Мишуев сделал паузу, наблюдая за реакцией Сизова, но тот не проявил ни малейшего беспокойства или хотя бы заинтересованности.
— Ему звонил председатель областного суда, рассказал о вашем визите, генерал спрашивает меня, а я ничего не знаю. Пришлось выслушать про недисциплинированность подчиненных, нарушение субординации, имитацию активной деятельности в ущерб конкретной работе.
Сизов шагнул вперед и положил перед начальником отдела исписанный лист бумаги.
— Результаты моей конкретной работы отражены в этом рапорте.
Мишуев бегло просмотрел документ, потом прочел еще раз, уже внимательней, растерянно провел ладонью по лбу.
— Ничего не понимаю. Вы что, ревизуете судебные дела? И зачем ехать за тысячи километров? Проверять правильность приговора?
— Это не моя задача, — равнодушно ответил Сизов. — Хотя проверка тут бы не помешала.
— Что вы имеете в виду? — Отхлынувшее на миг раздражение накатило с новой силой.
— То, что сказал. Дело слеплено на соплях. Кроме признания обвиняемого, ничего и нет. Да и признание странное: дачу он едва нашел, мотив убийства толком не объяснил, нож описал смутно, куда выбросил — показать не смог. Вот я и хочу узнать, держал ли он вообще тот нож в руках…
— Кем вы себя воображаете? Членом Верховного Суда?! Ваша задача — отыскать «сицилийцев»! — Не сдержавшись, Мишуев сорвался на крик, но тут же взял себя в руки и продолжил более спокойно:
— Выбросьте из головы беспочвенные фантазии и присоединяйтесь к той работе, которую успешно ведет Веселовский. Вы должны подавать пример молодым и менее опытным товарищам. Нельзя подчинять общее дело личным амбициям.
— Вы отказываете мне в командировке? — по-прежнему невозмутимо спросил Сизов.
— Безусловно! Незачем впустую тратить время и расходовать государственные деньги! — Подполковник пристукнул по столу кулаком, давая понять, что говорить больше не о чем.
— Наложите резолюцию на рапорт. Я буду обжаловать ваше решение руководству. Заодно доложу о причинах, заставивших меня обратиться к архивным делам.
Сизов говорил строго официально, и Мишуеву стало ясно: прямо сейчас он отправится к Крутилину или Павлицкому и наболтает там такого, что начальнику отдела будет трудно объяснить, почему он пресекает похвальную инициативу сотрудника. А если Крутилин уцепится за эту старую историю…
Мишуев придвинул рапорт, выдернул из настольного календаря шариковую ручку, занес над бумагой.
— Хорошо, сделаем эксперимент. Решили допросить давно осужденного Батняцкого? Полагаете это полезным для дела? Действуйте.
Мишуев написал на рапорте: «Считаю целесообразным» — и размашисто подписался.
— Только я думаю, что эта поездка ничего не даст. Кроме вреда. Потому что вы оголяете свой участок работы и перекладываете ее на коллег. Кроме того, зря тратите время и деньги. Посмотрим, кто окажется прав: вы или я. Кстати, доложите, чем вы занимались сегодня весь день.
Выслушав доклад, подполковник отпустил Сизова. Когда дверь за оперативником закрылась, Мишуев обмяк, подпер голову руками и тяжело задумался. Он вышел из сложившейся ситуации единственно возможным способом и даже оставил за собой последнее слово. Но что дальше?
В семьдесят восьмом-кабинете раскрасневшийся Фоменко учил жизни Губарева:
— Да гори она огнем, эта ментовка! Ты что, не заработаешь свои две сотни на гражданке? Беги, пока молодой! Потом затягивает: надбавки за выслугу, стаж для пенсии… А чуть оступился, уволили до срока, вот пенсия и накрылась.
Он достал из-за тумбы стола на три четверти опустошенную бутылку, с сожалением взболтнул содержимое.
— Надо бы две взять… Давай стакан.
— У меня есть. — Губарев показал, что не выпил до конца.
— Как хочешь. — Фоменко вылил остатки водки себе, придвинул графин с водой поближе, приготовил кружок колбасы.
— Давай за то, чтоб я дослужил до полной выслуги! А ты… чтоб не уродовался на этой проклятой службе. А то дадут по башке, как мне…
Ладно, будь!
Он залпом выпил водку, лихорадочно плеснул из графина, запил и принялся жевать колбасу.
— До сих пор башка раскалывается, особенно осенью и весной. Так и боюсь, что еще схлопочу по ней, тогда каюк… Как дотяну до выслуги — сразу уйду. Так еще хрен получится: видишь, какая каша заваривается? Крутилин с генералом тягается, Мишуев чего-то на Старика взъелся… А я ничего не хочу, только чтоб не трогали. И на Старика удивляюсь: у него давно выслуга есть, а уходить и не думает… Хотя он настоящий сыщик, ему жизни нет, если по следу не бежать, комбинации не разыгрывать…
На площадке второго этажа Сизов снял и перебросил через плечо пиджак, ослабил и сбил на сторону галстук и развинченной походкой пошел по лест-нице вниз.
В вестибюле стоял длинный болезненно худой Бусыгин — самый противный сотрудник инспекции по личному составу, рядом — Шаров из политотдела, в дверях дежурной части напряженно застыл ответственный — майор Семенов.
— Товарищ майор, можно вас на минуту? — обратился Бусыгин к Сизову.
И, когда тот подошел, спросил:
— Почему вы в таком странном виде?
— Жарко, — невнятно буркнул Старик, отвернув лицо в сторону. Он видел, как Семенов досадливо махнул рукой и скрылся за дверью. Бусыгин оживился:
— Жарко? А чем от вас пахнет?
— Не знаю, — так же невнятно ответил Старик. — Капли выпил от сердца.
— Ах капли! — Бусыгин совсем расцвел. — Тогда попрошу пройти на секундочку в дежурную часть.
Он показал рукой, будто Старик не знал, куда надо идти.
— Прошу! — Сизов на ходу надел пиджак, привел галстук в нормальное положение и первым вошел в дежурку. Семенов уже сидел за пультом, а в углу, под схемой расстановки патрульно-постовых нарядов, приткнулся на табуретке фельдшер из медпункта.
— Здравствуй, Андрей. — Сизов протянул Семенову руку. — У тебя есть акт на опьянение? Тут Бусыгин какой-то цирк устроил, надо его проверить.
Как раз удачно — и доктор здесь, и индикатор трезвости наверняка поблизости. Давай оформляй.
Семенов захохотал и от полноты чувств врезал кулаком по подлокотнику кресла.
— Надумал щенок поймать матерого волка… Ну, давайте попробуем, кто из вас того…
Шаров тоже не смог сдержать улыбку, а до Бусыгина дошло не сразу: он всматривался в Сизова, и лицо его постепенно принимало обычное кислое выражение.
— Чего смешного? Был сигнал, мы обязаны проверить, — угрюмо выговорил он.
— Сигнал, говоришь? — продолжал веселиться Семенов. — Какая же это… такие сигналы дает? Вы теперь с того сигнальщика спросите!
— По телефону… Как тут спросишь…
Бусыгин резко повернулся и почти выбежал из дежурной части.
Придя домой, Сизов позвонил Губареву.
— Как дела, Валентин?
— Ничего, обошлось, — крякнул Губарев. — Фоменко рвался через центральный подъезд выйти, еле оттащил. А там инспекция пьяных отлавливала… Откуда узнали-то, Игнат Филиппыч?
— Узнал… Значит, рвался? Ну ладно, будь!
Не кладя трубку. Старик набрал номер Веселовского.
— Как жив-здоров, Александр Павлович?
— Кто это? — быстро спросил тот.
— Неужто не узнал? Несколько секунд телефон молчал.
— А-а-а, здравствуйте, Игнат Филиппыч! Преувеличенно бодрый тон не мог скрыть напряжения в голосе.
— Бусыгин передал тебе привет.
Снова пауза.
— А я-то при чем? Я ничего… Что Бусыгин?
Сизов опустил трубку на рычаг.
Глава восьмая
До Москвы Сизов долетел за полтора часа, затем сутки провел в вагоне поезда Москва-Воркута. Вынужденное безделье вопреки ожиданию не тяготило его, привыкшего к каждодневной круговерти срочных заданий, неотложных дел и всевозможных забот. Половину дороги он проспал, а потом бездумно смотрел в окно, отказавшись играть в карты и выпивать с тремя хозяйственниками средней руки, успешно решившими в столице какой-то свой вопрос. Он не любил случайных знакомств и избегал досужих расспросов, обычных при дорожном общении.
В Микуни он вышел из вагона, провожаемый любопытными взглядами попутчиков: режимная зона, здесь царствовало управление лесных колоний и высаживались, как правило, только люди в форме внутренней службы — гражданские объекты поблизости отсутствовали.
По однопутке допотопный паровоз потащил короткий состав в глубь тайги, и через несколько часов Сизов шагнул на перрон маленькой станции, которая, казалось, выплыла из начала сороковых годов: игрушечный вокзальчик красного кирпича, бревенчатая пристройка «Буфет», давно забытые медные краны и указатель «Кипяток».
И патруль, безошибочно подошедший к нему — единственному штатскому среди пассажиров вагона.
— Гражданин, ваши документы и цель приезда, — козырнул старший лейтенант с заношенной красной нарукавной повязкой, на которой когда-то белые буквы составляли непонятную непосвященным аббревиатуру ДПНК (дежурный помощник начальника колонии). У двух подтянутых настороженных прапорщиков на повязках были другие надписи: Кон. ВН (контролер войскового наряда).
Сизов предъявил удостоверение и расспросил, как пройти в «Комилес».
Управление располагалось рядом со станцией в новой четырехэтажке из красного кирпича. Любому приезжему бросалась в глаза скрытая связь между вокзалом и управлением: во всем поселке только эти два здания были выстроены из нетипичного для лесного края стройматериала. Но лишь человеку, знающему о соотношении бюджетов «Комилеса» и местного исполкома, было ясно, кто кому оказал похозяйски «шефскую помощь».
Начальник оперативно-режимного отдела — шустрый молодой капитан, привыкший схватывать вопрос на лету и тут же с ним разделываться, затратил на Сизова пять минут.
— Батняцкий? Фамилия ничего не говорит. Значит, не отличался. Какое учреждение? Тройка? Тогда быстро…
Он нажал клавишу селектора, вызывая дежурного.
— Лезвин еще не уехал? У тебя? Быстренько ко мне.
И пояснил:
— Начальник «стройки». Его как раз только сейчас выдрали, по дороге обязательно будет вам жаловаться, приготовьтесь. Зато вечером наверняка…
* * *
Он звонко щелкнул себя по горлу и подмигнул.
— Так что можно и потерпеть. Верно?
Сизов Промолчал. Он не любил фамильярности.
— А вот и Лезвин, знакомьтесь! В кабинет вошел пожилой майор с лицом неудачника. Впрочем, Сизов подумал, что если бы на его плечах были полковничьи погоны, он бы не выглядел пожилым и не казался неудачником — просто хмурый усталый мужик лет под пятьдесят.
Почти всю дорогу он молчал. «УАЗ» ходко углублялся в тайгу. С двух сторон выложенную из бетонных плит дорогу обступала глухо шумящая зеленая стена. Из леса сильно тянуло сыростью. С каждым километром пляшущее над бетонкой облако гнуса уплотнялось.
Сизов представил эти места зимой. Мороз, жесткий, как наждак, снег, безлюдье…
— Снега много наметает? — спросил он, чтобы завязать разговор.
Лезвин уверенно вел машину. Сизова вначале удивило, что он обходится без водителя, но, судя по манере езды, начальник колонии часто садится за руль.
— Снега? — отозвался он. — Скоро покажу…
Сизов не понял, что ему собираются показать: было тепло и невозможно представить, что где-то, даже в самой чащобе, сохранился снег.
Бетонные плиты кончились, машину затрясло по бревенчатой лежневке.
Лезвин сбавил скорость.
— Вон, справа, видите? Сквозь поредевшую стену леса просматривалась обширная вырубка. Бросалась в глаза одна странность: высоченные, до полутора метров, пни.
— Вот столько наметает. — Лезвин выругался. — За это я в прошлом году выговор схлопотал.
— За снег? — снова не понял Сизов.
— Да не за снег, — досадливо сказал Лезвин. — За своих долбо… Они перед тем, как пилить, должны утоптать до земли, чтобы от корня оставить не больше десяти сантиметров. А это работа нелегкая и в план не идет.
Вот и срезают там, где снег заканчивается!
— Есть же бригадир, мастер…
— Такие же долбо… — повторил Лезвин с прежней досадой. — И так же заинтересованы в кубометрах. К тому же сразу в глаза не бросается, а когда растает, лесная инспекция и поднимает тарарам… Штрафы, предписания, протоколы. Кто виноват? Зэков-то пайки не лишишь, а начальнику в самый раз строгача закатать.
Лезвии притормозил, мягко перекатившись через прогнившее бревно.
— А лесовики не отстают: проведите санитарную расчистку леса — и все!
Поспиливайте до положенного уровня — и баста! А кто будет из-за этих огрызков человеко-часы затрачивать?
— Так вас сегодня из-за этого? — поинтересовался Сизов.
— Да нет. Дважды за одно не бьют. Два офицера рапорта на увольнение подали…
Лезвин тяжело вздохнул.
— Их тоже понять можно. Службу закончили, хотят отдыхать, а я их посылаю лежневку чинить. Конечно, не нравится. А кто меня поймет? Бревна то гниют, то расходятся на болоте, без ремонта за сезон можно дорогу потерять. На пятый ЛЗУ сейчас только на вездеходе проедешь.
— А почему офицеров? Бригаду осужденных поставить — и все дела!
— А кто будет кубики давать? У нас каждый день в пять часов селектор, и знаешь, что генерал спрашивает? Не про оперативную обстановку, не про политиковоспитательную работу, не про подготовку к освобождению. Вопрос один: выполнен план? И не дай Бог сказать «нет». Так что зэков на это дело отвлекать нельзя. Что остается? Обстоятельства на меня давят, а я на офицеров. В результате «неумение работать с личным составом» и очередной выговорешник!
Лезвин снова выругался.
— Я уже двадцать лет майор, десять — здесь, на полковничьей должности. Видно, майором и сдохну.
Впереди показались сторожевые вышки.
— Приехали, — утомленно сказал Лезвин. — Сейчас попаримся, банька должна быть готова — и на ужин. Заночуете у меня, жена полгода как уехала.
После бани Лезвин немного размяк. Чувствовалось, что владевшее им внутреннее напряжение прошло. Сноровистый сержант накрыл стол в небольшой кухне типовой квартиры — если не выглядывать в окно, можно было легко представить, что находишься в новом микрорайоне Свердловска, Москвы или Тиходонска. Только обилие на столе грибов — жареных, маринованных, соленых, банка моченой брусники и мясо тетерева выдавали месторасположение жилого блока лесной исправительно-трудовой колонии строгого режима.
Лезвин отпустил сержанта, оценивающе глянул на Старика и поставил на стол две бутылки водки и граненые стаканы.
Притомившийся с дороги и не евший целый день, Сизов сразу охмелел и усиленно принялся за закуску. Лезвин лишь цеплял вилкой скользкие маринованные грибы.
— Через два года пенсия — уеду в Ташкент. Не бывали? Жаль, расспросил бы… Правда, говорят, нельзя резко климат менять. С минус пятидесяти до плюс пятидесяти — даже чугунный котелок растрескается. А организм-то привык за десять лет…
Лезвин хлопнул ладонью по столу.
— Десять лет! Срок! Они там, — он показал рукой в стену, — мы здесь.
Вот и вся разница. А мороз, глушь, лес кругом — это общее. Не задумывались?
— Преувеличиваете, устали, наверное, — с набитым ртом ответил Сизов.
— Устал, точно… Не обращай внимания. Со свежим человеком всегда на болтовню тянет, дело-то к старости. А тут как? Сижу один, даже выпить не с кем. С подчиненными невозможно — надо дистанцию держать. Одному — страшно… Раз, два — и готово. Сам не заметишь, как сойдешь с катушек.
Но в последнее время позволяю.
Лезвин с силой провел рукой по лицу, снова наполнил стаканы.
— Жена, правда, пообещала вернуться, дотерпит два года. А одному здесь труба. Давай.
Глухо звякнуло толстое стекло.
— Брусникой попробуй закуси, — переведя дух, посоветовал Лезвин. И без всякого перехода сказал:
— А ты такой же… — Он замялся, подбирая слово, но так и не нашел подходящего. — С какого года? Постарше меня, значит… А тоже майор. И жены, видно, нет.
— Откуда знаешь? — удивился Старик.
— Вижу. Я ведь тоже сыскарь. Начинал инспектором оперчасти, так и прошел всю лестницу — до начальника.
Лезвин хитро улыбнулся.
— Скажешь, в огороженной зоне легче преступника ловить, чем по всей стране? И за банку сгущенки мне любое преступление раскроют?
Сизов промолчал. Все аргументы в вечном споре оперативников ИТК и сыщиков уголовного розыска были ему хорошо известны и собственная позиция определена предельно четко. Но обижать хлебосольного хозяина не хотелось.
— Но это только на первый взгляд все просто, — запальчиво продолжал Лезвин. — Ты с нормальными людьми работаешь — свидетели, потерпевшие, вообще все вокруг. А здесь какой контингент? Светлых пятен нету!
Лезвин открыл вторую бутылку.
— Развелся? — неожиданно вернулся он к прежней теме.
— Ага… — Сизов придвинул стакан. — Бес попутал на молодой жениться…
Они снова выпили. Лезвин заметно опьянел и начал рассказывать про свою жизнь. Старик этого не любил, но сейчас раздражения не испытывал. В черноте за окном шумела невидимая тайга, сзади, со стороны охраняемой зоны, изредка доносились резкие выкрики часовых. Тиходонск остался где-то далеко-далеко, и все заботы куда-то бесследно исчезли. Он ощущал приятную истому и умиротворенность, которой не испытывал уже давно.
Лезвин разбудил его в шесть утра. Он был бодр, подтянут и официален.
Гладко выбритые щеки, запах хорошего одеколона, выглаженная форма.
Через сорок минут, позавтракав остатками вчерашнего ужина и выпив крепчайшего, приготовленного Лезвиным чая, они были в кабинете начальника колонии.
— Хотелось бы вначале получить ориентирующую информацию о Батняцком, — усевшись на жесткий стул у приставного столика, сказал Сизов. — Кто он, чем дышит, как ведет и так далее.
— Знаем такого… — сказал Лезвин, подходя к картотеке и выдвигая ящичек с наклеенной буквой Б. — Я их всех знаю. Сейчас найдем…
Через несколько минут Лезвин извлек прямоугольную карточку из плотной бумаги.
— Так, вот он. Судим за хулиганство к двум годам, отбыл год. Второй раз — причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, — двенадцать лет. Осталось ему, сейчас скажу… Пять лет шесть месяцев и семнадцать дней. Поощрения, взыскания…
Лезвин протянул карточку Сизову — тот быстро просмотрел убористый текст.
— Благодарность за опрятный внешний вид, выговор за курение в неположенном месте… Мелковат масштаб.
— Правильно подметили, — кивнул Лезвин. — А поначалу записного урку изображал: жаргон, рассказы про громкие дела… Только птицу видно по полету — здесь его быстро раскусили, поутих. Отрицаловка не признала, в актив не пошел, так и болтается посередке. Статья у него серьезная, гордится ею, по их ублюдочным порядкам это вроде институтского диплома. Хозяйственники, мужики, бытовики приходят — он перед ними хвост распускает, воровскому «закону» учит. И с начальством старается не ссориться. В общем — и нашим, и вашим.
Как-то записался на прием, спрашивает: если на следствии и в суде не правду сказал, что делать? У них у всех это бывает: психологический кризис — невмоготу больше сидеть, и все! Тут глаз да глаз нужен: может в петлю влезть, или на запретку под пулю сунуться, или в побег пойти, хотя куда здесь бежать… Чаще начинают биографию выправлять, писать во все концы: мол, чужую вину взял или враги оговорили… Пишут, ответа ждут, получают, читают, снова пишут, а время катится, глядишь, кризис и прошел. Так и с Батняцким — объяснил ему порядок пересмотра дела, только он, кажется, и не подавал.
Лезвин посмотрел на часы.
— Через полчаса их выводят на лесоучасток. Хотите поговорить с ним сейчас — я дам команду. А если еще что-то надо подработать, может, приговор почитать, тогда до вечера, когда вернутся.
— Приговор я читал. Давайте сразу к делу. — Сизов приготовил свои бумаги.
Лезвин набрал две цифры на диске старого телефонного аппарата, резко бросил в трубку:
— Батняцкого из второго отряда ко мне! — И, повернувшись к Сизову, другим тоном сказал:
— Разговоры у вас доверительные пойдут, так что я мешать не буду. Садитесь на мое место. Он вообще-то спокойный, но если что — здесь кнопка вызова наряда.
Сизов усмехнулся. Подождав, пока за Лезвиным закрылась дверь, он по-хозяйски занял место начальника и осмотрелся. Кабинет напоминал сельский клуб: просторная пустоватая комната, голые стены и окна без занавесок, вдоль стен — ряды допотопных стульев с лоснящимися дерматином сиденьями. Только сейф, шкаф картотеки и решетки на окнах выдавали специфическое назначение помещения.
В дверь тихо постучали, и порог переступил приземистый человек в черной засаленной на предплечьях робе.
— Осужденный Батняцкий, второй отряд, статья сто восьмая часть вторая, срок двенадцать лет, явился по приказанию начальника колонии. А где же он?
Вошедший, озираясь, завертел стриженой шишковатой головой на короткой шее.
— Садитесь, Батняцкий. Майор Лезвин вызвал вас по моей просьбе, — сказал Сизов, внимательно рассматривая осужденного. Невыразительное лицо, мясистые губы, маленькие прищуренные глазки.
Батняцкий сел, облокотился на стол и довольно улыбнулся, показав два ряда железных зубов.
— Чему радуешься?
— Ясно чему! Отряд на работу повели, а меня — сюда. Что лучше — лес валить или разговоры разговаривать? Вот и радуюсь. — Он оглянулся на дверь и потер руки. На каждом пальце был вытатуирован перстень, тыльную сторону ладони украшало традиционно восходящее солнце и надпись «Север».
— А о чем собрался разговаривать?
— Об чем спросите. У кого карты есть, кто чифир варит, кто пику имеет. Что вам интересно, про то и расскажу. А могу и написать, почерк у меня хороший, разборчивый.
Батняцкий замолчал, присматриваясь к собеседнику, и понимающе покивал головой.
— Сразу не распознал, хотя почуял: что-то не так. У наших рожи красные, загрубелые, глаза от ветра со снегом воспаленные… А вы издалече, никак из самой Москвы? Чифир вас, стало быть, не интересует… Ну да я про все в курсе, давно сижу, могу, если надо, и про начальство наше — как бдят они, как службу несут. Вы по званию кто будете?
— Я из Тиходонского уголовного розыска, майор Сизов.
Батняцкий дернулся как от удара.
— На понт? А книжку свою красную покажешь? Сизов извлек удостоверение, раскрыл, не выпуская из рук, протянул осужденному. Батняцкий приподнялся с места, долго вчитывался, потом плюхнулся на стул. Глаза его беспокойно бегали.
— Настоящее? — Видно было, что он брякнул первое, что пришло в голову, стараясь выиграть время.
— Я вижу, парень, ты совсем плохой. — Сизов спрятал документ. — Чего задергался? Привидение увидел?
Батняцкий почесал в затылке.
— Можно считать и так. Вчера про Сизова разговор с Изобретателем вели, а сегодня он на голову свалился. Самолично, через семь тысяч верст.
— А чего про меня говорить? Я же не председатель комиссии по помилованию.
— Болтали про сыскарей да следователей, он тебя и вспомнил. Механическая собака, говорит.
Сизов усмехнулся.
— Ну-ну. Любить ему меня не за что, да вроде и не обижался.
— Да вы не так поняли! — торопливо заговорил Батняцкий. — Он по-хорошему! В одной книжке вычитал: была механическая собака, ей запах человеческий дадут, пускают, и амба! — неделю рыщет, месяц, год, через реки, через горы, никуда от нее не денешься!
— Интересно. И где люди такие книжки находят?
— Да он штук сто прочел! — с гордостью сказал осужденный. — Знаете, как у парня котелок варит?
— Знаю. Только жаль — в одну сторону: сберкассы, сейфы.
Сизов выдержал паузу, внимательно глядя на Батняцкого.
— У тебя тоже неплохо сработало, как мне зубы заговорить да испуг спрятать. А у самого шестеренки крутятся — зачем по мою душу прибыл опер из Тиходонска?
Батняцкий пожал плечами.
— Да мне какое дело — откуда. И чего гадать, сами скажете.
— Чифир меня не интересует, да и другие тухлые твои истории. Это ты от небольшого ума: дескать, покантуюсь от работы, сдам оперу туфту всякую да еще посмеюсь над ним с дружками-приятелями. — В голосе оперативника лязгнул металл.
Батняцкий заерзал на стуле.
— Я ж сначала не врубился… Думал, кабинетный фофан с какой-то проверкой приехал. — Он изобразил смущение, но получилось довольно ненатурально.
— Ну теперь мы с тобой познакомились, и расскажи мне по порядку, да без финтов всяких, свое дело, — четко сказал майор, в упор глядя на Батняцкого. Тот отвернулся к окну.
— Эка вдруг… Полсрока отмотал, уже и забыл, за что сижу.
— Убийства не забываются. По ночам мучают, спать не дают, иной раз с ума сводят. А у тебя легко как-то — раз и забыл!
— Не убийство, а тяжкое ранение. Тут две большие разницы. Я ж не виноват, что он помер! — Батняцкий сел вполоборота и смотрел прямо перед собой.
— А кто виноват?
— Вы к словам не цепляйтесь. Я убивать не хотел. Так и в суде объяснил…
— Да ничего ты не объяснил. Ни как попал на дачу, ни как возвращался, ни почему убил… — Сизов говорил тихо и монотонно.
— По пьянке-то… разве вспомнишь! — перебил осужденный.
— Ни кто видел тебя до или после, ни откуда нож взял, ни куда дел его, — будто не услышав, продолжал майор.
— Пьяный был. Всю память отшибло, — повторил Батняцкий. — Какой с пьяного спрос?
Сизов медленно, со значением, принялся перебирать лежащие перед ним бумаги. Батняцкий напряженно следил за его руками.
— Чья пудреница на земле возле трупа валялась? — Вопрос прозвучал резко, как выстрел.
— Про это и вообще не знаю. Может, днем хозяева потеряли…
Сизов разложил на столе фотографии. Обычная финка, «лисичка», складной охотничий, пружинная «выкидуха».
— Взгляни-ка сюда.
Батняцкий встал, посмотрел, с недовольным видом вернулся на место.
— Какой похож? Хотя бы приблизительно? — Оперативник подобрался.
— Вы чего хотите? Признался, рассказал, показал, срок получил, сижу, чего еще надо? — жалобным голосом проныл допрашиваемый. — Чего нервы мотаете?
— Какой? Пусть ты его пьяным вынимал, но в карман-то трезвым клал?
Вот и покажи!
Батняцкий ткнул рукой в охотничий складень.
— Такой примерно, только ручка другая.
Сизов расслабился и собрал фотографии.
— Не в цвет, приятель.
Осужденный вскочил.
— Интересное кино! Семь лет назад что ни скажу — все в цвет, капитан Мишуев с ходу в протокол строчит! А теперь стали концы с концами сводить! Чего вдруг?
— А того, что твой нож сейчас опять объявился. Рядом с тремя трупами.
Двое — работники милиции.
Батняцкий испуганно отшатнулся, но тут же взял себя в руки.
— Чего я, за эту пику вечный ответчик? Выбросил — и дело с концом.
Откуда знаю, кто подобрал и что ею сделал?
Сизов недобро усмехнулся.
— Выбросил, говоришь? Ну-ну…
Он пристально смотрел на осужденного, пока тот не опустил глаза.
— Зачем чужое дело взял? Батняцкий молчал, оперативник ждал ответа. В кабинете наступила тишина. За окном гудел, разворачиваясь, лесовоз.
Наконец осужденный вышел из оцепенения.
— Пустые хлопоты, начальник, — глухо сказал он. — Все сказано и забыто. Зря через всю страну тащились. Могли приговор прочесть.
— Читал. Но хотел сам убедиться… — Сизов криво, пренебрежительно улыбался.
— В чем? — Батняцкий нервно дернул шеей и в очередной раз оглянулся на дверь.
— В том, что ты такой дурак, — равнодушно бросил майор.
— Конечно… Зэк всегда дурак…
— Не за здорово живешь в зону полез. Это ясно, был замазан по уши, но двенадцать лет мотать за дядю…
Батняцкий быстро глянул на майора и снова опустил голову.
Сизов продолжал размышлять вслух:
— «Мокр уху» взял для авторитета, вместо какой-нибудь пакости, за которую свои сразу же в «шестерки» определят… Со сто семнадцатой соскакивал скорей всего.
— Понятно! — зло оскалились железные зубы. — Мишуев полную раскладку дал, а ты, начальник, из себя ясновидца разыгрываешь! Чего вам теперь от меня надо? Или интерес поменялся? Чего душу рвешь?!
— Истерику не разыгрывай, пустой номер! — повысил голос Сизов. — А что дурак — факт. Я ведь твою жизнь внимательно изучил. Обычно пацаны хотят летчиками стать, чемпионами, а ты о чем мечтал? С четырнадцати лет истатуировался, железки всякие в карманах таскал, песни тюремные заучивал, несовершенными кражами хвастал. Хотел, чтоб за блатного принимали!
Чтоб боялись, заискивали… Да нет, кишка гонка — сам же и подносил хвосты настоящим уголовникам. Первый раз за что сел? Гадил пьяным на улице. А распинался — драка, с ножами, двоих пописал… Дешевка!
Батняцкий закусил губу.
— Со стороны легко по полочкам разложить! Ну дурил по молодости — мало таких? А меня всегда норовили в землю вогнать. Загремел по первому разу, вышел досрочно, все нормально… И опять непруха! Познакомился на танцах с одной дурой, пообнимались, я бутылку купил — ноль восемь, выпили, чего еще надо? Думал, поладим, а она кочевряжиться стала… Я и придушил малость. А потом этот опер, Мишуев, говорит: знаешь, мол, что она несовершеннолетняя? Как так, здоровая кобыла! А он статью показывает — до пятнадцати! И позору сколько: воры ноги будут вытирать, в половую тряпку превратишься.
У Батняцкого внезапно сел голос, он сипло закашлялся. Из мутного графина Сизов налил полстакана желтоватой, с осадком воды. Батняцкий жадно выпил, железо стучало о стекло. Поставив стакан, он вытер рот ладонью.
— Опер разговоры задушевные заводит да про Яблоневую дачу расспрашивает, и как-то само собой получается, что если я там был, то заявление кобылы исчезает. Ну понятно — за «мокруху» лучше сидеть… Так и поднял чужое дело! Потом уже смекнул: обвел меня опер вокруг пальца — кобыла небось взрослой была и никакого заявления вообще не подавала…
— И не надоело лес валить?
— С моим характером на воле не удержаться, зона — дом родной. Так что все равно… Паханы уважают, авторитет небольшой имеется, пайку дают.
Жить можно. Только климат да лес к земле гнут. Ничего, через год на поселение переведут, перетопчемся.
Губы Батняцкого сложились в издевательскую усмешку.
— Пожалели? Для протокола ничего не скажу, не старайтесь. Где вы раньше были со своим сочувствием?
«Вот ведь сволочь», — подумал Старик.
— Я всегда был на своем месте. И сейчас, и тогда. А жалеть тебя нечего и не за что. К тому же я не больно жалостливый для вашего брата. Мне больше людей жалко, которых вы грабите, калечите, убиваете. Так что не попадайся мне на дороге! — Сыщик говорил тихо, но с напряжением и один раз даже непроизвольно скрипнул зубами.
Сизов собрал фотографии, документы, сложил в папку, щелкнул застежкой. Батняцкий неотрывно следил за каждым его движением.
— Как-то вы со злобой ко мне, начальник, не похорошему. А чего я сделал, если разобраться?
— Ничего путного и доброго ты в своей дрянной жизни не сделал. Зато бандитам поспособствовал: сел вместо них — пусть еще людей убивают! А нам помочь не хочешь, хвостом крутишь, даже шерсти клок с тебя не возьмешь! Обиженного строит! Мы эту падаль все равно отыщем, дело времени! И берегись, если они еще что-то успеют заделать! Крепко берегись!
Стриженый человек в черной робе с прямоугольной нашивкой «Батняцкий.
Второй отряд» на правой стороне груди беспокойно заерзал.
— Да какая с меня помощь? Что я знаю? — просительно заныл он. — Ну слышал краем уха, что на дачах местные ребята фраеров динамили: девчонку подставляли и брали на гоп-стоп… А кто, что — без понятия. За что же на мне отыгрываться?
— Вспомни, кто и что про это рассказывал, — перебил майор, не проявляя, впрочем, особого интереса.
— Век свободы не видать — не помню… Так, болтали… Девка, говорили, красивая, ресторанная краля… Больше, честно, не знаю. Я ведь как откинусь, не в Америку приеду, а в Тиходонск, какой мне резон вас дразнить?
Сизов нажал кнопку, и рослый сержант увел осужденного.
Почти сразу же в кабинет вернулся Лезвин. Он был в хорошем настроении.
— Как поработали? Успешно? — улыбаясь, спросил начальник колонии.
— Пока трудно сказать… — Сизов сосредоточенно делал какие-то записи в своем блокноте. — Кое-что, похоже, зацепил.
Он дописал и захлопнул блокнот.
— А у вас, я вижу, хорошие новости? Лезвин кивнул.
— С пятого участка два лесовоза прошли, и ребята свои рапорта забрали. Нормально!
Через час пожилой прапорщик вез тиходонского сыщика к поселку. На том месте, где вчера Лезвин тормознул перед сгнившим бревном, два лейтенанта ремонтировали лежневку. Выбравшись на бетонные плиты, «УАЗ» увеличил скорость. Стаи мошкары красно-черными брызгами залепляли ветровое стекло. Прапорщик, выругавшись, включил стеклоочистители.
Глава девятая
Тиходонск встретил Сизова обычными для лета пыльными бурями и новостями. Кружащиеся по асфальту окурки, сигаретные пачки, взлетающие у лотков выносной торговли обрывки газет, людей, защищающих глаза от порывов ветра, обильно насыщенных песком, — все это Сизов увидел, как только вышел из аэровокзала. Новости он узнал, когда прибыл в управление, сразу угодив на оперативное совещание отдела.
— Общительный, веселый, представился земляком сержанта, пирожками угостил, в общем, вошел в доверие. Дело к обеду, этот Саша зовет всех в вагон-ресторан. Двое пошли, третий — первогодок — остался, сидит на рундуке с оружием, стережет. — Веселовский докладывал обстоятельно и солидно. Он тоже успел слетать в командировку, и Сизов не сомневался, что результаты их поездок будут сопоставляться Мишуевым с особенной тщательностью. — Вдруг прибегает Саша, растрепанный, возбужденный. «Скорей, ребят бьют!» Ну и третий побежал. Никакой драки, товарищи спокойно борщ едят. Саша куда-то пропал. Вернулись — в рундуке пусто, и с боковой полки попутчик исчез. Видно, соучастник…
— Задешево отдали оружие, — нравоучительно сказал Мишуев. — И вот результат — сами под трибунал, десятки жизней под угрозой! Цена беспечности! Скажите, Александр Павлович, — подчеркнуто уважительно обратился он к Веселовскому, — удалось идентифицировать стволы?
— Тысячи гильз просеяли на стрельбище, нашли совпадающие с нашими.
Значит, по крайней мере один украденный автомат — у «сицилийцев».
— С достаточной долей вероятности можно сказать, что и второй у них.
Это уже не голые догадки. — Начальник отдела одобрительно покивал. — Что еще сделано?
— Ориентировки с приметами и фоторобот магаданские товарищи разослали по всей стране. Результатов пока нет, — скромно пояснил Веселовский. Он избегал смотреть на Старика. А тот, напротив, внимательно разглядывал капитана и пришел к выводу, что он напоминает Мишуева в молодости. Хотя внешне они не были похожи.
— Ясно… — сказал подполковник. — Теперь послушаем товарища Сизова.
Он не знал, что услышит, поэтому на мгновение утратил обычную невозмутимую вальяжность.
— Слушать особенно нечего, для протокола Батняцкий ничего не сказал.
Так, ориентирующая информация и личные впечатления.
Мишуев перевел дух.
— Подведем итоги. Сизов съездил за тридевять земель вхолостую, Губарев уперся в тупик. А Веселовский и под его руководством Фоменко заметно продвинули розыск! Я настоятельно рекомендую остальным брать с них пример.
Сизов раздраженно двинул стулом.
— Тем более что линия Сероштанова майором Сизовым до конца не отработана. Преступление совершено на восемнадцатом километре междугородной автотрассы. А мы так и не знаем, где и зачем потерпевший посадил «сицилийцев» в машину, куда вез, где и почему его убили.
— Чтобы это узнать, надо раскрыть преступление, — подал голос Старик.
— Что и является нашей прямой задачей! — парировал Мишуев. — А потому Сизов должен заняться частниками, промышляющими междугородным извозом.
Пройдите по местам их сбора — аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал и постарайтесь выявить очевидцев. Тех, кто видел, как Сероштанов брал пассажиров. В помощь вам придается Губарев. Веселовский и Фоменко работают по своему плану. Вопросы есть? Нет. Все свободны.
Веселовский, Фоменко и Губарев вышли из кабинета, Сизов остался на месте.
— Что у вас? — недружелюбно спросил начальник.
— Отработка частников представляется мне бесперспективной.
— Объем работы большой, но делать ее надо. — Подполковник смотрел сурово и требовательно.
— Дело не только в объеме работы. Эта публика не любит попадать в свидетели. Даже если что-то знает — предпочитает молчать. К тому же, по моим данным, Сероштанов редко искал клиентов на вокзалах: возил по предварительной договоренности.
— Что вы предлагаете? — Мишуев раскрыл папку с бумагами и занялся своей работой, давая понять, что только чувство деликатности не позволяет ему выставить бывшего наставника в коридор.
— Покопаться в прошлом. Поискать хозяина ножа, который семь лет назад так и не нашли. — Майор явно не ценил доброе отношение начальника.
Мишуев резко отодвинул папку.
— Опять о Яблоневой даче? Вы настояли на поездке к Батняцкому, и что он вам сказал?
— Что взял чужое дело.
— Сволочь! — вырвалось у подполковника, но он тут же спохватился. — Они все так говорят, когда припечет. — И строго добавил:
— Почему не доложили на совещании?
— Сказано без протокола, а поскольку ситуация складывается щекотливая…
— Что за намеки? — перебил Мишуев. — Выражайтесь яснее и имейте в виду: я щекотки не боюсь!
— Пока мне ясно только одно: на «сицилийцев» надо выходить через старое дело. Прошу разрешить работать в этом направлении. Вокзалы и аэропорт могут отработать Губарев и райотделы по территориальности.
— Не вижу оснований изменять задание, — жестко сказал подполковник. — Приступайте к выполнению и каждый вечер докладывайте результаты!
— Вас понял, — не по-уставному сказал Сизов и вышел из кабинета.
В последующие дни майор Сизов отрабатывал вокзалы и аэропорт. Естественно, здешние «колдуны» не искали контактов с милицией и не горели желанием оказать помощь в розыске. Старик фиксировал их фамилии и номера автомашин, вызывая переполох и недовольство, которое, впрочем, проявлялось, когда он отходил на достаточное расстояние. Фамилии ему были нужны для рапортов о проделанной работе, которые он составлял очень подробно и аккуратно. Читая их, начальник мог быть уверен, что Сизов с утра до вечера выполняет порученное ему задание, которое формально отвечало плану поисковых мероприятий, но реально — и всякий мало-мальски смыслящий в розыске человек это прекрасно понимал — дать ничего не могло.
При таком объеме работы у майора не должно было оставаться времени на всякие глупости, связанные с делами прошлых лет. Его и не оставалось. Но Сыскная машина умела функционировать в режиме запредельных возможностей.
В восемь утра Сизов начинал прочесывать автовокзал. «Колдунов» в это время практически не было, и он говорил с водителями междугородных рейсов, диспетчерами, контролерами, уборщицами платформ. Через пару часов, примостившись на ступеньках идущего на запад «Икаруса», доезжал до железнодорожного вокзала, где менял декорации: отправляя Губарева на свое место, сам продолжал его работу — «трусил» дворников, носильщиков, кассиров и других работников, чьи окна выходили на привокзальную площадь. К середине дня появлялись промышляющие дальним извозом частники, он переключался на них, потом, захомутав одного, перебирался в аэропорт. Потолкавшись среди местных водил, опять заезжал на автовокзал и, направив Губарева в аэропорт, завершал официальную часть работы. Работая «в четыре руки», они плотно прикрывали все ворота города.
К вечеру список сыщиков пополнялся таким количеством фамилий, что их вполне можно было разбросать на три рапорта, высвободив себе пару дней, но при этом не исключались накладки: если, например, «колдун» попадет в аварию, а из рапорта выходит, что в этот день он как ни в чем не бывало беседовал с опером, «химия» мгновенно обнаружится. Хотя вероятность подобныхсостыковок была невелика, Сизов не хотел оставлять за спиной уязвимых моментов и включал все фамилии в один дневной рапорт.
Питался он, как обычно, в буфетах и столовках, иногда вспоминая фразу известного в былые годы деловика: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, как ты живешь». Тот деловик, если исходить из его собственного афоризма, жил отлично. Сизов был на обыске и помнил глубокий сухой подвал добротного дома, забитый развешанными на крюках ароматными копченостями, грудами деликатесных консервов, невиданными винами и коньяками и другим съестным дефицитом.
Если с той же меркой подойти к жизни майора Сизова, то символом ее стал бы огромный, плохо прожаренный пирожок и кастрюля жидкой бурды, именуемой в общепите «кофе». Плюс рентгенограмма желудка, на которой гастрит вот-вот грозил перейти в язву. Правда, бесплатные санаторные путевки пока позволяли отодвигать осуществление этой угрозы. А у деловика, которого Сизов через несколько лет встретил в Юрмале выходящим из пропитанной запахом очень крупных взяток шикарной гостиницы, язва уже была, что подтверждало мнение Старика о полной бессмысленности придуманного им афоризма.
Рапорт о проделанной за день работе Сизов передавал с Губаревым в управление, после чего нырял в Центральный райотдел, где изучал прекращенные дела и отказные материалы семи-, восьмилетней давности.
Архив после окончания рабочего дня закрывался, но знакомые опера затаскивали в пустующий кабинет связанные шпагатом пачки тонких папок в картонных или бумажных обложках, и Старик, оставшись один в привычной казенной обстановке, неторопливо развязывал тугие узлы, окунаясь в удивительный мир счастливых находок, неожиданных открытий и случайных совпадений.
Вот гражданин сообщает о сорванной с головы шапке, а через пару дней признается, что потерял ее по пьяному делу. Или заявляет об избиении, а вскоре пишет: «Телесные повреждения получил при падении в подвал». Сегодня озабочен кражей портфеля, а завтра находит портфель на лестнице.
Накануне требует привлечь обидчика к ответственности, а сейчас утверждает, что никаких претензий к нему не имеет. Ничего удивительного: раскрываемость преступлений в те годы была почти сто процентов.
Иногда потерпевшие упирались и не хотели «находить» пропавшее, исцелять побои или признаваться в «ошибке», но дела это не меняло. «… Учитывая, что гр-н Сомов оставил мотоцикл без присмотра на неохраняемой стоянке да еще не оборудовал его противоугонным устройством, он сам виновен в происшедшем угоне…» «… Заявление гр-ки Петровой о краже у нее пальто объективно ничем не подтверждается, а следовательно, оснований для возбуждения уголовного дела не имеется…» «… Поскольку телесные повреждения, по заключению су дебно-медицинской экспертизы, относятся к легким, повлекшим кратковременное расстройство здоровья, рекомендовать потерпевшей обратиться в народный суд в порядке частного обвинения…»
Майор быстро продирался сквозь горы исписанной корявыми почерками бумаги в поисках следов разбойной группы, о которой упомянул Батняцкий.
Иногда откладывал какой-нибудь материал в сторону, чтобы потом взглянуть свежим взглядом, но утром, поспав пару часов на сдвинутых стульях или брошенной на пол шинели, после дополнительного изучения возвращал папку на место.
Когда внизу начинали звенеть ведра исполнявших роль уборщиков пятнадцатисуточников, Сизов увязывал архивные материалы жестким шпагатом, запирал кабинет и, заехав в управление побриться, отправлялся на автовокзал.
На четвертый день такой жизни Губарев застал майора в кабинете около восьми утра. Тот делал выписки из мятой папки в синей бумажной обложке.
— Я уж и отвык видеть вас за столом, — сказал Губарев и кивнул на исписанный листок. — Зацепили что-нибудь?
— Похоже, — как всегда, не проявляя эмоций, ответил Старик и, откинувшись на спинку стула, с хрустом потянулся.
— И что же?
— Да особенного-то и ничего, — прищурился Старик. — Некий гражданин Калмыков заявил о попытке ограбления. Потом написал, что ошибся, перепутал, преувеличил.
— Бывает…
— Бывает-то всякое… — задумчиво проговорил Сизов. — Только произошло это на Яблоневой даче за десять дней до убийства Федосова.
— Интересно. А кто занимался?
Сизов глянул в глаза собеседнику.
— Наш начальник, тогда еще капитан, а ныне подполковник Мишуев.
— Вот так блин! — оторопело вымолвил Губарев. Фоменко бы сказал: «Я ничего не слышал!»
— А ты что скажешь? — Сизов не отводил взгляда.
— Как что? Надо беседовать с Калмыковым.
— Наши мнения совпадают. — Майор протянул напарнику свой листок. — Здесь его установочные данные. Проверь, не изменился ли адрес, и вызови на девятнадцать. А я пока сдвину стулья и вздремну пару часов. Ну этот автовокзал к чертовой матери!
В то время, как майор Сизов прикорнул в чуткой полудреме на разъезжающихся стульях, начальник отдела особо тяжких Мишуев объяснялся с Крутилиным.
— Люди работают, — стараясь быть убедительным, говорил он. — Линия автоматов повисла в воздухе: магаданцы давно разослали фоторобот — результата нет. Что может Веселовский? Переключился, пошел по новому кругу — от багажной веревки, которой был связан Сероштанов. Проверяет товарные станции, речной порт…
Выпуклые холодные глаза полковника выражали безмерную скуку. Он действительно отдал оперативникам персональную машину, ездил городским транспортом, вмешивался в уличные конфликты и лично доставил в Прибрежный райотдел двух хулиганов. Пожилые руководители считали его надменным выскочкой, ищущим дешевой популярности, молодые оперативники — «настоящим ментом» и правильным мужиком. В одном мнения сходились: человек он в общении неприятный.
— Как же вы не поймете, — ласково сказал Крутилин. — Веревка — это фигня! На ней можно только повеситься тому начальнику отдела, который не умеет организовать работу. Именных веревок не бывает, а потому на «сицилийцев» она никогда не выведет. По крайней мере напрямую. Пусть ею занимаются участковые райотделов.
Тон полковника и сочувственная участливость, с которой он растолковывал свою мысль, подошли бы для общения с умственно отсталым ребенком.
— …А вы доложите, как собираетесь поправить дело? И когда дадите результат? Задача уголовного розыска — произвести задержание. Значит, нужны конкретные данные: кто преступники и где находятся!
Мишуев растерянно молчал, остро ощущая собственную беспомощность. Если бы такие вопросы ставили перед ним с самого начала карьеры, он бы до сих пор был рядовым опером в районе. Дело в том, что Мишуев совершенно не владел логикой оперативного мышления.
Лишенный природных способностей шахматист может разыгрывать механически заученные партии, но ему никогда не стать мастером. Зато, выдвинувшись по организаторской линии, третьеразрядник сумеет вполне успешно командовать гроссмейстерами…
Поняв, что из миллионов пронизывающих жизнь линий причинно-следственных связей он не способен наверняка выбрать ту, которая соединяет место происшествия с преступником, начинающий оперативник Мишуев окунулся в общественную деятельность. Через год его хорошо знали в райкоме, он стал постоянным участником всевозможных активов и конференций, дежурным и довольно красноречивым оратором.
Волна успеха могла вынести его в сферу идеологической работы, но дальновидный Мишуев воспротивился, боясь затеряться среди стандартно-благообразных молодых людей с ловко подвешенными языками, обильно населяющих это поприще. Он рассудил, что общественная активность заметно выделит его именно на прежней службе, где вечно озабоченные, задерганные оперативники только радовались, если находился желающий выступить на собрании или поучаствовать в очередном мероприятии. Вместе с тем надо было «давать процент», что он тоже делал с помощью нехитрых приемов, распространенных в то время повсеместно.
В отличие от большинства замотанных делами коллег, он регулярно читал юридические журналы и специальные сборники. Наткнувшись на разработку моделей розыска убийцы, обусловленных спецификой места происшествия, Мишуев на совещании по обмену опытом представил недавно раскрытое преступление как результат использования последних достижений науки, чем привел в восторг генерала.
И все шло хорошо. Была поддержка, были составленные подчиненными розыскные планы, было умение показать себя, было доброе отношение начальства. Преступления либо раскрывались, либо нет. В первом случае это была заслуга Мишуева, во втором — неизбежные в любом деле издержки, не снижающие опять-таки оценки проделанной Мишуевым работы.
— Какие наиболее перспективные мероприятия вы планируете провести в первую очередь? — снова спросил Крутилин, лениво пролистывая розыскное дело.
От третьеразрядника требовали гроссмейстерской игры.
— Сизов и Губарев ищут свидетелей на автовокзале, — наугад сказал Мишуев.
Полковник захлопнул дело и бешено вытаращил глаза.
— Я не могу понять, как вы руководите отделом, — зло процедил он. — По-моему, вы ничего не смыслите в розыске!
У Мишуева захолодело внутри. Так оно и было. Но то, что Крутилин разгадал это, грозило катастрофой.
— У вас есть единственная козырная карта — отпечаток пальца. Надо разыгрывать ее в первую очередь!
— Там же ручной поиск, — почувствовав почву под ногами, Мишуев приободрился. — Министр приказал собрать двести экспертов со всей страны…
Сидят, перебирают…
— Двести экспертов?! А сколько из них приехало? Вы что, не знаете, как отпускают специалистов? Хорошо, если треть собрали! В общем, так!
Командируйте человека в центральную картотеку, пусть посмотрит, как выполняется приказ министра, если что не так — поднимает шум! Пусть мозолит глаза начальству, теребит всех, пока не получит ответ!
— Хорошо, я пошлю Веселовского. Он парень шустрый, с инициативой.
— Посылайте кого находите нужным, — мягко проговорил Крутилин. — А я на днях побеседую с Сизовым, подумаю… Может быть, в ближайшее время вы сдадите ему дела.
Калмыков оказался огромным парнем с красным лицом и лопатообразными руками. Клетчатая ковбойка не сходилась на мощной шее.
— Вот у меня повестка, — сообщил он от двери. — К Сизову. Это вы будете?
— Я, — майор показал на стул. — Садитесь.
— Спасибо, я уже сидел. — Свидетель оглушительно хохотнул и пояснил:
— Это такая шутка.
Попробовав стул рукой, здоровяк аккуратно уселся и осмотрелся по сторонам.
— Повестку принесли, думал — за аварию на Октябрьском шоссе, а оказалось, не в ГАИ, в угро. С чего бы это?
— Значит, жизнь идет по плану — автошколу успешно окончили, сели за баранку… — Сизов будто продолжал начатый разговор.
— Шофер первого класса! — довольно сообщил свидетель.
— Как и хотели — мощный самосвал?
— Рефрижератор… — Калмыков запнулся. — Постойте, а откуда знаете-то? Про планы, работу… Автошколу вспомнили — то ж когда было…
Считай, семь лет.
— Зачет по материальной части сдали на «отлично», решили отметить и пошли в кафе «Север». Вот с этого места расскажите подробно, по порядку.
— Ничего не пойму! — недоумевающе сказал водитель. — Я уж забыл про тот случай… А вы, выходит, все копаете? Чудеса! Мне почудилось, капитан хотел закрыть дело…
— По порядку. — Сизов был невозмутим. — Пришли в кафе… С кем?
— Один был. Хотел подзаправиться да принять сто граммов с прицепом. А тут подвернулась эта Тамара. — Он удивленно всплеснул руками. — Смотри, сколько лет прошло, а имя запомнил! Другой раз через неделю забуду наглухо, а здесь само выскочило!
— Как она подвернулась?
— Деньги подошла разменять, двадцатипятирублевку. В буфете, говорит, сдачи нет, а ей сигареты нужны. Пожалуйста, разменял, еще подумал: дурак, деваха красивая, чего растерялся… А она опять подходит — прикурить просит. Ну, тут я пригласил ее за столик, вина взял, конфет, и пошло-поехало: танцы, манцы, анекдоты… Дело к закрытию, я уже веселый, она тоже… Может, говорю, продолжим? Соглашается: мол, дача в Яблоневке пустая, там и выпивка есть, и закуска. Далековато, конечно…
Калмыков сделал выразительную паузу.
— Да уж больно заманчиво… И поехал на свою голову! Во двор зашли, по тропинке к дому, а навстречу мужик… «Привела?» — и ножик наставляет… А сзади из кустов — второй… — Здоровяк нервно засмеялся. — Мы так не договаривались — рванул обратно, сшиб этого второго, только меня и видели! Хорошо, что не растерялся, аж сейчас мороз по спине…
— В заявлении про нож ни слова — Почему?
— Капитан спрашивает: «Ты нож видел?» Нет — темно ведь, но щелкнуло, как финка выкидная, и вроде блеснуло… Что это, кроме кнопочного ножа?
А он опять: «Раз не видел, значит, догадки, а в протокол только факты нужны. Тебе ж показаться могло? Могло. То-то!»
— А дальше?
— Поехали с ним на дачи, искал я долго, еле нашел. Оказалось — хозяева в отъезде, дом забит, на калитке замок сломан — заходи кто хочет! Капитан поскучнел, говорит: «Ты этих мужиков опознать можешь?» Какой там — только тени видел. «А почему решил, что ограбить хотели?» А чего ж — премию выписать? А он сердится: «Опять догадки! Может, это твоей девчонки братья? Или муж с другом? Может, хотели отучить козла от чужих огородов?»
Калмыков вздохнул и развел руками.
— Разозлился я и написал, что ничего не было. Зачем в дураках ходить?
С тех пор милицию за квартал обхожу.
Свидетель обиженно замолк.
— Тамара эта как выглядела? — не проявляя видимого интереса, спросил оперативник. — Внешний вид, одежда, поведение?
— Симпатичная! Фигуристая, волосы черные до плеч. Одета… Вся в красном: платье, пояс такой широкий, как из клеенки, туфли, сумочка… А чулки черные! — Калмыков азартно хлопнул себя по колену. — Хороша, зараза! Но видно, что девка не правильная. Курила много… Да! — Он значительно поднял палец. — Когда от вина разомлела, сболтнула, что кабаки любит, в «Спутнике» чуть не каждый день бывает. Я еще подумал: на какие такие деньги? Или каждый день ухажеров меняет? Не понравилось мне это…
— Узнаете? — отрывисто бросил Сизов главный вопрос.
— Если в той же одежде… Баба приметная! Да зачем? Я никаких претензий не имею.
— Не имеете, значит… — Сыщик согласно покивал. — А если бы получили ножом в печень? Тогда бы имели?
— Ясное дело! Раз обошлось, чего вспоминать?
— А ведь гуляют они на свободе, и ножичек выкидной при них… Это у вас претензий не вызывает? Вдруг опять повстречаетесь?
— Вы на меня свои дела не перекладывайте! — досадливо сказал Калмыков. — Вам за одно деньги платят, мне — за другое. А оборонить себя сумею, не беспокойтесь!
Сизов составил объяснение, протянул водителю, тот внимательно прочитал и расписался.
— Можно уходить? Старик кивнул.
— Но еще понадобитесь. У нас к вашим знакомцам серьезные претензии имеются!
Водитель вышел в коридор и почти столкнулся лицом к лицу с Мишуевым.
— Здравствуйте, — буркнул он и, обойдя подполковника, начал спускаться по лестнице.
— Здравствуйте, — недоуменно ответил начальник отдела и, оглянувшись, проводил здоровяка задумчивым взглядом. Потом толкнул дверь семьдесят восьмого кабинета.
— Кто сейчас у вас был? — спросил он у Сизова. — Лицо очень знакомо.
— Шофер первого класса, который считает, что борьба с преступностью — дело милиции и его не касается, — обтекаемо ответил майор.
Мишуев отметил, что Сизов не встал и никак не обозначил почтения к вошедшему начальнику. «Может, ему уже известно о планах Крутилина?» — подумал подполковник, а вслух сказал:
— Вот народ! Никакой сознательности. Где же я видел эту физиономию?..
Он по-хозяйски сел на стул, достал сигареты, не предлагая Сизову, закурил.
— Значит, опрашиваете водителей, — миролюбиво констатировал Мишуев. — И каковы результаты?
Сизов пожал плечами.
— Каких и следует ожидать. Вы же поручили мне самую бесперспективную линию. Добыто полезной информации — ноль. И вывод — Старик выработался, пора отправлять на покой. Это и есть главный результат. По крайней мере вам кажется именно так.
— Нет бесперспективных линий, есть бесперспективные работники… — отозвался Мишуев после некоторой заминки. — Вот, например, Веселовский: инициативен, находчив! Надо сказать, что он оправдывает надежды.
— С помощью оправданных надежд «сицилийцев» в камеру не посадишь, — усмехнулся Сизов.
Не обратив внимания на реплику, подполковник бросил пробный шар:
— А вы, насколько мне известно, продолжаете свое подпольное расследование, в ущерб полученному заданию. Потому-то и нет положительных результатов.
Сизов опять усмехнулся.
— Задание я выполняю, и вы об этом знаете — каждый вечер получаете доклады. Что до остального… У меня есть своя версия, занимаюсь ею в личное время в соответствии с законом и служебной дисциплиной. Считаете возможным запретить?
Мишуев промолчал.
— Запретить можно многое, почти все. — Старик понизил голос. — Только черта с два кто-то помешает мне отыскать «сицилийцев» и вцепиться им в глотки!
— По-моему, вы переутомились, — сухо сказал Мишуев. — Неужели действительно считаете, что я препятствую розыску преступников?
Он встал и молча вышел из кабинета.
Придя к себе, Мишуев вызвал Веселовского, приказал лететь в Москву и без результата экспертизы пальцевого отпечатка не возвращаться.
— А какое задание определить Фоменко по работе с Сивухиным? — поинтересовался Веселовский.
— Да бросьте вы его к чертовой матери! — поморщился подполковник. — Отдайте все материалы в райотдел, пусть отвечает за хулиганство!
Веселовский чуть заметно улыбнулся, и Мишуев поспешил сгладить свою непоследовательность:
— На определенном этапе наш интерес к нему был оправдан, но сейчас ясно, что к «сицилийцам» он не подстегивается.
Веселовский подумал, что этот интерес обойдется Сивухину в три-четыре года отсидки — на острастку местной шпане и на пользу состоянию правопорядка в микрорайоне. Если подполковник предвидел такой результат с самого начала, значит, он мудрее, чем о нем думают.
— Да, вот еще… — Мишуев сосредоточенно сдвинул брови. — Как обстановка в отделе? Настроения, взаимоотношения?
— Нормально вроде… А там кто знает… В душу-то каждому не заглянешь… Я больше контактирую с Фоменко.
— А почему? — быстро спросил подполковник.
— Да так как-то… Он звезд с неба не хватает, но службу знает. И без всяких фантазий. Разрешите идти?
Мишуев кивнул. То, что подчиненный ничего не сказал о Сизове и Губареве, само по себе было ответом.
После разговора с Крутилиным Мишуев находился в растерянности. Не то чтобы он поверил в высказанную полковником угрозу — замена начальника отдела не такое простое дело и вряд ли по зубам этому Бульдогу, но ясная и прогнозируемая перспектива дальнейшей службы сейчас выглядела размытой и неопределенной. Поэтому особенно важна стабильность в отделе. Подполковник уже жалел, что начал подталкивать Сизова к почетной отставке.
Собственно, и визит в семьдесят восьмой кабинет имел целью не только зондаж настроения и намерений старейшего сотрудника, но и демонстрацию возможности примирения. Но где там! Старый упрямец настроен категорично… И черт бы с ним, если бы он не ковырялся в старых делах…
Мишуев похолодел. Он вдруг вспомнил, откуда знает здоровяка шофера, вышедшего из семьдесят восьмого кабинета.
А в семьдесят восьмом кабинете Губарев дописывал рапорт: «… Опрошено три диспетчера, восемь перронных контролеров, двенадцать водителей.
Положительных результатов получить не удалось…»
— Завтра опять по вокзалам? — обреченно спросил он, откладывая ручку.
— Нет. Завтра тебя ждут рестораны, бары и красивые женщины, — улыбаясь, сообщил Сизов.
Губарев чертыхнулся.
— Неужели опять бросают на антисанитарию? Отстреливать бродячих собак, разгребать мусорные свалки, заставлять домовладельцев красить заборы? Или еще что-то придумали?
Старик от души рассмеялся, что случалось крайне редко.
— Нет, на этот раз без обмана. Смотри!
Майор вынул из ящика увесистый альбом в потертом коленкоровом переплете, раскрыл наугад. На разноформатных нумерованных фотографиях были запечатлены молодые женщины, в конце альбома каждому номеру соответствовали фамилии, имена, адреса, у некоторых — клички.
— С утра покажешь этих птичек Калмыкову, если никого не опознает, отправишься в «Спутник» и поработаешь по приметам некой Тамары.
Сизов двинул по столу небольшой листок.
— Вредное производство, — ободренно сказал Губарев, просмотрев убористый текст. — Они же могут посягнуть на мою добродетель.
— Ерунда. Даром, что ли, в твоей аттестации написано «морально устойчив»! — Старик стер с лица улыбку. — И знаешь что… Работай аккуратно, без рекламы. Сейчас обстановка в управлении складывается так, что нужен козел отпущения. Похоже, что наш достойный руководитель готовит на эту роль меня. А я хочу уйти чистым. Возьму «сицилийцев» — подаю рапорт!
Глава десятая
Предчувствия никогда не обманывали Старика. В его способности предвидеть события было что-то мистическое. Впрочем, провидческий дар можно объяснить вполне реалистично: большой опыт общения с людьми плюс развитая интуиция.
Как бы то ни было, он предугадал намерения начальника отдела, хотя и не знал, что они реализуются в виде тонкой картонной папки, в которую Мишуев вложит полученный от Громакова запрос на архивное дело Батняцкого и черновик собственного рапорта на имя генерала. В рапорте сообщалось о нарушении старшим оперуполномоченным Сизовым субординации и служебной дисциплины, выразившемся в подделке подписи начальника отдела, а также о бессмысленной поездке в командировку, не давшей никакого результата Конечно, компромат слабенький, но осведомленные люди хорошо знают: заведенное досье разрастается очень быстро.
Сизов также предчувствовал, что Калмыков никого не опознает в фотоальбоме, потому что там собраны снимки только профессионалок, хорошо известных милиции. Да и поход в «Спутник» по делам семилетней давности тоже скорей всего не увенчается успехом. Просто Губарев должен выполнить обязательную в подобных случаях программу, после чего данная линия розыска независимо от результата считается отработанной. Следуя общепринятым методикам, иных путей выйти на Тамару не существует.
Но у Сыскной машины были свои методы. На разболтанном гремящем трамвае Сизов добрался до Берберовки. Бывший поселок стал микрорайоном, впрочем, заметных изменений там не произошло — только блочные пятиэтажки встали вместо бараков на грязных, изрытых, непроезжих круглый год улицах.
Сизов зашел в замызганный подъезд, поднялся на последний этаж и позвонил у свежепокрашенной двери, вокруг ручки которой пробивались потеки копоти.
— Здорово, Игнат. — Открывший дверь человек в вылинявшем мешковатом трико как будто ждал его прихода. — Видишь, что делают, сволочи! — Он указал на следы копоти. — Я крашу, а они жгут! Ну, поймаю!
— Кончай воевать, Поликарпыч. — Сизов протиснулся в коридор. — Не надоело?
— А чего еще делать? Больше-то ничего и не умею.
Поликарпыч, прихрамывая, прошел на кухню, плюхнулся на табурет.
— Если всю жизнь кусать да гавкать, на пенсии сам себя грызть начнешь. Тебе-то небось тоже скоро?
За последние годы Поликарпыч сильно сдал. Обрюзг, сгорбился, похудел.
Сизов вдруг увидел в нем себя, и ему стало страшно.
— Хорош плакать! Сизов осмотрелся. Окно без занавесок, голые стены, колченогий стол. На полу десяток трехлитровых баллонов с водой.
— Воду так и дают по графику?
— Утром и вечером, с шести до десяти. Чтоб они сдохли! Выпить хочешь?
Старик покачал головой.
— Еще возвращаться на службу.
— У меня и нет ничего, — желчно осклабился Поликарпыч. — Только хлеб дома держу да картошку. В будни на мехзавод пускают — там столовка хорошая…
— Чего же предлагаешь! — Сизову захотелось поскорее уйти отсюда.
У Поликарпыча всегда был скверный характер, но не до такой степени!
— Я к тебе по делу.
— Ясно-понятно, — буркнул хозяин. — Стал бы ты в эту дыру тащиться.
— Семь лет назад в «Спутнике» сшивалась красивая брюнетка с длинными волосами, Тамара. Вся в красном, широкий пояс… Помнишь такую?
— Тамара? — Поликарпыч пожевал губами. — Была одна Тамара — маленькая худая вертихвостка, так та белая, перекисью красилась. А других не помню.
Сложив руки на груди, — хозяин замолчал, и вид у него был уже не такой, как несколько минут назад: будто невидимый компрессор подкачал воздух в полуспущенную шину — он распрямился, вроде как окреп, и даже морщины разгладились, а может, так казалось оттого, что в глазах появилось новое выражение.
Сизов выдержал паузу.
— Ну, поройся, поройся в своих захоронках. Ты ж каждую записывал!
Поликарпыч встал и направился к кладовке.
— Посмотрю, если не выкинул…
Сизов сдержал улыбку.
Через пять минут отставной и действующий сыщики просматривали изрядно потрепанные записные книжки с малоразборчивыми записями, обменивались короткими фразами и переглядывались, понимая друг друга с полуслова.
— А знаешь что, — уставившись в пространство перед собой, сказал Поликарпыч, когда последняя страница его домашнего архива была перевернута. — По приметам похожа на Статуэтку. И место совпадает — «Спутник». И одежда. Только она Вера, а не Тамара.
Он пролистал блокноты в обратную сторону.
— Вот… — Темный ноготь с кровоподтеком у основания подчеркнул одну из записей. — Строева Вера Сергеевна, Пушкинский бульвар, 87, квартира 14.
Старик ждал продолжения.
— Не профессионалка, в скандалы не попадала, приводов не имела. Но почти каждый день в кабаке ошивалась. Я с ней беседовал пару раз для профилактики… Потом как-то вдруг пропала, может, замуж вышла… А недавно встретил случайно возле «Локона» — выскочила в белом халате воды попить. Конечно, не узнала…
Старик записал фамилию, прозвище, адрес. Поликарпыч удовлетворенно кивнул.
— Есть польза от отставной ищейки? Может, рано нас списали?
«Нас!» — Старика покоробило.
— Я тебе так скажу: мы хотя образования не имели, но раскрываемость давали! И настоящую, не липовую!
— Всякую…
— Но не так, как сейчас!
— Ты отстал. Сейчас все по-другому.
— Да знаю я! Но эти, новые, все равно работать не умеют! И не хотят!
Кто из них ко мне хоть раз пришел? Запросят ИЦ-картотеку: нет, и ладно — пошел домой отдыхать. Наше поколение и слова такого не знало — отдыхать!
Сейчас говорят: «Пили, били…» Но ведь блат знали, в любую хазу спокойно входили, а чтоб кто-то на опера руку поднял… Я не говорю — пику достать…
— А как Фоменко по башке трахнули? Забыл? Поликарпыч отмахнулся.
— Когда тебя выставят, ты тоже многое забудешь. А я выброшу эту макулатуру. — Он потряс одной из записных книжек. — Все равно она никому не пригодится.
Глава одиннадцатая
На следующий день модный дамский парикмахер Вера Строева по пути на работу дважды прошла мимо неприметного молодого человека, на которого не обратила ни малейшего внимания и не заподозрила, что он проводит скрытую фотосъемку. Еще через день свидетель Калмыков из нескольких предъявленных ему снимков уверенно выбрал фото Строевой, пояснив, что именно о ней он давал ранее показания и ее называл Тамарой. Вечером курьер отнес девушке повестку. За два часа до ее прихода Сизов зашел в областную прокуратуру.
Спустившись в цокольный этаж, он без стука вошел в маленький кабинет с зарешеченным окном. Сидящий за столом высокий худой мужчина мгновенно перевернул лежащий перед ним документ текстом вниз и встретил гостя взглядом, от которого неподготовленному человеку хотелось попятиться.
— Здорово, Вадим!
— А, это ты… Здорово!
Взгляд стал мягче, но ненамного. Последние пятнадцать лет Трембицкий работал по убийствам, и это наложило на него заметный отпечаток. Резкий, малоразговорчивый, он никому не доверял, постоянно носил при себе пистолет и был готов к любым неожиданностям. Несколько раз во время следствия по шумным делам людская молва уже хоронила его и всю его семью.
К Сизову он относился хорошо, но тем не менее перевернутый лист остался лежать в прежнем положении.
— Нашел «сицилийцев»? — натянуто пошутил следователь.
— Пока нет. А ты?
Трембицкий накрыл перевернутый лист руками, осторожно протащил по поверхности стола и, приоткрыв ящик, согнал документ туда. Проделав эту процедуру, он с явным облегчением выпрямился.
— Есть одна зацепка. От автоматов…
Трембицкий замолчал, и Сизов понял, что больше он ничего не скажет. О ходе расследования важняк информировал только одного человека — прокурора области. И то только в тех пределах, в каких считал возможным.
— А я пробую вариант со старым делом, — сказал Старик. — И мне нужно прикрытие на всякий случай.
В семьдесят восьмом кабинете областного УВД Сизов и Губарев готовились к встрече Строевой.
— Вот сигареты. — Губарев достал из кармана яркую пачку, тщательно протер платком и положил на стол.
— «Кент»! То, что надо. Только бери аккуратно, за ребра.
— Обижаете.
— Сразу, как сравнят, зайди и скажи. Только чтоб она не поняла.
Что-нибудь типа: «Вам звонили».
Губарев кивнул, посмотрел на часы и молча вышел из кабинета. Через несколько минут дверь приоткрылась.
— Мне нужно к Сизову…
На пороге стояла эффектная брюнетка в модном облегающем платье, подчеркивающем достоинства фигуры.
— Проходите, присаживайтесь, — пригласил майор, разглядывая посетительницу. Выглядит лет на двадцать пять, гладкое фарфоровое личико, умеренный макияж, ухоженные руки. Почти не волнуется.
Строева опустилась на краешек стула.
— Еще в милиции не была. В народный контроль вызывали, товарищеский суд разбирался — ни одной бесквитанционки, а она все пишет и пишет! Вот дура завистливая! Ей место не в нашем салоне, а в вокзальной парикмахерской! Лишь бы нервы мотать…
Сизов сочувственно кивнул.
— Мы уже и на собрании заслушивали, и в профкоме были, ну скажите, сколько можно?
На лице Строевой эмоции не отражались, только поднимались полукружия бровей и закладывались глубокие морщинки на лбу.
Она покосилась на сигареты.
— Можно закурить? А то свои забыла.
— Курите, курите, — кивнул майор, не отрываясь от бумаг.
Строева вскрыла пачку, ловко подцепила наманикюренными коготками сигарету, размяла тонкими пальчиками.
— Фирменные. Хорошо живете!
Она улыбнулась.
— Неплохо, — согласился Сизов, подняв голову. Он отметил, что улыбка у девушки странная: верхняя губа, поднимаясь, обнажила ровные зубы и розовую десну, а нижняя осталась ровной. Не улыбка, а оскал.
Строева поднесла сигарету к губам, ожидающе глядя на Сизова, но тот не проявил понимания, тогда она вытащила из небольшой кожаной сумочки зажигалку, закурила, откинулась на спинку стула и забросила ногу на ногу.
— По-моему, это не правильно. Пишет всякий кому не лень, а милиция тут же повестку… Сколько можно!
— Разберемся, Тамара Сергеевна, — успокаивающе сказал майор.
— Вера Сергеевна! — еще не понимая, машинально поправила Строева.
— Ах да, извините. Тамарой вы представлялись некоторым из своих знакомых.
Строева поперхнулась дымом.
— Когда? Я никому чужим именем не называюсь! У меня свое есть!
Сизов молча смотрел на собеседницу. Она снова застыла в неудобной позе на краешке стула. На лбу проступили бисеринки пота.
Коротко постучав, в кабинет вошел Губарев.
— Игнат Филиппович, сигареткой не выручите?
— Бери, но с возвратом.
Губарев аккуратно поднял сигаретную пачку и вышел. Сизов продолжал рассматривать Строеву.
— Почему вы молчите? — забеспокоилась она. — И что это за намеки?
— Вам придется вспомнить и рассказать один эпизод из своей жизни.
Семь лет назад, вечером, в кафе «Север» вы подошли к одинокому молодому человеку и попросили его разменять двадцать пять рублей…
— Этого не было! Я никогда не подхожу к мужчинам!
— Вы очень эффектно выглядели: жгучая брюнетка в красном платье с широким красным поясом, черные чулки. У вас была такая одежда?
Строева напряженно задумалась:
— Я… не помню.
— Это очень легко уточнить. Можно спросить у ваших подруг по общежитию, можно…
— Кажется, действительно носила красное платье с поясом. Ну а чулки — разве упомнишь…
— Тот молодой человек опознал вас по фотокарточке, опознает и при личном предъявлении, а на очной ставке подтвердит свои показания.
— Он просто трус и слизняк! — гневно выкрикнула Строева. — На нас напали грабители, и он убежал, а меня оставил на растерзание!
Она заплакала. Сизов невозмутимо выжидал. Постепенно Строева успокоилась, достала платок, осторожно, чтобы не размазать тушь, промокнула глаза.
— В милицию вы, конечно, не заявили, примет не запомнили, — прежним тоном продолжил майор. — Так?
— А что толку заявлять? Разве мне легче станет? И как их запомнишь, если темно?
Она нервно порылась в сумочке, обшарила взглядом стол.
— Ваш товарищ так и не вернул сигарет.
— Пачка у экспертов, — пояснил оперативник. — Они исследуют отпечатки ваших пальцев.
— Зачем? — испуганно вскинулась Строева. — Что я, воровка?
— Объясню чуть позже. — Сизов не сводил с допрашиваемой пристального взгляда. — А пока скажите, что произошло на дачах через десять дней, когда вы привели туда нового знакомого?
Статуэтка остолбенела.
— Какие десять дней?! Какой новый знакомый? Ничего не знаю! Вы мне собак не вешайте! Я… Я жаловаться буду! Прямо к прокурору пойду!
Последние слова она выкрикнула тонким, срывающимся на визг голосом.
— А почему истерика? Если не были больше на дачах, так и скажите. — Майор говорил подчеркнуто тихо.
— Вызывают, нервы мотают… Никогда и никого я туда не водила! Одного раза хватило, чтобы за километр Яблоневку обходить! — Она глубоко затянулась, закашлялась, протерла глаза.
— Пудреницу не теряли? — по-прежнему тихо спросил Сизов.
— Когда эти типы напали, всю сумочку вывернули! Хорошо, голова уцелела! — не отрывая пальцев от глаз, глухо произнесла Строева.
— Мы говорим о разных днях. После того, о котором вспоминаете вы, место происшествия осматривалось очень подробно, но ничего найдено не было. А через десять дней, когда очередной ваш спутник не успел убежать, нашли пудреницу. Она лежала в трех метрах от трупа…
— Ничего не знаю! Вы меня в свои дела не запутывайте! — закричала Строева, с ненавистью глядя на майора, но тот размеренно продолжал:
— С нее сняли отпечатки пальцев, и сейчас эксперты сравнивают их с вашими, оставленными на сигаретной пачке. Подождем немного, и я задам вам еще несколько вопросов.
Лицо Строевой побагровело, и пот проступал уже не только на лбу, но и на щеках, крыльях носа, подбородке, будто девушка находилась в парилке фешенебельной сауны, только готовая «поплыть» косметика была до крайности неуместна.
— Я больше не желаю отвечать ни на какие вопросы! Я передовик труда, отличник бытового обслуживания! У меня грамоты…
— Это будут смягчающие обстоятельства. Чистосердечное признание тоже относится к ним. Советую учесть.
— Да вы меня что, судить собираетесь? Красивые губы мелко подрагивали, и Сизов знал, что произойдет через несколько минут.
— Я собираюсь передать материал следователю. Он тщательно проверит ваши доводы и скорее всего полностью их опровергнет. А потом дело пойдет в суд.
— За что меня судить?! — Строева еще пыталась хорохориться, но это плохо получалось, чувствовалось, что она близка к панике.
— За соучастие в разбойных нападениях. В зависимости от вашей роли — может быть, и за соучастие в убийстве. Надеюсь, что к последним делам ваших бывших приятелей вы не причастны.
— Какие еще… последние дела? — Охрипший голос выдавал, что она из последних сил держит себя в руках.
И Сизов нанес решающий удар.
— Три убийства. Двое потерпевших — работники милиции.
По контрасту с будничным тоном сыщика смысл сказанного был еще более ужасен.
— А-а-а! — схватившись за голову, Строева со стоном раскачивалась на стуле. Фарфоровое личико растрескалось, стало некрасивым и жалким.
— Это звери, настоящие звери! Они запугали, запутали меня… Я же девчонкой была — только девятнадцать исполнилось! Ну любила бары, танцы, развлечения… Зуб предложил фраеров шманать, я отказывалась, он пригрозил. Он психованный, и нож всегда в кармане, что мне оставалось? Когда этот здоровый убежал, Зуб меня избил за то, что такого бугая привела…
Она захлебывалась слезами, и голос ее звучал невнятно, но обостренный слух Старика улавливал смысл.
— А этот, второй, только слово сказал. Зуб его ножом… Разве ж я знала, что он на такое пойдет… Я с той поры от них отошла, в последние годы совсем не видела, думала, посадили… А они вот что…
— Кто такой Зуб? — властно перебил Сизов, знающий, как пробивать стену истерической отчужденности.
— Зубов Анатолий, а худого звали Сергей, фамилию не помню… — словно загипнотизированная, послушно ответила Строева.
Когда в кабинет вернулся Губарев, Строева сидела, безвольно привалившись к холодной стали сейфа, а Старик быстро писал протокол. На скрип двери он поднял голову и устремил на вошедшего вопросительный взгляд.
Губарев замялся.
— Ну?
— Вам не звонили.
Сизов ошарашенно помолчал.
— Точно?
— Не точно. — Губарев переступил с ноги на ногу. — Как бы лучше объяснить… Плохая слышимость. Невозможно разобрать, кто звонит и кому.
Сизов что-то сказал про себя, только губы шевельнулись.
— Ладно, разберемся. Организуй машину и понятых, мы с Верой Сергеевной прокатимся по городу да съездим на Яблоневую дачу. — Майор повернулся к Строевой. — Посидите пару минут в коридоре, нам нужно обсудить небольшой вопрос.
Когда Строева вышла, майор набросился на молодого коллегу:
— Что ты плетешь? Какая слышимость?
— Помните, в позапрошлом году прорвало отопление? Архив залило, дактилопленки отсырели, отпечатки с пудреницы расплылись и идентификации не поддаются.
Сизов пристукнул кулаком по столу и беззвучно выругался.
— Извини… — Он немного подумал. — Ладно! Что есть, то и есть! Сейчас я проведу проверку показаний на месте, а ты займись вот этим. — Сизов протянул Губареву листок с записями. — Только очень осторожно — прощупай, что за люди, где они сейчас. И все! Вечером обсудим.
На следующий день начальник отдела заслушивал отчет Фоменко, Ему нравилось, что он внушает подчиненному явное почтение и ощутимый страх, поэтому сбивчивость доклада отходила на второй план и особого раздражения не вызывала.
— Мало ли куда могла попасть эта веревка! Номеров на ней нет, по ведомости не списывают… — как всегда, глядя в сторону, бубнил Фоменко. — Можно пять лет работать да успешно отчитываться, только толку никакого не будет. Я о товарище Веселовском ничего плохого сказать не хочу, только он все это распрекрасно понимает!
— Что же ты предлагаешь? — благодушно поинтересовался Мишу ев.
Глаза Фоменко беспокойно блеснули.
— Товарищ подполковник, вы меня знаете — я исполнитель. Звезд с неба не хватаю, в начальники не рвусь. Что поручат — выполню точка в точку. А предлагать я не умею. У Сизова выдумки много, он во все стороны землю роет, а что архив горячей водой зальет, и он не предвидел.
— Постой, постой, — перебил подполковник. — При чем здесь архив?
— Так он все в этом старом деле ковыряется… — обрадовавшись вниманию начальника, зачастил Фоменко. — Вчера у него под кабинетом шикарная дамочка плакала, Губарев к экспертам бегал, ну я и полюбопытствовал.
Оказалось, она замешана в убийстве, даже пудреницу на месте происшествия потеряла. — Фоменко зачем-то обернулся и привычно перешел на шепот:
— Сизов собирался ее отпечатками с той пудреницы намертво к делу пришпилить, а оказалось, дактопленка испорчена. Вот блин! Кто мог предположить?
— Ну и что? — нетерпеливо спросил Мишуев.
Фоменко восторженно рубанул воздух ребром ладони.
— Сизов ее и так расколол! Сказано — Сыскная машина!
Спохватившись, он погасил восхищение в голосе.
— В общем, призналась дамочка по всем статьям! Мишуев немного подумал и хмыкнул.
— Много ли стоит вынужденное признание, не подкрепленное объективными доказательствами? Как вы считаете?
— Почему «вынужденное»? — недоуменно округлил глаза Фоменко.
— Говоришь же — плакала! Значит, вынуждали ее, запугивали. Сам знаешь…
— Да они все плачут — себя жалеют! — презрительно сказал опер.
Мишуев встал, обошел стол и сел напротив подчиненного, создавая обстановку доверительной беседы.
— Вчера призналась, а завтра откажется да еще пожалуется на недозволенные методы ведения дознания! Мало таких случаев?
— Сколько угодно, — осуждающе выдохнул Фоменко.
— То-то и оно. И придется не восхищаться Сизовым, а наказывать его.
Так?
Фоменко пожал плечами.
Мишу ев недовольно повторил его движение.
— Нет, примиренческая позиция тут не годится. Мы не можем мириться с нарушениями законных прав граждан! А было ли в данном случае соблюдено право свидетельницы давать те показания, которые она считает нужными?
Фоменко вновь пожал плечами, явно не понимая, куда клонит начальник.
— Не знаю, не спрашивал.
— Вот и спросите! Где ее найти, знаете?
— Парикмахерша в «Локоне», чего ее искать, — мрачно буркнул опер.
— Тем лучше, — кивнул Мишуев. — Побеседуйте с этой женщиной, узнайте, почему она без объективных улик дала компрометирующие себя показания.
Если она захочет пожаловаться на превышение власти Сизовым — примите заявление.
Фоменко сжал челюсти, продолжая мрачно смотреть в сторону.
— Лучше я ее к вам приведу, вы и спросите, — сквозь зубы процедил он.
— Начальнику это сподручней. И инспекция для таких дел имеется.
— Я лучше знаю, чтоделать начальнику и что подчиненному, — холодно произнес подполковник. — Вы меня разочаровываете, товарищ Фоменко. Предложений по делу у вас нет, инициативы вы никогда не проявляете, уверяете, что хороший исполнитель. Что ж, такие люди тоже нужны. Но вот я отдаю приказ, а вы вместо исполнения начинаете его редактировать! Значит, и исполнитель вы никудышный? Мне бы не хотелось так думать. Иначе зачем вообще держать вас на службе?
— А чего я? Я не возражаю. Надо — значит, надо. — Фоменко перевел на начальника убегающий взгляд. — Раз приказано — сделаю…
— Важно не только точно выполнить приказ, важно получить нужный результат. — Сделав паузу, Мишуев со значением повторил:
— Нужный результат, которого от вас ждут! Ясно?
— Ясно, товарищ подполковник. — Опер привычно шмыгнул носом и кивнул.
Вид у него теперь был не мрачный, а просто унылый, как обычно.
Но, оказавшись на улице, он снова нахмурился, постепенно замедлил шаг и остановился, явно не желая идти туда, куда был послан. Мимо протекал плотный людской поток, его толкали в спину и бока, били по ногам тяжелыми сумками.
— Чего стал, заснул, что ли!
— Да, видать, пьяный…
Недоброжелательность озлобленных жизнью сограждан не удивила Фоменко — коренного жителя Тиходонска, но придала его мыслям определенное направление.
Он целеустремленно зашагал вперед, и тягостные размышления вытеснила из головы поставленная самому себе задача. Через несколько минут он свернул с центральной улицы, юркнул в проходной двор и оказался у тыльной стены неказистого овощного ларька. Постучав условным образом, был впущен. Толстая продавщица в грязно-сером, а на животе черном халате сноровисто щелкнула задвижкой, извлекла из закутка початую бутылку водки, сходила за стаканом, заодно прихватив яблоко и крупную морковку.
— Что я тебе, кролик? Фоменко залпом выпил стакан, промокнул несвежим платком губы, надкусил яблоко. Порывшись в карманах, протянул мятую пятерку.
— Не надо, зачем, что я, обеднею? — замахала руками продавщица, но он сурово отрезал:
— Уголовный розыск на халяву не пьет! Выйдя на воздух, он доел яблоко, чувствуя, как расплывается по телу приятное тепло, негромко, с удивлением сказал:
— Ну дает! Руками одного сотрудника собрать компромат на другого, столкнуть их лбами, а самому остаться в стороне…
Он далеко зашвырнул огрызок, подумал: «Ну что ж, каждый за себя…
Мне три года до выслуги… Так что — кто не спрятался, я не виноват!»
Уже не задумываясь над всякими глупостями, Фоменко добрался до фирменного косметического салона «Локон», но Строевой на работе не было, администратор пояснила, что она больна.
Заглянув в записную книжку, он отправился к ней домой.
В это время Вера Строева, сидя в глубоком кресле, разговаривала по телефону.
— Не могу ничего делать… Руки-ноги дрожат, тоска смертная… Нет, какой бюллетень, просто договорилась… Людка будет только рада — перебьет моих клиентов. Знаешь, сколько я теряю каждый день? Да, это правильно… Деньги — дело наживное, а нервные клетки не восстанавливаются… И вообще — в перспективе тюрьма…
Она истерически рассмеялась.
— Да водили меня к адвокату, даже к двум. Один весь такой из себя правильный, говорит: «Характеристики соберите, дело давнее, будем добиваться условного осуждения…»
Она переложила красную трубку с белыми кнопками цифрового набора в левую руку, а правой налила в рюмку коньяк из стоявшей рядом на журнальном столике наполовину опорожненной бутылки.
— Представляешь! Все грязное белье наизнанку! И Софка послушает, и Мишель, и заведующий… А второй — ушлый жук, тот посоветовал от всего отпереться: я не я, хата не моя!
Строева осторожно, чтобы не расплескать, поднесла рюмку к губам, сделала несколько маленьких глотков.
— В том-то и дело — и протокол подписала, и на даче этой проклятой все показала, и фотографировали там меня со всех сторон… А он говорит:
«Наплюй, сама на них жалуйся, дескать, заставили, обманули…»
Она медленно допила коньяк, заинтересованно прильнула к трубке.
— Тоже так советуешь? А кто он, этот твой приятель? Ах вот оно что…
Два раза, говоришь? А за что? Да, они лучше юристов знают, на собственной-то шкуре… Только чего же он от своей фарцовки не отрекся, если такой умный? Вот то-то и оно! Все умные, пока на хвост не наступят…
Строева разочарованно скривилась и собралась опять наполнить рюмку, но в дверь позвонили.
— Кто-то пришел, пойду открою. Не знаю, может, Мишель… Я ему ничего не говорила и не знаю, с какого боку… Ну ладно, пока!
Она взглянула в зеркало, провела щеткой по волосам и открыла дверь.
На пороге, приятно улыбаясь, стоял Фоменко. Улыбался он через силу, это была вынужденная маска при входе в чью-нибудь квартиру после того случая, когда он почти до обморока напугал хозяйку, принявшую его за уголовника.
— Вы к кому?
— Здравствуйте, Вера Сергеевна. Уголовный розыск, капитан Фоменко, — с той же сахарной улыбкой оперативник поднес удостоверение к лицу Строевой. Та попятилась в комнату и обессиленно опустилась на диван. Захлопнув дверь, Фоменко вошел следом.
— Ну я же уже все рассказала. Зачем вы хотите опять меня мучить? Этот ваш Сизов вытрепал мне все нервы!
Она заплакала.
— Я больная, лежу пластом… Я вскрою себе вены… Ну что ты дыбишься, как идиот!
В бессильной ярости Строева затопала ногами.
— Да что ты орешь, в натуре. — Фоменко на миг забылся, и тут же глаза его прищурились, сморщилась кожа на лбу, губы угрожающе скривились, голос разнузданно задребезжал:
— Тебе помочь хотят…
Строева громко икнула, но он уже взял себя в руки и загнал внутрь блатную маску, некстати проступившую на заинтересованно-сосредоточенном лице сотрудника уголовного розыска. Впрочем, он нередко забывал, какое у него настоящее лицо, а какое — маска.
— Я же по поручению… Начальник увидел, как вы плакали в коридоре, и поручил спросить, не применял ли Сизов недозволенных методов… Может, он вас пугал, может, не дал прочесть протокол?
Строева мгновенно перестала плакать.
— Так вы что, своего следователя проверяете?
— Ну да. — Фоменко снова расплылся в сладенькой улыбке. — Вы не похожи на преступницу, хорошо работаете — я видел фотографию на Доске почета… Никаких изобличающих вас улик нет… Начальник подумал, что Сизов заставил вас признаться в том, чего вы не совершали. Вот и послал меня разобраться.
— Ну и ну! — протянула парикмахерша, нащупывая на столике сигареты. — Конечно, пугал!
Она щелкнула зажигалкой, прикурила.
— Под суд, говорит, отдам! И сигаретами шантажировал… — Статуэтка нервно отбросила пачку. — Отпечатки пальцев вроде бы снимал.
Фоменко согнал улыбку, с напряжением удерживая нейтральное выражение лица.
— Отпечатки пальцев действительно фиксировались, но сравнить их оказалось не с чем: те, которые были на пудренице, оказались утраченными.
Строева резко вскочила с дивана и принялась быстро ходить по комнате.
— Значит, на пушку взял! — Она глубоко затянулась. — А я, дура, и поверила! Да я такую жалобу… Я до самых верхов дойду! Теперь не те времена!
«Ну и стерва! — подумал опер. — Клейма ставить негде, а туда же — права качать!» А вслух сказал:
— Начальник поручил мне принять у вас жалобу, так что идти никуда не надо, можете прямо сейчас и написать.
— И напишу! — мстительно пообещала Статуэтка. — Я такое напишу! Бумага есть?
Фоменко достал из папки бумагу, ручку, положил на столик рядом с бутылкой, сглотнул.
— А как писать-то?
— Почем я знаю? — неожиданно грубо сказал опер. — Как было, так и пишите!
«Еще не хватало, чтобы я тебе диктовал на товарища! — мелькнула гневная мысль. — Что у меня, совсем совести нет?»
Строева медленно начала писать, старательно обдумывая каждую фразу.
Фоменко прошелся по комнате, подошел к окну.
«Много неприятного приходилось делать на этой собачьей работе, но такого противного еще не было, — думал он. — Хотя если разобраться, то и ничего особенного! Она все равно бы отперлась и стала жаловаться, не сегодня, так завтра, добрые люди присоветуют… Какая разница — я к ней пришел или кто другой… Прислали бы Веселовского — еще хуже, он бы ей такую бумагу составил! А я что — пусть пишет всякую галиматью, они все пишут. Сизову это как с гуся вода…»
За окном на балконной веревке хлопало на ветру кружевное белье хозяйки. В другое время мысли Фоменко обязательно приняли бы вполне определенное направление. Но сейчас этого не произошло. В душе оперативника шевелилось то ли неведомое, то ли давно забытое чувство.
«А ведь Сизов бы не пошел на товарища компру собирать… Да ему бы никто и не предложил такого!» И тут же возразил сам себе: «Потому что авторитет. Сам генерал у него когда-то стажировался. Конечно, тогда легко быть принципиальным! А приказал бы Мишуев Губареву…»
Не спрашивая разрешения, он закурил.
«Губарев бы тоже не пошел, шум бы поднял, стал бы рапорт писать…
Потому что пацан еще, жизни не знает, жареный петух его не клевал… Вот и слушается Сизова, его умом живет…»
Сзади звякнуло стекло о хрусталь.
«Сука! Не может потерпеть. Ладно, каждый на своем месте, а я за всех не ответчик. Скоро эта дрянь закончит?»
Он не оборачивался до тех пор, пока за спиной не прозвучал деловитый вопрос:
— А подписываться как?
— Имя. Отчество. Фамилия. Место работы. Адрес. Дата, — с отвращением выплевывал он. — Все!
Статуэтка заметно повеселела. Подписав бумагу, она в очередной раз наполнила рюмку, потянулась.
— Хотите выпить, капитан? — Пухлые губы сложились в обещающую улыбку.
— Теперь можно и расслабиться.
Даже без грима, в простом домашнем халате она выглядела весьма эффектно. И круглые неплотно сдвинутые коленки… Фоменко сглотнул вязкую слюну.
— Милиция на работе не пьет, гражданка Строева, — с трудом выдав ил он, стараясь казаться презрительным и небрежным. — Не говоря уже о всяких там «расслаблениях».
Последнее слово удалось произнести с явной издевкой.
Строеву покоробило.
Если бы сегодня утром кто-то сказал, что при столь удачно складывающихся обстоятельствах он произнесет подобную фразу и скривится, будто обнаружил в обеденной тарелке кусочек кошачьего дерьма, капитан Фоменко этому бы не поверил. Уходя, он сильно хлопнул дверью.
Занеся заявление Строевой начальнику отдела, Фоменко под вымышленным предлогом покинул управление и, придя домой, напился вдребодан. Впрочем, такое случалось с ним и раньше, правда, нечасто.
Глава двенадцатая
Комната изрядно заросла мохом и паутиной. Старик, который практически только ночевал здесь, уже несколько месяцев откладывал генеральную уборку «на потом», но посещение берлоги Поликарпыча заставило взяться за веник и тряпку. Не хотелось хоть в чем-то походить на одичавшего коллегу.
Бывшего коллегу… Отставного коллегу… Сизов будто пробовал на вкус это словосочетание, невольно примеряя к себе. Отставного… Он же остался сыщиком, не спился, не опустился и дела не забыл, помог…
Игнат Филиппович выкрутил тряпку, отжимая бурую воду. Слова… Бывший и есть бывший. Списанный охотничий пес. Умеющий идти по следу, поднимать зверя, гнать его, преодолевать сопротивление и, вцепившись в глотку, прижимать, обессиленного, к земле. Больше ни на что не годный, тоскливо грызущий собственный хвост в запущенной комнатенке блочного вольера.
Мысль об уходе в отставку, настолько часто посещавшая Сизова в последнее время, что он начал постепенно с ней смиряться, сейчас стала остро угнетать. Может быть, оттого, что после сегодняшнего разговора с Мишуевым перспектива дальнейшей службы определилась предельно четко…
Начальник отдела вызвал его через секретаря — это было верным признаком того, что разговор предстоит неприятный.
— Ознакомьтесь… — Размашистым движением подполковник бросил на стол заявление Строевой. Сесть он не предложил. Когда обескураженный холодным приемом человек стоя читает кляузу на самого себя, у него обязательно должно шевельнуться чувство вины.
Сизов тоже неплохо знал оперативную психологию. Подчеркнуто неторопливо он выдвинул стул, основательно уселся, так же неспешно извлек из внутреннего кармана пиджака очки, которыми обычно пользовался при длительной работе с документами, протер стекла, надел и лишь после этого придвинул к себе заявление.
Мишуев внимательно следил за его лицом. Но Старик еще из фэзэушного детства вынес правило: никогда не проявлять боли, растерянности, страха.
Особенно перед тем, кто стремится тебе их причинить. Удар, не вызвавший стона, слез или хотя бы болезненной гримасы, кажется всем, в том числе и самому ударившему, вдвое слабей, чем был на самом деле. И уже поколеблена уверенность врага в своем превосходстве, а значит, снизились шансы на победу и самое время сделать ответный ход…
Когда-то гражданин Прищепа по кличке Скелет, улучив момент, ширнул его из-под руки в бок толстым шилом, которым до этого уже приколол трех человек, и, вырвавшись, отскочил в сторону, впившись жадным взглядом в «портрет» ненавистного опера. Не находя ожидаемых признаков тяжелой раны, он запаниковал, недоумевающе уставился на круглое острие, испачканное кровью и покрытое коричневым слоем печеночной ткани, промедлил и упустил момент, пока Старик возился в кармане с вмиг ставшим тугим предохранителем. Только щелчок вывел Скелета из оцепенения, он шагнул было вперед, но поздно — сил вынуть руку не было, и Старик жахнул прямо через плащ…
Дочитав заявление, Сизов равнодушно положил его обратно.
— Что скажете? — напористо спросил Мишуев.
— Ее право. В таких случаях каждый второй жалуется.
И ответ майора прозвучал равнодушно. Мишуева это несколько сбило с толку, но по инерции он продолжал с тем же напором:
— Зря вы так легкомысленно относитесь к этому. Напишите подробное объяснение, и я направлю материал в инспекцию для проведения тщательной проверки, — и, преодолев что-то в себе, после чуть заметной паузы добавил:
— А вас пока придется отстранить от дела.
Сизов пожал плечами.
— Не смешите людей, товарищ подполковник. Строева сдала нам подозреваемых — Зубова и Ермака. Они уже месяц не появляются дома, есть данные, что прячутся в городе. Губарев отрабатывает их связи. Считаю необходимым подключить ему в помощь Фоменко.
Мишуев почувствовал, что теряет инициативу.
— Это другая тема. А что все-таки можете сказать по жалобе?
— Строева дала подробные, в деталях показания — это раз. Показала все на месте происшествия — это два. Пудреницу опознала ее мать и подруга — это три. Калмыков изобличил на очной ставке — это четыре…
— Точно, Калмыков! — Мишуев подскочил в кресле. — Я вспомнил этого шоферюгу. Только фамилия вылетела! Но и Строева с пудреницей, и Калмыков — из далекого прошлого. Имеют они отношение к «сицилийцам»? Если отбросить ваши фантазии, никакого. Зато ко мне все имеют самое прямое отношение. И время выбрано удачно! — Подполковник говорил еще спокойно, но чувствовалось, что это удается ему с трудом.
— Не понял… — Губы Старика сжались в жесткую линию.
— Сейчас мне совершенно не нужны осложнения. А тут мышиная возня вокруг старых дел, поиски ошибок и упущений… Бывший наставник копает под меня всерьез!
— Вы сами копали под себя, хотя тогда об этом не думали, — устало отмахнулся майор. — А сейчас старые факты выплыли и от них никуда не деться.
— Факты? Где же они? — зло спросил Мишу ев. — Где протокол допроса Батняцкого? Ах, официально он ничего не сказал? И не скажет: перед воровским законом «ершом» выставляться? Черта с два — сразу уши отрежут!
Досидит убийцей! Дальше что? Строева? Противоречивые показания, жалобы на незаконные методы воздействия. Пудреница? Поговорит с адвокатом и заявит, что потеряла ее за неделю до убийства. Калмыков? Он жив и здоров, испугался невесть чего, об убийстве Федосова не осведомлен! И что остается? Только ваши документы!
— Остаются Зубов и Ермак! Когда мы их возьмем, даже вы не сможете назвать факты домыслами!
Сизов прищурясь, в упор рассматривал подполковника, и тот на миг ощутил себя бестолковым, не знающим дела стажером, допустившим очередной промах. На импортном пульте селекторной связи вспыхнула красная лампочка и мелодично пропел сигнал вызова: «уа-уа-уа…» Мишуев поднял трубку, ткнул пальцем в клавишу соединения с дежурной частью и сразу же напряженно застыл.
— Когда он это сообщил? Кто-нибудь знакомился с телефонограммой? Как нет, когда половина управления о ней знает! — закричал Мишуев, давая волю раздражению, которое долгое время загонял внутрь. — Эти фамилии у меня на столе! Ни черта не соблюдаете режим секретности! Будем наказывать!
— Он с силой бросил трубку, резко развернулся к Сизову. — Два часа назад Веселовский сообщил по ВЧ, что отпечаток пальца в машине оставлен Зубовым! А Ермак — его ближайший друг и постоянный подельник. Если вы узнали об этом раньше меня, дежурный будет наказан за халатность и ротозейство.
Все равно непонятно, к чему городить огород со Строевой и Калмыковым?
Неужели так велико желание закопать непосредственного начальника?
Мишуев улыбнулся с нескрываемой издевкой.
— Ай-ай-ай, бывший наставник, нехорошо! Учили-то вы меня совсем другому…
Сизов некоторое время молчал, с прежним прищуром глядя на подполковника.
— Жаль, так ничему и не научил. Порядочность и честность не привьешь, но и элементарной оценке обстановки не выучил. Какая разница, кто вышел на «сицилийцев»? Главное, что они расскажут про Яблоневую дачу, и ты провалишься в ту яму, которую сам для себя копал!
Хотя Мишуев не обратил внимания на сизовское «ты», он уже не чувствовал себя стажером.
— Если расскажут…
Утром следующего дня Сизова вызвал Крутилин. В приемной он столкнулся с Веселовским — тот уже выходил из кабинета полковника, и вид у него был победный.
— Как живете-можете, Игнат Филиппович? — с небрежной легкостью спросил он. — Скоро будем брать «сицилийцев», готовьтесь!
Если это была шутка, то на серьезный лад.
У Крутилина находился Мишуев, сидел за приставным столом, нервно вертя в пальцах красивую импортную ручку с электронными часами.
Полковник просматривал бумаги, зажатые в скоросшивателе с синей картонной обложкой. Подняв голову, кивнул вошедшему, указал на стул, перевернул очередной лист. Сизов сел напротив Мишуева, положил перед собой потертую кожаную папку, на которую подполковник покосился с некоторой тревогой. Несколько минут в кабинете царила тишина. Наконец Крутилин перевернул последнюю страницу досье.
— Так. — Он поднял голову и перевел тяжелый взгляд с Сизова на Мишуева и обратно. — Подделка подписи — это полная… — он сдержался, — полная ерунда. Безрезультатная поездка — тоже. Из рапорта видно, что определенная информация получена, хотя официальных показаний этот, как там его, не дал. Жалоба парикмахерши… Ладно, об этом потом. А сейчас скажите-ка мне, майор, на каком основании вы работаете с людьми, проходящими по старым делам? Вызываете их, допрашиваете, воспроизводите показания на месте?
Мишуев старательно закивал.
— Они ведь никак не подстегиваются к розыску «сицилийцев»? — продолжал Крутилин. — Значит, ваши действия незаконны.
Сизов распустил разболтанную «молнию», порылся под настороженным взглядом Мишуева в кожаном нутре папки, отыскал и извлек бланк областной прокуратуры с отпечатанным текстом и размашистой подписью Трембицкого, протянул полковнику.
— Вот письменное задание следователя, которое я выполнял.
Крутилин внимательно прочел документ, взглянул на Мишуева.
— Почему я ничего не знаю? — раздраженно спросил тот. — Я никаких заданий следователя не визировал!
— В данном случае ваша виза не требуется, — спокойно пояснил Сизов. — Я вхожу в оперативно-следственную группу, созданную приказом прокурора области и генерала. Трембицкий — руководитель группы. В качестве такового он напрямую дает задания всем членам бригады.
Мишуев открыл рот и снова закрыл. Крутилин посмотрел на него, усмехнулся и захлопнул досье.
— Теперь по сути жалобы и о результатах вашей работы.
Рука Сизова снова нырнула в папку, и на свет появились сразу три документа. Старик по одному выложил их перед Крутилиным.
— Рапорт. Установочные данные фигурантов розыска. План оперативно-розыскных мероприятий, — коротко комментировал майор, не глядя на начальника отдела особо тяжких. — А по жалобе чего говорить — и так все понятно.
На каменном лице Крутилина промелькнула тень интереса. Он взял бумаги, внимательно посмотрел на Сизова, потом не менее внимательно на Мишуева. Тот не сводил глаз с авторучки, будто считал выпрыгивающие на электронном циферблате секунды.
Полковник погрузился в чтение. В кабинете наступила тишина. Дочитав, Крутилин задал Старику несколько вопросов, которые выдавали в нем профессионала, глубоко знающего сыскное ремесло, пометил что-то на календаре, взвесил на ладони мишуевский скоросшиватель.
— Хемингуэя читали? — неожиданно спросил он. — Про корриду?
Подполковник ошарашенно пожевал губами.
— Давно как-то… Студентом.
— Что там главное? — Крутилин слегка подбросил синюю папку, будто давая понять, что в ней и кроется ответ.
Мишуев хмуро покачал головой.
— Не помню. Когда это было…
— Главное — последний удар! — Выпуклые льдистые глаза азартно блестели. — Все остальное: танцы перед быком, пики в загривок, взмахи плаща — это подготовка. Без завершающего выпада — обычный балаган, которому грош цена!
Мишуев недовольно дернул подбородком.
— При чем здесь коррида?
— А при том! — Полковник еще несколько раз подбросил скоросшиватель, уронил на стол и прихлопнул ладонью. — Можно планировать, докладывать, отчитываться, заверять, и хрен всему этому цена! Надо задержать преступника, и тогда становится ясно: кто прав, кто виноват, кто умный, кто дурак, кто правильно работал, кто нарушал, кто пахал, а кто болтал… Вот здесь, — полковник так же небрежно ткнул пальцем в синюю обложку, — нет ничего про то, как взять «сицилийцев». А здесь все именно про это. — Он за уголок поднял схваченные скрепкой листки Старика. — В связи с этим возникает вопрос о двух подходах, двух методах работы, — продолжал Крутилин.
Мишуев вновь считал секунды.
— Кстати, вы не изменили мнения о дальнейшей организации розыска? — Голос полковника приобрел опасную мягкость.
— Нет. Пусть Веселовский заканчивает свою работу, — не отрываясь от электронного циферблата, сказал Мишуев. Он знал, на что идет, и ожидал вспышки, но неожиданно в глазах Крутилина появилось новое выражение.
— Что ж, это даже интересно…
Полковник откинулся на спинку кресла, тональность голоса изменилась на обычную.
— Проведем эксперимент: какой подход правильней… И сделаем соответствующие выводы… Чтобы никто не упрекнул нас в субъективизме, — вслух размышлял Крутилин. — Действуйте, товарищ подполковник, руководите перспективными сотрудниками, товарищами Веселовским и Фоменко.
Мишуев понял, что Крутилин издевается, хотя ни в его голосе, ни во взгляде это не проявилось.
— А вы, майор, работайте по своему плану, — повернулся Крутилин к Старику. — Докладывайте лично мне. Возникнут проблемы — ко мне. Короче — замыкайтесь непосредственно на меня. Такое, значит, устроим соревнование…
Полковник улыбнулся Мишуеву, приглашая того к ответной улыбке.
— Кто первый прищемит хвост этим гадам… А задержанием в любом случае руковожу я. Договорились?
Улыбка мгновенно исчезла.
— Вопросы есть? Нет? Работайте! Когда разыскиваемые известны, их рано или поздно находят. Принято считать: чем раньше, тем лучше. Но в данном случае Мишуев придерживался противоположного мнения.
С его подачи Силантьев доложил на оперативном совещании о крупном успехе отдела особо тяжких: личности «сицилийцев» установлены, при этом отличился Веселовский ну и, конечно, начальник отдела. Само собой, отблеск славы падал и на руководство уголовного розыска, поэтому и Силантьев удостоился похвалы генерала.
По имеющимся данным. Зубов и Ермак находились в городе, несколько раз их видели то в одном, то в другом притоне. «Сицилийцев» объявили в местный розыск. Все органы и подразделения внутренних дел области получили их фотографии и соответствующие ориентировки. В любой момент инспектор ГАИ или участковый, оперативный работник или постовой, сотрудник патрульно-постовой службы или младший инспектор из «взвода карманных краж» мог обнаружить и опознать преступников. Для областного уголовного розыска дело было практически окончено. Мишуев с достоинством принимал поздравления коллег и ждал приказа об откомандировании на учебу.
И хотя логическим завершением операции могло стать только задержание «сицилийцев», Мишуев не торопил этот момент, напротив, надеялся, что «последний удар» будет нанесен уже в его отсутствие: спокойней, если эти псы начнут болтать про Яблоневку… Не попадешь под горячую руку — вполне можешь и уцелеть, а за несколько лет все забудется… Правда, Москва не на другой планете, если захотят — достанут и там… Другое дело — захотят ли доставать… По-настоящему захотят ли? Ведь проще простого посотрясать воздух, метнуть пару молний в отсутствующего и этим ограничиться. Формально комар носа не подточит… Силантьев так и сделает. Да и Павлицкий мужик не кровожадный, к тому же скандальные разоблачения в областном аппарате ему совсем ни к чему. А вот этот Бульдог да чертова Сыскная машина…
В действительности отдел особо тяжких будто трещина рассекла. Веселовский и Фоменко не заходили в семьдесят восьмой кабинет, Сизов и Губарев обходили их восемьдесят третий. При встречах Веселовский здоровался холодно и несколько свысока, а Фоменко буквально корежился, выдавливая слова приветствия, при этом лицо его страдальчески кривилось и глаза убегали в сторону.
Обмена информацией между парами сыщиков практически не было. Веселовский докладывал собранные данные Мишуеву, тот, исполняя приказ, представлял их Крутилину, полковник доводил до Старика. В свою очередь, Сизов вначале знакомил с добытой информацией Крутилина, после чего представлял начальнику отдела.
Обзорную справку по личностям «сицилийцев» майор тоже принес Крутилину.
— «Зубов Анатолий, тридцать один год, две судимости, квартирная кража и хулиганство, отбыл четыре года, злостно нарушал режим содержания, к представителям администрации относился враждебно, на путь исправления не встал, — вслух читал полковник. — После освобождения несколько раз проходил по уголовным делам, прекращенным за недоказанностью… Вину никогда не признает, при задержаниях оказывает сопротивление. Дерзок, агрессивен… Склонен к побегам при конвоировании».
Крутилин поднял от бумаг тяжелый взгляд.
— Не подарок! И продолжил чтение:
— «Ермак, тридцать лет, преступления совершал совместно с Зубовым, отбыл три года. Лжив, поддается чужому влиянию, истеричен… Во время развода на работу в ИТК-7 демонстративно вскрыл себе вены. Дерзок, злобен, мстителен, кличка Псих. Поведение труднопредсказуемое…» — Полковник выпятил подбородок, провел ладонью, будто проверяя, не зарос ли за день. — Один другого стоит… А ведь они, пожалуй, не сдадутся. Как думаете, Игнат Филиппович?
— Смотря кто брать будет, — криво улыбнулся Старик, и Крутилин ответил точно такой же понимающей улыбкой.
— А ведь Старик и Бульдог схавают их вместе с костями. Как думаешь?
Сизов впервые услышал свое прозвище в официальной обстановке. И впервые полковник проявил осведомленность о том, как называют за глаза его самого.
— Конечно, схаваем, — дернув щекой, подтвердил майор.
— Значит, вдвоем и пойдем, — раздумчиво проговорил Крутилин. — Разве что Лескова в прикрытие поставим, на всякий случай… Он тоже крутой парень!
Полковник оживился.
— Знаешь, что он выкинул? Вместо политзанятий проводил метание ножей!
Конечно, схлопотал выговор…
Крутилин засмеялся. Впервые Старик видел, как полковник смеется искренне и от души.
Глава тринадцатая
Следующая неделя началась с неожиданностей. Произошло ЧП с Крутилиным. Поздно вечером он возвращался домой, в троллейбусе сделал замечание троице пьяных хулиганов, те, как водится, вышли следом «проучить мужика».
Полковник сшиб одного с ног, закрутил руку второму, а третий пырнул его ножом в бок. Обычная история, за исключением того, что потерпевшим в ней оказался замнач УВД. Впрочем, должность, даже самая высокая, не способна защитить того, кто без служебной машины и привычного окружения рискнул путешествовать по ночному городу. Но холодный клинок воткнулся в тело не просто кабинетного руководителя, а матерого сыщика, который ввел для всего оперначсостава постоянное ношение оружия, в свободное время для души ловил карманников и за личностные качества был удостоен клички Бульдог. Это и определило исход происшествия.
Рывком сломав захваченную руку, Крутилин бросил бесчувственное тело на землю, не нарушая инструкции, расчетливо выстрелил в ногу вооруженному, раздробив вдребезги коленный сустав, навалился на первого, который начал уже приходить в себя, и, уперев еще горячий ствол ему под челюсть, втолковывал что-то сквозь зубы до самого приезда патрульной машины. Что именно он говорил хулигану, осталось тайной, но то, что тот обмочился, — достоверный факт, подтвержденный сержантами патруля.
Зажимая пульсирующую рану, Крутилин отдал несколько распоряжений, поставил на предохранитель и сдал старшему патрульной группы пистолет и продержался в сознании до самой операционной.
Операция прошла нормально, и прогноз врачи давали благоприятный, с обычными, впрочем, оговорками насчет возможных осложнений. Но на полтора-два месяца полковник выбыл из строя.
В устранении Бульдога Мишуев увидел руку судьбы. Обязанности замнача переходили к Силантьеву, а тот был доволен отделом особо тяжких и его руководителем, следовательно, развитие событий вновь становилось планируемым и предсказуемым.
Но грянула вторая неожиданность: звонок в дежурную часть по «02».
— Зуб с Психом у сестры, на Октябрьской, 47, — быстро проговорил мужской голос. — У них красная «шестерка», сейчас свалят, быстрее…
В трубке щелкнуло, раздались короткие гудки.
Дежурный немедленно передал информацию Силантьеву, тот по селектору доложил генералу, одновременно вдавив клавишу связи с кабинетом Мишуева, чтобы разговор был слышен и ему. Ухватив суть происходящего, Мишуев трижды нажал клавишу с цифрой 83. Это был условный сигнал: срочный сбор.
Силантьев еще не договорил первую фразу, когда в кабинет начальника отдела особо тяжких вбежал Веселовский, а через несколько секунд неуклюже ввалился Фоменко, озабоченно устраивающий под мышкой что-то тяжелое. Оба напряженно застыли, вслушиваясь в глуховатый голос, доносящийся из-под декоративной решетки пульта связи.
— Там действительно живет сестра Зубова…
Адрес Силантьев назвал раньше, поэтому Мишуев написал его на листке бумаги. Лицо Веселовского выражало готовность к решительным действиям, Фоменко ежился и уныло шмыгал носом.
Подполковник протянул листок Веселовскому.
— Берите мою машину. Песцов внизу, во дворе. И это… Оружие держать наготове и применять смело!
Оперативники выскочили в коридор.
— …прервал разговор, поэтому личность его неизвестна… — Заканчивая доклад, осторожный Силантьев добавил:
— Так же, как и достоверность сообщенной им информации.
— План действий? — резко спросил Павлицкий.
Силантьев замешкался с ответом.
— Мишуев в курсе? — так же резко спросил генерал.
Начальник отдела особо тяжких включился в разговор.
— Я уже послал группу, товарищ генерал, — ровным голосом сообщил он.
— О результатах сообщу немедленно.
Генерал любил краткость и деловитость.
— Кто выехал? — Голос Павлицкого стал мягче.
— Веселовский, Фоменко, Песцов. Старший — Веселовский.
— Справятся? — с сомнением спросил генерал.
— Обязательно! — без запинки ответил Мишуев. Он знал, что генерал не терпит сомнений, неуверенности и колебаний.
— А где Сизов? Почему его не задействовали? Теперь замешкался Мишуев, но только на мгновение.
— Веселовский успешно провел этот розыск, пусть он его и заканчивает, товарищ генерал. У Сизова возраст и вообще… Должна же быть смена ветеранам…
Павлицкий недовольно крякнул.
— Имейте в виду, за исход операции спрошу персонально с вас! Чтобы не наломать дров, самым тесным образом привлеките к задержанию Сизова! Он и в своем возрасте заменит… — Генерал бормотнул что-то неразборчивое и отключился.
— Не боись, — подал голос Силантьев. — Веселовский парень толковый.
Да и мы с тобой обмозгуем, если что…
Он помолчал.
— А Сизова задействуй… Опыт-то у него, сам знаешь. И вперед видит… Тем более генерал приказал… Он ведь чуть что не так — сразу тебе голову оторвет…
Силантьев тоже отключился. Мишуев распустил узел галстука, вытер вспотевший лоб.
Крутилина нет, начальник УУР ушел в сторону, оставив его на острие атаки. С одной стороны, это хорошо: не надо будет делиться славой… А с другой — не с кем делить ответственность. К победе все равно примажутся многие, а в случае неудачи придется ответить полной мерой. Неудачу генерал подаст как провал линии Крутилина. Погнался за дешевым авторитетом, ездил в троллейбусах, ловил карманников, нарвался на нож. А уголовным розыском не руководил, развалил работу, сбил с толку подчиненных неверным тезисом об игнорировании опытных кадров в целях так называемого «омоложения». И результат налицо. Надо делать оргвыводы… Большая голова одна не падает, надо для компании отрубить несколько маленьких. И Силантьев дал понять, кто в эту компанию попадет…
Мишуев встряхнулся. Рано раскисать! Скорей всего Веселовский прихлопнет этих типов как мух. Руки у него развязаны: будут дергаться — перестреляет, и дело с концом. Кстати, самый лучший выход из той давней истории с Яблоневкой… А подстраховаться не мешает, поэтому Сизова пригласим поучаствовать, отчего не прислушаться к ветерану…
Старик поднимался из картотеки к себе и на лестнице столкнулся с бегущими вниз коллегами из восемьдесят третьего кабинета. Пиджак Веселовского распахнулся, открыв заткнутый за пояс пистолет. Они выбежали во внутренний двор, потом Фоменко вернулся обратно, подскочил к постовому, нервно сунулся в дежурную часть.
— Где Песцов? Песцова не видели? Какие сигареты, когда ехать надо? В какой ларек? На углу? — Он выскочил на улицу.
Сизов зашел в дежурку.
— Что случилось? Озабоченный Котов оторвался от регистрационного журнала.
— Позвонил неизвестный, сказал, что «сицилийцы» в одном адресе. Ваши едут проверять — может, брехня…
— Да нет, не брехня. — Старик зачем-то взглянул на часы и выругался про себя. Дернул же его черт отлучиться! Он знал, кто звонил, и информация предназначалась ему. «02» был запасной вариант…
Песцова Фоменко отыскал у табачного киоска. Тот не выразил большой готовности ехать, особенно когда узнал о цели поездки.
Но во дворе взбешенный Веселовский схватил водителя за грудки и пообещал набить морду, после чего тот с неохотой сел за руль. С задержкой в двенадцать минут «Волга» выкатилась на улицу.
— Быстрее! — бросил раскрасневшийся от возбуждения Веселовский.
Дороги были забиты транспортом, на перекрестках то и дело возникали пробки.
— Вруби сирену — и полный!
«Волга» выскочила на осевую. Пронзительный звук итальянской сирены разгонял маячившие по курсу автомобили. Проскакивая на красный свет, Песцов чудом увернулся от бокового удара, какой-то «Москвич» протяжно заскрипел тормозами и юзом развернулся на асфальте.
Промчавшись через центр города, машина свернула на Каменногорский проспект.
— Выключай, — скомандовал Веселовский, в очередной раз бросая взгляд на часы. Ехали они восемь минут. Через три квартала начиналась Октябрьская. Через два. Через один. Песцов сбросил скорость.
«Волга» уголовного розыска влилась в общий поток транспорта. Оперативники напряженно всматривались вперед вдоль нечетной стороны улицы.
— Черт, людей много…
— Вон они, — сказал Веселовский. В конце квартала человек грузил чемоданы в багажник красной «Лады».
Человек захлопнул багажник, обошел машину и сел рядом с водителем.
«Шестерка» тронулась.
— Сократи дистанцию! — приказал Веселовский. — Только аккуратно, спрячься вот за тот фургон…
Он одновременно поднял тяжелую трубку рации и миниатюрную — радиотелефона.
— Эльбрус, я Шестнадцатый, прием. — Веселовский вызывал дежурную часть, в то же время набирая кнопками номер Мишуева.
— Шестнадцатый, я Эльбрус, слушаю вас, — сказала рация. Через секунду в миниатюрной трубке отозвался голос начальника отдела.
— Нахожусь на Октябрьской, только что от дома сорок семь отъехала красная ноль шестая, — говорил Веселовский сразу в два микрофона. — Госномер…
Он огляделся.
— Г27-44ТД. В ней водитель и пассажир. На наших глазах загрузили два чемодана. Движутся по Октябрьской. Продолжаю вести наблюдение.
— Вас понял, — отозвался дежурный.
— Кто в машине? — спросил Мишуев.
— Пока не видно…
Красный «жигуль» свернул на Индустриальную. У третьего светофора прямо перед ним заглох грузовик.
— Ну что, мать их, берем? — по-прежнему сипло спросил Фоменко и щелкнул затвором. — Ты справа, я слева, а Песцов прикрывает…
— Люди кругом, — процедил Веселовский. — Да и не подойдем…
Водитель «шестерки» выворачивал руль, газовал, отчаянно сигналил, пассажир жестикулировал и что-то выкрикивал. Напрасно: никто не давал им выехать из ряда, никто не уступал дороги.
«Волга» прошла совсем рядом.
— Ну?! — выдохнул Фоменко.
— Они! Зубов за рулем. Псих рядом, — произнес Веселовский в оба микрофона.
— Сорок пятый, я Эльбрус, — раздалось из рации. — Запишите адрес в вашем квадрате: Степная, сто пять, Марциев — владелец автомобиля «Жигули» красного цвета, номер Г27-44ТД. Проверьте, где он сам и где его машина. Как поняли?
— «Эльбрус», вас понял, — отозвался грубый голос Сорок пятого.
— Доложить немедленно. Шестнадцатый слышит?
— Слышу, — сказал Веселовский и, не оборачиваясь, обратился к Фоменко:
— Поставь на предохранитель, а то засадишь мне в спину… А ты сбавь скорость, пусть обгонят, — приказал он Песцову.
Веселовский будто смотрел со стороны и явно нравился сам себе. ^Страх прошел, осталось только некоторое напряжение, но мысль ясная, задача понятна и, главное, азарт, от которого легко всему телу. Он умело командовал и чувствовал, что это получается, правда, плохо представлялась сама развязка, но важно ввязаться, а там видно будет…
— Вот они, сволочи, — прошептал Фоменко.
Машина «сицилийцев» скользнула мимо и свернула в сторону Южного шоссе.
— Держись на хвосте, но не особо близко, — уверенно скомандовал Веселовский и поднес к губам изящную трубку радиотелефона.
— Они идут на юг, товарищ подполковник, рвут из города. На КП ГАИ буду задерживать. Дайте команду поставить там заслон. И группу резерва надо бы подтянуть.
— Сейчас организуем, — сказал Мишуев. — Вы там смотрите… Таких зверей вам еще брать не приходилось. Будьте готовы применить оружие. И решительно, хватит с нас похорон!
Песцов что-то сказал, но на него никто не обратил внимания. Машина «сицилийцев» пробивалась по перегруженным улицам к южному выезду из Тиходонска. Метрах в семидесяти двигалась «Волга» уголовного розыска. В сплошном автомобильном потоке они ничем не выделялись.
В кабинете начальника отдела особо тяжких было жарко. Впрочем, может быть, Мишуеву так казалось. Он снял и повесил на спинку кресла пиджак, распустил, а потом и совсем сорвал галстук, расстегнул ворот сорочки.
Делать это было неудобно, потому что действовать приходилось одной рукой, а в другой он держал трубку селекторной связи.
— Переключай эфир на меня, — говорил он Котову. — А сейчас соедини с Южным КП ГАИ.
В трубке щелкнуло.
— Южный, лейтенант Сериков!
— Ты в курсе, что на вас выходят «сицилийцы»? Никогда не виденный начальником отдела особо тяжких Сериков пару секунд посопел в микрофон.
— Никак нет, товарищ подполковник! — опомнившись, отрапортовал он. — Дежурный передал: задержать машину 27–44 красного цвета. А кто в ней — сицилийцы или армяне, не сказал…
Мишуев потерял самообладание. Коротко, но популярно он объяснил инспектору дорожного надзора, кто он есть такой, какое место занимает в системе органов внутренних дел, какую пользу можно от него ожидать в деле борьбы с преступностью и каковы перспективы его дальнейшей службы.
— Это они убили Мерзлова и Тяпкина! — орал подполковник, не думая о том, что его слушает вся дежурная смена. — И тебя… с такой подготовкой расшлепают за минуту!
— Никак нет… — повторил Сериков, который еще не знал, что благодаря громкой трансляции прославился на все управление. — Мы уже «ежа» проверили, приготовили «КамАЗ» с песком, две патрульные машины подтянули…
Не уйдут, гады! — И, решив окончательно оправдаться, добавил:
— Только какой национальности они — не знали, это наша ошибка…
Мишуев коротко рассмеялся и сдержал готовые вырваться слова. Гнев прошел.
— Сколько вас там? Шестеро? Оружие у всех? Будьте готовы, чуть что — стреляйте! Чтобы не повторился восемнадцатый километр…
— Эльбрус, я Сорок пятый, — ворвался в динамик селектора общий эфир.
— Хозяина дома нет. Жена сказала: два дня как уехал на машине к брату, в область. Вчера должен был вернуться, до сих пор нету. Адрес брата записали…
— Слыхали, товарищ подполковник? — включился Котов.
— Шестнадцатый, слышали? — в свою очередь спросил Мишуев. — Как там у вас?
Z — Слышали, — отозвался Веселовский. — Видно, он там же, где Сероштанов. У нас без изменений. Идем по Индустриальной в сторону моста. Пока отключаюсь.
Мишуев развалился вкресле и расслабился. Что-то он собирался сделать… В кабинете уже не было жарко. Разрядка наступила после разговора с бестолковым, но, судя по хватке, знающим службу Сериковым.
Пока все шло хорошо, дело двигалось к завершению. И скорей всего узел семилетней давности развяжут пули пээмов.
Мишуев успокоился. Он чувствовал, что владеет ситуацией. Значит, выучился, несмотря на скепсис кое-кого… Он вспомнил, что собирался сделать, и потянулся к клавише связи с семьдесят восьмым кабинетом. Но не успел нажать ее, как Сизов без стука распахнул полированную дверь. «Черт побери, неужели он и вправду ясновидец?» — подумал подполковник, а вслух сказал:
— Дело сделано! Веселовский обнаружил «сицилийцев», преследует их и вот-вот поставит точку!
Выражение лица Сизова не изменилось. Мишуеву показалось, что он все знает. Мелькнула даже неприятная мысль, что чертова Сыскная машина знает, что будет дальше.
— «Сицилийцы» с автоматами? — сразу же спросил Сизов, и уверенность начальника отдела в том, что он контролирует ситуацию, мгновенно пропала. Это обстоятельство он совершенно упустил из виду. Мишуев вновь ощутил себя бестолковым и малоперспективным стажером.
— Пока не установлено. — Тоном он дал понять, что все необходимые меры в этом направлении предприняты.
— Конечно, дело десятое, — хмыкнул Старик и гвоздем вбил следующий вопрос:
— Где он думает проводить задержание?
— На Южном КП ГАИ. Там уже все готово: и самосвал, и «еж»…
Сизов с досадой махнул рукой.
— Неудачное место!
— Это еще почему?
— Дорога прямая, идет под уклон, просматривается как на ладони. Приготовления впереди, машина Веселовского сзади. «Сицилийцы» не дураки — возьмут и свернут на кольцевую. Надо перегнать самосвал на пятый километр, там двойной поворот и резкое сужение дороги.
— Не усложняйте. Веселовский знает, что делает. Через несколько минут он доложит о завершении операции.
У Мишуева в кабинете тонко запел зуммер радиотелефона, на пульте вспыхнула зеленая лампочка. Вздрогнув, он схватил трубку.
— Слушаю! Да! Черт возьми!.. Что думаешь делать? Ну давай, по обстановке. Докладывай!
Он сделал переключение на пульте, резко скомандовал:
— Перекрыть кольцевую на уровне товарной станции! Подтянуть патрульные машины из центра! Оцепить район, убрать прохожих!
Сизов привстал со стула.
— Для перехвата надо было подготовить усиленную группу резерва!
— Группа резерва находится на выезде из города, — раздраженно сказал начальник. — Кто мог предположить, что они свернут на кольцевую!
Подполковник осекся.
— Неужели вы действительно ясновидящий?!
— Да нет. Прогнозы основываются на знании людей и жизненных ситуаций.
А в данном случае все вообще элементарно…
— Пророки! — зло прищурился Мишу ев. — Сколько развелось пророков…
Но одних пророчеств мало. Надо вносить свой вклад в общую работу. Легко тыкать в чужие ошибки… Упущения Веселовского — это и ваш промах: не подсказали, не сориентировали… Когда я был опером, а потом начальником уголовного розыска…
Сизов встал.
— Вы сделали все, чтобы сейчас мы ловили «сицилийцев». Всю жизнь вы лакировали действительность, гнались за процентом раскрываемости: девяносто восемь — мало! — Он загнул один палец, второй, третий. — Девяносто девять — больше! Девяносто девять и девять десятых! Сто! И на этом дутом проценте делали карьеру, получали благодарности и внеочередные звания!
— Не стройте святого, — отмахнулся подполковник. — В то время все игрались цифрами. Рапортовать надо было о том, чего от тебя ждут, а не о том, как обстоит дело в действительности. И вы тоже «давали процент»!
— Давал, было дело, прятал кражи, хулиганку. Но убийц я никогда не отпускал!
— А кто отпускал? Дело Батняцкого вел следователь прокуратуры, а приговор выносил суд! Как я мог знать, что он взял чужой «мокряк»?
Старик скривился, словно от зубной боли.
— Вы просто не хотели этого знать! Спрятав разбойное нападение на Калмыкова, вы умышленно оставили на свободе Зубова и Ермака, которые уже сделали первый шаг к превращению в «сицилийцев»! И убийство Федосова списали на этого приблатненного полудурка?
— Что ж, я сам себе враг! — Мишуев был спокоен и снисходителен.
— Наоборот, в тот период вы стали начальником уголовного розыска, а потом пошли на повышение в область. Врагом вы были для людей, среди которых оставляли развращенных безнаказанностью убийц!
— Интересное рассуждение! Выходит, только врагов продвигают по службе? Интересно… Значит, Павлицкий, Крутилин, начальники отделов — враги простых советских людей? За это и выдвинули? Так получается?
— Брось! — презрительно сказал майор. — Время этих тухлых провокаций давно прошло! И не надо за чужие спины прятаться. Те, кого назвал, — профессионалы. А ты работы не знаешь, способностей сыскных не имеешь, только на очковтирательстве и выезжал.
— Как разговариваете? На гауптвахту захотели? — тихим угрожающим голосом проговорил Мишуев.
Сизов взял себя в руки.
— Начальство разберется, кого куда. Наступил момент, когда на чернухе не выехать. Операция по захвату «сицилийцев» не спланирована, сейчас она вышла из-под контроля. И неизвестно, чем закончится для Веселовского и других ребят… А что на «ты» сказал — извиняюсь.
Снова зазуммерил радиотелефон. Мишуев включил громкую трансляцию.
— Они ушли с кольцевой, — ворвался в кабинет возбужденный голос Веселовского. — Переехали пути, не доезжая шлагбаума. Движутся к Восточному шоссе.
Мишуев растерянно молчал. Все летело в тартарары. Третьеразрядник беспомощно застыл перед доской, на которой неожиданно осложнилась ситуация. Он вопросительно смотрел на Сизова.
Губы Старика шевельнулись.
— Отсекайте их от Восточного шоссе и от центра города.
Мишуев продублировал команду дежурному. Несколько минут динамик молчал.
— Они остановились на выезде из поселка железподорожников, — по-прежнему возбужденно сообщил Веселовский.
— Так прихлопните их! — не выдержал подполковник.
— Не приближаться! — одновременно крикнул Сизов.
— Не понял, повторите, — запросил Шестнадцатый.
Мишуев смотрел на Сизова. Тот молчал. Пауза затягивалась.
— Стою в ста метрах от «сицилийцев». Жду указаний, — донеслось из динамика.
— Продолжайте наблюдение. Не приближаться, — устало сказал Мишуев.
Сизов быстро прошелся по кабинету взад-вперед. Так мечется по вольеру затомившаяся овчарка.
— Сядьте, — бросил подполковник. Старик сел.
— Они двинулись к водокачке. Иду следом, — доложил Веселовский и после паузы продолжил:
— Впереди показался патрульный автомобиль. Преследую. Связь прекращаю.
Красная «шестерка» подпрыгивала на ухабах, поднимая бурые облака пыли. Наперерез ей заходил желтый «УАЗ» с включенной мигалкой. Резко завыла сирена.
Фоменко громко откашлялся.
— Молодцы, на нервы давят… Давай и мы?
Веселовский кивнул.
— И фары включи! Песцов выполнил команду. Пронзительный визг итальянского сигнала наложился на басовитый рев отечественной сирены.
Оперативная «Волга» с зажженными фарами и патрульный «УАЗ» зажимали машину «сицилийцев» в клещи.
Огоньки вызовов на пульте у Мишуева перемигнулись: один погас, тут же зажегся другой.
Теперь частил словами Веселовский:
— Они бросили машину и спрятались в доме путевого обходчика! Дом старый, аварийный, в нем никто не живет. Расположен прямо под железнодорожной насыпью. Два окна в фасадной стене, одно — в торцевой. Да, еще слуховое окно с чердака…
Мишуев посмотрел на Сизова. Тот молчал. Казалось, что он впал в оцепенение.
— Жду указаний, — нервно донеслось из динамика.
Мишуев поднес руку к вороту сорочки, но нащупал уже расстегнутые пуговицы. Ему показалось, что Сизов насмешливо улыбается, но усилием воли сдерживает улыбку.
— Надо проявлять больше инициативы! Гоняли, гоняли, загнали в укрытие и ждете указаний! Разве так проводят боевую операцию! — заорал подполковник. И уже спокойнее продолжал:
— Окружить дом, вести наблюдение…
Сейчас подошлю патрульные машины с кольцевой и направлю группу из райотдела. Руководство операцией по-прежнему на вас! Все!
Губы Сизова снова шевельнулись.
— Оружие?
— Оружия не видно? — послушно повторил Мишуев.
— Нет, — сказал Веселовский и помолчал. — Может, под одеждой? Или в сумке… Большая, спортивная, в красную клетку. Чего они ее с собой тягают?
— Меньше фантазируйте, опирайтесь на факты! Что собираетесь предпринять?
Веселовский опять помолчал.
— Блокировать дом. Через громкоговоритель предложу им сдаться.
— Предложи… Только вряд ли… Агрессивные психопаты с непредсказуемым поведением. Они будут ногтями царапать, зубами рвать. Справишься?
— Как-нибудь… — без особой уверенности сказал Веселовский.
— Помни: оружие держать наготове и применять решительно.
— Помню. До связи.
Огонек на пульте погас. Сизов вышел из глубокой задумчивости.
— Надо объявлять «Тайфун».
— Зачем? Нашли, выследили, загнали в ловушку, обложили! — с преувеличенной бодростью сказал Мишуев. — А теперь ставить весь город на уши, поднимать шум, сумятицу и отдавать наши результаты спецроте? Нет, товарищ майор, надо быть стратегом! Мы сделаем так…
Многозначительно кивнув, будто приглашая поучаствовать в единственно правильном решении проблемы, подполковник ткнул нужную клавишу, подождал соединения и, подняв трубку, отключил громкую трансляцию.
— Прибрежному райотделу и его начальнику приветствие. Мишуев. Дела, как сажа бела. «Сицилийцы» в твоем районе, товарищ Петров, а ты не чешешься! Не шучу. Мы их загнали в дом путевого обходчика напротив водокачки. Веселовский. Да, да…
Он послушал невидимого собеседника, пожал плечами.
— «Тайфун»? Можем и объявить, если ты своими силами не справишься. Но я бы не упустил шанс взять «сицилийцев»! Тут и орден, и внеочередное звание. — Тон подполковника был одновременно и серьезным, и шутливым, понимай как хочешь. — Инструкция само собой, а жизнь вносит коррективы… В общем… смотри сам. Ведут себя спокойно, похоже, без оружия, хотя кто знает… Надо взять пару автоматов на всякий случай… И правильно. Риск — благородное дело, удача любит смелых. Войдешь в историю!
Да нет, генералу я сам доложу. Действуй, удачи!
Положив трубку, Мишуев свойски подмигнул Сизову.
— Управление — наука сложная! Подтянувшись и застегнув рубашку, он нажал первую клавишу пульта связи, выкрашенную, в отличие от остальных зеленых, в красный цвет.
— Товарищ генерал, докладываю: «сицилийцы» блокированы в заброшенном доме за поселком железнодорожников. Район оцеплен, Веселовский ведет наблюдение. Ему в помощь направляется группа из Прибрежного райотдела во главе с Петровым.
Положив трубку, Мишуев раздраженно напустился на Сизова:
— Чему вы усмехаетесь? Что смешного здесь происходит?
Старик печально покачал головой.
— Удивительно. Хорошему не научились, а от чего предостерегал — овладели в совершенстве.
— Что вы имеете в виду?
— Доклад начальству. Получается, что вы ни на миг не теряли контроля над операцией и ваше умелое руководство, последовательные и целенаправленные действия дали положительный результат! Хотя на самом деле — ни руководства, ни результата: цепь случайностей и накладок, которая неизвестно чем завершится!
— Почему же неизвестно? — растягивая слова, сказал подполковник. — Задержанием преступников, награждением Веселовского и Петрова.
— Посмертно? Самый молодой сотрудник знает: для обезвреживания вооруженных преступников проводится общегородская операция «Тайфун» с применением специальных сил и средств, защитного снаряжения и техники, чтобы свести к минимуму риск для личного состава.
— Конкретный способ задержания выбирает руководитель операции. Если он считает, что может обойтись своими силами…
— «Сицилийцев» нельзя равнять с бытовым дебоширом, схватившим по пьянке охотничье ружье! — перебил Сизов плавную речь начальника отдела.
Мишуев пренебрежительно отмахнулся.
— Не нагнетайте панику. Пока у нас нет сведений, что они вооружены.
Это ваши догадки, только и всего.
Сизов молча встал и направился к двери, но на полпути передумал и вернулся.
— Опаснее всего, когда ложь имеет видимость правды. Семь лет назад вы говорили Калмыкову, что в протокол записываются факты, а не догадки. И это правда, но не вся. Потому что разумные предположения тоже необходимо принимать в расчет. Но Калмыков этого не знал. Зато сейчас все причастные к операции убеждены, что «сицилийцы» вооружены. А вы делаете вид, будто сомневаетесь. Сказать, почему? Чтобы иметь формальный предлог не вводить «Тайфун»!
Мишуев прищурился.
— Для чего это мне?
— Для того, что вам не нужны живые и дающие показания «сицилийцы»! — Старик повысил голос, как много лет назад, когда распекал желторотого Мишуева за очередной промах. — Я не спрашиваю, жалко ли вам подчиненных, я знаю ответ, меня интересует другое: стоит ли, по-вашему, карьера жизни, скажем, Веселовского?
Старик резко повернулся и вышел из кабинета. В коридоре он столкнулся с Губаревым.
— Ну что там? — Губарев кивнул в сторону полированной двери. — Надо выезжать на место…
— Не пори горячку, — бросил Старик на ходу. — Что изменим ты или я на месте? Сейчас все решается здесь. От управленческого решения зависит гораздо больше, чем от наших пистолетов.
— А чего ж он тянет? И голос по телефону какой-то странный… Вроде заболел…
— Примерно так. Уверенно и напористо зашагал вперед, поднимался все выше, казалось, вот-вот ухватит Бога за бороду. И вдруг в самый неподходящий момент влипает мордой в стену — тупик! — Старик резко остановился и повернулся к своему спутнику. Зрачки глаз у него были расширены. — И оказывается, всю жизнь шел к этому тупику! Заболеешь! Думает лихорадочно, дергается: не понимает, не может, не хочет осознать, что произошло!
Сизов снова двинулся вперед, но продолжал говорить с несвойственной ему горячностью.
— Надеется — очередное препятствие, каких было много в жизни, надо только как следует разбежаться, ударить всем телом — и путь свободен…
Только не сам бьет — подставил Веселовского и Петрова! Локальная операция, суматоха, неизбежная стрельба. Девять против одного, что «сицилийцы» будут убиты. И все — концы в воду. Догадки выжившего из ума злопыхателя Сизова, которому давно пора на пенсию, — не стена, нет, не стена!
— Да-а, — протянул Губарев. Они стояли у высокой отделанной под дуб двери в приемную генерала. — А сам он, как думаете, что сделает?
Сизов взялся за ручку двери.
— Рискнет лично — выедет на место и возглавит штурм. Деваться-то некуда! Ну, постарается себя обезопасить как только можно, стрелять будет больше всех… А потом — либо «победителей не судят», либо «учитывая личную храбрость»… Ладно, подожди…
Сизов вошел в приемную.
На пустыре у железнодорожной насыпи три патрульных «УАЗа» и оперативная «Волга» блокировали брошенный двухэтажный дом из старого кирпича с пустыми, без рам, напоминающими амбразуру окнами.
— Зубов и Ермак, район окружен, не усугубляйте своего положения, — грохотал динамик на крыше среднего «УАЗа». Звуковая волна ударялась в темнокрасный растрескавшийся фасад, отражалась и, раздробленная на невнятные обрывки, эхом гуляла по пустырю:
— Ен, йте, йя…
Подполковник Петров опустил микрофон. Он неловко приткнулся на месте водителя, сдавленный обтянутыми брезентом титановыми пластинами, и парился в наглухо застегнутом форменном плаще на два размера больше обычного. Свободной рукой он придерживал сползающий с колен заряженный автомат. Единственным чувством, которое он сейчас испытывал, было сильное раздражение.
Еще два офицера в непомерно больших плащах, с автоматами, не особо скрываясь, стояли за кузовом автомобиля. Нелепо выглядевшие в сухой летний день плащи должны были замаскировать бронежилеты: подготовленность сотрудников милиции к выстрелам в себя могла подтолкнуть преступников к мысли произвести эти выстрелы.
Теоретически правильные изыски, относящиеся к психологии задержания, сейчас казались такими же ненужными, как и плащи с чужого плеча. Поэтому раздражение испытывал не только Петров. К тому же в реальность опасности верилось слабо: сколько задержаний произведено на таких обыденно захламленных пустырях, а ЧП можно пересчитать по пальцам, да и случаются они всегда с кем-то другим. Скорее всего вместо грозных «сицилийцев» в брошенный дом загнали какую-нибудь шпану, вот и сидит там, под мегафонными криками, нос высунуть боится, а то и утекла уже через задние окна… Чего ж устраивать представление?
Серьезней всех воспринимали ситуацию сотрудники отдела особо тяжких.
— Зубов и Ермак, сдавайтесь, у вас нет другого выхода, — напряженным голосом Веселовского заговорило громкоговорящее устройство из-под капота «Волги». — Дом окружен. Возможные пути отхода перекрыты…
В кабине находились только Веселовский и Фоменко. Песцов вызвался отгонять от пустыря возможных прохожих, а так как он славился своей ленью, можно было сделать вывод, что он тоже серьезно относится к возможной опасности.
— Чего они молчат, в натуре, — нервно елозя по сиденью, просипел Фоменко. — Дай я скажу…
Веселовский отвел его руку и начал набирать на клавишах радиотелефона номер начальника отдела. Одновременно он в который уже раз повторял обращение к «сицилийцам»:
— Зубов и Ермак, сопротивление бесполезно, выходите по одному…
После ухода Сизова Мишуев несколько минут сидел в тяжелом отупении, словно боксер после нокдауна. Проклятая Сыскная машина видела его насквозь! Если операция пройдет, как он и рассчитывал, тогда плевать — домыслы, они домыслы и есть… А если события развернутся по-другому?
Вишь, как он выдал: дескать, Мишуев убирает ненужных свидетелей чужими руками да еще неоправданно подставляет подчиненных под пули… Вдруг действительно что-то случится… Вряд ли Крутилин, только-только залечив ранение, войдет в его положение. Да он бы и раньше не вошел… А генерал…
Зуммер радиотелефона прервал его размышления.
— На предложения сдаться «сицилийцы» не реагируют, — деловито сообщил Веселовский. — Затаились и сидят как крысы. Попробуем войти в дом…
— Подождите, — перебил Мишуев и, немного подумав, включил канал связи с дежурной частью. — Исходите из того, что они вооружены! Примите максимальные меры предосторожности. Повторяю: исходите из того, что «сицилийцы» вооружены. Захват не начинайте до моего прибытия. Как поняли?
— Понял, — с заметным удивлением отозвался Веселовский и отключился.
— Слышали? — обратился к селектору начальник отдела.
— Слышал, — сказал дежурный.
— Тогда действуйте: машину к подъезду, приготовьте мне каску, бронежилет, автомат!
Через десять минут после того, как Сизов зашел к генералу, была объявлена общегородская операция «Тайфун». Специальную роту подняли по тревоге, патрульные автомобили кольцом стягивались к пустырю у поселка железнодорожников. По давней традиции на место происшествия выехала и группа захвата управления.
В переполненном салоне микроавтобуса было жарко и тесно, воняло бензином. Никто не разговаривал.
«Потеряли темп, — думал прижатый к решетке „собачника“ Старик, страшась своего предвидения и отгоняя картины, которые рисовало воображение.
— Вот и цена случайности… Не напорись Крутилин на пику, моя информация ко мне бы и попала, тут же выскочили бы и сожрали их, пока не опомнились… А сейчас заперли, раздразнили да дали время все решить и обдумать…»
В похожем на амбразуру окне что-то мелькнуло.
— Не ушли… — процедил Петров и вернулся к прерванному разговору с подошедшим Веселовским. — А мне говорил — вроде без оружия… Непонятно.
Чего тогда голову ломать? Поднимать спецроту — и дело с концом! И какой смысл в его приезде? Ждем, время теряем… Что изменится?
Во втором окне ясно обозначился силуэт человека и тут же пропал в темной глубине дома.
— Вы что прячетесь, волки рваные! — взвинченно закричал вдруг Фоменко через громкоговорящее устройство оперативной «Волги». — Как наших ребят убивать, так смелые? Вылазьте, падлы, а то мы вас тоже расшлепаем!
Фоменко никто не поручал обращаться к «сицилийцам» да еще в такой форме, напрочь перечеркивающей все тактические рекомендации, и Веселовский рванулся было к «Волге», чтобы забрать у него микрофон, но не успел.
Из осажденного дома раздался тонкий животный визг, и в тот же миг обе амбразуры взорвались грохотом автоматных очередей.
Лобовое стекло оперативной машины засеял десяток маленьких, беспорядочно разбросанных отверстий, вокруг которых вспыхивала густая белая паутина трещин, мгновенно превративших сверкающий широкообзорный глаз «Волги» в сплошное бельмо. Струя свинца прошила капот, хлестнула по крыше, коротко вякнул клаксон, машина задрожала и внезапно осела на сплющенные передние скаты.
Омертвевший от ужаса Веселовский понял, что ничего живого остаться в расстрелянном автомобиле не могло, и, нашаривая деревянной рукой пистолет, обернулся к Петрову, чтобы крикнуть какие-то необходимые слова, хотя все слова вылетели из головы, и он немо открывал и закрывал рот, словно вырванная из воды, оглушенная воздухом и светом рыба.
Стекло «УАЗа» тоже было разбито вдребезги, Петров откинулся на спинку сиденья, закрыв растопыренными ладонями окровавленное лицо. Быстрые молоточки ударили по открытой двери с надписью «милиция», невидимые бритвы проткнули бок неразмерного плаща начальника райотдела, звякнули титановые пластины. Одновременно со свистом рикошета Веселовского что-то рвануло за ногу, и он упал, больно ударившись о землю и, может быть, на миг потеряв сознание.
Но пистолет оказался в руке и стрелял сам по себе, неприцельно — пули ударяли в кирпичный фасад. После третьего выстрела Веселовский пришел в себя и направил ствол в темный провал окна. Там уже никого не было.
Огонь прекратился, только в глубине дома раздавался истерический вой вперемежку с гнуснейшей бранью.
За десять секунд автоматы «сицилийцев» извергли в окружающий мир шесть десятков смертей, и картина на пустыре резко и страшно изменилась.
«Волга» уголовного розыска уткнулась капотом в землю, словно убитый наповал зверь. Патрульные машины стояли с разбитыми стеклами и простреленными бортами. Особенно досталось «УАЗу», из динамика которого Петров обращался к бандитам.
Сам Петров вывалился на землю, промокая платком изрезанное осколками стекла и металла лицо, и, пытаясь определить, ранен он или нет, ощупывал бронежилет.
Автоматная пуля могла прошить титан навылет, а одеревеневшее тело в нервном возбуждении не чувствует боли. Но, к счастью, пробоин не было: попадания оказались касательными.
— Повезло, кажется, цел! — крикнул он Веселовскому. — Как ты?
— Нога… Не могу встать, — отозвался тот. — Надо брать их, пока не перезарядили…
Петров огляделся. Сержанты разбежались с открытого пространства и прятались за кустарником на краю пустыря. Офицеры в плащах залегли за машиной и целились взведенными автоматами в окна дома. Больше он ничего не рассмотрел, потому что кровь залила глаза.
За десять секунд обыденность обстановки исчезла. Захламленный пустырь стал местом одного из крупнейших за последние годы ЧП. Не было больше размягченного состояния сотрудников, да и численный перевес, пожалуй, тоже утрачен.
— Скалов, возьми кого-нибудь и проверь дом с той стороны, — сказал Петров одному из офицеров. — Если там все перекрыто, свяжись с «Эльбрусом» и запроси помощь. Если нет, останься и держи заднее окно.
Лейтенант встал и, пригибаясь, побежал за дом.
— Иванов, за мной! — на бегу крикнул он.
— Куда «за мной»? Без жилета, без автомата! Низкорослый сержант все же выполнил приказ, хотя было видно, что его боевой дух основательно подорван.
Слабеющий Веселовский подумал, что операция по задержанию «сицилийцев» проваливается.
И вдруг обстановка опять резко изменилась. Под звуки сирен к пустырю подъехали еще три патрульных автомобиля. Веселовский несколько раз выстрелил в воздух, и они затормозили в отдалении. Там же остановилась «Волга» уголовного розыска и «РАФ» дежурной части. Через несколько минут подъехал крытый грузовик специальной роты.
— Не возьмете, суки! — раздался истерический вопль, и окно второго этажа снова брызнуло огнем, но за секунду до этого лежащий у колеса расстрелянного «УАЗа» офицер дал короткую очередь и пули бандита прошли над скоплением машин, никого не задев.
— Рассредоточиться! — громко крикнул Мишуев. — Машины убрать!
Эта команда не требовалась. И так сотрудники управления вмиг освободили микроавтобус, из грузовика сноровисто выпрыгнули спеиназовцы. Пятнистая, удобная для боя форма, открыто надетые пулезащитные жилеты, каски, стальные щитки. Они были готовы к тому, чтобы в них стреляли, и не скрывали, а демонстрировали эту готовность. Но профессиональная четкость и слаженность действий говорили о том, что попасть в них будет не так-то легко… Короткими перебежками боевые двойки, страхуя друг друга, выдвинулись на рубеж атаки. Майор Лесков управлял ими по рации.
Группа захвата управления оставалась в резерве, наблюдая, как бойцы спецроты окружают кирпичный дом. Сизов подумал, что один к одному повторяется ситуация, разыгранная на полигоне. Похожий дом, только фасад меньше поклеван пулями, да изрешеченные милицейские машины… Он увидел копошащихся на земле людей и быстро пошел вперед.
— Менты позорные, козлы паршивые! — надрывался Псих. — На всех патронов хватит!
«Ду-ду-ду» — застучал автомат из окна, но в ответ ударили четыре ствола, и очередь оборвалась. Снова раздался нечеловеческий вой, в котором переплелись злоба, безысходность и тоска.
Сизов подошел к раненым. Один из спецназовцев бинтовал Веселовскому простреленное бедро. Петров, запрокинув голову, ждал своей очереди.
— Сильно досталось? — спросил Старик.
— Царапины, только глаза заливает, — осветил Петров.
Веселовский молчал.
— А где Фоменко? По-прежнему молча Веселовский показал рукой в сторону мертвой «Волги». Сизов направился туда.
— Ну что, будем их выкуривать и брать живыми? Или как? — спросил Лесков, подойдя к Мишуеву. Тот успел облачиться в бронежилет, надел каску, приготовил к бою автомат.
— Или как… — ответил Мишуев. — Мало они наших побили?! Вон, полюбуйся.
Сизов открыл дверь «Волги» и подхватил сползающее тело Фоменко. Повозившись над ним. Старик выпрямился и безнадежно махнул рукой.
— Эх, ребятки! — с горечью сказал Мишуев, обращаясь к Веселовскому. — Я ведь предупреждал об осторожности… — И жестко бросил Лескову:
— Хватит с ними церемониться!
Командир специальной роты поправил тяжеленную каску-сферу и, пружинисто подпрыгивая на носках, осмотрелся.
Пятнистые комбинезоны замкнули дом в кольцо. Снайпер, не забывший на этот раз СВД, держал окна под прицелом. Изредка «сицилийцы» стреляли одиночными, им отвечали офицеры в непомерно больших плащах, несколько длинных очередей выпустил по окнам Мишуев. Спецназовцы огня не открывали.
Внимание Лескова переключилось на строительную площадку в сотне метров справа, где возле наполовину снесенного барака стояли трактор и бульдозер.
— Пятый, ко мне! — сказал он в рацию.
Два сержанта на сцепленных руках понесли к машине Веселовского.
— Держись, Александр Павлович, — отеческим тоном напутствовал его Мишуев. — Я сам приеду, поговорю с врачами. Все будет на высшем уровне…
Веселовский не ответил.
Лесков тем временем отдавал приказ Пятому — рыжему здоровяку Борисову, который на полигоне пел под гитару лихие песни.
— Понял… — Борисов побежал в сторону стройплощадки.
Через несколько минут затарахтел дизель, и бульдозер, выплевывая сизые клубы дыма, пополз к рубежу атаки.
— Я с ним, — сказал Мишуев.
Лесков, помедлив, кивнул. Он не отрывался от рации.
Когда бульдозер приблизился, Мишуев вскочил в кабину. Туда же втиснулся еще один спецназовец. Борисов поднял лопату, закрывая кабину, и двинул бульдозер к осажденному дому.
Снова истошно заорал Псих. Снова ударили автоматы. Пули попадали в толстую вогнутую сталь лопаты и с визгом уходили в небо.
— Готов! — сказал снайпер. Его выстрела Старик не слышал, но теперь стрелял только один автомат «сицилийцев».
Бульдозер подполз вплотную к дому, оказавшись в «мертвой зоне». Две пятнистые фигуры и одна в зеленом жилете поверх штатского костюма метнулись к двери и скрылись внутри.
— Атака! — сказал Лесков в микрофон рации.
Боевые двойней, прикрывая друг друга, рванулись вперед. Спецназовцы бежали молча. Дом тоже молчал.
«Ду-ду-ду» — глухо стукнула короткая очередь.
Лесков поднес рацию к уху и тут же опустил.
— Все… — облегченно выдохнул он и, распустив ремень, стащил с головы двухкилограммовую «сферу».
— А твой начальник молодец, лихой парень, — улыбаясь, сказал он Сизову.
Тот сплюнул и молча направился к машинам.
Чингиз Абдуллаев
ИСЧЕЗНУВШИЙ УБИЙЦА
Автор выражает благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, помогавшим в создании повести. Все имена, события, факты — строго документальны и приводятся по сообщениям «Эй-би-си», советской и зарубежной прессы. Автор предупреждает, что данный материал не может быть использован на суде в качестве свидетельских показаний.
«…B современных условиях преступные организации и отдельные индивидуумы всё чаще прибегают к применению новейших технических средств для совершения преступлений и их сокрытия. Они идут на любые ухищрения, их методы становятся всё более разнообразными, что, соответственно, затрудняет работу правоохранительных служб, вызывая новые, ранее неизвестные трудности. Криминалистам необходимо детально исследовать эти методы преступников и умело их классифицировать».
Из доклада Постоянного Комитета экспертов по предупреждению преступности и борьбе с ней при Экономическом и Социальном совете Организации Объединённых Наций.
ЧАСТЬ I
I
На Пятой авеню Манхеттена вспыхнули огни. Неоновая реклама бешено заплясала на зданиях, словно собираясь спалить город ярким фейерверком своих красок. Улицы, ещё минуту назад серые и унылые, постепенно стали оживать, медленно пробуждаясь ото сна. Засветились витрины больших и малых магазинов, освещая многообразие выставленных в них товаров, завлекая своим великолепием случайных прохожих. Ударили неоновой волной огни отелей. В высоких многоэтажных домах начали разгораться огоньки, создавая причудливое зрелище многомиллионного города.
Яркий свет загорелся и на двенадцатом этаже одного из тех гигантских небоскрёбов, которыми давно славится этот крупнейший город мира. По коридору этажа быстро шли люди, направлявшиеся к лифту, расположенному в левом крыле здания. Прямо у лифта, в самом конце коридора находились большие стеклянные двери. Опытный глаз мог без труда узнать в них тяжёлые пуленепробиваемые двери, специально изготовленные для банков. По обе стороны дверей сидели дежурные. Лишь проверив удостоверения и приняв у выходивших специальные карточки, висевшие у них на лацкане пиджаков, дежурные пропускали в коридор, к лифту.
Через десять минут этаж был пуст. Установленные в разных концах специальные камеры бесшумно фиксировали пустой коридор.
Почти рядом с дежурным находилась комната № 1201, в которой в этот момент сидело два человека. Обилие аппаратуры и всевозможных приборов создавали иллюзию информационного или вычислительного центра. За центральным пультом удобно расположился мужчина лет сорока. Чуть выше среднего роста, широкоплечий, коренастый, плотный, уже начинающий лысеть с тяжёлым подбородком и резкими, волевыми чертами лица.
Несколько левее от него сидел второй. Ему было лет на десять меньше. Он был явно высокого роста, загорелый, темноволосый, с правильными тонко очерченными чертами лица. Он отхлёбывал кофе, и что-то записывал в лежащий перед ним журнал.
Дверь отворилась.
— Я ухожу, Чарльз, — заявил с порога появившийся мужчина.
— Уже? — первый сидевший, к которому обращались, полуобернулся к двери.
— Я думал ты сегодня задержишься, Вальтер.
— Там остались Анна и Антонио. Она справится. Осталось обработать последние данные. Через полчаса всё будет готово. Да, совсем забыл. Там ещё в последней лаборатории сидит Эдстрем. Я к нему заходил. Он опять увлечён каким-то делом.
— Виктор, запроси не осталось ли ещё кого-нибудь на этаже, — сказал Чарльз, обращаясь к своему напарнику. Тот нажал кнопку, вызывая дежурного.
— Говорит Асенов. Кто остался на этаже?
— Только что к вам вошёл Вальтер Вольраф. В его лаборатории работают Анна Фрост и Антонио Перес. В соседней — Карл Эдстрем. Больше никого на этаже нет, сэр.
— Эдстрем предупредил вас, что задержится? — спросил Виктор.
— Нет, мистер Асенов, — ответил дежурный.
— Соединись с Эдстремом, — посоветовал Чарльз, — и узнай до каких пор он будет нарушать наши правила.
— Это уже без меня. Обещал сегодня жене быть дома пораньше. Всего хорошего, Чарльз. До свидания, мистер Асенов, — Вальтер шагнул к дверям.
— Будь здоров, Вальтер. От меня привет Инге. Я обязательно заеду к вам завтра. Поздравь её. У вас, кажется, сегодня юбилей? Двадцать лет…
— И как только ты всё помнишь, Чарльз, — удивился Вальтер, — О’кей заезжай завтра. Мы тебя будем ждать. Кстати, завтра мы и собираемся отмечать эту дату официально. А сегодня махнём с Ингой за город, — Вальтер вышел, плотно притворив двери.
Камера проследила за тем, как он дошёл до конца коридора, показал удостоверение, отцепил карточку и только потом вышел. Стеклянные створки дверей автоматически замкнулись. Второй дежурный также придирчиво проверил документы Вольрафа и лишь затем вызвал лифт.
— Господин Эдстрем, — уже в третий раз вызывал в микрофон Асенов, когда наконец раздался нетерпеливый голос:
— Я слушаю!
— До каких пор вы будете нарушать инструкцию?
— А, это вы, господин Асенов? Дежурите сегодня с Чарльзом. Мой привет мистеру Деверсону. Я уже заканчиваю. Через пять минут ухожу. Виктор недовольно щёлкнул переключателем.
— Он всегда так. Если ему не напомнить, он может сидеть до утра, — недовольно заметил Чарльз.
В противоположном конце коридора показался мужчина, вышедший из лаборатории. Он спокойно закрыл дверь и чуть прихрамывая на левую ногу, двинулся по коридору. Камера внимательно следила за его продвижением.
— Это Антонио, — сказал Виктор, всматриваясь в экран.
Человек подошёл к их дверям, постучал.
— Войдите, — разрешил Чарльз, и когда дверь открылась, добавил, — Вы могли бы не стучать Антонио, я же всё равно видел вас на этом экране.
Вошедший несколько неловко пожал плечами.
— Вы правы, мистер Деверсон, я всё время забываю про эти камеры. Они такие бесшумные. Я просто пришёл сообщить, что почти закончили работу.
— Так быстро? — удивился Чарльз.
— Конечно. Мы проанализировали ситуацию и нашли… О, господи, что это?…
Громкий женский вопль прервал его слова. Оба сидевших за столами прислушались. Раздались два громких, резких выстрела и ещё один крик. Всё стихло. Камеры продолжали бесшумно стрекотать, обшаривая пустой коридор, но никто в коридоре не появлялся.
— Блокируйте двери, — приказал Деверсон обоим охранникам в микрофон. На правом экране он увидел, как замерли по обе стороны двери двое людей с выхваченными пистолетами. Он включил все камеры. Коридор был по-прежнему пуст.
— Откуда кричали, Виктор? — спросил Чарльз. — Мне показалось из лаборатории.
— Да, — подтвердил молодой человек, — точно оттуда.
— Господи, боже ты мой! Что там могло случиться? — спросил побледневший Антонио.
— Быстро за мной! — приказал Деверсон, поднимаясь рывком на ноги, — Оружие с вами?
— Конечно, — Виктор выхватил «Магнум», стандартное оружие американской полиции, и сотрудников специализированных учреждений ООН.
— Никого не выпускать и не впускать, — еще раз приказал Чарльз в микрофон, — смотрите в оба.
Деверсон и Асенов выбежали в коридор. У дверей стоял дежурный. Он просматривал весь коридор.
— Никого не видел? — крикнул на всякий случай Чарльз.
— Никого, сэр! — дежурный показал рукой в конец коридора, — но кричали из лаборатории.
Деверсон бросился в ту сторону. За спиной он слышал тяжёлое дыхание Асенова. Чуть поотстав, изо всех сил за ними бежал прихрамывающий Антонио. Добежав до дверей лаборатории, Чарльз остановился. Огляделся и крикнул Антонио, чтобы он пока не входил. После чего резким ударом ноги открыл дверь и первым ворвался в помещение. За ним тут же вбежал Асенов. В комнате никого не было. Они побежали между длинными рядами столов, заставленных различной аппаратурой, и ворвались в другую комнату.
Это помещение было смежной комнатой между лабораториями. На полу, широко раскинув руки, лежала Анна Фрост. Юбка чуть приоткрыла колени, в глазах застыло выражение ужаса. Левая грудь была дважды прострелена. Из раны на пол вытекло уже довольно много крови. Рядом стоял Карл Эдстрем, сжимающий револьвер в правой руке. Весь его вид выражал недоумение и ужас.
Чарльз медленно поднял свой «Магнум». Стал спокойно подходить к Эдстрему.
— Карл, — обратился он неестественно ровным голосом, отдайте мне ваш пистолет.
— Это вы, Деверсон? — Эдстрем словно очнулся ото сна. Такая нелепая история. Я сидел в своей лаборатории и вдруг эти крики, выстрелы. Когда я вбежал, здесь уже никого не было. Вы представляете, убийца успел убежать. И вот, бросил свой револьвер.
— Дайте его мне, — еще раз спокойно сказал Деверсон, не спускающий глаз с этого оружия.
— Пожалуйста, — Карл протянул револьвер и только сейчас увидел направленное на него оружие, — Послушайте, Чарльз, если вы думаете что это я… — Деверсон взял оружие, предварительно вынув из кармана платок.
— Я ничего не думаю, мистер Эдстрем. Я тоже, как и вы, слышал крики и выстрелы. И ничего не видел. Вы только что сказали об убийстве. Вы его видели?
— Господи, конечно, нет. Я говорил в этот момент по телефону…
— Дело в том, Эдстрем, что из этого помещения можно уйти или через лабораторию Анны Фрост, или через вашу лабораторию. И в любом случае убийца должен был выйти в коридор. А в коридоре никого не было.
— Как никого? — Эдстрем был больше удивлён, чем испуган. В комнату вошёл Антонио. Увидев убитую, он прислонился к одному из столов.
— Какой ужас, — Антонио стал почти белым, кто это её, Карл?
— Понятия не имею, — Эдстрем начал нервничать.
Чарльз кивнул Виктору и тот быстро прошагал в соседнюю лабораторию. Через минуту он снова показался в дверях.
— Там никого нет.
— И не могло быть. Здесь же негде спрятаться, сказал Антонио.
Деверсон испытывающе смотрел на Эдстрема. Затем наклонился к убитой.
— Карл, вы же эксперт по оружию. Посмотрите. Стреляли явно из этого пистолета.
Эдстрем наклонился.
— Я уже это заметил. Причём сразу. Вот почему я чисто машинально поднял это оружие, чтобы закрыть дульное отверстие. Вы должны знать, что на моём месте так поступил бы любой эксперт.
— Виктор, — обратился к своему молодому коллеге Деверсон, — проверь ещё раз весь коридор.
Асенов выбежал из лаборатории. По обе стороны коридора висело несколько камер продолжавших еле слышно стрекотать. Он бросился в другой конец, к дежурному.
— Вы кого-нибудь сейчас видели? — спросил он, подбегая.
— Нет, сэр, кроме вас троих, никого, — твёрдо ответил дежурный.
— Проверьте ещё раз по своим карточкам, может быть, кто-нибудь задержался на работе, — потребовал Виктор.
— Это невозможно, сэр, — напомнил ему дежурный. — Ни я, ни мой напарник не можем впустить или выпустить человека без специальной карточки. Вы же все знаете, мистер Асенов. Посмотрите, на этаже только вы пятеро — мистер Деверсон, вы, Антонио, Петерс, Карл Эдстрем, Анна Фрост. Больше никого здесь нет. А все двери закрыты. Вот ключи, сэр, от всех комнат. А что там случилось?
— Убийство, — коротко бросил Виктор, — будьте внимательны. Может быть, кто-то здесь прячется. Дежурный улыбнулся.
— Это никак невозможно, сэр. Вы же знаете в каждой комнате у нас установлены контрольные приборы. И если человек не одевший карточку, сумеет каким-то чудом пробраться мимо нас, приборы его тут же зафиксируют. Видите, сэр, на этой схеме сейчас на этаже только пять человек. И четверо в лаборатории. А вот ваше место. Рядом со мной. Нет, мистер Асенов, здесь никого нет.
— Я знаю, знаю, — разочарованно сказал Виктор, — и всё-таки будьте внимательны.
Он снова побежал к лаборатории.
Вбежал в одно помещение, другое. У тела Анны Фрост стояли Антонио, Чарльз и Карл.
— Никого нет, Чарльз, — крикнул с порога Виктор.
— А никого и не может быть, — удовлетворённо отозвался Деверсон, — итак, мистер Эдстрем, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: с какой целью вы убили эксперта Анну Фрост? Для чего вам это понадобилось, Карл?
Из донесения регионального инспектора Постоянного Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею Ч. Деверсона (Отдел борьбы с наркотиками)
«…Убийство Анны Фрост произошло в 18 часов 23 минуты по местному времени. Обстоятельства убийства не позволяют предполагать наличия постороннего человека, на чём особенно настаивает подозреваемый Карл Эдстрем. В момент совершения преступления я и мой напарник — региональный инспектор Виктор Асенов находились в комнате инспекторов и могли отчётливо просматривать весь коридор. Оба дежурных охранника — Уильям Стейн и Эдуард Харрисон находились на своих местах. А экспертАнтонио Перес в этот момент был также в нашей комнате. Кроме Карла Эдстрема на этаже в момент совершения преступления был лишь один человек — Анна Фрост. Предварительное освидетельствование тела и заключение судебно-медицинской экспертизы единодушно указывает на невозможность самоубийства, учитывая два смертельных ранения и отсутствие характерных ожогов при самоубийстве. На основании всего вышеизложенного считаю Карла Эдстрема виновным в совершении убийства и прошу Вашей санкции на передачу данного дела в территориальные органы страны, на чьей территории зафиксировано данное преступление».
Резолюция Председателя Постоянного Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею: «Передать дело в ФБР для ведения судопроизводства, согласно существующим в стране местопребывания законодательным актам».
II
Из протоколов допросов обвиняемого в убийстве Анны Фрост — Карла Эдстрема и свидетелей по данному делу, произведенных следователем Федерального Бюро Расследований Гордоном Уоллером.
Допрос Карла Эдстрема
(сокращённая стенограмма)
Следователь. Хочу предупредить вас, что любые ваши слова могут быть использованы против вас. Таким образом вы имеете право молчать и не отвечать на мои вопросы. Согласно существующему американскому законодательству вы имеете право пригласить адвоката для представления ваших интересов в суде и на следствии. Вы желаете сделать какое-нибудь заявление?
К. Эдстрем. Никакого. Мне не нужен адвокат. Это чудовищное недоразумение и я думаю, что мы сможем наконец разобраться в этих обстоятельствах и без защитника.
Следователь. Это ваше право. Хочу предупредить вас и о том, что согласно существующей договорённости между правительством США и Швеции вы, Карл Эдстрем, швед по национальности и гражданству можете нести уголовную ответственность за уголовное деяние, совершённое в США. Однако, во время допроса вы имеете право требовать вызова сюда представителя вашего посольства и переводчика.
К. Эдстрем. Я уже говорил, что не нужно никаких представителей. Достаточно того, что здесь присутствует мистер Оруэлл, представитель нашего комитета.
Следователь. По согласованию между Федеральным правительством и секретарём Организации Объединённых Наций на наших встречах будет присутствовать представитель Постоянного Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею мистер Роберт Оруэлл, которого вы знаете. Имеются ли у вас возражения?
К. Эдстрем. Я же сказал — никаких возражений, заявлений у меня нет. Это дурацкое, запутанное положение, в которое я попал, надеюсь скоро прояснится.
Следователь. Начнём с самого начала. Ваше имя?
К. Эдстрем. Карл Йохан Эдстрем.
Следователь. Ваш возраст?
К. Эдстрем. Сорок три года.
Следователь. Ваша профессия?
К. Эдстрем. Эксперт по вопросам баллистики отдела по борьбе с наркоманией Постоянного Комитета ООН.
Следователь. Ваше гражданство?
К. Эдстрем. Гражданин Швеции.
Следователь. Состоите ли вы в какой-нибудь массовой организации в Швеции?
К. Эдстрем. Да, я член социал-демократической партии Швеции.
Следователь. Ваше вероисповедание?
К. Эдстрем. Протестантское.
Следователь. Состав вашей семьи?
К. Эдстрем. Жена — Хильда, 42 года. Трое детей, Сын — Улаф, 18 лет, старшая дочь — Кристина, 16 лет и младшая дочь Мери — 14 лет.
Следователь. Как давно вы прибыли в США?
К. Эдстрем. Я работаю в комитете уже второй год. Всё время здесь в Нью-Йорке.
Следователь. Уточните, пожалуйста, когда именно вы прибыли в США?
К. Эдстрем. Пятнадцать месяцев назад. 13 июля прошлого года.
Следователь. Были ли вы до этого в Соединённых Штатах?
К. Эдстрем. Да, дважды. Один раз на конгрессе криминалистов в 1975 году. И один раз в составе делегации шведских юристов в 1980 году.
Следователь. Вы были знакомы с убитой Анной Фрост?
К. Эдстрем. Конечно. И очень хорошо. Прекрасный человек, настоящий товарищ. Мы работали вместе больше года.
Следователь. У вас с ней были ссоры, столкновения? Может быть, у вас были расхождения в оценках той или иной экспертизы?
К. Эдстрем. Не было и никогда не могло быть. Я эксперт по баллистике, а она специалист в криминологии. Это же совсем разные дисциплины права. Какие столкновения? Никаких.
Следователь. Простите, мистер Эдстрем, но я должен задать этот вопрос. У вас были интимные отношения с Анной Фрост?
К. Эдстрем. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос… Хотя нет… заявляю — никогда не имел с ней интимных отношений.
Следователь. Расскажите подробнее вашу версию событий, происшедших в тот день.
К. Эдстрем. Я как всегда задержался на работе. Сидел в своей лаборатории. Моя и лаборатория Анны Фрост соединены ещё одной комнатой и общаются между собой. Двери в коридор и в эту комнату были закрыты, я работал над последними данными по поводу убийства представителя ООН в Латинской Америке, когда раздался телефонный звонок. Я взял трубку. Звонил фотограф, которого просил позвонить Вольраф. Не дозвонившись к нему, фотограф позвонил мне. Я говорил с ним по телефону и в этот момент услышал крики и выстрелы. А потом треск разбитого стекла. Рядом с Анной на полу, если вы отметили в своих протоколах, лежала разбитая стеклянная колба. Нет, она не имеет никакого отношения к её работе. Я бросил трубку, подбежал к двери и открыв её, обнаружил убитую Анну Фрост. Рядом валялся револьвер. Я специалист по оружию. Я тут же достал платок и бросился к оружию, чтобы быстро закрыть дульное отверстие. Должен сказать, револьвер был холодный, что меня немного удивило, но из дула пахло пороховыми газами, указывающими на недавние выстрелы. В этот момент я услышал чьи-то шаги. В комнату вбежали инспекторы. Чарльз Деверсон и Виктор Асенов. Я отдал оружие Деверсону. Потом вошёл Антонио Перес. Почему-то Деверсон решил, что это я совершил убийство, хотя я действительно не стрелял.
Р. Оруэлл. Мистер Эдстрем, вы опытный эксперт, криминалист. Неужели вы сами могли бы признать вашу версию хоть отчасти правдоподобной? Оба наших дежурных, сидевших у дверей, не могли пропустить постороннего человека на этаж. Вы прекрасно знаете, что другой дороги нет. Из окон двенадцатого этажа стрелять также не мог никто. На этаже находилось ещё три человека — Деверсон, Асенов и Перес. И все были вместе в тот момент, когда раздались выстрелы. Остаётесь только вы. Следовательно, какой вывод мы должны сделать?
К. Эдстрем. Я понимаю ваши сомнения, но я действительно не убивал эту женщину.
Следователь. На револьвере не найдено никаких отпечатков пальцев. Вы только что показали, что взяли его в руки, предварительно достав платок. Возможно вы и стёрли отпечатки пальцев неизвестного убийцы. Однако вопрос остаётся открытым. Куда делся этот убийца? Мне была предоставлена возможность ознакомиться с охраной вашего отдела. Убийца просто не мог никуда исчезнуть. Остаётся сделать предположение, что его просто не было. Ваши коллеги по экспертизе, опытные специалисты в баллистике утверждают, что пули были выпущены как раз с того места, где вы стояли, как вы объясните этот факт?
К. Эдстрем. Значит убийца действительно стоял на этом месте.
Следователь. Чтобы добежать до дверей комнаты, где было совершено преступление, вам понадобилось три, максимум четыре секунды. За такое короткое время ни один человек просто не мог никуда укрыться. Весь коридор отлично просматривался вашим дежурным и установленными по всей длине этажа камерами.
К. Эдстрем. Повторяю — всё было так, как я рассказал. Что-либо добавить не могу. Считаю, что вам необходимо найти фотографа, с которым я беседовал в момент убийства. Он подтвердит моё алиби.
Следователь. Как фамилия вашего фотографа?
К. Эдстрем… Не помню. Какая-то славянская фамилия. Впрочем, его знает руководитель лаборатории, в которой работала убитая Анна, — Вальтер Вольраф. Спросите у него, он обязательно скажет.
Следователь. Мистер Эдстрем, а вы сами не могли бы вспомнить номер телефона и адрес этого фотографа. Хотя бы телефон?
К. Эдстрем. Я не знаю ни его адреса, ни телефона. Узнайте у Вольрафа. Он его наверняка знает.
Р. Оруэлл. Мне очень жаль говорить вам это, но тем не менее вы должны сами постараться вспомнить фамилию этого фотографа. Дело в том, что Вальтер Вольраф умер сегодня ночью от сердечного приступа.
К. Эдстрем. В таком случае мои шансы на алиби равны нулю. Хотя я действительно не убивал эту женщину.
III
Остановив машину у дома и направляясь к подъезду Виктор удивился большому скоплению молодых людей, сидевших на тротуаре. Всклокоченные волосы, выкрашенные в оранжевый или синий цвет, нарочитая небрежность в одежде, полное пренебрежение к окружающим. И пугающая безысходность в глазах. Сегодня их было очень много. Человек пятьдесят. Обычно здесь никогда не сидело больше десяти.
Обойдя эту группу, Виктор вошёл в подъезд. Потенциальные клиенты нашего отдела, подумал он. От безысходности до наркотиков всего один шаг. Причём многие его уже сделали. А потом остановиться практически невозможно. Конец всегда один — или от ножа товарища или от слишком большой дозы героина. Закономерный финал этих размалёванных молодых людей.
Поднявшись на лифте к себе на четвёртый этаж, Виктор пропустил вперёд полную негритянку с целым ворохом сумок и пакетов. Он даже любезно взял некоторые из них. Эта пожилая женщина часто заходила к его соседям и она знала его в лицо. Только поэтому она спокойно позволила проводить себя до квартиры. Виктор передал сумки и пакеты и попрощавшись с хозяевами пошёл в другой конец коридора, к себе.
Он не сделал и пяти шагов, как почувствовал какое-то движение за спиной. Виктор резко обернулся. Прямо перед ним стояли двое высоких парней с ножами в руках. Лезвия угрожающе поблёскивали.
— Что вам надо? — постарался как можно спокойнее спросить Виктор, чувствуя, что голос дрожит.
Вместо ответа старший из парней сделал шаг навстречу, резко отвёл руку словно для удара. Виктор не стал ждать. Боевой приём — и парень лежал на полу, скорчившись от боли. Второй бросился почти тут же, но получив ошеломляющий удар в лицо, выронил нож. Виктор спокойно поднял ножи. Пока не было произнесено ни слова.
— Вон отсюда, — негромко сказал Асенов, указывая на лестницу. Парни не заставили себя упрашивать. Один подхватил другого, они вскочили в лифт, остановившись как раз на их этаже. Из лифта вышла молодая мама с двумя детьми. Они с ужасом уставились на ножи в руках Виктора. Он улыбнулся.
— Не беспокойтесь, пожалуйста. Я нашёл эти ножи на полу. Наверно, их уронили эти двое парней. Вы их только что видели.
Женщина несколько успокоилась, но по-прежнему стояла на месте, прижимая к себе обоих детей. Виктор улыбнулся им ещё раз и достав ключи, открыл свою квартиру. Вошёл в неё и подмигнув детям, закрыл дверь.
Войдя в комнату, он достал платок, тщательно вытер оба ножа, затем прошел на кухню, достал плоскогубцы, старательно обломал оба лезвия и завёрнутые останки ножей выбросил в мусоропровод. После чего уселся на диван. И только сейчас обнаружил, что руки предательски дрожат.
— Обыкновенные грабители, — успокаивал себя Асенов, ему ещё повезло, что наткнулся на них в первый раз. Некоторые его коллеги подвергались ограблению по три-четыре раза. Это Америка, ничего ни поделаешь… Но предательская дрожь не проходила. Он вышел на кухню, плеснул себе в стакан немного виски и вернулся в комнату. Обжигающая жидкость сразу ударила в голову.
Почему эти ребята ничего не просили у него, вдруг подумал он и понял, это главное, что его смущало. Действительно оба парня словно и не думали требовать денег. Хотели его убить? Для чего? Нет, это слишком наивно. Обыкновенные грабители. Может, накурившиеся марихуаны товарищи тех бродяг, что расселись вокруг дома. Ему всё-таки придётся сообщить об этом нападении у себя на работе. Впрочем, ничего страшного не произошло. Наверно, не стоит об этом и говорить. В отделе и так хватает неприятностей. Убита Анна Фрост, арестован Карл Эдстрем. А вчера внезапно скончался от сердечного приступа руководитель лаборатории, где работала убитая, Вальтер Вольраф.
Назавтра его вызвали к следователю давать показания. Конечно, ясно, что убил Карл Эдстрем и всё-таки здесь что-то не так. Ведь Карл категорически отрицает свою вину. Виктор, недавно приехавший сюда, ещё не успел с ним близко познакомиться, но его коллеги в один голос выражают недоумение. Карл был прекрасный эксперт, отзывчивый, добрый человек. Отец троих детей. И вдруг такое убийство.
Но кто тогда мог убить их сотрудника? Кроме их троих никого на этаже не было. Виктор почувствовал, как в затылке застучали молоточки. Наверное, от выпитого и после сегодняшнего инцидента. Включив телевизор, он решил несколько отвлечься. К ночи Виктор твёрдо знал, что не расскажет о сегодняшнем случае. Асенов и не подозревал, что это будет одной из его главных ошибок.
IV
Из протокола допроса свидетеля Виктора Асенова
(Сокращённая стенограмма)
Следователь. Ваше имя?
В. Асенов. Виктор Асенов.
Следователь. Возраст?
В. Асенов. Двадцать девять лет.
Следователь. Ваша профессия?
В. Асенов. В настоящее время региональный инспектор Постоянного Комитета ООН по предупреждению преступноси и борьбе с нею. Отдел борьбы с наркотиками.
Седоаатель. Ваше гражданство?
В. Асенов. Болгарин.
Следователь. Ваше вероисповедание?
В. Асенов. Атеист.
Следователь. Принадлежите вы к каким-нибудь массовым общественным организациям в Болгарии?
В. Асенов. Да, член Болгарской Коммунистической партии с 1980 года.
Следователь. Как давно вы прибыли в США?
В. Асенов. Третий месяц, после утверждения в секретариате ООН.
Следователь. Где вы работали до этого?
В. Асенов. В органах государственной безопасности в Болгарии.
Следователь. Ваше воинское звание?
В. Асенов. Капитан.
Следователь. Состав семьи?
В. Асенов. Я холост.
Следователь. Что вы можете сказать по существу данного дела?
В. Асенов. Практически ничего нового. Мы сидели в своей комнате, когда раздались выстрелы. Я, мой напарник Чарльз Деверсон и зашедший к нам Антонио Перес. Мы тут же бросились в лабораторию и обнаружили там убитую. Рядом с ней стоял Карл Эдстрем. Револьвер был у него в руках. Да, я узнаю этот револьвер (протокол опознания прилагается).
* * *
Постоянный Комитет ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею был создан задолго до описываемых событий. Однако в его состав тогда входили лишь: эксперты, криминалисты, учёные-юристы. С 1979 года было решено создать на базе этого комитета несколько отделов для более успешного координирования усилий различных стран в борьбе против мафии, наркомании, контрабанды. В 1979 году были созданы отделы Постоянного Комитета. В состав работников этих отделов входят профессионалы высшего класса из органов государственной безопасности стран членов ООН. В ООН существует и особая инспекция — так называемые «голубые ангелы», которые не входят в специальные аппараты своих стран и подчиняются лишь Генеральному секретарю ООН и Генеральному директору «голубых ангелов».
* * *
Следователь. Как вы считаете, мог кто-нибудь кроме Эдстрема находиться в этот момент на этаже?
В. Асенов. Только наши дежурные охранники, но я лично видел их обоих на экранах. Никто другой на этаже быть не мог.
Следователь. Значит вы считаете, что убийца Карл Эдстрем?
В. Асенов. Я бы не был столь категоричным. Насколько я знаю, он сам отрицает свою вину.
Следователь. Вам не кажется, что вы противоречите сами себе, если кроме Эдстрема никто не мог выстрелить, то кто же тогда убил Анну Фрост?
В. Асенов. Не знаю. Я сам ломаю голову над разрешением этой загадки, но разумного разрешения не нахожу.
Следователь. Но если неизвестный убийца действительно существует, он мог незаметно исчезнуть с вашего этажа?
В. Асенов. Абсолютно исключено. У нас только одна дверь. Другая аварийная, также просматривается камерой и кроме того снабжена сигнализацией. Ваши эксперты, насколько я знаю, смотрели в неё. Оттуда никто не мог выйти. Это исключено.
Из протокола допроса свидетеля Чарльза Деверсона
(Сокращённая стенограмма)
Следователь. Ваше имя.
Ч. Деверсон. Чарльз Деверсон.
Следователь. Возраст?
Ч. Деверсон. Сорок два года.
Следователь. Профессия.
Ч. Деверсон. Старший региональный инспектор Постоянного Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею. Отдел борьбы с наркотиками.
Следователь. Ваше гражданство?
Ч. Деверсон. Гражданин США.
Следователь. Ваше вероисповедание?
Ч. Деверсон. Протестантское.
Следователь. Принадлежите ли вы к каким-нибудь массовым организациям в США?
Ч. Деверсон. Нет, не принадлежу.
Следователь. Где вы работали до этого?
Ч. Деверсон. Пять лет — следователем ФБР. шесть лет в ЦРУ и последние шесть лет в Агентстве Национальной Безопасности.
Следователь. Имели ли вы воинское звание американской армии?
Ч. Деверсон. Я полковник, получил это звание ещё в ЦРУ. Имею английский орден «За заслуги», награждён пятью медалями. В 1972 году был награжден «Серебряной звездой».
Следователь. Состав вашей семьи?
Ч. Деверсон. Жена — Элизабет Деверсон. 33 года. Работает в компании «Юнайтед технолоджико». Дочь — Катрин Деверсон, 12 лет.
Следователь. Что вы можете сказать по существу данного дела?
Ч. Деверсон. Я находился в комнате вместе с инспектором Асеновым и экспертом Пересом, когда раздались крики. Я приказал дежурным охранникам блокировать двери, включил все камеры и поспешил к месту убийства. В комнате, находящейся между двумя лабораториями, на полу лежала убитая Анна Фрост. Рядом стоял с пистолетом в руках Карл Эдстрем. Да, револьвер «Магнум», вот он (протокол опознания прилагается). Я отобрал оружие и приказал Асенову ещё раз проверить наш этаж. Он пошёл к дежурным и проверил по нашим специальным карточкам. При входе на этаж мы обязаны их надеть, а при выходе обязаны сдать, иначе никто не пропускает. На этаже в момент убийства кроме дежурных охранников находилось четыре человека — я, Асенов, Перес, Эдстрем и убитая Фрост.
Следователь. Как вы могли определить откуда именно раздался крик?
Ч. Деверсон. Лаборатории расположены в конце коридора и кричали оттуда. В этом мы были уверены, все трое. Кроме того эти крики и выстрелы слышали наши дежурные.
Следователь. Кто по-вашему мог убить Анну Фрост!
Ч. Деверсон. А разве в этом могут быть сомнения? Конечно, Карл Эдстрем. Я не знаю, что на него нашло. Он хороший специалист, один из лучших криминалистов-баллистов, но… в тот вечер с ним могло что-то случиться. Какой-нибудь приступ или нечто подобное. Вы напрасно это исключаете полностью. Проверьте эту версию. Другого объяснения просто не может быть. Ни один человек не мог проникнуть на этаж.
Следователь. А теоретически такая возможность допустима?
Ч. Деверсон. У нас повсюду камеры, особые приборы фиксируют тут же появление любого человека. Меры предосторожности как в Рокфеллеровском центре. Нет, теоретической возможности также не существовало.
V
После вчерашнего нападения Виктор на этот раз был осторожнее обычного. Он поднялся по лестнице, внимательно осмотрел коридор и лишь затем прошёл к своей квартире, открыл дверь. Войдя, он тщательно осмотрелся. Всё было на месте. Асенов хорошо понимал, что специальные службы США никогда не оставляют его надолго без внимания. Хотя Соединенные Штаты и должны были проявлять традиционное гостеприимство ко всем работникам специализированных учреждений ООН, как страна, где эти учреждения находятся, тем не менее дипломаты, инспекторы, эксперты, криминалисты, просто посланцы из других стран находились под особым вниманием некоторых определённых организаций. В первый месяц после своего прибытия Виктор это чувствовал. У него в комнате часто бывали незнакомые люди, его телефон явно прослушивался. И хотя эти меры шли вразрез с международноправовым статусом специализированных учреждений ООН, тем не менее такая практика существовала. А если учесть, что среди работников Постоянного Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею, было много бывших работников органов безопасности своих стран, то становится понятен особый интерес проявляемый к ним со стороны ЦРУ и А НБ.
Правда и среди работников этого комитета существовала своя категория людей, незнакомых никому, даже органам безопасности тех стран из которых прибывали. Это были эксперты-профессионалы высшего класса — «голубые ангелы ООН». Их держали на местах, почти в каждой стране, каждый из них имел легальную работу — юриста, врача, дипломата, журналиста, профсоюзного активиста. Об их настоящей работе не знало лишь высшее руководство страны, где работал «голубой ангел». Часто эти люди бывали незаменимы, давая очень ценную информацию центральному руководству, в обход местного отделения службы безопасности. И руководители были заинтересованы в охране их инкогнито.
Виктор Асенов был всего лишь региональным инспектором отдела по борьбе с наркотиками и не имел никакого отношения к «голубым». Он прибыл вполне легально, как сотрудник органов безопасности своей страны, проявивший себя на прежней работе в Турции и рекомендованный в качестве сотрудника Постоянного Комитета ООН.
Весь первый месяц он почувствовал за собой слежку. Как опытный профессионал он замечал, что в его квартире бывают посторонние. Но это были всего лишь издержки его работы. Однако вчерашнее нападение этих двух юнцов его озадачило. Если это не грабители, то кто же? Неужели они всерьёз хотели убить его. Виктор не знал ответов на эти вопросы. Резкий телефонный звонок прервал его мысли.
— Мистер Асенов, — голос был женский с едва заметным акцентом.
— Да, это я, — подтвердил Виктор, недоумевая, кто может звонить в столь позднее время.
— С вами говорит Хильда Эдстрем, я жена Карла Эдстрема, вашего бывшего коллеги, — женщине с трудом дались эти слова.
— Я вас слушаю, — Асенов прижал трубку поплотнее.
— Я хотела бы встретиться и поговорить с вами, если это возможно.
— Пожалуйста, — официально ответил Виктор, — как вам удобно, чтобы я приехал, или вы приедете сами?
— Если можно я сама, я сейчас внизу у вашего дома, — чуть виновато отозвалась женщина.
— Поднимайтесь, конечно, — быстро сказал Виктор.
Что могло привести к нему эту женщину. Он не очень хорошо знал ее мужа, но в отличие от Деверсона не верил в его виновность. Деверсон верил, потому что были факты. Он не верил, полагаясь на свою интуицию. В дверь позвонили. Виктор подошел к двери, заглянул в глазок и лишь затем открыл. На пороге стояла женщина лет сорока — сорока пяти. Седые волосы были аккуратно уложены, на лице застыли тревога и волнение. Женщина чем-то неуловимо напомнила своего мужа, Карла Эдстрема. Впрочем, Виктору все скандинавы казались похожими друг на друга.
— Вы Виктор Асенов? — полувопросительно-полуутвердительно спросила женщина. — Это я звонила вам.
— Проходите, пожалуйста, — Виктор посторонился. Он помог женщине снять плащ и провел ее в комнату.
Хильда Эдстрем села на стул, достала сигареты.
— Вы не возражаете?
— Конечно нет, курите, — Виктор щелкнул лежащей на столе зажигалкой, подарком одного из его друзей. Зажигалка была искусно сработана, но он ею почти не пользовался, так как не курил. Женщина тяжело вздохнула.
— Я пришла к вам, мистер Асенов, потому что Карл просил придти именно к вам. Его обвиняют в этом страшном преступлении. Но я точно знаю — Карл не убивал эту женщину. Я знаю его давно, с самого детства. Мы троюродные брат и сестра.
«Вот почему они так похожи», — мелькнула мысль у Виктора.
Он не мог убить Анну Фрост. Но никто ему теперь не верит. Ни Деверсон, ни руководство вашего Комитета, ни следователь из ФБР. Даже представитель нашего посольства считает, что убил Карл. Где я только ни была, никто и слушать не желает. Адвокат Карла рекомендовал ему найти кого-нибудь из своих коллег, которые могли бы более точно исследовать весь этаж и разрешить эту загадку. А кроме вас, на этаже были Чарльз Деверсон и Антонио Перес.
— А вы говорили с ними? — спросил Виктор.
— С Деверсоном? Нет, что вы! Он же серьезно считает, что Карл виноват. А вот Антонио, как и вы, полагает, что убийство совершил не Карл. Он был у нас дома и говорил со мной по поводу этого страшного преступления. Но у него нет возможности все проверить. Он всего лишь эксперт, а вы региональный инспектор. Вот Карл и попросил меня передать вам… Если бы вы знали его лучше! Он не мог этого сделать, — женщина отвернулась.
Виктор вышел на кухню, налил в стакан минеральной воды и вернулся в комнату.
— Выпейте пожалуйста, миссис Эдстрем. Я, конечно, хочу помочь вашему мужу, но скажу откровенно — шансов очень мало. На нашем этаже не могло быть больше никого. Это совершенно точно.
— А вы тоже верите, что убил Карл, — с ужасом спросила Хильда.
— Нет, не верю, — твердо ответил Виктор, — я знал его немного, и я привык полагаться на свое знание людей. Не верю, хотя факты против него. Вот если бы удалось доказать его алиби.
— Карл говорил мне об этом. И его адвокат Генри Салливан сейчас ищет того фотографа, с которым мой муж говорил в момент совершения преступления. Карл не помнит его фамилию, не знает его адреса. Он поднял трубку, спрашивали Вольрафа. И в этот момент раздались выстрелы. А следователи ФБР не очень верят в эту версию и почти не ищут этого человека.
— А Вальтер Вольраф не успел сказать об этом фотографе?
— Нет. Вы не знаете, он скоропостижно скончался. Я была у них на похоронах. Он ничего не успел сообщить.
Виктор молчал. Он уже понял — если Карл Эдстрем не врет, то это его единственный шанс, может быть последний. Нужно найти этого фотографа. Непонятно только почему он сам не заявит в полицию об услышанном. Хотя, что этот человек мог слышать? Выстрелы и крики? Он мог и не придать им значения. Но… какая-то мысль быстро промелькнула и исчезла. Нужно будет проверить все версии, — подумал Асенов.
— Ваш муж не говорил как именно можно найти этого фотографа?
— Нет, ничего. Он просто посоветовал мне зайти к вам. Может быть, вам удастся найти что-нибудь. Он сказал, что верит вам, — женщина произнесла последние слова с надеждой в голосе.
Виктор молчал. В голове уже сложился план предстоящих действий.
VI
Из протоколов допроса Антонио Переса
(Сокращенная стенограмма)
Следователь. Ваше имя?
А. Перес. Антонио Аугусто Перес.
Следователь. Возраст?
А. Перес. Тридцать шесть лет.
Следователь. Ваша профессия?
А. Перес. Эксперт-нарколог отдела по борьбе с наркотиками Постоянного Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с нею.
Следователь. Ваше гражданство?
А. Перес. Гражданин Боливии.
Следователь. Ваше вероисповедание?
А. Перес. Католик.
Следователь. Ваша прежняя профессия?
А. Перес. Эксперт-нарколог при Министерстве внутренних дел Боливии.
Следователь. Состоите ли вы членом какой-либо массовой организации здесь в США, или в Боливии?
А. Перес. Нет, беспартийный.
Следователь. Как давно вы прибыли в США?
А. Перес. В январе 1983 года я стал экспертом отдела и с тех пор почти все время живу здесь, иногда выезжаю домой, в Боливию.
Следователь. Состав вашей семьи?
А. Перес. Я холост.
Следователь. Что вы можете рассказать по существу данного дела?
А. Перес. Я давно знаю Эдстрема. Это честный человек, хороший отец. Я не верю, чтобы он мог убить эту женщину, хотя факты и против него.
Следователь. Вы уклоняетесь от существа заданного вам вопроса.
А. Перес. Я сидел в лаборатории, работая вместе с убитой Анной Фрост. Затем, видя, что мы заканчиваем, встал, вышел из лаборатории и по коридору дошел до комнаты инспекторов. Камеры, установленные там, следили за моим передвижением. Выходя, я видел, как Анна Фрост что-то кричит в другую комнату Карлу Эдстрему. По-моему, спрашивала у него который час. Я вошел в комнату инспекторов, когда услышал крики и выстрелы. Мы трое — Деверсон, Асенов и я бросились туда. Я отстал, потому, что немного хромаю. А войдя увидел убитую Анну. Оружие было в руках у Эдстрема.
Следователь. Вы видели кого-нибудь в коридоре?
А. Перес. Разумеется, нет. Я же сказал — за моим передвижением следила камера. Никого в коридоре не могло быть.
Следователь. Вы часто задерживались на работе?
А. Перес. В последнее время, увы, часто. Слишком много работы.
Следователь. Мог кто-нибудь незамеченным пробраться на ваш этаж и убить Анну Фрост, а затем так же незаметно скрыться?
А. Перес. Это полностью исключено. Вот почему я так удивлен, что кроме Эдстрема по существу никто и не мог совершить этого преступления.
Следователь. Как вы считаете, отношения Эдстрема и Фрост были хорошими? Не было ли у него каких-то личных мотивов для убийства?
А. Перес. Думаю, не было. Их отношения всегда были ровными, товарищескими. Мне, во всяком случае, так казалось.
Следователь. Проведенный повторно обыск на квартире Эдстрема позволил нам обнаружить записку Анны Фрост к нему.
Вот эта записка. Вы узнаете ее почерк?
А. Перес. Да, это ее почерк.
Следователь. Графологи подтвердили, что записка написана рукой Анны Фрост. (Протокол прилагается), В ней сказано: «Увидимся в восемь часов вечера у кинотеатра». Следовательно, какие-то личные отношения у них были?
А. Перес. Может быть. Я об этом не знал.
Следователь. Как вы считаете, могла Анна Фрост быть любовницей Карла Эдстрема?
А. Перес. После этой записки я ничего не знаю. Мне всегда казалось, что не могла. Но сейчас я просто не знаю. Хотя повторяю, я всегда был убежден в невиновности Эдстрема.
VII
Последние несколько дней он безуспешно разыскивал этого фотографа. Виктор побывал в квартире Вольрафов, беседовал с вдовой Вальтера. Безутешная женщина ничего нового сообщить не могла. Она не знала ни адреса фотографа, ни его имени. И вообще не подозревала, что у ее Вальтера был знакомый фотограф.
Виктор знал, конечно, что у женщины уже побывали следователи ФБР, но и им не удалось ничего выудить. И вот теперь он на свой страх и риск объезжал всех нью-йоркских фотографов. Их набралось более шестисот. Предусмотреть или придумать какую-либо систему он просто не сумел. Приходилось объезжать всех. И только сегодня он понял всю бессмысленность своих поисков. Конечно, ФБР уже проверило всех фотографов и если его не нашли, значит его не было или он не зарегистрирован.
Асенов даже остановил машину от неожиданности. Значит, напрасно ФБР ищет фотографов. Он вдруг вспомнил, как Вальтер несколько раз обращался к услугам одной небольшой фирмы по производству химических реагентов. Как называлась эта фирма? Кажется она была расположена в Трентоне, это же совсем недалеко от Нью-Йорка. Он резко повернул машину к месту своей работы. «Фольгсваген», набирая скорость, помчался по Манхеттену. Скоро показалась Пятая авеню. Он оставил машину недалеко от дома, на стоянке и почти бегом направился к зданию. Поднялся на лифте на двенадцатый этаж и предъявил дежурному охраннику свое удостоверение. Кивнув головой, охранник открыл ему дверь. Он еще раз предъявил удостоверение и, получив специальную карточку, почти бегом направился в лабораторию.
В это позднее время в лаборатории горел свет. Виктор осторожно открыл дверь. За одним из столов сидел Антонио.
— Добрый вечер, Антонио. Что вы здесь делаете?
— Не я один, Мистер Асенов. Нас здесь пятеро. Остальные в лаборатории по соседству. Слышите их голоса? Снова срочная информация. Приходится обрабатывать. А у вас какое-то срочное дело?
— Вы не помните, Антонио, с какой фирмой поддерживал связь ваш руководитель Вольраф? Фирма по производству химреагентов в Трентоне. Он еще запрашивал у них какую-то информацию.
— Конечно, помню, — эксперт встал и хромая подошел к одному из стеллажей, — вот пожалуйста — «Юнайтед Карбайд». А в чем дело?
— Ничего, просто хотел проверить, эта фирма или нет. Большое спасибо. — Виктор вышел из лаборатории.
По коридору шли двое. Увидев Асенова, они остановились. Это были региональные инспекторы Луис Баррето и Сэй Гомикава.
— Что ты здесь делаешь так поздно, Виктор? — спросил его Гомикава, — Ваша смена давно кончила свою работу.
— Да у меня были дела в лаборатории, — уклончиво ответил Виктор, — хотел узнать некоторые данные. Могут понадобиться.
Попрощавшись с инспекторами, он дошел до конца коридора, предъявил удостоверение охраннику, отцепил карточку, вышел за дверь, снова показал удостоверение и вошел в лифт.
Итак «Юнайтед Карбайд». Эта фирма иногда помогала Вольрафу и его лаборатории какими-то химическими реактивами. Они сотрудничали уже давно. И кажется у них был свой фотограф. Нужно ехать в Трентон. Это целых три часа езды. Виктор посмотрел на часы. Уже десятый час вечера. Сегодня он не успеет. Значит, завтра нужно отпроситься с работы пораньше и выехать. А что он скажет начальству. Что едет искать свидетеля, подтверждающего алиби Эдстрема. Нет, это не подходит. Может быть ему стоит прямо сейчас съездить туда. Наверняка в фирме есть дежурный, или хотя бы он может узнать на месте, кто глава фирмы. А через него и выйти на этого фотографа. Так ехать или нет?
Залезая в машину Виктор еще сомневался. Он включил зажигание, автомобиль медленно тронулся с места. Автоматически рука потянулась к включателю радио. Почти сразу за щелчком раздался голос диктора — «Федеральное Бюро Расследований считает, что убийство в Лос-Анджелесе не имело место. Однако, некоторые журналисты серьезно полагают, что Мерилин Монро была убита. Мотивы убийства кроются в ее слишком близких отношениях с тогдашним Министром юстиции США Робертом Кеннеди». Он дослушал сообщение до конца и повернул машину на юг. Все-таки лучше ехать в Трентон прямо сейчас. В кармане у него удостоверение сотрудника ООН. Он правда не имеет право ехать дальше Нью-Джерси. Но Трентон расположен почти на самой границе с Пенсильванией, в самом Нью-Джерси. Так что местных законов он не нарушит. Только надо не сбиться с пути, что почти невозможно, учитывая превосходное состояние дорог в Америке.
Первые пятнадцать километров после того, как он выехал из Нью-Йорка, прошли спокойно. Но, сворачивая направо, Виктор вдруг заметил темно-синий «Фиат», который преследовал его, почти не отрываясь. Неужели опять кто-нибудь из местных детективов? Виктор прибавил скорости. «Фиат» также увеличил скорость. Он почувствовал, что начинает нервничать. Это уже выходило за всякие рамки. Неужели не могут оставить его в покое! Он остановил автомобиль на трассе, метрах в пятистах от заправочной станции. «Фиат» замер в тридцати метрах от него. Потушил фары. В машине сидели двое. Виктор, решительно хлопнув дверцей, вышел из своего автомобиля, и зашагал в сторону «Фиата». Внезапно машина его преследователей резко рванула с места. Только в последний момент каким-то чудом ему удалось увернуться от стремительно летящей на него массы железа и стекла. «Фиат» с ревом скрылся в ночь. А он еще долго стоял на дороге. Сильно болело плечо, он ударился, падая на асфальт.
Нет, это явно не «детективы». Кто-то серьезно хочет убрать его. Наверно, решили помешать ему попасть в Трентон. Он упрямо тряхнул головой. Ничего не выйдет. Забравшись в машину, он дал полный газ, и его «Фольксваген» сильно рванул с места. Уже проезжая заправочную станцию, Виктор достал свой пистолет и положил рядом на сидение.
В Трентон он въехал в первом часу ночи. Еще светились огни, слышался смех из переполненных баров. Виктор подъехал к одному из таких заведений. Убрал пистолет в карман и, выйдя из машины, сильно хлопнул дверцей. Вошел в бар. В нем было довольно много людей. Виктор подошел к бармену.
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, синьор, — бармен был явно мексиканец.
— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где находится компания «Юнайтед Карбайд»? — спросил Виктор, старательно выговаривая название фирмы. Бармен засмеялся.
— Что вы, синьор! Какая компания! В ней и работает всего-то десять-пятнадцать человек.
— Они производят какие-то химические реактивы? — спросил Виктор.
— Скорее перепродают, синьор, они ведь только перекупщики. Хотя и неплохие ребята.
— А свой фотограф у них есть? — Виктор затаил дыхание в ожидании ответа.
— Конечно. И очень хороший. Видо Дренкович. Он приехал из Канады. Он и меня пару раз щелкнул. Очень забавный старик, но странный какой-то.
— А где он живет? — Виктор чувствовал, что напал, наконец, на след.
— Недалеко отсюда. Прямо у порта. Вам повезло, синьор, что вы спросили у меня. Я здесь всех знаю. Город правда сильно вырос за последнее время, но все равно я многих знаю. Я даже знаю многих студентов из Принстонского университета. А их там довольно много, — бармен отличался особой разговорчивостью.
— Вы не могли бы мне написать адрес. И, если можно дайте стакан кока-колы, — решил Виктор.
Бармен широко улыбнулся.
— С удовольствием, синьор. Это настоящий напиток джентльменов. Так говорят по телевизору, — мексиканец ловко откупорил одну бутылку, достал высокий стакан, бросил туда несколько кусочков льда и вылил всю бутылку. Пока Виктор пил, бармен быстро написал адрес Дренковича на бумаге.
— Вот здесь проедете налево — я нарисовал вам и схему, чтобы вы не заблудились.
— Спасибо, — Виктор положил на стойку доллар, — сдачи не надо.
— Вам спасибо, синьор, — мексиканец уже обслуживал другого. — Что вам угодно, синьор?
«Фольксваген» медленно ехал по неосвещенным улицам. Доехав до пристани, Виктор свернул направо, показались маленькие, одноэтажные дома. У дома номер четырнадцать Виктор остановил машину. Вышел, осмотрелся. Кругом была тишина, здесь, видимо, жили рабочие порта, рано ложившиеся спать. Он направился к дому. Резко постучал. Тишина. Он постучал еще раз. Старческий голос за дверью тихо спросил:
— Кто там?
— Мне нужен Видо Дренкович, — громко отозвался Асенов.
— Кто вы такой? — раздалось из-за двери.
— Я клиент «Юнайтед Карбайд», — решил соврать Асенов, — мне нужно поговорить с Видо Дренковичем.
Дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял старик лет семидесяти. Слезящиеся глаза внимательно осматривали гостя. Видимо, старик остался доволен.
— Проходите, — он чуть посторонился.
Виктор прошел в комнату. Всюду царили грязь и беспорядок.
Виктор, оглядевшись, сел на единственный стул, стоящий у окна. Старик сел рядом, на кровать.
— Ну, что вам нужно? — спросил он.
— Вы Видо Дренкович?
— Да, я.
— Вы фотограф компании «Юнайтед Карбайд»? — еще раз спросил Виктор.
— Да, это я. Говорите, что вам нужно и побыстрее уходите — я очень устал и хочу спать.
— Я из Нью-Йорка, — сказал Виктор, от которого не ускользнуло, что при упоминании этого города старик вздрогнул. — Две недели назад вы звонили своему клиенту, который часто пользовался вашими услугами — Вальтеру Вольрафу.
— Что с ним случилось? Я звонил ему домой, никто не отвечал.
— Он умер, от сердечного приступа.
Старик молчал. Затем дребезжащим голосом спросил.
— У вас нет сигарет?
Виктор похлопал себя по карманам.
— Я не курю.
— Вы на самом деле приехали из Нью-Йорка? Вы следователь или полицейский инспектор?
— Ни то, ни другое. Я друг Вальтера Вольрафа, — решил чуть соврать Виктор, — а почему вы решили, что я должен быть из полиции.
— Я ведь все слышал, — неожиданно сказал старик, — но боялся идти в полицию. Я ведь эмигрант. Еще во время войны бежал из Югославии, а потом из Канады. У меня всегда были неприятности с полицией. И когда я услышал, что кого-то убивают, я просто испугался.
— Значит, вы слышали по телефону выстрелы и крик?! — спросил обрадованный Асенов.
— Да, — подтвердил старик. — Я позвонил, поднял трубку какой-то незнакомец. Мы не успели сказать и нескольких слов, как раздались выстрелы. А до этого был громкий женский крик. Я слышал, как говоривший со мной громко сказал: «Боже мой. Там, кажется, убивают Анну» и бросил трубку. Я мучился несколько дней. А потом решил позвонить Вальтеру. Но никто не отвечал. Или отвечали незнакомые голоса. А я боялся спрашивать. Что мне оставалось делать? Не в полицию же идти. Кто мне поверит, думал я. И потом, если нужно найти меня, полиция, наверняка, это быстро сделает. Вот почему я с того дня живу в постоянном страхе, я словно чувствовал что-то.
— А вы не могли бы подтвердить завтра свои показания в Нью-Йорке? — Виктор был доволен. Похоже Эдстрем говорил правду, утверждая, что в момент убийства он находился в соседней комнате.
— Я боюсь, — откровенно признался старик, — я боюсь быть свидетелем, боюсь кому-то помешать или выступить против кого-то. Я всего боюсь в этой проклятой стране.
— Ладно, — решил Виктор, — сделаем так. Завтра я расскажу следователю о нашем сегодняшнем разговоре. И он пришлет за вами своих людей. Не бойтесьничего. Вы ведь не обвиняете никого. Вы просто спасете от электрического стула невиновного человека. Ради этого стоит один раз прийти в полицию.
Дренкович молчал. Он смотрел на окно. В наступившей тишине слышались крики из порта, шум проезжающих машин, голоса редких прохожих.
— Хорошо, — сказал наконец старик, — я приеду завтра сам в Нью-Йорк. Но у меня почти нет денег, даже на проезд.
Виктор быстро достал деньги.
— Вот здесь пятьдесят долларов. Этого, думаю, хватит. Обязательно приезжайте. Я не буду говорить ничего следователю. Лучше, чтобы вы сами все ему рассказали. И про наш разговор тоже можете рассказать. Если, конечно, он спросит, откуда вы знаете, что вас разыскивают.
— А как мне найти этого следователя?
— Приезжайте в Манхаттен, на Пятое авеню. Я напишу вам адрес. Номер дома. Поднимитесь на двенадцатый этаж. Там будут стоять дежурные. Скажете, что вы знаете, кто убил Анну Фрост. Запомнили? Анну Фрост. Я лучше запишу. А остальное уже пусть вас не беспокоит. Я предупрежу дежурных. И они отвезут вас к следователю. Договорились?
Старик смотрел на деньги.
— Хорошо, — сказал он, — я приеду.
— Я обязательно предупрежу дежурных, — пообещал Виктор, — и не очень беспокойтесь. Вы только помогаете невиновному, подтверждая его алиби. Я буду вас ждать, — еще раз повторил Виктор вставая.
Старик поднялся с кровати за ним. Шаркая ногами, проводил его до дверей. Уже выходя, Виктор обернулся. При лунном свете лицо Дренковича показалось какой-то комической маской, словно это был не живой человек.
Всю обратную дорогу Виктор пребывал в отличном настроении. Ему удалось найти свидетеля. Он подтвердит алиби Эдстрема. О происшествии на дороге он даже не думал. В конце концов таких автомобильных хулиганов в этой стране хватает. Сейчас главное Эдстрем.
VIII
Из протоколов допроса Рональда Моуэта — эксперта-криминалиста
по вопросам баллистики Федерального Бюро Расследований
(Сокращенная стенограмма)
(Присутствует Карл Эдстрем — обвиняемый в убийстве Анны Фрост).
Следователь. Мистер Моуэт, мы пригласили вас для уточнения некоторых данных по вопросам убийства Анны Фрост. Вам известны Ваши права и обязанности?
Р. Моуэт. Да.
Следователь. Здесь присутствует обвиняемый Карл Эдстрем и его адвокат Генри Салливан. Ответьте на вопрос. Вы осматривали труп убитой Анны Фрост совместно с медицинским экспертом Давидом О’Брайеном?
Р. Моуэт. Да, две недели назад.
Следователь. Расскажите более подробно о ваших выводах.
Р. Моуэт. На теле убитой Анны Фрост мною было обнаружено два пулевых ранения. Обе раны смертельные, так что версия самоубийства полностью исключается. Первая пуля, проникнув через одежду (темно-синюю блузку), вошла в сердце и осталась там. Вторая пуля застряла в левом легком. Причем произошло завертывание краев входного пулевого отверстия. Выстрелы были произведены с близкого расстояния, однако пистолет не был приставлен к груди, а убийца стрелял метров с пяти-шести. В обоих ранах отсутствует некоторая часть кожного покрова во входных отверстиях, что естественно, так как пули, входя в кожу растягивают и разрывают ее. Выстрелы были произведены под некоторым углом, и зона отложения пороховой копоти оказалась несколько расширенной в сторону направления линии полета пуль. Преступление было совершено около семи часов вечера из пистолета системы «Магнум», предъявленного мне для опознания. (Протокол опознания прилагается). Как эксперт могу совершенно точно заявить, что выстрелы были произведены именно из этого пистолета.
Следователь. Труп, лежавший на полу, соответствовал тому месту, с которого мистер Эдстрем мог произвести свои выстрелы?
Р. Моуэт. Да, почти абсолютно. Именно под этим углом. Проведенная дважды баллистическая экспертиза полностью подтвердила мои выводы.
Г. Салливан. Вы полностью исключаете возможность самоубийства?
Р. Моуэт. Абсолютно. При самоубийстве в огнестрельную рану вместе с пулей, выпущенной с очень близкого расстояния, попадают различные инородные предметы — газы, копоть. Образуется такой пороховой поясок. Это вам может рассказать любой медицинский эксперт. Должен быть поясок осаднения, следы действия пороховых газов. Я еще раз подчеркиваю — выстрелы были произведены с расстояния в несколько метров. Однако у меня вызывает недоумение тот факт, что «Магнум» причинил не совсем характерные разрывы кожи, словно дуло пистолета было обвернуто носовым платком. Хотя наша тщательная проверка и подтвердила — стреляли именно из этого пистолета.
Следователь. Мистер Эдстрем, вам знаком этот пистолет?
К. Эдстрем. Да. Этот пистолет из нашей лаборатории. Но я не знаю, как он попал в комнату, где находилась Анна Фрост, и кто стрелял из него.
Следователь. Вы настаиваете на том, что когда вы вошли в комнату, Анна Фрост уже была убита?
К. Эдстрем. Конечно. Более того, состояние канала отвода ствола и отсутствие резкого запаха пороховой гари еще тогда показались мне подозрительными.
Р. Моуэт. Вы хотите сказать, что из пистолета не пахло пороховой гарью?
К. Эдстрем. Пахло, но не так сильно. Словно убийство совершилось не в этот момент, а пятью-десятью минутами раньше.
Следователь. Вы считаете это возможным?
К. Эдстрем. Нет, не считаю.
Г. Салливан. А что думает по этому вопросу мистер Р. Моуэт?
Р. Моуэт. Этого не могло быть.
Следователь. Мистер Эдстрем, на прошлом допросе вы утверждали, что не имели никаких интимных отношений с убитой. Однако, повторно проведенный обыск позволил органам следствия найти записку Анны Фрост, где она просила вас встретиться с ней у кинотеатра. Вам знакома эта записка?
К. Эдстрем. Нет, я ее и в глаза никогда не видел. Это явная провокация. Повторяю — у меня не было никаких интимных отношений с убитой.
Г. Салливан. Я протестую — в записке не сказано, что встреча состоится именно с моим подзащитным. Это мог быть любой человек. Записка могла быть подброшена.
Следователь. В таком случае ознакомьтесь с протоколом обыска квартиры обвиняемого Карла Эдстрема. (Протокол прилагается).
IX
Он ждал уже третий час. По расчетам Виктора, Дренкович должен был быть в Нью-Йорке, если, конечно, он не опоздал на утренний экспресс. Но старика не было. Через каждые полчаса Асенов звонил дежурному, пытаясь выяснить не появился ли этот долгожданный свидетель, но фотографа по-прежнему не было.
В час дня появился Деверсон, который ездил в главное здание ООН, на набережной Ист-Ривера, чтобы сдать необходимые документы. Мрачно пробормотав приветствие, он прошел к своему креслу. Асенов сразу понял, что его коллега не в духе.
— Что случилось, Чарльз? — спросил Виктор, — опять неприятности?
— Еще какие, — недовольно заметил Деверсон, — вызывают дежуривших с нами в тот вечер охранников. Все пытаются допытаться, кто именно мог проникнуть в этот день на наш этаж. Мистер Оруэлл, правда, считает, что убийца все-таки Эдстрем, но наш Генеральный Директор серьезно убежден в обратном. Думает, что к нам каким-то неведомым образом мог проникнуть убийца, а затем скрыться.
— А как ты считаешь, Карл мог убить Анну Фрост? Неужели ты серьезно веришь в эту возможность? — спросил Асенов.
— Знаю, знаю, — Деверсон махнул рукой, — у нас в ЦРУ был даже такой курс «Этические взгляды возможного противника». Гуманизм, вера в социальную справедливость, в человека. Это ваши социалистические идеалы. Вещь, конечно, неплохая. Но для вас. А в жизни я знал много случаев, когда за солидную сумму любой человек мог стать убийцей или предателем.
— Все покупается, все продается?
— Конечно. И не надо делать удивленное лицо. Просто одни продаются за деньги, других прельщают идеей. Вот скажи откровенно, если я вдруг расскажу тебе о какой-нибудь операции, готовящейся против Венгрии или Советского Союза, ты сообщишь об этом на родину? Только честно?
— Да, — не колеблясь ответил Виктор, — я коммунист и офицер.
— Вот, вот. И таким образом за свои принципы ты продашь меня.
— Это разные вещи, — попытался возразить Асенов.
— Оставь, — махнул рукой Деверсон, — это одно и то же. А Эдстрема могли подкупить, предложить большую сумму денег, и он сдался.
— Неужели ты действительно веришь, что Карл Эдстрем мог убить эту женщину? — снова спросил Виктор.
— А кто тогда? — закричал Деверсон. — Куда исчез тогда этот чертов убийца? На этаже кроме нас никого не было. Антонио был у нас в комнате. Оба охранника в конце коридора. Куда делся этот чертов убийца? Почему ты так убежден, что Эдстрем не убийца?
— У меня есть доказательства, — тихо сказал Виктор.
Деверсон перестал кричать. Отвернулся. Затем уже спокойным голосом спросил.
— Какие доказательства? Конкретно.
— Я нашел фотографа, который подтвердил алиби Эдстрема. Они действительно говорили друг с другом по телефону, когда раздались крики и выстрелы. А значит Эдстрем не мог быть убийцей. Достаточно тебе этого?
— Откуда ты узнал? — сразу начал задавать вопросы Деверсон.
— Не все сразу. Я был ночью в Трентоне. Понимаешь, ко мне приходила жена Карла Эдстрема.
— Она тоже не верит в то, что ее муж убийца? — хмыкнул Деверсон.
— Не перебивай. Я вспомнил, что у Вольрафа были контакты с какой-то фирмой по производству химических реагентов. Я приехал вчера сюда и довольно быстро узнал название фирмы. Выехал в Трентон и сумел найти там этого фотографа.
— Так сразу? — недоверчиво спросил Чарльз.
— Вот так сразу. Можно подумать, в Трентоне живет миллион человек. Этот фотограф — старик, эмигрант из Югославии, Видо Дренкович. Он честно рассказал мне, что слышал выстрелы и крики как раз в тот момент, когда Эдстрем говорил с ним по телефону. А это значит, что алиби у Эдстрема абсолютное. Понимаешь, он не мог быть убийцей.
— Хорошо. Предположим, что Эдстрем не виноват. Предположим. Тогда кто? Святой дух? Убийца стоял рядом с Анной Фрост, в пяти метрах от нее. Куда он исчез? Испарился? Ты что, хочешь, чтобы я серьезно поверил в дурацкую версию?
Виктор почувствовал, что начинает нервничать. Действительно, он об этом почти не думал, ему казалось главное — доказать алиби Эдстрема. Но кто тогда убийца? И что самое поразительное — почему в таком случае не сработали приборы, их электронная аппаратура, камеры?
— И, наконец, главное. Для чего убили Анну Фрост? — продолжал Деверсон. — Кому была выгодна ее смерть? Если даже Эдстрему заплатили, я говорю если, — добавил он, заметив протестующий жест Виктора, то и тогда — кто именно заплатил, зачем?
— Ты не обидишься, если я расскажу тебе одну интересную историю? — спросил Виктор.
— Какую историю? — подозрительно покосился на него Деверсон. — Ты сегодня набит историями. Сначала, кстати, скажи, где этот твой фотограф?
— С минуты на минуту он будет здесь, — спокойно сказал Асенов, — история очень интересная. Вчера, когда я ехал в Трентон, на дороге меня едва не сбил темно-синий «Фиат», водитель которого явно не хотел, чтобы я попал в Трентон, к Дренковичу.
— Как это, чуть не сбил? Ты что, выходил на дорогу?
— Я обнаружил, что «Фиат» едет за мной и, остановившись, вылез на дорогу, узнать в чем дело. Твои соотечественники весьма любопытные люди. Они едва не раздавили меня, но преследовали от самого Нью-Йорка.
— А потом отстали?
— Да.
— И ты привез этого фотографа с собой? — почти с ужасом спросил Деверсон.
— Зачем? Он обещал сам приехать сегодня утром.
— А если эти люди действительно следили за тобой? Им будет невыгоден такой свидетель. Как ты думаешь, Виктор? — Чарльз в упор посмотрел на своего напарника, прищурив глаза.
— Не знаю, — Виктор подумал, — «Фиат» потом меня не преследовал. Я бы обнаружил слежку. Нет, за мной никто не ехал. Это точно.
— А этот «Фиат» прицепился к тебе только вчера?
— По-моему, да, но… — Виктор замялся, ища слова, — еще до этого на меня напали двое ребят. Может быть случайность. Но на грабителей они были мало похожи. Судя по всему, они хотели вырезать у меня аппендицит.
— Операция не удалась, — хмыкнул Деверсон, не сводя своего тяжелого взгляда с болгарина.
— Не удалась. Я «попросил» их не приставать. Кстати, попросил довольно вежливо.
— Они послушались?
— А что им оставалось делать?
— Ты доложил об этом случае руководству? — спросил Деверсон.
— Нет. Я, честно говоря, думал, что это обычное хулиганское нападение.
— А теперь так не думаешь?
— Не думаю. Судя по всему, я заинтересовал твоих любознательных сограждан. Или твоих бывших коллег.
— Не говори глупостей, Виктор. Если бы мои коллеги всерьез захотят убрать тебя, я не дам за твою жизнь и десяти центов, — сказал вдруг необычно серьезным тоном Деверсон. — Я думаю, тебя хотели испугать.
— А кто именно, ты подскажешь?
— Не знаю, — уклонился Чарльз, — во всяком случае, не мои бывшие коллеги, это точно. Значит так, — сказал он после небольшого молчания, — значит Эдстрем невиновен. Предположим на одну минуту, что это действительно так, хотя этого быть не может. Но зачем убили Фрост? По-моему, Виктор, нам надо проверить все дела этой лаборатории за последний месяц. Чем они занимались с Вальтером? Может быть, там мы найдем ключ к этой тайне.
— Но теперь веришь, что Эдстрем не виноват?
— Не знаю. Если не он, то я буду очень рад. Но я еще не сумасшедший. Этого не может быть, но, честное слово, я буду очень рад, если твои слова подтвердятся.
Резко зазвонил телефон, Деверсон поднял трубку.
— Да, — подтвердил он, — да, говорит Деверсон, что у вас случилось…?
По внезапно изменившемуся лицу Чарльза Виктор понял: что-то неприятное. Деверсон еще несколько раз сказал «да, понял» и осторожно положил трубку. Затем повернулся к Асенову.
— Ты уже догадался, что случилось? — спросил он глухим голосом.
— Нет, — ответил Асенов.
— Звонили из местного отделения полиции. Там работает один мой знакомый. Только что в районе Уильямберга неизвестным автомобилем сбит какой-то старик, прохожий. В кармане у него найден телефон с нашим номером. Пострадавший скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание. Тебе все понятно?
Виктор вдруг вспомнил слова старого эмигранта: «Я всего боюсь в этой проклятой стране. Я очень боюсь».
— Быстрее одевайся, я вызвал дежурную смену. Едем к Генеральному Директору. Нужно рассказать обо всем, — Деверсон резко поднялся, — слишком много случайностей для одного случая. Разрази меня гром, но похоже ты прав — Карл Эдстрем не виноват. И все-таки, кто тогда убил Анну Фрост? — тихо прошептал он и, посмотрев на многочисленные приборы, добавил. — И каким образом?
X
Генеральный Директор не перебивал своих сотрудников, слушая порой сбивчивую речь Виктора Асенова и короткие, подтверждающие реплики Чарльза Деверсона. Лишь иногда длинные пальцы вытянутой руки выстукивали незаметную и едва слышную дробь на большом полированном столе. Большие запонки с инициалами выделялись на белых манжетах рубашки. Сотрудницы называли его самым элегантным мужчиной среди всех мужчин Организации Объединенных Наций, что почти абсолютно соответствовало его облику.
Уяснив суть проблемы, Генеральный Директор откинулся на спинку своего кресла. Задумался. Оба инспектора терпеливо ждали решения высокого начальства. Шеф повернул голову и посмотрел на своего заместителя.
— Ну, — спросил он, — вы все слышали?
Заместитель кивнул головой. Это был человек лет пятидесяти, с резкими, грубыми чертами лица, производивший впечатление тугодума. Немногие знали, что этот человек несколько лет возглавлял «голубые береты» из личного состава специальных сил ООН по поддержанию мира в Ливане и был дважды ранен. Его всегда полузакрытые глаза и спокойный домашний облик резко контрастировали с его блестящим умом и взрывным характером.
— Мы должны поверить вам, мистер Асенов, и не верить очевидным фактам? — спросил заместитель Директора, — боюсь, для следователя этого будет недостаточно. И для суда тоже. Нужно искать убийцу. Каким образом он проник в помещение, каким образом исчез. Наверно, нужно шире использовать последние достижния науки и техники, просмотреть все возможные варианты.
— Сделаем так, — решил Генеральный Директор, — прошу вас обоих, мистер Деверсон и мистер Асенов, заняться этим делом. Оставьте все свои дела и занимайтесь только последними делами Анны Фрост. Проверьте все, каждую страницу, каждый час ее работы за последний месяц. Обратите внимание на их совместную с Вольрафом работу. И постарайтесь найти ту «мозоль», наступив на которую, Анна Фрост стала лишним свидетелем или невольным участником событий. Вся необходимая помощь вам будет оказана, можете быть свободны.
Оба региональных инспектора вышли из комнаты. Тревожное чувство своей вины и беспокойство мучили Виктора. Его тревога усилилась бы тысячекратно, если бы он мог слышать разговор, который происходил в кабинете Генерального Директора после их ухода.
— Значит наши опасения подтвердились? — спросил Генеральный Директор.
— Да, — подтвердил заместитель. — Вальтер Вольраф умер от яда. Кому-то очень мешали эти двое людей — Вальтер и Анна. Мы сумели незаметно совершить эксгумацию трупа и абсолютно точно установить, что Вольраф был убит.
— Местные органы власти, надеюсь, не были информированы? — иронично спросил Генеральный Директор.
— Они не догадываются.
— Я уже поставил в известность обо всем господина Куэльяра и господина Уркварта. В конце концов, это наша проблема и нам ее надо решать. Убиты два наших сотрудника. Под угрозой жизнь третьего. К Эдстрему нужно приставить человека. И постараться, наконец, выяснить, кому и зачем нужно было убрать наших людей.
— И каким образом, — добавил его заместитель.
— И это тоже, — кивнул Генеральный Директор, — значит, будем подключать ваших «ангелов». Мне нужен человек, который сумел бы распутать это дело. Можете кого-нибудь порекомендовать?
— Есть один, — осторожно сказал заместитель, — но… боюсь, что в данной ситуации… необходимо подумать…
— Операцию нужно провести очень осторожно и точно. Срывы недопустимы. Это должен быть достаточно разумный и осторожный человек, обладающий качеством хорошего профессионала и взглядами дилетанта. То есть, у него должно быть непредвзятое отношение к этим событиям. А значит, все наши сотрудники отдела исключаются, нужно вызывать кого-нибудь из Европы.
— У меня есть на примете один. Абсолютно не имеет никакого отношения к данной проблеме. Интеллект по шкале Роундерса 174 коэффициент-единицы. Но… словом, он из Советского Союза.
— Неужели коммунист?
— Как обычно. Вы же знаете, они рекомендуют на работу в специализированные учреждения ООН только членов своей партии.
— Я крайне отрицательно отношусь к любой политизации нашей организации. Мы боремся прежде всего против организованной преступности, и мне совсем не нравится, что некоторые члены нашего Комитета состоят в своих партиях.
— Кстати, этот болгарин тоже коммунист.
— Я знаю. И, кстати, он совсем неплохо работает. А этот ваш русский? Кто он такой, я его знаю?
— Он не русский. Но вы его знаете. В свое время он раскрыл дело Уилкотта. Работал в группе Шарля Дюпре. Помните, это именно он выяснил, почему господина Брайана Уркварта[9] грабили на улице в течение одного дня дважды.
— Тот самый парень? Я его хорошо помню. Его, кажется в свое время рекомендовало Министерство иностранных дел Советского Союза. Он ведь входил в контактную группу по борьбе с наркоманией.
— Да, тот самый, — подтвердил заместитель.
— Что ж, — решил Генеральный Директор, — я не возражаю против его участия в данном деле. Запросите советского представителя. И придумайте ему какую-нибудь легенду для появления здесь. А кого вы хотите отправить в тюрьму, к Эдстрему?
— Я договорился с ФБР. Рядом с ним в камере сидит наш человек.
— А что вы им объяснили?
— Для большей гарантии. Все-таки, он ведущий эксперт по баллистике нашего международного комитета.
— Правильно. Им совсем не обязательно знать все подробности. Судя по тому, как ловко убрали Вальтера Вольрафа, за этим убийством стоит крупная преступная организация, которой известно чем занимается наш комитет.
Заместитель попытался улыбнуться, отчего его угрюмое лицо стало еще более неприятным. Улыбался он одними губами, глаза оставались холодными.
— Вы думаете наша организация настолько законспирирована? Если о ней знают в более, чем ста пятидесяти странах мира, то наверняка о ней знают и преступные организации.
Генеральный Директор встал и, отодвинув кресло, сделал несколько шагов по направлению к окну. Остановился и, задумчиво глядя на бегущие внизу машины, сказал:
— И все-таки интересно, как можно незаметно проникнуть в комнату, убить человека и исчезнуть? Прямо задача по криминалистике. Я ведь не настолько наивен, как эти следователи из ФБР. Ни сверху, ни снизу проникнуть на этаж невозможно. Гарантия почти абсолютная. Но тогда кто и каким образом?
Заместитель молчал. Он понимал, что в данном случае лучше не перебивать своего шефа, которого мучило это злополучное убийство.
Генеральный Директор повернул голову и негромко сказал:
— Готовьте письмо, я подпишу. Вызывайте своего «ангела».
ЧАСТЬ II
Появляется «Ангел»
I
В Москву он прилетел поздно вечером. Этот неожиданный вызов, заставивший бросить все свои дела, сильно заинтересовал его. В последние полгода, с тех пор, как он сменил свое очередное место работы, его не беспокоили, давая возможность привыкнуть к новому месту, вжиться в коллектив, сработаться. Правда, в одном случае его руководство все-таки нарушило собственные инструкции. Не успел он приступить к исполнению своих обязанностей на новом месте, как его срочно послали в Австрию, где в это время как раз проходило совещание стран экспортеров нефти членов ОПЕК. Но так как он работал на новом месте всего несколько дней, его отсутствие прошло практически незамеченным. А затем полгода его не беспокоили. И вот теперь очередной вызов.
Эксперты контактной группы Министерства иностранных дел по борьбе с наркоманией жили и работали в Москве. Однако он, специальный эксперт этой группы и региональный инспектор безопасности специального комитета ООН по борьбе с преступностью, пользовался относительной свободой и независимостью. Он имел право выбирать работу по профессии и призванию, устраиваться как ему угодно. В случае необходимости его вызывали под благовидным предлогом — для ведения научной работы, повесткой в военкомат, на учебные сборы или под видом туристической поездки по путевке, предоставленной именно ему. И тогда он срочно вылетал в Москву. Специальным экспертам контактной группы выдавали особые удостоверения, обязывающие всех должностных лиц оказывать им содействие, а равно всех комендантов и начальников аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов, автовокзалов, директоров гостиниц предоставлять в распоряжение предъявителей этих удостоверений билеты и места в своих гостиницах. Удостоверения были номерные, по странной логике ему достался номер № 07.
Поймав такси, он назвал адрес. Разумеется, это был совсем не тот адрес, по которому он должен был ехать. В городе он еще два раза менял машины, ехал в метро и, наконец, добрался до нужного ему дома. Смешные меры предосторожности никогда не бывают смешными, когда речь идет о профессионалах высшего класса. Они могут позволить себе быть смешными, ибо в конечном счете от этого зависит их собственная жизнь.
Поднявшись, он постучал. Дверь почти сразу открылась. Его провели в комнату, где уже сидел председатель контактной группы МИДа и ответственные сотрудники Комитета государственной безопасности. Через три часа он сошел вниз в сопровождении трех человек. Все сели в машину, и черная «Волга» понеслась по ночной Москве, набирая скорость.
В доме он переоделся. Теперь на нем был финский плащ, финский костюм, белая английская рубашка, белые бельгийские носки, финские туфли знаменитой фирмы «Топман», часы швейцарской фирмы «Омакс», даже нижнее белье было иностранного происхождения. В кармане лежал паспорт на имя Рамона Эскобара, тридцатидвухлетнего коммерсанта из Уругвая, заверенный консульскими визами уругвайских и шведских правительств, отмечавших его пребывание в Стокгольме по делам фирмы.
В аэропорт Шереметьево они успели за десять минут до регистрации самолета, вылетающего в Стокгольм. Необходимые таможенные формальности, проверка паспорта, консульских виз. Таможенник поставил свою печать и хмуро протянул паспорт уругвайскому гражданину. Улыбаясь, он взял свои документы.
Самолет был наполовину пуст, но он все-таки одел большие очки, неузнаваемо менявшие его облик, и, достав несколько газет на испанском языке, углубился в чтение. В столицу Швеции он прибыл днем. В аэропорту его уже ждали специальные представители международного комитета ООН. После традиционных приветствий не было произнесено ни слова. Он молча отдал свой паспорт и сел в машину.
«Вольво» понеслось по улицам Стокгольма. Из района Бромма, где расположен международный стокгольмский аэропорт, они выехали в район Вестерледа и далее через Эссинген и Эншеде к юго-восточной окраине города в район Трольбеккена.
В небольшом двухэтажном домике он просидел почти пять часов. И все время один. Сидевшие в соседней комнате двое молодых людей смотрели телевизор, а он вынужден был довольствоваться лежавшими на столике газетами из Англии, Франции, Италии, Испании. Он умел читать на английском, испанском, итальянском, и поэтому пять часов пролетели менее мучительно, чем ожидалось. Ему снова вручили паспорт на имя Рамона Эскобара, но на этот раз без советских виз и таможенных отметок.
Через четыре часа он уже летел в Нью-Йорк самолетом авиакомпании «Пан Америкэн». Салон первого класса был почти пуст, немногие пассажиры спали, накрывшись специально выданными одеялами. Улыбающаяся стюардесса разносила прохладительные напитки. Он подозвал к себе девушку.
— Вы не знаете, какая сейчас погода в Нью-Йорке?
— Конечно, знаю, — девушка улыбнулась еще шире, — идет сильный дождь, но синоптики обещают к нашему прибытию хорошую погоду.
— Значит, мы везем хорошую погоду на хвосте нашего самолета, — сказал он, улыбаясь.
Стюардесса засмеялась.
— Наверно, именно так, мистер.
Внизу за иллюминатором на высоте десять тысяч метров четко просматривалась ширь океанских просторов. Рамон посмотрел вниз. Все-таки, это крайне неприятное зрелище — вот такой полет над океаном. Когда летишь над землей, как-то приятней, хотя, конечно, это обманчивое впечатление безопасности.
Он отвернулся от иллюминатора и углубился в газеты, стараясь больше не смотреть вниз.
В аэропорту Кеннеди его ждали двое встречающих. Представитель Международного Комитета ООН и представитель иммиграционных служб США. Быстро пройдя таможенный контроль, он сел в машину, и роскошный «Бьюик» понес его в направлении Манхеттена.
II
Генеральный Директор внимательно смотрел на сидевшего перед ним молодого человека. Тот спокойно ждал, когда, наконец, высокое начальство соизволит заговорить с ним. Неожиданно Директор улыбнулся.
— Вы почти не изменились с тех пор, когда были в группе Дюпре.
— Это недостаток? — спросил он.
— Для профессионала вашего класса, наверно, да.
— Я обязательно об этом подумаю. Надо будет отпускать бороду и усы, чтобы меня не узнавали. Но боюсь, что в таком случае я буду похож не на преуспевающего коммерсанта, а скорее на латиноамериканского бандита.
— Никто этого не требует от вас, — Генеральный Директор откинулся на спинку кресла и сказал совсем другим тоном. — Вас уже ввели в курс дела?
— Да, судя по всему, это очень интересный случай. Возможность проникновения на этаж постороннего человека практически исключена, правильно я понял?
— Да, и это нас очень беспокоит.
— Наш комитет не верит, что убил Карл Эдстрем.
— Но факты против него.
— Вам рассказали об этом фотографе — Видо Дренковиче? Ведь с ним накануне смерти беседовал наш инспектор — Асенов, и тот дал показания, позволяющие с большой долей вероятности говорить о непричастности нашего эксперта к этому убийству.
— Я должен найти убийцу?
— Не только. Необходимо выяснить три вопроса — кто, как и зачем убил Анну Фрост. Главное — зачем. Ведь погиб единственный свидетель невиновности Эдстрема, югослав Дренкович, убит руководитель лаборатории Анны Фрост — Вальтер Вольраф. А это значит, что мы опять столкнулись с системой организованного преступного синдиката. Наши люди уже работают, но ваша задача как эксперта дать свои заключения по данному вопросу. Контактная группа Министерства иностранных дел Советского Союза рекомендовала вас как лучшего специалиста. С местными властями мы договорились. Им известно, что вы из Советского Союза и работаете в нашем комитете как независимый сотрудник специализированного учреждения ООН. Ваш паспорт на имя Рамона Эскобара зарегистрирован и отмечен таможенной службой по всем правилам иммиграционного контроля США. Но, вы же знаете, американцы не любят, когда к ним приезжают граждане из Восточной Европы, особенно из Советского Союза. Они относятся к таким посетителям с известной долей скепсиса. И если вы почувствуете наблюдение за собой, не волнуйтесь. Местные власти беспокоятся за свои внутренние секреты. Но на этот счет у нас все-таки есть договоренность, и с вами будет работать специальный сотрудник Агентства Национальной Безопасности США. Думаю, что он вам не помешает. А в случае каких-либо осложнений с местными властями он может быстро уладить все конфликты.
Эскобар пожал плечами:
— Вообще-то я люблю работать один.
— Я знаю. Но здесь все-таки не Латинская Америка и не Африка. Местные власти обладают суверенитетом на своей территории, судопроизводство и розыск преступников это их внутреннее дело. Вы всего лишь эксперт и в качестве такового гость этой страны.
— Понятно, — Эскобар помолчал и затем осторожно спросил, — Мне нужно вступать в контакт с Асеновым и Деверсоном?
— На первых порах воздержитесь. Сначала исследуйте ситуацию, ознакомьтесь с самим делом более внимательно и подробно. Дайте свои предварительные заключения. Но если вам понадобится — конечно, можете встречаться и с ними, и с остальными работниками нашего Комитета и отдела по борьбе с наркоманией, со всеми, с кем сочтете нужным. Кстати, представитель АНБ гарантирует вам доступ к материалам следствия по данному делу, если в этом возникнет необходимость. Вот разрешение на ношение оружия. — Директор протянул ему небольшой заполненный бланк с красно-синей продольной чертой — стандартный бланк сотрудников специализированных учреждений ООН.
Он взял бланк, прочел название пистолета.
— «Кольт»? — удивился он.
— А что вас удивляет?
— Обычно давали «Магнум», или французский «Р-220».
— Если хотите можно поменять.
— Зачем? Мне все равно. Я не собираюсь пользоваться пистолетом в этой стране. Здесь без меня много стреляют.
Директор усмехнулся.
— Я тоже считаю, что слишком много. Но это внутреннее дело самих американцев. А ваше оружие скорее для самообороны.
— Очень надеюсь, что на меня никто не собирается нападать.
— Я тоже надеюсь, — сказал Директор, — но будьте внимательны. Судя по почерку, действуют профессионалы высшего класса. Не нужно их недооценивать. Где вы собираетесь жить? — спросил вдруг Директор.
— Только не в зданиях для сотрудников ООН. Там всегда масса народа. В каком-нибудь недорогом отеле. Я не претендую на роскошь.
— Хорошо. Обговорите этот момент с моим заместителем. Будьте вечером в номере, к вам приедет сотрудник АНБ. Познакомитесь с ним, поговорите. У меня все, — Генеральный Директор привстал, протягивая руку. Эскобар пожал ее, наклонил голову. Уже выходя из кабинета, он обернулся и спросил. — А можно задать один вопрос по существу данного дела?
— Конечно, можно, — Директор поднял на него удивленные глаза.
— Вы лично верите, что убийца Карл Эдстрем?
Генеральный Директор помедлил с ответом. Наконец, произнес.
— Нет, не верю.
— Спасибо. Это все, что я хотел спросить.
III
Больше всего он не любил сидеть без дела. Его деятельная натура требовала постоянного действия, разговора, движения. И вот теперь он изнывает от бездействия уже третий час, а представителя АНБ все нет.
«Странно, подумал он, глядя на часы, — американцы народ пунктуальный, всегда отличались точностью».
Словно в ответ на его мысли раздался телефонный звонок. Он поднял трубку.
— Мистер Эскобар? — раздался в трубке густой мужской бас.
— Да! — раздраженно сказал он, в конце концов этот американец мог позвонить и раньше.
— Вы у себя в номере? — спросил тот же бас.
— Нет, я на Гавайских островах. Вы что не знаете, куда звоните?
Говоривший не понял шутки. Или не хотел понять.
— Сейчас к вам приедут, — сказал он и положил трубку.
Раздались короткие гудки. Он бросил трубку. Черт бы побрал этих американцев. Они могут испортить ему всю дальнейшую программу. Нет, так дело не пойдет. Надо будет им об этом сказать, а все-таки интересно, кто убил эту женщину? Он быстро набросал план этажа, с которым его познакомили еще утром. Значит, двое охранников стояли в конце коридора. Еще трое людей сидели в этой комнате. Больше никого на этаже не было. Мистика какая-то. Откуда взялся этот убийца. Может быть, он все время был в лаборатории? Тогда почему не сработала аппаратура? Предположим, ему удалось каким-то образом перехитрить охранников и миновать телевизионные камеры, предположим, что система электронной сигнализации, регистрирующая постороннего человека, тоже не сработала. Тогда куда делся этот человек после убийства. Через несколько секунд в этой комнате уже был Карл Эдстрем. Еще через полминуты — трое остальных. Куда успел спрятаться убийца за это время? Дурацкий парадокс. Неужели Эдстрем все-таки виноват? Но, тогда зачем фотографу врать Асенову, зачем неизвестным убийцам убирать Дренковича? Все-таки разгадка находится там, в лаборатории. В какой-то момент Вольраф и Фрост стали опасны для неизвестной организации. И она решила их убрать. Сделано, конечно, все виртуозно. Вольраф «случайно» умер от сердечного приступа, а Анну Фрост застрелил ее любовник Карл Эдстрем. Не слишком ли все просто? Как он понял из разговоров в Комитете ООН, местные власти не знают причину смерти Вольрафа. Американский врач дал заключение, что это сердечный приступ. Надо будет, кстати, присмотреться и к этому врачу. Интересно, кого пришлют к нему из Агентства Национальной Безопасности? Наверняка, какого-нибудь местного Джеймса Бонда, угрюмого детину, жующего жвачку и стреляющего без предупреждения. Черт побери, представляю, как он будет мешать!
В дверь постучали. Он поправил галстук и пошел открывать. На пороге стояла женщина лет тридцати, высокого роста, с коротко остриженными волосами. Голубые глаза смотрели испытывающе-внимательно на Рамона. На ней была белая блузка и темно-серый брючный костюм. Рамон хмуро посмотрев на нее, наконец, спросил:
— Кто вам нужен? Вы, кажется, ошиблись номером.
— Вы Рамон Эскобар, уругвайский коммерсант? — спросила она, не сводя с него пристального взгляда.
— Да, — кивнул он головой, — а в чем дело?
— Я, Кетрин Бэнвилл — сотрудник АНБ.
Он растерянно посторонился. Женщина прошла в комнату, не дожидаясь приглашения, опустилась в кресло. Он сел рядом, в соседнее.
— У вас есть какое-нибудь удостоверение? — Наконец спросил он.
Она внимательно посмотрела на него.
— Вы так подозрительны? Пожалуйста, — она достала удостоверение сотрудника АНБ. Он внимательно ознакомился с ним. Хмыкнул, вот тебе и Джеймс Бонд.
— Что-нибудь не в порядке? — спросила она.
— Нет, ничего. — Он вернул ей удостоверение и вдруг улыбнулся, — честно говоря, я не ожидал, что пришлют женщину.
Она молча смотрела на него.
Он улыбнулся еще шире.
— Вы мало похожи на американских суперменов. Хотя, откровенно говоря, все как в кино — женщина-детектив. Я доволен, что буду работать с таким сотрудником.
Она по-прежнему молчала.
Он недоуменно пожал плечами.
— Вы собираетесь так молчать на протяжении всей нашей совместной деятельности?
— Нет, — сказал она, — просто мне интересно. Я впервые встречаюсь с «голубым ангелом» Специального Комитета ООН. Про вас ведь рассказывают легенды. И кроме того, вы еще коммунист и русский офицер.
— Я, действительно, коммунист, но никакого отношения к КГБ не имею. Мы входим в контактную группу Министерства Иностранных Дел нашей страны, и вы об этом прекрасно знаете. Я убежден, что перед тем как приехать сюда, вы внимательнейшим образом изучили мое личное дело. Разве я не прав?
— Правы, — спокойно подтвердила она, — а если бы я приехала в Москву даже в качестве сотрудника ООН, ваш КГБ не проверил бы мое досье?
— Конечно, проверил бы, — он улыбнулся снова, — вот видите, мы постепенно находим общий язык. И вообще, видимо нам предстоит несколько недель работать вместе. Давайте доверять друг другу, насколько это возможно. Я сотрудник ООН и не собираюсь вынюхивать ваши внутренние секреты. У меня нет никакого задания от КГБ и не может быть. Конечно, эта организация в курсе того, что я здесь делаю, но и только. Это я говорю специально — чтобы между нами сразу установились доверительные отношения, если, конечно, они возможны. Если у вас есть какие-нибудь вопросы я с удовольствием на них отвечу.
Впервые она улыбнулась уголками рта.
— Ваш индивидуальный коэффициент по шкале Роундерса равен 174 единицам. А мой только 163. Мне должно быть труднее разговаривать с вами, чем вам со мной.
— Значит вы все-таки смотрели мое личное дело, — удовлетворенно сказал он, — и что интересного вы там обнаружили?
— Очень много, — спокойно сказала она, — вы довольно известный эксперт этого комитета. Знаете несколько иностранных языков, неординарно мыслите, отлично стреляете из пистолета, даже выступали у себя на соревнованиях, занимали призовые места. Умеете принимать нестандартные решения, обладаете чувством юмора, а ваша коммуникабельность равна почти абсолютной. Все правильно?
— Не слишком ли много достоинств для одного человека? — он встал с кресла. — Вы будете что-нибудь пить?
Она кивнула головой.
— Пива.
Он подошел к холодильнику и достал две банки. Открыв обе жестянки, он налил пенящуюся жидкость в два высоких стакана и протянул один из них сидевшей женщине.
— Честное слово, я не добавлял туда яда, — сказал он, улыбаясь.
— Надеюсь, — спокойно сказала она, чуть пригубив стакан, — кстати, там же сказано, что вы обладаете феноменальной памятью, энциклопедическими знаниями и выдающимися аналитическими способностями.
— Прямо сверхчеловек. — еще раз пошутил он.
— А если серьезно? — спросила она.
— Серьезно? — он пристально посмотрел на женщину. — Вы, миссис Бенвилл, судя по всему, эксперт-психолог. По вашему независимому виду, столь, впрочем, характерному для ваших соотечественниц, я чувствую, что вы не замужем, хотя наверняка имеете одного или двух детей. Ваша главная задача — наблюдение за моими методами и формами расследования. Возможно, я ошибаюсь, но вы, почти убежден, специалист по психологии советских людей, причем, достаточно опытный специалист, если работаете в АНБ. Вы подключены ко мне не одна. На улице дождь, а вы без плаща. Значит, наверняка, в соседнем номере сидит ваша группа и наш разговор прослушивается. Если судить по вашему коэффициенту, то вы невероятно умная женщина, обладаете сильной волей, умеете отстаивать свою точку зрения. По происхождению вы не чистой англо-саксонской крови. Какие-то неуловимые моменты позволяют предположить, что в вас есть что-то от скандинавов…
— У меня мать наполовину датчанка.
— … Тем лучше, — он кивнул головой, — кстати, можете передать своим людям, что подслушивать меня совсем необязательно. Я не собираюсь узнавать военные секреты Соединенных Штатов, и тем более не собираюсь выдавать секреты Советского Союза, даже такой красивой женщине, как вы. Впрочем, я их и не знаю. Будем считать, что это мы выяснили.
Кэтрин Бэнвилл покачала головой.
— Мне будет очень трудно работать с вами, мистер Эскобар.
Рамон насмешливо улыбнулся.
— Не прибедняйтесь. Боюсь, что и мне будет совсем нелегко. В качестве первой просьбы я прошу дать мне возможность ознакомиться с материалами следствия по делу об убийстве Анны Фрост. Его кажется ведет Федеральное бюро расследований. Это можно сделать?
— Да, — она снова пригубила стакан, — но вы напрасно сомневаетесь. Кроме Эдстрема там никого не могло быть. В этой лаборатории уже побывали лучшие эксперты ФБР. Убийца не мог исчезнуть незамеченным, никак не мог. С этим делом все ясно.
— Тем лучше, значит я просто помогу вашему следователю установить истину. А сейчас я прошу вас совершить со мной прогулку по ночному городу. И заехать в лабораторию, где была убита Анна Фрост. Может быть, там мы найдем что-нибудь интересное.
Кэтрин поднялась с кресла, поставила стакан на стол. Посмотрела на Рамона и необычайно серьезно произнесла.
— Боюсь, что мы даже недооцениваем ваших возможностей, мистер Эскобар.
Рамон улыбнулся, вскочил на ноги и, приблизив губы к ушам миссис Бэнвилл, тихо произнес.
— Не так громко. А то нас услышат ваши люди и заменят вас на более компетентного и знающего специалиста. А мне, честно говоря, этого очень не хочется.
Кэтрин, зло посмотрев на него,тряхнула головой.
— Одевайтесь, мистер Эскобар, и не забудьте взять свои документы, иначе нас не пропустят в эту лабораторию.
IV
Уже третий день Виктор Асенов и Чарльз Деверсон проверяют все последние дела лаборатории Вальтера Вольрафа. В самой лаборатории работало восемь человек, и региональные инспекторы вынуждены были проявлять максимум осторожности и изобретательности, дабы не привлекать к себе внимания со стороны окружающих. Впрочем, все сотрудники их отдела знали об убийстве Фрост и не видели в их поисках ничего подозрительного.
Нудная кропотливая работа очень утомляла обоих. Приходилось просматривать тысячи документов, запросов, официальных отчетов, статистических данных, лабораторных анализов. Все, с чем была связана деятельность Анны Фрост за последнее время, было взято под контроль. Но ничего существенного пока найти не удалось.
И вот сегодня Деверсон с утра принес еще пять папок, набитых бумагами, и они снова засели за изучение материалов. Деверсон, отхлебывая кофе, внимательно просматривал все бумаги. В руках у Асенова была ручка и он выписывал интересующие его сведения в лежавший перед ним блокнот.
— Ты посмотри, — сказал Деверсон, нарушая их молчание и протягивая папку с газетными вырезками. — Это сообщение о смерти Поля Кастеллано, крестного отца мафии. Вольраф почему-то хранит их в отдельном конверте. Непонятно, правда, какое отношение это имело к их работе.
— А чем Вальтера заинтересовала смерть Кастеллано? — удивился Виктор. — Обычное сведение счетов между кланами мафии.
— Но почему тогда он хранил эти вырезки в отдельной папке, посвященной делу Авеллино? Может быть он видел в этом какую-нибудь связь? — вслух подумал Чарльз.
— А кто такой этот Авеллино? — поинтересовался Виктор, отрываясь от бумаг.
— Доверенное лицо самого Энтони Коралло, босса семейства Лючеззе, одного из пяти руководителей мафии. Знаменитая личность, этот Коралло. За ним давно охотились специалисты ФБР, но он умудрялся выйти сухим из любой запутанной ситуации. На его счету немало различных темных дел. А через Авеллино ФБР вышло на самого Коралло. Операция проходила тогда под личным руководством Директора ФБР Уильяма Уэбстера.
— Наверно, нужно поднять это дело, — решил Виктор. — если у нас, конечно, есть какие-нибудь материалы. Авеллино был замешан в торговле наркотиками?
Насколько мне известно, да. На него вышли сотрудники Интерпола, а затем передали его ФБР.
— А у нас не могут быть какие-нибудь еще данные по этому делу? Кстати, кто вел дело Авеллино в нашем Комитете? Если подключался Интерпол и ФБР, значит наверняка, сообщали нам.
Об этом я и говорю. Дело вел сам Вальтер. А ему помогала Анна Фрост. — Оба инспектора замолчали, уставившись друг на друга.
— Ну и что? — первым нарушил молчание Виктор, — Мало ли дел они вели вдвоем.
— Конечно, — согласился Деверсон, — и все-таки интересно, какое отношение имеет убийство Поля Кастеллано к делу Авеллино? ФБР тогда засекретило всю информацию. У нас практически нет никаких данных по этому вопросу.
Виктор покачал головой.
— Ваши бывшие коллеги, мистер Деверсон. Впрочем, хоть что-то у нас есть. Часть материалов по данному делу, все-таки, попала к нам через сотрудников отдела по борьбе с наркотиками Интерпола. В 1983 году на Лонг-Айленде, у отеля «Таун-хаус» трое следователей ФБР сумели установить микрофон за приборной доской в его «Ягуаре». И все разговоры Сальваторе Авеллино записывались на этот микрофон. А он был шофером Энтони Коралло. — Деверсон перевернул несколько страниц, — Магнитофонная лента не могла быть использована в качестве решающего доказательства, но некоторые улики ФБР, все-таки, нашло. Авеллино и Коралло сотрудничали с частной фирмой по вывозу промышленных отходов, действовавшей в районе Нассау и Саффолка, и установили там свой незаконный контроль.
В окружном суде Нью-Йорка дело вел прокурор Джульяни. Было арестовано немало мафиози, причастных к данному преступлению.
— Только-то? — недовольно спросил Виктор.
— Ты слушай дальше, — Чарльз отложил дело и повернулся к Виктору, — постепенно ФБР и прокуратура вышли на всех боссов мафии. Был посажен в тюрьму босс другого клана, семьи Коломбо — Кармино Персико. А остальным четверым боссам — Полю Кастеллано, Энтони Коралло, Филипу Растелли и Энтони Салерно были предъявлены многочисленные обвинения в убийствах, шантаже, торговле наркотиками, организации проституции, угоне автомобилей. Дело Авеллино было лишь кончиком нити, ухватив за который, ФБР принялось разматывать весь клубок. Может быть поэтому Вольраф и хранил материалы об убийстве Поля Кастеллано вместе с делом Сальваторе Авеллино. Видишь, он даже пронумеровал все бумаги. Все вырезки от первой до восемьдесят шестой. — Чарльз показал папку Асенову. Виктор взял ее в руки, быстро переворачивая страницы.
— И все-таки, зачем Вальтер завел эту папку? — снова сказал Деверсон. — К нашей работе это все имеет лишь косвенное отношение. Наша задача всего лишь информировать ФБР, по каким каналам к ним могут поступать наркотики и только. Зачем Вальтеру подробности расследования? Это же нас совершенно не касается.
— Конечно, — согласился Виктор, — кстати, Чарльз, здесь только восемьдесят две вырезки. А где остальные четыре?
— Не понял, — Деверсон взглянул на Асенова, — что значит восемьдесят два? Там же ясно написано восемьдесят шесть.
— Их здесь нет, — Виктор передал папку Чарльзу, — кто-то успел их отсюда бережно вытащить. Может быть, сам Вальтер или Анна, а может… — он выразительно посмотрел на Деверсона, — кто-нибудь имеющий отношение к их убийству.
Чарльз побагровел.
— Эта папка не выносилась с этого этажа. Значит, листы вырвал кто-то из нашего отдела.
— Во всяком случае, это не Вольраф. Видишь, он вытащил отсюда в январе две вырезки и аккуратно это отметил, заменив их позднее другими. Кстати, посмотри дальше. В этой папке не хватает еще пяти листов. Нашего запроса в Италию, ответа и трех других страниц. Куда они делись и что в них было написано, ты знаешь?
Чарльз быстро пролистал страницы.
— Копии запроса и ответы должны быть в Министерстве внутренних дел Италии. Это мы быстро найдем. Еще одна страница — сообщение нашего агента из Мексики. Это тоже можно восстановить. А две другие — заключение Вольрафа. Боюсь, что с этими бумагами мы никогда не сможем ознакомиться.
— Если мы выясним, что было написано в трех остальных, может догадаемся, что было и здесь, — рассудительно сказал Виктор, — в любом случае, что-то начинает проясняться.
Сообщение Юнайтед Пресс Интернейшнл
Вчера, в Нью-Йорке, на 46-й улице Манхеттена убит босс боссов американской мафии Поль Кастеллано. Вместе с ним застрелен его телохранитель и доверенное лицо Томас Билотти. Двойное убийство американских гангстеров вновь со всей очевидностью ставит перед обществом вопрос об усилении дальнейшей борьбы с преступностью. Полиция начала розыск предполагаемых убийц. Как заявили представители нью-йоркской прокуратуры, они не исключают возможность сведения счетов между кланами мафии.
«Шпигель» Гамбург
Смерть настигла Кастеллано перед рестораном «Спаркс стей хаус» на 46-й улице Манхеттена, между 2-й и 3-й авеню. Бортик тротуара там окрашен в желтый цвет, это означает, что стоянка автомобилей категорически запрещена. Но на черный лимузин «Линкольн», который в час пик подкатил к ресторану, это правило, видимо, не распространялось. Водитель остановил машину и вышел из нее с пассажиром.
К ним подошли трое в плащах и открыли огонь из автоматов. Звуки выстрелов сопровождались криками прохожих, которые совершали рождественские покупки или шли со службы. Испуганные люди поспешили укрыться в подъездах или просто залегли на тротуар. Когда отгремели автоматные очереди, неизвестные добежали до угла и укатили в поджидавшей их машине. Им никто не помешал.
Посреди дороги остался лежать Томас Билотти — уставившись в небо и раскинув руки. Кастеллано — а именно его привез в ресторан Билотти — умер на тротуаре перед раскрытой дверцей автомобиля. В него попало шесть пуль.
Убийство Кастеллано и его охранника в центре Манхеттена на глазах у ошеломленной публики говорит о том, что в преступном мире Нью-Йорка разразилась одна из тех «уличных войн» со стрельбой, которые, казалось, безвозвратно канули в прошлое…[10]
Вашингтон. Соб. корр. «Известий» А. Палладин
Среди бела дня в самом центре Манхеттена на глазах у сотен людей трое в плащах приблизились к остановившемуся у тротуара «Линкольну», выхватили из-под полы полуавтоматические револьверы и в упор расстреляли двух выходивших из лимузина мужчин. Затем убийцы вскочили в автомобиль и были таковы, оставив позади окровавленные трупы своих жертв… 73-летний Кастеллано слыл «капо ди тутти капи» — боссом боссов американской мафии.[11]
Сообщение «Эй-би-си» из Вашингтона
Появление Кастеллано на скамье подсудимых было бы нежелательно не только для главарей мафии, но и для некоторых государственных чиновников, так как могло бы пролить свет на их связь с преступным миром США. Босс американской мафии должен был вскоре предстать перед специальной комиссией по расследованию деятельности американской мафии.
V
На Пятую авеню они приехали в десятом часу вечера. На улицах было мало автомобилей и миссис Бэнвилл уверенно вела свой «Форд» на довольно высокой скорости. Сидящий рядом Эскобар за все время дороги не промолвил ни слова, лишь иногда немного недовольно поглядывая на спидометр машины.
Припарковав автомобиль недалеко от здания, миссис Бэнвилл вышла, сильно хлопнув дверцей. Рамон вылез медленней обычного, спокойно закрыл дверь автомобиля и пошел вслед за женщиной. Внизу их уже ждал инспектор Сэй Гомикава, специально приставленный международным Комитетом ООН в качестве помощника Рамона Эскобара. Они уже познакомились в главном здании ООН и теперь лишь кивнув друг другу головой, вошли в лифт, пропустив вперед женщину. Гомикава был среднего роста, спокойный, подтянутый молодой человек лет тридцати пяти, ничем не выделявшийся среди своих соотечественников и сограждан. В Америке, где живут многие азиаты, особенно в китайских кварталах, его вполне могли принять за своего. Английский язык он знал хорошо, но другие давались ему с трудом, и он, в основном, работал в англоязычных странах, большей частью в Штатах, выполняя свою работу всегда четко и аккуратно. За его плечами была служба в Вооруженных Силах Японии, в составе специальной воздушно-десантной бригады Японских сил самообороны, где он прослужил восемь лет и работа в полиции столичной префектуры Токио, где он считался одним из лучших специалистов по борьбе с наркоманией.
— Странно, — громко сказал Эскобар, обращаясь к Кэтрин Бэнвилл.
— Что странно? — подозрительно спросила женщина.
— За нами, кажется, не следили. Неужели наши коллеги доверяют мне такую красивую женщину? — сказал он, даже не улыбнувшись.
— Мистер Эскобар, — вспыхнула Кэтрин, — если вы собираетесь издеваться надо мной, то это бесполезное занятие. Очевидно, это ваша тактика вывести меня из равновесия. Советую вам найти другой объект для ваших шуток.
— Не обижайтесь. Мне просто смешно. Два непримиримых идеологических противника в одном лифте. Я просто никогда не сотрудничал с представителями вашей организации.
Она внимательно посмотрела на него.
— Вы всегда такой несерьезный?
— Нет — Рамон покачал головой, — я еще очень серьезный. Это даже плохо. Вы не обращайте на меня внимания, считайте, что у меня просто рабочее состояние перед решением трудной задачи.
Женщина покачала головой.
— Я считала, что профессионалы вашего класса куда более серьезные люди. И вы еще считаетесь лучшим экспертом. Представляю тогда, какие у вас худшие работники.
— А вот это качество. Причем здесь остальные? Они очень серьезные и занятые люди. Вот посмотрите на Гомикаву. Во время нашего разговора на его лице не дрогнул ни один мускул.
Японец спокойно наблюдал возникшую перебранку. Лифт остановился и все трое вышли на этаж. Стоявший охранник протянул руку и Гомикава передал ему три пропуска. Дежурный внимательно просмотрел их, хотя знал Гомикаву в лицо, и лишь затем дал знак открыть двери. Тяжелая масса стекла раскрылась бесшумно. Они вошли в коридор и еще раз предъявили свои удостоверения. Охранник тщательно просмотрев их, сложил в специальную нишу и выдал им три карточки, которые они прикрепили на лацканы своих пиджаков.
Они прошли по коридору в комнату № 1201. Рамон Эскобар сразу стал необычайно молчалив и серьезен. Он внимательнейшим образом осмотрел все приборы, стоявшие в этой комнате, проверил действие телевизионных камер, их параллельную видимость, четкость изображения. По его просьбе Гомикава несколько раз выходил в кори дор, доходя до дверей лаборатории. Рамон старательно переключал аппаратуру, щелкая различными приборами. В некоторых случаях Гомикава помогал ему, когда он не мог разобраться с предназначением того или иного прибора. Кэтрин Бэнвилл внимательно следила за его действиями, предпочитая не вмешиваться. Затем они прошли в лабораторию, где было совершено убийство. Рамон обратил внимание, что весь коридор хорошо просматривался дежурными. Войдя в лабораторию, он поразился обилию аппаратуры и всевозможных приборов. В соседней комнате, где была убита Анна Фрост и в лаборатории Эдстрема аппаратуры было меньше. Рамон несколько раз замерял длину комнаты, длину обеих лабораторий и коридора. Зачем-то даже подошел к окнам. Напоследок он попросил Гомикаву несколько раз крикнуть из той комнаты, где было совершено убийство. Причем каждый раз он находился в разных местах. Сначала Рамон был в лаборатории Эдстрема, затем в лаборатории Вольрафа, и наконец, в комнате инспекторов. Видимо, он остался недоволен своими экспериментами, так как выходя из лифта, внизу он скорчил разочарованную гримасу недовольства.
Миссис Бэнвилл, видя его состояние, решила подразнить Эскобара.
— Вы, кажется, разочарованы? — спросила она улыбаясь.
Он поднял на нее глаза.
— Страшно, — подтвердил он и тут же улыбнулся, — неужели вы всерьез полагаете, что я могу быть расстроен, имея рядом с собой такую красивую женщину? Я невероятно доволен.
— Вы всегда говорите пошлости? — спросила она отворачиваясь.
— Нет, только когда встречаю сотрудников АНБ.
Гомикава недоуменно пожал плечами, не понимая о чем идет речь. Рамон обернулся к нему.
— Я думаю, Сэй, вам не стоит провожать нас до отеля. Миссис Бэнвилл любезно довезет меня. А то по дороге я могу узнать секрет какого-нибудь американского бара.
Кэтрин рассерженно посмотрела на него.
— Поймаете такси, — сказала она, поворачиваясь к своей машине.
Рамон развел руками и негромко рассмеялся. Попрощавшись с Гомикавой, он пошел пешком по Пятой Авеню. Был третий час ночи и в Нью-Йорке даже в центре города, в это время гулять было небезопасно, тем более имея в кармане плаща мощный «кольт».
Навстречу шел высокий негр, державший обе руки в карманах. Завидев его, Рамон быстро опустил правую руку в карман и несколько замедлил шаги. Негр, увидев его, также замедлил шаги. Не доходя до Эскобара, за двадцать шагов, прохожий свернул на другую сторону улицы. Рамон усмехнулся, здесь все боятся друг друга. Рядом затормозила машина. Эскобар обернулся. Это был «Форд» миссис Бэнвилл. Она строго смотрела на него.
— Залезайте в машину, — наконец произнесла Кэтрин, — в такое время ночи такси поймать не так легко. Это вам не Москва.
Он не заставил себя упрашивать. Едва Рамон захлопнул дверцу, как автомобиль рванул с места.
— А вы бывали там? — спросил он.
— Да, два раза, — коротко отозвалась она и, не поворачивая головы, попросила, — дайте сигарету.
— Я не курю. Неужели вы этого не заметили? А ведь вы психолог, — не удержался он, чтобы не задеть ее.
— Заметила, и даже знаю, что у вас в кармане лежат сигареты. Обычный психологический трюк. Вы таскаете их с собой, чтобы установить контакт с курильщиком в случае необходимости.
Он улыбнулся и достал сигареты.
— Один ноль в вашу пользу. Но вот зажигалки у меня действительно нет.
Она засмеялась.
— А с вами интересно работать, — прикурила сигарету и затягиваясь, увеличила скорость. «Форд» с ревом несся по пустынным улицам Манхеттена. Она довезла его до отеля. Рамон вылез и, захлопнув дверцу, наклонился к ней. — Я назначаю вам свидание только потому, что мы обязаны видеться с вами по долгу службы.
Миссис Бэнвилл покачала головой.
— Вы неисправимы.
Автомобиль рванулся с места и исчез за углом. Рамон вошел в вестибюль гостиницы, его внимательный взгляд заметил человека, сидевшего в углу. Это был заместитель Генерального Директора. Глубоко надетая шляпа, наполовину закрывала его грубое, тяжелое лицо. Короткие пальцы рук, лежавшие на коленях, временами вздрагивали, хотя казалось, что он спит.
Рамон подошел и сел рядом. Они просидели молча секунд двадцать, когда, наконец, заместитель Директора тяжело поднялся со своего места и вышел на улицу. Через несколько секунд вышел Рамон. Он сел в стоящий тут же «Кадиллак», и автомобиль медленно тронулся с места.
Шофер даже не обернулся, когда в машину садился Рамон.
— Что-нибудь случилось? — спросил Рамон у заместителя.
— Асенов и Деверсон, кажется, нашли зацепку. Как мы и предполагали, дело касается мафии. Убийство Поля Кастеллано и начавшиеся процессы против мафии. Видимо, наш отдел борьбы с наркотиками и конкретно Вольраф вышли на нечто запретное. А Анну Фрост убрали из-за Вольрафа. Они вместе вели одно дело в нашем комитете.
— Теперь все понятно, — Рамон откинулся на спинку заднего сидения.
— У вас есть что-нибудь новое?
— Я и раньше предполагал, что там не могло быть посторонних. Сейчас я в этом просто уверен. У меня есть одна зацепка, но мне необходимо подумать. Завтра я просмотрю следственные материалы ФБР и тогда сформулирую свою версию.
— Хорошо, — заместитель Директора дотронулся до плеча шофера, и тот без лишних слов повернул обратно.
К себе в номер Рамон попал в пятом часу утра. Раздевшись, он аккуратно сложил костюм, положил пистолет в карман пиджака, висевшего на стуле рядом, и спокойно улегся в постель.
VI
Из специального донесения главного эксперта по вопросам внешней психологии, профессора Кэтрин Бэнвилл:
«… Объект наблюдения обладает исключительной способностью к анализу, умело применяет свое аналитическое мышление, быстро уясняет суть проблемы, хорошо ориентируется в незнакомой обстановке. Внешняя коммуникабельность почти абсолютная. Психологически чувствует себя достаточно уверенно. Темперамент умеренный. Память хорошо развита, обладает способностью к фотографическому восприятию объектов. Система мышления своеобразная, не лишенная оригинальности в подходе к известным проблемам. Практически полное отсутствие различных чувств, обладает сильной волей, способен навязать свою точку зрения собеседнику. Хорошо маскирует свои взгляды и замкнутость под маской разговорчивости. Способен усыпить бдительность своей кажущейся откровенностью.
Хорошо применяет свои знания, обладает большим опытом следственной работы, практически не имеет вредных привычек. Психологическое наблюдение за данным индивидом позволяет предположить, что влечений и желаний он не имеет. Однако тверд в отстаивании собственных идеалов, обладает целостной „индивидуальной“ картиной мира и присущими советским людям коммунистическими убеждениями. Может пользоваться популярностью в группе, коллективе, большой межличностной привлекательностью. Вместе с тем это типичный процесс „псевдоадаптации“, так как по натуре объект замкнут, молчалив и не склонен к общению. Однако исполняемая им роль включает в себя подавление собственной психологической структуры личности для более полного и всестороннего внешнего контакта…»
Весь день Рамон и Кэтрин провели в главном здании ООН, на Ист-Ривер. Туда по просьбе миссис Бэнвилл привезли материалы ФБР по уголовному обвинению в убийстве Карла Йохана Эдстрема. Целых семь часов Рамон просидел над документами, пытаясь найти что-то между строчек. Кэтрин Бэнвилл все это время находилась рядом, делая вид, что также просматривает документы. В четыре часа дня Рамон, наконец, оторвался от бумаг.
— Честное слово, я потребую себе молока. У меня просто вредная работа. Я сегодня ночью спал только три с половиной часа. И сильно подозреваю по вашему виду, что и вы спали не больше.
— Пока я доехала домой, поставила машину… — начала миссис Бэнвилл.
— …и написала рапорт, — продолжил за нее Рамон, подмигивая и оглядываясь, — здесь, наверно, нет подслушивающих устройств.
Кэтрин молчала.
— Неужели не написали? — иронично спросил Рамон, — вы же видели вчера, что я специально говорю глупости, выводя вас из равновесия. А вы хорошо сыграли — раздражение, гнев, даже возмущение. Но я же тоже видел, что это игра. Вы внимательно наблюдали за мной, какой я на самом деле. Боюсь, что мне не удалось вас обмануть. И вы написали в своем отчете, что я обладаю большой коммуникабельностью и не менее большой замкнутостью. Только честно, так?
Она улыбнулась, показывая ровный ряд белых зубов.
— Счет сравнился, вы не находите? — спросила Кэтрин, — похоже я вас очень недооценила.
— Это должно быть приятно, когда ценят женщины, — сказал Рамон не поднимая головы, уставшим голосом, — но честно говоря, я бы не хотел, чтобы у меня была такая жена.
Кэтрин отложила бумаги, подняла голову, и в упор глядя на Рамона спросила.
— Почему?
— Что почему? — он натолкнулся на ее холодный и строгий взгляд, — ведь я был прав — у вас нет мужа.
— Вы не ответили на мой вопрос.
Он потер большим пальцем свой висок.
— Все очень просто. Какой мужчина захочет иметь дома женщину, угадывающую все его недостатки, тонко подмечающую его слабости, неприятности на службе, его возможную в некоторых случаях ложь в семейной жизни. Это ведь кошмар, а не жизнь. Я не прав?
Кэтрин отвернулась к окну.
— А вы бываете жестоким. Я не просила вас обсуждать мою личную жизнь. Хотя бы из уважения к моему возрасту. Я все-таки на восемь лет старше вас.
— Никогда бы не сказал, — честно признался он, — нет, это не комплимент, вы действительно неплохо сохранились.
— Вы отвлекаетесь от работы, мистер Эскобар, — ровным голосом сказала она, — позвольте вам напомнить, что я должна вернуть эти материалы сегодня.
— Я почти уже закончил. Еще десять минут и можете увозить ваши бумаги. — Рамон начал собирать разложенные по столу протоколы следственных допросов, осмотра места происшествия, медицинских, трассологических и баллистических экспертиз. Через несколько минут он вручил четыре тяжелых папки женщине и остался сидеть за столом, ожидая пока миссис Бэнвилл не отдаст их курьерам ФБР.
Когда она вернулась, он внимательно просматривал сегодняшние газеты, обращая внимание на разделы политической жизни и уголовной хроники.
В «Мерседес», куда поместили папки с делами, сели двое сотрудников ФБР и региональный инспектор комитета Луис Баррето. Автомобиль выехал на Пятую Авеню, свернул к Ист-Риверу, направо и понесся дальше. На одном из поворотов, почти у светофора, ехавшая впереди «Альфа Ромео» внезапно резко затормозила. Раздался противный визг тормозов. Справа неожиданно возникла «Тойота», в которой двое быстро подняли автоматы. Раздался треск выстрелов. Один из сотрудников ФБР был убит на месте, пятью выстрелами в голову, второй был тяжело ранен и сполз вниз, хватая посиневшими губами воздух. Баррето был легко ранен в руку, так как успел упасть на пол. Когда один из нападавших подбежал к их автомобилю и открыл дверцу, Баррето выстрелил в него в упор. Сила выстрела была так велика, что нападавший отлетел на тротуар и мгновенно затих. Из обоих автомобилей раздалось еще несколько автоматных очередей. «Мерседес» вспыхнул. «Альфа Ромео», набирая скорость, понеслась вперед. «Тойота» попыталась объехать «Мерседес», но в этот момент из-за поворота показалась полицейская машина.
Из нее выскочили двое полицейских. Из «Тойоты» раздалась еще одна очередь и один из полицейских растянулся на земле. Второй, очевидно сержант, побежал вперед, сжимая обоими руками «Магнум». Раздалось пять быстрых одиночных выстрелов. «Тойота», внезапно потеряв управление, врезалась в «Мерседес». Раздался взрыв, и оба автомобиля быстро превратились в горящие факелы.
Когда Директору ФБР Уэбстеру доложили о случившемся, он был в ярости. Прошли те времена, когда кто-то осмеливался безнаказанно убивать полицейских и сотрудников ФБР. Преступный мир мафии хорошо знал, что за таким убийством немедленно следовало возмездие. Озлобленные «копы» устраивали настоящую охоту на подозреваемых, открывая огонь по любому поводу и без повода. На время розыска подозреваемых убийц полиция прекращала всяческую легальную деятельность мафии, закрывались ночные клубы, устраивались облавы в притонах, арестовывались мелкие торговцы наркотиками, сутенеры и гомосексуалисты. Самый продажный полицейский не входил в сговор с преступниками в это время, и мафия была заинтересована выдать убийц полиции для продолжения своей деятельности.
Уэбстер приказал найти убийц, и уже вечером этого дня сотни осведомителей ФБР наводнили Нью-Йорк. Сыновьям Поля Кастелло, четверым другим «крестным отцам» — Салерно, Коралло, Ланджелло, Растелли были посланы ультимативные требования выдать убийц его сотрудников. Даже сидевшему в тюрьме Кармино Персико, чьи обязанности в семье Коломбо исполнял Ланджелло, было послано такое требование. Но мафиози категорически отрицали свою вину. Среди членов их «семейств» не было, не могло быть такого, кто осмелился бы совершить убийство сотрудников ФБР без их ведома.
Рамон Эскобар и Кэтрин Бэнвилл узнали о случившемся только вечером из газет. Оба понимали, что маршрут «Мерседеса» и перевозимый им груз могли знать только немногие сотрудники АНБ, ФБР и ООН. Однако на поверку их выходило более сорока и подозревать приходилось всех.
Сообщение из Мексики было коротким. Региональный инспектор Комитета Эрнесто Теморио сообщил о решении мексиканского правительства установить более жесткий контроль за своими аэропортами и северной границей в целях пресечения вывоза и распространения наркотиков. Однако, здесь же отмечалось недовольство американского посла в Мексике таким решением мексиканского правительства.
В сообщениях не было ничего, что могло бы дать хоть малейшую зацепку. Но Виктору вдруг пришла в голову новая мысль.
— Ты не находишь, что Вальтер умер при довольно странных обстоятельствах? — спросил он Чарльза, когда они закончили расшифровку полученных данных. — У него ведь раньше никогда не болело сердце?
— Нет, — подтвердил Деверсон, — но это еще не показатель. Мой отец умер в сорок восемь лет от инфаркта, а был здоров как бык.
— И все-таки странно. Он умер слишком внезапно. Ты слышал о нападении на сотрудников ФБР? Тогда погиб и Баррето. А ведь они везли дело Эдстрема из нашего Комитета.
— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Деверсон.
— Вчера в столовой мне рассказали наши дежурные. А ведь дело Эдстрема так или иначе связано с гибелью Анны Фрост и Видо Дренковича. А теперь подумай, не слишком ли кстати умер твой друг Вальтер Вольраф? — Виктор посмотрел на Чарльза в упор.
Деверсон побледнел.
— Ты думаешь и его…
— Убежден. — Виктор не сводил глаз с Деверсона, — и сделали это очень ловко. Видимо, это те самые, которые подослали ребят ко мне домой и пытались убрать меня на шоссе в Трентон.
— Ты расскажешь об этом в Комитете? — спросил Чарльз.
— Нет, сначала нам нужно все проверить. Ты ведь, кажется, знаешь, где жил Вальтер. Нам нужно туда поехать. Прямо сейчас. Может быть, нам удастся что-нибудь выяснить.
Деверсон задумчиво потер подбородок.
— Мы же были вместе на похоронах, ты разве забыл адрес?
— Я приехал сразу на кладбище. Меня тогда вызвали к следователю.
— Да, правильно, я и забыл. Вольрафы жили в районе Куниса, почти рядом с мостом Трогс-Нек. Сказать по правде, это дело начинает волновать меня… Может быть, действительно, там что-то неладно. А может быть совпадение.
— Значит, в любом случае, нужно проверить, — закончил Виктор. — Поехали к Вольрафам.
Они вышли из комнаты, предъявили дежурному свои карточки, получили удостоверения, миновали пуленепробиваемые двери, снова показали удостоверения и вошли в лифт.
— Черт бы нас всех побрал! — в сердцах сказал Чарльз.
Виктор промолчал. Он понимал, почему нервничает Деверсон. Действительно, как при такой охране и самой совершенной электронной аппаратуре неведомому убийце удалось пристрелить Анну Фрост и уйти незамеченным?
Решено было ехать в автомобиле Деверсона. «Фольксваген» Виктора стоял припаркованный на стоянке, недалеко от дома.
У Чарльза был новенький «Линкольн», но ехать пришлось довольно долго. Во-первых, сам район Куниса был расположен далеко от Манхеттена, во-вторых, в это время дня заторы на дорогах тянулись на многие сотни метров.
Дом Вольрафов они отыскали довольно быстро. Позвонив снизу хозяйке, Чарльз назвал себя. Жена Вальтера — Инга знала бывшего сослуживца своего мужа и согласилась принять их. По грязной, сыроватой лестнице они поднялись на третий этаж. Дверь раскрыла высокая, подтянутая, седая женщина лет сорока-сорока пяти. Потрясение, столь недавнее и глубокое, оставило свой отпечаток на ее лице. В глазах еще отражалась боль страшной потери и растерянность души, не привыкшей бороться в одиночку с обрушившимся на нее несчастьем.
Инспекторы прошли в комнату после традиционных приветствий и выражений сочувствия. Инга прошла за ними, предложила им садиться. В комнате на видном месте был большой портрет Вальтера, перевязанный траурной ленточкой, и Виктор впервые почувствовал себя неуютно, понимая, как трудно будет вдове покойного говорить о его смерти. Но женщина сама пошла им навстречу:
— Я так благодарна вам, Чарльз, что вы пришли. В последнее время Вальтер был сам не свой. Какой-то нервный, угрюмый, задумчивый. Говорил, что это связано с его работой. Приходил поздно вечером, рылся в газетах, иногда делал какие-то вырезки. Однажды мы смотрели телевизионную передачу, и вдруг он побледнел и сказал таким неестественным голосом «и его тоже», я прямо перепугалась. Не знала, что и подумать.
— Вы хотите сказать, Инга, что в последние дни у него бывали неприятности на службе? — спросил Чарльз.
— Нет, что вы, — испугалась женщина, — он очень любил свою работу. Но в последние дни он стал какой-то не такой. Вы знаете, я ведь много передумала за эти дни. Вот поэтому и высказываю вам все это. Не знаю, может быть и не стоило этого делать, но Вальтер считал вас своим другом, Чарльз.
— А что в это время показывали по телевизору, миссис Вольраф, вы не могли бы вспомнить? — несколько бестактно вмешался в разговор Виктор.
— Конечно, могу. Убийство какого-то гангстера. Их убивают каждый день. И я думала, что ничего странного здесь нет. Но он так побледнел, что я прямо испугалась. Вот сейчас я вспоминаю и сама волнуюсь, — женщина осторожно достала платок и отвернулась.
В комнате воцарилось молчание. Виктор первым нарушил его.
— А вы не помните, какой именно гангстер? Может вы запомнили фамилию или имя этого убитого? Где его убили, при каких обстоятельствах? — он заметно волновался.
— Какой-то Насселли или Масселли. Я точно даже не помню, — вздохнула женщина.
— Может быть Натан Масселли? — внезапно произнес Чарльз.
— Да, да, правильно, — обрадовалась женщина, — вот это имя Натан Масселли. Вальтер еще сказал тогда: «И Масселли тоже».
— А что-нибудь он еще сказал? — спросил Чарльз.
— Нет, больше ничего. Это точно. Вот после того случая Вальтера словно подменили. Стал более раздражительным, вспыльчивым, срывался по любому пустяку. В последнее время они все время работали втроем — он, Антони и бедная Анна, — женщина еще раз отвернулась.
— Он не говорил вам ничего? — спросил Чарльз. — Может быть, вы вспомните, Инга, какие-нибудь подробности или слова относительно того гангстера.
— Нет, больше ничего не было, — женщина вздохнула, — бедный Вальтер, он все время нервничал последнее время.
— У него болело сердце? — спросил Виктор.
— Нет, — возразила женщина, — никогда. Он был очень здоровый человек. Немного раздражительный, но очень здоровый. А тут вдруг неожиданный инфаркт.
— Он что, прямо вернулся домой и слег? — не унимался Виктор, хотя заметил явное неудовлетворение на лице Деверсона.
— Нет. Но он вернулся домой с работы и сказал, что у него болит сердце. У нас ведь был в тот день юбилей, — женщина тяжело вздохнула, — двадцать пять лет. Он привез цветы и сказал, чтобы я одевалась. А когда я вышла из комнаты, то увидела его сидящим на кухне. И с таким перекошенным лицом. Я сразу позвонила нашему врачу. Доктор приехал, сделал укол. Ну, а мы, конечно, никуда не поехали.
— А доктор сразу уехал? — Виктор решил игнорировать Чарльза, который уже демонстративно отворачивался.
— Да, почти сразу. Сделал укол и уехал.
— А как зовут вашего врача, Инга? — спросил Чарльз, пытаясь прекратить затянувшийся разговор.
— Эрик Пенбертон, он известный хирург. Очень хороший врач и человек. Но и он ничего не смог сделать, — добавила с грустью женщина, — а к утру у Вальтера начались сильные боли, и я снова позвонила мистеру Пенбертону. Он приехал, но уже было поздно. Вальтер… — женщина словно поперхнулась и тихо добавила, — бедный доктор, он так переживал, словно это был его родной брат. Он так убивался. На нем лица не было.
— А вы давно его знаете? — спросил Деверсон.
— Уже восемь лет, а почему вы спрашиваете? — вдруг насторожилась Инга, — вы что-то знаете?
Нет, нет — успокоил ее Чарльз, — не волнуйтесь, Инга. Мы просто хотели узнать, кто был его лечащий врач. У меня у самого в последнее время пошаливают нервы. И сердце болит.
— Но ведь он был хирург.
При нашей профессии нам только и нужен хирург, — неуклюже пошутил Виктор.
— Не говорите так, — мягко попросила женщина.
В комнате снова наступило молчание. И снова его нарушил Виктор.
— А все-таки, почему ваш муж так беспокоился последнее время? Вы ни о чем не догадываетесь, миссис Вольраф?
— Я думаю, это связано с его работой. В последние дни он засиживался допоздна. Но я точно не знаю. Вальтер никогда не говорил со мной о работе.
Они просидели у вдовы Вальтера еще полчаса и, попрощавшись, вышли из квартиры. Уже спускаясь по лестнице, Чарльз вдруг остановился и посмотрел на Виктора.
— Ты знаешь кто такой Натан Масселли?
— Нет, но я где-то слышал это имя…
— Он был доверенное лицо Кастеллано. Его пристрелили два месяца назад. А за несколько дней до этого тело его друга Фреда Фурино нашли в багажнике машины на окраине Нью-Йорка. Теперь я начинаю понимать…
— Что ты хочешь сказать? — спросил Виктор.
— Я кажется знаю, какие именно документы и газетные вырезки отсутствовали в деле Авеллино, — задумчиво произнес Чарльз.
VIII
С раннего детства Эрику Пенбертону не везло. Сначала, его отец Давид Пенбертон, возвращаясь домой из фабрики, попал под автомобиль и оставил жену с пятью детьми на руках. Маленький Эрик отправился работать, когда ему не было и двенадцати лет. Невероятный грохот фабрики, суета, крики и шум ошеломили мальчика, и первые несколько месяцев он никак не мог приспособиться к бешеному ритму этого потогонного заведения.
Злой рок, казалось, витал над семьей Пенбертонов. Умерла его младшая сестра, а когда ему не было и восемнадцати лет умерла его мать. Эрику пришлось бросить фабрику и переехать в Чикаго, открыть собственную маленькую мастерскую, чтобы прокормить двух младших братьев. Мастерская была крохотная, состоявшая из двух комнатушек, в одной из которых Пенбертоны жили, а в другой принимали велосипеды на ремонт. Мастерская была куплена на деньги, вырученные от продажи имущества их родителей и практически не давала никакого дохода.
И еще долго пришлось бы Эрику влачить полунищенское существование, если бы, наконец, ему не улыбнулся случай. Он влюбился в дочь главного врача госпиталя Святой Анны Роджера Мак-Дугласа. Но это не сыграло бы такой существенной роли, если бы не одно обстоятельство — дочь Мак-Дугласа, Софи, также полюбила скромного, вечно красневшего Эрика. Девушка проявила характер, топнув своей маленькой ножкой, когда отец категорически запретил ей встречаться с этим «босяком». Мистеру Мак-Дугласу пришлось примириться с волей своей дочери и, скрепя сердце, дать согласие на их брак. Эрику было уже двадцать три года.
Софи ждала ребенка, когда его тесть потерял своего единственного сына в Корее. И тогда старый Роджер пришел к Пенбертону и предложил ему стать его преемником, вместо погибшего сына. Эрик недолго раздумывал. К этому времени оба брата уже работали, один на заводе Форда, другой на заправочной станции. И молодая чета переехала в дом Мак-Дугласа.
Через семь лет Эрик Пенбертон был уже заместителем врача госпиталя. Еще через пять лет он стал во главе больницы. Но злой рок преследовал их семью. Софи не было и сорока, когда врачи обнаружили у нее рак. Эрик понимал, что это конец, но до последнего дня был рядом с женой, стараясь хоть как-то облегчить ее страдания.
Их сыну было тогда пятнадцать лет, а дочери — тринадцать. В 1965 году Эрик Пембертон переехал с семьей в Нью-Йорк. Они обосновались в тихом квартале Куниса и, казалось, наконец обрели покой. Но жизнь страны властно вторгалась в их семейные отношения. Двадцатидвухлетний сын Эрика бесславно пропал без вести во Вьетнаме, отстаивая те самые идеалы и принципы, в которые сам Эрик никогда не верил. Дочь к тому времени уже дважды выходила замуж и дважды разводилась, причем, в первом случае у нее на руках остался сын — внук Эрика, которого старый врач полюбил всей душой.
Мальчик рос сообразительным и смышленым, и Эрик с гордостью считал, что внук продолжит его карьеру. К этому времени он уже имел постоянную клиентуру в Нью-Йорке, пользовался уважением своих соседей, имел определенный, строго очерченный круг друзей. И все рухнуло в один момент.
Он никогда не забудет того кошмарного дня, когда пропал Йозеф, его внук. Дочь обзвонила всех друзей Йозефа, побывала в школе, но все было тщетно. Ночью безутешный Эрик уже собрался звонить в полицию, когда раздался телефонный звонок. Неизвестный голос вызвал его в район Бронкса, почти на самую окраину города, к парку Пелем-Бей. Эрик приехал туда за полчаса до начала условленной встречи. Он заблаговременно приготовил деньги, решив, что имеет дело с заурядными похитителями.
Увы, все оказалось куда проще и куда страшнее. То, что от него потребовали, было немыслимо, невозможно. Но еще более немыслимо было не выполнить этого требования. Эрик хорошо знал, что последует за этим. Он колебался и страдал. Эта проклятая страна не давала ему покоя, намереваясь отнять у него и внука, ставя перед ним страшную дилемму — либо внук, либо он сам, ибо уступив этим людям, он терял право именоваться человеком и быть врачом, и это он хорошо понимал. Но выхода не было. До глубокой ночи продумал Эрик Пембертон, а утром отправился в условленное место и получил ампулы.
Все получилось так, как ему говорили. Вечером его действительно вызвали к Вольрафам. И он ввел одну из ампул своему другу и соседу Вальтеру Вольрафу, и руки его дрожали при этом. А затем придя домой он горячо молился, прося господа простить ему его прегрешение и понимая сколь слаб и ничтожен он сам, уступивший насилию и не имевший возможности с ним бороться.
И помолившись он снова отправился к Вольрафам. И нашел своего старого друга уже мертвым. И он заплакал, видит бог, и слезы эти были горькие и страшные, ибо на этот раз он оплакивал самого себя. И потеря эта была куда страшней, чем все предыдущие. Ибо, есть ли потери более страшные, чем потеря собственной совести, забвение своего прошлого, измена своей нравственности и моральным принципам.
Эти люди сдержали слово — они отпустили Йозефа домой, но старый Пенбертон даже не обрадовался этому. Образ мертвого друга стоял перед глазами, заслоняя всех живых, мешая спать, ходить, дышать, давя кошмарным грузом на совесть, тревожа ночами и мучая днем. Он был убийцей. Одна эта мысль причиняла такие страдания, что сводила с ума. И мертвый Вальтер, каждую ночь являвшийся в снах к Пенбертону, всякий раз восклицал — «за что?»
Эрик всегда старался поступать так, как ему говорили. И на фабрике, куда его привела мать, он слушал мастера. И владея мастерской, он слушал свою маленькую Софи. И потом, когда старый Роджер предложил ему переехать к себе. Он всегда прислушивался к мнению коллег, никогда не повышал голоса на своих подчиненных. Он всегда уступал — сначала матери, братьям, затем Софи, потом сыну, которого не хотел отпускать во Вьетнам, дочери, дважды неудачно выходившей замуж. Он всегда уступал. Эрик вдруг подумал, что вся его жизнь была гонкой за чем-то неведомым, недоступным его пониманию.
Сейчас он вдруг понял — жизнь закончена. Ему в ней ничего не надо. У него ничего не осталось и он ничего не получил от нее. Жизнь обманула его. Эрик вдруг вспомнил все свои мучения и обиды, всю бессмысленность своей шестидесятилетней жизни. Он прошел в ванную и открыл горячую воду. Ванна быстро наполнилась. Эрик вдруг улыбнулся. Кажется, впервые он знал, что делать и зачем. И впервые никто не советовал ему, не упрекал, не направлял. Впервые он был по-настоящему свободен. Он постоял ещенесколько минут у ванной, стараясь продлить это ощущение свободы. А затем медленно стал раздеваться, аккуратно укладывая одежду на стоящий рядом стульчик. После чего спокойно влез в теплую воду. Ему вдруг показалось, что сейчас войдет некто и отговорит его. И он снова должен будет влачить это жалкое существование, обманывать себя и других. И снова будет видеть по ночам Вальтера. Последняя мысль придала ему решимость. Он перегнулся, достал из кармана скальпель и быстрым ловким движением провел по запястьям обеих рук, погружая их в воду. Последнее, что он вдруг почувствовал — это приятное ощущение тепла от опущенных в горячую воду уставших пальцев.
IX
Виктор нервничал. Чарльз уже должен был подъехать, а его все нет. Асенов заказал третью чашку кофе, поглядывая на часы. Не успел официант положить на столик дымящийся кофе, как показался Деверсон.
— Кофе, — буркнул он подскочившему официанту.
— Ну, как дела? — нетерпеливо спросил его Виктор.
— Очень плохо.
— Не понял.
— Я был сегодня в ФБР. Мне деликатно посоветовали не лезть не в свое дело. Натан Масселли занимаются ФБР и АНБ. Есть мнение, что его убийство как-то связано с убийством Поля Кастеллано и поэтому всю информацию просто засекретили.
— От тебя тоже? — иронически посмотрев на Чарльза спросил Виктор.
Деверсон разозлился.
— Конечно, от меня тоже. Можно подумать, ваша государственная безопасность выдает тебе все свои секреты. После того, как я перешел на работу в Комитет ООН, я, естественно, выбыл из числа лиц, имеющих доступ к совершенно секретной информации.
— Не обижайся. Я просто думал, что у тебя есть знакомые, друзья, связи. Ты все-таки полковник.
— Кстати, ты никогда не спрашивал, чем я занимался в ЦРУ…
— Ты тоже не спрашивал, чем я занимался в Турции. Я ведь знал, что ты не ответишь…
— Правильно знал. Я не отвечу и сейчас. Просто я хочу проинформировать вас, мистер Асенов, что любые внутренние секреты Соединенных Штатов — это их внутренние секреты, и ни один ответственный сотрудник ФБР не позволит себе рассказывать о них в международном комитете.
— Ладно, ладно. Не горячись, — успокоил Деверсона Виктор. Официант принес кофе. — Ты ведь сам предложил свою помощь, обещал все узнать. В конце концов, это дело касается убийства Анны Фрост и только поэтому меня интересует. И потом, Вальтер был твоим другом.
— В том-то и дело, — Деверсон тяжело вздохнул, — я нашел этого врача, который «лечил» Вольрафа в ту ночь.
— Ты с ним беседовал? — заинтересовался Виктор, — что он рассказал?
— Он уже ничего не расскажет. Он мертв.
— Его… — Виктор выразительно посмотрел на Деверсона.
— Нет, он сам перерезал себе вены.
— А это не может быть убийство, инсценированное под самоубийство?
— Вряд ли. Я читал материалы осмотра места происшествия. Кроме того, следователь ФБР, ведущий это дело, мой ученик. Он тоже считает, что типичное самоубийство.
— А причины. Почему он перерезал себе вены?
— Неизвестно, — Чарльз пожал плечами, — его дочь уверяет, что последние дни отец был сам не свой. Но… — Деверсон замолчал.
— Говори, — поторопил Виктор, — дурацкая манера эффектных пауз.
— Я не оратор. Просто я хотел сказать, что за два дня до смерти Вальтера, у этого врача похитили его единственного внука. И вернули только на следующий день после смерти Вальтера, — тихо сказал Чарльз.
За столиком наступило молчание.
— Ты еще в чем-то сомневаешься? — спросил Виктор.
— Нет, похоже его вынудили ввести какое-то лекарство Вольрафу, от чего он погиб.
— Но почему, почему? — повысил голос Асенов, — кому мешал Вальтер? Кому мешала Анна Фрост? Кто за этим стоит?
Чарльз отвернулся. И очень тихо сказал.
— Этим уже занимается ФБР.
— Да, причем тут твое ФБР? — закричал Виктор, теряя терпение, — они занимаются этим уже столько дней, а Карл Эдстрем сидит в тюрьме. Кто-то убил двух наших экспертов, убрал единственного свидетеля невиновности Эдстрема, и теперь ты здесь заявляешь, что ФБР занимается этим делом.
— Не кричи, — тихо попросил Чарльз, — не кричи.
— Но объясни тогда, почему ты не хочешь говорить? Кто стоит за этими убийствами?
— Повторяю, этим занимается ФБР. Что-либо еще я сказать не могу, — холодным, бесцветным голосом вдруг сказал Чарльз, — просто не имею права.
— Черт с тобой! — решил Виктор, — я узнаю все сам.
— Сиди спокойно, — посоветовал Деверсон также спокойным голосом, — и ни во что не вмешивайся. Повторяю, это внутреннее дело нашей страны. Это не имеет никакого отношения к Комитету.
— А убийство членов Комитета тоже внутреннее дело вашей страны? — огрызнулся Виктор.
— Слушай, как тебя держали в госбезопасности? У тебя же нервы ни к черту, — поинтересовался дружеским голосом Чарльз.
— Меня два раза пытались убить за последние дни. А теперь ты сидишь здесь и говоришь ни во что не вмешивайся. А если меня будут резать, тоже не вмешиваться? Или если меня просто затолкают в багажник, как этого Фурино, тоже не вмешиваться. А может меня собираются убирать по методу Масселли? Сидеть ждать?
— Ты хочешь моего совета, Виктор? — спросил Чарльз, и, не дожидаясь ответа, очень тихо сказал. — Уезжай. Уезжай поскорее. Это твой единственный шанс.
Виктор понял насколько это серьезно, даже не взглянув на Чарльза.
— Неужели так плохо?
— Ты можешь сослаться на здоровье и уехать. Или просто рассказать, что на тебя дважды пытались совершить покушение. И тебя сразу отошлют. Наш Комитет не любит, когда его сотрудники на виду. Мы скорее бухгалтера, чем полицейские. Тебя обязательно вышлют домой, в Болгарию. — Чарльз прямо не отвечал на его вопрос, но Асенов понял все.
— А что будет с убийством Анны Фрост?
— Этим делом уже занимаются специалисты ФБР и АНБ. Мои бывшие коллеги уверяли меня, что руководство Комитета даже подключило к этой работе «голубого ангела».
«Голубые ангелы» были эксперты высочайшей квалификации, и Виктор знал это. Их вызывали в страну, член ООН, для проведения расследования в особо трудных и запутанных ситуациях.
— Я расскажу обо всем в Комитете, — решился наконец Виктор, — и пусть они сами решают, что делать.
— Это твое право, кстати, я на машине, могу подвезти, а тебе сейчас лучше ездить на других автомобилях. Где твой «Фольксваген»?
— Стоит у моего дома. Я его сегодня не брал.
— И до самого отъезда не трогай, — посоветовал Деверсон.
Виктор понимающе кивнул головой.
— А теперь поехали в Комитет, — предложил Деверсон.
Они вышли вдвоем на улицу и заторопились к автомобилю Деверсона. Начался дождь и оба инспектора подняли воротники. И оба не обратили внимание на стоявший неподалеку от них белый «Шевроле». Когда «Линкольн» Деверсона тронулся с места, к «Шевроле» быстро подошел какой-то человек, только что вышедший из бара.
— Вы все записали? — спросил его чуть гортанный голос из автомобиля.
В ответ подошедший протянул магнитофон. На другом конце улицы «Линкольн» медленно скрылся за поворотом.
Сообщение Франс-пресс из Нью-Йорка
Сегодня в штаб-квартире ООН было проведено очередное пленарное заседание Постоянного Комитета экспертов ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней. Выступившие подчеркивали необходимость дальнейшей тесной координации всех правоохранительных служб в борьбе против международного терроризма, торговли наркотиками, контрабанды, В целях оперативного взаимодействия с Интерполом решено создать специальный оперативный отдел по координации деятельности Постоянного Комитета.
X
Роскошный лимузин фирмы «Крайслер» подкатил к трехэтажному особняку. Из него быстро выскочили двое молодых людей. Один, осмотревшись по сторонам, замер у передней дверцы. Второй, наклонившись, мягко открыл заднюю дверь. Позади раздался шум двух подъезжающих автомобилей. Из них выпрыгнуло несколько человек. Из переднего автомобиля показался пожилой мужчина в больших роговых очках. Он сделал несколько шагов вперед, и люди, окружающие его, сразу, рассыпавшись по сторонам, заспешили за ним, внимательно оглядываясь по сторонам. На лестнице их уже ждали двое хозяев особняка. Из трех автомобилей за поднимающимися по лестнице людьми следило несколько пар настороженных глаз. Посторонний наблюдатель, проходивший мимо, был бы изрядно удивлен и испуган, сумей он увидеть внутренность этих автомобилей. Почти все оставшиеся в машинах люди держали в руках короткие израильские автоматы «Узи». Лишь после того, как вся группа людей скрылась в проеме дверей, машины медленно отъехали.
Вскоре эта сцена повторилась. Только на этот раз первым мягко подкатил «Ролс-ройс». И снова из автомобилей высыпались люди, и снова из передней машины показался достаточно пожилой человек, которого эта группа людей провожала до дома. Все отличие состояло в том, что оставшиеся в машинах люди держали в руках автоматические пистолеты.
В этом доме собирались боссы нью-йоркской мафии. И повод был достаточно серьезный. Американская мафия собиралась на избрание нового «капо ди тутти капи» — некоронованного «короля» американской мафии. Место убитого Поля Кастеллано не должно было пустовать.
В большой синей комнате собралось человек тридцать. Во главе стола сидел семидесятидвухлетний Энтони Коралло, пожилой господин в темных очках с короткой стрижкой. Он был достаточно хорошо известен американской полиции и всему преступному миру под кличкой «неуловимый Томи» и славился своим невероятным умением уклоняться от предъявляемых ему обвинений.
В своем, уже преклонном возрасте, он железной хваткой правил большим кланом Люччезе и был одним из самых влиятельных заправил «Коза ностры». Он был всего на один год младше убитого Поля Кастеллано и давно считался претендентом № 1 на этот сиятельный пост. Кастеллано понимал, как много конкурентов и соперников может появиться у него в борьбе за власть. Но он, привыкший к этой борьбе, готовился дать бой своим конкурентам. По краям от него и чуть сзади разместились его «капитаны» и советник. Они-то, конечно, будут за него. А вот как остальные? — думал Коралло.
Справа от него разместилась группа клана Ьонано и сам босс этого семейства — Филипп Растелли. Наклонив голову, он тихо разговаривал со своим советником. Интересно, что они там обсуждают, подумал Коралло. «Капитаны» Бонано, повернув голову, видимо, пытались услышать своего босса. Конечно, Филипп попытается сегодня прорваться к высшей власти, но вряд ли это ему удастся. Боссы остальных семей его откровенно недолюбливают. И кроме своих людей ему не на кого рассчитывать.
Чуть дальше сидят члены клана Коломбо и нынешний босс этой семьи Джинаро Ланджелла. Он все время вертится на своем месте, видимо, чувствует, что это место не для него. Не вовремя отсутствует Кармине, ох не вовремя, подумал Коралло. Уж он-то, наверняка, мог быть за меня. А этот Ланджелла только «исполняет обязанности». И все об этом знают. Вот и сейчас его люди смотрят на него как на одного из «капитанов». Нет, он не настоящий босс. Но его слово будет значить многое, подумал Коралло.
Он посмотрел налево. Встретился взглядом со своим тезкой — Энтони Салерно. Глава клана Дженовезе понимающе усмехнулся. Конечно, сегодня он главный конкурент Коралло. И он достаточно сильный противник. До Коралло уже не раз доходили слухи, что люди Салерно развернули необычно активную деятельность по выдвижению своего босса. Его люди действуют всегда очень четко, убирая ненужных свидетелей и конкурентов. Человек неугодный Салерно исчезает бесследно, и никто, никогда еще не находил никаких следов. Энтони Салерно был крупным специалистом в этой области, и с ним всегда считались боссы всех остальных семей. Даже покойный Кастеллано, однажды назвавший Салерно «человек-нож». Кроме того, он пользовался поддержкой и влиянием в ФБР, а это уже совсем немаловажно. Сам «капо ди тутти капи» считался с влиятельными связями Салерно. «Капитаны» семьи Дженовезе угрюмо молчали, и Коралло вдруг с испугом подумал, что все они бывшие «стрелки»-снайперы, умеющие точно, а главное быстро стрелять. Впрочем, нет, здесь никто не посмеет стрелять. Конечно, у них не отбирали оружие. Да и никто не посмеет отобрать оружие у сидевших в этой комнате людей, как никто не захочет с ним расставаться. Слишком заманчива была бы мысль избавиться от всех конкурентов одним ударом. Это в кинофильмах показывают — как боссы и их люди сдают оружие перед тем, как собраться на встречу. И их, конечно, всегда обманывают. Коралло незаметно усмехнулся. Пусть только кто-нибудь попробует к нему прикоснуться. Хотя, он сам почти никогда не носил оружия. Во всяком случае сейчас не носит. Его люди обучены не хуже головорезов Салерно. И если кто-нибудь неосторожно поднимет руку, его люди успеют сделать в несчастном столько дыр, сколько их насчитали в бедном Кастеллано.
Коралло посмотрел чуть дальше и подумал как быстро идет время. Кажется, недавно умер Карло Гамбино, а прошло уже десять лет. Теперь Поль Кастеллано. И вот уже третий босс семьи Гамбино — Джон Готти. Коралло до последнего момента не мог поверить, что «крестным отцом» этого самого сильного клана мафии станет этот молодой выскочка. Он ведь совсем недавно вышел из-под стражи, внеся залог в миллион долларов. Говорят этот молодчик способствовал устранению самого Кастеллано и его «лейтенанта» Томаса Билотти. И семья Гамбино признала в нем своего босса. Невероятно, что никто даже не попытался найти убийц Кастеллано, а когда Коралло предложил свои услуги, ему вежливо отсоветовали, заявили, что это внутреннее дело самих Гамбино. Правда, все поговаривают, что у этого Готти были личные счеты с Билотти. Одним ударом у ресторана «Спарко стойк хаус» Готти устранил сразу двух могущественных конкурентов. Говорят, что в последние дни Готти несколько раз виделся с Джоном Диджилио, доверенным лицом клана Дженовезе. Последний контролировал профсоюз портовых рабочих в Бейонне, а это значит, что почти все международные поставки Пентагона, идущие через этот порт в Нью-Джерси, в другие страны осуществлялись под надзором семьи Салерно. Транспортировка охватывала различные грузы — от карандаша до тяжелого танка и приносила огромные доходы клану Дженовезе. О чем могли договариваться Готти и Диджилио? Может быть новый глава клана Гамбино обещал поддержать кандидатуру Салерно, рассуждал Коралло. В любом случае Джон Готти должен понимать, что он слишком молод для «капо ди тутти капи». Ему всего сорок пять лет, хотя он и возглавил самый могущественный клан мафии.
Коралло придвинул кресло поближе к столу. И сразу стихли все звуки. Кроме представителей пяти «семей» в зале сидели представители Чикаго, Детройта, Филадельфии, Буффало, Лос-Анджелеса, имевшие право голоса при «голосованиях» по данному вопросу. Все собравшиеся в зале хорошо понимали: от того, за кем пойдут пять высших «боссов» «Коза ностры» зависит судьба голосования. Пользуясь дипломатической терминологией, можно было сказать, что пятеро обладали правом вето. И любое конечное решение принималось «крестными отцами» без советов с посторонними людьми. Несогласных обычно не находилось. Кто осмеливался возражать, получал свой кубометр цемента в одном из строящихся домов или прекрасно изготовленный мешок на дне Гудзона. И он бесследно исчезал, с абсолютной гарантией вечного молчания.
Десятки внимательных глаз следили за Коралло. Что скажет босс семьи Люччезе? Все замерли, ожидая первого удара.
— Мы рады приветствовать здесь представителей семьи Гамбино, — начал Энтони Коралло, — и выражаем сочувствие по поводу смерти нашего старого друга Поля. Примите наши соболезнования еще раз, — наклонил голову старый Тони. За ним опустили головы все присутствующие. Гость чуть улыбнулся, благодарно кивнув головой.
Переждав несколько секунд, Коралло вновь обратился к представителям семьи Гамбино. Все-таки, это был самый могущественный клан мафии.
— Вы знаете, зачем мы собрались сюда. Не будем терять времени. Кого предлагают Гамбино в качестве «капо ди тутти капи»? — спросил Коралло, отдавая дань традиции.
— Джона Готти, — раздался голос «советника» клана Гамбино.
В зале ничего не изменилось, но выражение многих лиц не понравилось Коралло. Но сейчас его больше интересовали три физиономии — Салерно, Растелли и Ланджеллы. Первый улыбнулся, второй был удивлен, третий чем-то испуган. Интересно чем?
«Неуловимый Тони» улыбался, решив не уступать Салерно. Ничего необычного тут нет. По традиции, глава клана Гамбино был «капо ди тутти капи». Но сегодня можно будет сломать эту традицию. А все-таки, почему Гамбино избрали этого Готти? Почему именно его? Коралло чувствовал здесь какой-то подвох.
Он посмотрел на Салерно. Что скажет его главный конк/рент?
— Кого выдвигает семья Дженовезе? — спросил Коралло, ни секунды не сомневаясь, что услышит имя Энтони Салерно.
Встал советник Дженовезе. Переждал секунды и бросил бомбу.
— Предлагаю по традиции избрать «капо ди тутти капи» главу семейства Гамбино — Джона Готти, — четко произнес он, и бомба взорвалась.
На этот раз Коралло не сдержался.
— Джона Готти, — хрипло повторил он, смотря на Салерно, словно не понимая о чем говорит «советник» семьи Дженовезе. И этот человек, могущественный Энтони Салерно, сам своими руками отдает власть какому-то выскочке. Нужно быть очень осторожным, решил Коралло. Сработал многолетний опыт.
— Я рад, что сразу две семьи решили выдвинуть одного кандидата. Что скажет семья Коломбо? — спросил Коралло. Все взгляды устремились на вставшего «советника» семьи Коломбо. Коралло понял, что сейчас может решиться все. Конечно, «советник» выдвигает кандидатуру, которую предложил из тюрьмы Кармино Персико.
— Семья Коломбо поддерживает предложение семьи Дженовезе, — тихо сказал «советник» Коломбо.
— А ваш босс знает об этом? — снова не сдержался Коралло.
— Да, — в разговор вмешался Ланджелла, — он предложил нам всем голосовать за Джона Готти.
Коралло заметил, как обеспокоенно зашевелились приехавшие гости. Джон Готти, этот выскочка, по существу почти выиграл бой. Из пяти семейств за него проголосовали уже трое. Конечно «капо ди тутти капи» должен быть избран единогласно, но уже сейчас ясно, что большинство на его стороне. Старый Тони вдруг с испугом подумал, что может остаться в одиночестве. И, ломая привычную процедуру опроса, он вдруг громко сказал:
— Я сам также поддерживаю кандидатуру Джона Готти и предлагаю семье Бонано высказать свое мнение.
Он вдруг с удовольствием увидел как недоуменно вскинулся на него Салерно. И злобные глаза Филиппа Растелли. Джон Готти уже откровенно улыбался. Значит, интуиция не обманула его, подумал Коралло.
И внезапно понял. Понял в тот момент, когда Салерно наклонившись к Диджилио, что-то тихо сказал ему. Конечно, Готти убрал Кастеллано не потому, что тот мешал ему. И сыновья Поля Кастеллано даже не захотели отомстить убийце их отца. Готти не посмел бы решиться на этот шаг, не обладай он поддержкой достаточно сильной и могущественной, способной защитить его от любых неприятностей. Он просто выполнял специальный заказ на убийство «крестного отца», убирая ненужного свидетеля.
Человек, стоявший за спиной Готти, был достаточно силен, если осмелился отдать такой приказ, бросить вызов всей американской мафии, самому «боссу боссов» Полю Кастеллано. Этот человек сумел убедить Салерно и Персико отдать свои голоса за Готти, пообещав неслыханные дивиденды. Теперь Коралло точно знал — кто именно стоит за Джоном Готти. И понял, что через несколько минут Джон Готти станет новым «королем мафии». Что ж «король убит, да здравствует король!» — подумал Коралло усмехаясь. В конце концов все люди смертны, а «короли» тем более. И может оказаться так, что он переживет этого Готти, хотя тот и моложе его на целых тридцать лет. «Крестные отцы» редко умирают как Гамбино. Скорее их устраняют как Кастеллано. «Неуловимый Тони» теперь откровенно улыбался. Обычная смерть почти непостижимая роскошь и привилегия для «капо ди тутти капи». Слишком много «принцев» для «капо ди тутти капи». Слишком много «принцев» стоят за троном «короля».
Сообщение «Эй-би-си» из Нью-Йорка
Согласно полученным данным боссом, боссов американской мафии провозглашен вчера Джон Готти, сорокапятилетний коммерсант. Он сменил убитого Поля Кастеллано не только на посту главы Гамбино, но и в качестве «капо ди тутти капи» — высшей главы американской мафии. Полиция высказывает предположение, что Джон Готти имеет отношение к убийству своего предшественника. Однако суровые законы мафии не позволяют надеяться, что свидетели по данному делу когда-либо будут найдены. В свое время Джон Готти уже сидел за убийство в Федеральной тюрьме Грин-Хейвена.
ЧАСТЬ III
Дипломатия мафии
I
Рамон завтракал в ресторане отеля «Виктория», когда в зал стремительно вошла миссис Бэнвилл. Близоруко прищуриваясь, она отыскала взглядом столик Эскобара и поспешила к нему. Рамон встал, не дожидаясь когда она подойдет.
— Доброе утро.
— Доброе утро, — миссис Бэнвилл села за стол. Рамон опустился следом. Почти моментально появился официант.
— Хотите что-нибудь заказать? — почти неслышно осведомился он.
— Чашку кофе, — бросила миссис Бэнвиллл.
Официант исчез так же быстро как появился.
— Вы сегодня хорошо выглядите, — Рамон старательно дожевывал свой бутерброд.
На Кэтрин был элегантный серый костюм и темная блузка.
— Спасибо за комплимент. Я очень торопилась найти вас.
— А вы, конечно, не знали, где я сижу, — иронически хмыкнул Рамон.
— Что вы хотите сказать?
— Ничего. Просто вон те двое типов в углу явно заинтересовались моей персоной. Они ведут меня все утро.
Кэтрин коротко рассмеялась.
— Вы всегда все замечаете?
Он пожал плечами.
— Не заметить их назойливого внимания просто невозможно.
— Вы всегда так внимательны? — на этот раз она спрашивала куда более серьезно.
— Вы же психолог. Разве вы поверите(если я скажу, что не замечаю элементарной слежки?
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Стараюсь замечать, а что?
В глазах вспыхнули озорные огоньки.
— Хотите эксперимент на вашу внимательность?
Он улыбнулся.
— Новый психологический тест? Давайте ваш эксперимент.
Она показала на сидевшего метрах в десяти от них пожилого господина, лет пятидесяти. Среднего роста, в темном костюме, волосы коротко острижены — в нем не было ничего необычного. Кетрин Бэнвилл внимательно оглядела его, а затем предложила Эскобару.
— Вот ваш тест. Я знаю этого человека. Что вы можете о нем сказать, вот так, сразу, с первого взгляда?
Рамон чуть повернул голову и несколько минут внимательно изучал сидевшего господина. Затем, повернувшись к Кетрин Бэнвилл, весело сказал: — Я готов, задавайте ваши вопросы.
— Нет, лучше вы сами расскажите об этом господине, — предложила она.
— Пожалуйста. Он англичанин, ему под пятьдесят, холост. Из хорошей английской семьи, скорее всего, принадлежит к английским аристократам. Получил прекрасное образование, закончил Харроу. У него больные почки. Очевидно, ведет сидячий образ жизни. Большую часть времени проводит в конторе. В молодости служил в армии, занимался боксом. Сейчас у него дела идут очень хорошо, он преуспевает и довольно богатый человек. Достаточно?
Она рассмеялась.
— Вы его знаете. Это Питер Моррисон.
— Первый раз в жизни вижу, — честно признался он.
— Он действительно около десяти лет служил в армии, был в свое время неплохим спортсменом, побеждая на соревнованиях европейских турниров. Сейчас он известный лондонский коммерсант, часто бывает в Нью-Йорке по своим делам. Он действительно холост и закончил Харроу. А его мать даже родственница английской королевы, хотя и очень дальняя. — Кэтрин, перечисляя все это, смотрела в упор на Рамона, — но как вы догадались, если не секрет?
— О том, что служил в армии — посмотрите на его выправку. Что бывший боксер тоже не трудно догадаться. Насчет больных почек и сидячего образа жизни даже не нужно строить догадок, посмотрите на его лицо. Когда он заходил, я слышал его разговор с метрдотелем. Тот спросил, когда мистер приехал, и я услышал, что Меррисон прилетел сегодня из Лондона. А это значит, что он очень богатый человек, если он известен на другом конце света, в ресторане Нью-Йорка. Видимо, он здесь частый гость.
— Это нетрудно, — призналась она, — но как вы догадались про Харроу и его семью? Это практически невероятно.
— Очень просто. Обратите внимание на его галстук. Вы знаете, что это за галстук? Синий галстук выпускников Харроу. А попасть туда и закончить его заведение могут только дети из самых богатых и титулованных семей Англии. Вот вам разгадка. А что он холостой, я просто догадался. Холостые мужчины как-то смотрятся иначе, чем женатые. Кроме того, я сильно сомневаюсь, чтобы его кроме денег еще что-нибудь интересовало.
— Браво, — не удержалась Кетрин, — это было великолепно!
— Вы меня перехвалите. А теперь говорите, зачем я вам понадобился так срочно.
— Эдстрема сегодня ночью пытались убить в камере, — тихо сказала она.
Рамон заметил, что к ним подходит официант, неся заказанный кофе, благоразумно промолчал и переждав несколько секунд коротко спросил:
— Кто и каким образом?
— От Эдстрема пересадили его напарника, который был человеком ФБР. И посадили наемного убийцу. Эдстрема спасло чудо. В тот момент, когда убийца достал нож, надзиратель случайно оказался у дверей. В общем, Карл Эдстрем тяжело ранен, но врачи говорят, он поправится.
— Я не совсем понял, как это могло произойти.
— Ночью Эдстрем спал и, услышав какой-то шум, проснулся, увидел этого убийцу и закричал. Тот видимо не ожидал, что Эдстрем проснется и не сумел нанести точного удара. А надзиратель проходил мимо, и сумел быстро ворваться в камеру.
— Здесь есть какой-то секрет, из-за которого убили Анну Фрост.
— Действительно, Карлу Эдстрему очень повезло, — негромко сказал Рамон, заметно волнуясь.
Миссис Бэнвилл внимательно посмотрела на него.
— Я думала, вас ничего не может тронуть. Вы что, так переживаете за жизнь Эдстрема?
— Не только. Просто однажды я оказался в положении Эдстрема, — глухим голосом сказал Рамон, — и меня тоже чуть не убили.
— В тюремной камере? — насмешливо прищурилась Кэтрин.
— А что?
— Я считала вас умнее. Если бы вы сидели в тюремной камере в СССР, вы тогда бы сейчас не сидели здесь, рядом со мной. Советский Союз, насколько я знаю, имеет достаточно людей и возможностей, чтобы не нуждаться в услугах подобных «профессионалов». И потом специалист вашего класса просто не мог сидеть в тюрьме. Это абсолютно исключено. Не считайте меня настолько наивной, мистер Эскобар, — вспыхнула Кэтрин.
— Все правильно, — ответил Рамон, — только одно обстоятельство. Я не сказал, что сидел в тюремной камере в СССР. Это было совсем в другой стране. Подозреваю, что в досье АНБ, заведенном на меня, этого нет, а это уже пробел и очень большой. Кроме того, я тогда не был «специалистом такого класса», а был всего навсего помощником регионального инспектора. Вот видите, какую задачу я ставлю перед вашим ведомством. Вот теперь придется перетряхнуть все мои дела. Уверяю вас, напрасный труд. Не найдете никакой зацепки.
— Почему?
— Я просто удрал из этой тюрьмы в день своего ареста. Вернее, под утро.
— Можно узнать, как вам это удалось?
— Честно говоря, это секрет, но вам, как психологу, могу рассказать. Очень поучительно. Надеюсь, что это будет вашей маленькой тайной. Я сумел достать одежду уборщика и его инструменты. Взвалив грязные трубы на плечо, я спокойно шел к выходу. И ни один охранник даже не попытался меня остановить. Ну( кому может прийти в голову, что спокойно идущий по тюремному двору человек, это — узник, пытающийся совершить побег из тюрьмы? Да еще с тяжелыми железными трубами.
Оба коротко рассмеялись. Рамон стал серьезнее:
— Мы несколько отвлеклись. Вы говорили с этим убийцей, видели его?
— Видела. Ничего особенного. Мелкая сошка. Он ничего не знает.
— А кому была выгодна смерть Карла Эдстрема? Предположим, что его оправдают. Значит, будут искать настоящего убийцу. И мотивы преступления. А это кому-то очень невыгодно. Почему?
— Вы все-таки считаете, что убийца не Эдстрем?
— Убежден.
— А на чем основывается ваша убежденность? — поинтересовалась Кэтрин. — Не проще ли предположить, что убийца все-таки Эдстрем, а теперь его хозяева пытаются убрать ненужного свидетеля.
— А кто тогда напал на автомобиль ФБР. Кому понадобились материалы допроса Эдстрема? Не проще ли сразу попытаться его убрать? Здесь должен быть какой-то секрет, из-за которого убили Анну Фрост.
— И Вальтера Вольрафа, — спокойно сказала миссис Бэнвилл в упор глядя на Эскобара.
Он спокойно выдержал этот взгляд.
— Вы знаете и об этом?
— Ваш Постоянный Комитет недооценивает внутренние организации Соединенных Штатов. Хотя ФБР еще не знает об этом, но АНБ уже в курсе. Мы даже знаем, что сотрудники ООН, явно в нарушение наших законов, совершили тайную эксгумацию трупа. Кстати, врач, лечивший его, покончил жизнь самоубийством. Некто Эрик Пенбертон.
— Я хочу вступиться за ООН. Наш Комитет взял разрешение у нью-йоркской прокуратуры на эксгумацию трупа Вольрафа.
— Но мотивы эксгумации были указаны не совсем точно — сказала миссис Бэнвилл.
— Возможно. Я не читал этих документов. Но, кстати, в розысках убийц Вольрафа принимает участие и ваш бывший коллега, ныне инспектор Комитета Чарльз Деверсон. А ваше ведомство, прекрасно зная, что Вольраф был убит, как теперь выясняется, попыталось остаться в стороне, посоветовав Деверсону не совать носа куда не нужно, а Асенову убираться из страны.
— Для его же безопасности, — подчеркнула Кэтрин Бэнвилл.
— Не надо, — поморщился Рамон, — вы просто боитесь, что в результате расследования может разразиться очередной скандал и пытаетесь сами расследовать это дело, без вмешательства нашего Комитета.
— Я позволю вам напомнить, что это все-таки внутреннее дело самих американцев, — четко произнесла миссис Бэнвилл.
— Не уверен. Убиты сотрудники ООН. Сразу двое. Обвиняется третий. Вы считаете, что наш Комитет вправе сидеть сложа руки? И самое главное — мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки. Мы просто помогаем найти убийц. Кстати, с разрешения и согласия вашего Федерального правительства. А найдя их, мы естественно, передадим их вам.
— Не будем спорить, — согласилась Кэтрин Бэнвилл, — мы действительно делаем сейчас одно общее дело. В любом случае нужно закончить это дело. Хотя, откровенно говоря, я убеждена, что убийца — Эдстрем. Трое других в момент убийства были в одной комнате, все вместе — Асенов, Перес, Деверсон. На этаже, кроме охранников, которые также видели друг друга, был только Карл Эдстрем. И вы все-таки не верите в его виновность. Не представляю, как можно найти загадочного убийцу.
— Это уже мое дело. У меня к вам одна большая просьба, миссис Бэнвилл. Можно задержать отъезд мистера Асенова хотя бы на одни сутки? Я попытаюсь все-таки решить эту почти невероятную задачу.
— Всего на одни сутки, — Кэтрин задумалась. — Думаю, это в моих силах. Но я хотела бы дать вам совет. Не пытайтесь искать кошку в темной комнате, если ее там нет.
II
Чезаре проснулся утром с тяжелой головой. Вчерашняя вечеринка полностью выбила его из сил. В его возрасте нужно быть более умеренным и менее темпераментным. Ему почти сорок. Но эта Марта не женщина, а адское пламя. Попробуй быть умеренным рядом с такой фурией. Он довольно улыбнулся и снова поморщился. Господи, как болит голова. Вчера, он кажется вернулся домой в пятом часу утра. Вернее, уже сегодня. А сейчас уже второй час дня.
С трудом поднявшись, он нетерпеливо зашагал в ванную комнату. Открыл холодную воду и подставил голову под душ. Нужно будет позвонить Мартину, вспомнил он. Мартин просто молодец. Чезаре давно не ведет дел в трех своих ночных клубах, полностью передоверив их Мартину. И тот довольно неплохо справляется с работой. Нужно будет повысить ему оклад, решил Чезаре.
Резко зазвонил телефон. Чезаре, коротко выругавшись, достал полотенце и, разбрызгивая воду, вошел в комнату. Неохотно поднял трубку.
— Я слушаю.
— Чезаре, это ты? — раздался голос, заставивший его сразу протрезветь.
— Да, — рот моментально наполнился тягучей слюной, и он сглотнув ее, сказал громко, — да, это я.
— Возьми Леонардо и приезжай ко мне, — раздался тот же твердый голос.
— Когда? — как можно почтительнее спросил Чезаре.
— Через два часа, — на том конце положили трубку.
Чезаре сел на постель. Чертов дурак, нашел время шутить. Он резко помотал головой. Еще заметит, что он вчера перехватил лишнего.
В сочинениях многих авторов организация «коза ностры» всегда выглядела сборищем недобитых бандитов, убийц-садистов, развратников и громил. На самом деле все это далеко от истины. Среди членов кланов мафии больше всего ценили и уважали человека солидного, устоявшегося, с многочисленным семейством, не изменяющего своей жене, заботящегося о своих детях. Члены мафии очень редко стреляли и грабили. Они сидели в офисах, заправляли профсоюзами, управляли ночными клубами, ювелирными магазинами, небольшими фабриками, различными ресторанами, фирмами, автомастерскими.
Сама организация «козы ностры» представляла четкую иерархическую лестницу, где каждый знал свое место. Во главе «коза ностры» стоял «капо ди тутти капи», босс боссов и глава американской мафии. Во главе каждой семьи стоял свой босс, приказы которого были обязательны для всех членов семьи. У каждого босса был свой «советник», доверенное лицо, обычно адвокат или отошедший от дел старик мафиози. Был также помощник босса, его «капитан». Последнее время у некоторых крупных боссов стало по два, три «капитана», так как организация разрасталась и требовалось большее число доверенных помощников — один человек просто не справлялся с такой нагрузкой. Затем шли «лейтенанты» или «капо». Каждый «лейтенант» имел в своем распоряжении пять, шесть, а иногда и десять, двенадцать «кнопок» — «солдат» мафии. И в самом низу этой лестницы были уличные торговцы наркотиками, сутенеры, мелкие перекупщики краденого, агенты мафии, работавшие на какой-нибудь клан. Четкая система взаимоотношений, беспрекословное подчинение старшим, забота о младших, страшный обет молчания мафии «смерти», все это делало руководителей мафии практически недосягаемыми для полиции и других правоохранительных служб США. Возникшая как итальянский этнический феномен, мафия разрасталась и приняла размеры общенационального бедствия.
Чезаре был «лейтенантом» мафии. И он сразу узнал голос своего «капитана», понимая, что случилось нечто очень важное, если понадобились услуги Леонардо, одного из «стрелков» их клана. Набирая нужный номер, Чезаре уже не сомневался, что предстоит серьезная работа.
Через два часа он и его «стрелок» уже беседовали с «капитаном». Инструкции были чрезвычайно простыми. В одном из отелей остановился приезжий иностранец. Его нужно убрать, сделав это любыми, доступными им, способами. Конечно, лучше если этот человек случайно попадет под автомобиль или выпадет из окна. Однако, не исключалось и применение других методов, вплоть до огнестрельного оружия. Иностранец должен был замолчать, и «капитана» не интересовали подробности. Он только назвал им его имя и название отеля, в котором остановился приезжий. Очевидно, из Южной Америки, решил Чезаре. Иностранца звали Рамон Эскобар.
III
Как и всякий профессионал, он не любил носить оружия. Эксперты его квалификации почти не применяли оружия, считая этот вариант наиболее малоубедительным доводом в решении различных вопросов. Однако, оружие было необходимо, оно хорошо выполняло свою «психологическую роль». Нападавшие обычно знали, что эксперты вооружены. И тем не менее в специализированном Комитете ООН, как и повсюду, агент, применявший оружие, считался плохим агентом. Разведчик проваливался в тот момент, когда приходилось доставать пистолет. Это была абсолютная аксиома, почти не требующая доказательств.
Вот и сейчас — тяжелый «Кольт» давил на пояс, а тот в свою очередь довольно сильно натирал плечо. Застегнутый пиджак только усиливал эти мучения, но Рамон знал, что в обществе, где царит настоящий культ оружия, выходить без него было просто опасно.
Он шел по Манхеттену, который в эти дневные часы был переполнен людьми и автомобилями, вместе с миссис Бэнвилл, охотно сопровождавшей его повсюду.
— Посмотрите какая красивая девушка, — показал Рамон на проходившую мимо высокую блондинку, — прямо актриса Голливуда.
— У вас, кажется, масса свободного времени, — подозрительно посмотрела на него Кэтрин Бэнвилл, — я не совсем понимаю, зачем мы идем в эту сторону. Нам ведь надо совсем в другую.
— Нет, — возразил Рамон, — все правильно. Мы уже пришли. Кинотеатр «Олимпия». Вот здесь.
— Не понимаю, что вас сюда привело.
— Миссис Бэнвилл, вы ставите под удар престиж солидной организации, в которой работаете. Вспомните по материалам дела, чем знаменит этот кинотеатр.
— Здесь встречались два месяца назад Анна Фрост и Карл Эдстрем, — тут же вспомнила миссис Бэнвилл, — ну и что? Кассиров и билетеров уже допрашивали. Они ничего не помнят. За два месяца здесь столько людей побывало. Вы думаете чего-нибудь найти?
— Я не настолько наивен. Просто мне еще раз надо пройти путь от этого кинотеатра до здания, где расположен ее отдел. Отсюда, кажется, недалеко?
— Минут десять пешком, — подтвердила Кэтрин Бэнвилл.
— Очень хорошо. Кстати, у вас есть карта Нью-Йорка?
— Нет, но она продается в киоске для туристов. Можно купить, — несколько растерялась женщина, — а карта вам для чего?
— Удовлетворяю естественную тягу к путешествиям, — пошутил Эскобар. Женщина обиженно замолчала.
В первом попавшемся киоске карты не было и им пришлось пройти еще метров триста пока, наконец, у второго киоска Рамон купил большую карту города. Через десять минут они были на Пятой авеню. Прошли вестибюль, поднялись на этаж, показали удостоверения первому охраннику, прошли стеклянную дверь, отдали документы второму дежурному и, получив специальные карточки, прошли дальше.
— Каждый раз, когда я вижу эти меры предосторожности, я снова и снова убеждаюсь, что убийца Карл Эдстрем, — холодно сказала Кэтрин Бэнвилл. Рамон покачал головой.
— Хорошо, что вы не судья. А то бедный Карл уже сидел бы на электрическом стуле.
Они прошли в комнату № 1201, где их уже ждали. В комнате находились Деверсон, Асенов, Перес, региональный инспектор Гоминава и один из руководителей Постоянного Комитета Оруэлл. Кроме того, здесь находилось еще несколько человек, приглашенных по просьбе Эскобара. Среди них была и женщина.
Поздоровавшись со всеми, Рамон прошел в центр комнаты. Миссис Бэнвилл, расположившись на стуле, почти у дверей, с интересом следила за ним.
— Я знаю, как вам надоели следственные эксперименты, — неожиданно улыбнулся Рамон, — но уверяю вас, это в последний раз. Сегодня меня не столько интересует само убийство, сколько факторы, происходившие на фоне его. Кстати, кто дежурит в дверях?
— Стейн и Харрисон. Они дежурили и в тот вечер, — негромко сказал Оруэлл.
— Спасибо. Значит все в порядке. Теперь, мадам, я попрошу вас перейти в комнату для убийства, — предложил Рамон сидевшей женщине, — и взять с собой двух мужчин. Вы будете «Эдстремом», а вы возьмите эту камеру и будете фиксировать все на пленку.
— У нас уже есть специальные камеры во всех кабинетах, — недовольно напомнил Оруэлл.
— Я знаю. И все-таки, пусть будет еще одна камера. Ведь в день убийства в самой лаборатории камеры не было. Правда?
— Но они были в коридорах. И, кроме того, специальные датчики моментально подают сигнал опасности, если на этом этаже находится человек без соответствуещей карточки, — снова напомнил Оруэлл.
— Да, да я помню. У меня почти нет шансов спасти Эдстрема, но я все-таки пытаюсь что-нибудь придумать.
Трое работников Комитета, выйдя из комнаты, зашагали по коридору. Камеры внимательно следили за ними. Затем все трое вошли в лабораторию. Зажглись камеры, установленные в самих лабораториях.
— Давно установлены? — полюбопытствовал Рамон.
— Десять дней назад, — мрачно сказал Оруэлл, — я теперь камерам и датчикам не доверяю после этого сумасшедшего убийства.
— Выключите, пожалуйста, эти камеры, — попросил Рамон, — теперь снова включите. Благодарю вас. Оставайтесь все здесь, — он вышел из комнаты и зашагал по коридору. Камеры еле слышно жужжали. Подняв голову, он посмотрел в ее объектив, щелкнул пальцем и зашел в лабораторию. В первой комнате, где была лаборатория Вольрафа, стояла женщина. Во второй, уже приготовив камеру, находился оператор. В третьей — лаборатория Эдстрема, имевшей самостоятельный выход в коридор, находился «двойник» Карла Эдстрема.
— Вы занимайтесь своей работой, — потребовал Рамон, — и закройте дверь. Когда раздастся телефонный звонок, вы поднимете трубку и произнесете только те слова, которые написаны у вас на бумаге. Не больше и не меньше. А потом — бегом сюда.
Прикрыв дверь, он сделал знак оператору — «подойдите поближе. Нужно, чтобы вы засняли каждую деталь». Затем вышел в лабораторию, где ждала «двойник Анны Фрост». Рамон посмотрел на нее и вдруг быстро отцепил карточку, висевшую на пиджаке. Тут же раздался вой сирены. Эскобар быстро вышел в коридор, снова нацепив карточку. — Все в порядке, крикнул он охранникам и выбежавшим из комнаты Оруэллу и Гомикаве, возвращайтесь на свои места. И позовите сюда Антонио Переса.
Оба сотрудника скрылись в комнате № 1201 и из нее вышел прихрамывая Антонио. Подошел поближе.
— Что я должен делать?
— Войти в лабораторию и постараться сказать те последние слова, которые вы сказали перед тем как выйти, — предложил Рамон. Эксперт согласился. Он вошел в лабораторию. Рамон шел следом.
— Я ухожу, Анна, — напряженно сказал Антонио, — до свидания.
— До свидания, — отозвалась женщина.
Антонио вышел и прихрамывая зашагал по коридору. Рамон, проследив взглядом до конца коридора, снова вошел в лабораторию.
— «Анна», идите во вторую комнату, — предложил он.
Женщина послушно прошла в другую комнату.
— Звонок! — крикнул Рамон. Раздался громкий телефонный звонок. Это звонил Гомикава, выполнявший «роль» Дренковича и звонивший теперь «Эдстрему».
«Эдстрем» взял трубку.
— Можно позвать к телефону мистера Вольрафа? — спросил на другом конце Гомикава.
— Его нет. Он уже ушел домой, — спокойно ответил «Эдстрем».
И в этот момент Рамон поднял пистолет. Раздалось два громких выстрела. И истошный женский крик. «Анна» упала на пол. Оператор продолжал снимать. В лабораторию ворвался «Эдстрем». Через несколько секунд здесь были Деверсон, Асенов и Перес.
— Отдайте ваш пистолет, — потребовал у «Эдстрема» Деверсон. Оператор закончил снимать.
— Все? — спросил он подняв камеру, — закончили съемки?
— Да, спасибо. Пять — восемь секунд. — разочарованно сказал Рамон, — куда делся этот чертов убийца?
— Если бы мы знали, — вздохнул Деверсон.
— А всё было так, как в прошлый раз? — внезапно с сомнением спросил Эскобар, — вспомните. Все до мелочей. Каждую деталь. Значит, вы сидели, зашел Антонио и раздался крик.
— Да, — подтвердил Деверсон, — почти сразу. Мы все трое так и вздрогнули.
— Может быть, вы хотите поговорить с охранниками? — спросил вошедший в комнату Оруэлл. За ним вошла миссис Бэнвилл.
— Нет. Потом, — отмахнулся Рамон, — а что дальше?
— Не понял, — Деверсон посмотрел на Эскобара, — что дальше?
— Раздался крик. Вы сразу вскочили. И раздались выстрелы. Так?
— Так, — подтвердил Деверсон.
— И вы прибежали сюда, все трое. Правильно?
— Да, вернее, мы чуть опередили Переса.
— Давайте с самого начала. Все снова, — предложил Рамон, — раздался крик. Вы вскочили. Что потом?
— Мы не вскочили, — подал голос Асенов, — мы сначала прислушались.
— Хорошо, — почему-то обрадовался Рамон, — дальше, что дальше? Только припоминайте каждую деталь.
— Раздались два выстрела и еще один крик, — сказал Чарльз.
— Крик раздался после выстрела? — быстро спросил Рамон.
— Нет, — неуверенно сказал Деверсон, — скорее до.
Эскобар моментально уловил некоторую растерянность в голосе.
— Точнее, точнее. Деверсон. Как это было? Каждую деталь припоминаете.
— Раздался крик, — вспоминал Деверсон, — мы ещё сидели. Потом выстрел, правильно выстрел, еще один крик и выстрел. Почти сразу. И все. Вот тогда мы и побежали.
— Значит, был сначала крик о помощи? Потом два выстрела. И в перерывах между ними еще один крик. Правильно? — спросил Рамон.
— Кажется, да, — неуверенно ответил Деверсон.
— Кажется, или точно? — Рамон испытывающе смотрел на Деверсона, который был значительно старше его.
— Кажется, да, — снова нерешительно сказал Деверсон.
— Нет, — решительно вмешался в разговор Перес, — был только один крик. И два выстрела.
— Нет, нет, — на этот раз вмешался и Асенов, — было два крика. Точно. Два. Сначала крик, как будто о помощи. Потом выстрел, крик и снова выстрел.
— Значит, после первого выстрела был еще один крик?
— Да, — решительно подтвердил Виктор — был. Точно был. У меня хорошая слуховая память. Я в детстве семь лет на скрипке играл.
— Какое это имеет отношение к убийце? Был или не был? — недовольно сказал Оруэлл, — куда делся убийца? Вот что главное.
— Конечно, конечно — согласился Рамон и, словно внезапно потеряв интерес к расследованию, отвернувшись предложил, — на сегодня закончим. Завтра я прошу всех быть здесь в два часа дня. Мистер Оруэлл, проследите, пожалуйста, чтобы нам не мешали.
— А я успею на самолет? — спросил Виктор, — американские власти настаивали на моем отъезде.
— Успеете, Вам продлят визу еще на сутки, — успокоил его Рамон, — только с одним условием. Вы никуда не уходите с этого этажа. Все время вы будете здесь. Остальных тоже прошу никуда не отлучаться.
— Все трое будут жить здесь. Всего одни сутки. Думаю, вы потерпите. С руководством Комитета я уже договорился.
— Мы не будем возражать, — подтвердил Оруэлл, — хотя это не в наших правилах.
— Очень хорошо. Думаю, тогда все будет в порядке. Гомикава может остаться здесь для охраны — предложил Рамон, — сегодня он мне не нужен. Кстати, как мои запросы, я получу на них ответы завтра утром? — спросил он, обращаясь к Оруэллу.
— Разумеется. Мы запросили информацию Интерпола.
— Прекрасно. Итак, господа, до завтра. Миссис Бэнвилл, вы проводите меня? — спросил он улыбаясь.
Эскобар вышел в коридор, галантно пропустил вперед миссис Бэнвилл. Подойдя к дежурному, они отдали ему свои карточки, получили удостоверения, прошли мимо второго дежурного, показали ему свои удостоверения и, спустившись на лифте, вышли на улицу.
— Поймаем такси, — предложила Кэтрин Бэнвилл.
— Только второе или третье, — засмеялся Рамон.
С другой стороны улицы за ними уже следили две пары внимательных глаз.
IV
В эту последнюю ночь он спал особенно плохо. Часто просыпался и с тревогой смотрел на телефон, словно ожидал, когда наконец раздастся телефонный звонок. Телефон зазвонил неожиданно в пятом часу утра.
— Мистер Эскобар?
— Да, это я, — подтвердил Рамон, моментально поднявший трубку.
— Мы нашли фотографию. На ней сняты интересующие вас субъекты. Фотография уже отправлена в ваш Комитет.
— Значит, все проверили? — спросил Рамон.
— Конечно. Они были давно знакомы. До свиданья, — говоривший повесил трубку на другом конце провода. Раздались частые гудки.
Рамон осторожно положил трубку и перевел дыхание. Теперь все вставало на свои места. Кажется, наконец, он нашел причины этого «невероятного убийства». Ему вдруг послышались шаги у дверей его номера. Он насторожился. В американских гостиницах повсюду висят плакаты, призывающие гостей быть особенно бдительными. Не ездить в лифтах с незнакомыми людьми, не открывать дверей в ночные и вечерние часы, не оставлять в номерах деньги и драгоценности. А проходивший уже сколько раз мимо его номера незнакомец явно не торопился уходить.
Рамон соскользнул с кровати и, сделав два осторожных шага, достал из кармана пиджака тяжелый «Кольт». Осторожно надел глушитель. И вдруг…
Словно что-то вспомнив, он отвинтил глушитель, внимательно посмотрел на него, снова завинтил. Так, так. Глушитель. Он ещё раз внимательно посмотрел на свой пистолет. Если Асенов не ошибся… От волнения у него зачесались руки. Он снова услышал крадущиеся шаги незнакомца за дверью. Это ему нравилось все меньше и меньше. Нужно дать понять этому типу, что он не спит. Он переложил пистолет в левую руку и правой толкнул стул, стоявший рядом с кроватью. Стул упал почти неслышно, но за дверью, очевидно, услышали и этот шум. Шаги быстро стали удаляться.
Рамон еще раз перевел дыхание и посмотрел на часы. Почти пять часов утра. Скоро нужно будет вставать, бриться, одеваться. Он все равно сегодня уже не заснет.
Незнакомец не думал уходить, так как его крадущиеся шаги слышались в коридоре до семи часов утра, пока наконец не застучали щетки уборщиц. Только тогда незнакомец исчез. А может быть, это был просто маявшийся от бессонницы сосед из соседнего номера. Рамон так и не смог это узнать.
Из отеля он вышел в восьмом часу утра. Убедившись, что в ожидавшем напротив автомобиле сидят представители ООН, он сделал несколько шагов по перекрестку, когда за спиной раздался бьющий по нервам скрип тормозов. Почти инстинктивно — сказалась многолетняя тренировка — он упал на землю. Раздалось несколько выстрелов. Перекатываясь по асфальту, он вдруг с ужасом подумал, что не может даже стрелять, опасаясь привлечь внимание полиции.
Прохожие, уже привыкшие к подобным сценам, попадали на улице, кто где смог. Рамон, понял, что если сейчас он не выстрелит, то следующая пуля его не минует. Он успел достать пистолет и аккуратно, почти не целясь, прострелил бампер автомобиля. Из поджидавшего напротив автомобиля уже бежали двое людей с оружием в руках. Нападавший автомобиль дал резкий ход назад и скрылся за поворотом.
Эскобар, осторожно осмотревшись, быстро поднялся на ноги. Через минуту он был уже в автомобиле. Но пистолет он перестал сжимать только в тот момент, когда переступил наконец здание Комитета экспертов ООН по предупреждению преступности. Рамон Эскобар так и не узнал, что спустя две недели трупы обоих нападавших были выловлены в Ист-Ривере.
V
В большой просторной комнате сидели несколько человек. У стола, тихо переговариваясь, сидели Заместитель Генерального Директора и мистер Оруэлл. В углу миссис Бэнвилл медленно переворачивала страницы какого-то журнала, тщетно пытаясь скрыть свое волнение. Сидевший рядом с ней представитель ЦРУ все время смотрел на часы. Наконец дверь открылась и в комнату вошел Рамон Эскобар. Только, что он закончил свой доклад Генеральному Директору Комитета и теперь готов был ответить на все вопросы.
— Мистер Эскобар, — раздался дрогнувший от волнения голос Оруэлла, — вы утверждаете, что мы можем освободить мистера Эдстрема, так как вы нашли настоящего убийцу. Я не имею права не верить вам, но надеюсь, что представленные вами доказательства будут убедительными, иначе… — Оруэлл выдержал паузу, — мистер Эдстрем останется в тюрьме.
— Да, я утверждаю, что мистер Эдстрем невиновен и не имеет никакого отношения к этому убийству.
— Мистер Эскобар, — вмешалась Кэтрин Бэнвилл, надеюсь, что вы действительно нашли убийцу, хотя это против всякой логики.
— Напротив, — весело сказал Рамон, — все согласно логике. Дело в том, что ваши следователи начали искать убийцу традиционным способом, то есть, пытаясь выяснить, кто именно мог стрелять. Кроме Эдстрема действительно некому. Остальные трое сидели вместе, а охранники находились довольно далеко от места происшествия. К тому-же они и видели друг друга. Ваши следователи проверили версию появления и исчезновения таинственного убийцы. Но и эта версия ни к чему не привела. Я ее сразу отбросил, так как хорошо знал, что на этаж пробраться незамеченным никто не мог. А уйти за несколько секунд, пока Эдстрем вбежал в комнату, тоже. Значит, нужно было предположить, что Эдстрем говорит правду. Частично это подтвердил и Виктор Асенов, успевший поговорить. с фотографом Дренковичем до его смерти. Видо Дренкович слышав, как во время разговора с ним раздались эти выстрелы. У Эдстрема было железное алиби в таком случае. Но кому-то очень мешал этот фотограф, и его убрали. Ваши следователи решили, что это случайность. Я решил иначе. Кстати, до сих пор не найден автомобиль, сбивший Дренковича, и водитель этой машины. Затем я узнаю, что убит Вальтер Вольраф. Он умер не от сердечного приступа, а от лекарства, введенного ему Эриком Пенбертоном, кстати, закончившим жизнь самоубийством. И странная деталь: именно в момент смерти Вольрафа у Пенбертона исчез внук, а затем нашелся. И наконец, нападение на машину с документами. Согласитесь, любой человек сразу догадается, что здесь действовала организация, убравшая Вольрафа, Дренковича и Фрост.
— Конечно, кто-нибудь из мафии. Вольраф последнее время вел дела, связанные с поставкой наркотиков, — разочарованно произнес Оруэлл, — это и мы знали.
— Да, но тогда нужно было искать связи Эдстрема с мафией. Доказывать эти связи, обосновать их. Ведь Карл кабинетный ученый. Он эксперт по вопросам баллистики.
Он просто никогда не был связан с оперативной работой, а тем более не мог быть человеком мафии.
— Это еще как сказать, — недовольно заметил Оруэлл.
— Конечно, это еще не доказательство. Я внимательно изучил протоколы допросов. И в одном из них что-то промелькнуло. Но я решил проверить до конца. Помните записку, написанную Анной Фрост, «Увидимся в восемь часов у кинотеатра»? Миссис Бэнвилл была удивлена, когда я предложил ей пройти туда и купил карту Нью-Йорка. Дело в том, что Эдстрем и Анна Фрост живут совсем в другой стороне. Разве не логично, чтобы они встретились, поближе к их домам, а не в этом районе. Я стал проверять и выяснил, что на соседней улице живет… Антонио Перес.
— Ну и что? — миссис Бэнвилл смотрела на него уже с большим интересом.
— Я еще раз перечитал протокол допросов. Вот послушайте, что отвечает Перес, когда его спрашивают насчет убийства.
Следователь задает вопрос — «Мог кто-нибудь пробраться незамеченным на ваш этаж и убить Анну Фрост, а затем так же незаметно скрыться?», а Перес отвечает: «Это полностью исключено». Вот почему я так удивлен, что кроме Эдстрема по существу никто не мог совершить этого преступления, хотя на протяжении всего допроса Перес отрицает вину Карла Эдстрема. Я беседовал с Асеновым и он рассказал мне о визите Антонио Переса к жене Эдстрема, — Хальде Эдстрем. Все стало на свои места. Перес мог незаметно положить записку в одну из книг, где ее обнаружили во время повторного обыска квартиры.
— Предположим, что Перес действительно сделал все это. Но какой смысл? Кроме того, он все равно не может быть убийцей, — Оруэлл пожал плечами, — нужно было допросить Переса еще раз.
Рамон Эскобар улыбнулся.
— Я решил проверить все дела Антонио Переса и обнаружил интересную закономерность. С тех пор, как он попал в штат отдела по борьбе с наркоманией, в работе отдела стали происходить досадные сбои. Я попросил Интерпол проверить поведение Переса в Боливии, и выяснилось, что его подозревали в причастности к махинациям «кокаиновой мафии» Боливии. Но ему тогда удалось выкрутиться. А в комитет ООН он был рекомендован полковником Ромеро, тем самым офицером, который позднее был арестован за причастность к контрабанде наркотиков. Интерполу удалось прислать к нам в Комитет интересную фотографию. На ней сняты полковник Ромеро и… американский гангстер Натан Масселли. Да, да, тот самый Масселли, дело которого вели Вольраф и Фрост. Кстати, вы знаете, что Ромеро дал показания, заявив, что у него есть высокие покровители в Соединенных Штатах. И именно после этого был убит Натан Масселли. А затем убили Поля Кастеллано, Фреда Фурино и других мафиози, которые могли раскрыть связи Ромеро с некоторыми высокопоставленными чиновниками из Вашингтона.
— Мистер Эскобар, не забывайтесь, — вмешался в разговор сотрудник ЦРУ, неприязненно посмотревший на Рамона.
— Простите, я действительно увлекся. Теперь что касается самого убийства. Получив столько данных я, разумеется, твердо решил, что убийца Антонио Перес. Но как ему это удалось? Ведь в момент убийства он находился в комнате вместе с Деверсоном и Асеновым. Кроме того, его видели оба дежурных охранника, когда он шел по коридору. Не могли же эти люди, все четверо, лгать или ошибаться. Это действительно была неразрешимая задача до вчерашнего дня. Но во время вчерашнего разговора Асенов вдруг вспомнил, а Деверсон подтвердил, что в промежутке между выстрелами раздался крик. Я абсолютно помню, что в протоколе вскрытия прямо указано, обе раны смертельные. А это значит, что после первого выстрела у Анны Фрост не было бы сил кричать. А она закричала.
— Я не понял, — Оруэлл встал с кресла, — вы хотите сказать…
— Да, в момент выстрелов Анна Фрост была мертва. Если помните, Рональд Моуэт — эксперт, дававший показания, подчеркнул, что у него вызывает недоумение тот факт, что «Магнум» причинил не совсем характерные разрывы кожи, словно дуло пистолета было обвернуто носовым платком. Носового платка конечно не было. Был глушитель необычной формы, который кстати применяют в Латинской Америке. Он изготовляется японской фирмой, производящей пистолеты типа 57. Антонио Перес, надев глушитель на «Магнум», дважды выстрелил в Анну Форет. Затем снял глушитель, положил его в карман, а оружие бросил на пол. Спокойно вышел из комнаты, включил заранее заготовленный магнитофон с выстрелами и криками и вошел в комнату к Деверсону и Асенову. Через несколько секунд сработал магнитофон. Когда Эдстрем вбежал в комнату, там действительно никого уже не было, а револьвер лежал на полу. Кстати Эдстрем дал показания, что он не дымился, а никто из нас не обратил внимание на этот самый существенный факт. Перес вошел в комнату вслед за Деверсоном и Асеновым и, выключив магнитофон, достал кассету. Конечно, на это тоже никто не обратил внимание. В комнате стояло несколько магнитофонов и Перес мог воспользоваться любым. Но склонность к техническим трюкам его погубила. Он записал женский крик, выстрел, еще один крик и снова выстрел. Понятно, что Антонио старался для зрителей, но с криками он переборщил. Вот, собственно, и вся техника этого «почти невероятного» убийства.
В комнате наступило молчание. Потрясенный Оруэлл покачал головой, обращаясь к представителю ЦРУ.
— Наверно, нужно будет освободить мистера Эдстрема.
— Сначала мы проверим все факты, и если они подтвердятся, арестуем Антонио Переса, — возразил сотрудник ЦРУ.
— У него дипломатический паспорт, — напомнил Оруэлл.
— С этим вопросом не будет проблем, — успокоил их Эскобар, — у нас имеется достаточно данных, чтобы привлечь его к уголовной ответственности и в Боливии. Интерпол срочно направил своего сотрудника для проведения расследования на месте и координации действий совместно с представителями боливийской полиции.
Молчавший до сих пор заместитель Генерального Директора встал и подойдя к Рамону протянул ему руку:
— Вы блестяще справились со своей задачей. Благодарю вас, мистер Эскобар. Мне тем более приятно, что это я рекомендовал вашу кандидатуру на данное расследование. Вы еще раз доказали, что остаетесь одним из лучших экспертов.
— Надеюсь, что этот разговор пока останется в тайне, — подчеркнуто холодно, попросил сотрудник ЦРУ, направляясь к дверям.
— Разумеется, — наклонил голову Рамон.
— Поздравляю, — бросила миссис Бэнвилл через плечо и уже выходя, внезапно обернувшись, добавила. — Вы очень опасный противник, мистер Эскобар. Как вы смогли запомнить все протоколы допросов? Вы же видели их всего один раз?
Рамон пожал плечами.
— Я и сам не знаю.
— Мистер Оруэлл, вы поедете с ними? — спросил Заместитель Генерального Директора и, не дожидаясь ответа, добавил, — нужно будет утрясти все вопросы.
Когда за ушедшими закрылись двери, Рамон вдруг услышал обращенный к нему вопрос:
— И кто по-твоему был это высокопоставленное лицо, из-за которого убрали даже Поля Кастеллано?
— Министр труда Соединенных Штатов Донован, — чуть помедлив, сказал Рамон Эскобар.
— Ты сошел с ума.
— Да, более того, я убежден, что это по его приказу совершен налет на автомобиль ФБР, перевозивший дело Эдстрема, и по его приказу убирали Массалли, Фурино, Кастеллано, а затем Анну Фрост и Вальтера Вольрафа. Это по его приказу пытались убить Карла Эдстрема.
— Мы не имеем права оглашать эти данные.
— Я знаю. Но мы имеем право передать их в печать. Обычная утечка информации.
— Ты затеял опасную игру, парень. Смотри, как бы потом не пожалеть. Здесь все-таки Америка, а не Советский Союз.
VI
Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Звонил его личный «секретный» телефон, номер которого был известен очень немногим людям. Поправив очки, молодой человек, сидевший за столом, поднял трубку.
— Я слушаю, — сказал он, отодвигая левой рукой несколько исписанных листков бумаги.
— Простите, господин министр, что беспокою вас, — услышал Р. Донован хриплый голос и сразу насторожился, значит действительно произошло нечто необычное.
— Говорите, — коротко потребовал он, проверив включение скэллера, специального устройства, исключавшего возможность прослушивания.
— Агенство Национальной Безопасности и Специальный Комитет экспертов ООН заинтересовались гибелью Масселли и Костеллано. Они собираются распутывать эту версию до конца. Мы постараемся принять меры, но боюсь, они будут недостаточно эффективны. Если вы…
— Я понял, — быстро сказал министр.
— И ещё — самое главное. В Комитете ООН это дело ведет советский специалист, приехавший оттуда высококвалифицированный эксперт. Вам наверно нужно это знать. Он здесь в качестве представителя ООН.
— Это очень важно, — министр придвинул к себе чистый лист бумаги и поставил восклицательный знак, — у вас все?
— Да, господин министр. До свидания.
— До свиданья, — Р. Донован спокойно положил трубку.
Минут десять он просидел молча, стараясь сосредоточиться на чистом листе бумаги. Затем решительно нажал кнопку селектора.
— Соедините меня с Пойндекстером, — распорядился министр (адмирал Пойндекстер стал помощником Президента США по национальной безопасности, после того как 4 декабря 1985 года подал неожиданно в отставку ранее занимавший этот пост Роберт Макфарлейн).
Требовательно вспыхнул огонек селектора.
— Мистер Пойндекстер на проводе, сэр.
Министр быстро поднял трубку.
— Добрый день, господин Пойндекстер. Говорит Донован.
Только что назначенный помощник Президента отлично знал о тесных связях Президента с Донованом и постарался придать своему голосу возможно большую радость.
— Чем обязан вашему звонку, мистер Донован?
— Я смотрел сейчас смету на финансирование. Мне всё время казалось, что мы тратим на ООН непомерно большие суммы. Эти различные комитеты, отделы, специализированные учреждения. Эти расходы отражаются на наших налогоплательщиках.
На том конце провода молчали. Адмирал не мог сообразить, куда клонит министр и потому верный своей тактике предпочитал молчать.
— Мне кажется, что бюджет ООН непомерно увеличен и я буду вынужден доложить об этом господину Президенту, — продолжал министр.
Адмирал по-прежнему хранил молчание.
— Мне кажется, — осторожно сказал Р. Донован, — что наши позиции по данному вопросу должны совпадать. Это касается и нашей национальной безопасности.
— Я не совсем понимаю, каким образом, — разжал наконец зубы адмирал. — Какое это все имеет отношение к национальной безопасности.
— Я забыл сказать главное, — министр перевел дыхание, — дело в том, что эти учреждения буквально нашпигованы выходцами из стран Восточной Европы и СССР. Согласитесь, держать у себя под боком целые комитеты профессиональных экспертов из этих стран не совсем правильно. Кроме того, они получают доступ почти ко всякой информации, поступающей в ООН.
— У Вас есть факты? — поинтересовался Джон Пойндекстер.
— Конечно. Достаточно просмотреть штаты советского представительства при ООН. А ведь не менее большие представительства имеют советские республики — Украина и Белоруссия. Мне это положение кажется не совсем нормальным.
— Простите, мистер Донован, — адмирал старался выговаривать слова как можно мягче, — дело в том что Сан-Францисская конференция 1945 года закрепила такое привилегированное положение русских в ООН, разрешив им иметь сразу три представительства. Мы ведь ратифицировали Устав ООН.
— Но там ничего не сказано о численном составе этих представительств, — напомнил министр, хорошо знавший международную политику и право. На выборах 1980 года он репетировал вместе с Рональдом Рейганом телевизионные дебаты будущего Президента, исполняя «роль» оппонента Рейгана — кандидата от демократической партии — Джимми Картера.
По признанию самого Рейгена Р. Донован так блестяще исполнил эту «роль», что сам Джимми Картер не сумел превзойти его в очных телевизионных дуэлях с будущим Президентом. Джон Пойндекстер знал это. Он помнил, что Р. Донован был личным другом Президента и имел свободный доступ в Белый дом. А значит к его словам нужно прислушиваться.
— Кроме того, — продолжал Р. Донован, — следует иметь в ви>ду специализированные учреждения ООН, штаты которых также чрезвычайно раздуты и заполнены экспертами из Восточной Европы.
Адмирал был не только военным, но и ученым — доктором наук по ядерной физике. Он вдруг понял, что сама идея о сокращении штатов из советских социалистических республик может чрезвычайно понравиться Президенту. А значит должна понравиться и ему, Джону Пойндекстеру. Конечно, требование о сокращении советских представительств при ООН и высылке ряда экспертов ООН явно незаконное, но если он и Р. Донован сумеют подать правильно эту идею Президенту, то государственный департамент будет просто вынужден обратиться в ООН с соответствующим требованием. А он, Джон Пойндекстер сразу убьет двух зайцев — покажет Президенту и его окружению ультраконсервативные взгляды и сумеет оказать услугу другу Президента, что само по себе совсем немаловажно, если учесть, что этот человек член правительства.
— Я согласен с вами, мистер Донован, — поспешил заверить министра труда адмирал, — мои сотрудники тщательно проверят все изложенные факты.
Попрощавшись с адмиралом, министр положил трубку. Улыбнувшись, подчеркнул восклицательный знак жирной чертой. И почти тут же нажал кнопку селектора.
— Директора Агенства национальной безопасности, — коротко сказал он, — как можно скорее.
Из официального заявления Государственного Департамента Соединенных Штатов постоянному комитету экспертов ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней
«Государственный департамент предлагает Вам немедленно депортировать на родину уругвайского коммерсанта Рамона Эскобара, чей статус международного эксперта преступности несовместим с его действиями, наносящими ущерб государственным организациям страны — местопребывания ООН».
Сообщение «Эй-би-си» из Вашингтона
«Государственный департамент США потребовал сократить на 40 процентов дипломатический персонал постоянных представительств СССР, УССР и БССР при ООН в Нью-Йорке до 1 апреля 1988 г. Обращено внимание секретариата ООН на чрезвычайно раздутые штаты различных специализированных учреждений ООН. Официальный представитель Генерального секретаря ООН заявил, что X. Перес дэ Куэльяр дал распоряжение юрисконсульту ООН рассмотреть вопрос о соответствии акции государственного департамента соглашению между ООН и США по вопросу о месторасположении центральных учреждений ООН».
Сообщение «Юнайтед Пресс Интернешнл» из Нью-Йорка
«Генеральный секретарь ООН X. Перес де Куэльяр распорядился о сокращении штата постоянных представительств СССР при ООН и числа советских представителей в специализированных учреждениях ООН».
Заявление ТАСС
«Администрация США предприняла новый враждебный шаг в отношении Советского Союза и Организации Объединенных Наций. Государственный департамент США выступил с бесцеремонным требованием сократить на 40 процентов дипломатический персонал представительств СССР, УССР и БССР при ООН в Нью-Йорке до 1 апреля 1988 года.
Эта акция, предпринятая под надуманными беспочвенными предлогами, явно нацелена на дальнейший подрыв Организации Объединенных Наций, чем нынешняя администрация США с упорством, достойным лучшего применения, занимается последние годы.
Этот вызывающий шаг явно противоречит соглашению между Организацией Объединенных Наций и Соединенными Штатами Америки по вопросу о месторасположении центральных учреждений Организации Объединенных Наций. Вновь возникает вопрос: является ли подходящей для местопребывания Организации Объединенных Наций страна, которая не выполняет своих обязательств перед этой международной организацией и препятствует нормальному функционированию ее специальных подразделений?»
VII
Он уже садился в самолет, когда его сняли с рейса. Прибывший в аэропорт представитель Генерального Директора Комитета потребовал, чтобы он летел следующим рейсом. Рамон Эскобар не сразу понял причину такой задержки. Лишь две недели спустя он прочитал, уже в советских газетах, сообщение о гибели пассажирского лайнера, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Йорк — Лондон, тот самый рейс, билет на который регистрировал Рамон Эскобар. Автор не имеет документальных фактов, подтверждающих причину аварии, и оставляет возможность читателям судить об истинных мотивах этого «технического инцидента».
В Лондоне его ждали прямо в аэропорту представители Советского посольства. В Москву он летел уже как гражданин Советского Союза, хотя, конечно, паспорт был не на подлинное имя. Еще через два дня он прибыл домой и приступил к своим обычным обязанностям. Внешне таким будничным и спокойным. Специальный эксперт Комитета К-37 выполнил свою задачу и теперь имеет право на отдых. Он живет в ожидании звонка. Каждый день, каждый час. И когда на другом конце света случается нечто непредвиденное — «голубые ангелы» ООН знают что они нужны. И вызов следует незамедлительно.
Сообщение «Эй-би-си» из Вашингтона
Судебные власти Федерального штата Нью-Йорка, занимавшиеся делом Реймонда Донована, независимо от специального прокурора заявили, что располагают достаточными уликами, чтобы привлечь к уголовной ответственности члена кабинета Соединенных Штатов. Против него будут выдвинуты обвинения по 137 пунктам, среди которых — хищение в особо крупных размерах и подделка финансовых документов.
(Передается по сообщению корр. «Известий» В. Иванова)
Сообщение агентства «Рейтер»
Как передает специальный корреспондент из Вашингтона, сегодня утром Реймонд Донован, министр труда в правительстве Рональда Рейгана, подал в отставку. Причина отставки — скандальные связи бывшего министра с организованной преступностью.
Дмитрий Стахов
ПРОДОЛЖАЯ ПУТЬ
I
Первый звонок проник в сон: во сне я тихонько плыл на спине по бескрайнему ночному морю, смотрел на луну. Звук звонка воспринялся, как гудок надвигающегося корабля. Я открыл глаза и некоторое время рассматривал потолок своей комнаты.
«Это все снится!» — подумал я, но вновь погрузиться в воду мне не удалось — раздался второй звонок, более настойчивый, чем первый. Я перевернулся на другой бок, сбросил ноги на пол, опрокинул что-то стеклянное, нащупал на стуле джинсы, с трудом преодолевая сопротивление штанин, натянул их на себя. Тут раздался третий звонок, — какой-то извиняющийся.
— Иду! — неожиданно для самого себя зычно крикнул я, а на кровати, за моей спиной, заворочались, что-то забормотали. Чуть обернувшись, я увидел, как плечо и голова медленно втягиваются под одеяло.
— Иду! — повторил я, встал, добрался до прихожей, открыл входную дверь: на лестничной клетке стоял удивительно знакомый человек в очках, но кто именно — понять я был не в силах.
— Как хорошо, что вы все-таки дома! — с неподдельной радостью сказал человек. — Я принес…
Я огляделся — где же мне быть, как не дома? — и тут узнал его: передо мной стоял наш участковый врач собственной персоной.
— Я принес ваш бюллетень, — продолжал он. — И паспорт… Вот… — Он протянул мне паспорт с торчащим из него листком бюллетеня. — Я закрыл его, разумеется, с завтрашнего дня…
— Угу… — кивнул я, засунул паспорт в карман и стал тупо изучать листок бюллетеня: разобрать что-нибудь на нем было невозможно. Я зажег свет в прихожей, кивнул врачу — мол, заходи. Он вошел в квартиру, деликатно прикрыл за собой дверь.
— Угу, — повторил я, — очень хорошо… — и некоторое время мы с врачом разглядывали друг друга. Врач не выдержал первым:
— Давайте я все-таки вас послушаю, — сказал он, вынимая из кармана фонендоскоп.
— Давайте! — согласился я так решительно, что он вздрогнул. — Где? Здесь? Здесь не очень, да? Тогда прошу, — я отступил в сторону, жестом предложил пройти в комнату и сам вошел вслед за ним.
Я обогнул врача, отдернул шторы — на улице давно уже был день! — и открыл настежь окно.
— Так не надо! — услышал я за спиной. — Вы же простудитесь! Совсем чуть-чуть, щелочку…
Я оставил щелочку и подошел к врачу.
— Дышите! — попросил он, прикасаясь ко мне холодными руками и делая внимательное лицо. — Пожалуйста, глубже!
И я, задышав, заметил, что он без пальто.
— Что вы так налегке? — спросил я.
— А я на машине! С дежурства! — ответил он с радостью.
— Ах, да, подрабатываете… На машине… Ну, как она? Бегает?
— Бегает, бегает! — он прямо-таки замахал на меня одной рукой. — Отлично бегает. Только вот порожек…
— Что с ним?
— Подгнил он, подгнил, — врач говорил так, словно порожек был не только существом одушевленным, но и очень ему близким. — Совсем, понимаете ли, подгнил…
— Беда! — согласился я. — А если к нам?
— А у вас?..
— А у нас есть, есть! — теперь я замахал на него, двумя руками сразу. — Есть у нас, есть!
— Да? — он вроде колебался. — Да… — и вздохнул: — Спиной, пожалуйста!
Я повернулся: теперь мы оба созерцали кровать.
— Не дышите… Так, все нормально, но курить я вам настоятельно рекомендую бросить. При вашем хроническом бронхите… И оздоровительный комплекс в той брошюре, которую я вам дал… Делаете?
— Делаю! А как же! Каждый день! — мне было его жалко.
— Это хорошо… — произнес врач как бы на излете, и теперь передо мной вновь стоял владелец машины с подгнившим порожком. — Подъехать к вам когда можно?
— К двум! Самое время!
— Тогда я прямо к вам?
— Прямо, прямо ко мне. — Я открыл ему дверь, и он, так же пятясь, оказался на лестничной площадке.
— Так до встречи? — спросил он.
— Обязательно, — я закрыл за ним дверь и заметил, что совсем скомкал бюллетень, который все это время держал в кулаке: я запихнул его в карман, прошел на кухню, взял с плиты чайник и, глядя в окно на двор, начал пить из носика.
Я дождался того, что из подъезда выскочил врач, протрусил к своей машине, открыл, предварительно смахнув снег с капота, достал заводную ручку и лихо начал крутить, тогда вернулся в комнату. Тело лежало, вытянутое во всю длину, на спине, покрытое с головой. Я приподнял одеяло, и на меня внимательно уставились два темных глаза.
— Болеешь, что ли? — спросила она надтреснутым голосом: совсем девчонка.
II
Цех был немалых размеров. К тому же, две стены из полупрозрачных голубоватых плиток расширяли его, а из-за белого, кое-где с подтеками, потолка он казался еще выше, чем был на самом деле. Вот только глухая серая, с еле заметным фиолетовым оттенком стена словно подрубала его вольготный объем. Входившему в цех казалось, что торцовая стена существует отдельно, сама по себе. Он ощущал некоторое беспокойство и замешательство в этом гулком пространстве: в цеху было всего лишь два станка, да слежавшаяся пыль на полу, да промасленная ветошь по углам. Приглядевшись, он обнаружил, что из-за одного из станков виднеется голова работающего человека. Это был я.
Я работал на старом, надежном токарном станке. Другой, сверхсовременный, с программным управлением, был поломан еще в процессе изготовления, окончательно и бесповоротно. Неясно было, зачем этот станок вообще приобретался со всеми его разноцветными кнопочками, переплетениями проводов, моточками перфолент. С тех пор, как его установили на бетонном башмаке, к нему никто не притрагивался. Он стоял и ждал своего часа, часа списания. Час списания еще не пробил, и пока что он, такой нарядный, радовал глаз.
Работал я более чем средне. Иного от меня трудно было ожидать: навыки были привиты инвалидом-трудовиком еще в школе, опыта, до того, как я пришел в цех, практически никакого. Но я работал, всем своим видом стараясь показать, что токарь я классный. В этом не было никакой нужды. Более того — классному токарю здесь делать было нечего, здесь нужен был обыкновенный токаришко — шлифануть, подточить, — все равно кто, во всяком случае — не я. Но работал я, а запоротые детали швырял в программный станок. Они, ударяясь о его красивое мертвое тело, звякали, и станок тоже звякал, только тоном ниже, или гудел, недолго, но с негодованием, и на нем оставались вмятины и царапины. Внешние приобретенные дефекты, вкупе с внутренними прирожденными, убавляли спесь этому станку. Уже через месяц со дня начала моей работы на станции техобслуживания программный станок просил пощады при каждом попадании, но пощады я не давал: я делал деньги, а делание денег и пощада — вещи несовместимые.
Помимо обычных взяток и подарков, распределенных мною между теми, от кого зависело — буду ли я работать в цехе, своему предшественнику я дал двадцать пять рублей. Это называлось «купить патент».
Мало того, что цена на мои изделия не совпадала с государственной, — в отношении государственных цен я очень быстро стал этаким сущим ребенком, наивным, неискушенным. Она менялась день ото дня, колебалась в зависимости от распределения общественного привара, в зависимости от договоренности с теми, с кем я делился непосредственно, так же, как и они со мной.
Приходилось делиться, и тут уж ничего поделать было нельзя. И я делился — с кузнецом, со слесарем, даже с уборщицей, делился не жадничая, а все мы вместе отстегивали наверх. Было меж нами известное единство, взаимозависимость, вплоть до, пусть и переиначенного, коллективизма.
Вместе с некоторыми я еще и гудел. Мы брали столик и гудели. После гудежа я обычно просыпался несколько опустошенным; а после некоторых особо сумрачных пробуждений мне настоятельно требовался отдых. Хотя это не особенно поощрялось в нашем дружном коллективе, но неотъемлемые конституционные права были и оставались высшей инстанцией даже в нем.
Бывало же, что после гудежей меня тянуло на подвиги: таким образом и содеялся один из моих угонов.
III
Между гудежом и непосредственно тем угоном было еще одно событие: мне надо было попасть к маме в больницу, но в больницу я все-таки опоздал — дверь оказалась заперта.
Я схватился за ручку, задергал с остервенением, потом бросил это занятие: увидел кнопку звонка, нажал, и где-то в глубине корпуса задергался его дребезжащий звук. Я нажал на кнопку еще раз, и, наконец, из глубины пустого, ярко освещенного вестибюля к дверям как бы подплыл неспешной походкой человек в белом халате, в высоком 404 колпаке, в бледно-голубых коротковатых штанах и каких-то странных опорках.
— Наркотиков здесь нет, молодой человек! — крикнул он через дверь, повернулся спиной и словно растаял.
— У меня мать здесь, мама! — закричал я, снова берясь за ручку, начиная дергать, но тут меня позвали от соседнего корпуса.
— Парень, эй-эй! — человек, силуэт которого казался черным на фоне открытой за его спиной двери, помахал мне рукой. — Парень! Давай сюда!
Этот тоже был в белом халате, но замызганном, мятом, из-под которого торчали огромного размера резиновые сапоги: их я увидел сначала, а только потом поднял взгляд и увидел его лицо — маленькое, сморщенное, в окружении свалявшихся волос. Он показался мне щуплым, тонкокостным, но когда он схватил меня за правую руку, с радостью встряхнул, я ощутил пожатие большой мозолистой ладони.
— Здорово! — сказал он радостно, брызгая слюной. — Чего тебе тут, а? Заболел? Болеешь, да? Гы-гы, — он отпустил мою руку и больно ткнул меня в грудь костяшками пальцев.
— Ты чего? — спросил я, невольно поднимая руки к груди.
— Это ты — чего? Чего? А? Чего? — каждое свое слово он сопровождал новым тычком, и я не сдержался, ответил двумя руками сразу. Шелестя голенищами сапог, он отлетел от меня и сел в сугроб. Там, в сугробе, словно сидя в мягком кресле, он закинул ногу на ногу, достал мятую пачку сигарет, вытащил одну штуку, сломал пополам, одну половину сигареты спрятал обратно в пачку, другую сунул в губастый рот.
— Огонька, огонька дай, огонька! — сказал он, а после того, как я подошел, наклонился к нему, щелкнул зажигалкой, он посмотрел на меня, сощурившись от дыма, и спросил:
— В корпус надо, что ли?
— Ну, в корпус, — в тон ему ответил я.
— Так бы сразу, гы-гы, — он густо сплюнул себе под ноги, — а то — звоночек, ля-ля! В корпус надо, понимаешь, в корпус! Пошли! — он легко вскочил, пошел впереди меня.
Мы вошли, повернули налево, направо, передо мной прямо-таки разверзались уходящие вниз ступени, по которым этот тип легко сбежал и пропал, а я, начав спускаться, поскользнулся, загремел по ступеням до самого их конца, да еще после них прокатился метра полтора-два и оказался в маленькой комнатке возле покрытого клеенкой столика с поблескивающими на нем темного стекла банками. На стуле, рядом со столом, сидела женщина с большим животом, со сложенными на животе красными руками, ноги ее в дырявых заскорузлых чулках, как шлагбаум, перекрывали вход в начинавшийся из комнатенки коридор, глаза были закрыты: она спала. Поднявшись, я перешагнул через ее ноги, пошел было по коридору, но она спросила мне в спину:
— Ты с перевозки, что ли?
Оглянувшись, я увидел, что глаза ее по-прежнему закрыты, но, тем не менее, несмело кивнул.
— Ага! — она скривила губы. — Иди отсюда!
— У меня там мать, мама там у меня…
— Какая мать! Где?! — заорала она, открывая глаза, пытаясь схватить меня за куртку, но я увернулся, удрал: завернул за угол, побежал по коридору дальше, пригибаясь под нависающими трубами, повернул еще раз и, окончательно заблудившись, остановился. Около выключенных лифтов стоялаодинокая каталка. Я подошел поближе: под простыней лежал покойник, поверх накрытого лица были положены очки в толстой пластиковой оправе с очень сильными стеклами. Одна дужка была сломана и перевязана ниткой. Тут кто-то тронул меня за локоть: та женщина меня догнала.
— Я ж тебе говорила, сынок, говорила? — спросила она тихо и заботливо начала оттаскивать меня от каталки. — Ну, ведь говорила? Какая уж тут мать… Пойдем уж…
Мы как-то очень быстро добрались до ее столика, перед нами возник мой знакомый в сапогах.
— Выведи его! — приказала ему женщина, и мы, поднявшись по лестнице, пошли по какому-то бесконечному коридору. Мой провожатый семенил за мной, бормотал, словно оправдывался:
— Что же ты? Надо было за мной, а ты куда? Надо было — сразу, я — туда, ты — туда, я — туда, ты — туда! А ты? Теперь все!
IV
Итак, я оказался за воротами больницы. Пробираясь к остановке между припаркованными возле ворот машинами, я насвистывал какой-то мотивчик: приятно было идти между ними — как-никак — будущие клиенты. Средь них обнаружился и старый знакомый: машина участкового врача — сам ишачил на полставочки где-то в глубинах больницы — стояла, выставив напоказ новенький, еще незакрашенный порожек. Я наклонился — работа была сделана на совесть — удовлетворенно покивал, а распрямляясь, облокотился о капот соседней машины: он был теплый. Одним словом — хозяин этого «Жигуля» сам был виноват: я всего лишь дернул дверцу; она открылась, и мне ничего не оставалось делать, как влезть, достать свой универсальный ключ. Подлец «Жигуль» завелся с полоборота.
Поначалу я покатался по темным улицам, потом сообразил, что хотя и расширяю круги, но далеко от места угона не удалился. И я выехал на проспект, поехал по нему, нырнул под эстакаду, вынырнул на мост, проскочил кривой переулок, вырулил на бульвар. Мне было чертовски хорошо, и я решил заняться частным извозом.
Кого попало возить не собирался. С другой стороны, образ потенциального пассажира как-то слишком расплывался, и, минуя многочисленные протянутые руки, я начал испытывать некоторое смятение.
В конце концов образ оформился так, как должен был оформиться: она шла у края тротуара, оглядываясь, и уже почти что безнадежно помахивала рукой.
Я обогнал ее, прижался к тротуару, остановился, наклонился и открыл правую дверцу.
— Пожалуйста, — сказал я, глядя на нее снизу вверх.
Ей, ясное дело, очень нужно было ехать, а она еще и поколебалась, поморщила носик. Потом, конечно же, села.
Когда-то я даже мечтал о чем-то в этом роде: поздний вечер, неспешная езда, девушка, с кратким угуканьем угощающаяся сигаретой, запах табака, духов и немного бензина, я, небрежно ведущий машину и задающий ненавязчивые вопросы. Я хотел попросить ее пристегнуться, но увидел, что она — сама дисциплинированность — уже по собственному почину возится с ремнем. Я взглянул на нее повнимательнее: надутые губы, торопливо накрашенные глаза, округлый подбородок. «Ты этого хотел?» — спросил я себя, усмехнулся, а она, наконец-то пристегнувшись, устроила поудобнее на коленях свою сумку, положила на нее сцепленные пальцами руки: из ее рук каким-то странным букетиком торчали перчатки.
Я доставил ее прямо к подъезду и, весь во власти лирического настроения, отказался от протянутой трешки.
— На кофе я вас не приглашаю, — сказала она с вызовом и впихнула трешку в пепельницу.
— Что вы, что вы! — возмутился я и попросил телефончик. Она тут же — лишь бы поскорее избавиться от меня — записала его карандашом для ресниц на руководстве по эксплуатации и упорхнула, оставив дверцу открытой, а ремень — лежащим на земле.
Я отъехал два квартала и бросил машину, ничего не взяв, оставив трешку в пепельнице. С руководством подмышкой я вышел на магистраль, поймал такси и поехал к Вальке.
Она открыла заспанная, испуганная, радостная.
— Что же ты не позвонил? — заговорила она. — А если бы муж? А я вот сплю, сплю, сплю…
— Привет, — я поцеловал Вальку в теплую шею.
— Чей это телефон? — Валька взяла руководство из моих рук.
— Клиента! — ответил я и пошел на кухню. — Жрать хочу!
Потом Валька стонала и, как обычно, царапала мне поясницу, а я, глядя в ее запрокинутое смазанное лицо, думал о девушке.
— Сегодня придешь? — спросила Валька утром. — Он сегодня опять в ночь…
— Сегодня я к матери в больницу. Завтра.
— А завтра у него выходной…
— Ну, тогда созвонимся…
Часы пробили семь.
— У-у, — заторопился я. — Мне пора! Побежал…
V
На полпути к истосковавшемуся по хозяину станку меня перехватили ребята.
— Вот он! — сказали они. — Вот он и заплатит за пиво!
— Это почему же? — спросил я, доставая деньги.
Мы быстро распотрошили коробку, с жадностью выпили по банке.
— Наше лучше, — твердо, но все же с некоторым утренним сомнением, сказал кузнец, открыл еще одну. Пена шибанула ему в нос, он фыркнул. — Химия здесь одна. «Колос», он вот полезен… — Убежденность его возросла, и, как бы в подтверждение он разорвал банку надвое.
Я угостил всех сигаретами, мы закурили.
— Деньги человека портят, — вдруг сказал электрик, мутновато глядя вдаль.
— Это точно, — с готовностью согласился кузнец: на него тоже, видимо, нашло просветление. — Эх, тоска, — вздохнул он и неожиданно обратился ко мне:
— Хочешь, я тебя сейчас башкой о шпиндель? По-отцовски, а?
Я похлопал кузнеца по плечу и продолжил путь к станку. Станок, начисто протертый с вечера, действительно, словно ждал меня. С верстачка возле я взял старый, негодный уже и на шлифовку распредвал и в качестве приветствия запулил им в программный. Паралитик, видимо, еще не проснулся и поэтому промолчал. Только я потянулся к рубильнику, как по селектору — организация труда у нас была высший класс — назвали мою фамилию.
Когда я вошел, директор встал из-за стола, двинулся ко мне навстречу, похлопал по спине, усадил в кресло поближе к своему, открыл сигаретницу и угостил сигаретой.
— Ну, как мать? — спросил директор, тоже закуривая.
— Ничего, — ответил я, пожимая плечами.
— Как работа? Нравится? — выпустил он серию колечек.
Я кивнул.
— Да-а… — протянул директор, — брат тут мой в Москву переезжает. Младший. Женился, понимаешь, на москвичке и — в Москву…
— Это хорошо, — одобрил я, — в Москву — это хорошо…
— Да-а… — повторил директор. — Я вот думаю его к себе взять токарем.
Что-то такое неприятное, теплое разлилось у меня по затылку.
— Так станок-то один, — сказал я не очень уверенно.
— Правильно. Я знаю, что один, — он ласково посмотрел на меня. — Знаю…
— А… — начал было я, но он продолжил:
— Я его на твой станок хочу взять. На твой. Он — токарь высшего разряда, рабочий потомственный, — здесь он сделал ударение, — а ты — вчерашний недоучившийся студент, завтра — доучившийся. Тебе надо как-то своей дорогой идти.
— По какой дороге-то?
— По своей. Пока вот на программный перейдешь, освоишь его, подремонтируешь, а там, глядишь, восстановишься у себя в институте, инженером станешь, да и на мое место придешь. Верно? Ведь верно, а? — он прямо-таки светился добротой, словно решил еще меня и усыновить, а кресло свое передать по наследству.
— Смеетесь, вы, что ли? Что я на программном заработаю?
— Как что? — удивился директор. — То, что и все, — оклад. Существуют, мил человек, оклады. Давай, иди готовь станок, он к обеду придет.
Я потушил сигарету о край мраморной пепельницы.
— Триста пятьдесят, и я совсем уволюсь.
Директор помолчал и тоже потушил сигарету.
— Идет, — сказал он, — идет. Только триста, а не триста пятьдесят. — Он достал бумажник и отсчитал деньги. — И чтобы духу твоего здесь не было после обеда, — он ткнул пальцем в дверь: — иди в кадры, я туда сейчас позвоню, распоряжусь.
Кроме заявления об уходе я написал заявление на отпуск задним числом.
— Жулик, — сказал директор, размашисто подписывая мои заявления.
Ребят я нашел с трудом — они, будучи не в силах расстаться с пивом, сидели в душной каптерке и играли в карты.
— Поставь рублик, — посоветовал мне проигравшийся уже дочиста кузнец, — таким, как ты, везет…
Я поставил рублик, прошелся рубликом и зарыл.
— Ты сегодня не в форме, — подмигнул сдававший электрик.
Мне дали пива, и я рассказал ребятам про свои дела.
— Прямо так и сказал: «Пиши по собственному?» — спросил кузнец.
— Прямо так…
— И больше ничего?
— Обещал устроить в другую СТОА…
— Врет, никуда он тебя не устроит… С тебя причитается…
— Я зайду к концу. К матери съезжу и зайду…
Электрик зашвырнул колоду в угол.
— Нет, ну что же творится-то? Куда смотрит профсоюз, — начал возмущаться он, ребята стали его успокаивать, а я пошел проститься со станком.
Ни капли сентиментальности тут не было. Просто я знал одну хитрость, из-за которой станок после нескольких часов безукоризненной работы вдруг останавливается и починить его мог только супер-мастер. Приговаривая: «Посмотрим, что это за потомственный рабочий!» я поднял кожух. Мой станок словно почувствовал, что с ним собираются сделать, и легонько заскрипел, но я не обратил внимания на его робкий протест. Едва я закончил свои манипуляции, как увидел входящего в цех директора. С ним был косолапый малый в цветастом свитере под горло и с широкой улыбкой на тонких лиловатых губах.
— Вот твоя замена! — подойдя, сказал директор, приобнимая малого за талию и по-родственному кладя голову ему на плечо. — Прошу любить и жаловать, — добавил он, а малый быстрым движением утер перебитый нос тыльной стороной руки.
Я кивнул, сделал плавный жест, как бы приглашая к танцу, и директорский брат и в самом деле затанцевал вокруг станка, даже шел вприсядку и погикивал, постепенно краснея, пыхтя.
— Ну, принимай, — сказал ему директор, — потом зайдешь…
Он издалека пошевелил мне пальцами, крутанулся на одном месте и стал удаляться, плотно ставя ноги, а его роскошная полуседая шевелюра даже как бы светилась серебром и по цеху метались всполохи. Хлопнула дверь, но мне показалось, будто директор остался и подглядывает за нами из темного угла.
— Как ты насчет патента? — задал я директорскому брату безнадежный вопрос.
Он, выполнявший какие-то сложные па и одновременно успевавший сладострастно оглаживать патрон и лимбы, замер на мгновение.
— У меня своих патентов хоть завались, — проговорил он простуженным голосом и ласково, с хваткой своего старшего брата, посмотрел на меня. — Будь здоров! — сказал он.
VI
Мама лежала в палате на двоих. Окна палаты выходили на заснеженный парк и реку за ним. По реке извивалась лыжня и были разбросаны точки: любители подводного лова. В троллейбусе, подходившем к воротам больницы, всегда попадался человек в тулупе, в валенках с высокими галошами, с погромыхивающим ящиком на брезентовом ремне. У ворот больницы троллейбус пустел, все его бывшие пассажиры проходили в ворота и только одна-две несгибаемые фигуры степенно двигались к реке. Глядя им вслед, я думал о том, как это, наверное, здорово — ловить рыбу на морозце, пить чай из термоса и есть бутерброды с холодным твердым маслом.
Почему-то все, кому я говорил, что мама лежит в палате на двоих, спрашивали, во сколько это стало. Раньше я начинал объяснять, рассказывать про новый больничный корпус, в котором все палаты были на двоих, потом перестал: чтобы не обидеть, не разочаровывать собеседника, называл сумму, и он успокоенно — мир был прежним — кивал.
Мамину соседку я не видел ни разу. Она была привезена из далекого города уже в неоперабельном состоянии. Ожидая отправления назад, — чтобы умереть дома, в кругу родных, — она целыми днями моталась по магазинам, в соответствии с длинным списком покупая барахло на всю родню, и в больнице только ночевала. Под ее койкой стоял разбухший чемодан, к нему мало-помалу прибавлялись сумки, пакеты и узелки.
Мамина койка стояла у окна. В палате было душновато.
— Мы с ней дружим, — говорила мама про соседку. — В ее семье все такие здоровяки! Она покупает такие большие размеры… Вот в том пакете, левом, лежит плащ. Он тебе, конечно, велик, но ты его все равно достань, посмотри. Она говорит, что были и меньшего размера…
И я мерил плащ.
— Ты каждый день ешь суп? — спрашивала мама.
— Да, каждый день, — отвечал я.
Я сидел, держа в руках сухую и горячую мамину ладонь, рассказывал о своих делах: как сдаю зачеты, каких экзаменов больше всего опасаюсь. Я старался не смотреть ей в глаза. Она же смотрела на меня непрерывно, смотрела так, как во время всех моих прошлых посещений: она несмотря ни на что, прощалась, все время прощалась, и взгляд ее ощущался всей кожей — она впитывала меня, чтобы сохранить мой образ потом.
— Они сказали, что выпишут меня, — говорила мама, — я буду дома. Будет приходить сестра. Будет колоть. Но я просила, чтобы после Нового года — тогда ты будешь в учебном отпуске, и это будет удобнее.
— Хорошо, мама, — согласился я.
Слово «будет» она произносила с нажимом, но и ей, и мне хотелось вернуться далеко назад, вырваться из палаты, из больницы, промчаться над замерзшей рекой, над сугробами, разорвать цепь дней, по-новому соединить рассыпавшиеся звенья, выкинуть покореженные. И я, в который раз, хотел поцеловать ее руку и сказать, как хотел сделать это, когда она еще была дома. «Я обманываю тебя, обманывал и обманываю. Прости, я не мог сказать этого раньше…», но только целовал и прижимался лбом. Я молчал, а мама расспрашивала меня о друзьях, придуманных мною, о подругах, тоже придуманных, о невиденных фильмах и о несделанном.
В палате все было с «НЕ». «Не» — распространялось отсюда, я уносил его с собой, нес к троллейбусной остановке, вносил в троллейбус, вез по узким улицам, застроенным пятиэтажными домами, пытался хоть расколоть его на маленькие незначащие «не», но «НЕ» не кололось — оно обтачивалось на теперь уже бывшем моем станке и от этого становилось еще больше, а мама говорила, чтобы я одевался теплее.
VII
Мы выпили не так чтобы очень, но прилично. Кузнец раскис, клял всех и вся, горстями поедал маслины, короткими очередями выплевывал косточки в соусник. Электрик сидел, сложив руки на животе, вертел пальцами, подзуживал кузнеца.
— Все равно ты первый на очереди, — говорил он с ухмылкой, как только кузнец мало-помалу затихал, — выгонят тебя к едрене-фене и правильно сделают, — он подмигивал мне. — Будете вдвоем назад проситься, а вам — шиш! — и он показывал сначала мне, потом кузнецу кукиш.
— Еще по горячему? — спросил я кузнеца.
— Заказывай, заказывай, чего спрашиваешь? — обиделся электрик.
Я подозвал официанта, попросил повторить, потом поднялся. Кузнец схватил меня за рукав:
— Слинять хочешь?
— Да я вернусь…
— Давай четвертной, тогда иди.
Я вырвался, спустился вниз. В вестибюле детина-швейцар показывал карточные фокусы двум милиционерам в новеньких тулупах.
— Во! Привет! — крикнул он. — Хорошо, что тебя увидел. Меня просили тут, сделать там, как его…
— Заходи, заходи, — я снял трубку автомата, — сделаем…
Телефон долго не отвечал. Наконец девушка сняла трубку. Я назвался.
— Я думала, вы раньше позвоните… — сказала она.
— Может, мы встретимся? — предложил я.
— Мне никуда не хочется идти…
— А мы никуда не пойдем. Прокатимся. Прогуляемся…
— Сейчас я занята, — она растягивала слова, будто нежилась на мягком диване, — но через некоторое время освобожусь…
— Это через сколько?
— Через час…
— Хорошо, я позвоню через час…
Я взял свою куртку, попросил швейцара передать десятку моим ребятам, попрощался и вышел из ресторана. Мела поземка, редкие прохожие скользили по тротуарам. Появление нежданной-негаданной мысли, будто лучше не затевать угона вообще, а сейчас, в частности, я объяснил тем, что еще рано, что я недостаточно принял для храбрости, что сегодня просто неудачный день. Изгоняя эту мысль, я походил по переулкам. С каждым вдохом-выдохом алкоголь из меня улетучивался, становилось холоднее — я застегнул пояс и поднял воротник, голова прояснилась, на меня неожиданно напала зевота. Через некоторое время я уже по-настоящему боялся, но, тем не менее, продолжал петлять возле стоянок у больших домов, как бы развлекаясь, продолжал похлопывать по капотам, ища тепленькую.
От первой подходящей меня отпугнул человек, прогуливающий пуделя. Во вторую я влез и только тогда обнаружил запор на руле. В третьей не оказалось бензина. Я начал уже подумывать насчет такси, но тут нашлось то, что нужно: «жигуленок», аккуратненький такой, темно-синий.
Чуть-чуть повозившись, я открыл дверцу и так быстро завел его напрямую, словно выполнял норматив на скорость. Я включил радио, закурил беломорину владельца и помчался на свидание.
VIII
Быть может из-за судорожного вдыхания морозного воздуха и из-за боязни попасться, я потерял счет времени и когда позвонил девушке, то оказалось, что прошел уже не час, а почти два. Она вычитала мне за опоздание, но тем не менее спустилась вниз и вышла из подъезда.
— Раз уж вы так опоздали, — сказала она, усаживаясь в машину, подбирая полу дубленки и захлопывая дверцу, — катания отменяются!
— Что же мы тогда будем делать? — поинтересовался я.
— Вы угостите меня сигаретой, мы посидим, покурим, и я пойду домой, — заявила она не терпящим возражений тоном и доверительно добавила: — А то мне дома, черти, не дают нормально покурить!
«Ничего себе! — подумал я. — Неплохой курительный салончик!».
Я похлопал по карманам куртки и обнаружил, что потерял сигареты. Тогда я воткнул скорость и рванул с места: сначала одним боком, потом другим, потом строго вперед, затем опять боками, то левым, то правым.
— Куда это вы? — спросила она, но не сразу. — И машина у вас вчера была другая…
— Моя сломалась, кардан полетел. За ним — подшипники и все остальное. Теперь они в Африке, зимуют. Эта — приятеля. И вообще, давай на «ты»! — перебил я.
— Хорошо… Так. Куда это ты?
— За сигаретами.
— В полдвенадцатого? Уж лучше стрельнем…
— А я знаю место, здесь недалеко…
Я действительно знал такое место — ресторан при гостинице, шеф-повар которого ремонтировался у нас, а мы с ребятами, в свою очередь, покучивали у него. Чтобы побыстрее доехать до этой гостиницы, надо было по освещенной редкими фонарями длинной улице-аллее пересечь парк, и я погнал к ней и по ней, по пути развивая знакомство. Я задавал обычные в таких случаях вопросы, получая на них, в общем-то, обычные ответы. Она училась в институте, жила с мамой-папой, не любила мужа старшей сестры, нытиков, зануд, ранних вставаний. Меня уж стала знакомить с тем, что она любит, уже в конце аллеи слабой полоской завиднелась надпись на фасаде гостиницы, как вдруг она дико взвизгнула:
— Человек!
Я резко затормозил, машину занесло, она развернулась, ударилась о сугроб и остановилась. Мотор заглох. Я посмотрел на дорогу: разбросав ноги, он лежал на самой границе овального пятна от фонаря, рядом с ним бликовала бутылка. Если б не ее крик, если б она не заметила его, я бы так и поехал дальше.
— Мы его переехали, — прошептала она сквозь пальцы.
— Ну-ка, выпусти, — подтолкнул я ее в плечо.
— Поехали отсюда, — попросила она.
— Что? Тебе говорят — выпусти! — крикнул я.
Она засуетилась, ударилась коленками о косячок.
— А теперь садись обратно, — вновь подтолкнул я, когда мы оба оказались снаружи, — Я сам! — и, с трудом передвигая ватные ноги, неотрывно глядя на распластанное тело, я двинулся вперед. Сзади послышался стук каблучков — она все-таки догнала меня и пошла рядом. Я не цыкнул на нее, не отправил обратно в машину.
— Откуда он взялся? — спросил я через плечо. — Ведь кругом парк…
Она остановилась за несколько шагов, и к человеку я нагнулся один. На нем был драный ватник, брезентовые штаны, резиновые сапоги, шапка-ушанка была надвинута на лицо. Один рукав тянулся к бутылке, другой был подвернут под спину. Асфальт под ним был чист, и никаких следов наезда видно не было. Из-под края шапки виднелась, как мне показалось, бледно-серая полоска кожи. Двумя пальцами я приподнял шапку, и на меня уставились нарисованные на грязной плотной марле глаза с длинными ресницами. Это была кукла.
— Это кук… — я поперхнулся. — Это кукла!.. — крикнул я девушке. Меня прошиб пот, сразу стало холодно, аж зубы застучали. Я поддел куклу ногой, и она отлетела на обочину.
— Вот ведь сволочи, — сказал я, подходя к ней, — вот ведь гады!..
Она схватила меня за руку и кивком указала на что-то за моей спиной. Обернувшись, я увидел под козырьком обложенной сугробами автобусной остановки небольшую компанию: выставив на безжизненный свет головы в вязанных шапочках, они спокойно наблюдали за нами. «Сбегать за монтировкой?» — подумал я, словно ехал на своей машине, а потом понял, что лучше как можно скорее уехать.
Меня прошиб озноб, всего колотило, я никак не мог пролезть на место водителя, а тут еще она, таким тоном, словно разбила чью-то любимую чашку, начала:
— Прости меня, пожалуйста, но мне показалось, что если мы уедем…
Тут меня прорвало. Сам не знаю, что на меня нашло:
— Заткнись, заткнись, заткнись! — и я, вцепившись в руль, въехал в него лицом, закрыл глаза, с наслаждением выругался.
Хлопнула дверца, и, открыв глаза, я увидел: она сначала торопливо, а потом медленнее пошла от машины. Я нажал на сигнал — она остановилась, я нажал еще раз — она обернулась. Я наклонился, открыл ей дверцу и стал заводить машину. Она подошла, села на место и, посмотрев на мои манипуляции с проводами, спросила:
— Тебе приятель не оставил ключей?
— Забыл он, забыл… Уехал, понимаешь, говорит: пользуйся! А ключей не оставил. Вот я и пользуюсь…
Она вытащила из кармана дубленки пачку сигарет.
— И мне прикури, — попросил я.
Она протянула мне сигарету. Фильтр имел вкус помады.
IX
Я купил через знакомого официанта сигареты, бутылку вина, апельсины, коробку конфет, а при выходе из уже пустого, полутемного зала прихватил с собой два липковатых бокала.
Мы заехали в парк, перебрались на заднее сиденье.
— Мне чуть-чуть, на самое донышко, — сказала она.
— На донышко, так на донышко, — согласился я, а потом налил себе полный и выпил залпом.
— Ты же за рулем!
— Нет, уже не за рулем, — возразил я, наполняя свой бокал. — Твое здоровье!
Мы чокнулись. Она отпила и скривилась.
— Какая дрянь!
— Конечно, дрянь! — подтвердил я. — Это слив…
— Слив?
— Ну — слив… Сливают из разных бутылок, из недопитых бокалов, из этих самых… Сто очков любому коктейлю… Смотри — апельсинчик, — я достал из пакета апельсин, а потом коробку конфет, — и вот — конфеты…
Она рассмеялась и отпила еще. Сегодня она была другая: чувствовалось, что она готовилась к этой встрече.
— Не боишься, что тебя остановят, лишат прав? — поинтересовалась она.
— У меня их нет…
— Совсем?
— Ну, кой-какие, наверное, еще есть… А на машину вот нет…
— А как же ты ездишь? — она отдала мне половину апельсина.
— Как видишь… Быстро… Ты, помнится, начала говорить о том, что ты любишь. Так что ты любишь?
— Ну… Ну, когда что-нибудь случится, что-то происходит… Когда живется… Сегодня вот — живется… — Она достала сигареты. — Дать тебе?
— Прикури…
— Зачем? — она улыбнулась.
— У тебя помада вкусная…
— Смешной ты, — она прикурила мне сигарету. — Ты вообще кто?
— Я — это я!..
Мне стало завидно. Я съел еще одну конфету, взял дольку апельсина.
— И все? — спросил я, на нее не глядя.
— Мало?
— Много, слишком много…
— Теперь ты попробуй…
— Я так сразу не могу… Надо подготовиться, — я налил и выпил. То, что мы пили, действительно было дрянью. Я открыл окошко, выбросил в него пустую бутылку, свой бокал, она протянула мне свой — я выбросил и его, повернулся к ней и поцеловал. Она вздохнула.
— Я приставала, да? — спросил я.
— Нет… — Она обняла меня за шею, и мы опять поцеловались.
— Там что-то горит, — сказала она.
Я посмотрел: сквозь запотевшее стекло были видны оранжевые блики на стволах.
— Помойка горит. У ресторана.
— Откуда ты знаешь? Может, не помойка…
— Она. Она у них часто горит…
В машине было тепло и уютно. Мы поцеловались.
— Отвези меня домой, — попросила она шепотом, — мне пора.
До ее дома я доехал неуверенно, ощущая легкое покалывание под сердцем. Мы выкурили еще по одной сигарете.
— Вот это да!.. — сказала она.
— Что «да»?
— Неожиданно все как-то…
Я вышел из машины, плавно обошел ее, открыл дверцу и, сама галантность, подал ей руку, но она, как только ступила на заледенелый асфальт, вскрикнула: мало того, что отломился каблук, — она, морщась от боли, повисла у меня на плече.
— Я подвернула ногу!.. Так больно…
Я подхватил ее на руки, понес к дверям подъезда, оставив «жигуленок» махать дворниками, понес, напрягая силы, целуя в прогалинку между завитками шарфа, и она, чуть свесившись с моих рук, перегнувшись, скользя пальцами по лакированной ручке, открыла дверь. Мы вошли, вернее — вошел я, в теплый подъезд большого дома, где — чувствовалось сразу — живут люди с достатком, и пошли к лифту и, дождавшись его, поехали, а она шептала мне на ухо:
— Отпусти меня, я же могу стоять…
Мы вышли на ее лестничную площадку, и она, уютно лежа у меня на руках, долго рылась в сумочке и, наконец, сказала обиженно:
— Я потеряла ключи…
Я осторожно поставил ее. Одной рукой она держалась за стенку, другой за меня.
— Позвони мне, — сказала она. — Завтра. Слышишь? Не пропадай, — она посмотрела в пол, — это будет… нечестно… Давай уезжай…
Я двинулся к лифту, она потянулась к кнопке звонка, но, дверь квартиры уже открывалась: на пороге стоял ее отец, мой бывший начальник «Автосервиса», в малиновой с черными кистями, пижамной куртке, в шейном платке, весь в беспокойстве и негодовании.
— Папа! — сказала она. — Вы очень волновались? — а папа-директор, директор-папа, увидев меня, меня, в оцепенении стоящего перед раздвинувшимися створками лифта, поднял брови, как-то кудахтнул, вдернул ее в квартиру, из которой уже выплывало нечто розовое, в газовой косынке на ребристой от бигудей голове, также с поднятыми бровями и кудахтанием, и шагнул ко мне. Но оцепенение уже прошло — я впрыгнул в лифт, нажал кнопку «первый этаж»…
На улице мягко падал снег, опушал «жигуленка». Мне дико захотелось спать и, в который раз решив: «Будь, что будет!», я поехал домой на нем. Счистив зубами кожуру, я съел апельсин, запихал в рот горсть конфет.
Дома мне до зуда захотелось кому-нибудь позвонить. Я отключил телефон, запихнул его на антресоль, выпил холодного чая, взял старый журнал, лег на диван и заснул с журналом на груди.
X
Осознание того, что спешить мне теперь некуда, далось на удивление легко. Был, правда, момент, почти что сразу после пробуждения, когда я, баюкая затекшую руку, изгонял из нее тупые иголочки, прошелестел босыми ногами туда-сюда по квартире, испуганно соображая: почему уже совсем рассвело, а я еще не у станка.
Я съел глазунью, включил телефон и телевизор, перетащил их в ванную, где, залезши в горячую воду, прочитал газету от передовицы до сводки погоды: обещали оттепель и гололедицу. Судя по газете, в мире шла борьба между гармонией и хаосом, и я, отставив руку с потухшей сигаретой, поглядывая на телеэкран, попытался прикинуть — на чьей же стороне я сам и что мне ближе.
Я прибавил горячей воды и набрал девушкин номер. Вдоволь наслушавшись длинных гудков, я досмотрел «В мире животных», постоял под душем, надел халат и вышел из ванной.
Деньги у меня хранились в книгах «Банкир», «Магнат» и «Остров сокровищ». Я вынул книги с полок, потряс над столом, добавил к образовавшейся кучке те, что выгреб из карманов. Ожидая большего, я был разочарован — денег оказалось не так уж много. Я подумал про свое недалекое будущее, и оно представилось мне еще более зыбким, еще более неутешительным, чем обычно. Во всем его туманном просторе должна быть хоть одна надежная вешка, — разделив деньги на две неравные части, большую я решил положить на сберкнижку…
Я вышел из сберкассы, совершенно непроизвольно подумал о пиве. Не спеша приближаясь к магазину, я уверял себя, что с гудежами, большими и малыми, покончено и пара бутылок пива только укрепит мою решимость. Тут я натолкнулся на «жигуленка». Он тихо-мирно стоял у тротуара, всеми покинутый, глубоко несчастный, потерявший свои дворники, стоял без толку и слабо светя подфарниками в промозглый декабрьский день. Я, как бы от нечего делать, остановился, покуривая, подле него и в апельсиновой кожуре на заднем сиденье увидел ключи директорской дочки на брелке в форме крохотной лиры. Я огляделся, быстро открыл дверь, схватил ключи и пошел прочь.
Стоя в очереди, прикидывая, какой сегодня день и какое число, и сколько, собственно, осталось до Нового года, я заметил Джона, выходящего из подсобки.
Почему Джона звали Джоном, точно не знал никто: просто он был Джоном, всегда был Джоном. И в школьные времена, и в послешкольные, и вплоть до последнего времени, и сейчас, все звали его так, разве что мать, тихая дворничиха с глазами, казавшимися бесцветными на очень смуглом лице, говорила ему «сын» или же, с укоризной, «сыно-ок». Наверное, Джоново настоящее имя знали только бумажки, вроде аттестата за восьмилетку, да сначала в детской милиции, а потом, как уж водится, и во всем отделении, сверху донизу — от начальника до самого распоследнего сержанта, да, наверное, не только в нашем: Джонова слава была велика.
Джон несколько раз вроде бы приседал, но по мелочи, а по его спокойной, полупрезрительной улыбке, которой он одаривал запихивающих его в «воронок» милиционеров и, для порядка, подкручивающих его сильные, тонкие в запястьях руки, можно было подумать, будто увозят его, чтобы в официальной обстановке вручить медаль, и сопротивляется он от врожденной скромности. Вот и теперь он выходил из подсобки винного отдела спокойный и гордый, на лице его, смуглом, нежном, почти что девичьем, сияли ярко-голубые — в мать — глаза, словно и там, в подсобке, он получил грамоту или, на худой конец, переходящий кубок.
С Джоном у меня когда-то были «дела»: «на заре туманной юности» в его подвальной каморке-складе разбирались угнанные мотоциклы, и однажды там был разобран угнанный непосредственно мною «Ковровец».
Джон увидел меня, заулыбался, подошел ко мне с протянутой рукой. Улыбка его была так отработана, словно он подолгу тренировался перед зеркалом, а рукопожатие — сдавление, встрях, сдавление — было так четко, словно был Джон не сантехником в нашем ЖЭКе, а сменным встречающим и провожающим делегации.
— Что же ты здесь стоишь? — спросил Джон, не отнимая руки, с таким выражением, будто тем, что стою в очереди, я оскорбляю не только свое собственное достоинство, но и достоинство Джона. — Пойдем! Рыжий все сделает, все сделает быстро! — и он вынул меня из очереди, поддерживая под локоть, провел в подсобку, где хмурый Рыжий, в сером халате прямо на голое матовое, как бы восковое тело, действительно все сделал быстро: с двумя бутылками пива, все так же поддерживаемый Джоном, я вышел из подсобки.
Мы затоптались у магазина, на узком тротуарчике. Вместо того, чтобы сразу сказать Джону: «Спасибо, пока!», я угостил его сигаретой.
— Хорошие ты куришь, — сказал он, выколупывая сигарету из пачки, — где достал? — и, не дожидаясь ответа, вдруг предложил: — Чего здесь стоять? Пойдем, посидим в комнате…
Комнатой оказался кабинет директора, который Джон открыл своим ключом и сразу сел в кожаное кресло, закурил мою сигарету, посыпая пеплом пол: выходило — он был здесь хозяином. Стены кабинета были увешаны календарями за долгие годы с японскими гейшами, вымпелами за ударный труд, противопожарными инструкциями. В углу, между сейфом и сломанным селектором, стоял включенный телевизор, и на экране было видно, как в торговом зале дают колбасу.
Джон что-то рассказывал про деда в нашем ЖЭКе, многозначительно мне улыбаясь, как человеку понимающему, способному за недомолвками обнаружить главное. А я, поймавший его волну, улыбался в ответ, и мы составляли идеальную пару тонко улыбающихся людей. Наши улыбки не гасли, даже когда мы пили пиво: они, наоборот, казались шире через призму стаканов и только дробились по вине граней на маленькие улыбочки.
Так могло продолжаться до бесконечности — до тех пор, пока не кончится пиво, — но я вдруг понял, что Джон о чем-то меня спрашивает.
— Чего-чего? — переспросил я.
— Я говорю — деньги у тебя есть?
— Деньги? Еще хочешь? Я лично — пас…
— Я не про такие, — он погладил чисто выбритый подбородок, — я — про большие.
— Про большие?
Он кивнул. Я пожал плечами.
— А сколько надо?
— Надо-то много. Отдачу гарантирую, мое слово. И процент будет. Не пожалеешь: двести процентов…
Я помолчал:
— Рублей четыреста есть…
— Это не очень…
— Чего — «не очень»? Много или мало?
— Много, — он вертел стакан и улыбался теперь уже стакану.
— Больше нет…
— Больше не накопил? Не захотел? Или не дали?
— Уж сколько есть… Да я и не работаю уже там. Все. Уволился.
— Уволился? Ну ты даешь! Значит, решил подняться с золотого дна? И свободен сейчас?
— Как сказать, — проговорил я, пытаясь понять, к чему он клонит. — Мать в больнице…
Джон допил остатки пива, облизнулся, со стуком поставил стакан на стол.
— Парень нужен. Понимаешь, нужен хороший парень, а если с деньгами, даже такими, как твои, то очень нужен, — сказал он серьезно.
— Зачем?
Он заулыбался вновь:
— За цветочками съездить. Туда и обратно, Со мной и еще с одним. Быстро. До Нового года. И,вместо, — он накрыл стакан рукой, — четырех сотен — две косых. Мое слово.
— За какими цветочками?
— За разными… Твое дело только грузить и вопросов не задавать…
— Куда? — улыбаясь, спросил я.
— Недалеко, — его улыбка стала еще шире.
— Поехали… — согласился я, мы хлопнули по рукам и рассмеялись.
Джон начал сразу же куда-то названивать, кого-то разыскивать, я смотрел в телевизор — колбаса кончалась, народ мельтешил — и думал, что влез туда, куда влезать было не нужно: ясно было, хотя бы по зрачкам выпуклых Джоновых глаз, что это за цветочки, что за ягодки будут потом. Через телевизор я смотрел на торговый зал, прислушивался к Джоновым «Алё!» и к диалогу, развертывающемуся у меня внутри: «Еще не поздно соскочить!» — говорил некто осторожный, а ему отвечал другой, плюющий на все: «Ничего, ничего, почему бы не съездить? Подумаешь…». — «Надо соскочить! — советовал осторожный. — Смотри…», а другой, как бы делая успокаивающий жест ладонью, возражал: «Не на что смотреть! Чепуха, плевое дело. Чем эти цветочки плохи? Соскочить всегда успеешь!» — и я задавил осторожного.
— Вот именно, — сказал я.
— Что-что? — переспросил Джон.
— Ничего, — я вытянул из пачки сигарету. — Это я так…
Третьим оказался коренастый мордатый тип. Мы с Джоном порядком намерзлись, дожидаясь его неподалеку от автобусной остановки, у газетного ларька. Тип подъехал на такси и подошел к нам, оставив машину дожидаться.
— Этот, что ли? — спросил он у Джона, указывая на меня пальцем.
— Этот, — кивнул Джон.
— Толик, — представился тип, услышав мое имя — кивнул, отчего мохнатая шапка налезла ему на глаза, а отвисшие брови, в мелкой сосудистой сеточке, болтнулись.
— Ладно, этот сойдет, — сказал он, и на меня пахнуло томатным соусом. — Он тебе все рассказал? — кивнул он на Джона.
— Наверное…
— Ну, и хорошо. У тебя четыре?
— Да, но я могу больше…
— Сколько?
— Ну, тыщу…
— Давай. Не боись, они вернутся. От тебя главное — это грузить. Парень ты здоровый, не надорвешься. Не надорвешься?
— Не надорвусь.
— Ну, и хорошо. Значит, сегодня. Поезд отходит в 22–53. У третьего вагона за десять минут. Да он, — тип хлопнул Джона по плечу, — тебя доставит. До вечера, ребятки, — он еще раз кивнул, шапка почти полностью закрыла ему глаза, и вот так, кажется, практически на ощупь, он добрался до своего такси, уселся и укатил.
Я посмотрел на Джона. Тот горделиво улыбался: «Вот, мол, каких я людей знаю, да и дела с ними веду!».
— Суровый какой Толик… — сказал я.
— Но справедливый, — Джон погладил рукав моей куртки, — его надо слушаться.
— Послушаемся. Как-нибудь потерпим.
Джон со своим фанерным чемоданчиком отправился дорабатывать смену, а я перешел через улицу и вошел в сберкассу.
Дома я отложил цветочную тысячу, прибавил к ней немного на всякий случай, а оставшиеся деньги, — оставалось совсем чуть-чуть, — вновь разложил по книгам. Потом я вытер пыль, сварил суп из пакета, съел его, собрал сумку и поехал к маме.
XI
Маминой соседки по палате опять не оказалось на месте.
— За сапогами дочке поехала, — сказала мама. — Я просила ее, если будет покупать и зятю, чтобы она имела тебя в виду…
— Но… — начал было я, но мама перебила:
— Пусть будут. Про запас. На твои уже смотреть страшно.
— Хорошо, хорошо, — согласился я и выложил на столик у ее кровати апельсины и урюк. — Ешь, — сказал я, — урюк мытый…
— Ты ничего не прогуливаешь? — спросила мама. — Сейчас же у тебя такое время… Смотри!..
— Да нет, сейчас еще ничего. Боюсь только, что я дня три не смогу приходить. Там один зачет…
— Опять запустил что-нибудь? Ну, сколько раз я тебе говорила, ну, сколько раз…
— Да я не запускал ничего, просто много надо подчитать… К тому же — конспекты: у меня, как всегда, ничего не разберешь… Да и у других тоже. Получилось — один настоящий конспект на десять человек… Так что придется днем и ночью… Все будем собираться… И читать… — я замолчал и съел урюк, а потом — этаким бодрячком:
— Ну, а как твои дела?
Мама посмотрела на меня долгим взглядом, я почувствовал, что вот сейчас она задаст мне какой-то такой вопрос, на который ответить я не смогу, покраснею, что я еще не разучился делать, и она сразу меня раскусит, разоблачит все мои ухищрения, и я, лишь бы успеть, начну говорить маме правду, торопливо, чтобы она подумала, будто сам я решился на это, а не ее вопрос, не ее взгляд заставили меня расколоться, но она погладила меня по щеке и уронила руку на одеяло.
— Анализы хорошие, — сказала она. — Мне сказали, что могут отпустить домой до Нового года, но я думаю, что после будет удобнее. Как ты думаешь?
— Что значит «удобнее»? Как тебе лучше — вот что важно… Я поговорю с врачом…
— После, я думаю, будет удобнее. А впрочем — поговори, — она взяла апельсин, надорвала кожуру. — Съешь апельсинчик…
— Спасибо, не хочется…
— Кстати, — сказала мама, — соседка купила прекрасные рубашки на Ленинском. Заезжай, тебе же надо…
— Хорошо. Заеду…
За окном палаты быстро стемнело, и мы с мамой посидели не зажигая света. Потом я поцеловал ее и вышел в больничный коридор. Сестра раскладывала лекарства в ячеистый ящик, один из светильников мигал и гудел. Внизу, возле раздевалки, я увидел маминого лечащего врача, который, упрятав руки в карманы халата, разговаривал с мужчиной в дубленке. Мужчина что-то объяснял врачу, а врач, судя по скептической улыбке, не соглашался. Он увидел меня и кивнул в знак приветствия.
— Анализы лучше, — сказал он, когда я подошел к нему, — есть положительная динамика…
И добавил:
— Будем выписывать…
XII
Когда я встретился с Джоном, он был уже хорош, и не просто улыбался, а все время подхихикивал с таким видом, словно ему недавно рассказали смешной анекдот и теперь он хочет его пересказать, но забыл, как анекдот начинается. Толик с билетами опаздывал, и нам пришлось прождать его почти до самого отправления. Наконец он явился, удостоил нас рукопожатием, мы вошли в вагон, и поезд тронулся.
В купе оказался и четвертый — командированный, полный человек с потертым портфелем. Командированный достал из портфеля гигантских размеров бутерброд и начал его поедать, распространяя запах дальних странствий. Плюясь крошками, он поведал, что он ревизор и командировки — это его стихия.
— Вы тоже в командировку? — поинтересовался он.
— А то как же! — буркнул Толик. — Наладчики мы… — и достал из сумки курицу в синей бумаге.
— Сбегай в ресторан, — сказал Толик мне. — Продрог я за сегодня…
К моему приходу Толик с командированным прямо-таки подружились, травили друг другу байки. Джон спал на верхней полке, время от времени с тихим стоном свешивая плоскую ступню в полуслезшем носке.
— А стаканчик? — спросил Толик, как только я выставил купленное.
Я принес стаканы, и мы выпили. Тут я почувствовал, что дико устал и мне не мешало бы по примеру Джона завалиться спать, однако Толик достал карты.
— В сичку по гривенничку без потолочка? — предложил он.
— Лучше в «Ленинград», — сказал командированный, наливая себе и выпивая.
— Чевой-то? — не понял Толик.
— Я говорю — в преферанс…
— Ну, это долго и думать надо! А тут — есть карта — хорошо, прошелся, нету — зарыл, и выигрыш сразу… Я сдаю, — Толик не давал нам опомниться, — шохи — черные шестерки, шоха к рамкам идет… Сними, — и он протянул мне колоду.
— Позво-ольте! — возвысил командированный голос и снял сам.
Тут дверь купе отъехала, и появилась рука проводницы с подносом, уставленным стаканами с чаем.
— В купе не курить! — бросила она, сверкая фиксами.
Через каких-либо полчаса командированный и я выиграли рублей по двадцать каждый.
— Ну, Люсек! — приговаривал Толик. — Ну, и верная же ты, прямо не верится…
Еще через полчаса Толиков «Люсек» по-прежнему хранил верность: я выиграл около пятидесяти, командированный — около тридцати, но неожиданно «Люсек» передумал: с тузом, королем.
— Да-да, четыре девяносто, — согласился Толик, — а с тебя, с тебя…
Я достал свои деньги и отдал их Толику.
— Остальное за мной, — сказал я.
— Надо бы датьотыграться, — нахмурился командированный, — молодому человеку — в особенности…
— О чем речь! Прошу…
— Я, пожалуй, посплю, — сказал я.
— Спи, спи, — закивал Толик, — мы еще завтра сыграем… А вы как?
— А я буду отыгрываться, — и командированный начал раздавать.
— Эх, Люсек, — сказал Толик, — только я за порог, как ты все-таки загуляла! Нехорошо…
Покурив в тамбуре, я вернулся в купе, выпил давно остывший переслащенный чай, разделся, залез на верхнюю полку.
Меня знобило, я никак не мог согреться, даже вновь надетый свитер не помогал. Поезд шел рывками, а когда останавливался, то напротив окна оказывался или гудящий тепловоз или исступленный человек с кувалдой, ночной забиватель пропущенных путеукладчиками костылей, после каждого удара матерно с кем-то перекликающийся. Наконец, мне удалось погрузиться в какой-то странный, слишком реальный сон: в этом сне мне приснилась больница.
Мама лежала на своей койке, я сидел рядом на стуле, а на соседней койке маленькая женщина с тяжелыми руками, со съехавшими чуть набок пучком перекрашенных хной тонких волос и внимательно разглядывала меня.
— Твой сын? — спрашивала она у мамы.
— Мой, — отвечала мама, и я чувствовал, как мамины пальцы находят мою руку. Мама улыбнулась. Я собрался с духом и сказал:
— Я тебя обманывал, мама. И обманываю…
— Я знаю, — просто ответила она. — Ничего! Be будет хорошо, после Нового года мы будем вместе, будет приходить сестра, будет колоть…
Я хотел было наклониться к ней, поцеловать, но она оттолкнула меня: давай-давай, иди! Я повернулся к соседке, как бы ища у нее поддержки, но та разворачивала сверток, вынимала из него яркую куртку и говорила, глядя в пол:
— Я без очереди взяла. Просто подошла к секции, мимо очереди, и вошла… Мне вслед кричат, а я иду… Примерь-ка, примерь…
Я пытался отказаться, отпихнуть от себя куртку, но мне никак не удавалось, куртка упала мне на лицо, я начал куда-то проваливаться, задыхаться.
XIII
— Давай вставай, — Толик тряс меня за плечо. — Через десять минут наша станция…
Мы высадились на скользкую платформу, прошли насквозь здание вокзала, где уже просыпались спящие на чемоданах, сели в такси и доехали до гостиницы.
— Что это за город? — спросил я.
Толик ответил.
— Ага… — сказал я.
Нам был, оказывается, забронирован номер. В номере был оставлен я — Толик с квелым Джоном сразу куда-то ушли. Мне очень хотелось спать: и день был из разряда тех, в которые даже если накануне не было особенной гульбы, я обычно вызывал соседа-врача, и ночь в купе, и карты. Я сбросил снегоходы, повалился на застеленную жестким покрывалом гостиничную койку, но вот заснуть у меня никак не получалось. Более того — лишь только я закрывал глаза, как всего меня начинало крутить-вертеть, под веками словно вспыхивали одна за другой яркие звездочки, и все хотелось сжаться в комок, подтянуть колени к подбородку, сжать пятки руками.
Я открыл глаза и увидел перед собой стену: ее недавно красили масляной краской, красили наспех, халтурно, на стене из бугорков-неровностей торчали потерянные кистью волоски. Совершенно бездумно я начал выдергивать волоски один за одним и так увлекся, что Джона, тихонько вернувшегося в номер с бутылкой портвейна, услышал, когда он начал разливать портвейн по стаканам: один глаз у Джона был заплывший — этот-то глаз я сразу и увидел, как только обернулся на звук.
— Где это тебя? — спросил я.
— Дверью, дверью-вертушкой, здесь, внизу. — Джон протянул мне стакан. — Пей!
— Нет, я не буду. Ты сам пей…
Я лег на спину, заложил руки за голову и стал наблюдать как Джон поглощает портвейн. Первый стакан, особенно первые глотки, шел как лекарство: Джон примеривался, морщился, потом, скривившись, начал пить, а потом лицо его разгладилось, он поставил стакан, выдохнул, взялся за второй, одновременно запихивая в рот папироску.
— Ты часто сюда ездишь? — спросил я.
Добреющий Джон кивнул.
— Часто, — ответил он, — особенно — к праздникам, — он отпустил стакан, чиркнул спичкой, сделал три быстрых, с присвистом затяжки, послюнив палец, потушил папиросу. — А что?
— Просто…
Тут в номер влетел Толик, сел к столу, схватил телефонную трубку, начал вертеть диск. Уже через пару мгновений Толик с кем-то ругался, плотно прижимая телефонной трубкой свое то одно, то другое пельменеобразное ухо.
— Милочка, — сказал он в трубку, — я ведь приехал, как договаривались. Мы договаривались? Ну вот — договаривались… Я потратился? Потратился… А у тебя ничего не готово… Так, милочка, не ходят, так нельзя, совсем так нельзя…
Я встал и вышел в ванную. Когда я вернулся, то Толик с Джоном сидели друг напротив друга и оба неотрывно смотрели на телефон.
— Ну, что? — спросил я, растираясь гостиничным полотенцем. — Где цветочки, что грузить?
— Не квакай! — Толик наклонился и застегнул молнии на сапогах. — Будет тебе что грузить. Нагрузишься еще. Давай одевайся, съездим…
Пока мы с Джоном сидели в буфете на этаже, Толик еще куда-то бегал.
— Джон, — сказал я, — мне все это не нравится. Чего он так выпендривается?
— Чего-чего?
— А! — я ткнул сосиской в горчицу. — Чего ты перед ним на пузе ползаешь? За что он тебе звезданул?
— Я тебе сказал: дверь! Дверь это была…
— Ну, дверь, дверь, ладно… Только…
— Ты сколько ему проиграл?
— Много…
— А не больше?
— Ну, немного больше. Чепуха!
— Отыграться небось хочешь? — Джон впервые за долгое время улыбнулся.
— Посмотрим, не знаю еще… Я ведь не игрок…
— Ладно, рассказывай, — Джон отодвинул от себя нетронутую сосиску и, морщась, начал растирать колени.
— Слушай, — я наклонился над столом, — мне все равно, но за ваши цветочки надо бы платить не двести процентов, а побольше…
— А откуда ты знаешь, какие они?
— По тебе вижу…
— Ты лучше-то глазки зажмурь, — Джон наклонился мне навстречу, — и язычок придержи…
— У-тю-тю, — покачал я головой, но тут появился Толик, мы спустились вниз, сели в ждавшее нас такси и поехали.
Мне теперь действительно здорово не нравилась эта история, в которую я сам с такой готовностью влез. Меня куда-то везли по улицам незнакомого города, а я сидел и думал, что неужели эти две тысячи, эти две, не более, чем материализовавшийся хруст, подлые тысячи так уж нужны мне, когда я, как себя ни уговаривал, не смог потратить ни на что, кроме гудежей и сопутствующего, свои прежние навары и даже фрукты с рынка для мамы покупал на деньги, полученные только через кассу. Потом я подумал, что был идиотом, раз так поступал, и если бы я с умом относился к деньгам, то наверняка мне не пришлось бы связываться с этой компанией. Толик словно прочитал мои мысли:
— Что голову повесил? — обернулся он с переднего сиденья. — Разонравилось быть… наладчиком? Захотел небось без мук? Без мук только кошки…
— А он все думает — откуда что, — тоном ябеды заговорил Джон, — проценты считает…
— Да? — Толик явно заинтересовался. — Что мыслями не поделишься?
Я почувствовал на себе взгляд таксиста. Взгляд был нехороший.
— Утютюкает, — продолжал Джон, — вопросы задает…
— Да, ладно, хватит понтяру гнать! — повернулся я к Джону. Тот захихикал, а Толик, отворачиваясь, буркнул:
— Тихо-тихо, орлы!
Машина свернула с как будто нескончаемого широченного проспекта и оказалась на улице, петлявшей среди глухих заборов.
— Здесь где-то, — сказал Толик. — Да, здесь, здесь, тормози, командир! — И, не подумав расплатиться, Толик открыл свою дверцу. — Через час, — сказал он таксисту.
Мы с Джоном тоже вышли, а такси, буксуя и ломая лед в лужах, развернулось и исчезло в густеющем сумраке.
— Ну, заехали, — сказал Джон, хлюпая носом. — Без тебя, Толь, мы уж не выберемся…
— Это точно, — Толик нажал кнопку звонка на столбе ворот, — вы без меня теперь — дети малые…
В воротах приоткрылась небольшая дверца.
— Это мы приехали, — сказал Толик в темноту. Дверца распахнулась, мы по очереди прошли в нее, гуськом по тропинке меж невысоких сугробов прошли через двор и зашли в дом. В доме пахло стиркой.
— А ты все хорошеешь, — сказал Толик кому-то.
— Раздевайся, Толичка, проходи и своих тоже давай… Проходи… — зобатая женщина направила меня к вешалке и передернулась всем своим слегка грушевидным телом. — Погода поганая, зимы все нет… Ботинки, ботинки снимай…
XIV
Нас с Джоном провели в большую комнату и оставили одних. Джон сел в маленькое неудобное кресло, закинул ногу на ногу.
— Покурить хочешь? — спросил он.
— У меня есть, — сказал я.
— Таких нет, — Джон достал из кармана мятую папиросу и любовно ее разгладил. Он чиркнул спичкой, прикурил, и по комнате начал распространяться знакомый приторнокисловатый запах.
— Я такие не курю, — сказал я и, зная ответ, спросил: — Где взял?
— Места знать надо, — Джон с видимым удовольствием затянулся. — Ты сядь лучше, не торчи, не раздражай.
Я сел на покрытый бархатным покрывалом диванчик. Из соседней комнаты доносился голос Толика: весело, с прибаутками, он говорил кому-то, что все будет хорошо. Напротив меня, у стены под картиной, стоял ряд трехлитровых банок. В банках бродила какая-то мутная жижа, и надетые на горловины банок резиновые перчатки шевелились и вздрагивали как живые.
Я смотрел на шевелящиеся перчатки и думал, что зря начал ершиться: не те люди, не клиенты автосервиса, которых окучивал я, а из разряда тех, кто окучивает других, меня — в том числе. У меня было два пути: дергаться — уже почти что полностью заглотив крючок — и получить свое, или грузить. Глядя на перчатки, я думал, что, погрузив все, что полагается, я все равно получу свое, поразмышлял об этом «своем», подумал о том, как незаметно выскочить из дома, и тут в комнату вошел плечистый, морщинистый человек, в белой рубашке, пегий, причесанный на пробор в ниточку. Он подошел ко мне, и я встал.
— Садись, садись, — сказал пегий, глядя мне в ноги, — что дергаешься, как неродной?
— А он вежливый, — хихикнул Джон.
— Ну, что? — пегий поднял на меня водянистые глаза. — Пеночку снимать приехали, да?
— Что?
— С наступающим, говорю. На чужом-то оно легче, конечно, в рай-то въезжать…
— Что-то не пойму, — начал я, но дверь вновь открылась, и в комнату почти что вприпрыжку влетел Толик, весь прямо-таки светящийся, радостный, подскочил к пегому, потрепал его по плечу, крутанулся, оказался возле меня.
— Дело есть, — сказал Толик. — Мы как договаривались? Погрузить, сгрузить, да? Так тебе грузить не надо. Вот он, — Толик кивнул на человека в белой рубашке, — укажет тебе машину, ты на ней подъедешь к одному месту, подождешь, а потом с ним же — сюда. И все! Поняли?
Я поежился.
— Мы договаривались грузить. Только грузить…
Джон засмеялся, пегий покачал головой.
— Что ты все: «грузить, грузить»! Ты ж мне должен. Должок надо заплатить, верно, а? Ты не бойся, в накладе не останешься…
— Я не боюсь, — сказал я и сглотнул слюну, — только мы договаривались грузить…
Толик взял меня за плечо.
— Ты что дурочку валяешь? — спросил он тихо. — Ты меня за кого держишь?
— Мы договаривались грузить цветочки, — сказал я, снимая с плеча его руку, легкую, мягкую, теплую, будто наполненную каким-то газом.
— Ладно, — кивнул Толик, — если ты такой упорный, будешь грузить, обгрузишься…
Он сделал полшага назад и в сторону, оглянулся на дверь, за которой скрылся пегий. Джон, погасив свой вонючий чинарик, встал, с веселым кряканьем потянулся. У меня мелькнула мысль, что я отстоял хоть бы часть своей независимости, и тут Толик коротко, почти без замаха ударил меня в поддых. Дыханья он сбить не сумел, и я рванулся к нему, чтобы схватить за короткую шею, но Джон уже держал меня сзади, держал крепко, со знанием дела, а я лягался, и Толик бил меня и бил, и голова моя моталась.
Все это происходило в полнейшем молчании, и мне даже казалось, что происходило это не со мной: я почти не чувствовал боли, от удара до удара мой взгляд успевал выхватить то одну, то другую деталь, зафиксироваться на ней, открыть в ней что-нибудь этакое необычное. Такая моя своеобразная наблюдательность достигла пика — я прочитал заголовок на брошенной на диван старой газете, — после чего упал на колени, опустился на четвереньки: каблук потрескавшегося, в высолах, сапога встал мне на пальцы, я отдернул руку, ощутил последний удар и потерял сознание.
XV
Очнулся я лежа на правом боку, лицом к стене, укрытый одеялом. Стена была холодной, и от нее веяло сыростью. Я попробовал пошевелиться: болело все тело от макушки до пальцев ног. Все-таки я повернулся на спину и обнаружил, что нахожусь в большой, ярко освещенной, с высокими потолками комнате. Моя кровать была не единственной: кровати стояли рядами, и на каждой под таким же, как мое, серым с черными полосами одеялом кто-то лежал.
Прямо напротив того ряда, который заканчивался моей кроватью, была крепкая, из широких досок сколоченная дверь. Когда я посмотрел на нее, дверь открылась, и в комнату вошел парень с тоненькими усиками, в белом халате, из-под которого виднелась милицейская рубашка.
— Добрейшее вам утрецо! — сказал мне парень, щелкнул выключателем, и в комнате загрохотал марш.
— Подъем! — заорал парень, направляясь ко мне. — Подъем! — повторил он, сдергивая с меня одеяло.
Люди на кроватях зашевелились, закашляли. Я лежал в чем мать родила, под его ничего не выражающим взглядом, и у меня не было даже сил прикрыться.
— Давай, — сказал парень, подсовывая одну руку мне под голову, сажая меня на кровати, а другой сбрасывая мои ноги на кафельный пол, — давай, новичок! Утро, утро начинается с вопросов, здравствуй, здравствуй, необъятная страна! — пропел он и поставил меня на ноги. — Вперед!
— Фамилия? — спросил склонившийся над бумагами старший лейтенант.
Я назвал. Старший лейтенант был отделен от меня довольно высоким барьерчиком. Я стоял, держась обеими руками за барьерчик.
— Имя-отчество? Год рождения? Адрес?
Я назвал. Старший лейтенант посмотрел на меня, что-то соображая. Я попытался поджать одну ногу и чуть было не упал.
— Где это такая улица? — спросил старший лейтенант и соболезнующе улыбнулся.
Я объяснил, и улыбка исчезла с его лица.
— Скворцов! — позвал он. Откуда-то из-за моей спины возник парень 2 белом халате, ни слова не говоря, взял меня в охапку, оттащил в камеру Прямо против барьерчика, швырнул мне одеяло и запер.
Дверь у камеры была из толстых прутьев. Я сидел на жестком лежаке, накрывшись одеялом, и наблюдал процедуру выдворения из вытрезвителя: от барьерчика человек голым проходил в дверь слева, потом появлялся уже в одежде из двери справа и попадал к сержанту-горе с алюминиевой миской в руках. Сержант-гора критически осматривал каждого подошедшего, опускал в миску пальцы.
— Валидольчику! — говорил он, вкладывая таблетки в покорно раскрываемые рты, и прощался:
— До скорого!
Я сидел, словно оцепенев. Дико болела голова, кожа лица была натянута как барабан, дышать было трудно, во рту был вкус перегара. Мысли ворочались медленно, но это не мешало мне расправляться с Джоном и Толиком: я избивал, избивал их с хладнокровной жестокостью. Они пытались откупиться, совали деньги, но я не смягчался и избивал.
Потом я, не обращая внимания на холод, лег на спину, закрыл глаза и подумал: какая же это глупость с их стороны — накачать меня водкой и выбросить. Неужели они думают, что я их, если захочу, не достану?
Потом я собрался в комок и заснул.
Разбудил меня тот же Скворцов: он вытащил меня из камеры и вновь поставил у барьерчика.
— Деньги у тебя есть где взять? — спросил старший лейтенант.
— В сумке, в паспорте, — начал я.
— Нет у тебя ни сумки, ни паспорта, — сказал старший лейтенант.
Добрый Скворцов оставил на мне одеяло: его засаленным краем я вытер потный лоб.
— Шапка есть из выдры, продам…
— Нет у тебя шапки, — старший лейтенант откинулся на спинку стула, пару раз качнулся, — ничего у тебя нет, кроме везенья, понял?
— Понял, — сказал я, не совсем понимая, о каком веленье идет речь.
— Домой, небось, хочешь?
— Хочу…
— Ну-ну! — старший лейтенант склонился над столом, что-то вписал в пустые графы небольшого с лиловатым штампом листка.
— Скворцов! — крикнул он и сказал мне:
— Надо бы тебе здесь, не отходя от кассы, но ничего, по месту жительства получишь! Иди одевайся, вонючка московская.
Я прошел в левую дверь, где мне выдали, в обмен на бирку с ноги, мешок с моими манатками. Кроме сумки и шапки, еще не было шарфа и часов: и то, и другое было мамиными подарками. Я оделся, посмотрел на себя в мутное, тронутое плесенью зеркало.
Сержанта-горы у выхода уже не было. Я вышел на улицу. Скворцов, в потертом бушлате, в шапке набекрень, стоял возле фургона «спецмедслужба».
— Полезай, — сказал он и распахнул обе дверцы.
Сесть там было некуда, но, слава богу, ехали мы недолго. Дверцы открылись, я выбрался из угла, с трудом спрыгнул на землю.
— Стой здесь пока, — велел Скворцов и исчез с водителем. Я огляделся: фургон стоял у самого здания вокзала. День был пасмурный, шел снег с дождем. Я сунул руки в карман куртки, нащупал сигареты и спички. Когда я почти что докурил сигарету до конца, появился Скворцов, ведя за шиворот маленького кривоногого мужика с авоськой, вернее — неся его, подхватив для надежности за хлястик кургузого пальтеца. Мужик машинально перебирал ногами, но глаза его были закрыты. Вдвоем с водителем они забросили тело в фургон, после чего Скворцов кивнул мне, и мы вошли в здание вокзала.
— Слушай, — спросил я Скворцова, — где меня нашли?
Он покачал головой:
— На рельсах… Обходчик нашел… Поезд уже подходил…
— А как же… А почему же… — я поперхнулся. Мне вдруг показалось, что я иду по вокзалу голышом.
— Что же вы меня отпустили? — спросил я.
— Показатели, — с чувством глубокого понимания сказал Скворцов, — показатели! Мы сегодня вообще всех отпускаем, — он замолчал и посмотрел на меня:
— А ты что? Недоволен, а?
XVI
Скворцов впихнул меня в проходящий пассажирский, в общий вагон. Проводница, беря билет, оглядела меня с пониманием.
— Стоять будешь, красавчик, — сказала она, — стоять на одной ножке…
В вагоне была тьма народу. Я прошел его до конца. В последнем закутке сидела большая компания восточных ребят, и одна третья полка была свободна.
— Там занято? — спросил я у одного из ребят.
— А полежи пока! — сказал тот.
Я забрался наверх, снял куртку, скатал и положил под голову. Неожиданно быстро стемнело, наступила ночь. Я лежал без сна, прислушиваясь к говору внизу. Разговаривали там, наверное, громко, но голоса казались мне приглушенными. Быть может, они везли цветочки, настоящие, которые потом, согреваемые таинственно мерцающими свечками, будут дожидаться покупателей в прозрачных коробах, а быть может, не доверяя оптовикам вроде пегого, сами везли те цветочки, из-за которых меня чуть было не переехал поезд.
О Толике, пегом, Джоне я думать боялся: так запросто положить на рельсы — такое внушало не только страх, а и настраивало на серьезный лад, словно я побывал где-то далеко-далеко, послушал краем уха музыку сфер, да вернулся назад. Я думал только об одном: как я, до выхода мамы из больницы, обменяю нашу квартиру на, пусть даже с потерей метража, квартиру в другом районе и как буду жить тихо, от остановки до дома, от дома до остановки.
Потом я заснул, а потом вдруг оказался внизу, сидящим на краешке скамьи, уронившим голову на руки. Спустился я, видимо, в полусне и долго не мог понять, где я нахожусь, а открывать глаза, поднимать голову очень не хотелось. Куртка лежала у меня на коленях. Она была новомодная, со множеством кармашков, молний. Окончательно проснувшись, я почувствовал легкий озноб и жажду. Я взял одну из позвякивающих на столике бутылок, сковырнул крышечку, вылил в рот остатки подванивающей приторной воды.
XVII
Поезд пришел в темноте, но было уже утро: я курил в тамбуре, и мимо проплывали пригородные платформы, полные спешащих на работу людей.
Мой вагон был в самом хвосте поезда и добраться до здания вокзала мне стоило немалых трудов. Я пришаркал в вокзальный буфет и купил на ниспосланную, не иначе как свыше десятку осклизлый кусок курицы, вареное яйцо, плавленый сырок, сочник. Наверное, вид мой сразу вызывал подозрение: только лишь заглянув в буфет, милиционер, весь в ремнях и погонах, свежий, поскрипывающий, в начищенных до блеска сапогах, направился ко мне, попросил, внимательно глядя, как я обглядываю куриную ножку, документы. Не сразу вспомнив про имеющуюся справку, я, чтобы потянуть время, хлебнул «фанты»: и милиционер, и все вокруг меня заискрилось, одновременно приобретая легкий металлический привкус.
— Ну и? — спросил милиционер.
Я подал ему справку, и он, приподняв тонкие, будто выщипанные брови, углубился в ее изучение. Соседи по столику начали на нас коситься. Наконец он сложил мою справочку, сунул ее за ремень портупеи.
— Ну и? — повторил он.
Я пожал плечами, показал ему полуобглоданную куриную ногу: ем, мол.
— Ага… — он пару раз кивнул. — Постой-ка здесь! — повернулся и пошел к выходу из буфета.
Очутившись без справки, я засомневался, что в самом деле существую. Я огляделся, совершенно не понимая, что мне дальше делать, и вдруг встретился взглядом с буфетчицей. Она держала у рта стакан с кофе и не мигая смотрела на меня. Потом она поставила стакан, подняла крышку буфетной стойки и поманила меня рукой. Я оглянулся: милиционер стоял у выхода из зала, спиной ко мне. Тогда я быстро прошел за прилавок, последовал за буфетчицей и оказался в заставленном ящиками коридоре.
— Все время прямо, — сказала буфетчица, не оборачиваясь, посторонилась, давая мне пройти.
Я прошел прямо, толкнул тяжелую, обитую железом дверь и оказался на улице. Еле-еле светало. Я подошел к дожидавшимся своей очереди такси и сел в самую последнюю машину, на заднее сиденье. Таксист некоторое время разглядывал меня в зеркальце, потом спросил:
— Платить-то есть чем?
— Обижаешь, командир… — я протянул из кармана пятерку. Вместе с ней вытащились девушкины ключи.
— Пригнись, — сказал таксист, не включая счетчика выехал из очереди, провез меня мимо будки диспетчера.
— Куда? — спросил он, когда мы отъехали, включая счетчик. Я посмотрел на девушкины ключи, подбросил их на ладони.
— Прямо…
Таксист плавно набрал скорость, после чего словно пригорюнился: подпер щеку левой рукой, привалился к дверце и поехал так, как по заказу, попадая на зеленый свет, не сбавляя и не прибавляя газ.
— Ты на станции работаешь? — спросил таксист.
— На какой станции?
— Да ладно тебе! Будто я ваших всех не знаю…
Я пожал плечами.
— В институте учусь, техническом…
— Ага! — таксист обиделся. — Рассказывай…
— Я студент! Серьезно! Не веришь?
Он повернул ко мне бледное, с запавшими глазами, лицо, и довольно долго смотрел на меня, словно ехали мы не в оживленном потоке машин, а по рельсам или по глубокой колее.
— Верю, — он отвернулся, — как не верить! Инженером будешь, инженером!.. — он и вовсе отпустил руль, поднял кверху желтый палец:
— По тебе сразу видно — инженер…
XVIII
Такси подъехало с шиком, не к самому дому: я попросил остановиться на улице, не заезжать в глубь квартала. Трудности начались сразу, как только я хлопнул дверцей, и такси укатило: я потерялся, упустил состояние легкости, появившееся было в такси, и не вошел в подъезд тут же, а прошел мимо него, свернул за дом, по скользкой тропинке, мимо занесенной свежевыпавшим снегом детской площадки, двинулся к видневшемуся вдали магазину, уверяя себя, что, если я хоть немного выпью, то уймется предательская дрожь, уверенность и легкость вернутся, что я перестану облизывать губы и отколупывать корочку на нижней губе. В такси я был уверен, что идея проникнуть в девушкину квартиру, посмотреть, чем и как живет мой бывший директор, вполне нормальная идея. Я не считал себя преступником, не собирался красть: если бы я что-нибудь взял, то кражей это бы ни в коем случае не стало — тогда это была бы робкая попытка дележа, дележа, в общем-то, на мой взгляд, справедливого, и мой бывший директор наверняка бы понял меня, понял бы, что это дележ, внешне, быть может, не согласился, но понял бы — ведь мы, связанные одной гнилой веревочкой, он и я, как ни крути, оба были пайщиками, и хруст витал и надо мной и над ним. А кроме дележа тут было еще одно: возможность, учитывая, что деться мне некуда, хоть еще побыть хотя бы с директором и его делами, а через них — с Джоном и компанией, несмотря на все их жестокие прихваты. Правда, была она, девушка. Она никуда не вписывалась, непонятно было — что с ней делать, и я прогнал мысли о ней старым, надежным способом: грязно, длинно выругался, густо сплюнул в свежий сугроб.
Купить пива мне не удалось. Винный отдел был еще закрыт, — грузчики, похожие на пиратов, с таким весельем и радостью катали по низким коридорам пропахшие селедкой бочки, будто в них были пиастры со взятого на абордаж галеона.
— Чего? — громко, но сквозь зубы спросило меня глыбообразное существо в сапогах-чулках, белом халате и браслетах, руководившее общей суетой.
Я ничего не ответил.
— Да закрыто у меня, закрыто еще! — оно вроде бы извинялось.
Я цыкнул сквозь зубы. Оно всмотрелось в меня, на мгновение скрылось за дверью и появилось вновь, с бутылкой пива в унизанной кольцами руке.
— На вот, пивка возьми, больше нет, честное слово!..
— Вот и спасибо! — сказал я, отдавая последний рубль, но существо уже повернулось ко мне спиной с видимыми сквозь халат наплывами над тугими резинками.
Я зашел в автомат возле подъезда, набрал номер. Как следует насладившись долгими гудками, я зашел в подъезд, поднялся на лифте. На этаже было тихо. Только из-за нужной мне двери был приделан крючок: об него я и открыл бутылку, отхлебнул, отпер дверь и вошел в квартиру.
То, что я увидел, разочаровало: директор жил скромно, непритязательно, а если учесть и мои ожидания, попросту бедно. Обыкновенная трехкомнатная квартира с маленькой кухней, рядовой гарнитур, стенка от другого гарнитура, в которой за захватанным стеклом стояла ординарная, заслуженная посуда, черно-белый телевизор на старой подставке и на нем придавленный медяками рубль.
Я постоял в большой комнате, стараясь унять дрожь: мне казалось, что меня слышно сквозь стены, сквозь пол и потолок. Понимая, что теряю время, я сел в кресло возле журнального столика, раскрыл один из журналов, прочитал абзац из заметки про самодеятельного художника и застыл в неподвижности: мне послышались шаги за спиной. Я прочитал еще один абзац и не торопясь обернулся. Там никого не было. Тогда я со свистом вздохнул, встал и направился к стенке.
Я выдвигал ящички, но в них лежали вилки, ножи, фотографии в черных пакетах, старые письма, перевязанные тесемочкой, запас сигарет, колоды карт и среди них — мой бывший директор был, оказывается, шалунишкой — самостроевская колода с девочками в кружевных панталонах.
В комнате девушки царил беспорядок. Из шкафа, прищемленный дверьми, торчал рукав свитера, постель была скатана к стене и накрыта ковром, на столе, прижатый двумя стопками книг, лежал лист ватмана с незаконченным чертежом и сверкающей черной кляксой. Какая-то вялость, почти что оцепененье вновь настигли меня: я сел на край диванчика, обхватил голову руками и уставился в пол, давно нуждавшийся в цикловке и покрытии свежим лаком. Пионеры пели.
Наверное, просидел я так довольно долго, а когда услышал поворот ключа в замке, то ничуть не испугался: мне вдруг стало обидно, что вот, арестуют, а в третьей комнате, до которой я так и не добрался, наверняка стоит платяной шкаф и в нем, под постельным бельем, запрятана заветная шкатулка с побрякушками директорской жены и плотной пачкой сторублевок. «Будь что будет, — решил я, подходя к двери, — будь что будет».
В прихожей кто-то раздевался. Со стуком упал сапог — после глухого стука прошелестело голенище, — вжикнула молния, упал второй. Щелкнул выключатель, кто-то прошел в туалет и закрылся изнутри. На цыпочках я выбрался в прихожую. Пальцы соскользнули с собачки замка, а когда замок поддался, и дверь распахнулась, я услышал чей-то испуганный голос: «Кто здесь?», выскочил на лестничную клетку и бросился вниз, перепрыгивая через ступени.
XIX
На улице было мутно. Словно отделенные от меня толстыми стеклами, мимо прошли две перекошенные под тяжестью портфелей девочки. Я закурил, с удовольствием затянулся…
К остановке чуть боком подошел автобус, ударился задним колесом об обросший грязным льдом бордюрный камень, открыл двери, закрыл и уехал. Оставляя большие, чуть смазанные следы, прошел гаишник в валенках и тулупе с поднятым воротником, с жезлом под мышкой, с синим пластиковым свистком в углу рта. Напротив, на здании без вывески, электронные часы попеременно показывали температуру и время: по градуснику было холодно. Подошел еще один автобус, и из него, пятясь и отступаясь, вылез человек с двумя пушистыми елками.
Я выгреб мелочь из кармана, нашел двушку, поискал автомат. К телефону, как я и думал, подошла она.
— Алло! — сказала она нетерпеливо. — Алло!
Я подышал в трубку.
— Дурак! — сказала она и хмыкнула. — Дурак ты, Лешка!
Я повесил трубку. Во мне шевельнулось нечто похожее на ревнось, чему я удивился и, одновременно обрадовался. Ноги сами собой вывели меня из будки и потащили к девушкиному дому, но не по прямой, а по широкой дуге, постепенно скручивающейся в спираль: мне словно давалась отсрочка, время, чтобы я одумался, ехал домой, к маме. Все-таки я дал довести себя до ее дома, дал ввести себя в подъезд, в лифт.
— Папа? — раздался ее голос из-за двери.
Я подставил лицо под глазок, и она открыла.
— Здравствуй, — сказал я, глядя в пол прихожей, уже за порогом ее двери, потом поднял взгляд и не узнал ее: она, пусть в домашней цветастой юбке и в полинялой рубашке, была дневная, только что умытая, без косметики, волосы были прямыми, без завитков и куделечков, спокойно смотрела на меня, губы были чуть припухшими, веки — чуть покрасневшими, а глаза, оказывается, были зеленые.
— Ты? Здорово!.. Откуда? Нас тут грабили… Или мне показалось… Заходи!.. — она взяла меня за рукав, втянула в квартиру.
— Здравствуй, — повторил я, останавливаясь возле вешалки, — что, должен приехать папа?
— Нет, — она рассмеялась, — он сказал, чтобы я не морочила ему голову и ехала в институт. А я только что оттуда! Проходи, проходи… Представляешь…
Она опустила голову, наверное, ища для меня тапочки, и замерла. Я тоже посмотрел и увидел на застилавшей прихожую ковровой дорожке свой одинокий, уже высохший: лед. Она перевела взгляд с него на мои снегоходы.
— Твой? — спросила она, указывая строгим пальчиком на след. — Ты был здесь? Да? Был? Ну-ка, наступи… Был? Здорово!..
— Ну, был, — сказал я, пожал плечами, — ты же посеяла ключи в моей машине…
— Положим, не в твоей, — она наставила пальчик на меня, — но все равно здорово! А я подумала, что это Колькин…
Я снял куртку, повесил ее на вешалку.
— Колька — это твой брат?
— Дядя, — она кинула мне тапочки.
Она провела меня на кухню, посадила на табуретку в уголке. Кухня была под стать всей квартире.
— Мой папа сказал, что ты рвач, темная личность, и еще папочка сказал, чтобы я с тобой ни под каким видом не встречалась…
Я искренне обиделся:
— Сам он рвач.
— Мой папочка? — она звонко рассмеялась. — Он не рвач, он — рвачище!
— Рвачище — это как? — спросил я.
— По определению, по должности, — она пожала плечами, — наконец — по сути…
— Отцы и дети. Понятно, — мне стало весело.
— Что тебе понятно? — она вышла в прихожую, вернулась с моей пачкой, отдала ее мне, чиркнула спичкой, подставила пепельницу. Прикуривая, я посмотрел на нее снизу вверх и не ответил: я ждал еще одного вопроса, другого вопроса, и она спросила:
— А что же ты здесь делал?
— Как — что? Обижаешь? Деньги искал. Золото, бриллианты…
— Ага! — она поняла, что я говорю правду. — Нашел?
— Нет… Не успел… Ты же меня спугнула…
У нее было совершенно потерянное лицо, ее руки безостановочно открывали и закрывали спичечный коробок: она поняла, что не вписывается. Мне стало стыдно за свое длинное ругательство: я отвел взгляд.
— Ну — и? — спросил я.
— Показать, где они лежат?..
— Нет, не надо… — тут мне стало ясно, что я не вписываюсь тоже. Никуда не вписываюсь.
— У тебя такое потерянное лицо, — сказала она.
— Давай чайку, — попросил я.
XX
Мы стали пить чай, и пили его сначала молча, только она прерывала молчание, угощая конфетами, печеньем, уговаривая съесть огромный бутерброд: стараясь показать, что кусать мне совсем не больно, бутерброд я съел, а она смотрела, как я ем.
Я пригрелся, чувствовал себя вполне сносно, пытался сосредоточиться на изящной чашечке, в которой, потревоженные ложечкой, порхали чаинки, перекатывался не до конца растворившийся сахар, куда она то и дело подливала ароматный чай, стараясь при этом коснуться меня то бедром, то локтем, а садясь на свое место, выставляла трогательную коленку. Чашечка была легкая, хрупкая, полупрозрачная. Я должен был оставить чашечку в покое и, наконец, хоть как-то откликнуться на девушкины призывы, но не мог: сам себе я казался нечистым, избегал смотреь ей в глаза — взгляд тоже был нечист, мог испачкать ее лоб, нежные щеки, волосы, так мягко спадавшие на плечи, — и дышал я в сторону, а она меня вовсе не соблазняла, она всего лишь показывала, что приняла меня. А я сопротивлялся, заставлял себя не верить. Меняя позу, я мельком посмотрел на нее и даже отпрянул: ее глаза были так близко, что комочки туши на ресницах казались глыбами, а оранжевое пятнышко на радужке левого глаза — солнцем, поднимающимся из вод.
— Что же ты меня не поцелуешь? — спросила она с недоумением, и я поцеловал.
— Колючий! — она хлопнула меня по руке. — А еще?
Я поцеловал ее еще раз. Она взяла мою чашку, вылила содержимое в раковину, налила мне горячего чаю.
— Я тебя знаю тыщу лет, — повернулась она ко мне, — или около того, — она взяла чашку обеими руками, поднесла ко рту, отпила, потом поставила ее на стол. — Просто ужас как давно…
Она смотрела на меня такими глазами, что я не выдержал и зажмурился…
…А потом я открыл глаза и дернулся всем телом.
— Лежи, — услышал я ее тихий голос, — лежи… Ты проснулся, да?
— А?.. Да?.. Я долго спал?
XXI
Когда я вышел из подъезда ее дома, то на меня снизошло состояние умиротворенности, благодушия, такого беспредельного спокойствия, словно внутри я был абсолютно полым. Крупный снег падал так тихо, фонари высвечивали такие ровные пятна, стояла такая тишина, в которой завяз даже шум мотора проехавшей мимо подъезда маленькой снегоуборочной машины, что впору было ожидать как тут же, за углом дома, любая сказка станет былью.
Я шел медленно, как бы не торопясь, и думал, что все, что произошло со мной в несколько последних дней, до обидного просто, незамысловато, что — если уж продолжать аналогию с игрой — чем выше в игре ставка, тем проще должны быть правила и тем примитивнее должны быть ходы ее участников: только в игре без затей ты можешь наиграться всласть, испытать страх за свою шкуру. Тут мне захотелось срочно усложнить правила, но я поймал себя на мысли, что абсолютно не к кому обратиться с таким предложением.
Я пошел к проспекту, а снег так мелодично скрипел под ногами, что хотелось запеть, сделать что-нибудь хорошее. Я подумал о том, как встречу Джона, как он испугается, как будет ждать, застенчиво улыбаясь, что я полезу сводить счеты. Мне было приятно представить, что я выгребу из кармана мелочь, протяну ему и скажу: «Сделай-ка два пивка», а потом, через год или около того, подставлю плечо под гроб: Джона будут хоронить в закрытом гробу — ведь тело его полуразложится, пока он будет висеть в петле, висеть долго, в подвале, над железными лопатами и скребками, растрепанными метлами, над раздавленным шприцем и пустыми ампулами. В одном только Джоне соединилось для меня все, что стояло на моем пути. Яркая фантазия о его похоронах как бы устраняла эти препятствия. С остальными — они об этом не знали, не догадывались — я просто заключил односторонний мир. В точности я не знал, куда ведет мой путь и кто конкретно эти остальные, но односторонний мир спасал от поражения, вернее — теперь если поражение и грозило мне, то я не знал — откуда, и мне это очень нравилось.
XXII
В дежурке моего ЖЭКа слесарь пил чай из большой фаянсовой кружки и смотрел хоккей. Он согласился идти, но пришлось дожидаться конца периода. Я сел на продавленный стул: мне очень не хотелось самому возиться с дверью. Наконец слесарь поднялся.
— Ну что, пойдем? — слесарь потянулся, и мы вышли на улицу: там было уже совсем пусто, тихо, снег идти перестал.
Мы подошли к подъезду моего дома, и я поднял глаза: в окне большой комнаты горел свет.
— Слушай, — сказал я, доставая из кармана девушкины ключи, — извини меня! Вот ключи. За подкладку завалились…
— Ты что, дурак, что-ли? Там же наши с Канадой! — слесарь смачно плюнул и потрусил обратно.
Я вновь посмотрел на свое окно: на люстре горели все пять рожков. Я поднялся на свой этаж, осторожно подошел к двери, прислушался, но у соседей телевизор орал еще почище, чем в дежурке.
Я постоял возле своей двери, раздумывая что же делать. Получалось так, что о заключении мира знал только я один. Я представил себе, как пегий посылает Джона на почту, дать какому-нибудь своему корешу наводку на мою квартиру, послать «ребяток», как накаченный Джон передает этому корешу привет от пегого, подхихикивает и просит поспешить. «Ладно, — решил я про себя, — ладно… Разберемся!..».
На втором этаже, прямо подо мной, жил Славка-умелец. Если он не был пьян в лоскуты, то обязательно что-то мастерил, обладая всевозможным и инструментами, накраденными везде и всюду, где приходилось Славке работать. Последнее время Славка ослабел, возвращаясь на автопилоте с очередной халтуры, стал засыпать перед дверью на коленях, выбросив вперед жилистые руки, уткнувшись лицом в коврик, приглушенно что-то бормоча сквозь сон, а кроличья шапка его с необычайно длинными ушами так покрывала лысеющую, в мягком пуху голову, что он был похож на творящего молитву мусульманина в чалме, которого во время очередного поклона разбило люмбаго.
В этих случаях я звонил в дверь и помогал дотащить Славку, начинавшего раздеваться, лишь только запах родной прихожей щекотал ноздри, до кровати, да и в остальном соседство наше было добрым: кроме как на инструменты, я еще рассчитывал, что Славка пойдет со мной, но дверь открыл Славкин сын — большеголовый, косой, с вечно мокрыми, вывернутыми губами. Он был в толстых шерстяных носках, в вылезающей из пузырящихся тренировочных штанов майке, держал в руке кусок батона и чавкал.
— Отец дома? — спросил я, пытаясь поймать его взгляд.
Он кивнул, и по его кивку я понял, что Славка, как и следовало ожидать, в полном отрубе.
— Мне инструменты нужны, дверь открыть…
Славкин сын отступил в темноту и тут же появился вновь, толкая перед собой облезлый чемодан.
— Б-бе-ери, — сказал он тонким голосом.
Чемодан был жутко тяжелый. Я дотащил чемодан до площадки между третьим и четвертым этажами, поставил, открыл и из него, словно живые, начали выпрыгивать в первую очередь те железные его обитатели, которым как бы не терпелось поскорее включиться в работу: весь в ржавчине сапожный нож, ножницы по металлу, отвертка с погнутым жалом и общепитовская алюминиевая вилка со смотрящими в разные стороны зубьями, будто была это не вилка, а рука, сведенная судорогой. За ними показалась похожая на маленькую клюшку для хоккея с мячом фомка.
Чтобы войти в квартиру, фомки должно было хватить: вряд ли мои гости заперлись изнутри на нижний замок, отжать же язычок верхнего было, в общем-то, знакомым делом, а что будет потом, когда дверь откроется, что надо будет потом, когда дверь откроется, что надо будет делать — об этом я не имел ни малейшего представления.
За дверью была тишина. Я легонько нажал на дверь чуть пониже дверной ручки: нижний замок действительно не был закрыт, и последняя надежда, что я просто забыл, торопясь на поезд, про люстру, испарилась. Я снял куртку, бросил ее на пол, приладил левой рукой фомку и, собравшись, с небольшого разгончика, ударил правым плечом по двери, одновременно приподнимая ее за ручку. Дверь распахнулась, я перехватил фомку в другую руку, ногой толкнул дверь обратно и прыгнул дальше.
Я никого не успел увидеть: свет в большой комнате погас в тот же момент, когда я переступил ее порог, но, сделав нечто вроде выпада в сторону выключателя, изо всех сил махая фомкой, я попал с первого же раза. Раздался вскрик, я ударил ногой, фомкой, ногой, на фоне окна проявилась худосочная фигура, и тогда я погнал ее в угол между диваном и обеденным столом, но фигура, зацепившись за стул, с грохотом упала. Я зажег торшер: на полу лежал довольно-таки замызганный парнишка и испуганно смотрел на меня.
— Что ты здесь делаешь? — поперхнувшись, спросил я.
Он посмотрел на поднятую для удара фомку, быстро облизнул губы юрким язычком. Глубокая царапина шла у него от скулы до уха.
— Как ты сюда попал?
Приподнявшись на локте, он попытался отползти, но уперся затылком в диван. Капля крови сбежала у него по щеке и упала за воротник тоненькой чиненной курточки. Надо было как следует ему добавить, да вышвырнуть вон, но он шмыгнул носом, и мне стало его жалко. Это меня и сгубило: на моем лице уже начала выстраиваться ободряющая улыбка, я даже чуть наклонился к нему, то ли собираясь взять его за грудки и поставить на ноги, то ли для того, чтобы рассмотреть его получше, и увидел как из маленькой комнаты выскакивает еще один, словно двойник лежащего передо мной, бежит в прихожую, а, начав распрямляться, я услышалснизу громкий щелчок, и парнишка, легко оторвавшись от пола, быстро и сильно ударил меня под ребра чем-то нестерпимо горячим.
Пытаясь сбросить с себя эту раскаленную штуковину, я отскочил, налетел на поваленный стул, упал на спину, надо мной, как в замедленном фильме, проплыли тощие ножки парнишки, расставленные для широкого прыжка, и мне на грудь, словно птичий помет, упали выпавшие из его кармана мои ключи. Приземлившись, он заскользил по паркету, выровнялся и исчез.
Меня перекашивало налево, вкручивало в пол, но все-таки я поднялся, подхватил фомку, головой вперед делая загребающие шаги, побежал за ним и, хватаясь за перила, побарывая желание остановиться и сесть, скатился с лестницы, вывалился из подъезда. Оба они убегали по залитому лунным светом скверу: мне их было не догнать.
Я сел в снег. В боку уже не жгло, только как-то методично покалывало. Мне захотелось лечь на левый бок, и я попытался встать: не получилось. Мимо подъездов моего дома медленно проехал патрульный «Москвич», остановился, сдал назад. Из «Москвича» вылезла длинноногая фигура, воздвиглась надо мной.
— Старший лейтенант Тюрин, — услышал я. — Где проживаете?
— В этом доме, — как мне показалось, очень внятно ответил я, показав на подъезд фомкой.
— Понятно, — Тюрин наклонился и взял фомку. Снег рядом заскрипел: подошел второй, взял меня поперек тела.
— В чем дело? — я попытался освободиться.
— Он липкий какой-то! — сказал державший меня.
Я закричал. Передо мной возникло широкое лицо.
— Ишь, как пищит! — сказало лицо. — Давай, загружай в машину.
_______________

Скубилин Г.
Записки следователя




АГЕНТ № 2, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «ДИПЛОМАТ»
Роман

1. Эхо исторического залпа
В середине ноября семнадцатого года в небольшом губернском городе Окске, куда молнией донеслась весть о победе большевиков в Питере и Москве, Советы рабочих и солдатских депутатов после короткой и жестокой схватки с контрреволюционными силами тоже взяли власть в свои руки.
Военно-революционный комитет организовал парад красногвардейских отрядов.
На самой большой площади города, фасадом к которой были обращены два красивых двухэтажных здания — гостиница и ресторан купца Слезкина, — проходил митинг. Председатель Военно-революционного комитета Савелий Ильич Бугров, высоченный матрос в поношенном бушлате, с маузером в деревянной кобуре, выделялся среди других комитетчиков, стоявших на дощатой трибуне.
К многолюдной площади подходили и подходили горожане. Наконец все стихло. Первым выступал Бугров:
— Временное подлое правительство, как и Николай-кровавый, провалились в тартарары. Пролетарская революция, о которой мечтали простые люди, свершилась! Керенский переоделся в бабье платье и позорно дал деру. Наши враги разбиты. Но борьба со свергнутым классом и его наймитами еще не кончена. Буржуазия спустила с цепи на честных людей не только офицерье, но и бандитов. Запомните: все нарушители революционного порядка, все, кто появляется на улицах в пьяном виде, те, кто чинит насилие и грабежи, есть предатели рабочего дела. С ними будем поступать по всей строгости революционного времени!..
Жизнь в городе бурлила: наступило тревожное время ожидания сказочных перемен и еще неведомых потрясений. Непрерывно заседал губернский комитет большевиков. На его плечи легла забота о судьбе населения городов и сел губернии. Нельзя было допустить, чтобы хоть на один день прервали работу заводы, фабрики, магазины, лавки. Необходимо было срочно очистить улицы и площади от следов недавних боев, восстановить разрушенные здания, вдохнуть новую жизнь в старые учреждения.
Чиновники, за малым исключением, уклонялись от работы, а то и просто мешали наладить дело, уничтожали и прятали важные государственные документы. Резко ухудшалось снабжение населения хлебом, топливом, товарами первой необходимости. Несмотря на многочисленные трудности большевистская организация быстро росла и набиралась опыта управления губернией.
А контрреволюция зверела: устраивались диверсии, развивался бандитизм. Жизнь города замирала, едва наступали сумерки. Чиновники, купцы, дворяне и мещане, все враги новой власти, еще засветло лязгали засовами ворот, дверей, тщательно закрывали дубовые ставни и спускали с цепи своих собак. К ночи на улицах опустевшего города, не затихая, звенел переливчатый собачий лай.
С вечера город погружался в темноту, лишь в центре — у гостиницы и ресторана Слезкина — зажигались восемь керосиновых фонарей. Осенний ветер с разбойничьим посвистом носился по мостовым. Лязгали задравшиеся на крышах листы железа, гудели уличные столбы, оклеенные скучными старорежимными объявлениями:
«Продается пенька», «Артель делает свечи», «Найден кошелек, обращаться в общество милосердия», «Ищу няню, знающую французский».
Обрывки газет, афиш, картона беспризорно носились по улицам, нагромождаясь в кучи мусора на тротуарах…
Бесчинств в ночное время регистрировалось в милиции много. Ужас наводила банда некоего Бьяковского. Имя атамана — «Мишка Бьяк» — заставляло горожан трепетать. И не напрасно. Грабители из его шайки рыскали по темным переулкам и задворкам, наскакивали на первого встречного, выворачивали карманы, раздевали, заламывали руки, били, а то и душили. Громилы лезли в лавки, сворачивали с дороги подводы с мукой, как-то даже утащили сейф с деньгами из комиссариата земледелия. Повсюду они оставляли «визитную карточку» — маленький клочок серой бумаги с нацарапанными словами «Серый волк».
Каждую ночь волчья свора подчистую разоряла то жилой дом, то лавку, то учреждение. Но особой любовью у бандитов пользовались городские церкви. Из них они тащили в свое логово бесценные иконы, церковную утварь, уникальные золотые и серебряные изделия.
На одном из своих заседаний губком большевиков предоставил члену Военно-революционного комитета Максиму Андреевичу Белоусову широкие полномочия по наведению в кратчайший срок революционного порядка в городе, поручив ему организацию рабоче-крестьянской милиции.
Белоусов начал с главного: обратился к народу. Он выступал на заводах, фабриках, мобилизуя рабочих на укрепление порядка, и попутно подбирая для порученного дела нужных людей, отчитывался на заседаниях Совета рабочих и солдатских депутатов, составлял с двумя своими заместителями — Рябовым и Петуховым — смету на содержание губернского управления рабоче-крестьянской милиции. Новый орган правопорядка стремительно становился боевым коллективом.
Прикидывали, где разместиться? В старом здании полицейской управы? Неприятно будет работать, поймет ли народ? Ведь совершенно новый орган Советов. А на здании полицейской управы для большинства жителей города лежал мрачный отпечаток тяжелого прошлого. Люди помнили, что во время боев революционных отрядов с эсерами и меньшевиками засевшие в нем контрреволюционеры долго и яростно отбивались.
Решили разместить управление милиции в двухэтажном здании Российско-американского коммерческого общества. Этот красивый особняк с мраморными колоннами был по сути бесхозным островком среди других учреждений города.
Взяв с собой группу красногвардейцев, Белоусов на автомобиле въехал в Кутузовский переулок, примыкающий к Никитской площади, переименованной в площадь Революции. Постучал рукояткой маузера в дубовую, блестящую от лака дверь. Звякнула щеколда, и в щели показалась козлиная бородка швейцара.
— Кого тут леший носит? Не велено пущать! — прокуренным и простуженным горлом прохрипел старик.
Белоусов решительно и широко распахнул дверь:
— Входим, товарищи. Потеснись-ка, дед.
Швейцар увидел людей с винтовками за плечами, попятился в сторону. Белоусов осмотрелся. Из просторного коридора налево и направо вели двери в кабинеты. Комиссар прикинул: здесь можно разместиться. Уверенно прошагал по коридору:
— Где тут приемная бывшего председателя общества?
Швейцар угодливо открыл массивную дверь.
— Тут-с.
За письменным столом сидела белокурая девушка и неумело била пальцем по кнопкам пишущей машинки. Печатала медленно, с большим трудом.
— Новенькая, что ли? — весело спросил комиссар.
— Вторую неделю работаю… — доложила девушка, испуганно уставившись на вооруженных людей.
— Мадемуазель, сзывайте всех служащих, разговор будет, — распорядился Белоусов, назвав свою должность. — Поторопитесь, барышня.
Девушка забегала по кабинетам. И вот просторную приемную бывшего председателя общества заполнили чистенькие, робкие, с усиками и бородками чиновники. Комиссар обратился к ним:
— Моя фамилия Белоусов. Представляюсь вам по случаю вручения мне мандата комиссара рабоче-крестьянской милиции. Вопросы есть? Нет вопросов. Значит, все понятно. Ставлю в известность: ваше общество ликвидировано в Питере и Москве. Там 25 октября взяли власть в свои руки большевики. Окском также отныне руководят Советы рабочих и солдатских депутатов. Здание реквизируем для своих нужд. Прошу очистить помещение. Председатель общества кто будет?
— Допустим, я, Цукерман, — произнес в первом ряду толстый рыхлый мужчина с рыжей бородкой и коричневой родинкой на шее. — Прежде чем слушать, тем более выполнять ваши приказы, хотел бы собственно удостовериться в мандате на право вхождения в мое учреждение. Оно охраняется особым уставом, да было бы вам известно, милостивый государь.
— Мандат? Сию минуту.
Белоусов подошел к пишущей машинке.
Девушка, та, что перепугалась минуту назад, сидела на прежнем месте и теперь с любопытством наблюдала за всем происходящим.
— Подвигайте-ка, мадемуазель, к себе орудие труда, закладывайте лист бумаги, — строго произнес комиссар, но, вглядевшись в девушку, изменил тон. — Поживее, милая. Некогда нам. Настало горячее время. Как зовут-то?
— Катюша.
— Вот и чудесно. Стало быть, Катерина. Диктую.
— Позвольте, — запротестовал осмелевший председатель общества, — кто подпишет ваше сочинение? Кто у вас главный?
— Сам подпишу. Наделен таким правом ревкомитетом.
— О, господи, кому же жаловаться на произвол? — всплеснул руками бывший председатель.
— Опять же мне, — ответил Белоусов, — комиссару рабоче-крестьянской милиции. Уполномочен обеспечить безопасность и спокойствие населения.
От усталости мягкие, добрые черты лица Белоусова заострились, щеки провалились. Лишь глаза горели яркими радостными огоньками…

Итак, помещение для милиции подыскано. Тут же бойцы сорвали с крючков на стене роскошную вывеску общества и табличку «Посторонним вход воспрещен». У входа появилась новая дощечка — простая, незамысловатая, без вензелей и украшений, с надписью «Губернское управление рабоче-крестьянской милиции». Белоусов занял кабинет Цукермана, а в приемной за ундервудом осталась белокурая и голубоглазая Катюша, как позже выяснилось дочь большевика из губернской типографии Лукьяна Пименовича Радина, которого давно знал комиссар милиции.
С первых дней Белоусов, Рябов и Петухов установили строгую дисциплину и порядок в работе милиции, но дело все-таки не шло, как хотелось бы. Прежде всего не хватало сотрудников, а те, которые пришли в управление, не обладали ни подготовкой, ни опытом, и подчас совершали грубейшие ошибки не по злому умыслу, а из-за неумения выполнять служебные обязанности. Они не робели, почти ежедневно вступая в схватки с налетчиками и хулиганьем. Не щадили себя. Но при всей их смелости, преданности делу еще очень немного могли сделать для наведения порядка в городе.
Постовые милиционеры только начинали осваивать новую службу. О специальной форме, милицейском мундире никто даже не заводил разговор. Они отличались от любого прохожего только красной повязкой на рукаве. Разве что сами милиционеры сетовали: «Как пресечь беспорядок, если мы не выделяемся в толпе?»
Работники милиции на разводе получали оружие. Но его мог иметь каждый второй прохожий. А уж бандиты были вооружены намного лучше блюстителей порядка, И вот от этой молодой, только-только созданной, не оснащенной и не обученной рабоче-крестьянской милиции Военно-революционный комитет и губком большевиков потребовали в считанные дни не только навести порядок в Окске, но и ликвидировать все притоны, «малины», где притаились бандиты Бьяковского.
2. Начало
В управлении все от начальника до постового — почти не знали отдыха. Оперативные группы милиции учились тонкостям новой профессии: устраивали засады, в разных концах города, вылавливали воров, грабителей.
— Нам бы какой-нибудь документ, — жаловались после очередной операции сотрудники, — заходим для проверок в дома, а предъявить нечего. Мандат был бы очень кстати.
— Займемся этим, — пообещал Максим Андреевич и вскоре в губернскую типографию завезли два рулона серой, оберточной бумаги. На ней отпечатали первые удостоверения для сотрудников. Появились бланки протоколов допроса, разных постановлений на арест, обыск, задержания, привод, выемку ценностей.
Ревком выделил милиции для особых поручений — облав, засад, ареста и конвоирования — бойцов красногвардейского отряда. Гулко стучали по паркетному полу и мрамору роскошных лестниц особняка Российско-американского общества кованые сапоги красногвардейцев.
Белоусов приказал вывезти из здания изысканную мебель и заменить ее простыми столами, шкафами, стульями.
— Нечего буржуйство разводить, а то простой люд оробеет перед такой роскошью.
Максим Андреевич убрал из своего кабинета люстры, гобелены, бархат, оставил только длинный письменный стол, покрытый зеленым сукном, да глубокое кожаное кресло. «Придется — и соснуть можно часок-другой, — прикинул он в уме, — хотя вряд ли выдастся такое удовольствие. А Цукерман, похоже, весь день дремал в кресле».
Вот и сейчас шел третий час ночи, а Белоусов и не помышлял об отдыхе. Он беседовал со своими заместителями. Только что был послан на железнодорожный вокзал секретный сотрудник Федор Савков встречать прибывающего из Московского уголовного розыска по их просьбе агента. Уже второго…
Белоусов повертел в пальцах карандаш:
— Оперативный план охраны церквей и памятников старины одобрен в губкоме. Одобрена и наша задумка по ликвидации банды Мишки Бьяка… Немедленно приступаем к работе. Самым надежным единственно правильным решением считаю вот что: нужно снова внедрить в банду под каким-нибудь предлогом московского товарища. Назовем его разведчиком номер два.
Максим Андреевич встал из-за стола, зашагал по кабинету, сильно прихрамывая. На прошлой неделе в схватке с бандитами пуля угодила ему в ногу, слава богу, не задела кость, но боль не утихала. Остановился, остро глянул на помощников:
— Способны мы или нет навести порядок? Если способны, то где результаты? Почему банда не притихла, не спасовала?
— Не признает нашей силы, — раздумчиво сказал Рябов.
— Вот как! — удивился Белоусов, точно сам раньше этого не понимал. — Откройте форточку, надымили, хоть топор вешай. Сражений еще настоящих и в помине нет, а в кабинетах, как от пороха, дым коромыслом. Курить следует поменьше, смотришь, и дела сдвинутся с места.
Заместители бросились открывать окна. После короткой паузы Белоусов взял себя в руки, говорил уже спокойно, тихо, словно извиняясь за минутную вспышку. Сам он перестал курить два года назад, в тюрьме, куда его бросила царская охранка за большевистскую агитацию в московском стрелковом полку. И с тех пор стал недолюбливать курильщиков, особенно тех, кто после себя оставляет задымленные комнаты, окурки на подоконниках, пепел на столах.
Семен Гаврилович Рябов, гася в пепельнице самокрутку, попытался свести к шутке раздражение начальника:
— Больше куришь — меньше спишь, свежим ходишь. Пососешь цигарку — в голове ясно.
Рябова весело и охотно поддержал, скручивая «козью ножку», Валерий Ивлевич Петухов.
— Благодать, Максим Андреевич, затянуться, дымком поужинать, сон прогнать, работать-то опять до утра придется. Без нее, цигарки родимой, не выдержать.
— Ладно, не соблазняйте. Потолкуем о деле.
Белоусов основательно продрог в холодном кабинете и набросил на плечи прожженную порохом в нескольких местах шинель.
Рябов выразительно вздохнул, понимающе осмотрел одежонку своего начальника, переключился на серьезный разговор.
— О деле, Максим Андреевич, круглые сутки толкуем. Без работы не сидим. С утра до поздней ночи крутимся в засадах. И ты вместе с нами.
Петухов сказал:
— Своими силами выудить бьяковское отродье не сможем. Факт. Мысль верная: заслать в логово «Серого волка» нашего человека.
Белоусов, прихрамывая, прошелся по кабинету, закусив от боли губу.
— Задача стоит такая, товарищи заместители, до шестнадцатого января покончить с атаманом. Таким будет вклад к первому губернскому съезду Советов, на этот счет меня уже предупредили в ревкоме.
— Сегодня двадцать второе декабря, — заметил Рябов, — успеем ли?
— Календарь вон — на стене висит. Число не спутал, — упрямо боднул воздух Белоусов. — Вот и решайте, как быть. С чего начинать. — Помолчал, добавил, — перестраивать работу надо. Ловим мы пока мелких воришек, всякое жулье. А Бьяковский в сеть не идет. Значит, не там ее ставим… У Кривоносова что-то не ладится. Не дает нам пока желаемых результатов разведчик номер один.
Упоминание об агенте было своевременным. Уже несколько дней сотрудник Московского уголовного розыска Кривоносов, присланный на помощь Окской милиции, пытался внедриться в банду Бьяковского, но сведения от него поступали туманные, неточные. И хотя в записках, письмах, передаваемых через связного Савкова, Николай Кривоносов настроен был оптимистично, верил в успех, в управлении не разделяли его уверенности.
— Мне думается, — заметил Рябов, — он завел знакомство не с теми. Так в притоны Николай никогда не попадет.
— А может, он расшифрован, бандиты раскусили и используют его для обратной связи? Подсовывают ему липу, он передает ее нам, и мы бегаем, высунув язык, по его донесениям, как мальчики, — нервно проговорил Петухов.
Рябов, разминаясь, неторопливо поднялся из-за приставного столика, привычно поправил у переносицы очки. Семен Гаврилович был на редкость нетороплив по характеру, зато делал все прочно, наверняка. Следовал своей любимой поговорке: «Семь раз отмерь — один отрежь».
— Кривоносов расшифрован? Возможно. Но как? Это вопрос. Давайте на него ответим. Кто знал об операции? От кого могла просочиться информация к бандитам?
— Это все у нас впереди. Если в управлении засел предатель, то надо его немедленно выявить. Давайте приглядываться к каждому, кто знал о посылке Кривоносова в ресторан Слезкина. Кстати, нужно обезопасить второго разведчика, сузить круг лиц, знающих об операции вот до такого состава, — Максим Андреевич обвел рукой присутствующих.
Петухов с досадой кашлянул.
— От своих же обязаны скрытничать, — сказал он с раздражением, продолжая приглаживать расческой пшеничные густые усы, и тут же согласился: — правильное решение, о прибытии второго разведчика будем знать только трое.
— А связного забыл? — вставил Рябов.
— Четвертый он. Еще хозяйка консквартиры.
— Согласен. Согласен. Не имеем права рисковать жизнями приехавших по нашей же просьбе помощников из МУРа, — заключил Белоусов.
Зазвонил телефон.
— Слушаю, — произнес комиссар в трубку. — Так… где? Направляйте оперативную группу. И зайдите ко мне. — Максим Андреевич медленно положил трубку. Произнес подавленно: — Снова ограбление церкви. В городском парке. Сторожа нашли с кляпом во рту, связанного.
Он обвел взглядом озабоченных и примолкших заместителей. Один протирал очки, другой пушил расческой усы.
— Только отлегло от сердца, три дня не было грабежей и на тебе, — нарушил молчание Рябов.
— Что взято в церкви? — спросил Белоусов у вошедшего начальника оперативной части Дьяконова.
Тот расставил длинные, в хромовых сапогах ноги, отбросил легким кивком каштановую с проседью прядь волос.
— Похищено тринадцать золотых крестов, чаши, кадила, сорваны с икон серебряные и золотые ризы.
Сергей Викентьевич Дьяконов был уже в годах, с морщинистым лицом, с длинным тяжелым подбородком. Он, в прошлом офицер царской армии с университетским образованием, в дни революции перешел на сторону пролетариата. Порвал со своим классом, как написал в личном листе, и ревком направил его на ответственную должность в рабоче-крестьянскую милицию — очень уж нужны были образованные люди.
Сейчас он стоял посередине кабинета спиной к Рябову и Петухову, повернувшись лицом к начальнику. Широкий ремень плотно перепоясал новую кожаную тужурку.
— Сведения неутешительные, поэтому бездействовать нам нельзя, — подытожил Дьяконов, — необходимые мероприятия мною запланированы.
Белоусов раздраженно бросил:
— Среди верующих толкуют, что во всем виноваты большевики: не охраняют церкви от грабителей. А мы только планы пишем.
— Бандиты и распускают слухи, — возразил Дьяконов, с досадой потирая тяжелый подбородок. — Шельмуют Советы, подрывают в них веру.
— Нам от этого не легче. Мне завтра отчитываться на заседании Военревкомитета по охране ценностей старины… А доложить нечего.
Дьяконов быстро, как рапорт, отчеканил:
— Я продолжаю настаивать на своем предложении: следует немедленно арестовать всех в ресторане Слезкина.
— Так-таки всех поголовно? — с иронией спросил Белоусов.
— Да, а следствие покажет, кто из них какая птаха.
Рябов приподнял на лоб очки и язвительно отозвался:
— А вы не боитесь, Сергей Викентьевич, попасть под суд за такие ваши мероприятия?
Дьяконов исподлобья оглядел Рябова и снова остановил взгляд на Белоусове. Неторопливо, но с закипающей злостью стал возражать:
— Если в ресторане осиное гнездо, разве хозяин, Слезкин-старщий, не имеет к нему отношения? Если у официантов на глазах делят добычу, захваченную грабежом, — они что, овечки? И оркестранты не ангелы. Певичка Зося ходит вся в золоте — откуда оно? Словом…
Максим Андреевич прервал начальника оперативной части:
— Все, вроде, так. А все-таки где доказательства? Хватай, кто подвернется? Работать с завязанными глазами — это… — Белоусов потер коленку больной ноги, сделал несколько шагов по комнате, что-то еще хотел сказать, но болезненно сморщился и махнул рукой. — Вы свободны, Сергей Викентьевич.
Дьяконов четко, по-военному, повернулся и направился к выходу. Он понимал, что его недолюбливают в губмилиции. Хлопнул дверью. Свежая струя воздуха из форточки подняла, запузырила желтенькую занавеску.
Петухов подошел к двери, поплотнее закрыл ее и сочным баритоном, заставляющим вслушиваться в каждое произнесенное слово, сказал:
— Дел пропасть. Только за неделю ограблены пять хлебных лавок, харчевня, обоз с мукой и сахаром. У народного комиссара продовольствия вскрыт сейф, похищена крупная сумма денег. Если идти предложенным Дьяконовым путем, наверняка часть бандитов попадется в наши руки. Но среди них обязательно окажутся и честные люди. Как они воспримут действия новой власти?
— Тотчас возненавидят нас, — ответил Белоусов. — Но и другое: если мы будем долго толочь воду в ступе, а банда — продолжать безнаказанно убивать честных людей, то те же честные люди не поверят в новую власть. Какие мы для них защитники?
— У каждого из нас за плечами окопы, ранения, царская тюрьма. Опыт есть, да не тот, какой сейчас нужен. Образования кот наплакал. Уж лучше бы на фронт, там все ясно и просто, так, Максим Андреевич? — сказал Петухов, который быстро и прочно сошелся с начальником губмилиции.
— Образование! — воскликнул Белоусов, — в тюрьме заканчивал свой университет, немецкий и английский языки изучал, а какой от них прок? Труды Карла Маркса читал, выступления Ленина чуть не наизусть знаю. А вот обеспечить безопасность и спокойствие населения силенок не хватает.

— Образование мы получали политическое — практическое, у каждого на двоих хватит, за что вручались награды — ссылки и нагайки, — вторил Максиму Андреевичу Рябов. — А вот специального, юридического образования… Помнится, только лишь я пристроился в ученики к одному адвокату, да в аккурат меня в Петропавловскую упекли. Через год выпустили — на фронт — в саперную роту. Тут образование опять стал получать все то же: нашелся учитель-большевик. С ним мы и угодили в каталажку. Если бы не революция, сидели бы и сейчас.
— Ладно, что жив остался, — положил руку на плечо товарищу Петухов. — Сколько нашего брата за руки-ноги, да в яму.
— Так, кончай воспоминания. Четыре часа утра. В девять всем быть на квартире у Прасковьи Кузьминичны Овсянниковой. Предстоит встреча со вторым агентом МУРа.
Первым вышел из кабинета Рябов. Петухов подошел к запотевшему окну и закрыл форточку. Сапоги его, мокрые уже несколько дней, оставляли на полу грязные следы. Он дневал и ночевал в холодном кабинете, спал на промерзлом диване. Не хватало дров вытопить печь даже в комнате начальника управления.
Максим Андреевич смотрел в спину высоченного Петухова, чуть начавшую горбиться, и думал: «Опять предстоят большие расходы. Одеть нового разведчика с иголочки, дать денег на номер люкс в гостинице, богатый стол в ресторане. Окупятся ли затраты? Или все пойдет прахом, как с Кривоносовым?»
Петухов словно угадал мысли начальника и подлил масла в огонь:
— У одного разведчика не получилось. Будет ли толк от второго? Может, какими другими путями попробовать взять за горло банду?
Белоусов, застегивая шинель, с горечью произнес:
— Кто знает в нашем положении, что хуже, что лучше. Ведь ни у кого из нас нет не только юридической, но и специальной сыскной, что ли подготовки. Так что будем учиться. Будем ошибаться. Будем делать глупости. Будем приносить жертвы — и подчас напрасные… Что поделаешь? Кто, кроме самой борьбы, преподаст нам курс наук? Пока что я не вижу лучшего решения, как попытаться еще раз направить своего человека в лагерь неприятеля. Арестовывать всех подряд — не выход. Наломать дров — дело нетрудное. Убежден, что в логово Бьяковского проникнуть можно. Почему у Кривоносова не получилось? Предположений можно настроить много. Но очевиднее всего два варианта: либо среди нас есть предатель, который информировал шайку, либо сам Кривоносов, несмотря на отменную аттестацию, сплоховал.
— Возможно, он проявил нетерпение или сделал ставку не на тех людей, — откликнулся Петухов.
— Что-то одно из двух, — согласился Белоусов. — Для подпольщика отсутствие терпения смерти подобно. Об этом мы должны будем напомнить второму разведчику. Хотя наше задание срочное, но и горячка сейчас недопустима. Надо во что бы то ни стало перехитрить бандюг. На этот раз о новом разведчике будем знать только мы, трое, еще Федя Савков и Овсянникова. И Федор, и Прасковья Кузьминична проверены, как никто. Заслуживают полнейшего доверия. Итого, выходит, будут осведомлены пять человек. Круг самый узкий. В этом тоже должна быть гарантия успеха задуманной операции.
3. Столичные помощники
Двухэтажный бело-розовый вокзал станции Окск с зеленой жестяной крышей, множеством труб, полукруглых окошечек-иллюминаторов, обрамленных выступающими кирпичами, напоминал огромный, причаливающий к берегу, пароход.
От него влево и вправо шла узорчатая чугунная ограда, отделяющая станцию от привокзальной площади и сквера.
Сюда и прибыл на реквизированной у какого-то богатея мягкой рессорной двуколке, запряженной вороным жеребцом, Федя Савков, тайный сотрудник Белоусова. Каков из себя тот, кого нужно встретить, Федя примерно знал: чернобровый, крепкий, с небольшим шрамом в правом углу тонких губ, одет в пальто, должен заикаться.
Поезд Москва — Окск опаздывал. Медленно рассветало. Из окон-иллюминаторов вокзала на слякоть перрона опустились легкие тоненькие полосочки желтого света от керосиновых ламп. Электричество из-за повреждения электростанции в город еще не подавали.
Федор стал у изгороди, чтобы видеть своего жеребца, цокающего от безделья копытами. Улизнуть на нем какому-нибудь ворюге ничего не стоило. За конем надо было приглядывать. Опаздывающий поезд Федор прождал весь день.
Наконец, часам к восьми вечера, вдали послышался гудок приближающегося паровоза, а затем шум, лязганье вагонов на стрелках. Дежурный по станции ударил в колокол, извещая о прибытии пассажирского поезда.
Скрипя буферами вагонов, тормозами колес, московский состав подошел к вокзалу. Напротив Феди остановился вагон, на стенке которого обвисла промокшая широкая лента с надписью:
«Революционный привет Окску от Красной Москвы».
Люди с котомками, мешками, узлами, громоздкими фанерными чемоданами высыпали из вагонов и заполнили перрон. Среди прибывавших толпилось много военных, вооруженных винтовками, наганами, маузерами. Из предпоследнего вагона трое в шинелях и солдатских папахах выгружали ящики с боеприпасами.
Савков подошел к хвостовому вагону, как его инструктировал Белоусов, и без труда узнал того, кого ожидал. Осталось лишь для надежности его проверить. Поэтому он обратился к молодому человеку в серой шляпе:
— Чувствую, патроны в ящиках сгружают. Очень нужный нынче товар. Заждались красногвардейцы боеприпасы. Кое-кого и я давно жду.
— П-по-нни-маю. Б-бое-пприп-пасы — ппоп-полнение ну-уж-жное. Еще более рад тому, что мен-ня встре-чают…
Федор протянул руку гостю. Тот крепко и охотно ее пожал. Засмеялся. Приезжий, несмотря на тяжелую дорогу (путь в две сотни километров поезд преодолевал почти сутки), был в добром расположении духа.

Через минуту двуколка на пружинистых рессорах, расплескивая лужи, лихо понеслась по темным мостовым центральных улиц. От легких ударов кнута жеребец бежал быстро, шумно втягивая воздух ноздрями, и с удовольствием время от времени ржал. Конь, как и его хозяин, продрог от долгой стоянки. Через полчаса езды копыта мягко застучали по немощеным переулкам окраины города. Здесь особенно густой казалась темень, назойливей изморось.
Савков еще на вокзале пригляделся к гостю, который после того, как узнал в Федоре своего, перестал заикаться. Приезжий, ровесник Федору, почти на полголовы выше его ростом, хотя и выглядел бледным и утомленным, был энергичен.
В свою очередь гость незаметно несколько раз окинул Федора внимательным взглядом. Светловолосый, с мягкими чертами лица, задорно вздернутым носом, простой и общительный проводник производил приятное впечатление. Такие на фронте за товарища шли в огонь и в воду, В общем, они понравились друг другу. Муровец очень хотел спросить у Федора о своем товарище Николае Кривоносове. Как он тут? Здоров? Прижился? Как идут у него дела, но конспирация и осторожность удерживали младшего агента уголовного розыска от лишних, возможно опрометчивых вопросов. Он лишь спросил:
— Как у вас прошло восстание?
— Дрались несколько дней. По опыту Питера захватили телеграф, почту, вокзал, вышвырнули капиталистов, поддали их холопам под зад на заводах, фабриках, в присутственных местах. Хотели без кровопролития, да где там! Не вышло! Белогвардейские отряды прискакали из Брянска, Тулы, Смоленска. Бои местного значения идут до сих пор. Так что еще повоюем…
И тут же где-то в стороне раздались винтовочные выстрелы. Федор пояснил:
— Наши за бандитами, видно, гоняются… Много их развелось.
Федор вез сотрудника Московского уголовного розыска на особую квартиру. Оттуда должен начаться путь Тихона Столицына в логово банды Бьяковского.
Чем дальше они уезжали от центральных улиц, тем хуже становилась дорога. Двуколку подбрасывало на ухабах. Ехали почти вслепую в кромешной темноте и по слякоти. Кое-где через ставни пробивались редкие полосы света, лаяли собаки. Наконец, Федя натянул поводья: «Тпру». Слез с повозки, открыл ворота, взял под уздцы коня, провел его под деревянную арку и остановил посреди двора, тускло освещенного желтым светом, льющимся из окон одноэтажного домика с высоким крыльцом.
— Прошу, как говорят, к нашему шалашу, — произнес Федор и показал, куда идти. Гость вернул ему зипун, которым укрывал плечи. Оба поднялись по кривым ступенькам. Савков каким-то приспособлением в виде согнутого гвоздя открыл дверь, ведущую в сени. Затем распахнул вторую — и они вошли в маленькую столовую.
Остро и сильно пахнуло теплом, вареной картошкой, жареным луком, дымком от потрескивающих в печи на кухне смолистых поленьев, запахом милого и родного очага.
Проводник тут же исчез, а к гостю вышла моложавая, лет сорока, хозяйка квартиры.
— Добрый вечер, — приветливо произнесла она. — Раздевайтесь. Меня зовут Прасковья Кузьминична.
Гость поздоровался, поблагодарил женщину, снял шляпу, пальто. Посмотрел в зеркальце на стене, в котором отражалась вся небольшая комната с нехитрой обстановкой: столом, четырьмя стульями, буфетом; пригладил вьющиеся кудри и направился в сопровождении хозяйки в следующую комнату, где его ждали руководители губмилиции.
— Тихон Столицын, младший агент Московского угрозыска. Прибыл в ваше распоряжение, — отрекомендовался он.
Белоусов встал и, тяжело припадая на раненую ногу, с улыбкой пошел навстречу гостю. Протянул ему руку, почувствовал крепкое мужское рукопожатие. Назвал себя, представил заместителей.
— Садитесь, небось, устали с дороги. Мы вас поджидали еще утром, — начал разговор Максим Андреевич, — но, увы, не по расписанию нынче работает железная магистраль.
— Поезд намного опоздал, хотя и числился скорым. К тому же меня чуть не затерли мешочники. Но добрался благополучно, как видите, цел и невредим, — ответил, тоже улыбаясь, Тихон. Гость сразу произвел более выгодное впечатление, чем две недели назад его товарищ. Тот показался им менее общительным и более скованным.
— Курите, — с раскрытой коробкой папирос подошел к Тихону Петухов.
— Спасибо, вот уж чего не делаю, того не делаю, — смущенно отказался муровец.
«Прямо-таки красная девица, — вдруг добродушно подумал Рябов, — как ему поручать мужское опасное дело?» А Белоусов искренне похвалил:
— Молодец, что не куришь, и не кури. А то вот тут мои приятели утверждают, что курящий меньше голодает, дым в желудке, якобы, глушит аппетит. Ерундистика. Если засосет под ложечкой всерьез — махорка не поможет. Ну, это между прочим. А, вообще-то, соловья баснями не кормят. Проголодался, небось, за сутки езды.
— Не очень, — слукавил Тихон.
Как юноша ни старался зачесать пятерней свои смолисто-черные кудри, они упрямо спадали на гладкий, чистый лоб. И комиссар про себя отметил: «То, что нужно: ни дать, ни взять буржуйский сынок. Одеть, конечно, нужно соответственно и будет стопроцентный барчук».
Половинки дверей снова распахнулись. Хозяйка внесла сипящий, пузатый самовар. На столе появились сыр, картошка, хлеб и пирог.
При виде такой снеди у голодного Тихона закружилась голова.
— Мы тоже не обедали, так поужинаем вместе, — предложил Максим Андреевич.
Чтобы не выдать голода и продлить удовольствие, гость медленно ел бутерброд с голландским сыром, не спеша запивая его чаем.
Белоусов приступил к главному:
— В городе существует гостиница купца Слезкина. Имеем данные, что оттуда ведут нити в банду Бьяковского. Можно было бы прикрыть купчишку. Но дело не только в нем. Вряд ли в гостинице главная ставка бандитов. Атаман имеет много «малин» и притонов. Где? Это необходимо разведать. Банду надо вырвать с корнем и вместе с Бьяковским! Своих сил еще мало, из тех, кто есть, половина милиционеров, получая жалование, в ведомости ставят крестики. Вот и запросили помощи в МУРе. Поедете вторым разведчиком в логово «Серого волка». Ваш товарищ Николай Кривоносов, похоже, не из робкого десятка. В Москве ему сопутствовал успех, а здесь малость забуксовал. Что вы перестали есть?
— Кажется, насытился. Благодарю, ужин был царский. Разве еще кусочек пирога…
— Не стесняйтесь, будьте как дома, видим ведь, что проголодались… Так что скажете по поводу нашего предложения? — Белоусов с интересом ждал ответа.
— В разведку, так в разведку. А о друге Николае скажу только хорошее. Знает дело. Участвовал во многих ночных операциях, на Хитровом рынке, Смоленке, Сухаревке. В Марьиной роще вышел на чрезвычайно опасного бандита — дружка атамана московских грабителей Леньки Кошелькова. Без единого выстрела доставил его в уголовный розыск! Да и вообще многих преступников обезвредил. Награжден именными часами.
— И вы, я знаю, тоже отличились. Слышал, — улыбнулся Белоусов, — а сейчас помогите нам разделаться с окскими головорезами.
Тихон совершенно освоился, почувствовал себя свободно. Ему понравился спокойный и волевой Белоусов, озабоченный Рябов и Петухов, которые незаметно подвигали гостю свои дольки пирога.
Столицын поинтересовался, много ли людей знает о его прибытии?
— Мы трое, — обвел взглядом присутствующих начальник губмилиции, — связной Савков — четвертый, хозяйка квартиры Прасковья Кузьминична — пятая. Круг самый узкий. Мы тоже остерегаемся утечки информации. Могут быть и в нашей среде лазутчики того же Бьяковского. Народ в милиции, к сожалению, достаточно не изучен. Вы на фронте были? Чувствую солдатскую выправку.
— Почти год воевал, имел ранение. Сейчас здоров.
Столицыну задавали вопросы. Молодой человек толково на них отвечал. Сообщил, что до революции учился в университете, воспитывался у тетки в Москве, хотя родом из бедной мещанской семьи. Знает немецкий, немного — французский.
— То, что нам нужно, — воскликнул Белоусов и поднялся с места. Сделал шаг и поморщился от боли. Три глубоких борозды пересекли лоб.
Тихон прикинул: «Сколько же ему лет — сорок, сорок пять? Фигура, статность, как у молодого».
— Будете выдавать себя не просто за барчука, а за сына царского дипломата, спешно покидающего Россию. Улаживаете, мол, свои дела в Москве, но там оставаться не хотите, побаиваетесь расправы. Поджидаете, вроде бы, в Окске попутную оказию, чтобы двинуть за границу.
— Операция «Дипломат», — сказал Столицын.
— Что? — не понял Белоусов.
— Это так принято: каждую операцию называть каким-либо условным именем. Ну, вот…
— Понимаю, — усмехнулся комиссар. — Ну, что ж, «Дипломат», так «Дипломат», — и продолжал: — Документы заготовим какие следует. Комар носа не подточит. На эту приманку должны клюнуть бандиты, по крайней мере — заинтересоваться вами. Им ведь нужны связи с такими дипломатическими «тузами», никогда не помешают каналы, чтобы иметь возможность драпануть за границу… А стало быть, есть шанс войти в их среду. Нам будете посылать весточки через Федора. Надеюсь, познакомились с ним на вокзале?
— Вполне. За полчаса подружились, поняли друг друга.
— Он всем нам как родной, — заметил Петухов, поглаживая усы.
— Это точно, но приступим к делу. У нас очень мало времени. Люди живут в голоде, холоде, а тут еще бандиты измываются. Мы призваны обеспечить людям безопасность. А силенок у милиции еще маловато, — вздохнул Белоусов.
За последние дни он пожелтел, осунулся. Валерий Ивлевич и Семен Гаврилович знали, что он в пятнадцатом году был приговорен к пожизненной каторге. После Февральской революции выпущен из Петропавловской крепости с открытым туберкулезом легких. Дважды тяжело ранен на фронте.
Рябов и Белоусов уже не раз работали вместе. В четырнадцатом на фронте они выполняли общее задание партийной ячейки. Потом их судили за социалистическую пропаганду. Оба бежали из-под стражи. На время их пути разошлись. В октябре семнадцатого встречались в Окске. Когда Белоусова, ставшего членом ревкома, назначили начальником губмилиции, Максим Андреевич, не колеблясь, пригласил на должность заместителя по оперативной работе Рябова. Заместителем по наружной службе ревком утвердил фронтовика Петухова, ставшего тоже близким другом Максиму Андреевичу.
…Белоусов оглядел всех строгим взглядом.
— Вопросы есть? Нет! Пора по одному расходиться. Пусть наш гость отдыхает перед трудной работой.
Первым засобирался Рябов. Встал. Широкоплечий, приземистый, в широких яловых сапогах, кожаной тужурке, военного покроя фуражке, на боку маузер. Неторопливый, основательный. Затем ушел, слегка сутулясь, высокий, худощавый, в просторной шинели и штатской фуражке Петухов.
Белоусов остался наедине с Тихоном, еще раз поясняя обстановку:
— Проникновение в логово преступников под благовидной личиной считалось верным делом. Пойдем и мы по этой дорожке. Жить будешь — кум королю и сват министру. Деньжат дадим, золотые безделушки напоказ нацепим. Кое-какое трофейное барахлишко скопилось, наденешь. Без нас тут примеришь. Погляжу на тебя поутру. Извини, перешел на «ты». Тебе сколько лет?
— Девятнадцать.
— А мне, брат, в два раза больше. Так что имею право. А барахлишко есть, для дела не жалко… Итак, операция «Дипломат», говоришь? Годится.
— Не возражаете?
— Нет, зачем же? «Дипломат», так «Дипломат». Смотри только, чтоб и там тебя за дипломата сочли. А то они «возразят» по-своему, по-бандитски…
Максим Андреевич провел Тихона в спальню. Остановился у платяного шкафа. Открыл его.
— Складывай сюда свои доспехи. Рядом с одеждой друга.
Столицын жадно всматривался в кургузую тужурку, свитер, ветхий костюм, истоптанные туфли Кривоносова. С любовью подержал в руках связанный невестой Николая рыжеватый шарф. Острым взглядом нашел искусно заштопанную дырку от бандитской пули.
Кривоносов был ранен в шею на Хитровом рынке. Прямо оттуда его привезли в госпиталь. Поместили в палату, в которой уже лежал сперебинтованной грудью красногвардеец Тихон Столицын. Койки оказались рядом. За несколько дней молодые люди сдружились. Невеста Настя каждый день наведывалась к Николаю. Девушка из простой рабочей семьи была необыкновенно чутка, нежна с раненым. Тихон по-доброму завидовал товарищу. «Вылечусь — сразу женюсь, — давал зарок Николай, — а то упущу счастье». Но, вылечившись, закрутился, словно на карусели. Да и невесте, работнице центрального московского телеграфа, приходилось трудиться по двенадцать часов в сутки. Обоим было не до свадьбы. Потом Кривоносову выпала эта командировка в Окск.
Узнав, что туда же едет Тихон, Настя просила передать Николаю большой привет. «Скажи, Тихон, Коле, каждый день его вспоминаю. Люблю сильнее прежнего. Пусть скорей приезжает».
Вспомнилось все, что сделал для него Николай: нашел работу в уголовном розыске, дал угол в собственной комнате. Как настоящий друг, делился он краюшкой хлеба. Тихону очень хотелось увидеть Николая и обнять, как брата!
Из предложенной одежды Столицыну пришлись по вкусу темный сюртук, шелковый жилет, табачного цвета брюки, два костюма — серый и черный, пальто с бобровым воротником, две пары обуви и многое другое. Разных вещей набрался огромный чемодан. Теперь Тихону было в чем показаться людям.
4. Человек долга
Белоусов распрощался с Прасковьей Кузьминичной и снова направился в управление губмилиции, сказав Тихону: «Ночь не спи, а выработай к утру гордость за «свой» гибнущий буржуазный класс, переполнись заносчивостью. Войди в роль человека, который презирает революцию, Советы, накликает им скорую неминуемую гибель».
Хорошо знавший каждый переулок, даже каждый дом Окска, Максим Андреевич добирался до губмилиции кратчайшим путем, по привычке держа руку в кармане на рукоятке снятого с предохранителя пистолета.
Ветер усилился, трепал полы шинели. Стало подмораживать. Изморось превратилась в поземку. Она жестким веником хлестала пешехода.
Белоусов распахнул дверь в дежурную часть. И лицом к лицу неожиданно столкнулся с женой.
— Наконец-то! — вырвалось у нее. Анна с тревогой и нежностью глядела на мужа. Тот чувствовал себя виноватым: не пришел ни на обед, ни на ужин, как условились, и не предупредил. Надо было оправдываться, извиняться.
— Совсем закрутился, — примиряюще улыбнулся ей Максим Андреевич. — Прости, пожалуйста. Последний раз.
Аня глубоко вздохнула. А что делать? Укорять супруга? Устраивать семейные сцены? Это было не в ее характере, к тому же она знала, за кого выходила замуж.
— Как обстановка в городе, что нового? — спросил комиссар у козырнувшего ему высокого, красивого парня с повязкой на рукаве «дежурный по милиции».
— С минуты на минуту ждем грабителей, что напали на рабочую кассу хлебопекарни. На происшествие выехал Валерий Ивлевич Петухов. По телефону уже сообщили: преступников везут на подводе. Ранен наш милиционер Караваев. Он направлен в госпиталь.
— Пусть Петухов позвонит мне домой, когда вернется, и доложит подробнее. — Белоусов вошел в свой кабинет, за ним последовала Аня.
Она все-таки не сдержалась, чтобы не сказать мужу:
— Каждый день убитые, раненые. Разве мне легко весь день не иметь о тебе вестей?
— Больше не повторится. Клятвенно заявляю, — притворно-серьезным тоном сказал Максим Андреевич и шагнул к столу, открыл ящик.
— Смотри, а то рядом с тобой весь день буду ходить, — строго заметила Аня.
— На все согласен, — Белоусов вытащил из ящика пакет и передал жене. — Возьми, фунт сахара и полкило баранок. Теперь работникам милиции каждую неделю будут давать паек. Распоряжение Бугрова, так что с голоду не умрем. Помнишь Савелия?
— Ильича?
— Его.
— Как же, у нас на свадьбе поднимал тост за скорую революцию.
— Теперь председатель ревкома. Достается ему куда больше, чем мне. Не позавидуешь. У меня-то работенка тихая… А сейчас без задержки идем домой. Двенадцатый час ночи.
— Известное дело — домой. Хотя по тебе вижу, готов остаться здесь хоть до утра. Тихая у него работа, — не унималась Анна.
— Вот именно, почти тихая, — согласился Максим Андреевич, — но мы уходим и немедленно. Наряд хороший, дежурный надежный, нечего мне всех подстраховывать.
И, действительно, это было так. Костяк управления губмилиции составил отряд красногвардейцев, выделенный Военно-революционным комитетом. Это были проверенные, закаленные, бесстрашные сотрудники. Они подавали хороший пример мужества, выносливости, самоотверженного отношения к своему служебному долгу…
Белоусов вышел не через приемную, а через дежурную часть, где на стене висел боевой лозунг:
«Наша миссия почетна и ответственна — вести решительную борьбу с врагами социализма».
На улице Аня взяла мужа под руку и прижалась к его плечу.
Одеты они были легко, не для такого пронзительного ветра: Аннушка в старенькой цигейковой шубке и барашковой шапочке, Белоусов — в жиденькой шинели, фуражке, сапогах. Он шел, припадая на больную ногу.

— Бедный ты мой комиссар. Я так волнуюсь, так переживаю за тебя. Все время удивляюсь, откуда у тебя столько сил. Прошлую ночь спал два с половиной часа. Позапрошлую и того меньше. Я не помню, чтобы ты вечером лег, а утром встал. Завтра когда будить? А вернее, сегодня уже?
— В пять, Аннушка, в пять, а то опоздаю на важную встречу. — Он взглянул на циферблат своих карманных часов «Павел Буре». Как бежит время! Стрелка уже перевалила за полночь. А сам подумал: «Надо успеть раненько, чуть свет, побывать у Прасковьи Кузьминичны. Самому убедиться в готовности Тихона. Малейшая оплошность может загубить дело».
В это время к управлению подъехала подвода. Двое милиционеров начали стаскивать с нее связанного грабителя. Взмыленный конь храпел, над ним клубился пар.
— Стой, погоди! — всполошился Белоусов и, повернувшись к жене, просяще добавил, — надо сходить, разобраться!
Но Аня крепко сжала его руку. Стала на цыпочки и приблизила свое лицо к лицу мужа.
— Ну, что ты маешься? Без тебя Петухов и Дьяконов разберутся. На каждого бандита разве тебя хватит? Больше доверяй своим помощникам.
— И то правда, ты у меня молодец. Все. Пошли спать.
Сердце Максима Андреевича переполнилось нежностью к жене. «Измучил ее. Всю мою милицейскую тревогу делит она вместе со мной. Ну что бы ей сделать приятное? Вот сейчас, именно сейчас, когда есть на это время? Сказать что-нибудь хорошее, что ли?» И он с нежностью произнес:
— Какая же ты у меня замечательная. Очень легко мне с тобой. Как жаль, что так мало времени нам выдается побыть вместе.
Аннушка опять сильно прижалась к локтю мужа, приноравливаясь к его ковыляющему шагу. А Белоусов с чувством продолжал:
— Повезло мне с женой. Долго выбирал и не ошибся. Умна, заботлива, красива…
— Ну, ну, совсем расхвалил… смотри — зазнаюсь.
— Нет, правда. Часто сравниваю тебя с самыми известными красавицами, даже с Верой Холодной. И никто ни в какое сравнение не идет, — он весело улыбнулся жене.
— Ну довольно, довольно, а то растаю…
— Говорю точно. А фигурка? — продолжал Белоусов.
— Ты у меня неслыханный врун! Ну какая там фигурка, — Аннушка доверительно и многозначительно хохотнула, — особенно сейчас. Хотя бы скорей!
— Да, да, хотя бы скорее, — согласился Максим Андреевич, — подожди, еще чуть-чуть, добьем банду и легко вздохнем.
— Вот-вот, ты все о своем…
— Нет, о нашем. Тогда я по ночам реже стану работать. Много времени буду рядом. И все пойдет своим чередом.
5. Дела семейные
Едва они оказались дома, прямо в прихожей Максим Андреевич, раздевшись, приблизился к жене, ласково положил руки на ее плечи, поцеловал в шею, голову, потрепал ее темно-русые волосы, обнял. Бесконечно дорога была она для него.
…Пять лет назад Ане, восемнадцатилетней, милой, красивой девушке из бедной семьи, сделал предложение сын известного в городе купца Слезкина. Штабс-капитан приехал тогда к родителям на побывку. Он ходил в зеркально-блестящих офицерских хромовых сапогах, в шинели из отличного английского сукна, на погонах выделялась красная полоска по зеленому полю.
Мать уговорила Анну принять предложение богатого жениха, захотелось старушке безмятежного счастья для дочери, ибо знала, как трудна жизнь женщины, вышедшей замуж за рабочего человека, на себе испытала.
Поддалась уговорам Аня и стала женой заносчивого гуляки Ильи Слезкина. Она никак не ожидала, что при первом упреке мужу на нее обрушится свекровь.
— Как ты смеешь, голь перекатная, делать укоры мужу? Ты должна ноги ему целовать. Кто вытащил тебя из собачьей конуры? Живешь в хоромах, ходишь в шелках. Еще голос подашь… сама поколочу! — грозила свекровь, а пьяный Илья, ухмыляясь, кивал.
— Точно-с, так и будет-с. Я маманю знаю…
Улучив минутку, Аня собрала в узелок все свое приданое и сбежала из особняка к родителям, в хатку с двумя подслеповатыми окошечками и сарайчиком, где визжал поросенок и кудахтали три курицы.
Уязвленная свекровь тут же заставила сына расторгнуть брак с Анной. Чуть больше года она была купеческой женой. После развода пошла работать в военный госпиталь сиделкой, затем, окончив курсы, стала сестрой милосердия… Эту историю Белоусов хорошо знал.
Сейчас Аня высвободилась из объятия мужа и шутя заметила:
— Поцелуями сыт не будешь. Пойду разогрею картошку и чай. Иди мой руки.
Белоусов открыл кран, склонился над раковиной, поймал ртом брызжущую струю и быстро, чтобы не заметила Аня, напился сырой воды. Никак не. мог он привыкнуть к внушаемой ему Анютой («без пяти минут доктором», как любил он ее называть) мысли: «сырая вода вредна, так как она подается из загрязненных источников».
Аня уже зажгла керосинку и в халате, тапочках легко, бесшумно двигалась по кухне.
Максим откровенно залюбовался ею. И хотя у жены уже начал обрисовываться под халатом живот, она по-прежнему была стройна и, как многие беременные женщины, еще более мила, обаятельна и даже величественна. Ее карие глаза, обрамленные сверху широкой дужкой черных бровей, снизу — синевой от усталости и недосыпания, смотрели спокойно и нежно. Белоусов невольно вспомнил первое знакомство с Аней в военном госпитале.

Временное правительство, образованное в результате Февральской революции, первые месяцы особо не притесняло ни организаций, ни собраний большевиков. В Окске в открытую формировались и обучались отряды красногвардейцев. Однако с середины лета семнадцатого года положение резко изменилось. Начались стычки красногвардейцев с юнкерами; те вскоре перешли в открытое наступление, взялись за ликвидацию большевистских комитетов. Однако раненых красногвардейцев пока беспрепятственно продолжали лечить в военном госпитале.
А с 28 июля в госпиталь перестали принимать раненых большевиков и начали досрочно выписывать недолечившихся красногвардейцев.
Савелий Бугров направил свой отряд во главе с Белоусовым в госпиталь.
— Где кабинет главного врача? — спросил Максим у встретившейся ему, в заставленном койками с больными узком коридоре, кареглазой, хорошенькой, в чистеньком, до блеска накрахмаленном халате девушки.
— А зачем он вам? — спросила та. — Я дежурю по этому этажу и должна ему доложить, кто его хочет видеть.
— Мандаты при нас. Ведите прямо к нему. Мы из комитета большевиков.
— Ах, вот оно что, — неожиданно для Белоусова обрадовалась девушка. — А я-то думала от эсеров. Вы насчет своих раненых? Поговорите с ним. Мы, медсестры и нянечки, хотим объявить забастовку, если так будет продолжаться. Больные все одинаковые. Никаких различий между ранеными не должно быть, — торопливо говорила девушка.
— Как вас зовут? — с интересом спросил Максим, которому понравились такие рассуждения. — И кем здесь работаете?
— Зовут меня Анной, работаю сестрой милосердия. Сочувствую большевикам, — и, словно отвечая на вопросительный взгляд Белоусова, тихо сказала:
— Отца на днях избили нагайками полицейские. Так кого же мне любить и уважать?
— За что так отца? В чем он провинился?
— Выступал с воззванием к рабочим вагонного цеха железнодорожных мастерских. Там он работает слесарем.
— В митинге участвовал и только!
— Именно. Вы понимаете, они получают в два раза меньше, чем в других цехах. Их замучили штрафами. Отец от имени уполномоченных цеха призвал рабочих к стачке, пока администрация не удовлетворит их требований.
— Что за требования?
— Повысить расценки вдвое. Отменить сверхурочные и работы в праздники. Удалить мастера Филимонова за дикие издевательства над рабочими и шпионские доносы в полицию. Но Филимонов вовремя позвонил куда следует. Налетели полицейские, секли отца и еще троих уполномоченных нагайками. Пригрозили арестом. Отец третьи сутки пластом лежит в постели, весь в синяках…
— Сейчас они все могут, — возмутился Белоусов. — Отцу нужно пойти к врачу и засвидетельствовать побои. Справка пригодится. Не все их верх будет.
— Да кто ему даст нынче такую справку?
— Пусть не говорит, что от полиции пострадал, а скажет: хулиганы избили…
В госпитале Максим Белоусов довольно быстро и точно справился с заданием. Сочувствие персонала к его словам было полное: раненые красногвардейцы так же нуждаются в помощи медиков, как и все остальные. Маленький лысый главврач в очках с золотой оправой враждебно молчал, но, видимо, покорился воле большинства.
Когда Максим вышел из госпиталя, словно из-под земли выросла сестра милосердия Аня. Она была в кофточке поверх платья, косыночке. Без халата. «Значит, сдала дежурство и уходит домой», — подумал Белоусов.
— Спасибо вам… Теперь все должно быть по-другому. Вы так страстно, убедительно говорили. И мою историю привели в пример. С отцом. Я было испугалась, а потом подумала, пусть…
— Да как же было ваш пример не назвать? — Белоусов вдруг осекся и неожиданно спросил: — Вам куда?
— На улицу Пушкина. Это далековато. Окраина.
— А что если я вас провожу?
— Спасибо. Буду рада. Тем более, я боюсь ходить по улицам, когда стемнеет. От сумерек до утра в городе хозяйничают бандиты. Вы же знаете.
— Идемте.
Дорогой оба молчали, им совсем не хотелось говорить, им и так было хорошо друг с другом.
Наконец Аня сказала:
— Пришли. Здесь я и живу с сестрой, мамой и отцом. Если бы не так поздно, зашли бы в палисадник посидеть на скамейке.
— В другой раз. Я к вам обязательно сам зайду на днях в госпиталь. Позвоню, узнаю, когда вы дежурите, и приду.
— Можете даже завтра, я снова работаю в день.
Она неловко, «лодочкой», протянула на прощанье руку:
— До скорой встречи, Максим Андреевич. Так вас назвал главный врач.
— Да, именно так.
Белоусов, попрощавшись, почувствовал давно не испытываемое волнение.
Прошла суматошная неделя. Белоусов как-то под вечер оказался на городском митинге в парке. И вдруг у самого уха раздался знакомый голос:
— Вот где я вас встретила.
Это была Аня.
— Здравствуйте, — Максим нежно сжал руку девушки, — какими судьбами вы здесь оказались?
— Честно?
— Конечно. Мы же друзья.
— Предчувствовала, что вы будете на митинге. Искала встречи. Может быть, не стоило? — она словно с вызовом бросила на него лукавый взгляд.
И снова была прогулка в сумерках. Теперь Максим был приглашен в дом.
Там он познакомился с отцом Ани, который уже ходил, все еще охая от боли в боках, с матерью — чудесной простой женщиной, — Максим быстро нашел с ними общий язык. Он понравился всем в семье Ани.
Когда в конце сентября Белоусов собрался в Москву на встречу с Ногиным, он отдал ключи от своей квартиры Ане.
— Посмотри за ней.
— С удовольствием. Я приду на вокзал вас провожать.
Здесь, у подножки вагона, они впервые поцеловались.
Он ей сказал:
— Но ведь я намного старше вас?
— Тебя, а не вас. Это во-первых, а во-вторых, это не имеет значения. Хочу всегда быть рядом с тобой, если согласен… Возвращайся скорей и береги себя.
Потом была скромная, но счастливая для Ани и Максима свадьба.
6. «Такая у них служба»
После ужина Белоусов вспомнил о ненаписанной докладной записке в губком партии и, хотя сон морил его, он все-таки превозмог себя и сел за стол. Пока жена мыла в кухне посуду, настрочил две страницы отчета.
Вошла Аня, вытирая о подол фартука руки.
— Хватит писать. Давай хоть пять минут поговорим о семейных делах.
Белоусов поднял глаза на жену, сказал невпопад:
— Обязательно поговорим…
— Да отвлекись ты, Максим…
Она подошла к мужу и взъерошила волосы; в эту минуту лицо Белоусова было совсем юным, как у мальчишки.
За недолгие месяцы супружеской жизни Аня поняла, что одно ее присутствие развеивает у Максима тяжелые думы. Но сейчас она готовилась рассказать о своих тревогах. Однако, не решаясь, начала разговор не с того, с чего хотела.
— Стены в нашей комнате хорошо бы побелить. Надо пол к Новому году и кухню привести в порядок.
— Сделаем ремонт следующим летом. Но ты чем-то обеспокоена? Похоже, не ремонтом. По глазам вижу. Выкладывай, что стряслось?
— Спрашиваешь, что? Слушай. Встретила Сергея Слезкина, брата бывшего мужа. Он сказал, что Илья в городе. Оставил полк. То ли по ранению, то ли просто дезертировал.
— Его роту разбили под Орлом. Я это знаю. Илья в списке тех, кого мы ищем… Аннушка, я бы с удовольствием купил тебе билет и отправил к матушке в Подольск. Мне спокойнее будет. Говорил с твоими родителями — они тоже «за».
— Нет, Максим, и не думай. От тебя никуда не уеду. С тоски там умру. Изведусь от неизвестности: что тут с тобой.
Зазвонил телефон.
— Слушаю. Ну-ну. Так. — Белоусов хлопнул себя по лбу. — Этой ночью? Донесение от Кривоносова? Иду. Сколько человек с Дьяконовым? Двенадцать? — Начальник милиции положил трубку и стал быстро собираться.
— И ты пойдешь? Уже час ночи, — расстроилась Аня.
— Это на полчаса. Засекай время. А лучше ложись спать. Приду, нырну в тепленькую постель. Очень срочное дело.
Белоусов покрутил барабан нагана. Вложил оружие в боковой карман демисезонного пальто.
— Ты не в шинели?
— Надоела за день, намокла, тяжелая, плечи оттянула.
Он поцеловал расстроенную жену. Вышел из квартиры. Тускло горели фонари на улицах города. Из головы не шел разговор об Илье Слезкине. Если здесь, значит, будет всячески вредить. Любому большевику из-за угла перегрызет горло, как бешеная собака.
Нестерпимо заныла нога. Он едва доковылял к церкви, которую по чрезвычайному сообщению разведчика Кривоносова этой ночью должны грабить бандиты. Максим Андреевич хотел лично убедиться в надежности засады, в готовности опергруппы во всеоружии встретить шайку атамана Бьяковского.

Анна не ложилась спать без мужа. Укутавшись шерстяным платком, накинув на плечи пальто, она начала гладить свежее, вымерзшее на балконе белье. Мысли сначала крутились вокруг той же неприятной новости о том, что Илья Слезкин в городе: как бы из этого не вышло что-нибудь худого для нее и Максима: «Может быть, действительно, — думала Аня, — зиму провести в деревне у Максимовой родни?..»
Часы пробили час ночи. Анна вышла из квартиры и поднялась со своего второго этажа на третий. Легонько постучала в дверь. Через минуту она стояла в прихожей Рябова. Его супруга, Наталья Кирилловна, флегматичная, полная, розовощекая женщина успокоила Анну.
— Не томитесь зря. Идите отдыхайте. Чай, ребенка ждете. Вам покой нужен. Послушайте меня, старую, троих родившую, не волнуйтесь. И моего нет. Значит, оба на службе.
— Обещал прийти через полчаса и нет. А вдруг что случилось? Вот чего я боюсь.
— И мой все время под утро заявляется. Такая у них работа. Одно слово — рабоче-крестьянская милиция. Придут невредимые.
Анна немного успокоилась, попрощалась с Рябовой и вернулась к себе. Но спать до прихода мужа так и не легла. Ей мерещилось, что Илья вдруг внезапно напал на Максима, ранил или, того хуже, убил…
Наконец-то щелкнул ключ, хлопнула дверь. Муж! На глазах Анны заблестели слезы радости. Она выбежала в прихожую.
— Все глаза проглядела, ждать устала. Порохом от тебя пахнет. Стрелял, что ли? Рассказывай.
Анна сняла с мужа пальто, фуражку, потерла ему уши, щеки.
— Шапку носи, уже мороз на дворе. Зима наступает. А он в кепочке в такую стужу прогуливается.
— Обязательно выполню все твои указания. А теперь давай спать. Ты хочешь баю-бай? — скрывая озабоченность, шутливо проговорил Белоусов.
— Очень.
— Я тоже. К тому же рано вставать. Но часа четыре в запасе есть, можно, так сказать, отдаться Морфею.
В постели Максим сделал вид, что сразу заснул. На самом деле, его не покидали беспокойные мысли о только что проведенной операции. На первый взгляд, все оказалось так, как сообщил Кривоносов. Выходит, разведчик все-таки вошел в доверие? Возле церкви Дьяконов подполз к Белоусову и, задыхаясь от волнения, прошептал:
— В цвет попали. Засада удачная. Кривоносова стоит там держать. Через него головорезов выловим, молодец парень.
«Однако бандиты не полезли в церковь, а всего лишь обстреляли ее. Стало быть, — думал Белоусов, — они знали о засаде. Нет ли в этой ситуации разгадки всех наших провалов? Грабители подошли к церкви, пошумели и удалились. Маскарад! Значит, Кривоносова бандиты продолжают водить за нос? Он расшифрован! Я это понял, а почему Дьяконов не догадался? Почему настаивал оставить разведчика в логове банды?»
Белоусову нравился начальник оперативной части — энергичный, расторопный, грамотный. Одним словом, бывший фронтовой офицер. По деловым качествам он — находка для управления губмилиции. Надо к Дьяконову попристальнее приглядеться, больше ему доверять. Мало ли бывших офицеров стали в дни революции истинными защитниками простого народа?
Но мысли стали путаться. Белоусов осторожно, чтобы не потревожить сладко спавшую жену, повернулся на бок, вытянул поудобнее ноги и сразу расслабился. Голова утонула в мягкой пуховой подушке. Долгожданный сон сковал его.
7. Агент № 2
В эту ночь Столицыну не хотелось спать. Он снова и снова, в который раз, подходил к отобранной для него одежде, примерял один, второй костюмы, набрасывал на шею галстук. «Эх, — с улыбкой думал Тихон, — хорошо бы в сюртуке, лакированных туфлях появиться в родном городке. Хотя, наверное, все знакомые и родные здорово перепугались бы…»
Тихону едва минуло семнадцать, когда в его подмосковный городок пришло извещение о гибели отца на германском фронте. Семья осталась без основного кормильца. Мать всю надежду возлагала на старшего сына — Тихона. Какой ни есть, а мужчина.
Но судьба Тихона уже решена была по-другому. В хату забрел исправник, низкорослый, кривоногий, со своей неизменной суковатой палкой. У хозяйки, Анастасии Савельевны, екнуло сердце, почувствовала женщина неладное.
Исправник снял широкий синий картуз, пригладил пальцами волосы. Про себя удивился: «Беднота мещанская, а поди ты, Тихона сколько годков учили на разных языках калякать, на роялях Шопенов выводит, а вот я их сейчас и разочарую…»
— Минутное к тебе дело, да важное, — очень серьезно начал «гость», вытирая ноги у порога о подстилку, — надобно вот что сказать.
Глаза у Столицыной невольно заслезились.
Исправник шумно вздохнул, отпихнул от себя подвинутый хозяйкой стул. Послюнявив ладонь, снова сосредоточенно прилизал вихры.
— Лютует германец. Не удержим его, всех задушит, сюда ворвется. Депеша пришла. Из городка нашего пятерых солдат надо. Перешерстил все хаты. Один из пятерых — твой. За Тихона не бойся, образованный, в университетах обучался, писарчуком будет, знамо дело, не пропадет.
Оборвалось сердце у Анастасии Савельевны от страшного известия, она рухнула на скамью и запричитала:
— Какой из Тихона вояка? Побойся бога! Ведь отец наш положил голову за царя и отечество. Господи! Где милосердие?
Исправник осерчал:
— Бога не чипляй. Может, Тихон твой и до окопов не дойдет: смотришь, к начальству переводчиком возьмут, германскую речь знает. А там перемирие, толкуют, на носу. Три девки у тебя — аль не подмога? Чего ревешь? У других и того хуже. Ну, рассуди, кому еще идтить в окопы? Мало ли, что нам хочется, да не всегда так можется.

Через месяц Тихон в шинели и яловых военных сапогах был под Брестом. Огляделся и стал набираться ума. Читал солдатам листовки: «Долой самодержавие!» и был готов идти за членами полкового комитета хоть на русского царя, хоть на германского Вильгельма. В окопах приняли его в партию большевиков, избрали членом полкового комитета. Он считался грамотеем. Писал письма по просьбе солдат, составил на митинге фронтовиков документ о полномочиях полкового солдатского комитета. Сочинил на немецком языке два воззвания к солдатам противника: призывал сложить оружие и возвращаться по домам.
Осенью семнадцатого года солдатская жизнь и вовсе пошла кувырком. В окопы прилетела весть: в Питере свергнуто Временное правительство, «Да здравствует революция!». Солдатская братия покидала окопы, фронтовики отправились громить помещиков и капиталистов. В полку проводились митинги и собрания. Ораторы показывали мандаты и оглашали свои полномочия на формирование красногвардейских отрядов. Не прекращались бесконечные горячие споры.
— Помогнем Питеру и Москве! — страстно призывали ораторы. — Вперед, до полной победы!
На одном из митингов в казарме, в узком проходе между двухъярусными койками, Тихон пробрался к столу. Там стоял здоровенный балтиец, увешанный гранатами, лентами с патронами и маузером. Он, сверкая воспаленными от бессонницы глазами, растолковывал солдатам, почему надо бороться за рабочее и крестьянское дело.
— Вертаетесь в деревню? Там встретите кулаков и помещиков. Они вам землю не отдадут. Путь к хлебу лежит через победу рабочих в столицах. Записывайтесь в отряд! Докажите пролетарскую солидарность. Подходи! Называйся.
Солдаты оцепенело молчали.
— Что притихли, вояки? — взволнованно обратился к солдатам Тихон. — Уполномоченный большевиков верно толкует. Другого пути нет. Воткнешь штык в землю, вернешься домой, а там что ждет? Опять кабала?
Кто-то зло возразил:
— Пятый год вшей кормлю. Леший с ней, с революцией, мне позарез жену увидать желательно. А кто баламутит народ, те анархисты и христопродавцы.
Другой солдат тут же возмутился:
— Чего ж ты врешь: «Пятый год на фронте!» Ты же со мной призывался в прошлую зиму. В теплушке вместе бока мяли.
— Пущай не пятый год, да все равно умаялся. А дом есть дом. Он манит. Силенка в наличии имеется. Осьмушку хлеба всегда заработаю, хоть у того же помещика. Все не в дерьме, не в окопах!
Задвигались, зашумели все разом.
— Записывай, морячок, меня! С поклоном к помещику не пойду! — возвысился над толпой голос Тихона.
И еще несколько человек притиснулись к матросу, называя свои имена.
Ранним ноябрьским утром балтиец, по фамилии Валуев, ставший командиром красногвардейцев, привез отряд в революционную Москву. Большевики уже взяли власть, но город напоминал военный лагерь. Отряд бросили в самое пекло. Дрались за каждый переулок. Тихона выбрали комиссаром отряда. Он метался под пулями, подбадривал солдат и сам стрелял по врагам революции.
На шестой день Тихон получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Врачи готовились подчистую списать молодого красногвардейца с воинской службы, но Столицын категорически возражал:
— Вы же меня заживо хороните, — возмущался он.
— Ты, парень, — говорил доктор, — нас не обвиняй. Когда тебя в палату внесли, смерть твоя рядом шла. Пуля пробила грудь в сантиметре от сердца.
На соседней койке лежал жизнерадостный парень, года на два постарше Тихона. Своей общительностью он многим надоел. А Тихон слушал его часами, иногда сам задавал вопросы. Парень рассказывал о своих товарищах по службе в милиции, о том, как неделю стоял на посту недалеко от кабинета Ленина в Смольном и каждый день видел Ильича.
— Нашу роту, — говорил Николай, — сменили латышские стрелки, а я вернулся в Москву, в отряд по борьбе с бандитизмом. Выздоравливай, — твердил он Тихону, — и приходи в Знаменский переулок, в МУР, там Николая Кривоносова спросишь, вместе зададим бандитам перцу!
— Со шпаной возиться или революцию делать, тоже сравнил, — возражал Тихон.
— Чудак, — кипятился Кривоносов, — они ведь тоже враги. Представь себе, едет обоз с продуктами, доставляют питание красным. А банда подстерегла и оставила пустые подводы. Люди ждут хлеб, а им кукиш. Много навоюешь без продуктов? Воры — та же контра. Уясни себе. Побудь на Сухаревке, Хитровом рынке, увидишь, как эта сволочь губит революцию.
Перед самой выпиской из госпиталя проведать Столицына пришел балтиец, командир отряда Валуев. Он одобрил решение Тихона пойти вместе с Николаем Кривоносовым в уголовный розыск.
В первую же ночь после госпиталя Николай привел Тихона в свою маленькую комнату, предложил кровать, себе постелил на полу, а утром привел в Знаменский переулок и весело подтолкнул его к двери с табличкой «Отдел личного сыска».
В кабинете за широким письменным столом восседал здоровенный матрос, очень напоминавший балтийца — командира красногвардейского отряда, Валуева.
— В чем дело? — поднял матрос на Тихона усталые глаза.
Тут из-за спины друга показался Кривоносов. Матрос даже подскочил на стуле:
— Мать честная! Николай на ногах, жив! — Матрос крепко стиснул его в объятиях.
Всласть налюбовавшись выздоровевшим товарищем, узнав все, что нужно, матрос остановился перед Тихоном:
— К нам захотел? Но здесь не сладко. Как в окопах.
— С фронта он, Иваныч, два ранения имеет, — за товарища ответил Николай, — как за себя ручаюсь.
Матрос весело подмигнул:
— Что ж, рекомендация подходящая.
Тихон продолжил.
— Могу доложить. Комиссован, хотел вернуться домой к матери. Да, вот, — Тихон кивнул на Николая, — товарищ Кривоносов сосватал к вам…
Матрос посерьезнел:
— Верно сделал товарищ Кривоносов. Сам Ленин сказал: вести беспощадную борьбу с бандитами, хулиганами, расправляться как с контрой! — Матрос достал чистый лист бумаги. — Пиши заявление.
Задав еще несколько вопросов, начальник сыскного отдела вывел на заявлении:
«Зачислить младшим агентом уголовного розыска».
— Возьмешь в подшефные, — сказал он Николаю. — Из твоего друга может получиться толковый сыщик. Молодой, но повидал жизнь. Большевик. А пока — отвечаешь за него головой.
Вскоре Тихон в числе других сотрудников ехал в грузовике гонять спекулянтов и ловить грабителей на Хитровом рынке. Оттуда, попугав контру, разных воришек — мелких и крупных, они с Николаем пешком возвращались домой. Вечерняя Москва жила тревожно. Вдоль кремлевской стены фонарщики в фуфайках, в шапках с опущенными ушами, зажигали газовые фонари.
— Рабоче-крестьянская милиция, — горячо говорил Николай, — это тебе не буржуазная полиция. Не очень-то легко попасть к нам на службу. Берем в основном большевиков, проверенных в борьбе с контрой, рабочих и крестьян.
— Не агитируй, — отмахнулся Тихон. — Не новичок. Целый день прослужил в сыскном отделе.
— Хорошо! Значит вошел в коллектив. Так вот: завтра утром на разводе расскажешь милиционерам о Программе партии. Первое тебе партийное поручение. Я член комитета нашей партийной ячейки.
— Если ночью на задание не поднимут.
Кривоносов хлопнул себя по лбу:
— Мать честная, паек хлеба в отделе оставил. Ладно, кипятку напьемся. Промоем кишки.
Из-за угла вышли трое рослых мужчин. Один в солдатской шинели, двое — в пальто.
— Закурим? — подошел тот, что в шинели, белолицый с усами.
Тихон и Николай нащупали в карманах рукоятки револьверов. Двое в пальто подняли воротники.
— Не курим, — спокойно сказал Тихон. — А такими, как вы, поинтересуемся.
— Ого! Любопытство, как говорят, не порок… — усмехнулся усатый.
— Предъявите документы. Мы из угрозыска, — прервал его Николай.
Усатый выхватил пистолет. Тихон успел ударить налетчика по руке. Оружие полетело на мостовую. Незнакомцы бросились наутек. Николай все-таки успел подставить усатому подножку, а Тихон тотчас же навалился на упавшего бандита. Откуда-то вынырнул патруль, которому милиционеры сдали задержанного.
До самого дома друзья шли молча.
8. Расшифровали?!
Утром в дом Прасковьи Кузьминичны приковылял Белоусов. Рассказал Тихону про ночную схватку у церкви. Добавил:
— Выходит, донесения Кривоносова — липа. Дурачат Николая бандиты. Значит, не пользуйся его связями, ищи новые. Присмотрись повнимательней к тем, кому доверяет Кривоносов.
Белоусов сидел на стуле, вытянув поудобнее раненую ногу. Соединив кончики пальцев рук, придирчиво рассматривал одевающегося Тихона:
— Чувствуется, пригляделся к аристократам, повидал барчуков.
— Всю ночь внушал себе, что я чистокровный буржуй, — усмехнулся Тихон.
— Не зарапортуйся, — вдруг сменил тон Максим Андреевич. — Люди Бьяковского убьют любого так же просто, как выпьют кружку самогона. Говорил, что умеешь на рояле музицировать? И этим пытайся взять.
Тихон укладывал в чемодан вещи. Белоусов продолжал:
— И еще, не забывай малейшие тонкости этикета. Особенно важно привлечь внимание певицы Зоси. Культурная, образованная, воспитанная девушка, к тому же артистка. Она тонкая натура и любую погрешность заметит. И еще немаловажное дело — языки. Где следует, вверни французское или немецкое словечко. Надеюсь, сможешь.
— В полку был нештатным переводчиком. Немчуру — пленных ко мне доставляли. Штабс-капитану — а уж он-то из дворян — переводил.
— Носовые платки, носки не забыл?
— Положил. Этим занималась Прасковья Кузьминична.
— Добро. Ну что тебе еще сказать на прощанье? Впрочем, довольно инструкций. Ты в университете повращался среди богачей, так что не оступишься.
Тихон вышел из квартиры и бодро зашагал с чемоданом в руке.

На Обозной, Никитской, Гостинорядской улицах с тротуаров убирали гильзы и груды кирпича. Заступала в караул первая смена постовых. Милиционеров разводил Петухов. Тихон узнал его издалека.
Уже рассвело и Столицын мог прочитать вывешенные на зданиях плакаты:
«Все на фронт», «Рабочий и бедняк-крестьянин, защити Советскую власть».
Чувствовалось: хотя в городе победила Советская власть, удар в спину можно было ожидать в каждую минуту.
Тихон пошел мимо Гостиных рядов, полюбовался зданиями, свернул в узкую улочку, оттуда вышел на широкую площадь. На ней располагались гостиница и ресторан Слезкина: два двухэтажных здания с массивными парадными дверями.
Перед вывеской гостиницы Тихон остановился. Что его ожидает?
К этому времени полностью рассвело. Через неплотно задернутую штору в крайнем слева окне второго этажа пробивалась полоска света. «Может быть, в этом номере живет Николай Кривоносов. Где-то здесь он обитает», — с приятным волнением подумал Столицын…
За спиной Тихона раздался веселый и громкий разговор.
Громче всех надрывался тенором мужчина:
— Зося, не забудьте мою просьбу, душечка. Умоляю. Доставьте удовольствие! Исполните мой любимый романс.
— И я заказывала. Уж подруге не откажешь, — нараспев просила женщина.
— Не знаю, не знаю. Я простудилась, — кокетливо ответил мелодичный голос, — и так очень много пою. Вам ли на меня обижаться?
Тихон обернулся. Шумная компания находилась от него в трех шагах. Он встретился глазами с девушкой в серой меховой шубке. Пышные волосы выбивались из-под пухового платка, щеки на морозе зарумянились. Под руку ее вела девушка пониже ростом, в шляпе. Сзади них Тихон увидел двух молодых людей. Компания, чуть потоптавшись у подъезда, скрылась за дверью ресторана.
Тихон вошел в вестибюль гостиницы. В кресле сладко храпел бородатый детина. На столике стояла недопитая кружка пива.
— Милейший, довольно спать. Нужен отдельный номер, — громко сказал Тихон.
— Что? А? В милиции были? — осведомился швейцар неопределенного возраста, стараясь спросонья сообразить, кого бог послал в такую рань и как с этим посетителем надо разговаривать.
— Что я там забыл? — высокомерно и недовольно произнес Тихон.
— Через комиссариат нынче велено, — покрутил швейцар седой головой. Говорок на «о» выдавал в нем нижегородского мужика.
Где-то хлопнула дверь. В вестибюль вошла полная, в красном сарафане и белой кофте, женщина лет сорока. Она многозначительно подмигнула швейцару.
— Можно и без милиции. Ваши документы? — сказала она Тихону, осматривая его с ног до головы. — Надолго к нам? Дорогой вам номер или подешевле?
Выяснив все подробности, женщина позвала совсем юную горничную.
— Лизавета, проводи молодого человека в пятый люкс-нумер. Клиенту там понравится. Приборочку в нумере потщательнее делай. Комнату запишу за тобой.
Приезжий поблагодарил по-французски.
По мраморным, очень чистым ступенькам Тихон поднялся вслед за девушкой на второй этаж, по узкому длинному коридору прошел в самый дальний его конец.
9. Откровенный разговор
В дежурной части управления Белоусова ждала сводка преступлений, совершенных за ночь: бандиты грабили, убивали, словно милиции не существовало.
Позвонил по телефону Бугров. Он просил Белоусова прибыть на заседание бюро и доложить о проделанной работе.
— Медленно, очень медленно, Максим Андреевич, наводите в городе порядок, — посетовал секретарь губкома партии.
— Мы все делаем, Савелий Ильич, сотрудники переведены на казарменное положение. Во всех глухих местах выставлены посты. Вчера при налете на лавку Фидмана задержали троих, одного, оказавшего вооруженное сопротивление, расстреляли на месте.
— И все же налетчики себя чувствуют вольготно, уже лезут за историческими произведениями искусств, обнаглели до предела. Принимаем меры по мобилизации коммунистов вам на помощь. Контра распространяет клевету о том, что Советская власть не признает неприкосновенность личности и имущества граждан. Необходимо выступить в ближайшем номере газеты с разоблачением.
— У населения еще много оружия, — холодного и огнестрельного, что осложняет работу. Нужно издать распоряжение о немедленной и обязательной его регистрации.
— Распоряжение такое подготовим. Теперь особо скажу о церквях. Религия, конечно, дурман для народа, однако церкви — это не только религия. В них — творения золотых рук наших предков. Бесценные сокровища! И эту красоту разоряют. Почти все тридцать церквей опустошены, — с горечью говорил Бугров.
— Товарищ секретарь, полагаем единственно правильным решением войти в «логово врага». Также необходимо срочно создать специальные отряды красногвардейцев для охраны собора, музеев, церквей. Там должны быть установлены круглосуточно посты. Милиция пока не располагает нужными силами.
— Да, посты необходимы. Согласен. Во что бы то ни стало найдите гнездо бандитов с награбленной церковной утварью, верните ее по принадлежности. — Тут Бугров сделал паузу:
— Товарищ Белоусов, через месяц губернский съезд Советов. До его открытия наведите порядок в городе. В самое кратчайшее время жду результатов. Уничтожьте банду Бьяковского. Доберитесь до этого осиного гнезда — там наверняка найдется все церковное золото, картины, оружие. Как будете действовать — решайте сами. Паруса вами подняты, теперь управляйте людьми. Это я уже, как бывший моряк…
…В этот вечер на охрану города, по решению губкома партии, вышли двести пятьдесят бойцов. Среди них было много большевиков. Петухов едва успевал разводить красногвардейцев по постам. Никогда еще не доставлялось в управление губмилиции столько нарушителей порядка, схваченных на месте преступления. В газете появилось объявление:
«Всех граждан, пострадавших от нападения бандитов, просим прийти в управление губернской милиции для опознания задержанных грабителей».
Люди пришли. С их помощью удалось опознать и арестовать троих опасных преступников из банды Бьяковского.
Но губком не мог ежедневно оказывать такую помощь. Через два дня бандиты совершили вооруженное нападение на три церкви сразу и убили двух сторожей, оказавших сопротивление. Вновь поднялось недовольство и волнение граждан.
Расстроенный Максим Андреевич спросил своих заместителей:
— Что будем делать? Сидеть, ждать от сотрудника МУРа донесений? Считаю, надо действовать самим.
Рябов оживился:
— Как секретарь нашей партийной ячейки предлагаю провести завтра открытое партийное собрание…
— Верно, — одобрил Белоусов. — И пригласим Бугрова. Маловато у нас еще большевиков.
— Каждый третий.
— Лучше бы каждый второй. Да и кроме того… Увлеклись ловлей банды, людей загоняли, отдыха не знают. Что мы им дадим? По фунту баранок? Надо и на доброе слово не скупиться. Встречаться почаще следует, особенно большевикам.
В маленькой дежурной комнате, среди различных объявлений, появилось еще одно:
«Сегодня, в 6 часов вечера состоится открытое партийное собрание. Повестка: «Истребим к съезду Советов банду хищников».
В назначенный час в кабинет Белоусова сходились сотрудники: большевики и беспартийные. Несли стулья, скамейки. Просторная комната заполнялась людьми в свитерах, военных френчах, пиджаках, гимнастерках, кожаных тужурках.
— Максим Андреевич, погляди на своих орлов, — с удовлетворением сказал Бугров, — бодры, подтянуты, словно не они неделями сидят в засадах, рискуют жизнью, получают ранения, а то и гибнут. Ребята что надо, прямо-таки морская братва.
— Народ боевой, — подтвердил Рябов и добавил по-деловому:
— Форму бы им одинаковую.
— Верно, — одобрил Бугров. — Блюститель порядка издалека должен быть виден. Подыщите на складах у торгашей сукно. Только, конечно, не цвета старыхполицейских мундиров. Пошьем костюмы. Скупиться не станем на стоящее дело…
— Пора начинать. Открывайте партийное собрание, Семен Гаврилович, — попросил Белоусов.
Рябов постучал карандашом о графин с водой, и зал стал затихать.
— Товарищи, из сорока большевиков — присутствующих двадцать два. Шестнадцать человек на постах, двое в госпитале. Какие предложения?
Первым выступал Белоусов. Он волновался, но говорил четко, энергично, в нескольких словах охарактеризовав оперативную обстановку. Больше напирал на недостатки работы.
Комиссары трех участков, на которые разделен город, проделали большую работу, но не справляются с учетом поступающих от населения заявлений. Не используется в должной мере инструкция несения службы. Милиционеры то стреляют без надобности, то забывают в нужных случаях применить оружие. Сотрудник милиции Фомкин за самоуправство отдан под суд. По-прежнему продолжаются грабежи, убийства, кражи из продовольственных лавок. Безоружные сторожа ничего не могут поделать с бандитами. Необходим бдительный надзор за всеми продовольственными пунктами, лавками и складами. Сторожей следует вооружить…
Молодые милиционеры слушали внимательно и после выступления Белоусова стали вносить предложения. О борьбе со спекуляцией. О пресечении попыток владельцев магазинов взвинтить цены.
Острый, интересующий всех вопрос, поставил молоденький милиционер Хандорин.
— Меня интересует, — сказал он, по-взрослому сдвинув брови, — вот мы здесь сидим, а друг друга не знаем. Вчера на банду я с Баранцевым ходил, и пока не узнал, каких он кровей, своего же напарника опасался. Мы друг друга в лицо знаем, а вот подноготная каждого от нас скрыта.
Его поддержали:
— Хандорин дело говорит. Пусть начальник доложит, откуда зачислены люди. У кого какое происхождение и все такое. Пусть товарищи не обижаются. Проверить всех нас надо доподлинно и придирчиво.
Поднялся Белоусов:
— Не зря, считаю, интересуетесь. Людям властью доверено оружие, важные государственные и служебные секреты. Что у нас за кадры? Скажу: из рабочих сорок семь сотрудников, остальные из крестьян. Фронтовиков пятьдесят шесть человек. Буржуев нет. Каждого вновь принимаемого стараемся тщательно проверять и без соответствующих характеристик и рекомендаций в штат не зачислять.
Комиссар почувствовал, что вопрос задан неспроста: до милиционеров дошли сведения о бывшем царском офицере Дьяконове. Он ждал, что следующий вопрос последует непосредственно о нем. Но все молчали. Слово взял Бугров. Расстегнув видавший виды матросский бушлат, он нетерпеливо взмахнул тяжелой рукой, попросил полной тишины.
— Кратко расскажу о положении в стране. Оно катастрофическое. Одно за другим мы получаем горестные известия. — Секретарь губкома осмотрел исхудалые, напряженные лица работников милиции.
Вошел дежурный с запиской для Белоусова. Бугров повторил:
— Катастрофическое! Создались заторы на железной дороге. Заводы и фабрики замерли без сырья. Здесь говорили о спекуляции. Спекулянт, торгаш, мешочник — враг нового строя. Владимир Ильич Ленин сказал, что с этой сволочью надо расправляться так, чтобы на все годы запомнили. Задачи милиции вместе с только-только созданными органами ВЧК решительно и беспощадно пресечь антигосударственную деятельность всех и всяческих врагов Советской власти. Вы, наверное, знаете, как сейчас обижаются верующие на большевиков? То, что они бьют лбы перед иконами — их беда, а не вина, но сейчас они лишены возможности посещать церкви — и виноватой выходит Советская власть. Потворствуем, вроде бы, мы бандитам. Чем опровергнуть такое обвинение? Ни один налетчик на месте не задержан. Банда Бьяковского безнаказанно лютует. Камеры тюрьмы заполнены, но там за преступления против церкви никто не сидит. Товарищ Белоусов, я не ошибаюсь?

— Нет, напротив, вот только что дежурный доложил о новом бесчинстве. Убит священник Троицкой церкви на Семинарской улице. Похищены иконы в серебряных ризах, два золотых ковша, лампады, тарелки, престольный крест. Словом, унесли все подчистую.
— Ну вот! Того гляди бандиты в комиссариат рабоче-крестьянской милиции залезут. Оружие надежно храните?
— Надежно, но уже были случаи нападения и на управления, — ответил Рябов.
— Нет, товарищи, никто не хочет обвинять вас в нерадении или трусости, — сказал Бугров. — Мы верим вам. Но давайте обсудит по-деловому, что нам мешает лучше работать. Чем нужно помочь милиции?
Говорили о многом — о снабжении боеприпасами и о расстановке постов, о связях с ВЧК и о правилах поведения милиционеров на посту. Кто-то сказал: «Нам вот некогда за хлебом в очередях стоять, а есть-то надо».
Бугров поднял ладони и его могучая, обтянутая тельняшкой грудь напряглась:
— Вы думаете, губком партии не заботится о вас, первых защитниках революционного правопорядка? Но сейчас мы слишком бедны. Однако уже принято решение, и вы будете по списку получать на участках продукты. Норма пока не бог весть что: фунт сахара и килограмм баранок на неделю. К новому году дадим понемножку пшена…
10. Герман Карлович Беккер входит в роль
Сдав необходимые документы, Тихон весь день не покидал гостиницу, бродил по коридору, надеясь наткнуться на Кривоносова. Обедал в буфете на первом этаже, подстригался в парикмахерской, общался с лукавой, повеселевшей горничной Лизой. Она заменила в графине воду, отутюжила костюм, затопила печь для подогрева воздуха в ванной.
— Я вам и свечки заменю, — нежным голоском ворковала девушка, — свежие газеты принесу. А еще чего бы вы желали?
— Ничего, Лиза, зовите меня Герман Карлович. Давно в горничных?
— Почитай, уж год. Уж если что не так делаю, скажите! — ясное, милое личико горничной выражало искреннюю заботу.
— Я вами доволен, Лиза.
— Вы чудной, Герман Карлович. У нас заезжие все больше пристают, руками куда не след лезут, непристойное нашептывают да чертыхаются. А вы такой спокойный, добрый.
Она застенчиво улыбнулась.

Тихон улыбнулся в ответ и коснулся губами чистого лба девушки. Лизу растрогала невинная ласка нового постояльца, она тут же помчалась к своей подруге Шурочке Лаптевой:
— Вот это человек! Одет с иголочки. Бородка — загляденье. Обходительный. Господи, бывают же красавцы! Побегу, полотенце ему сменю. Еще взгляну, душу отведу. Через каждое наше слово по-иностранному лопочет.
— Никак влюбилась, Лизка? — удивилась опытная в таких делах подруга. — Да он же теперь тебя голыми руками сцапает. Как удав кролика.
— Его самого-то хоть в куклы заставляй играть. Скромный.
— Поглядеть бы. Неужто лучше моего Рудольфа Поруки, что в десятом номере?
— Куда твоему косолапому. Мой высокий, ровненький, как юнкер, даже еще лучше.
— Посмотреть бы, — мечтательно протянула Шурочка.
— Увидишь. Успеешь. Он от нас в Австрию, сказывал, уезжает. Ждет заграничного паспорта. Родители за кордоном, а он в университете доучивался.
— Это же надо, все разузнала…
И в то же время в канцелярии гостиницы о новом постояльце вели речь управляющая — худосочная, пучеглазая старуха Соболева и дородная распорядительница Гоголева. Они ругали швейцара Степана за то, что тот суется с разговорами о милиции к приезжим.
— Может, он этой милиции боится пуще медведя в лесу, а у нас и без того половина номеров пустует.
— Не трещите, сороки, — зло огрызнулся усатый швейцар. — Ждите, бабы, и до вас милиция доберется. Посадят в казенный дом. И меня заодно. — Степан приложил палец к виску. — Шурупить надо. Потому и прощупывал залетного. Много их ноне оттедова, от новой власти, проверяют нас тайно… Энтот-то, что в десятом номере, на втором этаже, Рудольф Порука, никакой не торгаш, а сам черт не ведает кто. Назвался Порукой. Мы ему верим. А дружки мне толковали: агент он из губмилиции.
Женщины, казалось, были потрясены:
— А ходит, носом водит, что тебе гусь, не замутит воды… — всплеснула пухлыми руками Гоголева.
— Вот и приглядитесь к новому. За атаманом, хлопцы сказывали, дюже охоча нонче милиция! Так-то!
— Рудольф Порука этот вторую ночь где-то пропадает, — шепотом сообщила золотозубая Соболева.
— В деревню Березово увезли его наши хлопцы, уговорили, мол, вожака там увидишь. Глядишь, и придушат чекиста, — Степан протер мутные глаза и скрутил цигарку…
— Ох, Степан, — с тревогой покачала головой управляющая, — втянул ты нас в пакостное дело. Арестуют… ни за понюх табаку.
Степан, не отвечая, выпустил струйку дыма.
— Окаянный ты, из-за тебя теперь ночью не засну. Выгода от твоих награбленных тряпок копеечная! — продолжала управляющая. Она подошла к выключателю и щелкнула им. — Обещали сегодня запустить электростанцию. Все керосином пропахло.
— Тихо, бабы! — насторожился швейцар.
По лестнице спускался Тихон. Швейцар подобострастно согнулся перед новым постояльцем.
— На прогулку изволите? Это-с самое разлюбезное занятие для молодых людей.
— А что, милейший, ресторан далеко?
— Как же-с, совсем рядом, вход за углом. Заведеньице купца Слезкина. Приятного-с аппетита.
Тихон небрежно сунул швейцару рублевку. Тот подобострастно засуетился:
— Мерси. Премного-с благодарен.
— Цену себе знает, — причмокнула Соболева.
— Важная птица, — вторила ей Гоголева.
Степан посмотрел вслед Столицыну и неопределенно хмыкнул.
На площади перед рестораном собралась толпа. Тихон подошел ближе и увидел: люди окружили двух купцов в дорогих шубах. Один из них, постарше, объяснял:
— По городу распространяются слухи, что будто мы завезли в магазины большие запасы муки. И якобы, мы обратились к властям с просьбой расширить свободную торговлю хлебом. Это ложь. Поверьте нам: разгружали в склады алебастр, а не муку. Нет у нас хлеба.
— Паника, господа хорошие, уж не извольте сомневаться, — добавил купец. — Муки кот наплакал.
Стоявший рядом с дорогими шубами милиционер с красной повязкой на рукаве тужурки обратился к народу:
— Вам все понятно, товарищи, об этой муке? Со своей стороны могу сообщить: комиссариат продовольствия делает все, чтобы не было полной голодухи. На днях завезут нужное количество продуктов. Просили так вам передать. А сейчас расходитесь безо всякого шума.
Ощущение голода Тихон помнил с самого детства. Были дни, когда мать делила между детьми краюху чернушки, намазанную тонким слоем смальца. Но в общем-то Тихону повезло. Его, восьмилетнего, мать отдала в Москву, к зажиточной и образованной родственнице, та определила Тихона в гимназию, а затем и в университет, где он первым шел по всем дисциплинам. Но тетка умерла — и кончить университет не удалось, пришлось вернуться в подмосковный городок.
Столицын стряхнул у порога ресторана снег с туфель и уверенным шагом направился по узорчатому половику к гардеробной.
Старичок-гардеробщик, принимая пальто, посмотрел на Тихона явно недоброжелательно.
Столицын подумал: «наш» и остался доволен произведенным впечатлением. Даже старичок-гардеробщик, повидавший на своем посту немало состоятельных людей, принял его, Тихона, за одного из них!
Причесывая волосы перед зеркалом, Тихон поглядывал на объявление:
«Зимний городской театръ. Дирекция Е. Ф. Боур. Сегодня и до конца декабря «Набатъ», пьеса въ 5 действиях».
По другую сторону зеркала бросался в глаза еще один анонс:
«Художественный кинематографъ», Никитская площадь д. Благовещенского. Телефон 315. Сегодня съ участием Коралины и Полонского «Смерчь любовный». Драма в 4 частях. «Паташон противъ Шерлока Холмса». Комическая».
Раздвинув тяжелый бордовый занавес, Столицын вошел в пустеющий зал. Перед ним тотчас вырос официант и выжидающе склонил старательно прилизанную голову.
— Прошу удобный столик, — буркнул Тихон. — У меня ждать нет времени.
— Отдельный номер? — понимающе улыбнулся официант. — Прошу пройти за мной…
— Нет, нет. Здесь. — Тихон обвел взглядом большой зал с колоннами: уютно, чисто.
— Пожалуйста, вот у окна, — официант отодвинул стул, махнул над столом салфеткой.
Тихон взял в руки меню, но официант опять склонился к нему и тихо произнес:
— Есть лепешки с творогом, кофе. Из мясного — холодец. Что будете заказывать?
— Откуда же, любезный, запах мяса? — недовольно приподнял брови Тихон.
— Конина, старье, не угрызете. Уже давно не было баранины или свинины. Поджарить?
— Несите все съедобное, я голоден. Но не конину, — Тихон брезгливо сморщился.
Столицыну показалось, что в зале он не произвел должного впечатления. К нему не бросились. Официант, устраивая его, хотя и был вышколенно вежлив, но без того подобострастного угодничества, с которым лакеи обычно принимают богатых гостей. Внезапно Тихон показался сам себе жалким в чужом наряде.
— Побыстрее, милейший, — сердито сказал он. — У меня нет охоты ждать!
Это подействовало:
— Один момент, — официант побежал на кухню.
А Тихон уже мысленно ругал себя и за неуверенность, и за невесть откуда взявшееся ощущение одиночества и тоски. Похоже, на миг сдали нервы. Он вновь подумал о Кривоносове. В течение дня Николай должен был ему встретиться в гостинице. Однако этого не случилось. Может быть, его вообще здесь нет? Тогда — где он и что с ним?
За спиной послышалось шуршание шелка и мягкий женский голос. Столицын обернулся, по залу шла девушка, которую он видел на улице утром. Встретившись взглядом с Тихоном, она вдруг почему-то поздоровалась.
Официант с усиками сказал девушке:
— Зосенька, проходите в номер.
— Буду ужинать здесь, — капризно повела она плечами. — Вкусненькое только несите.
Большие глаза еще раз на мгновение остановились на Тихоне и скользнули в сторону.
— Вы сегодня будете петь? — поинтересовался второй пожилой официант, подойдя к девушке. — А то музыканты… запаздывают.
— Дайте отдохнуть, оркестр у подруги на свадьбе.
— Почему же вы, Зосенька, не у подруги?
— Представьте, есть причины. Но я здесь и не изводите меня расспросами!
За окном темнел вечер. Официанты начали готовить керосиновые лампы, но тут, к общему ликованию, в хрустальных люстрах вспыхнул электрический свет.
Девушка села так, что Тихон то и дело встречался с ней взглядами. Настроение у него поднималось: она явно была здесь завсегдатаем. Официанты ублажали ее. Загадочно улыбаясь, девушка поправляла голубую, стягивающую золотистые волосы ленту, кокетливо стряхивала с колен салфеткой крошки, давая понять, что ощущает устремленные на нее любопытствующие взгляды. «Изящна, грациозна, — перечислял про себя Тихон. И сделал вывод: «Красавица». И Зося размышляла на свой лад: «Откуда взялся этот глазастый Дон Жуан? Что за кудри, бородка! Совершенно неожиданная личность в нашем городе».
Три дня подряд Тихон обедал и ужинал в ресторане, умышленно не связывая себя никакими знакомствами. Успел послушать концерт Зоси. Продолжал обмениваться с ней многозначительными взглядами. Анализируя ее положение в здешнем кругу, ее знакомства, он понял, что с ней стоит завести дружбу, она, возможно, располагает нужными сведениями.
11. Первый приемный день
Проводив очередной отряд большевиков на фронт, Максим Андреевич возвратился в управление. У него снова разболелась нога да так, что он едва не стонал. Вспомнились слова жены: «Тому, кто работает по двенадцать часов в сутки, здоровья не сберечь. Непременно позвоню в губком, чтобы обратили на тебя внимание. Калекой можешь стать».
Скорее всего, Аня права. Слечь, действительно, можно в одночасье. Он, хмурый, вошел к себе в часть. Дежурный принял стойку «смирно».
— Что нового? — устало спросил Белоусов.
— Зарегистрированы четыре грабежа и поступило заявление об утрате документов. Товарищ Дьяконов написал докладную записку по всем происшествиям и прилег отдохнуть у себя в кабинете.
— Разбудите его и пригласите ко мне.
Снять напряжение оперативной обстановки никак не удавалось. Чувства тревоги, вины, неудовлетворенности мешали думать и спокойно работать.
— Сегодня у вас, Максим Андреевич, приемный день, — напомнил дежурный. — Сами установили, в газете оповестили. Две гражданочки еще спозаранку приходили. Говорят, читали в «Голосе народа». Вот, мол, и пришли по делу.
Белоусов вздохнул, как бы раскаиваясь в своей преждевременной затее, однако твердо ответил:
— Помню. Непременно буду принимать. Только предварительно спрашивайте, кто по какому вопросу. По срочному — пропускайте без очереди. Особенно, если кто с заявлениями о тяжких преступлениях.
В это время в дежурную комнату вошел мрачный Рябов. Он ввел в комнату пьяного, прилично одетого парня.
— Мастер железнодорожных мастерских, — с возмущением говорил Семен Гаврилович. — Пьянствует. Спекулирует спичками. Что будем с ним делать, товарищ начальник?
Молодой человек, шатаясь, начал спорить:
— Нет, я не пью. Спокойно от-от-дыхаю. Потому как — свобода. Рево-люция. Имею право.
Белоусов ввел его к себе в кабинет. Вошел следом и Рябов, плотно закрыв дверь.
Притворившись пьяным, связной телеграфист Федя Савков сразу отрезвел и стал сообщать новости:
— Кривоносов вернулся из-за города. Лично с ним все благополучно. Жив. Вот его донесение.
Белоусов развернул записку:
«Три дня я плутал по лесу около села Березово. Был и в самом логове. Чудом сбежал из пекла. Теперь точно знаю: официант Леонид сообщник банды. Он заманил меня в ловушку. Вся ложная информация, что ранее шла к вам, исходила от него. Банда имеет связь с милицией. Мне сказали: «Ты агент из Москвы. Приехал помогать местному угрозыску». И все же не торопитесь меня отзывать. Завтра новогодний бал-маскарад. Приду в маске. Тихону будет очень нужна моя помощь».
— Боюсь за Николая, — Максим Андреевич выпил воды. — Он может расшифровать напарника. И для него самого риск большой.
— Надо думать, они знают свое дело и все предусмотрят, — ответил Рябов, когда связной с поручением для Николая и Тихона ушел через запасную дверь.
— Ладно… Поживем — увидим. Кто же предатель среди сотрудников, где искать врага в комиссариате? — спросил Белоусов. — Кроме нас, знал о Кривоносове Дьяконов, — начальник управления многозначительно посмотрел на заместителя и плотно сжал губы.
— Последние дни он какой-то неуравновешенный, непохожий на себя. То молчит, то говорлив без меры… Нервничает, срывается в разговоре с милиционерами.
— Ну, вот тебе и задание: посерьезней присмотрись к Дьяконову. Понаблюдай за каждым его шагом. Он всегда вызывал во мне двойственные чувства. Я никогда не понимал его до конца.
Едва Рябов вышел, как в кабинет к начальнику зашел Дьяконов, легкий, как говорят, на помине. Щелкнул каблуками сапог и стал докладывать оперативную сводку. Белоусов как-то рассеянно слушал его. Мысли были заняты другим. Максим Андреевич смотрел на длинные, холеные пальцы своего помощника, листавшие бумаги, и вспоминал операции по захвату бандитов в продовольственных магазинах, у церкви. Там впереди всегда был начальник оперативной части. И опять сомнение охватило Белоусова: «Может ли такой быть предателем? А что? Вполне. Он просто завоевывал доверие, притупляя нашу бдительность».
Подошли часы приема граждан, и Белоусов, как только ушел Дьяконов, направился к двери, через которую слышалась перебранка нетерпеливых посетителей — каждый из них доказывал свое право идти на прием первым.
Начальник управления распахнул дверь.
— Входите! Не спорьте, всех приму.
Дежурный кивнул сгорбленному старику:
— Идите, вы просились первым.
— Да, да, иду. Разрешите на аудиенцию? — галантно поклонился тот и высморкался в огромный платок.
— Прошу, — войдя за посетителем в кабинет, Белоусов указал на стул. — Присаживайтесь. Слушаю вас.
Старичок причмокнул влажными губами.
— Пальтишко из драпа, представьте, похитили. Нельзя ли, господин начальник найти? Стоит не меньше пятисот.
— Будем искать. Где ваше письменное заявление?
Маленькое, сморщенное, как печеное яблоко, лицо старика напряглось.
— Обязательно напишу-с… Еще два костюмчика похитили, пару сапог. Полушубок. Соседи подсказали: двое выходили из квартиры в мое отсутствие.
Белоусов, уточнив еще несколько деталей, адрес заявителя, все аккуратно записал и заверил посетителя:
— Придет к вам сотрудник.
— Если какие сведения желаете, — вкрадчиво предложил посетитель, — соседи засвидетельствуют.
— Сами кто будете? — Белоусов макнул перо в чернила.
— Я-то? Пенсионер. Работал в канцелярии присутственных мест. Пользовался доверием. Напрасно не стал бы вас беспокоить. Вещичек-то ой как прискорбно жаль.
— Будем искать. Примем меры, — уверил его Белоусов.
Провожая взглядом уходящего посетителя, начальник губмилиции подумал: а тем ли он занимается? Может, такие мелочи лучше передать кому-либо из подчиненных? Но мелочи ли это для посетителя? И не из таких ли мелочей складывается у людей оценка новой власти — насколько она, эта власть, в силах охранить своих граждан от всяческих бед и напастей?

Через минуту в кабинете Белоусова кричала растрепанная, взволнованная женщина:
— Ротонда на лисьем меху! Бархатная! За тысячу не купишь. Сняли ночью с дочери. По голове ее били. Стучит в дверь. Выхожу: батюшки, девочка вся в крови. Слушайте, найдите разбойников!
— Вызовем вашу дочь, выясним обстоятельства нападения. Успокойтесь, сделаем все, что в наших силах. Нужно составить протокол…
— Не о протоколах речь! — горячилась женщина. — Взялись — защищайте. Я, знаете, самому главному напишу, если что. Ночь не спала. Такое безобразие. Вы гарантируете, что разыщите и в дальнейшем обеспечите безопасность нашей жизни?
Белоусов ответил утвердительно. Пообещал, что сотрудники немедленно приступят к розыску грабителей.
— Спасибо, — женщина пригладила меховой воротник пальто. — Ухожу. Вот еще что. — Она перешла на доверительный шепот. — Мужчина сейчас войдет, будет на меня жаловаться. Хотел раньше прорваться. Не терплю таких нахалов. Позже меня пришел, а лезет. В общем, вам абсолютно верю.
Посетители шли до обеда. Последним не вошел, а вкатился круглый, как колобок, мужчина, сел на предложенный стул, стал мять в руках шапку. И никак не мог отдышаться. Часто моргал, лицо выражало испуг и растерянность.
Он хотел что-то сказать, но только всхлипывал. Наконец посетитель дрожащим голосом вымолвил:
— Сугубо лично. Я никуда не пойду и нигде этого больше говорить не буду. — Он приложил к лицу платок, утирая нос, лоб.
— Что случилось? В чем дело?
— О, как бандиты мстят! Меня предупредили. Нож в спину! — встревоженный мужчина заговорил еще тише: — Ужас. Среди бела дня ворвались четверо в квартиру. Издевались над женой. Связали меня. Все в шинелях. С погонами. Убили мою мать — она ударила бандита по лицу. Они ее стали душить, а когда бедняжка упала, стихла, ей все равно стискивали горло. Ах, мерзавцы! Убивают людей без жалости! У нас семья — шесть человек, гости сидели. И тут… Особенно один, в форме прапорщика, с георгиевским крестом на шинели. Мне показалось, я его узнал. По голосу. Он изменил внешний вид. Взяли десятка два золотых вещей: кольца, серьги, браслеты, цепочки, портмоне, часы. Столовое серебро.
— Вы их опознаете? Раньше встречались?
— Один был учеником гимназии, по голосу узнал. Я учитель. Его исключили. Осоков Леонид. Он работает официантом в ресторане Слезкина. Пытается ухаживать за моей племянницей, горничной в гостинице, Лизой. Она нам все рассказывает. А мы против этого анархиста. Он знает и нас ненавидит.
— Идите домой. Считайте, я принял ваше заявление, — сказал Белоусов. — Про Осокова пока никому ни слова. Это особое дело! Мы им займемся.
— Ну-ну, — тряхнул головой все еще скованный страхом посетитель. — Фамилия моя Барыбин Василий Константинович. Улица Садовая. У железной дороги третий дом.
Он поднялся со стула, придерживаясь дрожащими руками за стену и неуверенно вышел. Белоусов пригласил Рябова.
— Снова выходим на Леонида, официанта. Убийца и грабитель.
— Арестуем немедля? — спросил Рябов.
Максим Андреевич пожал плечами:
— Сейчас не время. Сделаем чуть позже. А пока установим за ним наблюдение. В общем, так. В новогоднюю ночь ты оцепишь ресторан. Возьмешь с собой человек сорок. С другим отрядом войду я… внутрь.
Уходя, Белоусов подумал:
«Что же, пожалуй, оформление заявлений о всяких грабежах и правда можно поручить кому-либо из подчиненных, а самому начальнику осуществлять, так сказать, общее руководство. Но, с другой стороны, разве сегодняшний прием не дал мне более точное представление о положении дел в городе?..»
12. Встреча друзей
Связной предупредил Николая Кривоносова, что Столицын вернулся с прогулки и вошел к себе в номер. Большие настенные часы показывали около шести вечера. Гостиница в этот час пустовала, к тому же больше половины комнат не были заняты. Нельзя сказать, чтобы Николай не чувствовал опасности. Он был осторожен. В то же время знал: сейчас обстановка сложилась благоприятно. Если бы за ним следили, он бы это понял. По его просьбе горничная Шура пригласила подругу Лизу к себе в хозяйственное помещение. И Николай беспрепятственно пройдя по длинному коридору, вошел в номер к Тихону. Они обнялись. И хотя времени было немного, молодые люди с минуту, молча, улыбаясь, разглядывали друг друга.
Наконец Николай начал:
— Приказано передать тебе все, что я собрал за девять дней. Я расшифрован. Это без сомнения. Если тебя увидят со мной, считай — и у тебя все пропало. Садись и слушай. Пока от тебя требуется только это. Мог бы не встречаться с тобой в гостинице, да не терпелось своего увидеть.
Тихон неодобрительно покрутил головой и попытался предостеречь друга:
— Тебе сейчас же следует вернуться в номер, а затем вовсе покинуть гостиницу. Так передал Белоусов.
Минуту помолчав, Николай горячо начал:
— Приказ изменен, дружище. Не хочу быть в стороне. Тем более сейчас. Бандиты вряд ли подозревают, что я в городе. Считают меня на том свете. Затянули в ловушку и на радостях перепились. В хате возник пожар. У меня на глазах многие сгорели. Если кто жив, наверняка считают, что я сгорел. Спасло чудо. Пожар-то сделал я! Ногой ведро с керосином опрокинул, а на полу пьяный цигарку смолил, ну и вспыхнуло.
— Зачем тебя туда понесло? — не сдержался Тихон.
Николай огрызнулся:
— Поживешь — узнаешь. Рад был любой информации. На мели сидел. Хорошо, что ты приехал. Вдвоем легче работать.

— Ближе к делу, — торопил Столицын.
Но Кривоносов не слушал его:
— Хорошо, что именно ты. Как там наши ребята? Настюша, Витька, Юрка Круглов, Маша? Одичал я. В поисках друзей встретил горничную. Конечно, проверил ее. И сделал своей помощницей. Шура — золото. Не будь ее — с ума сойти можно. Она догадывается, что я не Порука. Я чуток приоткрылся. У меня не было другого выхода. Доверился ей. Она сказала, что подслушала разговор швейцара про меня: «Он из Москвы приехал, Советам и комиссарам помогать. К нам приставлен. Розыск атамана ведет».
— Это все твоя неосторожность, мог бы и не спешить с этой Шурой, — укоризненно буркнул Тихон, потом согласился, — хотя, конечно, без связей мы нули.
— Вот именно, — подтвердил Кривоносов и продолжал свой рассказ: — Поздно узнал о Леониде. Вот с этим, действительно, проморгал. Обрадовался, что своего человека в ресторане нашел. Клюнул на его крестьянское происхождение. «Десять детей у матери. Отец за революцию погиб». И так искренне, правдоподобно у него получалось, что я уши развесил.
— А между тем, он — опаснейший бандит, — подтвердил Тихон. — А ты к нему в объятия.
— Подожди критиковать. Покрутишься здесь сам, увидишь кузькину мать. Я подольше тебя в угрозыске. Попробуй с ходу пойми: кто здесь свой, а кто чужой. На лбу не написано. Швейцар — каналья. Его остерегайся.
— Это я понял. Продолжай, что еще выяснил?
Кривоносов нахмурился:
— Мне кажется, половина в сгоревшем притоне — заблудившиеся пацаны. Их удалось Бьяковскому околпачить. Вот они ему и служат.
— Это все ясно. Когда банду выловим — разберемся, кто в чем виноват. Говори о деле.
— Многие увлеклись романтикой ночных приключений, — упорно продолжал Николай и застонал. Уперся рукой в бок. — Кожа до мяса содрана, надо сменить повязку, — пояснил он.
— Горемыка!.. Ты знаешь о нападении на родственников Лизы?
— Слышал. Опять, говорят, Ленька Осоков.
— Да. А ты ему доверился!
Николай положил себе на колени мускулистые руки:
— Согласен. Поторопился я с ним. Но подойдем к главному. В оркестре восемь мужчин. Двоих я видел в лесу. Если не сгорели, в новогоднюю ночь придут. Один из них конферансье. Приметы — экзема на лице. Бандит отъявленный. Официантов вообще всех подчистую надо брать.
— Есть такая Зося, певица, что о ней знаешь? — заинтересованно спросил Столицын.
Николай оживился:
— Певичка эта очень заносчивая. Неразлучна с ароматом французских духов. Слезкин сватал за нее племяша. Не согласилась. Никогда никому не разрешает себя провожать. Живет на отшибе, в одиночестве. Путь к ней заказан. Ломаю голову, почему? К Бьяковскому отношения, наверное, не имеет. Но многое знает. Ею тебе с руки заняться.
— Почему?
— Начни с нее, добьешься многого. Солидные сведения имеет. С этого угла и мне надо было плясать, но поздно сообразил. Есть еще один нужный нам человек. Помощница Леонида Настя. Бандит пристает к ней. Сам видел. Она отбивается, но заступиться за нее некому. Кое-что и она может тебе рассказать. Недовольна Слезкиным.
— Так, а что за публика в гостинице?
— У меня швейцар, как я уже сказал, вызывает подозрение. По-моему, он из банды. Распорядительница и управляющая — скупщицы краденого. О них я уже дал информацию Белоусову. Со швейцаром у дамочек общие дела.
— Однако ты проделал большую работу.
— Ха! А со слов Белоусова — неудачник. Ему подай адреса всех бандитов. Один адрес на свой страх и риск узнал, эту самую лесную берлогу, да и ту по ветру пеплом развеял. Ты думаешь, мол, из мальчишества Николай, очертя голову, принял предложение пройтись в лес? Плохо меня знаешь. Не мог больше ждать. Мне тоже сроки давались. Хлеб зря есть не желаю. Нам не с руки здесь засиживаться. Надеюсь, понимаешь.
— Разумеется… Ты очень многое сделал, — повторил Тихон, — а то, что в губмилиции предатель, мы не виноваты. Если Белоусов хочет иметь результаты, пусть поработает со своими кадрами.
— Точно. Итак, до завтра, — Николай встал.
Пробраться тайком в свой номер ему, однако, не удалось. У самой двери номера господина Беккера его остановила Лиза. В руке у нее был утюг. Лицо вытянулось от удивления:
— Вы зачем сюда заходили? — ей показалось, что жилец чужого номера пробрался в комнату Германа Карловича со злым умыслом, и она чуть не закричала.
Но Тихон успел распахнуть дверь и втащил девушку к себе. Это еще больше удивило Лизу.
— Тише, никому ни слова! Так надо, — приложил палец к губам Столицын. — Со временем все поймешь.
Это было так неожиданно, что Лиза растерялась. Ошеломленная, она вырвалась из рук постояльца и опрометью бросилась к Шурочке:
— Знаешь, у твоего Порука какие-то дела с моим Германом! Боюсь, они оба не те, за кого себя выдают. О, господи, еще новость! Я так расстроена. Может, сказать управляющей?
— Ты с ума сошла! Эти люди для нас с тобой стараются. Ищут преступников, в том числе и тех, что твою бабку задушили. Они честные, наши, красные. Держи язык за зубами! Мой тебе совет!
Лиза уважала, любила Шуру, поэтому сразу поверила ей. Лишь еще долго качала головой. Наконец, решилась:
— Пойду, извинюсь перед Германом Карловичем.
— Правильно, иди, волнуется, небось, боится, не к управляющей ли ты помчалась.
Лиза постучала в дверь к Тихону:
— Извините меня… — девушка покраснела, вытерла платком глаза. — Не думайте обо мне плохо. Я кое-что сообразила, хоть и поздно. Да и подруга подсказала. Ваша власть… большевистская. Верно ведь?.. Это же тоже и наша власть! Я понимаю, простите…
— Я был уверен в том, что ты умница! А если дам маленькое задание, выполнишь?
— Конечно! Не сомневайтесь. Будет шито-крыто. Никто ничего не узнает…
— Присмотритесь к швейцару.
— Дяде Степе?
— К нему. Понаблюдай, с кем встречается. Куда и когда уходит. И мне скажи.
— Сегодня к нему приходил официант Ленька. Спрашивал, приехал ли вот этот молодой человек, что к вам заходил. Порука его фамилия.
— А швейцар что?
— Сказал, что не видел. Еще ко мне опять Осоков приставал. Сватался. Да я его видеть не могу.
— Будь с ним осторожна. Избегай его — это подлец.
— Я так и делаю. Я вам буду рада помочь.
— Запомни, чтобы до конца победила народная власть, все простые и честные люди должны подняться против врагов революции. А бандиты — враги. Еще какие! Сама видишь, сколько от них горя.
13. Зося
Ужинать Столицын пришел поздно. В холле ресторана Зося беседовала с краснолицым молодым здоровяком. Мужчина был одет в форменную тужурку с блестящими пуговицами. Певица стояла в расстегнутом светло-сером пальто и ее золотистые волосы, обычно стянутые лентой, на этот раз свободно падали на плечи. Мужчина преподнес ей коробку монпансье. Девушка открыла крышку и взяла конфету.
— Вы, Илья, волшебник. Какой аромат! На бал-маскарад придете?
— И да, и нет, — мужчина явно кокетничал.
Тихон прикинул: не этот ли хлыщ — племянник хозяина ресторана? Заметил, что Зося взглянула на него с прежним интересом. Ее взгляд словно говорил: «Пора найти повод познакомиться». Вот она наигранно любезно распрощалась со своим собеседником и вошла в зал вслед за Столицыным.
Тихон сел за свой обычный столик у окна. Свет в зале горел вполнакала. Официанты опустили шторы. В зал ввалилась шумная компания. Пьяный офицер обнимал сразу двух барышень, целовал их по очереди и искал место, куда бы их усадить.
На подмостках рассаживались семь музыкантов, среди них — две девушки. Восьмого, как отметил про себя Столицын, не было.
Вскоре на эстраду вышла Зося в вечернем темном бархатном платье. Конферансье объявил романс «Безумно вас люблю».
Началось представление. Зося пела удивительно. Тихон с удовольствием слушал ее, в то же время думал, кого же из пятерых мужчин-оркестрантов Николай видел в лесу? Вертлявого барабанщика, одетого в широченные синие брюки, потоптанные ботинки с черными гетрами? Он похож не на злодея, а на козла. Сходство увеличивала пепельная борода. Такой не пойдет на разбой. Он, видимо, отец большого семейства. Бьет себе в широкий, обтянутый кожей, цилиндр, зарабатывает на хлеб детишкам.
Барабанщик, словно почувствовал на себе чужой взгляд, сбился с такта, часто и дробно застучал, за что и получил толчок кларнетиста, развязного малого, лет двадцати, в кумачовой сатиновой рубахе, упитанного, с дерзким взглядом. Его свеженачищенные сапоги словно горели от блеска. Такой мог быть с бандитами, — решил Тихон. Ну, а второй — конферансье, о нем говорил Николай. После исполнения каждого номера он показывался из-за портьеры. Острые глаза ощупывали посетителей. Он занимал публику, между номерами, плоскими шутками. Этот крючконосый похож на разбойника. Николай про него говорил: «Он держит всю публику в поле зрения. Мог сгореть в лесу». Выходит, уцелел. Однако брови опалены, значит огонька и ему досталось.
Снова вышла Зося. Сегодня она пела с подъемом, да и выглядела обворожительно. Тихону она нравилась все больше и больше.

Народу набралось много: горожане пришли посмотреть наряженную елку, пообщаться со знакомыми, послушать певицу.
Вышел из кухни в зал старший официант Леонид Осоков, стал помогать другим. Выглядел он озабоченным, обремененным служебными делами человеком. Длинный черный фрак сидел на нем безукоризненно. Леонид взял у девочки-подростка Насти (о ней Тихону рассказывал Николай) медный поднос и передал на кухню. Цепким, пристальным взглядом несколько раз окинул зал. Через два столика от Тихона сидела сухощавая управляющая и пышущая полнотой распорядительница гостиницы. Леонид подошел к ним. Нагнувшись над столом, принял заказ и тут же вырос перед Столицыным с блокнотиком в руке и карандашиком на серебряной цепочке. Весь — внимание.
— Заказывать будете? — подчеркнуто бесстрастно и сухо спросил он.
— Холодец, картошка. Только получше поджарьте, и чай.
— Холодец, простите, не поджариваем…
— Вы, любезный, не в духе? — остро глянул на него Тихон.
Официант смутился, забормотал:
— Прошу покорнейше прощения… Картофель поджарим, не беспокойтесь. Сырым не подаем. Иначе бы нам давно дали отставку.
Официант поклонился. Тихон подумал: «Чем обусловлена такая, мягко говоря, развязность? Хам-то он, конечно, хам, да и подонок, но все же лакей, которому полагалось бы лебезить перед солидным клиентом, а не делать замечания…»
Слезкин-старший тяжело передвигался за буфетной стойкой. Молодые люди сидели на высоких скамеечках с круглыми сиденьями у самой стойки и пили из узких бокалов пиво.
Сойдя с эстрады, сели за столик и оркестранты — поужинать. Зося прошла к буфету. Что-то шепнула Слезкину, указывая глазами на Тихона. Хозяин тотчас приплелся к Тихону.
— Глубочайшее наше вам извинение. Просим в отдельный номер, — вполголоса, чрезвычайно любезно промолвил Слезкин, утирая платком лоб и слезящиеся глаза.
— У меня уже здесь взяли заказ.
Тихон соображал, почему вдруг такое почтение.
— Туда и принесут, — настаивал уважительно Слезкин-старший. «Зосина работа, — догадался Столицын. — Приглашением надо воспользоваться», — и последовал за хозяином.
Тот отогнул угол портьеры.
— Проходите, господин хороший. Не обижайте. Вам подадут сюда. Салатик из крабов найдем. О! А то — все в общем зале. Огорчаете! Всегда найдем вам получше место, закуску, — Слезкин удалился. Через несколько минут вернулся. Приложил руку к груди: — Просим прощения, но… наша прелестная Зося не стеснит вас? Не помешает?
— Очень рад, — Тихон встал навстречу вошедшей.
— Увы, другого места не нашлось, все занято… — объяснила свое вторжение Зося. — Не беспокойтесь, я выпью кофе и уйду.
— На ночь — кофе?
— Спать еще не скоро, — скороговоркой ответила Зося.
— Вы чудесно поете, — Тихон подвинул стул девушке.
— О, комплименты… Однако вот вам уже несут. Мне еще идти в полк к солдатам.
— В полк? — переспросил Тихон. — В армейский?
— Уж не знаю, в какой, но к красным. На Садовой улице их клуб. Волнуюсь. Вы же знаете, что в городе победили большевики. Уже был парад революционных отрядов.
— И слышал, и видел, как же… А что, пешком пойдете в казармы?
— Желаете проводить? — Зося засмеялась, показывая ровные белые зубы.
Тихон выразил полную и совершенную готовность быть провожатым такой обворожительной девушки.
— Спасибо, спасибо, но не обременяйте себя. За мной приедут, — Зося глотнула кофе, откусила кусочек пирога.
Тихон вдруг вспомнил:
— Какие-то сани давно стоят у подъезда. Красивые серые кони. Не за вами ли?
— Тогда тороплюсь. Конечно, за мной. Поговорим как-нибудь в другой раз. Надолго к нам?
— Не очень, — уклончиво ответил Тихон.
— Не попадитесь нашим красавицам в сети. Прекрасных дам у нас много. Женаты?
— Холост, — Тихон встал, представляясь Зосе:
— Герман. Беккер. По отчеству Карлович. Здесь меня некому рекомендовать, так что приходится самому…
— Как это ни странно, но я о вас уже слышала. — Певица вскинула тонкие брови. — А меня зовут Зосей. Этими сведениями вы, надеюсь, тоже располагаете. Приходите завтра на бал. Как летит время! Уже тысяча девятьсот восемнадцатый. Ну, побежала.
— Мне будет скучно без вас, — вздохнул Беккер.
— Скучайте, на здоровье, — лукаво улыбнулась Зося и исчезла. Остался лишь тонкий запах ее духов.
Тихон думал: «Интересно, имеет ли она какое-то отношение к Бьяковскому?» Нельзя было и в мыслях связать изящную, милую Зосю с грабежами, убийствами.
В номер зашел старший официант. Леонид сменил тон:
— Прекрасная певица. Украшение ресторана. Разве пошла бы к нам публика, не будь такой изюминки?
— Разделяю ваше мнение. Очаровательная и прекрасная певица. Замужем?
— Что вы, ей только восемнадцать. Бережем. Да и сама умеет отбиваться от поклонников.
— Не встретила еще своего рыцаря? А? — Тихон внимательно посмотрел на официанта.
— Пожалуй… — уклончиво ответил Леонид.
Тихон приметил, что боковой карман официанта оттопыривался. Видно, оружие. Черные глаза бандита бегали по сторонам.
«Знает ли он о возвращении Николая из леса?»
— Давайте рассчитаемся за ужин.
— Оставим до завтра, ведь вы к нам придете. Кстати, приглашаем на праздник, — ответил с готовностью официант.
— Лучше уплачу сегодня, и за ужин, и за новогодний столик. Люблю быть уверенным, что никому не должен. — Тихон бросил на стол деньги и направился к выходу.
В дверях Столицын чуть не столкнулся с конферансье, успевшим сменить гражданский костюм на офицерский френч. Выйдя из кабинета, Тихон на миг задержался у портьеры и услышал обрывки фразы:
— Венгель нас еще не подводил. Однако… пресса молчит… последи… за этим… — следующие слова Тихон не расслышал.
Леонид тут же выскочил и пошел рядом, сопровождая Тихона к гардеробу. Разглядывая на Столицыне белоснежную, отлично накрахмаленную сорочку, позолоченные запонки, жадно остановил взгляд на золотом перстне с рубином. Не сумев сдержаться, заметил:
— Дорогая вещица. Рубинчик, прямо-таки капля крови. Симпатичный предмет. Женщины такое обожают…
Тихон небрежно ответил:
— Э, нынче в почете духовные ценности. Кудрявые головки, забитые идеями. Мой приятель долго не видел невесту. Приехал, чтобы увезти ее в заграничные места, а она — ре-во-лю-цио-нер-ка. Представляете?
Лакею, видно, льстило, что такойвидный барин оказывает ему внимание.
— Этот курьез с вами случился? Угадал?
— Со мной, говорите, это произошло? Со всеми, кто в отлучке от невест. Они выходят замуж за всяких прохвостов, которые погорластее. Кстати, как вас зовут?
— Леонид Васильевич, сын собственных родителей. Поразительно верно говорите. Как точно заметили.
Тихон похлопал хитрого официанта по плечу: «Вот так-то Леонид Васильевич!» — а в сознании тревожно завязли слова конферансье. «Венгель еще нас не подводил. Однако пресса молчит…» Что этим хотел сказать бандит своему сообщнику? Кто такой Венгель? Кличка? Фамилия?
14. Беккера проверяют
Бесшумно падал снег. Точно пух, он летел мимо городских фонарей. У подъездов домов лежали срубленные елки, они пахли лесом. Тихон вошел в вестибюль гостиницы.
Швейцар спал в кресле. Над его головой чучело ястреба свесило костяной клюв. Тихону захотелось, чтобы птица вонзила его в жирный затылок этого матерого бандита. Услышав шаги, швейцар открыл один, затем второй глаз. Потом опять их смежил. Изменил позу и беззаботно захрапел.
Тихон ступил на мраморную лестницу и зло подумал: «Деревенских и городских мужиков гонят на фронт, а этот прихвостень дрыхнет преспокойно. А руки, небось, по локти в крови».

В номере Тихон надел шелковый халат, феску с кисточкой. И тотчас в дверь постучали.
— Антре! — крикнул Тихон.
В дверь просунулась голова бородатого, крупноголового мужчины из соседнего номера. На его широкие плечи был накинут крестьянский полушубок.
Вчера Лиза рассказывала об этом неприятном соседе:
— Рядом с вами поселился тип. Все о вас расспрашивал. Хотел узнать ваше имя. Я ему не сказала, так он у распорядительницы вынюхал.
Теперь он и сам пожаловал к Столицыну.
— Проходите, — гостеприимно сделал жест рукой Тихон. Настороженно отвел в кармане предохранитель пистолета.
Посетитель тотчас радостно воскликнул:
— Извиняюсь, бонжур. По щелчку понял, браунинг. Угадал? Имею отличный слух. Платонов я, сосед ваш.
Посетитель гримасничал, изображая улыбку.
— Бандитов много. Это точно. С ними ухо следует держать востро. Оружие очень нужный предмет по нынешним смутным дням. Я и сам, грешным делом, держу его наготове. Однако к вам пришел без оружия. Не извольте сомневаться.
Тихон сухо спросил:
— Чем могу служить?
— Дело пустяковое. Утром по морозу решил прокатиться в деревню. Посмотреть жизнь нонешнего крестьянина. Интересуюсь социальными процессами. Книжечки мои по этим аспектам не залеживаются на прилавках. Возможно, читали? Фредштейн — не встречали фамилию? Мой псевдоним.
— К сожалению, — натянуто ответил Тихон.
— Разумеется, я к вам не за тем, чтобы себя рекламировать. Неприятность у меня. Еду по деревне, отвожу душу прелестным зрелищем деревенского уклада жизни. И что вы думаете, полозья заскрипели и застряли. Наскочили на глыбы земли. Дорога разворочена по осени телегами. Бросился вытаскивать сани и, верите, крепко подвернулась нога. До сих пор не могу на нее стать. Нет ли какого средства? Боль адская. Впору караул кричать.
Тихон пожал плечами:
— Надо к лекарю. Согрейте воды, попарьте.
— Господи, ну конечно же! Как это я сам не подумал? Ну, спасибо, что напомнили, тепло — первейшее средство для таких травм. Благодарствую тысячу раз! Испаряюсь. Больше не посягаю на ваше дражайшее время. — Сосед удалился.
Тихон не поверил ни одному его слову. «Проверка. Этого следовало ожидать. В мое отсутствие наверняка ворошат вещички». С отвращением вспомнил швейцара. Подумал: «Не расшифрован ли я?» Не может ли хозяйка особой квартиры управления губмилиции посылать банде сведения? Как раньше этого не пришло в голову? Ему показалось, что он уже в окружении, состоявшем из бандитов ресторана Слезкина, гостиничного швейцара, соседа Платонова. Но тут же разозлился на себя. С таким настроением нетрудно завалить операцию! Не может быть, чтобы вывелись честные люди! Этак совсем можно запаниковать. Пусть у бандитов много сообщников, но еще больше друзей у Советской власти. Ложись и выспись, Тихон Столицын. Прошел нелегкий день. Завтра будет еще труднее.
15. Ночной визит
В этот вечер жена Белоусова томилась тяжелым предчувствием. Сердце ее никогда до сих пор так не теснило, хотя, казалось бы, пора было привыкнуть к опасностям, связанным с работой мужа. Но беспокойство не заглушалось привычкой. Анна взялась за вязание, но работа продвигалась слишком медленно и успокоения не принесла. Она отложила вязание, стала гладить пушистого кота, от его ровного мурлыкания, казалось, немного улеглось душевное волнение, но едва она с радостью осознала это, как сердце вновь учащенно забилось.
Утром Анна попросила Максима принести побольше дров. За день сожгла их две охапки. «Не будем мы мерзнуть с малюткой». Первенец для двадцатипятилетней женщины много значит. Анна хотела и ждала ребенка. Походив по комнатам, легла на спину, прислушалась к себе. Будущий наследник иногда давал о себе знать, это наполняло Аню нежным чувством.
Она давно не пыталась угадать, когда Максим вернется со службы. Чаще всего он являлся за полночь, когда она уже спала. Ужин, прикрытой салфеткой, ждал его на столе. Тяжелая работа досталась мужу, хотя он и называет ее легкой. Максим Андреевич возвращался почти всегда измазанный известкой, глиной, а то и кровью, едва держась на ногах от усталости.
Анна продолжала лежать, закрыв глаза, вслушиваясь в шумы на улице. Через окно доносились неясные крики, выстрелы, потом снова наступала тишина. К выстрелам в городе все привыкли.
Аня встала, потушила свет, прильнула к окну и вдруг увидела, как едва различимые фигуры людей скользнули вдоль стены противоположного здания.
В ту же минуту в дверь негромко, но настойчиво постучали.
Анна вздрогнула. Максим? Не может быть, у него свой ключ. Анна прижалась к косяку.
— Кто? — вполголоса, затаив дыхание, спросила она.
— Это я, Илья, открой. Твой комиссар ушел, видел. Отвори, — сдавленным шепотом произнес мужчина.
Анна, услышав голос бывшего мужа, задрожала, схватилась руками за виски. Но тут же овладела собой. Как можно хладнокровнее и тверже крикнула:
— Уходи! Иначе сейчас же позвоню в губмилицию. Слышишь? Ненавижу тебя, изверг окаянный. Пропади ты пропадом!
— Ну, заладила… Открой. Не будь дурой. Твоего мильтона вот-вот укокошат. Останешься на бобах. Кому ты будешь нужна, кроме меня? Ты что же, глупая, мнишь, что совдепы навсегда?
— Уходи!
— Одумайся, все для тебя сделаю. Попомнишь мое слово, большевикам вот-вот каюк. И власть снова станет наша.
— Убирайся прочь! — вне себя закричала Анна.
Илья засмеялся, потом потребовал:
— Уймись. Не доводи меня до греха. Последний раз прошу — открой, уведу в надежное место. Переждем недельку, ревкомовцев днями перережут. Доберутся и до твоего Белоусова. Одумайся. Все прощу. Люблю тебя больше жизни, потому и унижаюсь, упрашиваю.
— Христом-богом молю. Ступай прочь.
— Ах, ты, тварь! Большевичка! Ну, погоди… Вот тебе… Тоже будет и твоему комиссару.
Раздались три выстрела. Пули насквозь прошили деревянную дверь. Анна отпрянула к стене. На звук выстрелов никто из соседей не откликнулся.
Обессиленная Анна опустилась на половичок у двери и зарыдала. Она не слышала, как вошел Максим. Удивленный, растерянный, озабоченный, он взял ее на руки и отнес в постель.
— Аня, в чем дело? Что с тобой?
— Илья приходил. Вот, дверь, как решето.
Белоусов снял трубку и позвонил дежурному:
— Вернулись группы Колесова и Бородавченко? Хорошо. Так. Правильно… Направьте патруль по Садовой, Никитской улицам и к площади Революции. Только что было нападение на мою квартиру. Слезкина постарайтесь разыскать. Имейте в виду, он вооружен. Непременно задержите и доставьте в управление.
Белоусов подошел к жене, положил руку на лоб. Анну знобило.
Добрыми и нежными словами Максим Андреевич постарался успокоить жену, но едва лег в постель, как сон тотчас сморил его. Уже сквозь дрему услышал он вопрос Анны:
— Новый год удастся вместе встретить, Максим?
Он пробормотал, превозмогая сон:
— Конечно, только пораньше отпразднуем.
— Как это пораньше? Новый год для всех в одно время.
— А часов в десять… В новогоднюю ночь есть работа… — и тут веки его тяжело смежились.
Он крепко заснул. Всего на два-три часа. Он уже давно привык к такому короткому отдыху. Будь под силу, он вообще отказался бы от сна — так дорога была в его новой жизни минута.

К счастью, Анна понимала это. Она молча смотрела на мужа, мысленно и без злобы выговаривала Максиму, что он не бережет себя, мало уделяет внимания своему здоровью, не может достать, как комиссар, тулуп потеплее, шапку, валенки, совсем не бывает дома, не знает передышки, работает на износ. Сейчас, наклонившись над самым его лицом, Анна слышала ровное дыхание. Она, не отрываясь, смотрела на мужа, давно уже осознав, что каждая такая вот ночь может быть их последней ночью. А что делать? Как уберечь мужа? Будь ее воля, не выпускала бы его из квартиры. Жизни без него она не представляла.
16. Горничная обещает помогать
Утром Лиза принесла Тихону по его просьбе свежие газеты и три завалявшихся иллюстрированных журнала.
— Герман Карлович, этот бородатый в полушубке продолжает шпионить. Только что снова у ваших дверей терся.
— Пусть трется, пусть себе вынюхивает. Наблюдай за ним. Обрати внимание, кто к нему ходит.
Лиза вздохнула:
— Расстроены дядя, тетя, не могут прийти в себя. Бабушку жаль. Говорят, убил Леонид. Мстит за то, что я отказала ему… А разве его нельзя арестовать? Прямо сию минуту?
— Увы, нельзя. Но в скором времени — обязательно это сделает милиция.
— Пристает он, — Лиза заплакала. — Однажды ночью с работы возвращалась, Ленька рядом плелся. Вдруг нас обступили трое мордастых в шинелях. У меня аж поджилки затряслись, мурашки по коже забегали. И тут они говорят Леониду: «Ты, Иголка?» Прикурили у него и ушли. Одного-то я узнала. Вы его в ресторане должны были видеть. Наш конферансье, объявляет номера. Да, чуть не забыла, — уходя вспомнила Лиза, — велели вас предупредить, чтобы ждали мастера. Телефон чинить придет. И еще дядя Степа, швейцар, опять сегодня надолго куда-то отлучался. Пришел мрачный и сразу в кресло завалился спать…
Лиза приоткрыла дверь. Убедившись, что в коридоре никого нет, выскользнула из номера.

Тихон развернул номер газеты «Голос народа». Первая страница состояла из одних объявлений:
«Сегодня в железнодорожном клубе спектакль и танцевальный вечер. Число билетов ограничено».
Чуть ниже:
«Продовольственный отдел переведен в помещение дома Неклюдова».
Городской Совет депутатов доводил до сведения, что заканчивается подготовительная работа по выдаче карточек на январь месяц. В театрах и кинематографах шли: «Процесс Софьи Перовской и Андрея Желябова», «Почему я безумно люблю» — с участием Веры Холодной. «Жизнь барона» — по пьесе Максима Горького, «Поединок любви. Жизненная драма», «Шах и мат королю», «Царство фантазии и любви» — с участием римской красавицы графини Джорженоде-Фрассо. В постановке участвуют более сотни зверей.
Одно объявление Тихон прочитал с интересом несколько раз:
«31 декабря в день кончины Капырина, его дочь Венгель сообщает, что в церкви Василия Блаженного, в 11 часов, будет отслужена литургия».
Где он уже слышал эту фамилию: «Венгель»? Начал читать статью «Слепые вожди».
«Бежит жизнь. Меняется каждый шаг, капризный и прихотливый, как дитя. Изгнан Керенский — вождь корниловщины».
Но статья не помогала: фамилия Венгель не выходила из головы Тихона. Он пытался вспомнить, где ее слышал.
Столицын продолжал читать статью «Слепые вожди»:
«Собравшиеся обступают женщину, угрожают самосудом, в милицию летят камни, вызывается конный наряд. Толпа врывается в здание комиссариата и производит яростный погром. Сотрудника Нестора выталкивают и зверски увечат. Кричат, что он ежедневно обедает в лучшем ресторане города».
Тихон хлопнул себя по лбу. Именно в ресторане! Все происходило там. Так… В номер вошел конферансье и за спиной Тихона доверительно, чуть понизив голос, сказал Леониду: «Венгель еще нас не подводил. Однако пресса молчит». А днем раньше он слышал, как Леонид у гардероба сказал мужчине в замшевой куртке: «Он нас не подводил, но пока нет даты». Тогда фамилия Венгель не была названа, но смысл фраз, кажется, один. Значит, бандиты ждут встречи с каким-то Венгелем. И вот эта дата объявляется в газете… Неужели в этом вся разгадка таинственного заговора головорезов? Поразительно, если попаду в точку. Важность такого открытия трудно переоценить…»
Столицын положил перед собой лист бумаги и подробно изложил Белоусову свою версию. Срочное донесение через телефониста, связного Савкова, он направил Максиму Андреевичу.
В дверь постучали. Это бы снова сосед, Платонов.
— Пардон, извиняюсь, — сказал он с просительной улыбкой, — теперь за утюгом. Лизонька сказала, что у вас.
— У меня, — ответил недружелюбно Тихон. — Возьмите у камина.
— Однако эта девочка хорошо сложена, бестия! — пытался завязать разговор Платонов. — И, похоже, благоволит к одному молодому человеку, просто за уши не оттащить, словно кошечку от молока. Приятна, бестия, пальчики оближешь.
— Вы о чем?
— Будто не понимаете? Экий вы скрытный. Мы ведь тоже-с образованные!
— Не сомневаюсь, однако, представьте, не возьму в толк, о чем это вы?
— Ну, вы, братец, хитрый. Почитай, с полчаса только что у вас просидела красавица. А вы не догадываетесь, о ком речь!
Очень хотелось смазать по шее этому надоедливому и блудливому гостю, но Тихон сдержанно сказал:
— Вот утюг. Это — первое. А второе — молодому человеку не ставят в вину то, что его любят девушки. Энгшульдиген Зие! Извините меня!
— Этот молодой человек наверняка пользуется успехом. Красавицы прямо преследуют его, — не унимался въедливый гость.
— Простите, но мне кажется, что вы преследуете меня. И мне это, знаете, не очень приятно… И сами посещения обременительны. Мне и без того не совсем уютно в этой глуши… Битте, форт. Пожалуйста, прочь. Вон.
— Позвольте, как вы разговариваете со старшими? Да вы под стол пешком ходили, когда я свой долг выполнял перед отечеством!
Платонов хлопнул дверью и еще долго шумел в коридоре.
Тихон от души рассмеялся. Получилось, как требовалось. Этот скот не мог не почувствовать барские замашки господина Беккера.
17. «Неудачник»
31 декабря Николаю Кривоносову исполнилось двадцать два года. Ему очень хотелось погулять в день своего рождения, хотя бы по чужому городу, мысленно представляя, что он в Москве, в Таганском районе. Там ждала его Настя, лучшая девушка на белом свете.
Отец ее работал на кирпичном заводе в одном цехе с Николаем. Однажды Настя принесла отцу обед, и он познакомил дочь с напарником, крепко сбитым веселым парнем. Девушка зачастила к отцу в цех, и вскоре состоялось первое свидание, затем второе… Николай стал встречаться с ней у себя на Таганской площади. Обычно они шли на Яузский мост, а оттуда по Солянке к Китайгороду, потом переулком возвращались на Таганку.
Николая призвали в армию. На фронте, в феврале семнадцатого года, он получил первые уроки большевизма. Наставником его стал рабочий Алексей Евдокимов. Тогда же Кривоносов по его рекомендации вступил в партию большевиков.

Октябрьскую революцию Николай встретил в Москве. Его полк, брошенный на усмирение Октябрьского восстания, перешел на сторону большевиков. Эсеры попытались повлиять на солдат, устроив в казарме митинг. Офицер сорвал с себя погоны и закричал:
— Братцы, я такой же, как вы, солдат! А погоны — маскарад, чтобы к вам пробраться. Сам из деревни: мать кухарка, ходила по богачам в поисках заработка, отец отдал богу душу в батраках. Был я и сам подпаском, чернорабочим на фаянсовом заводе. Психология у нас с вами одна. Давайте помозгуем: когда мы можем получить землю? Только в том случае, если разобьем германца. А большевики подсказывают нам ложный путь: штыки в землю. Ну, допустим, оголим фронт, так немец тут же задушит нас. Временное правительство за войну до победы, большевики, напротив, кричат: «Крестьянин, бросай войну, иди, отбирай у помещиков землю». Это предательство, измена! Пресечем неразбериху и анархию. Разобьем германца! Потом получим землю. Ее нам обещают лучшие представители российской интеллигенции, возглавляющие Временное правительство.
Два десятка лазутчиков, переодетых в солдатские шинели, закричали: «Ура! На германца! Не допустим измены, смерть предателям».
Но тут взял слово однополчанин Николая, солдат Евдокимов. Он громко закричал, обращаясь к лазутчикам:
— Так вы же и есть предатели. Куда вы нас толкаете? В могилу? На кой шут нам тогда земля, коль сами от пуль германца в нее ляжем?
— Долой войну — даешь революцию! — дружно подхватили солдаты.
Для Николая это был первый урок силы большевистского слова.
Вот и выходит, что он, Николай Кривоносов, и Тихон Столицын уже успели пройти школу революции.
Николай в раздумье потер лоб. Вспомнил, как несколько дней назад он на одном из московских вокзалов втискивался в обшарпанный, скрипучий вагон, набитый беженцами, мешочниками и шпаной. По заданию МУРа в приподнятом настроении ехал он в Окск. И был уверен в успехе и своих силах.
Но, увы, Николай тяжело вздохнул, дело оказалось нелегким, раздобыть существенные сведения о грабителях пока ему не удавалось. Это его угнетало. «Только не падать духом, — в который раз ободрял себя Кривоносов, — не терзать себя сомнениями. За революцию, Советскую власть можно пойти на любые муки, даже на смерть. Но лучше, конечно, остаться живым. Приезд в Окск Столицына — это ободряющее событие. Вместе с Тихоном придет успех. Это уж точно. Теперь силы удвоены».
18. Разоблачение предателя
Выслушав доклад дежурного об оперативной обстановке за истекшие сутки, Белоусов пригласил к себе в кабинет Рябова. Вместе они приступили к составлению плана на приближающийся новогодний вечер.
— Необходимо уберечь Кривоносова, — сказал комиссар. — Хорошо бы сразу удалить его и вывести из зала.
Рябов, согласившись, добавил:
— Эта операция должна пойти на пользу Тихону, если он умно поведет себя во время облавы. Всякие подозрения бандитов с него должны быть сняты после проверки документов в ресторане… Когда разобьем милиционеров по отрядам?
— В десять вечера. Я возьму человек пятнадцать. С ними войду в ресторан в полночь. У тебя будет… сорок, это маловато… полсотни сотрудников. Арестованных буду передавать тебе. Доставляйте их в губмилицию. Операцию должны закончить часам к четырем.
— Нужно сегодня же убрать Платонова, соседа Столицына, — напомнил Рябов.
Белоусов кивнул:
— От Тихона поступило срочное сообщение о каком-то таинственном Венгеле, возможно, имеющем отношение ко всем нашим провалам. Изучил всю месячную подшивку газеты «Голос народа». Пять раз нашел одно и то же объявление. Менялись лишь числа: назначаются встречи в церквях. Сегодняшняя — на Залесском пустыре.
— Эх-хе, — закряхтел Рябов, — значит, встреча у старой мечети? Церковь-то ведь разрушена! Подозрения обоснованные.
— Да, — подтвердил Максим Андреевич. — Возьми с собой человек семь бойцов и отправляйся туда. Сделай засаду у церкви.
— Хорошо, — ответил Рябов.
Белоусов забарабанил пальцами по столу, Рябов резко раздавил окурок в самодельной пепельнице. Оба были озадачены.
— Кто же там встречается из наших? Кто предатель? — Белоусов закашлялся. Потом с досадой произнес: — Что-то грудь ломит. Никак простудился. Вот уже не ко времени. Не слечь бы…
— А что тут хитрого, куда ни сунься, везде холод, хоть волком гоняй… — заметил заместитель. Затем спросил: — Кого подозреваешь в предательстве? Скажи откровенно.
— Не будем торопиться, иди, действуй. Все узнаем чуть позже.
Через полчаса отряд Рябова вышел на улицу.
— Куда направляемся? — спросил один из милиционеров.
— Идите за мной, не заблудитесь, — пошутил Рябов.
Вскоре отряд достиг окраины города, где одиноко стояла полуразрушенная церковь. Неподалеку были расположены часовня, дом батюшки. Там, за этими зданиями и решил укрыться Рябов с отрядом, установив наблюдение за подходами к церкви. Шли минуты томительного ожидания.
…Белоусов в это время доложил Бугрову о предстоящей новогодней операции по облаве в ресторане. Получил одобрение и напутствие об осторожности. Начальник милиции посмотрел на часы. Пора было отправляться в путь и ему.
Максим Андреевич вышел из здания, нырнул в подъезд дома, стоящего напротив управления и притаился.
Предчувствие его не обмануло. Несмотря на то, что начальник оперативной части только что получил срочное задание, требовавшее его присутствия в управлении, через несколько минут после ухода Белоусова он выбежал на улицу, застегивая на ходу новенькую офицерскую шинель. Постоял у парадного входа, поправил на плечах лакированные ремни, оглянувшись при этом направо и налево, затем свернул в сторону площади Революции. Белоусов тотчас незаметно последовал за ним.
Дьяконов шел торопливо, завернул в магазин кожтоваров и… пропал.
Пока начальник губмилиции догадался, что в магазине мог оказаться сообщник предателя и ругал себя за такой промах, Дьяконов уже вышел из лавки через черный ход и зашагал по малолюдному переулку. Еще раз огляделся: ничего подозрительного, все чисто, за ним никто не следит. Полчаса ходьбы, и Дьяконов оказался на Залесском пустыре у развалин церкви, окруженной отрядом Рябова. Торопливо зашел внутрь. Минут через десять вышел.
И тут перед ним вырос Рябов.
Дьяконов растерялся, неестественно удивился, сделал наивные глаза:
— Откуда взялся?
— В снегу оружие искали. Данные были. А ты как тут вдруг оказался? — вроде бы бесхитростно спросил Рябов.
У Дьяконова отлегло от сердца. Коль милиционеры искали оружие, то встреча случайная. А свое появление здесь он сумеет объяснить — причину можно придумать: в конце концов, он оперативник и тоже мог располагать данными, заставившими его прийти сюда…
Рябов крикнул милиционерам продолжать работу и с двумя бойцами направился вместе с Дьяконовым в управление губмилиции, приказав своему заместителю Калинину остаться за него.
Минут через тридцать к развалине приковылял швейцар гостиницы Степан. Убедившись, что вокруг никого нет (группа Калинина укрылась в овраге), швейцар зашел в церковь и тут же вышел. Его окружили милиционеры, обезоружили, у Степана был револьвер и финский нож. Из карманов бандита извлекли несколько золотых безделушек и записку, написанную рукой Дьяконова, о времени предстоящей ночной облавы в ресторане Слезкина. Обыскали церковь и в тайнике нашли целый набор серебряных и золотых колец, перстней, колье. Всего более тридцати изделий. Были и еще кое-какие ценные вещи.
— Щедро платят Иуде, — сдвинув папаху на затылок, сказал здоровенный милиционер Иван Коршунов. — Сколько бы наших ребят ночью за это головы сложили!
— Ах, ты, мать честная, ну и дела, — разводили руками милиционеры. — Вот так порученьице нам выпало!
Когда группа милиционеров, конвоирующих швейцара, уже вошла в город, по улице навстречу неспешно ехали сани, в которых сидели мужчина и женщина в тулупах. Швейцар неожиданно рванулся, прыгнул в сани и, загородившись людьми, истерически завопил:
— Убьете неповинных граждан, убьете… вам отвечать! — и пустил коней во весь опор.
Калинин крикнул:
— Стреляйте по лошадям! — и несколько раз выстрелил сам. Когда одного коня подбили, бандит скатился с саней и нырнул в подъезд первого попавшегося дома. Милиционеры бросились за ним. Пуля милиционера настигла связного Бьяковского во дворе, у штабеля дров. Швейцар пошатнулся и, словно споткнувшись, рухнул на снег.

Дьяконов же, не зная, что его связной пойман, был спокоен: по дороге он сказал Рябову:
— Люблю историю. Развалюха — историческая ценность. Побродишь вокруг такого сокровища и душу отведешь…
— Возможно, и так, — ответил тоже спокойно Семен Гаврилович. — Я-то занят другим, мне пока не до этого.
К Белоусову Рябов и Дьяконов вошли вместе.
— Случайно встретились у развалины церкви, — простодушно доложил Рябов.
— То, что вы его там встретите, не сомневался, — ответил Белоусов, еще не успевший раздеться после возвращения с улицы.
— Не понял, — удивился Дьяконов, и с лица его начала сходить краска. — Что значит не сомневались? Вы меня что, там раньше видели?
Белоусов подвинул газету Дьяконову:
— Читайте вот это место.
Тот, вскинув брови, поднес газету к близоруким глазам, затем положил ее на стол. Помолчав, едко ответил:
— Что же тут особого? Обычное объявление. Их публикуют десятками в каждом номере.
— Если бы так, — упорствовал Белоусов. — Не скрывается ли за объявлением некой дочери Венгеля что-либо другое?
Дьяконов пожал плечами и, уже нервничая, сказал:
— В объявлении о выступлении сотни зверей в нашем богоспасаемом городишке тоже можно найти тайный смысл. Не лучше ли не тратить зря время на поиски шифра в неграмотных окских рекламах? Тем более, сейчас есть дела поважнее. Нужно готовиться к облаве в ресторане. А то за ребусами забудем о главном. Домыслы оставьте.
Он не спеша полез в карман. Рябов следил за каждым его движением. Вот Дьяконов достал носовой платок, вытер подбородок, шею.
Похоже, что предатель старался выиграть время, соображал, прикидывал: действительно ли попался? Если да, то все ли потеряно? Он знал: нет трудных ситуаций, из которых нельзя было бы выйти победителем, надо только думать, думать…
— Теперь нам кое-что говорят эти объявления, — заметил Белоусов. — Допускать ошибки не стоило бы вашей светлости.
— Какие ошибки? Что за тон?
— Увы, не случайно ты оказался около церкви, — добавил Рябов. Веских улик против Дьяконова пока не было.
Начальник оперчасти резко повернулся к Семену Гавриловичу:
— Вот еще новости! Ну и зачем же я туда ходил? Что за нелепица?
— А вот и надо разобраться, — уклончиво проронил Белоусов и тут же повысил голос: — Какого черта, все-таки, ты делал у этой развалюхи? Архитектурой, говоришь, любовался и это в ту минуту, когда получил от меня срочное задание? Ну, как? Сам расскажешь или подсказать?
Дьяконов молча уставился на Белоусова, соображая, какие же у них улики против него?
— Ты не искренен, — продолжал начальник милиции. — Могу сказать определеннее, но, надеюсь, суть похода к церкви ты доложишь сам.
— Да вы что? В чем меня подозреваете? Что за глупость! — вскипел Дьяконов. — Не нужен вам — уйду на фронт. Там мне всегда роту солдат дадут. Повоюю, не впервой. Давно замечаю, не доверяете мне. Дикая чушь. Вас засмеют… У вас есть факты? Зачем несуразицу несете?
И Белоусов, и Рябов медлили, понимая, что прямых улик против Дьяконова пока не было. В конце концов, оторваться от задания, даже срочного, чтобы прогуляться часок-другой, по морозцу, когда все так измотаны службой, это всего лишь… ну, нерадение, ну, должностной проступок… К тому же не бог весть какой тяжелый, однако… Ждали возвращения Калинина. Тянули время в разговоре вокруг да около.
Наконец раздался телефонный звонок. Калинин отрапортовал: «Убили швейцара гостиницы. Зашел после Дьяконова в церковь. При нем найдена записка со сведениями о предстоящей ночной операции в ресторане Слезкина».
— Несите ее сюда, — приказал Белоусов. — Немедленно!
Вскоре Калинин вошел в кабинет и положил на стол Белоусова трофеи.
Увидев свою записку на столе Белоусова, Дьяконов выхватил из кармана пистолет. Но произвести выстрел не успел. Его за руку крепко схватил Рябов. А Калинин мощным ударом уложил предателя на пол.
— Ладно, ваша взяла, — угрюмо пробормотал Дьяконов, сплевывая с губ кровь, и зло закричал: — Но и вас всех, как собак, не сегодня-завтра передушат!
— Предатель, — брезгливо поморщился Белоусов. — Под трибунал негодяя!
Когда Дьяконова увел конвой, Белоусов сам себе задал вопрос:
— Как он к нам проник? Ведь мы с первого дня полностью ему не доверяли. А проверить стеснялись…
— Вот наше первое спасибо сотруднику МУРа Столицыну, — заметил Семен Гаврилович.
Кто-то постучал. У порога появился священник в черной рясе. Сжимая пухлыми пальцами медную ручку двери, проговорил:
— Я по важному делу. Оградите храм господний от разгрома. Сохраните божьи ценности. Гибнут они от разбойников на глазах прихожан.
— Что случилось? — спросил Белоусов.
— Подчистую разорили этой ночью Никольскую, — батюшка горестно качал головой. — Унесли бриллианты, иконы, украшенные алмазами и жемчугом. Забрали изумительной работы кресты, цепочки. Духовные лица города в отчаянии. Извещен его преподобие архимандрит Арсений. Бога ради Вас просим… — поп сдвинул на вспотевший от волнения лоб покрытый шелком клобук. Страдальческим голосом продолжал: — И ведь не первый раз вторгаются в храм, супостаты. Еще третьего дня после вечерни пытались. Слышу, по водосточной трубе и по выступам в стене крадется грабитель. У окна привязался и стал пилить решетку. Мы с дьяконом Никифором онемели от страха. Богу стали молиться. Вору воспрепятствовала окованная ставня.
— Вы знаете, куда сбывается церковная утварь? — спросил Рябов.
— В ювелирные магазины да мастерские. Куда же еще. На рынке торгуют. Прихожане наблюдали. Истинный бог, светопреставление! Деды наши и пращуры в изделия душу всю вкладывали, мастерили, отливали, а варвары все под молот пускают и торгуют слитками. Церковный жемчуг продавал в харчевне Кудиярова некто Бибин. Тот самый, которого два года назад осудили за убийство и грабежи к пожизненной каторге. Уже на свободе! Разгуливает по городу.
— Постараемся найти Бибина и все, что нужно, сделаем, — пообещал начальник милиции.
— Верю, потому больше не ропщу. Новой власти, знаю, бог не помеха, — поп, задев толстым боком за дверной косяк, вышел из кабинета. После него в кабинете остался специфический церковный запах.
Когда священник исчез за дверью, Максим Андреевич пригласил секретаря:
— Катюша, ко мне никого не пускай. Закрой на ключ дверь приемной. Сама пользуйся входом через дежурную комнату. Мы с Семеном Гавриловичем будем заняты и долго.
19. Новогодний бал близок
— К вам можно, Герман Карлович? — раздался голос Лизы. — Я не одна.
— Прошу. Входите.
— Вот, телефонист пришел, — уточнила Лиза, вводя в номер Савкова. — Не помешает Вам? Ему надо починить аппарат.
— Что вы, Лиза, пусть заходит, — ответил Столицын. — Хоть я телефоном и не пользуюсь, звонить некому, однако…
— Я вам не нужна сегодня? Мы с Шурой уходим на собрание.
— Нет, пожалуйста, можете быть свободны.
Лиза торопливо удалилась. Теперь можно было поговорить с приятелем.
— Новостей полный короб, — сразу же начал Савков. — Арестован Дьяконов. Это раз.
— Когда?
— Только что.
— Значит, газета…
— В старой церкви шел обмен информацией. Предатель пойман при передаче донесения о сегодняшней операции бородатому швейцару.
— Дьяконов не успел передать сведения?
— Дьяконов-то успел, но швейцар убит. Записка была при нем.
— Ну, ну!
— Могу еще порадовать вашу светлость, — улыбнулся Савков. — Это уже будет два. Утром арестованы управляющая Соболева и распорядительница Гоголева, она же Ердецкая. Действовали в одной шайке со швейцаром. Да, еще проверкой установлено, что сосед Платонов — сбежавший растратчик из Тамбовского продовольственного комиссариата. Разыскивается. Есть данные, что сидел в Таганской тюрьме до революции вместе с Ленькой-Иголкой. После хищения казенных денег в Тамбове приехал сюда. Устраивал его в гостиницу Леонид. Это показания управляющей. Старуха сразу раскисла на допросах. Распорядительница — покрепче орешек… Вот такие новости. Осталось вручить вам вот это, — связной достал из внутреннего кармана пиджака пакет. Подбросил его на руке.
— Что такое? — заинтересовался сотрудник МУРа.
— Разберитесь сами, я займусь телефоном, — он раскрыл ящик с инструментом. В пять минут сменил аппарат, позвонил на станцию, убедился в хорошей слышимости, дал отбой двумя оборотами ручки.
— Телефон сдаю в полной исправности. Пользуйся, кстати, им осторожно. На станции могут подслушивать. А там далеко не все за большевиков. Как и в этой гостинице.
Он надел шапку, застегнул полупальто.
— Что передать Белоусову?
— Скажи, что план не меняется. Встречаемся в ресторане. Я и Кривоносов будем там. Это передай на словах. В отношении Зоси добавь, что рыбка на приманку клюнула. Это пока лишь начало. Но оно обнадеживает. Об этом я сообщаю в письме. Вот…
Савков вышел. Тихон запер дверь и вскрыл конверт. С трудом прочитал он записку Белоусова, торопливо написанную плохо отточенным карандашом.
«Будь в эту ночь особо внимателен, остерегайся, не выдавай себя. Продолжай осваиваться в логове. Ищи пути к атаману. Держись ближе к певице. Благодарю за сведения о Дьяконове. Жму руку».
В пакете находилось также несколько справок. Одна из них об отправке багажа из Москвы в Вену, вторая — о временном выезде в Россию для завершения учебы в Московском университете. Был еще документ, что господин Беккер Герман Карлович является сыном царского дипломата, пожелавшего в сентябре тысяча девятьсот семнадцатого года принять австрийское подданство. Среди документов находилось множество квитанций, диплом об образовании, дневник на немецком языке. Словом, губмилиция постаралась на совесть.
Кроме этого, в пакете были деньги, два дамских перстня и браслет. Кому они предназначались? Конечно, прелестной Зосе. Значит, Белоусов согласился с предложением Тихона время от времени вручать певице презенты. Ставка сделана на нее. Дорогие подарки, предназначенные девушке, должны окупиться не менее ценными сведениями о банде.
За широким окном, зашторенным занавеской, опускались сумерки. Считанные часы остались у тысяча девятьсот семнадцатого года. Тихон лег на тахту. Ему надо было собраться с мыслями. Приятный полумрак успокаивал. Тихон уставился в чисто выбеленный потолок так пристально, точно там были написаны ответы на все тревожившие его вопросы.
Перебирая в памяти свою работу, Тихон как бы подводил предварительные итоги. Появление Беккера замечено нужным образом. К нему благоволят старший официант Иголка, хозяин ресторана, Зося и другие. Проверяют, конечно, для порядка. Так и должно быть. Пошли на пользу игра на рояле в холле, разговор с какой-то приезжей девицей в ресторане Слезкина на немецком языке. При свидетелях. Это, конечно, подействовало на официантов, а через них — и на тех, кто глазами, ушами лакеев следит за постояльцем.
Потеряв Дьяконова, бандиты оказались в полном неведении о планах милиции. Вечером они наверняка попадут в ловушку, ибо не знают об облаве.
Тихон потянулся на тахте. Она едва проминалась под его тощим телом. Посмеиваясь над своей худобой, пощупал под рубашкой ребра. Прошелся по ним пальцами, как по клавишам рояля. Но тут же задумался. «Съезд Советов на носу, а до порядка в Окске еще далеко. Мало толку и от нас с Кривоносовым».
И в то же время… Раньше Тихон ежедневно читал в газетах о погромах в советских учреждениях, грабежах. В последние дни сообщений на эту тему почти не появлялось. Слабее стали налеты бандитов. Мероприятия милиции давали результаты.
Тихон включил свет. Заиграли блики на золотистых обоях, на дорогой полированной мебели. Он провел рукой по сверкающему никелем ободку тахты, ударил кулаком в гору подушек. Не снится ли ему, что он живет среди такой роскоши?
Открыл платяной шкаф. Выбрал лучшую кремовую рубашку, светло-коричневый в белую полоску галстук. В тон им надел коричневого цвета костюм, обулся в темно-коричневые полуботинки. Разложил в карманах документы. Надел дорогое пальто на меху, меховую шапку пирожком. Посмотрел в зеркало: щеголь!
Пышные волосы выбивались из-под головного убора. Он вымыл их утром средством Перуин-Пето. Погрузившись до подбородка в ванну, Тихон трижды прочитал пояснение на флаконе:
«Опасность грозит волосам, когда начинает появляться перхоть, а следом за ней идет выпадение волос, но бороться с этим злом не так трудно, если регулярно употреблять Перуин-Пето из Парижа».
Тихону сразу же захотелось привезти домой флакончик и показать своим сестрам…

Новый высокий худой швейцар поклоном проводил его из гостиницы. Тихон не удостоил его ни малейшим вниманием.
Площадь перед рестораном Слезкина постепенно заполнялась народом. Несмотря на разруху, голод и тревожное время, молодежь веселилась. После мороза пришло потепление. Горожанам это показалось предзнаменованием к лучшему в их жизни — очень уж хотелось этого лучшего. Те, кто мог себе позволить побывать у Слезкина, толпились у входа в ресторан, ожидая назначенного часа. Они уже предвкушали новогодний бал-маскарад.
Тут же ковылял инвалид из бывших солдат и предлагал за махорку тоненькие брошюрки:
— Подходите, приобретайте, драгоценные советы знаменитостей! Конец мучениям, тоске и подавленности! Спасение найдено. Покупайте книгу: «Половое бессилие и его лечение». Спешите узнать, как получить могучую энергию мужчинам и пользоваться всеми радостями жизни, забыв об ошибках молодости. Все без обмана! Издает аптека Российско-Американского товарищества!
Поодаль от главного входа в ресторан щебетала стайка девушек. Среди них Тихон увидел Шуру и Лизу. Они слушали свою подругу Веру Гуревич, руководителя организации «Молодежь» при Совете депутатов. Та, закинув голову, что-то говорила очень горячо и убежденно. Молодежь то и дело хлопала в ладоши. Лиза, обняв Шуру, кокетливо поглядывала в сторону Тихона.
20. Облава
В банкетном зале уже кипело веселье. У елки кружились ряженые. В малом зале и в отдельных номерах шумело праздничное застолье. Шныряли официанты с подносами, тяжело гружеными бутылками и закусками. Промелькнул старший официант Ленька-Иголка. Звенели фужеры с вином, звякали рюмки с крепкими напитками. Взрывались бутылки шампанского, пробки летели в потолок.
— Дамы! Рыцари! Разрешите приступить к новогоднему представлению, — стараясь перекричать публику, надрывался знакомый Тихону конферансье, рыская взглядом по маскам.
— Бал открывает любимица публики, наша обожаемая Зосенька. Исполняется романс «Нам жить осталось долго!».
Тихон стоял у буфетной стойки. Старший официант, увидев его, улыбнулся, но тут же снова стал серьезным.
Часы с боем, вставленные в чучело медведя, пробили десять. Осталось два часа до полуночи.
Вышла Зося, одетая в розовую кофточку и длинную светло-серую юбку. Все в ней очаровывало Тихона, девушка уже была ему небезразлична. Улыбаясь, певица несколько раз поклонилась, начала петь.
Тихон подумал: «Великолепный голос».
Зося была в ударе. На бис исполняла номер за номером. Прекрасное пение приводило публику в восторг. Весь зал пел вместе с Зосей незатейливую застольную песенку ресторана Слезкина:
Всяк гражданин или воитель,
В часы досуга не забудь,
Что где-то есть твоя обитель,
Туда держи свой спешно путь.
Со вкусом можно здесь покушать,
Ведь ресторан наш хоть куда,
Оркестра музыку послушать
И отдохнуть после труда.
Тихон сдержанно улыбнулся: «Слабенькая реклама».
Чем ближе время подвигалось к полуночи, тем беспокойнее становился Леонид. Покрикивал на официантов, суетился, перебегая от кабинета к кабинету, остро всматривался в каждую маску. Кого-то он искал или ждал.
Подойдя к Тихону, Леонид с фальшивой улыбкой сказал:
— Господин Беккер, милости прошу за мной. Вы еще не определены? Не годится. Вот сюда, если не возражаете, прошу, это столик холостяков. Отсюда чудесно видна елка. Сцена тоже.
Тихон, пожав плечами, подчинился официанту и уселся на указанное место. Вскоре Леонид, извинившись, подвел к его столику мужчину лет тридцати, худого, с короткими русыми волосами, длинным в прыщах лицом на тонкой с большим кадыком шее.
Тот подчеркнуто недовольно что-то буркнул в адрес старшего официанта и представился Тихону:
— Иоганн Ротэ.
— С вашего позволения, — склонился было к Тихону Леонид, но тот его отстранил.
— Беккер, — изысканно поклонившись, как и подобает воспитанному человеку, ответил вновь подошедшему Столицын.
Леонид удалился, по-прежнему беспокойно шаря взглядом по сторонам.
Тихон посмотрел в центр зала.
Там высокий, круглолицый мужчина атлетического телосложения подал кому-то знак властным кивком и направился по мраморной лестнице вверх, на второй этаж.
«Кто это?» — спросил у себя Столицын. — «Не атаман ли? Что, если сам пожаловал? Пожалуй, нет. У Бьяковского было бы больше телохранителей…»
Тут же Тихон различил в толпе и фигуру своего друга. Кривоносов был в маске, прикрывавшей глаза узкой полоской, с ним весело щебетали две дамы. Перехватив настороженный взгляд Тихона, Николай слегка взмахнул рукой. Но Столицын уже и сам понял: этот бритоголовый — кто-то из главарей.
Сидевший напротив Иоганн Ротэ не проронил ни слова, лишь временами изучающе посматривал на господина Беккера…
…Какая-то экспансивная маска задела Тихона локтем. Ее подруга игриво осыпала Столицына серебристым «дождем» и обмотала серпантином. Тут же обе с визгом убежали. От елки неслись веселые крики. Сзади Тихона послышался голос Николая, рассказывающего дамеанекдот:
— …Представляете себе? Все происходило на втором этаже. Ну, пока супруг туда поднимался, время было потеряно, муженек никого дома не застал…
Дама смеялась, а Николай, подхохатывая, повторял: «На втором этаже… Но время нельзя упускать». Тихон понял, что сбор состоялся. Все, кто собирался, уже в ресторане. На втором этаже. Бандиты пришли пировать в кабинетах второго этажа. Теперь задача милиции — выловить этих разбойников.
Столицын встал, не мешая накрыть на стол. Кривоносов едва заметным кивком показал опять в ту сторону, куда поднялся по лестнице бритоголовый. Еле заметно кивнул и Тихон: «Все, мол, понял», — и тут же праздничная волна подхватила Николая. А Тихон снова сел за столик. Его крючконосый сосед, провальсировав с дамой в зеленом бархате, молча вернулся на свое место.
Неподалеку шумела компания молодых людей. Юноша в форменной тужурке с болезненно бледным лицом визгливо доказывал:
— Веками складывалось могущество России. А большевики все растоптали дырявыми сапогами. Мы, интеллигенция, а не безмозглые пролетарии, дадим свободу пахарю! Из серого, угнетенного и ничтожного мы сделаем его светлым, свободным, великолепным!
Его прервал сухопарый парень в косоворотке:
— Прекрасные слова, но прошел час эсеровских призывов. Лучше помолчите.
— Меня обуревают раздумья, — сказал другой юноша в военном френче. — Где тот мудрец, где те пророки, которые могли бы сказать, что будет завтра с нами?
— Есть такие пророки, — торжественно объявил в косоворотке, — большевики. Но не юнкера, не кадеты, и не эсеры.
— Большевики! — завопил белолицый, — продержатся ли они хотя бы до весны? Ваш комитет издал обращение к народу: двух месяцев не прошло, как захватили власть, а уже приходится взывать — спасайте отечество и революцию!
— Будь уверен, спасем! — ответил сухопарый, — весь пролетариат идет за Советами и большевиками.
— Ох, — вздохнул крепыш в пестром жилете. — Снизойдет ли тишина на Русь или взойдет кровавая заря погромов? Установится ли порядок на земле русской или нескончаемо будут метаться по ней сбитые с толку стада народа?
— Вот такие и сбивают! — тыча пальцем в сухопарого, закричал белолицый. — От недорезанных большевиков вся смута идет!
— Революция — не смута! — спокойно возразил парень в косоворотке. — Революция — это есть порядок. Высший порядок. Не порядок застоя, а порядок развития!
К молодым людям подошел племянник хозяина ресторана Илья Слезкин. Он был одет в расписной жилет и красную рубаху. Из нагрудного кармана спускалась золотая цепочка. Выпятив грудь, произнес:
— Кто тут возводит поклеп на русскую культуру? — Слезкин-младший толкнул парня в косоворотке пальцем в бок. — Ты что ли в рассуждения пускаешься?
Тот отбросил его руку. Слезкин-младший истерически завопил:
— Пришибу! Я только за одно слово «революция» кровь пущу! Весь ваш комитет сам по столбам развешаю. Дайте срок!
Парень в косоворотке с достоинством ответил:
— Руки у вас, палачи, коротки!
— Всех — на столбы! — орал Слезкин так, что звенели хрустальные люстры. — Завтра, завтра же все большевистские Советы разнесем в прах!
Коренастый, лысый мужчина в свитере властно рванул Слезкина за ворот.
— Довольно базарить! Ты, — и быстро пошел на второй этаж. За ним, вмиг присмиревший и будто даже отрезвевший, устремился молодой Слезкин.
Тихон, наблюдавший эту сцену, поискал взглядом Николая. Тот незаметно показал Столицыну два пальца и повел головой вслед ушедшим.
Зазвенели часы, предваряя двенадцать торжественных ударов. Словно на перестрелке, защелками, захлопали бутылки шампанского. На сцене вновь появилась Зося — в черном вечернем платье с бокалом вина. Рядом с ней вырос конферансье.
Певица провозгласила:
— Друзья, за новый, восемнадцатый год. Пусть, наконец, уйдут от нас все тревоги. С новым годом, с новым счастьем!
Она чокнулась с конферансье и пригубила вино. Все вокруг заулыбались.
Тихон и Николай — каждый в своем конце зала, как бы чувствуя плечо друга, — тоже выпили за успех, за Советскую власть, за полную победу мирового пролетариата.
Начались танцы. Пробираясь между танцующими, Тихон подошел к стоящему у стены Савкову и спросил у него:
— А на втором этаже танцуют?
— Нет, разве что в отдельных номерах?
— Хорошо бы вовремя прервать там гулянку, — и Тихон направился дальше.
Савков тут же исчез из зала.
Сев за свой столик, Тихон стал наблюдать за Николаем. Поведение Кривоносова его раздражало. Раньше Столицын высоко ценил его, как специалиста уголовного розыска. Видимо, Николай сейчас терял терпение, открывался. Тихону стало ясно, что его друг решил дождаться появления милицейского наряда в ресторане и поэтому не уходил. Но ему, пожалуй, не следовало этого делать. Он подвергал свою жизнь серьезной опасности, и Тихон чувствовал это. Наверняка, для бандитов Кривоносов давно уже не представлял загадки.
Тихон решительно встал из-за стола, чтобы привлечь внимание друга, но ему это не удавалось.
Зося, хотя и выглядела усталой, но пела по-прежнему с чувством. Тихон подошел через весь зал к Зосе и под громкие рукоплескания публики надел ей на руку браслет. Было самое подходящее время для такого подарка.
— Что вы, что вы? — растерянно лепетала певица, одновременно любуясь игрой света на камнях браслета.
— Буду счастлив, если вам придется по вкусу. Вы обворожили всех нас. Поверьте, вы заслуживаете куда большего.
Зося просияла от лестных слов, с искренней признательностью проводила взглядом нового поклонника, с достоинством идущего под гром аплодисментов к своему столу.
— Ну, как, господа холостяки? — спустя несколько минут раздался бодрый голос Леонида. — Вас, господин Беккер, не заинтересовала ни одна дама?
Столицын пожал плечами.
— Понятно. Тонкий вы человек, Герман Карлович.
Леонид лукаво прищурился. Тихон уже собрался что-то ответить, как вдруг услышал за спиной крик. Он обернулся. Изрядно охмелевшего племянника Слезкина кто-то ударил по физиономии. Поднялся невообразимый переполох. Многие гости вскочили с мест.
А в зал уже входили люди с винтовками за плечами, в шинелях, в пальто, в зипунах. Это были работники милиции. Белоусов с наганом в руке выступил на шаг вперед:
— Оставаться на местах! Проверка документов. Извиняемся за вторжение. Имеется разрешение совдепа.
Слезкин поднялся с пола. Нагнулся, но милиционер, вовремя заметив финку, наступил, на нее ногой.
— Господин Слезкин, вы арестованы, — произнес Белоусов. — Степанов и Желтков, уведите задержанного.
Милиционеры шагнули к бандиту. Но схватить не успели. Он рванулся в сторону мраморной лестницы, взбежал, на ходу выдернув из кармана браунинг, выстрелил. Попал в милиционера Желткова, который тут же рухнул на пол. В это время сверху, не понимая, в чем дело, спускался бритоголовый. Увидев его, Леонид запустил тарелку в люстру. Брызнули осколки хрусталя. Белоусов выстрелил в потолок и громовым голосом крикнул:
— Ресторан окружен. Всем оставаться на местах!

Зал наполнился криком, звоном, стрельбой. Пуля одного из бандитов попала в плечо начальнику милиции. Максим Андреевич опустил руку, в которой держал револьвер. Откуда-то сверху Слезкин-младший кричал фальцетом:
— Что, комиссар? Досталось? Это еще не все. Подождите, не то вам, большевикам, будет! И с чужой женой придется расстаться. Она моя, комиссар! Я заберу ее у тебя.
Раздались новые выстрелы.
Наверху лестницы Николай Кривоносов настиг бандита и сильным ударом кулака сбил Слезкина-младшего с ног.
Белоусов, зажав пальцами рану, командовал:
— Первый отряд — на второй этаж, живо! Второй отряд — на кухню.
Тихон в схватку не вмешивался. Он смотрел и спокойно резюмировал:
— А ведь шальная пуля может и нас прихватить, господин Ротэ. Не укрыться ли нам?
— Приказано сидеть на месте, — сухо ответил тот.
По лестнице вели под руки конферансье, бритоголового и Слезкина-младшего. Их лица были в крови. За ними семенил растерянный хозяин ресторана, утирая большим платком багровое лицо. Настя подбежала к милиционерам, стоявшим у выхода из зала, крикнула: «Арестуйте его… Я знаю, где спрятался Леонид». Но связанного Иголку работники милиции уже волокли со второго этажа. По его физиономии текли струйки крови.
И тут откуда-то раздался еще один выстрел. Пуля угодила в голову Николая. Кривоносов стал медленно оседать, меж его пальцами сочились красные струйки. Он упал на ступеньки, распластав руки, точно хотел удержаться за ковровую дорожку. Увидев падающего Николая, Тихон чуть не закричал.
А рядом трое милиционеров выносили на руках Белоусова. Сердце Тихона сжалось от горя. Второе ранение пришлось Максиму Андреевичу в грудь. Стрельба как по приказу прекратилась. В зале воцарилась тишина, лишь шелестели проверяемые документы у посетителей ресторана.
— Вот теперь и нам можно прогуляться. Не желаете посмотреть? — показал рукой в сторону второго этажа Ротэ. — Каков там погром?
— О, боюсь шальной пули, — Тихон растерянно пожал плечами. Он почти не слышал того, что говорит Ротэ. Но нельзя было выдавать своих чувств. Он через силу улыбнулся, вцепившись руками в край стола.
Бандитов вывели. Отправили в госпиталь и Белоусова. Тихон с ужасом смотрел, как уносили на какой-то дерюжке Кривоносова. Правая рука муровца безжизненно свисала до пола, голова была залита кровью. Даже издалека было видно, что он мертв.
Столицын вернулся в гостиницу, чтобы собраться с мыслями. Едва он вошел в номер, как в дверь постучалась Лиза.
— Скажите, это Леонид убил вашего друга? — взволнованно спросила она.
— Нет. Его самого раньше задержал Николай. Вот такие-то дела… Но теперь уж ничем не поможешь. Горе непоправимое! — Столицын помолчал. — Принеси мне, Лизонька, чая, да покрепче.
Через минуту чай был принесен, а девушка тихо вышла, осторожно закрыв дверь.
Оставшись один, Тихон бросился в постель, засунув револьвер под подушку, и до утра не сомкнул глаз.
«Надо узнать, где остальные притоны, — размышлял он, — и самое главное, добраться до логова Бьяковского. Тогда я выполню задание и отомщу за Николая и Максима Андреевича». Столицын прекрасно понимал, как трудно будет ему работать теперь, как будет недоставать товарищей, но довести дело до конца — его долг, и он его выполнит…
21. Похороны
А жизнь в губмилиции пошла своим чередом. Допрашивали Леонида и задержанных бандитов, арестовали их более двадцати. Все они категорически отрицали причастность к банде Бьяковского. Но их обличали награбленные драгоценности, иконы, золото.
Прах героически погибшего сотрудника МУРа Николая Кривоносова готовили к отправке в Москву. В окском Доме обороны был выставлен гроб с телом Белоусова. От безутешной Ани день и ночь не отходила секретарша губмилиции Катя Радина.
Секретарь губкома РКП(б) Савелий Ильич Бугров назначил Рябова начальником губмилиции. Но в самом городе царил переполох.
Невероятно разноречивые, а подчас и подло искаженные слухи о событиях в новогоднюю ночь, происшедших в ресторане купца Слезкина, расползались по дворам обывателей, как змеи, в клубок которых бросили камень. Ликовали враги Советской власти: «Прикончены все подчистую руководители так называемой рабоче-крестьянской милиции — и Белоусов и его помощники. Доигрались в сыщики-разбойники». Образованные обыватели припоминали историю Парижской коммуны. Захватить власть, мол, легко, ума большого не надо, а вот удержать ее, наладить работу новой государственной машины — дело потяжелее. Тут нужны не луженые глотки и пудовые мозолистые кулаки пролетариата, а умные головы, да еще культура, образование, воспитание. Парижская коммуна! Как бы в эти же сроки не уложилось и существование Советов. Два месяца и десять дней, по подсчетам врагов революции, в Окске истекали к концу января восемнадцатого года.
Губком партии большевиков в результате новогодней облавы видел начало разгрома банды Бьяковского. И, пресекая все вымыслы, предложил газете «Голос народа» выступить с правдивой информацией. Статья была опубликована на первой полосе. В ней, в частности, говорилось:
«После упорных, кровопролитных боев, после взятия власти большевиками в городе, наши кровавые недруги — эсеры, кадеты, буржуазия, крупные чиновники не сложили оружия. Они в одиночку, группами, шайками и организованными бандами выходят из своих притонов, волчьих закутков грабить народное достояние, мстить пролетариату. Но пусть не обнадеживают себя! Они кусаются на последнем издыхании, как мухи перед погибелью. Созданные подразделения рабоче-крестьянской милиции при поддержке отрядов красной гвардии ВРК и всех честных людей успешно ведут борьбу с контрой, своим мужеством, волей и оружием твердо отстаивают завоевания рабочего класса. Сегодня мы оплакиваем лучших наших товарищей, безвременно погибших на боевом посту, имена которых принадлежат эпохе, овеянной героикой и славой социалистической революции.
От предательских пуль мы теряем замечательных бойцов. Но на их место защитниками интересов народа становятся новые большевики и сочувствующие революции и ведут беспощадную войну с предателями. Близко то время, когда враги революции будут уничтожены.
В новогоднюю ночь в ресторане Слезкина, при задержании большой шайки бандитов атамана Бьяковского был смертельно ранен первый начальник рабоче-крестьянской милиции губернии Максим Андреевич Белоусов. Смертью храбрых пали двое других сотрудников. Пусть знают бандиты — кара для них неизбежна. За жизнь наших товарищей они заплатят сполна».
В день выхода этой статьи были назначены похороны Белоусова.
Тихону очень хотелось хоть краем глаза взглянуть на лежащего на смертном одре Максима Андреевича. Прогуливаясь по бульвару, Салтыковской улице, он как бы случайно оказался невдалеке от Дома обороны. Остановился у шестигранной витрины, оклеенной самыми разными объявлениями, среди которых было и такое:
«Совет рабочих и солдатских депутатов извещает, что по улице Кутузова, в доме № 40 вступило в исполнение своих обязанностей вместо старых противонародных жандармских участков управление губернской милиции рабочих и крестьян. Его начальник…»
Дальше стояла фамилия Белоусова. Но она была зачеркнута, а над ней от руки написано
«Рябов Семен Гаврилович».
Ровно в три часа дня Тихон Столицын увидел, как из парадного подъезда Дома обороны стали выносить гроб с телом Белоусова. Его несли, держа за углы, четверо рослых мужчин. Особенно один из них обращал на себя внимание. Был он чрезмерно широкоплеч, дюж, несмотря на мороз — в бушлате нараспашку, в тельняшке, обтянувшей его могучую грудь. Тихон не знал, что это и есть председатель Военно-революционного комитета и секретарь губкома партии большевиков Савелий Бугров.

Раздались траурные звуки оркестра. Гроб установили в кузов грузовой машины, стоявшей «на парах» у подъезда. По сигналу Бугрова автомобиль зарычал и медленно двинулся под уклон улицы. Вслед тронулась длинная колонна людей, провожавших Белоусова в последний путь. Представители учреждений, заводов, коллективов несли венки. Тихон насчитал десять или двенадцать венков из живых цветов, удивляясь, откуда они взялись среди морозной зимы. На кумачовых лентах проглядывали надписи:
«От жены», «От губкома партии», «От завода железной дороги…»
Все участники шествия шагали молча, плотно сжав губы. Вдова Белоусова Аня через силу переставляла ноги. Ее поддерживали под руки с одной стороны — сестра Тоня, с другой — мать. Головы женщин покрывали заиндевевшие от дыхания черные платки.
Тихон не знал ни жену Белоусова, ни двух других женщин, но догадался, кто это может быть. Муровец шел по тротуару в стороне от процессии. Продрогшее на морозе солнце светило тускло и холодно. Столицын забыл надеть перчатки и теперь грел руки в карманах пальто. На душе у него было тоскливо.
За поворотом на вторую улицу оркестр умолк, чтобы передохнуть. Наступило тяжелое безмолвие, нарушаемое лишь шумом шагов участников процессии и натужным рычанием мотора автомашины, ехавшей на первой скорости.
Тихон через головы людей, столпившихся вдоль мостовой, видел гроб с телом покойного, обтянутый красным бархатом с черной траурной каймой. Столицын теперь отчетливо увидел жену Белоусова. Ослабевшая от горя вдова, казалось, не понимала, что происходит вокруг нее. Вслед за нею шли провожающие со скорбно склоненными головами, мужчины держали шапки в руках.
На тротуарах вдоль мостовых стояли люди, словно выстраиваясь в одну, общую шеренгу.
По распоряжению губкома в четыре часа дня прозвучали траурные гудки трех крупных заводов, и на минуту остановились на предприятиях все работы.
Тихон знал, что в эти часы там, в Москве, товарищи из уголовного розыска хоронят его лучшего друга Николая Кривоносова, так же, как и Белоусов, безвременно погибшего от бандитской пули, и на душе у него стало еще тяжелее…
У кладбищенских ворот гроб сняли с кузова автомашины и подняли на плечи верные друзья Белоусова: Савелий Бугров, неизвестный крупнолицый мужчина со светлыми редкими волосами, приехавший, как говорили, из Москвы, Рябов и Петухов.
Гроб установили у края могилы. Замер торжественно выстроенный военный караул с винтовками в руках.
На большой дощатый помост поднялся Бугров. Рядом встали с ним Рябов, светловолосый москвич и худощавый юноша. Вцепившись руками в борта матросского бушлата, Бугров дрожащим от волнения голосом начал траурную речь.
— Мы сегодня в глубокой скорби. Нет слов, чтобы передать нашу печаль. Бандитская пуля вырвала из наших рядов замечательного сына русского народа, пламенного революционера, Максима Андреевича Белоусова. Змеиное отродье подняло руку на самое для нас дорогое. Отняло жизнь у человека, который всего себя без остатка отдал народу, революции, преобразующей жизнь пролетариата. Осталась вдовой его жена, близкий ему друг, помощница — Анна Ефимовна. Но мы не забудем ее, окружим теплом и вниманием. Не предадим и память о Максиме Белоусове, человеке большого и доброго сердца, своем боевом друге, члене партии большевиков с 1915 года. Сын богатого врача, он, окончив гимназию и поступив в университет, смело вступил на путь борьбы с темнотой, бесправием, угнетением, всем тем, что несло царское самодержавие простому народу. Порвав связь с родителями, не разделявшими его убеждения, он все свои духовные силы, всю свою энергию, светлый, большой ум отдал делу свержения царизма, уничтожения эксплуатации человека человеком. Ни тюрьмы, ни ссылки не могли сломить его кипучую волю, энергию, преданность делу коммунизма. Впервые его, студента Петербургского университета, за участие в революционном движении заточили в Петропавловскую крепость в девятнадцать лет. Затем он был сослан в Сибирь. Вернувшись из ссылки, он снова с головой ушел в подпольную работу большевистского комитета Окска, куда направил его сам Владимир Ильич Ленин. Белоусовым, как членом Военно-революционного комитета, летом прошлого года была проделана огромная работа по созданию и обучению отрядов красногвардейцев. В дни захвата власти в городе он возглавлял решающие участки вооруженного восстания. После установления Советской власти на первом заседании ВРК ему было поручено создание рабоче-крестьянской милиции. И с этим заданием партии он успешно справился. Работая, не щадя себя, он смог за короткое время организовать, укомплектовать губмилицию, пресечь десятки бандитских налетов на государственные учреждения, задержать и отдать под суд более трехсот бандитов. И вот такой человек погиб от рук негодяев! Пусть не рассчитывают враги революции, что подлыми убийствами они смогут нас сломить. Мы еще теснее сомкнем ряды и в могучем революционном порыве поведем трудящихся к победе! Спи спокойно, наш незабвенный друг!
Гроб стали опускать в могилу, время на несколько секунд словно остановилось. Раздались оружейные залпы прощального салюта.
22. Одиночество
Не стало больше заведения Слезкина. Ресторан реквизировали Советы и открыли в нем общественную столовую.
Из всей прежней роскоши — часов, вделанных в чучело медведя, великолепной мебели, мягких зеленых штор, хрустальных люстр — остался лишь щегол в пестром оперении. Он один не чувствовал перемен, бойко перепархивал в своей клетке с веточки на веточку и пел. Исчезли из зала диковинные статуэтки с замысловатыми вензелями, фигурки из дуба, гипса, бронзы.
Слезкин-старший, заросший щетиной, по-прежнему стоял за буфетом. Но теперь, уже в роли заместителя заведующего столовой, он получал от комиссариата продовольствия денежный оклад. Его нельзя было узнать — робкий, суетливый, всем угождающий. От прошлого осталась лишь привычка держать под фартуком руки — красные, как клешни у обваренного рака.
Увидев Тихона, Слезкин обрадовался и завертел головой:
— Здравствуйте, господин Беккер. Думал, вы уехали. Леонид сразил меня. Не знал, что он негодяй. Порядочный клиент нас теперь обходит стороной. Идет молва, что меня освободили за деньги. Будто все равно арестуют. А я ведь ни в чем не виноват!
Тихон присел к столику. Он готов был долго слушать бывшего купца с одной целью: чтобы узнать, где сейчас находится певица Зося.
— Одну минуточку, я только передам на кухню ваш заказ, — залебезил Слезкин-старший.
— Мне от вас скрывать нечего, — выдавливая жалкую улыбку, через минуту продолжал он, — семьдесят лет назад дед мой, Пафнутий Евграфович, открыл на этом самом месте, — Слезкин несколько раз ударил каблуком об пол, — маленькую харчевню. Перебиваясь с хлеба на квас, пустил в оборот капитал, какой имел. Это мог сделать любой, да не всякому по душе гнуть в три погибели за копейку спину, наживать кровавые мозоли. Через сорок лет адского труда всей семьи дед отдал богу душу, оставив моему отцу крохотное состояние в виде ресторации из двух залов. Родитель мой пошел в предка, но скоро приказал долго жить. Тогда-то все хозяйство легло на плечи пятнадцатилетнего малого, вашего покорного слуги. Этому ресторану я посвятил тридцать лет жизни.
Полная неторопливая работница столовой принесла на подносе заказанную Тихоном еду и вразвалочку удалилась.
— Так, так, рассказывайте, — Тихон помешал ложкой горячий борщ. — Слушаю вас.
— Ну, вот, — даже прослезился бывший купец, — какой я эксплуататор? Новая власть, как бы ни презирала богатых, не должна отнимать то, что нажито честным трудом, я так понимаю. Извините, не наскучил ли своими печалями? Вам они, извиняюсь, может, ни к чему?
— Напротив, слушаю с исключительным вниманием и сочувствием. Имею в этом свой интерес.
Ободренный такими словами господина Беккера, Слезкин вытер ладонью мокрый лоб и продолжал:
— Куда проще сделать капризным клиентам от ворот поворот. Сказать: идите, мол, прочь со своими причудами, отваливайте. А Слезкин, бывало, любого накормит, всякому сумеет угодить. Всегда имелся полный ассортимент закусок, вин, табака… Да что говорить, подчас губернатор с благоверной захаживали…
Столицын доел яичницу, согнал с сайки муху и принялся за жидкий чай. Слезкин горестно вздохнул:
— По нынешним временам даем только чаек, а какао и кофия след простыл.
В столовую вошли молодые люди в гимнастерках и куртках, перепоясанные ремнями. Шумно разговаривая, расселись. Все та же работница столовой приняла от них заказы и, по-утиному раскачиваясь, ушла на кухню.
— Вот здесь у меня одна горечь, — Слезкин ткнул себя пальцем в грудь. — Жаль, Зосенька потеряла место, лишилась эстрады. Обедает теперь в Никитском ресторане. И уж не ведаю, как и на хлеб, бедняжка, зарабатывает. Какой талант пропадает!
Стоп! Это все, что было нужно Тихону. Он теперь знал, где искать артистку.
Сочувственно распрощавшись с бывшим владельцем ресторана, Столицын вышел из столовой, готовый к действиям.

По заснеженной аллее парка он дошел до крутого спуска к реке. Внизу, скованная панцирем льда, спала Ока. Над ней кружился порывистый ветер. И вдруг сотрудник МУРа представил парк, берега Оки лет этак через пятьдесят. Как все изменится! Воображению представились многоэтажные дома, новые заводы, фабрики, кинематографы, великолепные мосты через реку. Дожить бы до тех пор! Прийти сюда с внуками. Рассказать им, какой был этот парк в январе восемнадцатого года. А то ведь пройдут годы, никто не вспомнит о каком-то ресторане Слезкина, где в новогоднюю ночь погибли смелые, преданные революции, люди Николай Кривоносов и начальник милиции Белоусов и их товарищи. Нет, вспомнят, обязательно вспомнят! — уверенно подвел итог Столицын.
23. Тихон слушает ученого
Столицын прочитал в газете, что в Окском Доме обороны проходят встречи с учеными, выступают агитаторы новой власти. Ему хотелось развеяться, отвлечься на минуту, да и соскучился он в одиночестве. К тому же он очень любил пламенных революционеров — ораторов.
Но было ясно, что ходить на революционные собрания сыну царского дипломата не пристало. Однако поприсутствовать на встрече с ученым вполне даже можно.
Тихон слышал о некоем преподавателе местного епархиального училища, известном сочинителе книг о воздухоплавании, который живет в Окске и часто посещает Дом обороны. Столицын решил съездить туда — авось удастся послушать лекцию знаменитости.
— Эй, кучер! — Тихон остановил легкий двухместный экипаж.
— Куды изволите? — натянув вожжи, спросил возница.
— Прикажу к Дому обороны, любезный. На Салтыковку. Да погоняй, братец, пошибче. За лихую езду — получишь целковый. — Тихон хлопнул кучера по армяку, изобразил барское наслаждение и плюхнулся в экипаж.
Кучер, как водится, оказался говорливым:
— Экое время! Ноне всем подавай пошибче. Варфоломеевские дни и ночи нагрянули. Ни слухом ни духом не ведая, а можешь загреметь в тартарары. Слыхали, как ресторан Слезкина изметелили? А начальника тутошней милиции пристукнули, да так, что он, гутарят, наутро в гошпитале отдал богу душу. Долго ли продержится новая власть, Господь его ведает. Да только одно плохо: простой люд, как ни поверни, страдает.
У Тихона, так неожиданно вновь услышавшего о смерти Белоусова, екнуло сердце. Он удивился осведомленности кучера. И на всякий случай, расплачиваясь, постарался запомнить его лицо.
У входа в Дом обороны скапливалась, главным образом, молодежь. Тихону стоило трудов пробиться через плотную толпу в зал и найти местечко поближе к лектору — благообразному старичку, одетому в темный, строгий костюм, рубашку с галстуком. Наконец Столицын мог слышать ученого.
— Друзья, науке известно, что между планетами различных звездных систем и нашей Землей, несомненно, много общих черт. Ведь их составляют одни и те же вещества! На таких далеких планетах есть атмосфера, на них действуют силы тяготения. Сменяются там времена года и есть, полагаю, планеты, которые, подобно Земле, пригодны для жизни, если они находятся на благоприятном расстоянии от своего светила… Ученым предстоят большие и полезные исследования…
Внимательно слушали увлеченную и поэтому увлекательную речь старого ученого парни, одетые в косоворотки, свитера, сюртуки. Девушки — в строгих платьях, костюмах. Наперебой задавали докладчику вопросы. Ученый, блистая эрудицией, находчиво и быстро на них отвечал. Остроумия ему было не занимать.
Некоторых молодых людей ученый называл по имени. Обращаясь к ним, спрашивал, не забыли ли они училище, которое парни и девушки, видать, окончили, интересовался, кто что теперь делает, а двум девчушкам, веселым хохотуньям, по их просьбе, подарил маленькие книжечки в коричневом переплете, оставив на первой странице свой автограф.
— Друзья мои, продолжайте глубоко изучать науку — астрономию. Все свободное время посвящайте ей и вы познаете радость открытий. А сейчас, умоляю, отпустите. Меня ждут в комиссариате милиции. Волнуюсь, потому как не имел до сих пор такого опыта. Я имею в виду опыта выступлений перед прежней полицией. Прощайте, друзья. Больших вам удач, успехов в работе, учебе. Не забывайте своего старого учителя, готовьте вопросы к следующей нашей встрече. Тему будущей лекции вы знаете…
Повидать знаменитость было очень интересно. Тихона приятно удивило то, что ученый пошел читать лекцию прямо в управление губмилиции. Вот бы его послушать там! Сильное волнение произвела на Столицына задушевная беседа старика с молодежью. В речи лектора чувствовалась мудрость. Каждая фраза им произносилась рассудительно, заставляла задумываться. Ученый производил впечатление солидного мыслителя, обладающего большими знаниями. И в то же время, он разговаривал с молодыми людьми, как с равными. Такой пример новых взаимоотношений между молодежью и старым поколением — не есть ли добрый пример нового времени, не завоевание ли это рабоче-крестьянской власти? — подумал Тихон.

Сопровождала старого учителя к выходу из Дома обороны светловолосая симпатичная молодая женщина в куртке с отложным накрахмаленным воротником. На ходу она звонко щебетала:
— Посетила я на днях село Горевское. Вы, наверное, знаете, это в семи верстах отсюда. Попала на свадьбу. И была заворожена. Какая прелесть! Настоящий праздник. Дух захватывает! Регистрация проходила по желанию новобрачных: хотите — в сельском Совете, а желаете — будьте добры в церковь, к батюшке на венчание. В общем, красота. Молодые не наглядятся друг на друга…
— Вот видите, какое вы получили удовольствие. Так и дальше дело пойдет. Я преотлично помню прежние подневольные свадьбы. Брак без радости и веселья, с лицемерием под Господом Богом. А нынче, если уж намерился кто заключить союз по христианскому обычаю, тоже, не возбраняется.
Ученый вышел из Дома обороны. Тихон оделся и направился в свои, можно сказать, апартаменты. Увлекательный рассказ о звездных мирах не отвлек его от земных дум. А они у него оставались прежними: как побыстрее выловить остатки банды Бьяковского? Когда Столицын возвратился в гостиницу, шел девятый час вечера. Еще один день прожит и — тут же в мыслях признал Тихон — он ничего пока не дал для дела.
Столицын быстро разделся и лег спать, нетерпеливо ожидая утро следующего дня, чтобы продолжить порученный ему поиск. Он верил — упорная работа должна принести успех.
24. В новом ресторане
В то утро Тихон проснулся в тревожном состоянии. Не было еще и восьми. В окне чуть-чуть брезжил поздний зимний рассвет. За дверью номера ходили по скрипучим половицам какие-то люди. Гостиница пробуждалась. Сердце Столицына исполнилось непонятным волнением и беспокойством. Он стал припоминать кошмарный сон. Будто улица, по которой он шел, уходила из-под ног. Он пытался звать на помощь, никто не отозвался. Потом появились какие-то люди в халатах. В одном из них он признал штабс-капитана по Брестскому полку господина Эссена…
Тихон закинул руки за голову. Сделал несколько спокойных вдохов и выдохов. Попытался обрести нормальный ритм дыхания. Добился этого. Встал и начал заниматься гимнастикой. Сегодня он непременно должен разыскать певицу.
К обеду Столицын был в новом ресторане, открытом Советской властью на улице Никитской, и стал ожидать появления Зоси. Придет ли? Он сомневался. То, что певица обедает именно здесь, подтвердила и горничная Шура. Но всегда ли? В небольшом зале Тихон насчитал двенадцать столиков. Сел так, чтобы через стеклянную дверь было видно помещение, где раздевались посетители, но самому оставаться менее замеченным.
Заняв удобное место, Столицын не торопился заказывать блюда. Спешить ему было некуда. К тому же он еще и не проголодался. Сотрудник МУРа не представлял, сколько придется просидеть: час или два. Он стал листать меню со скучающим видом. Подошедшей официантке, ловкой, ярко накрашенной девушке, он вежливо сказал:
— Еще не выбрал.
— Выбирайте, — сухо ответила она и хотела уйти, но Тихон спросил:
— А помимо меню что есть?
— Помимо у Слезкина было, да сплыло, — ядовито заметила бойкая официантка. — Не держим разносолов для именитых. Кухня для всех общая.
Тихона веселил такой разговор. Он продолжал забавлявшую его игру:
— Стрижете всех под одну гребенку? Не вылетите ли в трубу с таким порядком? Слезкин-то большие прибыли имел, потому что на вкус каждого клиента деликатесы держал.
— Не беспокойтесь, — вскинула подрисованные брови официантка. Запонки и перстни господина Беккера вызывали в ней раздражение. — Мы людей кормим, а не купеческие прибыли считаем.
Тихон заказал, наконец, легкий обед. В ресторан шли посетители. Но не прежние, знакомые Германа Беккера. А хорошо бы встретиться с теми, у кого завоевал он уже расположение и доверие. Столицын нетерпеливо поглядывал через стеклянную дверь в фойе.
В таком напряжении Тихон просидел два с лишним часа. За это время несколько раз ему казалось, что ожидание напрасно. Но наконец-то был вознагражден: увидел певицу.
Сопровождал ее молодой человек, одетый в военную форму без погон. Зося стояла спиной к залу и была видна Тихону в зеркало. Вот она подправила пояс длинного шерстяного фиолетового платья. Чуть-чуть взбила локон пышных волос. Спутник подал ей руку. Она оперлась на нее и последовала за ним из фойе в зал, затем направилась к крайнему у стены столику, подальше от окна.
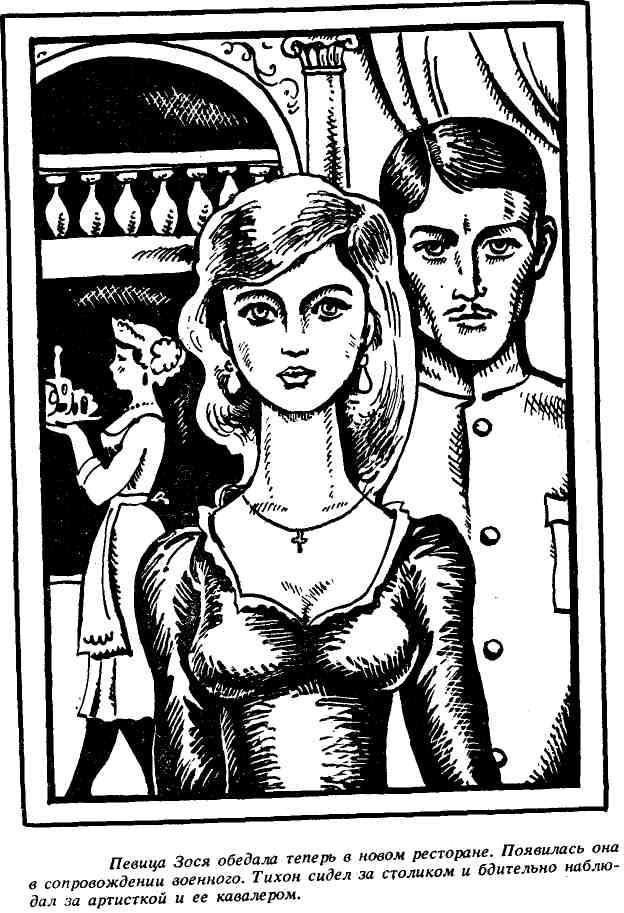
Тихон наблюдал за певицей и ее спутником, пытаясь разгадать, с кем она пришла. Высокий, почти на голову выше Зоси… Большим пальцем левой руки приглаживал черные тонкие усы…
К их столику подошла официантка, полная, пожилая, улыбчивая.
А Тихон попросил девушку, убиравшую с его стола посуду:
— Еще бутылочку лимонада. Понравился напиток. И будем рассчитываться.
Официантка недовольно буркнула:
— Нужно сразу заказывать, а не тянуть по чайной ложке.
У Тихона стало подниматься настроение. Ему нужна была встреча с артисткой и она почти состоялась. Лишь бы ее не задержал усатый кавалер. Сославшись, что дует из окна, Тихон незаметно для Зоси пересел поближе к парочке, спиной к ним и маленькими глотками стал пить лимонад, прислушиваясь к беседе.
— Господь сподобил еще раз тебя увидеть, — сказал усатый.
— Слава богу, — неопределенно ответила певица.
— Зося — ты чудо.
— Так уж. Вы льстец. И у меня очень много недостатков. Но с вами, вижу все в порядке?
— Увы, не так, чтобы. Мое житейское море наполнено коварными айсбергами и рифами. От столкновения с ними одни несчастья.
— Что поделаешь, безоблачного плавания не бывает.
В таком духе шел разговор. У военного, как отметил Тихон, не очень привлекательное лицо, но в осанке, движениях видна военная косточка.
Столицын продолжал ловить каждое слово. Подслушанные фразы, однако, ни о чем не говорили. Можно было лишь предположить, что Зося встретилась со старым знакомым. Но вот, наконец, мужчина спросил девушку о ее нынешней работе, чем занимается, как добывает средства к существованию. Внимание! Тихон напряг слух.
— Бегаю, ищу место в наших клубах и театрах, — ответила Зося, вращая в руке пустой фужер.
— И что же? Находите? Говорят, даже магазины и те в городе все заколочены, витрины забиты досками.
— Неправда. А я в электротеатре «Люкс» устраиваюсь. Лучший в Окске. Разве плохо?
— Что на улице Садовой?
— Да, перед сеансом будем петь. Вот вам и заработок.
— Но ведь, говорят, чистые сборы идут в пользу городского Совета депутатов. Слышал из достоверных источников. Что ж вы получать станете? Вас облапошат, как белку.
— Ну уж дудки. Получу карточки, продукты.
Удача! Теперь точно известно, где можно найти Зосю.
— Я уже вам говорил, мой отъезд отложен на послезавтра, — продолжал между тем ее спутник. — Проведем сегодня вечер вместе или хотя бы завтра?
Тихон чуть подался в сторону парочки, чтобы лучше их слышать.
— Сегодня откажу, — ответила Зося. — У меня много дел. Занята. Завтра тем более не обещаю. Я сама себя обслуживаю. Много работы. Отложим до следующего раза. Надеюсь, еще приедете к нам?
— Увы, боюсь, что не скоро. Так что лучше бы использовать нынешнюю возможность. Другой может не статься.
— О, не огорчайтесь! Ну, рассчитывайтесь. Нам пора.
Столицын, положив названную официанткой сумму на стол и выждав, когда Зося и ее кавалер оденутся в гардеробной, вышел из зала. Затем направился следом за парочкой, стараясь остаться незамеченным. Вскоре девушка распрощалась с кавалером. Зося пошла вниз по улице, а военный свернул в переулок. И несколько раз оглянулся, видимо, на что-то еще надеясь.
Одиночество Германа Карловича Беккера кончилось.
25. Ба! Знакомые все лица!..
Тихон быстрым шагом стал нагонять артистку. Она дошла до торгового ряда и зашла в ювелирный магазин. Столицын завернул туда же, остановился в двух шагах от певицы. На нее, не скрывая восхищения, смотрели многие покупатели и приказчики. Она же, казалось, никого не замечала, рассматривая драгоценности на витрине. О чем-то попросила вихрастого молодого приказчика. Тот с готовностью скрылся за дверью и вскоре вернулся, осторожно поставил перед певицей деревянный сундучок, надавил пальцем на кнопку крышки. Ларчик со звоном открылся. В нем лежали кольца, перстни, кулоны, в которых сияли особой шлифовки и гранения алмазы, агаты, рубины. Зося нагнулась, запустила туда пальцы, извлекла широкий перстень с изумрудом.
— Ой, какое чудо, боже, как это прекрасно! — прошептала она.
— Будете покупать? — спросил приказчик.
— Пока взгляну, если позволите.
— Разумеется, сударыня.
— Дух захватывает, но…
— Чем еще могу служить, сударыня?
— Покажите вот это колье.
— Царское украшение, — притворно вздохнув, произнес Тихон. Зося с удивлением оглянулась и, узнав Тихона, широко улыбнулась:
— Дорогой Герман Карлович! Рада вас видеть.
— Я тоже, возможно, еще в большей степени, — ответил Тихон, целуя Зосе руку и смотря на нее влюбленными глазами. — Думал о вас. Боялся, что больше не увижу. А было бы жаль потерять вас навсегда.
— А я решила, что вы исчезли из нашего города, сбежали в свою Австрию после той страшной ночи. Не рассчитывала уже вас встретить. Наверно, тогда, в новый год, вы подумали, как плохо стало у нас в России?
— Конечно, плоховато, но есть люди, которые могут скрасить и самое плохое…
— Вы что, изучаете товары в наших лавках? Или случайно зашли?
— Признаться? Честно?
— Надеюсь, ведь мы приятели.
— Я теперь много гуляю. Скучно, а друзей нет, да и откуда им взяться? Тем более сейчас. Тоска гложет. Совершенно одинок, как отшельник. Все время вспоминал, как вы прекрасно пели в ресторане. И, вдруг, на свое счастье увидел вас.
— Сегодня мне везет на комплименты.
Девушка положила перстень и колье обратно в коробки и протянула их вихрастому юноше.

— Не станете все-таки брать? — сделал кислую мину приказчик.
— К сожалению, — ответила Зося. — Сейчас нет свободных денег. А вещички прелестные. Я только хотела их присмотреть на будущее.
— Камень в перстне особенно понравился и мне, — заметил Тихон. — Отличная вещь. Может быть, вам одолжить денег?
— Нет, нет, что вы.
Зося взяла его под руку и вывела из магазина.
— Рассказывайте, как живете.
— Я вас часто вспоминаю, это, во-первых, — искренне признался Тихон. — А во-вторых, как уже говорил, хожу по городу, любуюсь достопримечательностями.
— А вам, случайно, не икалось? — спросила Зося. Ее лучистые глаза лукаво заблестели. — В то время, когда вы гуляли по городу, вам не икалось?
— Ну как же, как же. Это вы меня вспоминали? Было, было… Пусть залогом того, что мы больше не потеряемся, будет вот это. Вещичка не уступит магазинной.
Тихон положил на ладонь девушки перстень, присланный неделю назад Белоусовым.
Зося покраснела и смущенно запротестовала:
— Что вы, разве можно делать такие подарки? Ведь один презент от вас у меня уже хранится. Вы не знаете счета деньгам.
Но Тихон был настойчив. Он надел перстень на безымянный палец девушки.
— Да уж и не знаю, как поступать с вами. Я вам, конечно, благодарна, это само собой. Но не потребуете ли вы за свои презенты?..
Зося коснулась щеки молодого человека рукой и пытливо глянула ему в глаза.
— О! Я потребую самого дорогого, о чем только могу мечтать! Погулять со мной по городу. Не откажетесь?
Она засмеялась.
— Для меня это самое легкое и самое приятное.
Столицын помнил, однако, цель встречи.
— Вы живете одна? — спросил он девушку в подходящий момент. — Так, кажется, вы мне говорили…
— Ах, вот что! Да. Совершенно одна. Не желаете ли получить разрешение наведаться ко мне? — она испытующе взглянула на спутника, не переставая, впрочем, улыбаться.
— Если бы это было возможно, был бы очень вам благодарен, — воскликнул Столицын. — Надеюсь, это когда-нибудь произойдет.
— Приглашу. В ближайшее время. Только что я обедала со старым своим поклонником. Ему отказала, а вам обещаю. Он докучливый, и мне совершенно несимпатичный тип.
— А что, если мы сейчас пойдем к вам, — предложил Тихон. — Гостиница мне просто опостылела. Не дождусь паспорта на выезд. Посидим, поболтаем, можно даже выпить бокал шампанского.
— Все это так, но я не готова вас принять, — смущенно возразила Зося. — И не расположена сегодня пьянствовать. Я вообще очень мало и редко пью. Хотя, конечно, по такому поводу, как наша встреча…
Зося была нерешительна, Тихон настойчив. Он снял с руки Зоси перчатку и поцеловал ладонь.
— Уступите, Зосенька. Ведь это будет так кстати именно сейчас. Вы не представляете, как тоскливо мне одному.
— Что же мне делать? — заколебалась девушка. — Вы нетерпеливы… Однако, дайте подумать. Сейчас сколько времени? Так. Ладно. Пожалуй, можно. Но не сразу, пойдем не вместе. Вы придете чуть позже. Хорошо?
Зося назвала улицу,номер дома, рассказала, как пройти к ней и еще раз напомнила: приходите, но не раньше как часа через два. И добавила многозначительно:
— Каждая девушка, принимая гостей, должна быть уверена, что ее не застали врасплох. Надо навести в доме порядок.
Они расстались. Настроение у Столицына поднялось. Он купил хорошего вина. Погулял по улице. Точно в назначенное время направился по указанному адресу. Со светлых улиц пришлось свернуть в темный переулок. Вытащил пистолет из бокового кармана и поместил его в кармашек, вшитый в рукав. Чего скрывать — волновался.
Но вот и деревянный дом за изгородью. Массивная калитка. Тихон прошелся по дорожке, поднялся по ступенькам, стряхнул снег с одежды. Постучал в дверь. Тут же послышались легкие шаги.
— Вы?
Звякнул засов… Зося приветливо улыбалась. Тихон прошел за ней в комнату.
— Не долго искали меня? Хижина моя на отшибе, не заблудились? — она говорила так, словно у нее перехватывало дыхание.
— Если бы даже на краю света…
— Будьте как дома, — успокоившись, щебетала Зося. — Давайте шляпу. Вешайте пальто. Не озябли на улице? Я заставила вас так долго гулять.
Из прихожей Зося провела гостя в небольшую столовую. Старомодная мебель была начищена до блеска. На стене, над столом, висел групповой снимок улыбающихся и счастливых девушек-гимназисток.
— Найдите-ка меня.
— С удовольствием.
— Не найдете! — засмеялась Зося. В домашней обстановке она казалась будничной, но по-прежнему красивой. — Даже не старайтесь. Бесполезно. Сто лет прошло с гимназической поры!
— Постойте, не подсказывайте. Нашел. Вот!
— Угадали!
Сели за стол, он уже был накрыт, весьма, впрочем, скромно. Колбаса, сыр, ветчина. Бутылка, принесенная Столицыным, пришлась очень кстати.
Тихон был в ударе. Развлекая девушку изо всех сил, рассказывал забавные истории, анекдоты.
Так они провели несколько часов. Наконец, Тихон встал и взял Зосю за руку.
— Мне хорошо было с вами, — искренне сказал он. — Но когда-то надо и прощаться.
— Скоро опять приглашу. Тогда посидим подольше.
— Вот бы завтра? Я свободен. Можно?
— Нет-нет, только не завтра. Не вздумайте самовольничать. Нужно повременить. Это мое условие. Я вам сообщу…
— Зачем откладывать, почему? — упирался Тихон. — Ведь вы будете скучать в таком же одиночестве, как и я?
— Как раз нет. Я уезжаю к подруге. У нее останусь ночевать, — ответила Зося и опустила глаза. — Приглашу в другой день. Не смейте только приходить без приглашения. Обижусь! Запомните?! До встречи, по моей воле.
— Хорошо. Обещаю. До встречи, когда прикажете.
Тихон быстрой походкой удалился от дома молодой хозяйки. Хлопнула за спиной калитка палисадника.
Столицын знал теперь, что делать. Сто против одного: Зося не может быть сообщницей бандитов. Но что-то она знает. Нужно привлечь ее на свою сторону и все выведать.
26. Среди «серых волков»
Утром Тихон через связного передал все добытые за два дня сведения в управление милиции. Ждал до вечера указаний Рябова, и наконец получил записку:
«План одобряю. Действуй через Зосю. Рекомендуем сегодня вечером, несмотря на запрет, посетить ее квартиру. Дом взят нами под наблюдение. Будь осмотрителен».
Тихон вышел из гостиницы. Часы показывали девять часов вечера, было самое время отправиться к Зосе. Тихон тревожился. По словам певицы, ее сегодня не будет дома. А если она все же у себя и не одна?
Вот и дом. В одном из окон мелькнула полоска света, затем свет появился во втором окне и желтое его пятнышко упало на снег. Тихон нащупал холодную рукоятку пистолета и шагнул к крыльцу. У двери перевел дыхание. Прислушался, постучал в дверь. Сделал это сначала тихо, потом слишком громко. В доме продолжала стоять тишина, наполненная свинцовой тяжестью. Поскрипывал снег под ногами Тихона. Он еще раз долго и настойчиво постучал. Только теперь за дверью послышалось движение.
— Кто там? — тревожный голос принадлежал Зосе.
— Это я, Герман…
— Беккер, вы с ума сошли. Я же просила, — с испугом, почти простонала девушка. А за палисадником уже послышались шаги и приглушенные голоса.
— Входите же, быстрее, — зашептала, прерывисто дыша, девушка и за руку потянула Тихона в коридор.
Когда Столицын был уже в комнате, в дверь загрохотали. Тихон посмотрел на Зосю. Ее искаженное лицо выражало откровенный страх. Она, не выпуская руку Тихона, растерянно залепетала:
— Это ко мне. Спрячьтесь за дверь. Как только они войдут в комнату, уходите отсюда.
Девушка изменилась до неузнаваемости. Такой суетливой и беспомощной Тихон ее не видел.
— Ступайте же, — повторила она просяще. — Вы погубите меня и себя.
Тихон догадывался, какие «гости» пришли к девушке. Он притаился за дверью, ведущей из сеней в комнату. Зося открыла наружную дверь, вошел, тяжело дыша, гость. Через щель Тихон разглядел мордастого, крупного мужчину в заячьей шапке. Зося заискивающе лебезила перед ним:
— Проходи, Степан, проходи.
По тону девушки Тихон понял, что вошедший пользовался над ней огромной властью. Итак, на горизонте показалась первая «ласточка». И он, Тихон, конечно, ни за что не уйдет отсюда, что бы ему ни грозило. Наконец-то какая-то ниточка давалась в руки сотруднику МУРа.
— Ты одна? — пробасил вошедший.
— С кем же мне быть, Степа?
— Не отвечай вопросом на вопрос, — недовольно бросил гость, названный Степаном.
— Вы что, посадили меня в клетку? И познакомиться ни с кем нельзя.
Интонация Зоси насторожила гостя.
— Что, что? Ты, девка, не мудри. Со мной шутки плохи.
— Да это я к слову, успокойся, проходи. Одна я. Кому со мной быть?
Мужчина, снимая полушубок, осведомился:
— Как проводишь время?
— Ты о чем, Степа?
— Все о том же. Ишь, ягненок. Уголовный розыск арестовал многих наших. За нами с тобой очередь. Чай, в одной связке спутана.
Зося промолчала.
В комнате установилась зловещая тишина.
Тихон из-за двери мог наблюдать за обоими.
— Только меня не впутывай, — сказала тихо Зося. — Не в курсе ваших дел. Долго вообще не знала, кто вы? А теперь узнала и не по себе стало, Степа.
— И нам не сладко, — примирительно отозвался мужчина. — Тяжелые деньки наступили. Сильно потрошат нашу братву. А ты не вздумай трепаться о том, что знаешь. Язык вырву!
— Одни угрозы и слышу, — беззлобно отозвалась Зося. Она думала, что Тихон уже ушел. — Прекратите ко мне ходить. Оставьте меня в покое. Христом богом умоляю, Степа.
— Что-о! — мужчина положил на плечо Зоси сильную руку. — Это теперь-то?
— Степан! Больно! — вскрикнула девушка. — Что за глупые шутки.
— Еще пикнешь — могу и придушить. С кем встречаешься? Такая красотка одна не усидит. Кобелей на нашу сучку хватит. Днем с фраером променаж делала. Тебя видели с ним в ювелирном… Что за тип? Кто он?
— Ах, вот ты о ком… Сын дипломата. Здесь живет в гостинице. Ожидает визу на выезд в Австрию… Вы же его все знаете, он столовался в ресторане Слезкина.
— Вот ты каких жеребчиков ловишь! — насмешливо-хмуро заметил посетитель. — Видел его, помню. Маменькин сыночек. Слюнтяй, его бродие…
— С ним-то, надеюсь, можно встречаться, — просяще произнесла девушка. — Он скромный и порядочный студент.
— С ним-то и нельзя! — с ударением ответил бандит.
Тихон несколько минут думал, как ему быть, и решил объявиться, надо действовать! Он поправил в рукаве пистолет и шагнул из-за двери.
— Это со мной она встречалась. Я пришел к ней в гости. Лицо неприкосновенное. Пожалуйста вам мой паспорт.
Тихон понимал: наивно бандиту говорить об этом. Но рискнул дезориентировать противника именно своей наивностью: пусть думает — простодушный, самонадеянный дурачок.
Зося, казалось, потеряла дар речи. Она прижала руки к груди. Ее сковал страх. Она ждала, что предпримет бандит.
Степан при неожиданном появлении незнакомца, выдернул из-за голенища финку, однако, увидев, что кавалер Зоси показывает какой-то документ, усмехнулся:
— Бравый дипломат, рисковый. Красавчик. Пожелал мне вызов бросить. Защищает свою королеву. Может, она тебе жена?
— Если я пожелаю с Зосей встречаться, вы мне не помешаете, — резко заявил Тихон.
— Смелый малый! Олух царя небесного.
— Не из пугливых, — Тихон призвал на помощь все свое самообладание. — Девушку не дам в обиду.
— Значит, говоришь, встречаться хочешь? Попытайся, — Степан приставил финку к груди Тихона. — Наткнешься на вот это, если ослушаешься. А кралю есть кому без тебя защищать.
Зося в отчаянии закричала:
— Степан, опомнись! Я же в своем доме. Он ведь мой гость. Вам разве господин Беккер помеха. Он гражданин другой страны. Хороший мой приятель. Прояви милосердие.
— Кто тебе разрешил приводить его сюда? — Бандит левой рукой до боли стиснул плечо девушки. Зося заплакала.
Тихон сделал шаг в сторону и приемом, как его учили в МУРе, закрутил бандиту руку с финкой за спину.
— Ого-го! — Степан головой ударил Тихона в грудь, рывком освободил руку. — Молокосос.
Бандит тяжело дышал, его глаза налились кровью. У Тихона выступили на лбу капельки пота.
— Сопляк, сейчас прикончу! — рявкнул бандит. — Заодно и эту паскуду, которой уже говорено, чтобы кобелей искала среди нашей братвы. Иначе душу вытряхнем.
Австрийский паспорт Тихона валялся на полу.

Степан производил впечатление сильного зверя. Натренированного, жестокого, безжалостного. Опасность была реальной. Но Столицын знал: схватки без риска не бывает. От его умелых действий зависел успех. Он понимал, что разведал то, что не смог узнать погибший Николай. Такие сведения очень нужны милиции. Уйти бы отсюда живым! И тогда банду можно сцапать.
Мордастый переложил финку в левую руку, правой вытащил из кармана браунинг, наставил на Тихона. Решительно приказал:
— Оружие на стол или пуля в лоб.
— Не имею такового. Не ношу, — Тихон развел руками. — Ни с кем не воюю. Мирный человек.
— Зося, — приказал Степан, все еще не пришедшей в себя певице, — дай веревку. Свяжу красавца. Чтобы по ночам к занятым дамам не шлялся.
— Не трогай его, Степан, прошу господом богом, — взмолилась Зося. — Ну послушай меня, он же никому вреда не сделал. Обещаю: не буду встречаться с ним.
— Говорю, сука, веревку! — гаркнул бандит.
— Я не позволю над собой издеваться! — выпятил грудь Тихон. — Вы ответите перед законом! Вам это так не пройдет! Кто вам дал право глумиться над неприкосновенной личностью?
— Цыц, мелочь. Пистолет — мое право. С любым фраером мы поступаем по своему закону.
— Я неприкосновенная личность, настаиваю, оставьте нас в покое, — продолжал кричать Столицын, вскинув гордо голову. — За произвол ответите по всей строгости международных соглашений.
— Заткнись, козявка! Соглашение! — Степан двинул стволом пистолета в живот Тихону и снова приказал Зосе: — Неси веревку, потаскуха.
— Какая я потаскуха, перестань оскорблять и отстань от него, — вдруг решительно заступилась за Беккера девушка. — Он мой гость. Не трогай его. Я вольна распоряжаться своим домом. Какой стыд… В какое мерзкое положение ты меня ставишь.
Степан рванул ее за рукав. Платье затрещало. Багровея, заорал:
— И ты такое мне говоришь? Сука, да я… пальчиками тебя задушу.
Тихон смело загородил собой Зосю.
— Стреляй в меня, ее не трогай. Она тут ни при чем. Я сам пришел к ней без приглашения. И готов за это ответить.
Кто-то свистнул у окна.
Степан, не отводя пистолета от груди Тихона, заорал: «Заходи, братва, открыто!» — и в дом ввалились трое. Среди них — рослая женщина в каракулевой шубе, укутанная шалью с бахромой.
— А это что за ископаемое? — спросила она, глядя исподлобья на Тихона в растрепанной одежде.
— Дипломат, Муся, — ответил, хихикнув, Степан. — Застал в постели с Зоськой, что будем делать, Потапыч? В расход или как?
— Говоришь… застал в постели? — потирая руки от холода, повторил рослый, худой мужчина, которого Степан назвал Потапычем.
— Степан, зачем говоришь неправду, — возмутилась Зося, а тот ехидничал:
— Именно. Пужал, на ихнем языке, мол, еще одна мировая война из-за него начнется. Хе-хе.
Третий, низкорослый крепыш, лет двадцати, с издевкой произнес:
— Дипломатик, милый, на Зосю я давно имею виды. А за то, что она изменила мне, можешь заказывать себе гроб.
Бандиты громко засмеялись. Женщина подошла вплотную к Тихону, как бы желая всмотреться в его лицо.
— Такого чистенького бабы любят, сама бы не против приласкать. А вы его на тот свет собираетесь отправить, голуби, поостыньте, отдайте мне его поворковать.
Потапыч сказал Степану:
— Пришлепнуть успеем. Документик дипломата подай-ка.
Степан поднял с пола паспорт господина Беккера и подал его сообщнику.
— Какая уважительная ксива. Мне бы такую, — причмокнул бандит, повертел книжечку перед глазами и сунул в карман Столицыну. — Садись, не маячь, в ногах правды нет. Господин…
Тихон прошел в угол комнаты и демонстративно развалился в кресле. Весь его вид говорил о независимости.
Крепыш, который вернулся из кухни и не знал о разрешении Потапыча, заорал на Тихона:
— А ну встань по стойке «смирно»!
— Пусть сидит, — милостиво бросил Потапыч.
— Не трогайте его, — отозвалась и Зося. — Что вам от него надо?
Ее глаза блестели от слез.
— Вы ответите за меня, если не перестанете ко мне плохо относиться, — добавил Столицын.
— Не стращай, сынок, мы не из робкого десятка, — воскликнула Муся.
— Потапыч, он нас всерьез запугивает, — сказал Степан, видимо, недовольный тем, что главарь имеет совсем другие виды на дипломата.
— Пущай попужает, — самодовольно буркнул Потапыч. — А мы его послушаем, ума наберемся.
На столе появилась бутылка мутного самогона. Молодой бандит ловко вытащил зубами пробку. Поднял бутылку над стаканами. Забулькала, выливаясь, жидкость…
— Благодари господа бога, — ухмыльнулась Муся, глядя на Тихона. — Настроение у Потапыча сегодня хорошее. Кабы ты ему час назад достался… Была бы тебе се ля ви…
В сенях хлопнули двери, вошли еще двое. Шайка собиралась погулять.
Узнав, кто такой незнакомец и что им занимается Потапыч, вошедшие перестали обращать внимание на пленника. Выпив, один из разбойников начал декламировать стихи:
— Ум мой раздвоился, я утомлен, словно подгнивший под окнами клен. Все свое золото брошу я в топку, оставлю себе только девку да водку. Ну как мои новые вирши?
Ему яростно захлопали, громче всех хлопала женщина.
— Еще две стопки, Муся, — приказал ей Степан.
— А хозяйка что опечалена? — спросил «поэт».
Кто-то ответил:
— Полюбовника ее, видишь, красавца, сейчас маслиной подкормим. Вот она и заскучала, — хохотнул низкорослый крепыш.
Снова наполнились стаканы самогоном. Потапыч, безусловно, предводитель этой шайки, с интересом поглядывал на Столицына, подошел к нему:
— Мотаешь, говоришь, за границу, — главарь осклабился, показал желтые прокуренные зубы. — Увози Зоську, нам ее «малину» оставляй… И ее на одну ночку. Так говорю? — обратился он к шайке. Бандиты дружно загоготали.
К Потапычу почтительно потянулись стаканы с самогоном. Задиристый крепыш выплеснул самогон в лицо Столицыну и прошипел, чтобы все слышали:
— Я сам собирался с Зосей Аркадьевной Разумовской поразвлечься. А ты мне помешал…
Тихон, которому смелости было не занимать, мог бы тут же броситься на этих гадов, но сейчас он приказывал себе: «Не сорвись. Терпение. Спокойствие! Решается участь операции. Сейчас это главное. Только так можно проникнуть в расположение бандитов».
Муська, выпив стакан водки, между тем совсем развеселилась. Она провела ребром ладони по шее Тихона:
— Что-то уж больно худосочный дипломат? Не в коня корм, видать. А может, он вовсе не дипломат.
— Это легко проверить, — откликнулся Тихон.
— Нетрудно, — согласилась она.
— Документы в ажуре, — успокоил всех Потапыч. — Иностранцев я многих на своем веку повидал. Этот как раз из ихней братии.
И задумался. Посматривая на Тихона, он что-то прикидывал.
— В расход его и баста, — выкрикнул Степан.
— Что ж с тобой делать? Может, и вправду хлопот не оберешься, если прищелкнуть? Да и какой нам в твоей смерти резон? А? — рассуждал Потапыч.
— Отпустите его! — умоляюще просила беззащитная Зося.
— Я требую дать мне свободу, — вторил ей Тихон. — Я вам не противник. А может, далее в чем-то могу быть полезен.
И тут вдруг в окно и дверь забарабанили, во дворе раздались голоса, лай собак.
— Облава! Легавые! — Потапыч метнул глаза на сообщников. — Туши лампу! Ложись! Отстреливаться до последнего патрона.
Защелкали в полутьме курки пистолетов, наганов. Бандиты притаились. Взяли на прицел окна, двери. Установилась мгновенная тишина.
Тихон с молниеносной реакцией оценил обстановку и понял: сейчас ему пришли карты в руки. Есть шанс «отличиться» в глазах бандитов. Волнуясь, он прервал молчание:
— Это милиция проверяет документы. У меня дипломатический паспорт. Я — неприкосновенная личность. Пустите меня к ним. Иначе вам всем каюк.
— Ишь чего захотел, — огрызнулся Степан.
— А что, можно попробовать! — сказал Потапыч, выругавшись.
— Он дело болтает, — поддержала Муська.
В дверь все стучали и стучали. Под окнами громко разговаривали, не прекращался лай овчарок.
— Упустите момент! Будет поздно! Они не уйдут, пока своего не добьются, — повторил умоляюще Тихон. — Попытаюсь вас выручить.
И тут же сотрудника угрозыска пронзила мысль: вдруг Рябов испугается за его жизнь, выловит этих бандитов и тем самым помешает Тихону внедриться в шайку?
— Ладно. Попробуем, — решил главарь. — Муська, иди следом за дипломатом. Пристрели ублюдка, если засветится!
— Господи, — взмолилась, отошедшая к печи, Зося. — Что же это творится? Откуда на мою голову такое несчастье?
— Не скули, — рявкнул на нее Степан.
Тихон направился к входной двери. В спину ему глядел ствол пистолета Муськи. Тупорылый «смит-вессон» она щелчком сняла с предохранителя.
Вот и сенцы. Столицын нащупал и отодвинул щеколду. На пороге стоял в заиндевевшей шапке Рябов. За его спиной трое сотрудников. Вокруг дома сновали люди с винтовками. С таким отрядом можно перестрелять всю шайку. Но ведь это только часть банды. Нужно продолжать игру… В том главный смысл операции.
— Проверка, кто в доме живет? — строго и громко произнес Семен Гаврилович. Глаза его вопрошающе уставились на Тихона. Он пытался прочитать что-нибудь на лице агента угрозыска, а сам продолжал тоже исполнять свою роль: — Предъявите документы.
— Сию минуту. Я член дипломатической австрийской семьи. Здесь гощу у невесты. — Тихон извлек из кармана паспорт и подал его Семену Гавриловичу.
Рябов долго и внимательно изучал документ, точно и вправду видел его впервые, затем уважительно вернул и церемонно произнес:
— Не смеем беспокоить. С вами все ясно. Извиняемся за вторжение. Советской властью гарантирована ваша безопасность. Международное соглашение на этот счет нами выполняется неукоснительно. Надеюсь, кроме вас и вашей невесты в доме никого нет.
— Мы вдвоем, — ответил Тихон.
— Честь имею! — Рябов козырнул и нарочито громовым голосом скомандовал группе милиционеров: — продолжать обход жилых домов!
Когда Тихон вместе с «телохранителем» вернулся к затаившей дыхание шайке, Муська похвалила своего подшефного «иностранца»:
— Свой малый в доску! Славный дипломат. Наш кореш. На все сто! Зря мы его пощипали. Тут уж придется перед ним сделать, так сказать, реверанс, поломать шапку.
Потапыч похлопал Тихона по плечу.
— За добро платим добром. Рассчитаемся за услуги. Зла не помни. Исправим свой грех. Это уж как водится.
Столицын победителем смотрел на шайку. Он выиграл первое сражение. Молчал. Думал, как поведут себя бандиты дальше. Чего от него потребуют. По-хозяйски опять расположился в кресле, жестом пригласил, хотя и с некоторым опасением, Зосю сесть рядом. Как бы там ни было, он сильно переволновался.
Пересохло во рту, губы — что тебе полынь, горькие стали.
Потапыч горячо и благодарно забубнил:
— Слушай меня, дипломат. Коль такая вышла оказия, давай-ка раскинем мозгами. Малый ты не глупый. Мы — тоже тертые калачи. Но живем в норах, нос высовываем ночью, сам видишь. Если что не так, извиняй, без гувернеров воспитывались. Да и обстановочка, понимать должен. Тут не до манерности, но и не до обид. Вывел ты нас из тупика. От милиции отбил. Дело не шуточное. А потому на добро ответим тем же. Вот что, парень, давай сообща деньгу делать, и ты будешь с прибылью, и нам доходно. Помоги переправить в своих неприкосновенных австрийских чемоданах кое-какой товарчик в столицу. Народная милиция тебя шерстить не станет. Сам убедился. Оплата сдельная. Чем больше посодействуешь, тем жирнее получишь куш.
Что-то хотел вставить бешеный Степан, но главарь цыкнул на него:
— Говорю я. Заткнись!
— Что-то пока не все ясно, — притворился непонятливым Тихон. Его просто залихорадило от удачи. — Ну, отвезу, а дальше? Помочь вам не против, если хорошо заплатите, от хорошей награды только дураки отказываются. Заработок сейчас мне очень кстати. Поиздержался.
— Вот именно. Отвалим барыш — папаша расцелует с маманей! Соображаешь! С тобой поедет наш человек. Прикрывать тебя от всяких случайностей будет, помогать нести поклажу. А заплатим щедро.
— Вообще-то, конечно, рискованное дело. Хотя и заманчиво… — поколебался Тихон.
— Рискованное? Да ты что — забыл, как от твоей персоны отвалили мильтоны? Соображай. Ты для нас, а мы для тебя, дар господа бога, милость Иисуса Христа.
Беккер теребил бородку, делая вид, что напряженно думает, приняв решение, наконец, взмахнул рукой:
— Что ж, риск — благородное дело. Можно попробовать. Только у меня еще одно условие: чтобы Зосю не трогали! Оставьте ее в покое.
— Согласны. По рукам. Вот это песня. Идет! Мы тебя сведем на днях с атаманом. Он должен сам с тобой покалякать. Прощупать. Глядишь, и понравишься, как и нам.
Тихон постарался не выдать волнение. Ему и во сне не снилось такое везение: ему доверяют и сообщают о предстоящей встрече с атаманом. Будто не придав этой фразе значения, он завел разговор о другом:
— В Москву когда ехать?
— Скажем, вскорости. Не возражаешь? — сказал главарь.
— Напротив, сам тороплюсь.
— Тогда по рукам и давай выпьем за удачу, — предложил Потапыч. — Мне тут засиживаться некстати.
Тихон заметил, что в кухню к Зосе отправился пьяный крепыш Гришка:
— А насчет Зоси — мое непременное условие! Ее не обижать.
— Влюбился?
Тихон промолчал.
Потапыч понял господина Беккера и отозвал Григория в светлицу, а потом добавил:
— Все решится быстро, надо, чтобы потолковал с тобою батька, и все будет в порядке.
— Если так — хорошо. У меня времени в обрез, это учтите, — продолжал свою игру Тихон.
— Завтра, сдается мне, после беседы с атаманом, дадим первый груз. Собственно, это ведь батькина мысль — найти вот такого, как ты, человека. Наш хлопец придет за тобой вечером в гостиницу, покажет дорогу. Там и потолкуем.
— Может, здесь встретимся? У Зоси? Мне так сподручней.
— Нет, атаман сюда не пойдет. На милицию нарываться не любит, — скривил физиономию Потапыч и обратился к своим: — А теперь, братва, айда отсюда. По двое, не все сразу выметайтесь из избы. Не напоритесь на угрозыск.
Шайка, видно, готовилась к очередному налету. Что они выбрали? Церковь, склад, кассу? Только вряд ли им теперь удастся. С этой минуту на их след напал Тихон Столицын, а, значит, и управление губернской милиции.
27. Кто вы, господин Беккер?
Бандит по имени Григорий ушел последним. «Приголубь подругу, видал, как волновалась за твою жизнь», — зло бормотнул он Тихону на прощанье. — Похоже, упустил я царицу Нефертити».
Зося зарыдала, когда они остались вдвоем.
— Зачем вы с ними связались? Зачем? И меня угораздило влипнуть в эту компанию. Какой стыд! Все Леонид, будь он проклят, наделал. Уговорил сдать им квартиру. Как теперь быть? Вы думаете, у меня с ними что-то общее? Об их делах потом услышала. Сначала все в карты играли. При мне молчали. Я им две комнаты сдала — нужно же жить! Господи, какой ужас, они превратили мой дом в притон! Однажды пыталась заикнуться, чтобы нашли другое место — пригрозили. Даже, стыдно признаться, ударили. А как-то пьяные связали меня. Думали, что пойду на них заявлять. Теперь вообще перестали со мной церемониться. Честно говоря, боюсь идти к себе домой, так и жду: если озвереют — растерзают… Боже, что мне делать? Как их выдворить? Они стали следить за каждым моим шагом. Не доверяют. Опасаются, что их выдам. Хотят, чтобы я с ними пила, даже… А я этого не делаю, сторонюсь. Вот и нахожусь под подозрением. Кое-кому по физиономии от меня попало, за то, что лез куда не следует. Поначалу остерегались, а теперь вконец остервенели. Особенно Гришка. Этот не оставит меня в покое, хоть убегай из собственного дома. Не раз пытался… Куда от него скрыться? Говорит, или со мной, или со всеми заставим… Я повешусь. Ей-богу! Да еще, если власти дознаются, опять на мою голову все шишки полетят. Ведь у них, у каждого грязные дела…

Тихон, волнуясь, взял ее руки. Что сказать, какой дать совет? Открыться очень опасно, но и темнить нельзя. В любом случае, его задача, наверное, еще и в том, чтобы привлекать на свою сторону людей из окружения бандитов. Среди них наверняка есть такие, которые недовольны Бьяковским, случайно запутались в его сетях. А что касается Зоси, она не связана с бандой, вне всяких сомнений. Он попытался объяснить девушке:
— В твоей квартире бандиты устроили «малину». Но я верю: ты к шайке отношения не имеешь. Иначе разговаривал бы с тобой по-другому. Почему я вступил в «сделку» с бандитами? Скажу позже. Я верю тебе, доверяй полностью и ты мне. Нравишься — не скрываю. Поэтому забочусь о твоей судьбе. Но я выполняю свою работу. Слушай внимательно. Ничего не пытайся от меня утаивать. Иначе тебе же будет хуже. Можно рассчитывать на твою честность?
— Дорогой Герман, я бесконечно тебе благодарна. Обещаю ничего никогда не скрывать. Не сомневайся в моей преданности и честности. Я совершенно случайно оказалась среди этих иродов. Честное слово, долго не догадывалась, кто собирается в моем доме. Думала, играют в карты, вечерами некуда идти, смутное время. Вокруг стрельба, неспокойно. И вот за свою простоту горько поплатилась. О, господи, что меня теперь ждет? Какие жуткие я вижу сны.
— Поздно, да и что толку заниматься самобичеванием, — задумчиво проговорил Тихон. — Этим себе не поможешь. Надо думать, как их перехитрить.
— Но как?
— Давай вместе порассуждаем. — Тихон осторожно стал подходить к главной теме: — Советская власть не на время, а навсегда. Это факт. Ворье выловят, всех посадят за решетку. Тоже аксиома. Но с нашей помощью это получится быстрее.
— Сделаю все, что в моих силах, — взволнованно произнесла Зося, забыв удивиться таким неожиданным словам Германа Карловича. — Но кто может обещать мне полную безопасность? Ведь эти нелюди меня просто уничтожат… Как они могут расправиться со мной — вы… ты же знаешь… И другое — Не посчитает ли меня милиция на следствии сообщницей бандитов.
Тихон тотчас ответил:
— Владимир Ильич Ленин, глава Советского государства, требует внимательно разбираться с каждым оступившимся. То, что ты не в курсе их дел была, доказать в общем-то можно.
Столицын зашагал в раздумье по комнате. Можно ли до конца довериться девушке? Наверное, даже нужно. Второго такого случая не будет. Она должна немедленно стать его помощницей. И он решился:
— Зося, восприми мои слова правильно. Я хочу помочь тебе. Но не только в этом моя роль. Я не случайно здесь…
— Ой? Вы из… Угадала? Все теперь ясно, только сейчас все поняла. Ух, как мне здорово повезло. Господи, да я в лепешку разобьюсь ради того, чтобы помочь вам… тебе. Что скажете — все сделаю.
И Тихон посвятил девушку, насколько было можно, в свои планы. На прощанье он попросил Зосю:
— Дверь никому не открывай. Только мне. Пароль, скажем: «Рассвет».
— «Рассвет». Кстати, он уже за окном. Но как мне тебя все же называть?
— Пока для тебя ничего не изменилось. Я по-прежнему Беккер.
28. Надежна ли Зося?
Доверившись Зосе, Тихон стал изводить себя сомнениями: правильно ли сделал? Он то упрекал и казнил себя за то, что расшифровался перед Зосей, то тут же оправдывался сам перед собой. Можно ли было поступить иначе? Сотни раз в мыслях Тихон на свое место ставил других сотрудников угрозыска: как бы поступили они в этой ситуации и смогли бы найти иной выход. Столицын измучил себя докучливыми упреками: «Я — агент уголовного розыска, для меня важен каждый шаг, взгляд, движение, пророненное слово. Так меня учил Белоусов. И вдруг с первых дней увлекся только одной идеей: действовать через Зосю. Не влюбленность ли меня подталкивала на этот шаг?..»
У себя в номере он составил донесение. До прихода связного оставалось несколько часов. Теперь, когда уже наступил день, можно было и немного отдохнуть. Он уткнулся в подушку…
…Ему пригрезилось, что в номер кто-то постучал. Дверь открылась. Вошел снова Савков. Вид суровый. Он положил на стол записку от Белоусова, а на словах сказал Тихону: «Необходимо срочно прибыть с докладом о проделанной работе в комиссариат. Тебя ждет начальство». И уходит.
Тихон недоумевает: «Зачем в такой неурочный час?» И вдруг ему все становится ясно: вызов связан с его расшифровкой перед певицей. Он с тревогой подумал: «Неужели из-за этого отзовут с задания в такой неподходящий момент? Ведь нащупал кончик бандитского клубка! Наметилась встреча с атаманом. Какой смысл читать мне запоздалые нравоучения?»
И вот Тихон входит в кабинет начальника управления губмилиции. За столом сидит очень бледный Белоусов. Вид у него мрачный. Такие же нахохлившиеся и раздраженные его заместители. Столицыну не предлагают даже сесть. Все трое молчаливо и сосредоточенно уставили в него угрюмо-подозрительные взгляды. Наконец Максим Андреевич резко хлопнул ладонью по столу и возбужденно воскликнул:
— Представляешь, что ты наделал? Могу сказать: ваша светлость совершила грубейшую ошибку. Ты завалил тонкое и ответственное дело! Кто ты после этого? Мальчишка! Растаял перед смазливой девчонкой. Раскис, забыл о своем долге. Знаем, что у тебя еще нет нужной школы конспираторства, но нельзя же допускать таких элементарных ошибок. Не могучими мозгами нужно обладать, чтобы понять: Зося сама крепко завязла в банде. Ее симпатичное рыльце в пушку. Факт. О тебе она уже все выболтала Степану и его дружкам. Тихон торопливо заговорил:
— Ах, вот почему вы меня отозвали. Хорошенькое дельце. Только стала обрисовываться поимка банды, а вы пустили дело под откос. Поймите, мне некогда было все согласовывать с вами. И считаю, что поступил правильно. Зося — наш человек, а к банде никакого отношения не имеет.
— А скорее всего — имеет, — тотчас отреагировал Петухов, поглаживая усы. Жаль, что ты этого не понимаешь. Мы переоценили твои силы.
— Точно сказал начальник: любовь затуманила твое сознание. Подумал бы, как нам отчитываться перед губкомом партии за провал операции?
— Неудачи не будет, — горячо отстаивал свою позицию Тихон. — Доверьте мне продолжение работы.
Но Столицына не слушают. Начальство остается неумолимым.
— Под суд, — жестко распоряжается Белоусов, — куда он годится, ребенок. А еще фронтовик. Бестолковых сотрудников набрали в угрозыск. Как можно пренебречь своими обязанностями? Приходилось мне видеть певичку. Хорошенькая. Обворожительная. Чудо, изящество. Лакомый кусочек для Дон-Жуанов. Но нельзя же перед всякой обаятельной девицей терять голову! Если бы ты ее сначала проверил на мелких заданиях, убедился в ее верности, надежности, тогда другое дело… Можно намекнуть, какую выполняешь миссию.
— Да поймите, Зося девушка не из ветреных. Она очень серьезная, честная. Ей ненавистна компания, которая собирается в ее доме. Но выгнать вон свору негодяев уже не в состоянии. Ей угрожают расправой, насилием. Она не предполагала, что поселившиеся квартиранты — бандиты и грабители, — энергично защищал певицу Тихон.
— Рекомендуешь ты ее отменно, — вздыхает уже примирительно Белоусов, — но при все при том нам стал известен твой разговор с ней. Откуда, Ромео? Выходит, что певичка… не сумела держать язык за зубами?
До сознания Тихона дошла неожиданная правота начальника милиции. Веская логика Белоусова подавляет Тихона. В самом деле: все разболтать могла только сама Зося. Столицын повержен этим аргументом. Он поник, молчит, понимая, что ошибся в девушке и, конечно, будет изгнан из уголовного розыска.
Максим Андреевич изучающе смотрит на Тихона и говорит тихо, с сожалением:
— Много, очень много доставил ты нам горя. Надеюсь, до конца не признался, кто ты? Откуда? Не похвалился, мол, из Москвы приехал, помогать местным непрофессионалам?
— Об этом не было речи, — заверяет Тихон. Он думает, что судом его, конечно, для острастки пугают.
— Благоприятная сложилась обстановка и вдруг… — все еще подливает масла в огонь Петухов. — Мы тут без отдыха тянем лямку, устраиваем ловушки и засады для Бьяковского, одновременно ждем и от товарища Столицына решительного рывка, а он сибаритничает с красавицей, играет в любовь…
Тихон дрожащим голосом пытается оправдаться:
— Здесь, в тиши кабинетов легко рассуждать. Побыли бы вы на моем месте! Рад был любым способом продвинуть работу. Вы меня направили собирать сведения о банде. А информация с неба не падает. Я привлекал на свою сторону нужных людей. Зося именно тот человек. Певица, в конце концов, ввела меня в свой дом, через нее познакомился с бандой. Она обещала в любое время открывать и предоставлять для засады свою квартиру. Этого мало? Она рассказала очень многое. А что симпатизировал ей — в чем тут моя вина? Наши взаимные добрые чувства пошли на пользу делу. Любовь наша чиста.
Но, похоже, ему не снять с себя вину, не доказать руководству целенаправленность своих планов. Столицына, хотя уже и мягче, но отчитывали как мальчишку. Положение его оставалось безнадежным. Петухов продолжал хмуро допекать Тихона:
— Ум — это умение видеть, предвидеть и многое знать. Встретили мы тебя и сразу поверили в то, что ты толковый парень. Образованный, фронтовик, немало повидал. Надежды не оправдались. В тебе играет ребячество.
— Пе-ре-до-ве-ри-лись, — медленно, но с чувством произнес Белоусов.
— Вот именно, — скорбно согласился и Рябов. — Мы тебя послали в разведку на серьезное, ответственное, исключительно важное задание, а ты там пребываешь в женихах. Захмелел от влюбленности. Блаженствуешь, нежишься, вспомнил университетские проделки.
— Да поймите вы, — снова повысил голос Столицын, предчувствуя, что его отстраняют от работы, — одно дело видеть ее пышно, безукоризненно одетую, в роскошном ресторане, среди барчуков-обожателей, а другое — поговорить в домашней обстановке. Я ее лучше узнал. Она ненавидит то общество, в котором оказалась. Ей мерзок и Ленька Иголка и вся эта шайка гадов. Она презирает обитателей своей квартиры. Зося давно искала выхода из положения, в которое попала. Встреча со мной стала для нее счастливой. Зося скромная, нежная девушка, совершенно безвинная. Таким дарят цветы. А вы ей не доверяете и меня ругаете.
Белоусов от последних слов разведчика вдруг подобрел, положил руку ему на плечо, исполнился веселого задора:
— Ладно, убедил! Будем считать твой шаг оправданным. Пусть любовь сделает тебя еще более зрячим. Дерзай. Осуществляй план. Но, милок, крепко взыщем за провал, поэтому не торопись с личным чувством. Сначала выполни задание, а потом все остальное. Пригласишь на свадьбу, все втроем придем. Кстати, хочу напомнить: приручил девушку — отвечай за нее головой. Бандитам плевое дело ее погубить… Мы думали, она кисейная барышня, с замашками аристократки, ведь получила она патриархальное воспитание. Оказывается, ошиблись. Зося хоть и современная девушка, но чувство реальности имеет. Твоя рекомендация подходящая. Однако не передоверяйся ей.
…Тихон проснулся от такого видения в холодном поту. Кто-то барабанил в дверь. Это Лиза, принесла постояльцу запоздалый кофе. Она с беспокойством, в своей манере, почти пропела:
— Ну разве так можно? Я чуть не плакала.
— Вы о чем, Лизонька, — стряхивая с себя остатки сна, осведомился Тихон.
— Да как же о чем? Всю ночь где-то пропадали. Под утро заявились. Я глаз не сомкнула, беспокоилась, живы ли? Убьют ведь как Николая.
— Этого не должно случиться, Елизавета. Мы с Николаем друг другу дали клятву, кто из нас выживет, тот отомстит за все.
Тихон начал пить принесенный кофе, заверив сердечную горничную, на которой сегодня был особенно кокетливый яркий передничек, что будет остерегаться безвременной смерти. И даже пообещал, чаще обращаться к ней за советами. Это польстило горничной. Лиза довольная покинула номер.
А Тихон снова задумался. Он боялся, как бы сон не был в руку, вещим. Он не мог все еще обрести душевное равновесие. Неужто он — ошибся в Зосе? А с другой стороны… Взять ту же Лизу, скажем. Тоже ведь ни она, ни ее подруга Шура в штатах угрозыска не состоят. Однако и Николай и он раскрылись перед ними и получили от девушек много важных сведений. Горничные оказались дельными помощниками.
Нет, без людей в нашем деле не обойтись. И лозунг опираться на массы трудящихся, на народ — не пустые слова. Надо искать опору в надежных людях. В конце концов, Лиз, Шур, да и Зось намного больше, чем, скажем, дамочек вроде той, что явилась с Потапычем, или типа Соболевой, Гоголевой…
К Тихону пришла обычная уверенность: поступил он правильно, доверившись артистке. Теперь она полностью на его стороне. Столицын стал с нетерпением ждать Федора Савкова, чтобы передать важное донесение Семену Гавриловичу. Связной прибыл точь-в-точь. Еще одно дело сделано. До встречи с проводником Бьяковского оставалось часа три.

Но были сомнения: придут ли вечером гонцы от Бьяковского? Надежна ли будет ловушка для бандитов? В томлении прошел остаток дня. К вечеру в назначенный час к Столицыну в номер крадучись проскользнул бандитский посыльный: вихрастый, с заросшими щеками парень неопределенного возраста. Ему можно было дать и двадцать и тридцать лет. Худое, продолговатое лицо его выглядело бледно, как у чахоточного. Жесткие черные волосы на голове, словно шапка, надвигались на самые глаза. Он, как загнанный в засаду волк, быстро, с опаской обшарил взглядом углы комнаты Тихона, потом сообщил:
— Гришкой кличут. Айда за мной. Жду на площади. — И выскользнул из номера. По всему было видно, что проводник опытный и сверхпредосторожныи мужик.
Столицын оделся и вышел на улицу, увидев «гонца», направился за ним.
Григорий был поднаторен, как видно, в конспирации. По центру города он проскочил, что называется, галопом. Тихон едва поспевал за путеводителем. Сотрудник МУРа, обернувшись, заметил, что за ним скользят тени двоих парней. Значит, от Семена Гавриловича. Тихон боялся, как бы они не отстали.
А ловкий связной атамана, как вьюн, нырял из переулка в закоулок. Особо людными улицами он шел степенно, не вызывая подозрений. Тихон не отставал. На небольшом расстоянии продолжали следовать, прижимаясь к заборам, сотрудники Рябова.
А пройдоха Гришка, как заяц, затейливо петлял по дворам, а кое-где и по огородам. Легкостью, осторожностью он напоминал рысь.
Но и Тихону жизнь преподала отменную закалку. На фронте с винтовкой, скаткой, вещмешком за спиной он пробегал порой десятки километров. Сейчас муровца даже взял азарт. Только бы не отстали сотрудники Рябова. А он не подведет. Впрочем, неопытных сотрудников Рябов не пошлет на такое тонкое задание.
29. В логове
Крепость обреченных располагалась в длинном одноэтажном здании барачного типа. Оно одиноко и неприметно приютилось в глубине сада. К дому примыкало несколько легких пристроек.
Едва проводник Тихона открыл калитку в дощатом заборе, как забрехали собаки. Проводник погладил подбежавшего вислоухого пса и переливисто свистнул. Через минуту связного и господина Беккера обступили мужики в полушубках. Охрана логова «Серого волка» была внушительной.
— Веду к атаману, — гордо сообщил вихрастый проводник пьяным дружкам.
— Дуйте-валяйте, — ответил самый рослый телохранитель Бьяковского. Связной деловито зашагал к крыльцу. Тихон последовал за ним. Учащенно и томительно стучало сердце. Столицын поднялся по высоким ступенькам к открывшейся двери. Таинственное логово бандитов впускало его в свое чрево.
В сенях, освещенных фонарями, Тихона и его спутника встретила рослая дама в белой кофте. Ее Тихон видел у Зоси. Блудливые глаза обстреляли гостя. Нервно затянувшись папиросой, она хрипло что-то спросила у проводника «Дипломата». Из-за ее спины показалась другая баба, низкорослая, полная, хмурая, с чопорной прической, одетая во все черное. Держалась она более высокомерно, похоже, была хозяйкой дома. Она молча утиной, важной походкой провела гостя через прихожую в кухню и там со словами: «Отведи-ка, Дусь, его к Стеньке или Потапычу» передала Столицына тучной, сильно напомаженной дамочке. Та кокетливо вытерла руки о фартук и лукаво произнесла:
— Разлюбезного заждались. Вот и довелось самой красавчика увидеть. — А подойдя к двери одной из комнат, она негромко постучала по фанере и крикнула:
— Иван Потапыч, выходь-ка.
Тот вышел и добродушно воскликнул:
— А, корешок, входи, родимый.
Первое, на что обратил внимание Тихон — в доме была уйма закоулков, как в пчелиной рамке сот. Внутри логово выглядело объемисто. В многочисленных комнатах господствовал полнейший беспорядок, всюду стоял спертый запах, как в свинюшнике. Похоже, помещение никогда не проветривалось, здесь ели, пили, курили при закрытых форточках.
Тихон, переступая порог притона, был полон тревоги, но при виде старого «приятеля» почувствовал себя раскованно. К нему вернулись уверенность и душевное спокойствие.
ГосподинБеккер, не ожидая приглашения, сел к столу, а Потапыч пошел еще в одну боковую комнату. Оттуда доносился звон стаканов и пьяные хриплые голоса. Некоторые фразы отчетливо слышались.
Вот кто-то обреченно выкрикнул:
— Семка, налей, паршивец, стопку, не скупись, может, последней чаркой душу лечим.
Горластого осадил властный голос Потапыча:
— Раскаркался, ворона…
Кто-то надрывно, на мотив частушек пел под гармонь: «Да, мы не красные, да, мы не белые, мы зеленые, в полоску серые». Эту нехитрую припевку подхватывали с десяток пьяных голосов. Потапыч обозвал кого-то олухом царя небесного и вернулся к Тихону, цокнув языком.
Заместитель атамана снова куда-то ушел. Тихон остался один. Осматривался. Напряженно ждал встречи с самим атаманом.
Мелькнул крючконосый сосед Тихона по новогоднему столику — Иоганн Ротэ. Он кивком головы, но уважительно, поприветствовал господина Беккера, как давнишнего приятеля, дружба с которым скреплена совместным переживанием облавы в ресторане. Тихон подошел к двери, через которую ушел Потапыч, и заглянул туда. Это была квадратная комната, метра четыре в длину и ширину, заполненная людьми. В сизой мути от чадящих цигарок из самосада сотрудник угрозыска увидел много юных парней, некоторые заросли щетиной, давно не брились. В комнате было все вверх дном, и люди напоминали скот в навозе. Тихон с сожалением подумал: сопляки, свиньи забрались в волчье логово, обросли бородами и совсем уподобились диким зверям. Идиоты, белого дня не видят. Как сычи выпархивают отсюда лишь ночью. Обреченный сброд. По каждому тюрьма плачет. Гады. Мерзкие негодяи. Сколько же невинной крови пролито по их злой воле.
Наконец Тихона сопроводили еще в одну комнату. Она была чистенькой, ухоженной. В ней Тихон заметил особый вход. Бархатная штора, блестящая ручка двери говорили о том, что там покой знатного жильца. Не атамана ли?

Вслед за Потапычем и Тихоном в комнату вошло несколько человек. Двоих из них Тихон признал: кучера по имени Степан — цыгана, что когда-то подвозил его к Дому обороны и философствовал о Варфоломеевской ночи, с ним же Тихон потом встретился у Зоси, и женщину по-мужски коренастую, с тяжелым подбородком, с широкими ватными плечами зеленого платья. В новогодний вечер эта дама настойчиво приглашала Тихона на вальс. Вид у нее сейчас был усталый. Она несла в руках поднос. На нем стоял графин с мутноватой жидкостью и тарелочки с закусками: солением, домашней колбасой, кусками меда и ржаным душистым хлебом.
У Тихона от появления снеди засосало под ложечкой, только теперь он вспомнил, что почти целый день ничего не ел, но Столицын решил отказываться от трапезы.
Женщина в зеленом одеянии величаво удалилась, и все стали молча усаживаться за крепко сбитый из досок стол.
Напротив сотрудника уголовного розыска расположились ближайшие сообщники атамана — Потапыч и бородатый Степан. Справа сел незнакомый Тихону яркий брюнет кавказского типа, очень худой, бледнолицый, лет тридцати, в артиллерийском кителе офицерского покроя. Женское имя — Сулико. Мясистый нос его загибался к правой щеке. На белом лбу багровел шрам от ранения.
Слева, закинув руку за спинку стула, развалился мордастый усатый мужик, названный Василием. К его грубому скуластому лицу совершенно не шло пенсне в золотой оправе. Он больше других изучающе осматривал господина Беккера. Через минуту угрожающе положил руки на стол.
Пауза затянулась, никто не желал ее нарушать. Курили. Потапыч скупо улыбался. Степан и двое других мужчин оставались серьезными и хмурыми. Вошла еще раз женщина в зеленом платье и поставила на стол банку с рассолом.
Воздух комнаты наполнялся табачным дымом, запахами самогона, кислой капусты и еще черт знает чем. Чувствовалось, что до прихода Тихона этот закуток проветривали, а сейчас воздух приобретал то же спертое состояние, какое было во всей «крепости».
Столицын прервал молчание:
— Господа хорошие! Увы, разочарую вас. Вынужден расторгнуть наш уговор. Есть на то веские причины. Собираюсь завтра сам отсюда драпать. Не могу больше ни одного дня задерживаться. Сегодня мне передали официальное приглашение прибыть в совдеп для беседы. А она мне ничего хорошего не сулит. Надо, как говорят, уносить ноги из сих благообразных мест. Пока не поздно.
Степан словно не слышал панической речи господина дипломата, только насупил густые брови. Он закивал кавказцу и другим своим дружкам.
— Знакомьтесь, это господин Беккер.
Сулико и Василий по-благородному привстали.
Затем господину Беккеру Потапыч деловито дал совет:
— Не суетись. О твоих бедах еще поговорим. Нынче ты наш высокий гость! Второй раз довелось с тобой свидеться. Давай отметим это событие.
— Благодарю, я поужинал, — отказывался от выпивки Тихон, но Потапыч стал серьезным:
— Не упрямься. Потрапезничай. Сулико, за тобой тост. Это по твоей части.
У кавказца перекатывались желваки на скулах, пальцы рук сжались в кулаки. Он бурно отреагировал:
— Его милость, Потапыч, только деликатесы кушают, плевал он на нашу водку. Для дипломата стоило раздобыть коньячка.
Потапыч не разделил раздражение кавказца. Старался водворить за столом мир и согласие, хотя и в его голосе появилась нотка недовольства Тихоном:
— Ладно, Сулико. У этого молодого человека мы в долгу. Но и ты, господин Беккер, не ершись. Окажи нам честь. Опрокинь чарку за удачу.
Тихон вынужденно поднял стакан с самогоном, со всеми чокнулся, пригубился к нему и поставил на место. Бандиты выпили с удовольствием и стали хрустеть огурцами. Потапыч философствовал:
— Жизнь наша — копейки не стоит, однако ее ты спас — за это тебе поклон. Еще большая будет честь, коль помогнешь в другом деле. Товар мои хлопцы поднесут прямо в нумер. А завтра утречком Степан примчит к тебе на своем вороном, отвезет на станцию. Усадит в поезд. Так говорю? — обратился оратор к цыгану. Тот кивнул в знак согласия. — В вагоне рядом с тобой поедет наш человек. Там получишь свою долю: на два миллиона золотом. Голова садовая! Маманя с папаней узнают о твоем богатстве — расцелуют. Хоть и у твоих предков всего полно. Но лишнее не мешает. У людей жадные души. Только одни об этом говорят открыто, а другие прикрываются словесными выкрутасами. Верно, хлопцы?
Дружки жадно закусывали. Лишь Степан вытер губы ладонью и заметил:
— Осыпь меня золотыми слитками — я все равно еще буду желать.
По выражению лица Сулико можно было понять, что он недолюбливает цыгана Степана. Он натянуто изрек:
— Жадность фраера сгубила. Кто этого не понимает, тот дурак. Кавказцы это понимают.
На такую колкость Степан постарался не обратить внимания, хмуро теребил густую шевелюру. Тихон настойчиво вел свою линию:
— Рисковать боюсь, да и нет резона. Советы могут упрятать в тюрьму.
Степан сжимал в руке пустой стакан.
— Тебе, дипломат, и так, и сяк, из Окска уматывать, что с нашим грузом, что без него. Не ломайся. Соглашайся. В накладе не будешь.
— А если нарвусь у Советов на немилость и не получу визы на выезд к родителям? Для меня это поважнее и трех миллионов червонцами.
— Что ты паникуешь. Все будет в ажуре. Телохранителей дадим — прикроют от сыщиков, — запальчиво убеждал Потапыч.
— Боюсь, — набивал себе цену господин Беккер.
— И эти трусливые слова мы слышим от благородного человека, сынка австрийского посла, — пытался свести к шутке упрямство дипломата Потапыч, но по его тону можно было понять, что уговаривать гостя ему надоело.
30. Встреча с атаманом
Как и предполагал сотрудник уголовного розыска, на тот случай, если Герман Беккер окажется несговорчивым, планировалась встреча с атаманом. Ее давно ждал Тихон.
Потапыч встал и направился к заветной двери, на которую изредка посматривал Тихон, догадываясь, что ведет она в логово атамана. Чутье не обмануло сотрудника МУРа. Едва Потапыч скрылся, как Сулико, Василий, Степан-цыган перестали жевать огурцы и сало, многозначительно посмотрели друг на друга. Степан даже выпрямил спину, отодвинул от себя стакан с самогоном.
Через минуту Потапыч возвратился с коренастым усатым человеком. На круглой голове его блестели залысины. Глаза слезились от яркого огня. В каждом движении чувствовались властность и решительность. Поступь была генеральской.
Сулико, Василий и Степан встали со своих стульев. Не думал тянуться лишь господин Беккер. Он посчитал: самый раз продемонстрировать барский характер.
Атаман, вылезший из берлоги, был в расписной подпоясанной рубахе, хромовых военных сапогах, атласных синих шароварах, которые обтягивали плотные ноги, он поигрывал концом вишневого цвета кушака. Атаман небрежно махнул рукой, дозволяя всем сесть. Главарь не обиделся на господина дипломата за то, что он не встал при его появлении, а принял это как должное. Такая независимость дипломата лишь возвысила его в глазах Бьяковского.
Атаман молча прошелся вокруг стола пьяной походкой, а Столицын жадно смотрел на того, за кем охотился столько дней. Разведчик весь напрягся, стараясь не выдать волнение. Его по-мальчишески охватило тревожно-ликующее волнение. Происходило важнейшее событие всей операции. Он сдерживал свое возбуждение, чтобы его не заметили бандиты. Но Тихон уже научился властвовать своими чувствами. Силой воли он погасил душевный подъем. Выражение лица сделал флегматичным, равнодушным.
В комнате опять воцарилось безмолвие. Его нарушил Степан. Он услужливо сказал, обращаясь к атаману:
— Проходи, батька, садись на мое место.
У атамана дернулась щека, а вместе с ней и один длинный тонкий ус. Он неопределенным взглядом окинул цыгана и продолжал ходить, помахивая кистью красивого вишневого кушака.
Тихон продолжал контролировать свое самообладание, подчеркнуто ровно дышал.
Столицын сидел за столом в небрежной позе, раскованно, как у себя в «высшем свете». Глядел на хозяина логова безразлично. Даже скучновато. А душа его трепетала, желала немедленного возмездия гадюке с гаденышами. «Одной бомбой взорвать бы эту «малину», — думал Тихон, а вслух спокойно произнес другое:
— Возможно, мне не стоило сюда идти, коль альянс не состоялся, но я счел необходимым объясниться, потому что…
Батька, похоже, уже знал от Потапыча, что дипломат отрекается от сделки, поэтому не дал ему договорить. Он, удостоив Тихона высокомерным взглядом острых, как бритва глаз, отстранил Стул, подвинутый раболепски Степаном, резко бросил Потапычу, кивнув на Тихона:
— Заведи-ка его ко мне…
Атаман после этих слов по-солдатски круто повернулся на носках сапог и направился в свою светлицу. За ним следом Потапыч повел Столицына.
Там у печки стояла красивая, стройная молодуха в шелковой блузке, цветастой юбке, в тапочках на босу ногу и грызла семечки. Она уважительно и с любопытством окинула взглядом гостя. «Личная пассия «коменданта крепости», — отметил про себя Тихон.

— Подкинь-ка, Фрось, еще поленьев в печку, — сказал атаман бабе, — да зачерпни квасу.
Свежие дрова затрещали в пламени. Через открытую дверцу печки Тихона обдавало жаром. А в комнате и без того стояла духота. Но воздух был сравнительно чистым. Атаман, похоже, мерз. Кровь аспида не грела.
Зловещий Мишка Бьяк выпил залпом большую кружку квасу. Женщина услужливо подала своему владыке расписное полотенце. Он им вытер губы, усы. Затем расстегнул ворот рубахи. Бьяковский был пьян. В сознании муровца пронеслась снова мысль: «Вот оно осиное гнездо. Ну и схватка предстоит скоро. Надо разом прихлопнуть всю банду. Не упустить бы этого черта в расписной рубашке».
За стенами «малины» стояла глухая ночь. Между тем атаман предложил господину Беккеру сесть к нему поближе. Главарь, казалось, только сейчас стал всматриваться в дипломата.
Фроська вышла и через минуту вернулась с накрашенными губами, хотела сесть на колени своему хозяину. Атаман ладошкой ударил ее по ягодице, и молодуха безобидно отошла к печке. Апатично продолжала грызть семечки. Шелуху громко выплевывала в горсть. Время от времени открывала дверцу печки и выбрасывала ее в огонь. Затем пододвинула к себе стул, уперлась локтями в его спинку и уставила белесые глаза в Тихона. Смотрела с интересом, когда Тихон ответил тем же, потаскуха улыбнулась ему.
— Поубавь фитиль, — потребовал от любовницы атаман.
Керосиновые лампы висели на крюках, вбитых в стены. Тихон их насчитал четыре. Они горели вполнакала: главарь не любил яркого света. Фроська снимала по очереди пузатые стекла и обламывала нагар на фитилях. А «комендант крепости» все молчал, следил за действиями Фроськи взглядом хмельных маленьких острых глаз. Всеми все делалось по отношению к Мишке Бьяку подчеркнуто учтиво, подобострастно. Его боялись, как пули или удара финкой. И не напрасно. Он и стрелял и резал своих. Безмолвные секунды складывались в минуты. Напряженно ждал вопросов Тихон. А сам думал: «Ох и начнется сейчас потасовка».
Для себя он ставил главную задачу: не прозевать матерого зверя, накрыть убийцу вместе с его соучастниками. Ну, что там снаружи? Окружено ли лежбище? Когда Рябов начнет отлов мерзавцев, что делать ему после первых выстрелов? Конечно, быть рядом с главарем, не дать ему улизнуть.
К опасности для себя Тихон был безразличен, хотя его могли с первыми же пулеметными очередями на улице заподозрить в предательстве и растерзать.
Столицын спокойно смотрел на атамана.
Вид матерого убийцы, за которым тянулся кровавый шлейф вооруженных разбоев и грабежей, не показался Тихону чересчур грозным. Он выглядел даже мирным в этой обстановке. В нем трудно было угадать безумного, дикого зверя, способного принести любые кровавые жертвы в ярости мести Советам. Он был главарь шайки убийц. Но сейчас казался обычным человеком. Его мирный характер как бы подчеркивала украинская расписная рубаха. В домашней обстановке он был почти семейным человеком. Хотя одежда его была чересчур яркой для сорокапятилетнего мужика. Атаманша Фроська стащила с ног своего владыки хромовые блестящие сапоги, подала красные тапочки. Он надел их и прошелся по крашеным половицам комнаты. Пять шагов к одной стене, пять к противоположной. Он думал, видно, как поступить с дипломатом: незлобиво распрощаться, если не желает тот участвовать в деле, или приказать его «убрать» на всякий случай, чтобы не выболтал то, что видел. Возможно, все-таки заставить поработать? Последний вариант больше устраивал Бьяковского.
— Умишком тебя бог не обидел, парень, просвещенный, потерся в университетах. Читал твои ксивы, решил доверить тебе серьезное дело. Уразумел? Обрадуешь папаню дополнительным богатством. Словом, так: ради общей пользы сделаешь то, что велю, и не противься. — Бьяковский вонзил раздраженно, с неприязнью в Тихона мутные по-волчьи беспощадные глаза. — За спасение моих шляндующих по хатам мужиков от меня личная благодарность. Добро мы помним. Хоть и бандитами зовемся, честь знаем. Уважение к себе имеем. Повторяю: за доставку груза в Москву щедро заплатим. С милицией ты умеешь обращаться. Хлопцы восхищались. Потапыча — моего лучшего дружка — было бы жаль, если бы его ухлопали легавые. За него особая признательность.
Сидевший у двери Потапыч растянул полные губы в улыбке. Бьяковский поднес ко рту свой узловатый палец с большим перстнем, подул на него, протер носовым платком. И утомленно умолк.
Скорее всего, главарь бандитского сборища соображал, что же еще сказать дипломату. Столицын тоже прикидывал, анализировал, намечал план дальнейших действий.
Из светлицы главаря он давно высмотрел обособленный выход на улицу. Дверной проем, два окна светлицы были искусно задрапированы шторами.
Атаман, наконец, прервал молчание, задал Тихону несколько вопросов касательно его семьи, времени выезда за границу. Тихон отвечал спокойно, рассудительно. Особого экзамена Тихону атаман не сделал. Вопросы не содержали подвоха.
«Тем лучше, — решил сотрудник МУРа, — Бьяковский не сомневается во мне, признает барчуком без проверки».
Прошло минут пять в молчании.
«Владыка» притона больше не заводил разговора о ценном грузе, точно забыл и о господине Беккере, и о нем. Хмель нагонял на атамана дрему. Напомнил о себе сам Тихон.
— Обещанная плата за мою услугу дело верное? Или обманете?
Бьяковский повел плечами, дернул головой, прерывая полусон, уперев мутный взгляд в Столицына, что-то пробурчал невнятно. Затем встал и снова зашагал по комнате.
— Ты, видать, не знаешь, что я слов на ветер не бросаю. Лично обещаю тебе два миллиона золотом. Но и другое заруби на носу, если подведешь — схлопочешь пулю в лоб.
У Бьяковского опять задергалась щека, нервно зашевелился левый тонко закрученный ус.
— Ты, юнец, не робкого десятка. Убеждаюсь и сам. Мне бы таких орлов для работы. Ну, ладно, Потапыч, оставьте меня. Идите, завершайте дело. Фрось, разбери постель.
— Почивать вам уж верно надо, Михаил Зосимович, — согласилась молодуха, провожая блудливым взглядом гостя. Он ей приглянулся.
Тихон снова оказался среди прежних своих собеседников — Степана, Сулико, Василия, Потапыча. Ходики на стене показывали десять минут двенадцатого ночи. Сотрудник МУРа мысленно торопил время, с нетерпением ждал действий отряда Рябова. В гадючнике собралась вся верхушка. Надо бы приступать к ее уничтожению.
За мощным самодельным столом под диктовку Потапыча господин Беккер на тетрадном листе дал письменную клятву, что пока не выполнит поручение атамана, Россию не покинет. Тихона заставили сообщить адрес его родителей в Австрии.
— На дне морском отыщем, а не то в какой-то Австрии, — хвастливо предупредил Тихона цыган Степан. Головорезы, вероятно, боялись, что дипломат умыкнет чемодан с золотом и бриллиантами.
После свидания с атаманом Тихон чувствовал себя окончательно вне опасности. Уподобляясь Бьяковскому, он стал важно прохаживаться по комнате и решать с бандитами детали «операции». Он согласовывал время завтрашнего отъезда из Окска, выяснял, кто станет брать билеты, как будет проходить посадка в вагон, надо ли заходить в зал ожидания вокзала. Тихон старался показать свою деловитость, предусмотрительность, заинтересованность в благополучном исходе задуманного. И тянул время.
Сотрудник МУРа обговаривал разные подробности, а сам прислушивался к уличным звукам, ждал начала осады притона. Пора бы Рябову приступать к действиям.
Ходики показывали полночь. Степан допил из стакана самогон, закусил огурцами и медом, пошел в другие комнаты искать хлопцев, которым можно доверить два чемодана с драгоценностями и сопровождение Германа Беккера в гостиницу.
Встал и Тихон. Тонкости плана обсуждены, вопросы исчерпаны. Хотя их он мог придумывать сколько угодно.
Тихон с Потапычем направились вслед за цыганом.. В грязной, как хлев, комнате пьяные разбойники целовались, истерично объяснялись в любви трем молоденьким девицам, которые кокетливо шныряли между мужиками-алкоголиками.
Потапычу не понравилась эта картина. Он толкнул в бок Степана:
— Заткни глотки индюкам. Баб отошли на кухню.
Степан прогнал девиц, раздал подзатыльники, облаял пьяниц нецензурной бранью, и сравнительно быстро навел порядок. Потом Степан по именам подозвал к себе человек десять.
Троим из них он велел идти к Покровской церкви, двоих выгнал на улицу протрезвиться. Несколько рослых молодых парней он оставил при себе и дал им особое задание:
— Филя, Троша и Захар, возьмите по «игрушке», зарядите «смит-вессоны» и ступайте сменить караул у дома. И не шумите в саду, атаман лег отдыхать.
Те подошли в угол к ящику с бомбами, взяли по одной. Затем из ведра набрали в карманы патронов для наганов.
На столах остались пустые бутылки, недопитые стаканы с самогоном, миски с медом. На полу валялись обрывки газет, шелуха от семечек, гильзы от винтовочных и револьверных патронов, лошадиная сбруя, кобура от револьвера, разломанные ящики.
Сотруднику уголовного розыска хотелось самому взять из ящика парочку бомб и швырнуть их по этим коварным врагам молодого советского государства. Если бы ему самому можно расправиться с бандитами, то поступил бы именно так. Но сейчас была другая задача: он запоминал входы и выходы из комнат, подсчитывал бандитов. Их набралось человек сорок. Среди этого сброда Тихон заметил парикмахера гостиницы. Тот заходил в номер к Тихону и подстригал бородку «дипломату». Тоже вынюхивал, выведывал. Столицыну в этой своре многие были знакомы по гостинице, ресторану или по дому Зоси. Всех их сейчас должен был ждать арест.
Цыган Степан цвыкал через золотой зуб, властно командовал:
— Никола, и ты, Филипп, для вас припасено поручение от самого батьки. С этим молодцом по имени Герман Карлович прогуляетесь. Поднесете груз к гостинице Слезкина. Потапыч тут же стал вполголоса инструктировать проводников дипломата. И не то в шутку, не то всерьез предупредил: — Особо отвечаете за здоровье нашего дорогого гостя.
Еще одна девица появилась в комнате, шатаясь, с визгом ринулась к Тихону и повисла у него на шее. Столицын брезгливо толкнул ее от себя. Она явно удивилась, даже раздраженно задергала плечами от неожиданности. Потом со словами «грубиян, дурень», еще раз полезла обниматься, обдав Тихона перегаром самогона. Платье ее было мокрым и вонючим. Тихон резко снова отстранил ее от себя. Ноги девицы заплелись, казалось, она вот-вот упадет на пол. Однако снова агрессивно рванулась к Тихону, хотела его ударить. Конфликт пресек Потапыч. Он взял ее за руку и со словами: «Поди прочь, Людка» отвел ее в сторону.
— Да я ему в харю плю-ю-ну… — но тут же, забыв о Тихоне, она облапила проходившего мимо путеводителя Тихона Григория.
— Э, че-е-рт с ним, — незлобно махнула на Тихона рукой пьяная девица. — Мы с Гришкой о-проб-бо-ван-ные.
Но тот не склонен был к любезностям. Он тоже не стал с ней церемониться, сказав:
— А покедова посторонись-ка, Людмила.
Тогда девица повисла на шее у длинного, с угристым лицом, молоденького, лет семнадцати, парня. Тот, ухмыляясь, пошел с ней в другую комнату.
Тихон, глядя на очередную потаскуху притона, сопливого пацана, подумал: «Воровская романтика и этих бездомных сбила с толку».
31. Штурм притона
Связной угрозыска сбился с ног в поиске начальника управления губмилиции, чтобы передать ему важнейшее донесение сотрудника МУРа. Но тщетно. В городе Окске в этот день формировались революционные роты для отправки на фронт. Рябову губком партии поручил вести запись добровольцев на железнодорожной станции. Но его и там трудно было найти. Тогда Савков стал искать Петухова, но тот, как выяснилось, уже отбыл в действующую армию. Было уже семь часов вечера, когда в управление губернской милиции вернулся Семен Гаврилович. Савков обрадовался и вручил ему наконец-то записку Тихона Столицына, а словами добавил:
— Быстрее посылайте к гостинице своих надежных сотрудников. Вот-вот туда придет человек от Бьяковского. Тайный проводник доставит «господина Беккера» в логово атамана.
— Не заманят ли Тихона в ловушку, как Кривоносова? — все еще настороженным оставался Рябов.
— Тихон не расшифрован. Бандиты вступают с ним в переговоры.
— Ну так тому быть. Значит скоро завершим разгром банды.
Рябов тотчас послал проворных и сметливых в деле милиционеров близнецов — братьев Азаровых. К гостинице они подошли вовремя. Те заметили бандитского связного и тенью отправились за ним, когда он повел за собой Столицына.
…Формируя отряд для атаки логовища Бьяковского, Семен Гаврилович нетерпеливо и с удовольствием потирал руки: «Кажется, предстоит решающая схватка. Жаль, что нет рядом Максима Андреевича. Ему бы находиться с нами в самый раз. Он бы крепко порадовался за успех».
Итак, отряд сотрудников милиции во главе с Рябовым бесшумно подошел к главному притону. Лишь чуткие псы брехали за изгородью. Но работа началась. Вездесущие братья Азаровы, умельцы на все руки, бесшумно пробрались через забор к дому и без единого выстрела у крыльца сняли охрану атамана, загнали собак по конурам, открыли ворота своим подводам с пулеметами и бойцами.
Вся усадьба в несколько минут оказалась окружена, а на двери и окна наведено оружие. Рослый сотрудник уголовного розыска Иван Киселев связал последнего пьяного караульного, спавшего в конюшне. Надел на себя его рыжую лисью шапку со словами: «Пусть охладится, ему дрыхнуть хоть бы хны, а мне в кепочке зябко».
Путь в логово атамана препятствий больше не имел.
А внутри ничего не подозревала самонадеянная шайка головорезов. Там базарили, горланили частушки, жрали огурцы с медом, хлестали самогон, пиликали на гармонике. Слышался бойкий визг пьяных женщин. Рябов больше не торопился. Он выжидал своего часа.
Стрелки его карманных часов показывали без четверти полночь. Отряд словно замер. Начальник управления милиции решил: часть архаровцев сама должна вылезти из «конуры». Разбойники — те же сычи, промышляют ночью. Глухая темень — их залихватское время. У милиции должно быть терпение. Еще раз терпение. Оголтелая, бесшабашная свора вот-вот станет выползать, чтобы проветрить пьяные мозги. Выловив внезапно часть их вне логова, потом легче будет арканить остальных в бараке.
Беспокоился Рябов о Тихоне Столицыне. С ним вполне могли расправиться в эти минуты. Да и что можно ждать от оравы безумцев?
Минут через десять в сенях послышались голоса, удалая песня. Предположение Рябова сбывалось: бандиты в расстегнутых полушубках, в шапках набекрень, обвешанные оружием, вихляясь, высовывались из притона. Разнузданные лихоимцы врасплох попадали в руки сотрудников уголовного розыска.
Действуя энергично, неожиданно, Рябов в считанные минуты арестовал около двадцати бандитов. Только теперь по окнам «крепости» застрочили пулеметы. Сотрудники милиции свистками издали пронзительную трель. У разбитых окон Рябов оглушительным баритоном скомандовал:
— Бросайте оружие. Сдавайтесь. Дом окружен.
В комнатах лишь на мгновение установилась свинцовая тишина, потом поднялся визг, панический крик их обитателей, бандиты появлялись в окнах, дверях, некоторые выпрыгивали во двор и сдавались, другие отстреливались.

Семен Гаврилович с группой бойцов вбежал в дом. Стрельба началась внутри, в лабиринтах барака. Обезоруживались охваченные смятением и страхом преступники. Не переставая, истерически визжали бабы, стонали раненые, издавали последний стон сраженные меткими пулями головорезы. Уцелевшие, бандиты продолжали, как чумные, прыгать в окна и на улице попадали опять-таки в руки блюстителей революционного порядка. Пленным связывали руки, ставили лицом к стене глухого забора, обыскивали, затем усаживали в подводы и отправляли под усиленным конвоем в тюрьму.
Рябов продолжал волноваться. Он не мог разыскать Столицына. Озадачивало и то, что исчезли атаман с верными подручными. В логове не оказалось главарей. Рябов не заметил, как цыган Степан, стараясь улизнуть, ринулся к окну, но увидев во дворе плотное кольцо вооруженных бойцов, отпрянул от него. Матерый бандит с кольтом в руке устремился бесконечными коридорами в светлицу атамана. Он знал, там есть тайный ход в подземелье. Через него наверняка тайно уже сбежал атаман.
А в эти мгновения бойцы во главе с Рябовым тщательно обшаривали многочисленные закоулки логова. Ни атамана, ни того, кого особенно искал начальник милиции в запутанных лабиринтах хаты, не было. Они словно растворились, потерялись, исчезли. Начальник губмилиции лично осмотрел горницу Бьяковского. В ночной сорочке, уткнувшись в шелковую подушку, выла в отчаянии пассия «коменданта крепости». На требование Семена Гавриловича сообщить, где атаман, Фроська показала лаз в сенях, примыкающих к горнице. Любовница не щадила своего хозяина и отреклась от него. «Изверг туда, туда полез. С ним Потапыч и еще кто-то», — Ефросинья хотела искупить свою вину, не признавала атамана своим. Атаманша, конечно, давно поняла, что расплата для ее «милого» неминуема. И ей самой было за что отвечать: когда атаман валялся в стельку пьяный, Ефросинья лично выпроваживала на разбой свору мерзавцев. Любила ими покомандовать. Водился за ней такой грех. Этой разжиревшей бабе по нраву были ужасы, жестокость, беспорядки, которые чинили в городе головорезы.
Работники уголовного розыска продолжали переворачивать логово вверх дном. Проверяли уйму закутков, пристроек, сеней, коридоров, чердаков, освещали каждый их уголок, заглядывали в шкафы, под кровати. Все чисто. Больше ничего в доме не было. Напрасно сортировались пленные, осматривались лица убитых. Подтверждалось то, что атаман исчез с кошачьей ловкостью, дали деру и его верные дружки. Значит, путь их был один — через потайной лаз, указанный Ефросиньей. Проверили и это подземелье, оно вывело к сараю, в сад. Но и там все было пусто, лишь один истоптанный снег.
И не удивительно. Загадочного в этом ничего не было. Первые же свистки отрезвили опасливого «батьку» Бьяковского. От них он враз всполошился и полусонный стал слезать с постели. Пнул ногами Фроську с кровати и на нее заорал: «Дура, легавые…» А беспечной полюбовнице — трын-трава. Ей подумалось, что «батьке» мерещится. Она что-то хотела ему сказать, но еще больше обозлила «властелина», предводитель шайки разбойников крикнул: «Сгинь, стерва, ты откупишься толстыми ляжками, а мне заготовлена пуля».
Сверхосторожный Михаил Бьяковский безошибочно почуял свою катастрофу. Казалось, бедствие неминуемо. Но он был предусмотрительный. Боялся аркана для себя. На случай облавы для него существовал потайной выход из горницы. Его голыми руками не возьмешь. Главарь верил в свою дальновидность. Он знал, каким образом ему испариться в случае опасности. Еще в ярости понял: «Дипломат» — ловушка, подставное лицо от милиции. Выходит, его перехитрили, обвели вокруг пальца. Атаман, за ним Потапыч, а чуть позже Степан и еще кто-то через им лишь ведомый лаз спустились в подземелье, а оттуда кротами выкарабкались во двор, к сараям, в сад. Теперь можно проползти огородами, а там рукой подать до леса и реки.
Но нельзя уйти, не отомстив за провал и предательство. И Бьяковский взвыл на дружков: «Идиоты, кого ко мне привели», — затем приказал Степану:
— Певичку пристукни. Дипломата найдешь у нее. Его тоже разукрась. И хату артистки спали. Хорошо им будет. А вы… Идиоты вы с куриными мозгами. Но теперь надо драпать. Двигай и ты, Степан, но побыстрее. А певицу можешь живьем ко мне доставить в Романовский лес. Там мы ее, курву, поласкаем…
А что же Тихон? Он сориентировался при первых же криках и выстрелах на улице. Понял, наконец-то сборище преступников окружено милицией. Воспользовавшись замешательством и паникой среди своих собеседников, потушенными лампами, сотрудник угрозыска нырнул в светлицу атамана, оттуда в сени и спрятался в огромном пустом ящике, приготовленном, видать, для ценных «трофеев». В притоне, кстати, поднялся такой переполох, что все забыли о господине Беккере. Да и не до него стало воровскому притону. Надо было каждому спасать свою шкуру. Тихон слышал, как тяжело дыша, в суматохе стали отбрасывать люк и спускаться в подземелье атаман, Потапыч… Столицын через щель следил за ними. Потом затопал коваными сапогами Степан… Не раздумывая, Столицын рванулся туда же. Сотрудник МУРа знал: его дело не упустить атамана. У Тихона под ногами что-то запружинило, похоже, он ступал по матрацам, одеялам, какому-то тряпью. Минуты через три он услышал, как впереди ползет и кряхтит здоровенный Степан. Столицын карабкался на четвереньках за ним. Наконец Тихон вылез из подземелья, жадно глотнул освежающего морозного воздуха. Взял пригоршню снега и умыл им лицо. Хотя Тихон остался в одном костюме, на морозе ему было жарко. Он, перепачканный, вспотевший, стал всматриваться и вслушиваться. Донеслись крики, свистки, выстрелы. Тихон по снегу наугад прополз еще метров сто. Наткнулся на копну сена. Что делать дальше? И вдруг, у другой копны, шагах в десяти от себя он заметил силуэты троих мужчин и огонек цигарки, ветер донес знакомый торопливый и нервный голос атамана. Он приказывал расправиться с дипломатом и заложницей взять в Романовский лес Зосю. Послышался лошадиный топот, и Тихон понял, что Бьяковский с помощниками скрылись. Стрелять им вслед было бессмысленно. Да и не об этом сейчас он думал. Зося в беде. Его любимая в опасности. Что-то надо делать. Он за нее в ответе. Столицын явственно представил последствия «визита» к ней беспощадного Степана. Сотрудник МУРа прикинул, в какой стороне жилище Зоси. Он должен опередить цыгана.
Все отдаленнее стали слышаться свистки, крики, выстрелы там, около притона, а Тихон, полураздетый, припустился напрямик, огородами к дому артистки. Спотыкался, падал, поднимался и снова бежал по ночному бездорожью, огородами, садами, оврагами. Выкладывал все свои силы. Порой казалось ему, что он сбился с направления. Но вот заветное крыльцо. Он благополучно достиг цели. И, кажется, успел. А он боялся, что дом Зоси уже охвачен огнем от рук бандитов.
Зося на его голос открыла дверь. Она за этот длинный вечер измучилась неизвестностью. Страстно стала целовать лицо Тихона теплыми влажными губами. Потом, почуяв неладное, с изумлением отпрянула от него.
— На кого ты похож? Где твоя верхняя одежда? За тобой гонятся? Что это значит: наган в руке?
Господин Беккер, конечно, предстал перед любимой девушкой не в лучшем виде. Но было не до этикета, не до соблюдения правил приличия в одежде.
Пиджак, брюки, белая рубашка порваны, перепачкались грязью, кровью, расстегнуты пуговицы. Растрепалась мокрая от пота и снега шевелюра. И пистолет наизготове, в боевом положении. Можно было предположить, что он, отстреливаясь, вырвался из ада. Или что-то в этом роде.
— Ты собираешься с кем-то сражаться? — допытывалась в изумлении Зося.
Тихон после долгого бега не мог отдышаться. Наконец ответил:
— Сейчас от Бьяковского кто-то заявится. Потуши свет. — Столицын привлек к себе девушку. — Я к тебе торопился… Сцапала милиция банду. Только главари вырвались из ловушки. Кто-то из непрошеных гостей через минуту будут здесь.
— Ой, — Зося задрожала, точно в лихорадке, сильнее прильнув к молодому человеку. — Ты разве один с ними сладишь? Мы погибли? Давай убежим… Впрочем… Я помогу тебе. У меня припрятан пистолет. Научи меня стрелять. Они точно сюда придут?
А Тихон приводил в норму дыхание. Заставил ровно биться сердце. Ему был приятен облик Зоси и в такую минуту. Его растрогал ее лепет. Он, ободряя ее, разъяснял:
— Банду почти всю арестовали. С нашей с тобой помощью. Несколько человек все-таки дали драпу. По-моему, ушли атаман, Потапыч, Степан. Я слышал, как атаман приказал одному заглянуть к тебе…
Сотрудник угрозыска не договорил; во дворе послышался шумный лошадиный топот. Кто-то подъехал верхом к окну спальни Зоси и с размаху выбил стекла колом. Куски его со звоном влетели на пол к ногам Тихона и Зоси. Еще секунда, и вместе с порывом морозного снежного ветра в спальню девушки, кряхтя и чертыхаясь, влез, опрокидывая стулья, Степан. Он зажег спичку, чтобы осмотреться. Змеей прошипел, грубо матерясь:
— Ах ты сука, ах ты стерва. Где ты, красотка? Поди-ка, я тебя обойму, поцелую. Давно желал с тобой подзаняться. Скажи-ка, с кем снюхалась… — Бандит нахраписто упивался блатным жаргоном и яростно искал девушку, но наткнулся не на нее, а на сильный толчок. Тяжелый удар пистолета в висок свалил его с ног. Подручный атамана гулко рухнул на пол.
В тусклом свете зажженной спички Столицын нагнулся над хрипевшим и стонавшим бандитом. На пол потекла кровь.
Сотрудник МУРа коленом придавил матерого зверя, связал его руки веревкой. Но бандит был все еще крепок физически. Он быстро приходил в себя, попытался привстать, дернул из петли руки. Тихон сильнее подналег на него всем телом, зло давил его.
— Ну, гад, пришла расплата, — Столицын наставил дуло пистолета в лоб убийце, — где Бьяковский? Скажешь — будешь жить. Считаю до трех. Раз, два…
Заместитель атамана напрягся до предела. Он не сомневался: выстрел последует, и все-таки на что-то надеялся, верил в бандитское счастье. Ему, вырвавшемуся полчаса назад из капкана угрозыска, здесь казалась смерть абсурдом.
— …три, — хладнокровно считал Тихон. Острый черный зрачок ствола браунинга смертельно смотрел в переносицу опасного пленника.
Задыхаясь в дикой злобе, глотая воздух как рыба на сухом песке, преступник, казалось, потерял рассудок:
— Накось, выкуси… Кто-нибудь другой скажет, от меня не дождешься, сопляк. Ищи ветра в поле. Потапыч клюнул на твою приманку. Я-то… Жаль, что не прикончил вовремя. За версту чуял падлу. Давно понял, что ты легавый. Документики для наших дураков разложил по чемоданам. Барчуком прикинулся. Тебя бы пришить, а вот эту проститутку… в лес, к атаману… Тогда бы все было по справедливости.
— Но мы раньше тебя расстреляем. Искупай вину, помогай найти атамана…
— Да пошел ты, молокосос… И помни: за меня с тобой рассчитаются, как с твоим дружком…
После этих угрожающих слов громила, напрягаясь, рванулся изо всех недюжинных сил и выдернул руки из веревочной петли. Встал на колени и головой ударил Тихона в живот, а руками обхватил его ноги. Это и стало его последней минутой жизни. Тут же он нашел свою гибель.
Глазок дула пистолета наполнился огнем и грохотом. Выстрел кончил с бандитом все переговоры. А Тихон в ярости приговаривал:
— Это тебе, подонок, за Кривоносова. Это тебе, мразь, за Белоусова.
Потом установилась минутная тишина. Зося чуть слышно от страха пролепетала, глядя на мертвого Степана: — Давай вытащим его на снег… Ну и ну. Они бы растерзали тебя и меня! Ты, Герман, послан мне господом богом. Как благодарить тебя? Хочешь, я подарю тебе золотые часы швейцарского производства? Остались от отца.
— Хочу, чтобы твое серебристое сопрано звенело в моих ушах. Больше ничего не надо, — ласково ответил Тихон.
* * *
А в притоне продолжался обыск. Под домом, в погребах нашли огромные запасы провианта, бочки с медом, селедкой, топленым салом, тюки со шкурами, шерстью, ящики с оружием и сундуки с дорогой царской утварью. Там же отыскали большой и тяжелый глиняный кувшин, заделанный сверху воском.
Рябов приказал вскрыть его. Очистили горлышко сосуда от воска, перевернули кувшин над столом: из него посыпались золотые монеты — чеканка императора Петра Первого, золотые кольца, перстни, серьги, браслеты. Последним выпал бесподобный по очаровательности золотой женский кулон. При свете лампы он засверкал десятками маленьких огоньков, стал переливаться всеми цветами радуги. На нем разместилось созвездье алмазов, изумрудов, рубинов, топазов…
На обратной стороне тончайшим каллиграфическим почерком была нанесена гравировка:
«Окск, 1903 год. Рубинштейн».
Не было сомнений в том, что разыскано самобытнейшее произведение искусства, имеющее историческую ценность.
Рябов восторженно произнес:
— Вот это находка! Редкое сокровище! Бесценный бриллиант. Место ему в музее. Туда мы его и определим.
Семен Гаврилович лично спустился в подземелье, тайный ход его вывел во двор, к сараям. А там — в огород. Дорог для исчезнувших из притона было много. «Неужели с атаманом ушел Столицын? Тогда его ждет участь Кривоносова», — с досадой думал Рябов.
Вскоре он распорядился прекратить обыск бандитского барака. Осиное гнездо разорено. Оставив около него караул бойцов, Рябов вернулся в управление.
Наступило утро. А в коридоре милиции спозаранку его ждал настоятель Никольского храма отец Пимий. Увидев Рябова, он сложил руки, точно при молитве, и забубнил:
— Мне известно стало от прихожан, что вы нашли разбойников, которые третьего дня организовали налет на мою обитель. Много у меня взято ценностей. Не утомляю перечислением похищенного. Однако прискорбно жаль одной бесподобно-дорогой вещички. Не отыскали ее часом у антихристов?
— Что именно? — поп пришел некстати. Но он заинтересовал Рябова.
— Золотой кулон моей свояченицы. Особой работы. Сделан в 1903 году по нашему заказу ювелиром Иосифом Рубинштейном. По преданию такой носила святая дева Мария, когда оказалась на грешной земле…
— Отец Пимий, продолжайте. Опишите его.
— Кулон висел в светлице перед лампадой и очаровывал неповторимым изяществом. Редкий, единственный в своем роде предмет…
— Ну, ну. Изложите особенности.
— В центре крупной золотой волнистой оправы вставлен алмаз с двухкопеечную монету. По окружности кулона редкие камни: рубин, топаз, изумруд, янтарь, яшма, сапфир. Между ними расположена изумрудная крошка. Неужто варнаки в слиток его превратили.
— У нас кулон. Нашли мы его. Решим, как с ним поступить. Сообщим вам через недельку. Посоветуемся.
Только Рябов распрощался с батюшкой, как неожиданно на пороге кабинета с изумлением увидел Тихона, живого, здорового. Крепко стал его обнимать, тискать, так, что чуть не растерзал своего разведчика. Но времени для объяснений было мало. Оба пришли к выводу, что уцелевший атаман с остатками банды подался в последнее прибежище, в Романовский лес.
Тихон считал себя в долгу перед губернской милицией и попросил разрешения лично возглавить отряд бойцов для преследования Бьяковского.
— Согласен. Бери конников человек пятьдесят и айда по его следу. Дело твоей чести изловить зловещего выродка и остатки его шайки.
32. Погоня
Военный опыт езды верхом теперь пригодился Тихону. Ранним утром отряд конных бойцов, возглавляемый Столицыным, галопом взял курс на село Березово. Недели две назад именно туда для расправы бандиты заманили Николая Кривоносова. Теперь в этой деревне предстояло ловить самого главаря. Часа за два быстрым аллюром прискакали конники к месту назначения.
Березово располагалось в центре Романовского лесного массива. Въехав вскачь в деревню, бойцы спешились, повели разведку. Тихон тут же узнал, что рано утром здесь уже позверствовали Бьяковский с остатками шайки. Ворвавшись в деревню, он к церковной площади согнал крестьян, на глазах у них убил возражавшую ему депутата сельского Совета Настю Краюхину и при этом объявил перепуганному народу:
— Если кто против меня слово скажет, тотполучит пулю в лоб. Не станете мне помогать — подожгу деревню с четырех сторон. Запылаете, как факел. А кто будет тушить — тех постреляю!
Он озверело носился по улицам, угрожая расправой, требовал помощи для борьбы с Советской властью. Страх загнал людей по хатам. Они боялись выходить из них. Сотрудник Московского уголовного розыска Тихон Алексеевич Столицын сам собрал крестьян у сельского Совета. Рассказал им о проводимой операции против коварных бандитов. Убеждал народ:
— Покажите, где укрывается атаман. Содействуйте нам. Не бойтесь. Теперь вы под защитой вооруженной милиции. Ваша трусость на руку выродкам и мерзавцам. Отряд бойцов, которым доверено мне командовать, не уйдет отсюда, пока не выловит до единого бандита.
Люди мало-помалу отрешались от страха и скованности, начинали верить в надежность Столицына и доверять ему. Но крестьяне не могли пока указать бандитское логово, однако охотно стали во всем содействовать бойцам. Крестьяне разместили у себя по хатам милиционеров и взяли их на свое довольствие. Кормили лошадей. Рассказывали о Бьяковском, кто что знал. Оказалось, настоящая фамилия атамана Прокопович. Он сын зажиточного крестьянина-кулака из соседнего уезда.

В царской армии Михаил дослужился до чина унтер-офицера. На деньги, выжатые его отцом из крестьян-бедняков, он делал военную карьеру.
Когда победила социалистическая революция, Михаил Прокопович не мог не стать ярым врагом Советов. Он дал клятву мстить новой власти до последней капли крови за то, что она лишила его мечты стать его благородием штабс-капитаном. Словом, это был деятельный махровый антисоветчик. Конечно же, требовалось положить ему конец.
Теперь все село помогало отряду Столицына в поимке атамана и его людей.
На третий день Тихону поступило сообщение от сельского паренька Петра Иванцова. Когда мальчишка из лесу на санях вывозил дрова, то набрел на бандитскую нору, вырытую вблизи Лисицынского оврага. Из нее выползли двое обросших пьяных бандитов и приставали к парню с вопросами.
В указанное место стремглав понеслись верховые бойцы. Они окружили землянку, вошли туда, но она была уже пуста. Лишь объедки пищи да пустые бутылки говорили о том, что совсем недавно здесь пьянствовали кровавые отшельники.
Тщательный осмотр оврага и всего прилегающего ельника положительных результатов также не дал. Проческа большого участка леса тоже не имела успеха. Ни с чем вернулись в Березово конники.
На следующий день, едва рассвело, Тихон с холма начал просматривать в бинокль каждый уголок, кустик окрест. И вдруг заметил, что трое в тулупах мужиков осторожно вышли из березняка на дорогу, соединяющую Березово с соседним селом. Бандиты, конечно, прознали, что милиция окружила Романовский лес, и вели себя чересчур обдуманно.
Бьяковцы боялись теперь не только вольготно разгуливать по деревням, а в некоторые — совать и нос. Они на дорогах отбирали у несчастных крестьян хлеб, сало, соль, скот. Их мало-помалу настигал голод. В поисках еды лишь самые бесшабашные разбойники рисковали пробираться к крайним сельским хатам. Вот эти, видать, трое направлялись в какое-то село.
Столицын подозвал местного жителя Дмитрия Кузнецова, отколовшегося от банды Бьяковского, изъявившего желание помогать Столицыну. Передал ему полевой бинокль.
— Погляди, кто это?
Кузнецов поднес бинокль к глазам и живо ответил:
— Да это бандиты атамана. Они пробираются в хуторок Белое за продуктами.
Тихон приказал десятерым сотрудникам оседлать лошадей и начать их преследование. Несколько конников поскакали преступникам наперерез, чтобы отсечь дорогу к Романовскому лесу, а другие — навстречу бандитам.
Но бьяковцы еще издали заметили погоню и успели скрыться в овражном перелеске.
Вечером к Столицыну подбежал мальчуган, лет десяти и спросил:
— Вы будете командир?
— Допустим.
— Велено передать вам записку.
— Кто велел?
— У оврага двое дядьков, когда я катался на салазках.
Тихон развернул лист серой засаленной бумаги и прочитал каракули. Оказалось, что двое бандитов Фролов и Козин назначили Столицыну свидание на опушке леса. Они писали:
«Приходи — погутарим. Уважь нашу просьбу, не посчитай за труд. При подходе назови пароль «изгнанник». Тогда стрелять не будем. Дело есть к тебе толковое».
Тихон не стал медлить. Не впервой ему рисковать. Да не в опасности теперь дело. Ловушка для бандитов должна захлопнуться как можно скорее.
На всякий случай с трех сторон Тихон расставил незаметные конные патрули. Те должны были ждать сигнала Тихона, если потребуется захватить бандитов.
У леса Столицын увидел двух замерзающих, обросших буйной щетиной мужиков в драных зипунах. Они грелись у чадившего костра. Пахло паленой хвоей. Тощие, бледные, обессиленные бандиты лихорадочно смотрели на Тихона.
— Мы, мы вызывали, — произнес бандит по фамилии Фролов, грея руки над костром.
— Зачем? С голоду дохнете?
— Не ерепенься, начальник. Мы здесь в лесу гибнем, — проронил второй бандит по фамилии Козин. Наступила пауза.
— Ну дальше что? — Тихону противно было смотреть на общипанных, с бешеным блеском глаз разбойников. Сколько же они зла уже принесли людям. А сейчас ищут способы отвертеться. — Так что от меня требуется?
— Вот что, — отпрянул от костра Фролов, — Бьяковский всех погубил. Будут ли нас судить, если сдадимся добровольно? Мы готовы помогать тебе. С нашей указки поймаешь Бьяка.
— Поможете выловить остатки банды — облегчите свою участь. Факт. А если останетесь в шайке — все равно погибнете… Банда Бьяковского в западне. Все с голоду подохнете. Мы зиму будем стоять в Березове. Так что надеяться вам не на что. Словом, выбор у вас не велик.
Бандиты потоптались у затухающего костра, пошмыгали носами, почесали косматые затылки, отошли в сторону, пошептались, посоветовались.
— Ладно, сдаемся, — ответил Фролов за двоих. — Давай потолкуем и обмозгуем, как словить Мишку.
Из разговора с ними Тихон узнал, что завтра утром Бьяковский собирается идти в деревню Белое к своей полюбовнице Полине Чавкиной, а его помощник Кравченко, пока вернется главарь, обязан сходить в Березово к тетке и взять у нее хлеба и запряженную лошадь, на которой решено отвезти часть награбленного имущества в укромное место.
— Может быть, через вас я своего человека подошлю к атаману?
— Бесполезно. Приблизиться к Бьяковскому нынче невозможно. После провала в городе он незнакомых не берет, — сказал Козин, а Фролов горько добавил:
— Моего братеника пристрелил. Думал, что он подослан из милиции.
— Уже многих Бьяк ухлопал по пьянке, мерещится ему, все направлены Советами, — рассказывал Козин. Помолчал. — Его надо подкараулить на лесных дорогах. Атаман часто посещает пасеку Залепухина. К ней по балке можно приблизиться и сделать засаду.
Бандиты назвали еще несколько мест возможного появления главаря.
Каждую ночь Тихон выставлял посты, где считал нужным. Делал засады, устраивал атаману капканы, группы захвата охраняли дороги, опушки леса, овраги, подходы к селам. В результате принятых мер была задержана подвода, на которой ехал еще один заместитель Бьяковского Кравченко.
Фролов и Козин старались искупить свою вину, заслужить снисхождение. Они усердно помогали Тихону. От бывших бьяковцев удалось еще узнать, что остатки банды ходят по лесным сторожкам, заглядывают в лесничество в поисках еды, хлеба и самогона.
Фролов и Козин показали заветную тропку, по которой ночами иногда и сам атаман пробирается от сторожки беженца Александра к землянке отшельника Лазаря, заглядывает в деревню Горино. Там живет одна из многочисленных потаскух «батьки» Глафира — к тому же очень пронырливая баба. Из-под земли добывает атаману нужные сведения о милиции. Она же шьет, вяжет теплые вещи главарю. Сотрудник МУРа блокировал все подступы к указанным местам и лично решил подкараулить Бьяковского у самой глухой землянки, где была большая вероятность появления главаря. Тихон дал Фролову и Козину винтовки, по три десятка патронов и отправился с ними в глубь леса.
Расправиться с Тихоном бывшим бандитам ничего не стоило. Однако ждать Столицын больше не мог. Он верил, что нет смысла Козину и Фролову убивать его, а есть резон ускорить поимку Бьяковского.
Втроем они прошли лесом версты четыре. У далекой Дедовской просеки, в стороне от проезжих дорог, за толстым дубом, в снегу сделали наблюдательный пункт.
Сквозь голые деревья участок разнолесья просматривался далеко. Появление Мишки Бьяка или его людей можно будет без труда заметить на большом расстоянии.
Столицыну, верившему в удачу, казалось, что он последний раз запасается терпением, на дне которого, как любил говорить Максим Андреевич Белоусов, оседает золото.
Сотрудника угрозыска угнетала мысль, что он упустил верхушку банды, угрызения совести заставляли стараться изо всех сил.
Столицын выбрал две лохматые ели, которые сплелись, образуя свод. Залег в снегу. Заиндевелые ветки деревьев от легкого ветра потрескивали.
В лесу, казалось, все замерло. К середине ночи усилился ветер и мороз. Тихон, Фролов и Козин поплотнее завернулись в тулупы, взятые для засады в сельсовете. Двое с винтовками, один с револьвером замерли, вслушиваясь в звуки леса. Но по-прежнему лишь деревья покачивались, шептались и скрипели. Где-то вдали недремлющий дятел сделал несколько ритмичных ударов клювом о кору сосны. Близко в стороне издала шорох запоздавшая с ночлегом продрогшая пичуга. Все звуки, то глухие, то отчетливые, настораживали.
Зарывшись в снегу, Столицын и его проводники напряженно всматривались в лесную чащу. Так пролежали больше трех часов. Стали мерзнуть.
Лес оставался безлюдным. Тщетно они ожидали бандитов. Атаман и его люди, похоже, не думали идти этой дорогой. Не было признаков, что кто-то угодит в засаду. Впрочем, Тихон и не рассчитывал, что первая же ночь одарит везением. Он настраивал себя на многоразовую засаду, чтобы пришел желательный исход дела.
Время близилось к рассвету, когда вдруг, в глубине кустарника, справа послышалось шуршание, хруст сучьев орешника. Тихон весь превратился в слух. Ветер донес приглушенный мужской говорок. Еще через мгновение заскрипела от шагов неизвестных ледяная корка промерзшего снежного покрова. Прошло несколько напряженных минут. Из кустов ельника на тропинку вышли двое в шинелях с винтовками наизготове.
В двух десятках шагов от Тихона неизвестные умолкли и остановились. О чем-то посоветовались. Прикидывали: идти дальше или вернуться. Чувствовалась их опытность и крайняя настороженность.
Напрягая зрение, Столицын с трудом, потом твердо узнал одного и другого ночного пешехода. Это были Сулико и проводник Тихона по гостинице Гришка.
Сотрудник МУРа прицелился из револьвера в худого брюнета с женским именем Сулико и дал знак Фролову и Козину, чтобы они взяли на мушку коренастого Гришку. После этого Столицын в приказном тоне крикнул:
— Бросай оружие, пристрелим.
Но бандиты кинулись в разные стороны. Тихон произвел два выстрела по ногам Сулико. Тот покачнулся и ткнулся лицом в снег. А Григорий встал за ствол сосны и начал яростно отстреливаться. В него палили Фролов и Козин. Когда Григорий высунулся из-за дерева, пуля достигла цели. Григорий замертво свалился у валежника, а Сулико прополз несколько метров, головой уперся в ствол сосны, обхватил ее руками и стал кусать обледенелую кору.
33. Ясное утро
Сулико доставили в сельский Совет. Раненый бандит понял: нужно спасать собственную шкуру. Он немедля назвал соседнюю с Горино деревню Заркихино, где у полюбовницы Райки Кликиной остановился атаман вместе с верным дружком Иваном Ложкиным и другими преданными ему людьми.
Тихон в сопровождении местных провожатых с двумя десятками конников галопом взял курс в названную деревню, поднялась метель, даже снежный буран. Наконец, после часа езды сквозь белесую пелену появилось очертание заваленной снегом Заркихино. Провожатые указали на добротную хату Райки Кликиной. В дальней, видно, ее комнате горел слабый желтоватый свет. Он едва пробивался в трех окнах.
Залаяли у соседей собаки. Залился звонким тявканьем и пес около дома Кликиной.
Тихон приказал ловкому бойцу Якушеву утихомирить дворняжку. После этого в два счета дом с пристройками был окружен. Теперь требовалось бесшумно проникнуть двум-трем бойцам через глухую дощатую стену во двор, к сараям. С ходу это сделать не удалось. Все было плотно, надежно заперто.
Стояли по-зимнему темные предутренние сумерки.
Ближе к сенцам в двух окнах хаты мелькнул яркий красный свет. Это огонь из печки освещал кухню. Потом еще в одном коридорном окне появился тусклый свет, видать от фонаря, кто-то выходил в сени.
С неба валила и валила снежная крупа. Бойцы для предосторожности, чтобы их не увидели из дома, прильнули к стенам хаты.
Большое подворье было полностью блокировано. Ветер и ночь стали верными помощниками милиции. Столицын с двумя здоровенными бойцами Сидоровым и Ванюшиным зашел с тыльной стороны дома и еще раз попытался через кованые ворота проникнуть во двор. Но не удалось. Ворота были заперты на крепкие засовы. Ломать их не стоило. Все нужно было делать неспешно, обдуманно, с должной осмотрительностью, чтобы не наделать много шума и переполоха в доме. Беззвучно, чтобы не спугнуть бандитов, Тихон в отдаленном месте проломал дощатую стену изгороди.
Осторожно оторвав доску, затем еще одну, Столицын, Сидоров и Ванюшин наконец оказались внутри двора. Из сарая, почуяв людей, подали голос многочисленные кони. На дворе припорошенные снегом стояли два крепких возка, каждый на пару лошадей. Все это, верно, принадлежало Бьяковскому и его дружкам. Значит, они здесь покоятся.
Но теперь, кажется, пути отхода грабителям и убийцам были перерезаны. Стала утихать метель. Мороз по-прежнему щипал носы и уши. Столицын ждал: кто-то поутру должен вылезти из хаты. Ближе к рассвету так и вышло: в сенях послышался женский кашель, брякнула дужка ведра. Загромыхал засов двери. Тихон и его товарищи метнулись в темный угол двора. Спрятались за сани. Словно на зло, выкатила из-за туч луна и осветила все вокруг.
Отворилась дверь. Звеня ведром о порог, показалась молодуха в валенках, похоже, на босу ногу, в ночной сорочке, в небрежно накинутом на голову и плечи тяжелом платке. Она быстро спустилась по ступенькам, пробежала несколько шагов от крыльца, выплеснула помои и хотела вернуться в избу. Но ей преградили дорогу.
Тихон, Сидоров и Ванюшин, не дав молодой бабе опомниться, зажали ей рот. Женщина оторопела от неожиданности. Столицын, наклонившись над ее окаменевшим от страха лицом, строго приказал:
— Спокойно! Без шума! Веди в горницу. Пикнешь, ответишь как сообщница атамана. Мы из милиции.
Раиска Кликина — подруга атамана — и сама догадалась, что за люди заполнили ее двор. В деревнях Заркихино, Горино, Березово, Белое, Глоднево все знали, что Советы вылавливают шайку Бьяковского. Испуг у разбитной хозяйки быстро прошел и молодуха легонько толкнула в живот Столицына, весело заявила:
— Холодно же мне! Одолжи-ка зипун, а то прозябну, рожать не стану. А батьку атамана забирай. Насточертел, изверг, не нужен боле. Тихон накинул на плечи игривой бабе свой полушубок, а сам остался в свитере. Хозяйка бойко продолжала:
— Я здесь придержусь, а вы идите туда и расправляйтесь с мироедами. Мочи нет от окаянных.
Сидоров и Ванюшин остались с Кликиной. Тихон через сенцы, коридор пробрался в кухню, чуть-чуть отстранил дверную занавеску и посмотрел в освещенную керосиновой лампой горницу — огромную, метров шести в длину и метра четыре в ширину, комнату. Из нее два дверных зашторенных проема вели, как видно, в спальни.
Комната была обильно обставлена комодами, шифоньерами, сундуками. Посередине стоял стол. За ним сидело шестеро обросших мужиков. Один из них, совсем старец, накинул на плечи затрепанную в лохмотья фуфайку, пятеро других, видать, только встали с постелей и были в кальсонах и исподних сорочках. Лишь один — в синей сатиновой рубахе. Из огромной бутыли они разливали по стаканам жидкость. Видно, опохмелялись. Закусывали моченой капустой и ломтями хлеба. Что-то вполголоса обсуждали. Слов Тихон разобрать не мог.. Пахло жареным луком, заквашенным тестом.
Старик в фуфайке, подойдя в угол к иконе и крестясь, недовольным хриплым голосом монотонно бубнил:
— Грехи, сукины дети, подить-ка, отмаливайте. Не дайте господу богу совсем от вас, нехристей, отвернуться. Батюшка, мне сдается, еще может очистить ваши черные души. Идите, торопитесь с молитвой… Намедни сам побывал в кои веки в Глодненской церкви. Какое надысь испытал блаженство. Хором там ублажался. Уму непостижимо! Батюшка Денисий тянет плавно, благостно, от самого бога службу правит. Под ликами святых горят свечи. Дьякон Севостьян, не уставая, кадит и кадит. Потом и настоятель старший священник Алексий пожаловал со святым отцом Никандром. Оба в золоченых ризах…
В натопленной избе пьяных разморило. Движения их были вялы, безжизненны. Двое простуженно кашляли. Никто не обращал внимания на зудевшего отца Раисы, на его нравоучения.
Тихон заволновался: «Где же атаман? За столом его не было. Никак опять прозевал? Может, снова куда нырнул от засады?»
Столицын беспокойно вернулся во двор к Раисе Кликиной.
— Где атаман?
— Та чего ты всполошился. В спальне, дрыхнет. Всю ночь, оголтелый, самогон хлестал. И Ложкин вдрызг пьяный на подстилке рядом валяется. Хватайте их, проклятущих. Пропади они пропадом. Мать из-за них не уберегла. Померла от простуды.
Тихон снова прокрался на кухню и опять стал наблюдать в дверную щель за пестрым сборищем в большой светлице. Он держал наготове семизарядный револьвер. Усилием воли старался погасить в душе и тревогу и нервную дрожь. Ненависть к нелюдям, засевшим в последнем своем логове, заполнила все его существо, но он опасался, что может снова упустить убийц. Ему очень нужны были сейчас хладнокровие, расчетливость, осмотрительность.
И тут откуда-то раздался знакомый властный и визгливый голос атамана:
— Демьян, передай этой стерве Райке, чтоб к утру щей покислей наварила, где ее черти носят? А ты, дед Митяй, подлец, перестань антимонию разводить! Зачерпни, паршивец, воды холодной, а то я тебя прикончу напоследок… Сенька, подай кочан капусты и стакан водки!
— Сказился бы ты, лиходей прокаженный, кровопиец, — в ответ пробурчал смело дед. — Напрасно дерешь нос. Живой труп ты, батька Михайло…
— Да заткни ты свое поганое горло, — угрожающе фальцетом закричал главарь, — или я, ей-богу, тебе кишки выпущу.
Старик не унимался, зудил, проклинал «квартирантов». Вот он проковылял в темноте мимо Тихона, немощный, худой, кряхтя, зачерпнул оловянной миской из кадки воды и, чуть не уронив с плеч фуфайку, со словами «конченные вы циклопы», понес ее в горницу. Теперь Столицын заметил, что в большой комнате в лежку, на полу, спало еще человек шесть бьяковцев.
Тихон продолжал наблюдать за людьми в комнате и выжидать удобного момента. Главарь, судя по скрипу кровати и топанью в спальне, встал с постели. Принял воду от деда и, фыркая по-лошадиному, громко стал ее пить. Потом вполголоса огрызнулся, похоже, на новую реплику отца Раисы.
— Рано хоронишь, Митяй, еще есть порох…
— Дай-то боже нашему телку волка задрать… — невозмутимо констатировал дед, который, видать, угрозам главаря не придавал значения.
И тут произошло неожиданное. Атаман вдруг истошно, гортанно, как раненый медведь, заорал, загрохотал ногами, яростно треснул кулаками какого-то сообщника. Лишь через минуту к нему вернулся дар речи:
— Идиоты с куриными мозгами! За окнами милиция! Мерзавцы, пьяницы. Нас окружили, а вы водку жрете. Подлецы! Шакалы!
По всему видно, бдительный Бьяковский посмотрел по привычке в окно и на улице увидел скользнувшие среди снежной белизны тени людей. Атаман беспорядочно стал стрелять, не разбираясь куда. Раздался звон стекла, посыпалась штукатурка со стен и щепа с потолка.
Атаман показался в исподнем белье в горнице, на ходу натягивая хромовые, лакированные сапоги. Второпях зацепился за дверную ручку, рубаха затрещала, раздалась нецензурная брань Бьяковского. С голым животом и маузером в руках атаман пробежал в столовую, затем в кухню, проскочил мимо Тихона, направляясь во двор.
Столицын резко крикнул:
— Сдавайся, Прокопович — дом окружен! Бросай оружие. Сопротивление бесполезно.
Не оборачиваясь, главарь то с левого, то с правого плеча выстрелил несколько раз на голос Столицына, но Тихон укрылся в безопасном месте. Пули лишь впивались в стену и дверь.
— Бьяковский, сдавайся! — повторил Тихон и произвел два предупредительных выстрела над головой Мишки Бьяка. Атаман был уже на крыльце сеней. Сотрудник МУРа еще раз выстрелил теперь по ногам главаря, но, похоже, промахнулся.
Бьяковский выбежал во двор, но и там увидал людей Столицына, готовых его поймать. Глаза атамана метались в поиске выхода из ловушки, он поскользнулся, упал, встал, подскочил к высокому забору и в горячке, с неимоверной быстротой вскарабкался на его вершину и уже забросил ногу… Вот-вот он мог спрыгнуть на ту сторону, а там рядом кустарник, чуть дальше — лес. И хотя Тихон везде расставил посты, почувствовал вдруг опаску, что атаман улизнет.
Из сарая на звуки выстрелов вышла лошадь. Серая кобыла мотала головой, хвостом, била копытом по мерзлой земле, шла к саням.
Атаману, возможно, пришла шальная мысль с разгону прыгнуть на кобылу и рвануться через ворота, если бы они были открыты.
Очень хотелось Столицыну взять «батьку» живым, но не видел он сейчас другого выхода, как только уничтожить беспощадного главаря шайки разбойников и убийц, иначе могли быть ненужные жертвы в отряде бойцов правопорядка — шакал озверело палил из маузера по всем во дворе.
— А, дип-пломат, — предводитель особо знал, кому мстить. Он вскинул свой отличный автоматический пистолет, чтобы выстрелить в «господина Беккера», но его опередил Тихон. Столицын на секунду раньше прицелился и послал пулю в мерзавца, уже закинувшего вторую ногу на верхушку забора.
Мишка Бьяк, он же Прокопович, вскрикнул, дернулся плечами, нагнулся, маузер выпал из рук, ударился о забор, полетел вниз. Участь «Серого волка» решилась. Он, покорчившись наверху, кулем рухнул обратно во двор, на им же утоптанный и окровавленный снег.

Тихон, Сидоров, Ванюшин и проворная, краснощекая Райка Кликина подбежала к атаману. Спина рубахи главаря набрякла кровью. Бойцы перевернули отяжелелого атамана навзничь. Сидоров ощупал тело злодея и, довольный результатами осмотра, сообщил:
— Готов, кровопиец. Туда ему дорога. Давно могила по волку тосковала.
— Все так. Да следовало бы судить подлеца публично, — ответил Тихон. На лице его и в движениях четко означилась усталость от многих тяжелых бессонных ночей.
Затихла стрельба и в доме. Двенадцать бандитов, последних сподвижников Бьяковского, связанными по рукам, выводили из хаты. Сама Кликина, рослая, видная баба, кандидатка в атаманши, тут же стояла, прижав руки к груди, и ждала своей участи. Но она не падала духом, на губах даже играла улыбка. Весь ее гордый вид говорил о том, что сделанное милицией дело было ей по нраву и с ее помощью.
— Иди, Раиса, домой. Следствие решит, как велика твоя вина. Из деревни никуда не отлучайся, об этом дашь подписку, — предупредил укрывательницу Бьяковского Тихон.
А молодая баба игриво задергала круглыми плечами под пуховым дорогим платком и слащавым голоском предупредила командира:
— Уж вы запомните, гражданин начальник, что я вам открыла двери. Иначе атаман бы вас укокошил. Так что, снисхождение поимейте, и защитой будьте. На вас моя надежда.
— Все зачтется, — ответил Тихон, — суд разберется, кто в чем виноватый и у кого какие заслуги.
Отряд бойцов начал выезжать из деревни. Столицын остановил своего буйного вороного коня на взгорье.
Пропали последние ночные тени. Яснее забрезжил рассвет. Растаял месяц. Над светлеющим горизонтом догорела последняя звезда.
Проявлялось после ночной завирухи морозное прозрачно-голубое небо. А потом в звонкой тишине, нарушаемой ржанием лошадей и похрустыванием снега под их копытами, из-за дальнего леса лениво показало бок оранжевое солнце.
Его холодные, яркие лучи спокойно как бы «погладили» макушки сосен, под которыми совсем недавно, зарывшись в засаде глубоко в снегу, лежал Тихон.
Затем лучи пробежали по верхушкам стогов сена на лугу, белым крышам крестьянских изб. И вот уже они золотыми брызгами заиграли на снежном покрывале взгорья. Вступал в свои права новый зимний день.
После метели, в затишье, хрустально-чистый воздух как будто дрожал, и виделось далеко-далеко.
Щурясь от искристых лучей утреннего зимнего солнца, командир отряда бойцов и милиции сотрудник Московского уголовного розыска Тихон Алексеевич Столицын последний раз окинул взором место, где пришел конец остаткам банды. Сверху, с взгорья, оно лежало как на ладони. Село просыпалось.
Хлопали двери деревенских изб, громко переговаривались крестьяне. Вот пошла молодая баба с младенцем на руках к запряженным саням. Кому-то крикнула по улице: «Захвати щепотку соли, возьми кожух да вертайся проворней, поедем крестить Прошку».
По заовражью с диким ржанием носились беспризорные кони, принадлежавшие плененным бандитам. Сами бьяковцы, мрачные, обросшие, все как один надежно связанные, были размещены на нескольких подводах.
Для Окска и всей губернии наступал ясный январский день молодого 1918 года без «серых волков» атамана Бьяковского-Прокоповича. Непривычно и смутно было на душе у Столицына: ну вот и закончилась операция «Дипломат». И он словно бы остался не у дел.
Но Тихон Алексеевич напрасно затосковал по работе. За сорок два года последующей службы в уголовном розыске на долю генерал-майора Столицына выпадет еще много испытаний. Все радости и невзгоды с ним будет делить его спутница жизни Зося Аркадьевна Столицына, сын и две дочери. Со своей супругой они часто будут вспоминать то романтическое знакомство в ресторане купца Слезкина.
Что же касается операции «Дипломат», то ее можно по праву отнести к одной из первых в истории рабоче-крестьянской милиции.
* * *
Увы, молодость — достоинство не абсолютное, а относительное. Но когда автор этого романа принес в квартиру Столицыным букет гвоздик, лица супругов, конечно же усталые и болезненные, разгладились от морщинок на некоторое время, засветились удальством.
Тихон Алексеевич, чтобы скрыть свое волнение, сбросил прожитые нелегкие годы, игриво стал русскую речь перемешивать с немецкой и французской.
Зося Аркадьевна, раздвигая плотные оконные шторы, бросила поощрительный взгляд на расшалившегося мужа:
— Ох, каким он представляет себя молодцом!
Затем хозяйка звенела чашками и блюдцами на кухне, а мне приятно было слушать ветерана, и перед взором вставала его юность, отвага, достоинство и честь.
Летят годы — написано в глазах стариков, а так недавно все проходило. Память хранит то биение сердец.
И вспомнилась восточная мудрость: юноша, заслужи себе имя, пока живы бывалые люди, родители.
1971—1984
ПОВЕСТИ
ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ

1
Ночь пленила поселок с названием Цавля. Его освещали редкие лампочки на столбах. Затихли полсотни песчаных улиц. Райцентру, окруженному знаменитым сосновым лесом, ничто не мешало отдыхать и упиваться хвойным ароматом.
Все спало в покое. Нарушали тишину лишь грохот локомотивов и тявканье разбуженных дворняжек. Но поезда через здешнюю станцию проходили нечасто, а на ленивый лай всполошившихся собак не стоило и обращать внимание. Молчали два заводика, деревообделочный комбинат, склады, базы. Дремали во мраке почта, магазины, кинотеатр…
Ярко светили лишь окна в дежурной комнате милиции. Там сейчас несут службу капитан Вершигородцев, сержант Кириллов, шофер Волвенкин (недавние посланцы райкома комсомола) и милиционер Горбачев. В эту короткую июньскую ночь они отвечают за порядок в поселке и районе.
Вершигородцев — старший оперуполномоченный уголовного розыска, а это, как говорят сотрудники, третье лицо в райотделе. После начальника и его заместителя. Ему очень часто приходится дежурить. Потому как штат районной милиции — меньше некуда.
Но дежурство Вершигородцеву совершенно не в тягость. Наверное, трудно найти в милиции человека, которому так же, как и Вершигородцеву, нравилось бы коротать ночи в «дежурке». Правда, он не теряет времени попусту в ожидании сигнала о происшествии и «подчищает» свои дела: анализирует результаты уголовного розыска, составляет планы, готовит выступления для населения.
Единственное, чему мешает дежурство, физзарядке, а он крепко привык к ней еще с фронтовых лет. Без нее весь день словно недомогает, и легкости той нет, и бодрости. И форма, которая всегда была привычной, годами обжитой, вдруг начинает казаться неудобной и тесной. В таких случаях он после работы идет к реке купаться. И при взгляде на его спокойное, вечно загорелое лицо трудно представить, что этот человек прошел все дороги минувшей войны, имеет четырнадцать боевых наград.
И только при очень близком знакомстве с Вершигородцевым понимаешь, откуда у него спокойные и сдержанные движения, неторопливая уверенная походка, тот особенный негромкий говор, в котором чувствуется и скрытая сила, и спокойная, непоколебимая убежденность: жизнь не баловала его, все время ветер бил в лицо, а он от этого только крепчал, закалялся, набирался рассудительности, житейской мудрости.
Любил капитан молодых сотрудников, свою смену. Сейчас он с удовольствием наблюдал за Кирилловым, который ходил взад-вперед по малюсенькой дежурке и по его, редактора стенгазеты, заданию сочинял в очередной номер стихи о милиционере. Сержант декламировал:
Имей наготове хорошее слово,
Будь благороден, внимателен, прост.
Неси свою службу усердно, толково.
Тогда только будет надежным твой пост.
Ночь уходила на запад. Поселок выплывал из мрака. Рассветало.
Вершигородцев разрешил было Кириллову и Волвенкину, еще не привыкшим за короткую службу в милиции бодрствовать всю ночь, два часа отдохнуть, но тут зазвонил телефон. Капитан поднял трубку и услышал стон и пыхтенье. Потом и оно пропало. Через телефонистку коммутатора удалось установить, что звонят со склада ОРСа местного леспромхоза.
Вершигородцев подтолкнул сержанта Кириллова к вешалке за фуражкой.
— Надо проверить, что там случилось.
2
Обшитый тесом склад ОРСа находился у самого парка, в километре от райотдела. Вершигородцев и Кириллов выбрали путь покороче. Шагов за пятнадцать от склада они увидели распластавшееся на ступеньке крыльца тело сторожа Леонтьева. Молодой Кириллов опешил от кошмарного зрелища, на лбу выступила испарина. Он сунул пальцы в пачку с папиросами, но подумал, что, наверное, в подобной ситуации нельзя курить, спрятал пачку в карман.
Вершигородцев тем временем нагнулся над несчастным стариком, приподнял его за плечи. Набрякли кровью рубашка и тужурка. Застывшие глаза погибшего уставились на шнур телефонной трубки, висевшей вдоль стены склада.

Капитан взял трубку и вызвал квартиру исполняющего обязанности начальника райотдела милиции майора Копылка. Ответила его жена, чрезмерно опекавшая мужа от неожиданных тревог. Расспросив подробно о случившемся, она пошла будить супруга.
— Что произошло? — спросонья голос у майора грубый.
— Убийство, Александр Иванович, вот такая штуковина.
Выслушав Вершигородцева, Копылок приказал:
— Осмотр произведите тщательный, с участием эксперта. Вызывайте следователя прокуратуры Петропавловского. Прокурору Мизинцеву сам сообщу.
Через несколько минут у склада собрались все, кому следует находиться при осмотре места происшествия. Понятые — двое мужчин — по указанию следователя Петропавловского поднимают, поворачивают труп старика. Навзрыд плачет жена покойного. Подошедшая заведующая складом пытается ее утешить. Наконец судебный эксперт, молодой врач районной больницы Игорь Васильевич Толстолыкин, посовещавшись с Петропавловским и Вершигородцевым, считают свою миссию выполненной. Труп грузят на машину и везут в морг.
Теперь Вершигородцев может заняться заведующей складом. Округлая, мягкая, она колобком катается вокруг склада.
— Окна целы, только дверь взломана.
— Вы считаете, Татьяна Григорьевна, взломать одну дверь — этого мало? — думая о чем-то своем, говорит старший оперуполномоченный. — Евгений Михайлович, — обращается Вершигородцев к следователю, — я готов приступить к осмотру склада. Что могли похитить преступники, Татьяна Григорьевна, прикиньте?
— Коробки нет с деньгами.
— Откуда у вас могут быть деньги? — спрашивает Петропавловский. Ожидает ответа и Вершигородцев.
— Я вчера три ковра продала по разрешению начальника ОРСа. Деньги не успела сдать в бухгалтерию. Пятьсот пятьдесят рублей.
— Кто об этом знал? О том, что продавали и что деньги оставили на ночь? — задает вопрос следователь.
— Продала своим работникам. О деньгах они могли знать.
Вершигородцев записывает фамилии покупателей. Потом вместе с сержантом Кирилловым помогает следователю осмотреть каждый стеллаж, каждую коробку и ящики. Нашли два новеньких железнодорожных билета на поезд, который прошел минут сорок назад в сторону Киева. Потом бросилась в глаза лежавшая на полу серенькая пуговица. Она была вырвана вместе с лоскутом синего цвета с белыми разводами.
— Не ваша? — спросил Павел Иванович у заведующей складом.
— Впервые вижу, — повертела перед глазами пуговицу кладовщица. — Кажись, никто в такой одежде ко мне не заходил. Это от рубашки. Модной, мужской.
И вот протокол осмотра подписан понятыми, заведующей складом. Даны необходимые указания в отношении сохранения тайны расследования и дальнейшей работы склада.
Следователь Петропавловский направляется доложить прокурору, затем надо присутствовать у Толстолыкина при вскрытии трупа. Вершигородцев и сержант Кириллов займутся опросом местных жителей.
— Что, страшно? — сочувственно посмотрел на неопытного помощника капитан. Сам-то он насмотрелся вдоволь на подобные вещи за тридцатилетнюю службу в милиции. И Кириллов, и Волвенкин, представители комсомола, ко всему еще должны привыкнуть. Их надо научить с твердым сердцем выполнять порой очень деликатные милицейские обязанности.
— Павел Иванович, у нас такие улики! Преступника, нам кажется, совсем нетрудно найти.
— Кажется, нетрудно, — с досадой и иронией повторяет капитан. — Давай рассуждать, где его искать? Учись распутывать клубки.
— Два железнодорожных билета — это кое-что! — оживленно говорит Георгий Кириллов.
— Бесспорно, — подтверждает старший оперуполномоченный, — дальше.
— Идемте на вокзал, в кассу. Кто-то их покупал. Если потерял, то после преступления новые купил и уехал. Передать по телеграфу, задержать поезд, — горячился сержант. — А потом… просто найти преступника — по одежде. Так, Георгий Николаевич?
— Точно.
— Мы обязательно пойдем на вокзал, непременно допросим кассира. Но, думается, в этих уликах есть какая-то заковырка. Больно наглядно они оставлены, нетрудно нам достались. Ну, да поживем — увидим.
Кириллов, увлеченный романтикой поиска, недоумевал, почему капитан все делает так медленно. Но каждая секунда этой медлительности оперативного уполномоченного наполнена напряженной умственной работой. Капитан успел подумать и о том, что из Кириллова выйдет неплохой работник. Цепкий, старательный, умный.
3
Они разбудили молодую хозяйку маленькой хатки в два окна Лидию Климову. Сонная женщина удивилась ранним гостям. Вершигородцев кивнул на склад:
— Обворовали ночью. Сторожа на тот свет отправили негодяи. Слыхала, небось, новости. Или крепко спишь?
— Мамочки, неужто? Впервые слышу. — Кулачок Климовой на груди сжался до хруста.
— Пустишь в дом или на крыльце нам стоять? — упрекнул замешкавшуюся хозяйку дома Вершигородцев.
— Проходите, проходите, — спохватилась Климова. — А я как ошпаренная.
— Жалуются на тебя, Лидия, с соседнего завода молодухи. На мужей их часто виды имеешь. В эту ночь к тебе никто не заглядывал?
— Побойтесь бога, Павел Иванович. Людской суд не всегда справедлив.
— На этот раз аккурат справедлив. Видал, уже окно открыто. Тебе-то некогда было его открывать. Перед тем, как к тебе постучать, я обходил вокруг дома, окна видел закрытыми. Кто ночевал? Лидия, не время скрытничать!
Хозяйка заморгала и, когда глаза наполнились слезами, призналась, что был у нее вернувшийся из армии Станислав Крапивников.
— А ведь он собирался к нам, в милицию, поступать, — покачал головой оперуполномоченный. — Не возьмешь шалопая. Значит, спала, ничего не знаешь?
— Нет, голубчик, ничего. Легла часов в одиннадцать, и вот вы разбудили.
Капитан вышел из домика. За ним последовал Кириллов. А вот и сам длинноногий Крапивников. Делает невинные глаза, вежливо здоровается.
— Стаська, Стаська, без тебя забот хватает. Угораздило же тебя! Отца встречу, непременно расскажу. Это — первое. А второе — тебя надо допрашивать по всем статьям. Когда пришел к «невесте»?
Крапивников растерянно заморгал, с трудом проглотил слюну.
— Часа в два ночи.
— Сторожа видел?
— Ходил вокруг склада. Я поздоровался с ним. Он же моему отцу приятель.
— Добавляй теперь «был». Убили старика. Ты его видел в два, а уже в три он хрипел в телефонную трубку. В милицию звонил.
— Как же так? Надо найти бандюгу.
— Искать будем, а ты подтяни дисциплину, по ночам не блуди. Зайди к следователю через пару часов. Допросит.
Кое-кто в отделе считал, что капитан любит читать мораль, а некоторые даже сделали вывод, что Вершигородцев черствый службист. Но такое мнение легко опровергалось друзьями капитана. Работа в милиции сделала капитана обостренно чутким к чужой беде, заботливым, внимательным и требовательным к людям. Начальник райотдела Михаил Иванович Парамонов не раз повторял своему заместителю Копылку, который одно время недолюбливал Вершигородцева, неизвестно почему:
— Ты учти: совесть у Вершигородцева чистейшая. До твоего прихода к нам я ни одного решения не принимал, не услышав мнения старшего оперуполномоченного. Советую и тебе придерживаться такого правила.
Копылок очень скоро понял свою ошибку. Понял, что работает тот, хотя и не спеша, но верно, с холодной головой и чистыми руками. И при всем этом под его капитанским мундиром бьется горячее сердце. Заместитель начальника подружился со старшим оперуполномоченным.
4
От Климовой Вершигородцев и Кириллов зашли в соседний дом. Капитан знал всех жителей поселка, за малым исключением. Вот на порог вышла его старая знакомая — престарелая Лукерья Спирова. Капитан к ней очень уважительно относился. Когда-то на месте ее хаты хотели построить какое-то районное учреждение, а домишко Спировой снести, но по ходатайству военкомата и отдела милиции в райисполкоме решили не трогать с насиженного места старую женщину, потерявшую на войне двух сыновей. К тому же ее муж был первым начальником районной милиции и вскоре после Октябрьской революции погиб от рук бандитов.
— Страдаю бессонницей, — поздоровавшись, сообщила старушка, — а вот, соколики, ничего не знаю про ваше дело.
Вершигородцев распрощался со Спировой и направился в дом старого учителя Власова. Там есть невесты, а значит, могут быть поздние возвращения с гуляний.
Григорий Семенович, узнав о беде, разбудил всех домочадцев. Одна из дочерей — Настя — очень не хотела признаваться отцу, что она вернулась со свидания утром. Но наконец сказала, что видела мужчину, который шел огородами со стороны вокзала к складу. Она посмотрела на часы: было двадцать минут третьего.
— Что за мужчина? — поинтересовался капитан.
— Этого сказать не могу, темно было. Но грузный и пьяный. Спотыкался.
Вокзал был рядом: двести-триста метров по путям. Капитан отметил в блокноте, что необходимо допросить парня, провожавшего девушку.
А сержант Кириллов помогал капитану, но и сочинял обещанные для стенгазеты стихи. Возбуждение, вызванное первым удачным, на его взгляд, четверостишием, не проходило. На вдохновении и азарте у него появились еще четыре стиха, которые он немедленно прочитал старшему оперуполномоченному Павлу Ивановичу Вершигородцеву:
Свой долг выполняй, как диктует присяга,
Тебе доверяется труд непростой.
Ты клятву давал, преклоненно у стяга:
И верой, и правдой за дело постой.
5
Десять минут по шпалам и вот — нешумный вокзальчик. Начальник линейного пункта старший лейтенант милиции Зимундинов уже был здесь. Широкое темное лицо его от неприятной новости еще больше потемнело. Небольшие карие острые глаза его пылали гневом. Он вызвал кассира, молодую девушку. Та отрекомендовалась капитану:
— Мануйлова, работаю с ноль-ноль часов. Что-нибудь случилось?
Раскосые, монгольского типа глаза ее ожидающе смотрят на работников милиции. Допрашивал ее Вершигородцев.
— Пассажиров много было на киевский?
— Нет, человек пять.
— Поезд не запаздывал?
— Вовремя пришел. В три двадцать.
— Пассажиры по многу билетов брали?
— Все по одному. Один парень — два.
— Не помнишь его в лицо?
— Как еще помню. Женька Коровин, муж моей бывшей одноклассницы Анны Витюгиной. Спросила его: «Супругу куда увозишь — два билета берешь?» А он ответил: «Много будешь знать, зубы заболят».
— Ко-ро-вин! — привстал из-за столаВершигородцев и полез рукой под китель растирать левую сторону груди. — Ко-ро-вин! Как был одет?
— Рубашка синяя, белыми полосами. По-моему, пьяненький…
— Ну и задача, — протянул в раздумье Вершигородцев. — Это же мой подопечный. Сколько же мы ему добра сделали!
— Судимый? — спросил Зимундинов.
— Оттуда! Год с ним занимался. Специальность получил. Ударник, портрет на заводской Доске почета. Женился. Ведь исправился парень. Радовался за него, как за сына. Не может быть, чтобы он. Черт знает, что такое! Пошли-ка, Георгий, зайдем в буфет.
— Я с вами, — встал Зимундинов.
6
Все трое вышли на перрон. Редкие пассажиры раскланивались с работниками милиции. В поселке все знали друг друга. Подошла утренняя электричка. Вокзал на несколько минут заполнился людьми. С трудом прошли через маленький зал ожидания в буфет.
Буфетчица Волошина только заступила в дневную смену и ничем не могла помочь. Ночью работала Канаева. Придет она только вечером. Вершигородцев взял на всякий случай ее домашний адрес.
И вдруг Павел Иванович почувствовал тяжесть своей работы. Легче забивать сваи. По крайней мере, там не связан с людскими душами. Попробуй, разберись в них! Мог ли совершить такое кошмарное преступление двадцатидвухлетний Женька Коровин, которого уже и с учета-то снял капитан. С особенного учета старшего оперуполномоченного угрозыска. На котором стоят прибывшие в поселок после отбытия наказания десятка полтора мужчин. В этих списках еще в прошлом месяце числился и Коровин. Да теперь вычеркнут так, что капитан в том деле, где стояла его фамилия, карандашом порвал бумагу. Он был уверен в парне на все сто процентов. Так почему же улики на складе ведут к Коровину?
К десяти утра жаркое июньское солнце уже сильно палило. Было пыльно и душно. Вершигородцев пошел домой завтракать. У порога его встретила жена и озабоченно спросила:
— Это правда? Про убийство сторожа? А, Паша?
— Правда, Лена. Дай перекусить. Надо идти в райотдел.
— Некого же подозревают?
— Не поверишь, Коровина!
— Что?! — Елена Тихоновна учила Евгения Коровина в десятом классе вечерней школы. — Не верю!
— Я тоже, а доказательства, как по заказу, в полном букете против нашего подопечного.
— Паша, разберись, прошу. Что-то не то. Он перешел в десятый класс с одними пятерками.
— Можешь, Ленок, добавить: на заводе он выполняет план на двести процентов. Принят в комсомол в мае, на собраниях сидит в президиумах. Но неужели он нас всех водит за нос? — рассуждал вслух Павел Иванович.
— Нет, нет, нет. — Такой взволнованной Павел Иванович что-то не помнил свою жену. Он внимательно и благодарно посмотрел Елене Тихоновне в глаза.
— Подай, пожалуйста, полотенце.
Измученное бессонной ночью лицо капитана сейчас понемногу отходило. Вершигородцеву всегда становилось спокойно на душе, если рядом была жена. Она уважительно относилась к людям, глубоко переживала неприятности мужа по службе.
Павел Иванович выпил два стакана крепкого чая, переоделся в штатский костюм и заторопился на работу, пообещав жене вовремя прийти на обед.
7
Увидев Вершигородцева, старший оперуполномоченный ОБХСС капитан Горелов сказал, чтобы он шел к майору Копылку. Вершигородцев прошел в конец коридора и открыл дверь.
— Разрешите, товарищ майор?
— Проходите, проходите, рассказывайте!
Майор напряженно слушал старшего оперуполномоченного уголовного розыска, постукивал пальцами по стеклу стола. Наконец, явно с тяжелым сердцем подвел итог:
— Удобно ли вам дальше помогать следователю расследовать дело? Ведь замешан Коровин! В поселке знают вашу роль в судьбе парня. Для большей объективности собранные сведения передайте Горелову. Тем более, кладовщица незаконно продавала ковры. Это по его линии. Думаю, так будет верней.
Майор встал из-за стола. Удрученный убийством, он, казалось, еще более похудел. Одна, как говорят, кожа да кости. Как руководитель райотдела, он не мог не предупредить Вершигородцева, что если установят виновность Коровина, старшего оперуполномоченного ждут неприятности по службе: коль взялся за перевоспитание в прошлом судимого, то отвечаешь за его поступки.
Понимал это и сам Вершигородцев. Он вышел из кабинета майора задумчивый. Пенсия! В ближайшее утро проснется и поймет, что не надо спешить на работу. Останется только вспоминать и рассказывать внукам, сколько раз рисковал жизнью, выполняя служебный долг. Вот, к примеру, такой случай. Как-то из-под стражи бежал опасный преступник Коваль. Семья его жила под Цавлей, в селе Бузина. Вскоре стало известно, что бандит дома. Ночью оперативная группа, возглавляемая Вершигородцевым, оцепила жилище преступника. Закрыли ему все пути отхода… По разработанному плану начали приближаться к хате. И тут из нее пальнули из ружья… Заплакали дети. Коваль, прячась за их спинами, прицеливался в работников милиции. Оставалось одно: рисковать.
— Может быть, ворвемся? — предложил кто-то из сотрудников Вершигородцеву.
— Дорогой ценой обойдется бандит, — ответил оперуполномоченный. — Сделаем так: отвлекайте Коваля, а я подползу поближе.
Так и сделали. Павел Иванович неожиданно вырос перед преступником, крикнул:
— Бросай оружие, стрелять буду!
Бандит на секунду растерялся. Этим воспользовался капитан, придавил к подоконнику Коваля. Тот успел лишь ранить оперуполномоченного.
Вершигородцев тогда получил именные часы от министра. Ну, да все это теперь не утешало. Перед глазами стоял Женька Коровин. Его открытое, чуть тронутое загаром лицо, доверчивые глаза. Оперуполномоченный, ему поверив, сказал:
— Итак, Женя, послушай внимательно. Однажды мальчик зажал в руке птицу и обратился к мудрецу: «Скажи, живая у меня птица?» Сам, хитрец, подумал: «Если старик скажет, что живая, то я сожму кулак и раздавлю ее. Если скажет, что мертвая, то я раскрою ладонь, и птица вылетит». Но мудрец сказал: «Как ты захочешь». Вот так же и я тебе, Евгений, отвечу: «На работу помогу устроиться, места в общежитии добьемся, помогать, как сыну, во всех делах буду. В остальном — как сам захочешь».
Евгений к сердцу близко принял теплые напутствия капитана и пообещал:
— Вы не пожалеете, что с доверием отнеслись ко мне. Когда смою все грехи, уеду на родину, в Донбасс.
— Нет уж, тогда мы тебя не отпустим. Хорошие люди в Цавле нужны.
На заботу капитана Евгений отвечал искренним желанием исправиться. Павел Иванович много раз бывал в цехе, где работал Коровин, говорил с людьми, которые окружали парня. Приглашал к себе домой, смастерил с ним отличную лодку. А потом гулял на его свадьбе. Но не с легким сердцем он шел туда. Анна Витюгина, ставшая женой Женьки, не очень-то нравилась капитану: ветреная, несерьезная. Но ни одним словом не обмолвились на этот счет Павел Иванович и его жена Елена Тихоновна с Коровиным, потому что видели: крепко любит Женя свою Аннушку.
8
— Коровин исчез, ты знаешь об этом? — спросил Вершигородцева Горелов.
— Как так?
— Ночью сел на поезд и тю-тю. Вот такие-то пироги. Давай мне материалы на него, а сам сходи к Анне Витюгиной. Поговори на правах старого знакомого, что ли… Мне она чепуху молола.
— Возьми материалы. Но запомни, они не на Коровина, а по факту убийства сторожа. У следователя прокуратуры возбуждено уголовное дело только по факту преступления, но не на Коровина.
— Извини, я оговорился. Сам считаю, что тут какое-то недоразумение. Ну, успеха тебе в разговоре с Анной. Зла, как бес. Подступиться не мог. Кричит: «Милиция меня женила на преступнике».
Решая по дороге сложную задачу, связанную с убийством сторожа, а заодно и с Коровиным, старший оперуполномоченный уголовного розыска не заметил, как за нелегкими мыслями постучал в дверь.
— Заходите, заходите, Павел Иванович, — забасила мужским прокуренным голосом мать Анны Степанида Пантелеймоновна Витюгина. — Легки, как говорится, на помине.
— Здравствуйте, хозяева. Я, собственно, больше к Анне. Дома?
— Отдохнуть после обеда прилегла. Разбужу.
Вершигородцев огляделся. Месяца два он не был в этой квартире. Появилась дорогая мебель, ковровые дорожки. Капитан слышал, как за перегородкой шептались мать с дочерью. Степанида Пантелеймоновна, видно, уговаривала Анну поговорить с капитаном.
Старшая Витюгина наконец появилась.
— Одевается. Присядьте.
— Заработок велик у Евгения? — спросил у моложавой родительницы капитан.
— В дела молодых не вникаю. Что получают — все их. Анна на заводе свою и его получку получала заодно. Какой прохвост выродился, Павел Иванович. Что ж теперь Анне делать? Имущество наше не конфискуют? К нему бандит никакого отношения не имеет, учтите!
Вершигородцев покачал головой, но не произнес ни слова.
В дверном проеме показалась Анна в цветном халате. Кукольное личико ее выражало нежелание вести разговор с сотрудником милиции.
— Привет, — произнесла Анна, словно сделала одолжение. — Что скажете?
Мать с состраданием смотрела на дочь и ломала себе руки:
— Угораздило же тебя, моя милая девочка. Погубила жизнь молодую…
— Пришли? — переспросила неуважительно жена Коровина.
— Не знаю, как и начать. Посмотрел на вас — уйти хочется.
— Не задерживаем, — распалилась Анна.
Мать ее причитала:
— На колоде бабы только и галдят про убийство. Говорят, люди видели, как Женька на сторожа напал.
— Кто видел? — спокойно спросил Вершигородцев. — Назовите, кто видел?
— А что это вы за него заступаетесь? Ишь, «батя»! — Иногда Женька называл так капитана.
— Ну ладно, один вопрос. Когда Евгений пришел вчера с работы?
— Темнеть стало. Часов в десять, может, одиннадцать. Переоделся и ушел из дому.
— И тебе ничего не сказал?
— Меня не было дома. К подруге ходила. Мама, дай закурить.
Мать и дочь курили.
— Рано, рано… — не спеша произнес Вершигородцев.
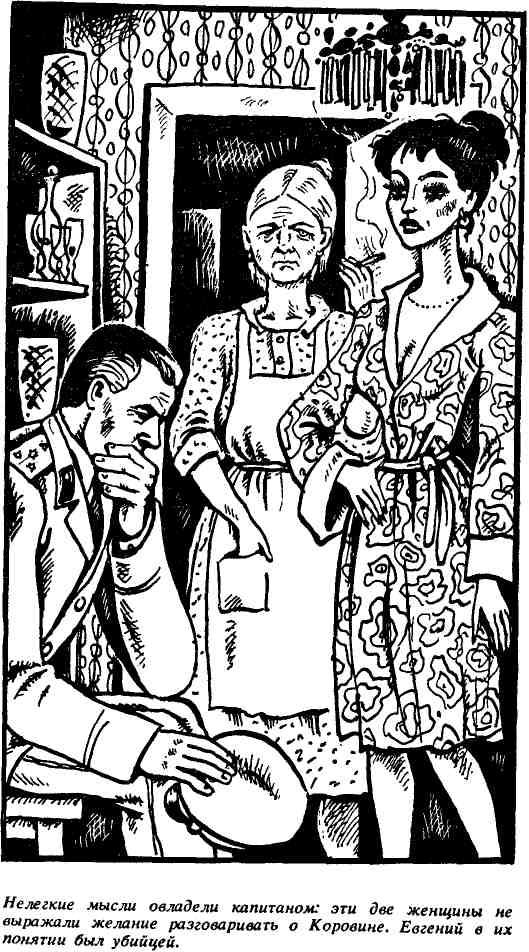
— Не говорите загадками. Что рано?
— Из дому убегаешь. Месяца три как поженились, — холодно сказал оперуполномоченный и встретился взглядом с колкими и упрямыми глазами молодой женщины. — Вы его к матери, в Донбасс, за три месяца хоть разок отправили? Нет! А тебе и самой не грех было бы познакомиться с мамашей супруга.
— Мне там нечего делать.
— Ее бы к себе пригласили.
— Была нужда. Выродила убийцу, а мы на нее будем любоваться. И потом, что вы нас пришли обвинять? При чем тут мы? Где он, мы не знаем. Находите и судите. Нас не трогайте.
Вершигородцев вдруг увидел в окно бывшего одноклассника дочери, курсанта военного училища Игоря Власенко. Он стоял у калитки двора Витюгиных.
— У, какой сюрприз. К тебе? — спросил Павел Иванович у Анны. — Новый кавалер?! Конечно, зачем тебе дожидаться с работы мужа… Вчера с ним была?
— У вас не спросила.
— Зови в квартиру жениха. — Капитан открыл окно и крикнул:
— Игорь, заходи!
Глаза Анны сверкнули:
— Не командуйте.
— Нет уж, все выясним. — А когда вошел Власенко, капитан сказал:
— Тебе что, девчат мало? Анна — замужняя женщина!
Власенко растерялся. Поднял плечи.
— Она другое говорила. А девчат хватает.
— Да у самого сыщика три девки. Иди, выбирай любую, — крикнула Анна.
Старший оперуполномоченный взял за локоть Власенко и показал глазами на дверь. Оба вышли на улицу.
— Врала она мне, товарищ капитан. Говорила, что не замужем. Я-то ее знаю еще по школе, мы в десятом классе с ней встречались. А вчера в парке до часу ночи с ней гуляли. Какой-то парень искал ее вечером. Говорила, что не может от него отвязаться. Заставляла меня прятаться за деревьями.
— Скорее всего, это был ее муж, Коровин. Пришел с работы домой в одиннадцать. Помылся, перекусил. Анны нет. Переоделся, пошел искать. Да, дела… Было бы все ничего, да этой ночью сторожа убили. А тут сам Коровин как сквозь землю провалился. Ну, ладно, будь здоров, Игорь. От Витюгиной держись подальше, советую.
— Все, отрубил. Я же не знал… Ну и артистка!.. Неужели этот Коровин замешан в убийстве?
— Поживем — увидим. Всего доброго, Игорь. Отдыхай. Отпуск долгий?
— Месяц. Недели уже нет. До свиданья, товарищ капитан!
9
Находился Вершигородцев с раннего утра. Ноги гудели. Но, оказавшись в парке, зеленом уголке Цавли, он решил пройти его из конца в конец. Отдохнуть, подумать. По пути разбудил незнакомого мужчину, спавшего на траве. Проверил документы. Сделал нужную пометку в разбухшем от записей блокноте и не спеша подошел к пригорку. Здесь кончался парк. Чуть дальше серпом вытянулся песчаный берег реки. От воды отслаивался редкий туман, сизый, как дымок от папиросы.
«Куда теперь пойдем, товарищ капитан? — мысленно спросил себя старший оперуполномоченный. — Заглянем к новому подшефному Хайкину. Не наделал бы этот бед».
Вершигородцев покинул парк, вышел на улицу Калинина, свернул в Лесной переулок, в дом Николая Хайкина, трижды судимого за хулиганство и кражи. Полгода как прибыл тот в поселок и женился на женщине-одиночке с кучей детей.
— День вам добрый, труженики. Все дома? — спросил капитан, переступив порог. Его сразу же окружили сопливые ребятишки. Он дал им по конфете. Жена Николая, худенькая, но боевая женщина, насторожилась:
— Николай чего натворил?
Ее мать, старушка доброго нрава, сразу Павлу Ивановичу кружку квасу:
— Отведай, сынок, поспел к твоему приходу.
— Выпью, бабуся, жажда мучает. А с Николаем все в порядке, Надежда Марковна. Где он сам?
— Да вон, окаянный, — показала ухватом в окно молодая женщина, — с четырех идет на завод. Во вторую смену. Ну, что тебе? — крикнула Надежда Марковна в окно мужу.
— Сгони кур, огурцы пожрали, — ответил через форточку Николай и, увидев капитана, воскликнул: — Милиция в доме! Почтение Павлу Ивановичу. Так что, Надь, с курами делать?
— Спрячь ты их себе за пазуху, непутевый. Шугни с огорода, видишь, к тебе человек пришел. Так как, Павел Иванович, ни в чем этот баламут не замешан? А то я его враз…
Вошел Николай. Высокий — жердина. Худой, как стручок, с иронией произнес:
— Мое вам с кисточкой, гражданин капитан. Чем обязан?
— Сети что сушишь? За рыбой собрался?
— Век бы ее не видел.
— Смотри за ним, Надежда. От рыбоохраны есть сигналы.
Надежда закипятилась:
— Поменьше верьте. Надзор-то рыбный сам рыбку глушит, а потом продает — рубль кило.
— Проверю. А ноги Николая чтоб там не было. Что у тебя такой вид? — показал капитан на засученные штанины.
— Вот кого спросите. В прошлом месяце сто семьдесят принес, а костюма не выклянчу… Правда, гражданин капитан, ночью убийство было?
— Правда. Не поможешь? Дружки как? Семен Бурлов, Михайлов, «Атаман»?
— Давно с ними не виделся. Знаю, усердно вы их заставили трудиться. Так, говорят, Коровин, зять Витюгиных?
— Болтовня, — ответил капитан.
Поговорив еще немного, сотрудник милиции раскланялся с женщинами, погрозил на всякий случай пальцем подопечному:
— Я лично за тебя в ответе, не забыл? Не ершись на заводе. Слышал, с мастером пререкаешься, хвалишься жаргончиком. Прекрати!
— Можете всюду за меня ручаться. — Помолчал, ехидно добавил: — Как за Женьку Коровушкина, то бишь Коровина.
— Ну, замолкни! — Надежда шлепнула мужа ладонью по лбу.
— Может, в шахматы сыграем, гражданин начальник? Уже с месяц не с кем играть. Редко заходите. Расставлять?
— А на работу?
— Успею.
— Расставляй, отвлечемся.
Николай сделал первый ход, посмотрел, далеко ли женщины, и шепотом сказал:
— Хотите новость?
— За тем и пришел. Выкладывай!
— К вашему Женьке дружки завернули. Вчера на вокзале пьянствовали.
— Сам видел?
— Мужики говорили. Ходили вечером пиво пить в буфет. Всю компанию разглядели. Человек восемь за столом сидело. Освободились. Видимо, переписывался с ними Коровушка.
— Озадачил ты меня, брат. И все-таки Коровин тут ни при чем.
Сыграв партию, оба вышли из дома. Вершигородцев проводил Николая по улице до поворота на завод. Услышал от него:
— Дело говорю, оперуполномоченный. Коровушка с приятелями рубанул старика. И рванул когти. Не промахнись в этом случае. Не настырничай. За нашего брата, судимого, не ручайся. Потеряешь голову.
А Вершигородцев стоял на своем:
— За Коровина уверен, как за себя. А за Хайкина Николая Трофимовича поручусь через год. Иди трудись и не заедайся с мастерами. А то будешь ящики таскать в тарном складе.
— Лады, учтем. А вы, Павел Иванович, не мешкайте, идите на вокзал. С четырех заступает буфетчица Канаева. Опишет картину в деталях.
10
«Дружки? Какие приятели, когда вчера в одиннадцать вечера он ужинал дома. Пошел искать Анну, — доказывал сам себе капитан по пути на вокзал. — А, впрочем, стой, буфет работает до двух ночи. Коровин вполне мог зайти и со зла выпить. Мог и Анну искать». Толстушка Канаева виновато оправдывалась перед старшим оперуполномоченным:
— С пьяными шутки плохи. А их двое. Один стройный, блондин, может, это и есть Коровин, не знаю, второй, как бык, сутулый, лет сорока, а то и пятидесяти, в сером замазанном костюме. Соляркой от него несло. Зато денег полный карман. Шиковал. Коньяку две бутылки взял. И молодому внушал про вас, Павел Иванович: мол, не верь ему, в душу влезет, чин на тебе заработает, а потом все преступления за твой счет будет списывать, пока на десяток лет не упрячет по старой прописке. Это я дословно помню. Соседний столик вытирала. Даже задержалась. Очень удивилась.
— Кто же такой? — вырвалось у капитана.
— Не могу сказать. Но он вас знает. И я поняла так, что вы его посадили, «срок намотали», так он выразился. Не прощу, дескать ему. До двух ночи, до самого закрытия все балабонил. Горло луженое, все бу-бу-бу. А потом ушли. Может, мне надо было в милицию сообщить, товарищ начальник? Но ведь пьют же все. На то и буфет. А тут еще и коньяк покупают. Опять же выручка. План тянуть мне. Нет, я не о том, знай я, что тут пахнет таким преступлением, я бы ни на что не посмотрела, прямо в органы звонила… Но, скажу прямо, я этого здоровяка сторонилась. Он как зыркнет красными глазищами на меня, аж дрожь по спине.
Разговорчивая Канаева не умолкала. Описывала в подробностях одежду поздних «гостей», вспоминала «досконально» их беседу, потому как заинтересовалась ею. Потом, в полтретьего ночи, проходя через зал ожидания, она видела стройного блондина, в синей с белыми полосками рубашке. Другого с ним не было.
Вдруг женщина замолчала. Внимательно посмотрела в утомленное постаревшее лицо старшего оперуполномоченного уголовного розыска и предложила:
— Гуляш или поджарку? Вы еще с утра ничего не ели… Угадала?
— Час назад две кружки квасу выпил.
— Миленький, садитесь за стол, я мигом.
— Баловать меня не надо, Раиса Александровна. Пойду домой: получать взбучку за пропуск обеда. — Вершигородцев попрощался.
— Да, вот еще, — вслед капитану крикнула толстушка-буфетчица, — рыжий второй был. Щетина так и выпирала на груди из-под рубахи, аж завивалась на воротник. Шея — во! — Канаева растопырила пальцы и свела их в незамкнутый круг. — Что каток тебе суковатый. Жилами опутана, как веревкой или канатом.
11
Часам к семи вечера Павел Иванович попал домой. Во дворе разделся до пояса, налил ведро воды и как следует освежился: день был душный, жаркий. Небо нахмурилось. Завихрил перед глазами ветерок. Небольшой сад вокруг дома зашумел листвой. Еще несколько минут, и ударила гроза. Небо вспыхнуло синим цветом. Дождь быстро усиливался.
Вершигородцев встал под навес, не надевая рубашки. Вышедшая из квартиры жена сердито приказала:
— Сейчас же оденься. Ей-богу, как маленький. Простудишься, потом нянчись с тобой. Где задержался?
— Так вот, мать, — начал капитан, — все доказательства ведут к нашему с тобой подопечному, Коровину.
— Косвенные?
— У, Ленок, ты просто юрист на все сто. Да, косвенные улики. Но их много. И еще есть одна. Про нее пока только я знаю. Вернее, только я вспомнил. По прибытии из заключения в Цавлю Коровин месяц работал на складе ОРСа грузчиком. Расположение внутри отлично знал.
— И что? Ну и что?
— Нет, нет, ты ничего не подумай. Я по-прежнему за Женьку. Но нагромоздились на его голову крючки и зацепочки.
— Тяжело вот тут. Да? — Жена показала рукой на левую часть груди мужа. — Крепись, друг.
— Креплюсь. Завтра в управление вызывают — доложить о событии нынешней ночи.
Гроза кончилась. Дождь утих. Воздух посвежел, наполнился запахами вымытой земли. Небо очистилось, посветлело.
Наутро Вершигородцев подготовил необходимые документы по делу об убийстве. Заодно взял в райотделе материалы по взлому пасеки. В краже меда подозревался шофер колхоза «Рассвет» Шаршнов. Лет семь назад он попал за решетку: покушался на жизнь одной женщины. С год как вернулся из мест заключения. Пьянствовал, не прекращая. А на что?
Шаршнов всегда был подозрителен Вершигородцеву. Но и капитан не пользовался особой любовью вернувшегося из заключения колхозника. Попросту сказать, ненавидел старшего оперуполномоченного Шаршнов. Шесть лет, проведенных в тюрьме, считал на совести Вершигородцева. И даже вроде хвалился приятелям, что рассчитается с усердным блюстителем порядка. Ну да Вершигородцев на эти угрозы мало обращал внимания и решил очень внимательно проверить Шаршнова на причастность к «посещению» пасеки.
12
Ровно в девять утра начальник уголовного розыска областного управления внутренних дел подполковник Розодоев слушал отчет капитана Вершигородцева. Слушал и по привычке теребил мочку своего уха: признак того, что он озадачен. Но окончательного решения не принимал: происшествиями в Цавле занялся сам начальник управления генерал Евстигнеев.
— Часов до двенадцати погуляй по городу. Давно был в краеведческом музее? Есть время сходить. А перед обедом зайдем к начальнику управления. Доложим.
Зазвонил телефон. Розодоев поднял трубку и услышал голос дежурного по управлению. «Товарищ подполковник, женщина еще одна пришла. Заявляет об ограблении ее ночью. Будете сами с ней разговаривать?».
— Да, обязательно. Значит, третье за неделю ограбление. Ну и дела.
Розодоев положил трубку на рычаг телефона и глубоко вздохнул:
— Понял? Третью ночь подряд. Самые настоящие разбойники завелись. Был бы ты, Павел Иванович, посвободнее, включил бы тебя в опергруппу. С ног сбиваемся и без толку. По всему видно — «гости» заглянули к нам. Наделают нам бед и улетят. Ищи ветра в поле. Ну, ладно, отдыхай до двенадцати часов. Всего доброго.
«Забот тут и без меня хватает», — невесело подумал капитан, выходя из кабинета начальника уголовного розыска. Он еще раз посмотрел на часы. Действительно, времени оставалось достаточно для прогулки.
Когда Вершигородцев шел в управление, ему казалось, что там все только и думают, что о происшествии в Цавле. Однако вскоре он почувствовал: то, что для него стало центром жизни, для сотрудников УВД это лишь периферийная точка в их каждодневной работе. Они беседовали с ним, сочувствовали, пожимали руку и желали успеха. И тогда к Вершигородцеву пришла уверенность, что бояться начальника управления нечего, вызван капитан для обычной беседы, на все вопросы Павел Иванович даст исчерпывающие ответы.
Для него, военного человека, УВД было крепостью. Бастионы — райотделы. А он, оперуполномоченный — редут. Он всегда относился очень уважительно к этой сложной машине, призванной обеспечить охрану общественного порядка.
Итак, до беседы оставалось время, и капитан пошел по своим делам. Свернул к спортивному магазину присмотреть старшей дочери кроссовки или хотя бы кеды. Не найдя ничего подходящего, зашел в несколько торговых заведений и, наконец, оказался в большом гастрономе. Молоденькие кассирши без передышки стучали по клавишам своих аппаратов, принимали деньги и выбрасывали на тарелку чеки. И вдруг капитан заметил парнишку лет четырнадцати, который стоял около безлюдного прилавка с дорогими винами и засовывал в карман две бутылки коньяка. Справившись с этим делом, малец вытащил из нагрудного кармана двадцатипятирублевку и спрятал ее в носок.
Удивился и возмутился капитан. Во-первых, продают спиртное несовершеннолетним, а, во-вторых, кому понес? С кем собирается пить? Чьи деньги? Как ловко спрятал купюру. Да какую! Познакомиться бы с его родителями.
А малец тем временем пулей выскочил из гастронома, на ходу поправляя комочек ценной бумажки, спрятанной в носке. Вершигородцеву большого труда стоило не выпускать сорванца из виду на шумной многолюдной улице. Тот с чрезвычайной легкостью нырял между людьми. Старший оперуполномоченный имел привычку сердиться на себя, если вдруг у него пропадало желание доводить начатое дело до конца. Вот и сейчас ему показалось, что он нашел себе пустое занятие. Что за польза бегать по переулкам за озорным мальчонкой? Много ли удовольствия от того, что он остановит безобразника и сделает ему внушение? Но капитан тут же подумал о родителях сорванца, которые, небось, и не знают о проделках сына. Значит, непременно их надо повидать. «Нет, уж, доведу дело до конца», — твердо решил капитан, рассматривая в тугом людском потоке вихрастую мальчишечью голову.
Парнишка добежал до высокого забора, пригнулся и нырнул в дыру. Дальше была новостройка. Он скороходью несся куда-то на край города. «Понаблюдаю, понаблюдаю, с меня не убудет, — точно сам себя уговаривал капитан, — да потом доложу подполковнику Розодоеву подробности. Ах, шляпа, снова упустил… Нет, вот вынырнул».
Наконец мальчишка подошел к бревенчатой хатке, уцелевшей среди трех- и пятиэтажных домов. Хлопец бесцеремонно постучался в одно из двух окон домика. Дверь приоткрылась, и на крыльцо вышел коренастый бритоголовый человек.
— За смертью тебя посылать, — недовольно буркнул тот, — так и опоздать с тобой недолго!
Дверь закрылась. Лязгнула щеколда. Малец вместе с мужчиной скрылся за дверью. Раздумывая, как лучше поступить, Вершигородцев встал за куст сирени. Надо, надо познакомиться с родителями бойкого сорванца. Мужчина, встретивший пацана, был явно пьян, и это насторожило капитана. Милицейское чутье подсказало — не спешить. Оперуполномоченный незаметно приблизился к окну, в которое только что стучал парнишка. Оно было неплотно занавешено, и в небольшую щель он увидел компанию за столом.
Двое мужчин, женщина, тот самый паренек, — он уже по-взрослому сидел за столом и держал рюмку. Все четверо выпили. Бритоголовый мужчина развалился на стуле, что-то проговорил, махнул рукой. Он был приземистый, с большой головой и отвисшей нижней губой.
Второй, повыше ростом, худой, остроносый, с гладко зачесанными волосами. Выпив, оба стали раскланиваться с женщиной. Большеголовый обнял ее за плечи, притянул к себе и что-то стал говорить на ухо, потом поцеловал в щеку.
Женщина все время поворачивалась к окну то спиной, то в профиль. Вершигородцев с досадой щурился: рассмотреть он ее не мог. Вот женщина вышла в другую комнату. Принесла картонную коробку. Бритоголовый запустил в нее руку и извлек что-то увесистое, похоже, пистолет. Сунул предмет в боковой карман. Заговорил с напарником. Потом, нагнувшись, что-то сказал пацану, потрепал его слегка за вихры.
13
Вершигородцев стал соображать, что же ему теперь делать? Не было сомнений у капитана: он имеет дело с вооруженными преступниками.
Капитан выбежал из засады и осмотрелся. Нужен телефон. Следовало немедленно позвонить дежурному по управлению, можно Розодоеву или его заместителю Балашову. В это время послышался шум мотора подпрыгивающего на ухабах автомобиля.
К хате подкатила «Волга» с шашечками на боках. Такси. Шофер поближе подъехал к домику и подал два коротких сигнала, вышел из кабины и завозился в багажнике. На крыльце появились все те же, кого видел в хате за столом капитан, но без пацана. Подвыпившая дама плакала, целовала руку бритоголовому.
— Так не забудь уговор. Буду ждать! Забери отсюда — мне так будет без горя. Неслух растет. Мужская твердость требуется. — Женщина заискивающе смотрела в глаза бритоголовому.
— Знаю, знаю, — мужчина высвободил руку.
— Уж ты не обмани, — не умолкала женщина, — одно прошу.
— Ну, еще чего, — важно успокаивал бритоголовый. — Ну, довольно, поехали. Хватит копошиться. Вперед, Саид, — высокомерно хлопнул по спине напарника бритоголовый.
Остроносый мигом сбежал с крыльца и подошел к автомашине. В руке он нес большой и, видно, тяжелый портфель. Стали усаживаться в такси. Остроносый возился у багажника, он не закрывался.
— Садись, поживее, — через открытую дверцу крикнул бритоголовый.
— Секунду, Витек.
Тут Вершигородцев изобразил на лице исключительное волнение и подбежал к шоферу, сидевшему уже в машине.
— Не откажи, браток. Двадцать минут до поезда. Подбрось к вокзалу. Опаздываю. Заплачу за всех. Позарез надо. — Движением руки Вершигородцев показал, что нужда у него по горло.
— Занят, — категорически отрезал таксист. — Машина по заказу.
— Ну ты войди в мое положение. Вот тебе десятка аванса. А то мне хоть под колесо твоей машины ложись, — почти плачущим голосом простонал Вершигородцев. — Ей-богу, помоги, дружок. Место ведь в машине есть.
— Место есть, — ответил за водителя бритоголовый, которого назвал остроносый Витьком. — Но ложиться под авто не следует. Нам только этого не хватало. — Бритоголовый через опущенное в дверце окно высунул голову. — Давай-ка сюда червонец и садись. Подвезем его, шеф. На полчаса я в машине хозяин. Так, что ли, водитель? С тобой рассчитаюсь, не боись.
— На какой вокзал вас везти? — спросил у Вершигородцева шофер.
Капитан поудобнее разместился рядом с водителем на первом сиденье. И, все еще не скрывая своего беспокойства, ответил:
— На железнодорожный, тот, который поближе.
— А вас куда? — обратился к пассажирам заднего сиденья таксист.
— Потом разберемся. Сначала папашу на вокзал давай отправим. Надо иметь уважение к старшим. Хоть он и щедрый, но пусть еще гонит пятерку. В аккурат водителю на коньяк с закуской. Думаю, шеф позволит себе после смены стопочку. Так, что ли? — Бритоголовый явно находился в хорошем расположении духа. Много трепался. Все, видно, у него шло в этом городе отменно. Он удалялся в новые места с чувством уверенности в себе, везучести.
При упоминании о коньяке водитель, похоже, засмущался. Кивнул на первый попавший по дороге пятиэтажный дом, нежно произнес:
— На кооперативную квартиру собираю. Ущемляю себя в коньяках.
— И это дело, — опять пустился в разглагольствования бритоголовый.
«Волга» не спеша выехала из ухабистого двора, плавно катила по гладкому асфальту центральной улицы. Вершигородцев сидел молча и лихорадочно соображал. Обстоятельства складываются в его пользу. Поистине удача. Таксист мог бы и не взять. Улизнули бы преступники. А то, что это залетная шпана, — оперуполномоченный по своему опыту чувствовал наверняка. Теперь бы благополучно их задержать. Вооружен, похоже, один, бритоголовый. У остроносого, скорее всего, ничего нет. Если в квартире одному давали припрятанное оружие, значит, будь оно, получил бы и второй.
Вершигородцев прислушивался к разговору на заднем сиденье.
— Бабе я кинул две сотни. Она вполне заслужила, — вполголоса повелительным тоном балагурил мужчина, названный Витьком. — Пацан ее — вот кто шельма. Вырастет из него отменный прожигатель. Попадись ему этак лет через пяток — придушит за мамочку.
— Это точно, — захихикал остроносый и вдруг переменил тему разговора, заканючил: — Черт с ним, с пацаном. Слушай, давай выйдем вместе на той станции. Зачем меня бросаешь? Куда тебя дьявол несет? Отдышаться надо, отсидеться. Пойми, куда мне одному по незнакомой дороге…
— Нельзя, Саид. У меня наполеоновские планы. — Покосившись, Вершигородцев увидел, что главарь нежно обнял за плечи своего напарника. Остроносый сидел поникший, невеселый, а бритоголовый по-хозяйски развалился на сиденье. Он и вправду производил впечатление сильного, волевого человека. — Нельзя, — с ударением повторил Витек, — мне следует отрастить волосенки. Уж больно стал приметный. А это ни к чему. К тому же у меня есть барышня, пальчики оближешь, ждет… не дождется.
— А эта? — остроносый осклабился и кивнул в сторону оставшейся позади хатки.
Бритоголовый наигранно вздохнул:
— Отрываю ее от своего сердца, — Витек рассмеялся, закашлялся.
— Без всякого сомнения — преступники, — думал оперуполномоченный. Капитан напрягся и, как в былые годы, почувствовал предстоящую схватку. Он продолжал прислушиваться к разговору сидящей позади парочки. Остроносый не совсем в чем-то был уверен. Заискивающе попросил:
— Может, все-таки выйдем на той станции вместе. Мне одному боязно. Чем черт не шутит, а вдруг не найду твоего дружка. Может, его замели…
— Не канючь, — отрезал бритоголовый. Судя по стрижке, он только что освободился из мест, не столь отдаленных. Остроносый, названный Саидом, не унимался:
— Дурно ты с этими дамочками кончишь. У меня остался за колючкой корешок, тоже без меры любил эту публику, причем любого возраста. На старухе сорокалетней зашился. Так соглашайся, Витенька! Чует мое сердце, не повезет мне без тебя. Почему все-таки нельзя? — допытывался остроносый Саид.
— Слушай, ты начинаешь мне надоедать. Не буди во мне зверя. Не выводи из терпения. Береги мои нервные клетки. Они не восстанавливаются. Не желаешь в Цавлю — проваливай на все четыре. Ищи другую конуру. Я бы на твоем месте сказал мне спасибо за адресок и не канючил.
— Как я его найду, не представляю. На темную по селам шастать! Загребут меня в два счета. — Тянул одно и то же остроносый. — Может, его и след простыл или давно зашился и за колючкой…
— Неделю назад от него письмо получил. Слушай дальше. Остановишься в Цавле. Оттуда сорок минут езды на машине. Сначала по путям дойдешь до переезда. Выйдешь на большак, поднимешь свою интеллигентную ручку, тебя и довезут. А не захочешь рисковать — ножками пройдись, полезно для здоровья. Кстати, пешком потопать вернее. Пять километров и первая остановка, а потом еще чуток. Тут уж можно и на машине. И колхоз «Рассвет». Что, трудно тремя извилинами запомнить?
У оперуполномоченного вспотели шея и лоб. Цавля! Колхоз «Рассвет»!
За спиной у Вершигородцева продолжался диалог:
— Фамилию не забыл, мелкая ты рыбешка, тюлька бердянская?
— Помню, акула тихоокеанская, — в тон приятелю отпарировал Саид.
— Повтори!
— Ну, Шаршнов.
— То-то. Прозвище — Бугор. Расскажешь обо мне все как есть. Передай, что позарез желаю его видеть. Уговори его и мотайте вместе с ним ко мне, в Краснодар. Там и зимой тепло. Проживем…
Всякие бывают совпадения, то такое… К Шаршнову задумали. На свежий, сельский воздух. Разбойники! Машина выехала на улицу Пушкина, управление внутренних дел вот-вот и останется в стороне. Вершигородцев зажал в руке удостоверение и осторожно показал его шоферу. Тот удивленно и понимающе посмотрел на капитана.
Капитан незаметно кивнул в сторону, показывая, куда следует ехать. Нет более понятливых людей, чем таксисты. Шофер кашлянул в знак того, что все о’кей, и стал объезжать квартал, чтобы выехать на другую сторону центральной улицы. Краешек красного удостоверения возымел нужное действие. Ай да шофер, ай да парень, молодец!
Через минуту-вторую «Волга» заскрипела тормозами у известного всем в городе здания управления милиции. Оперуполномоченному было не занимать самообладания. Капитан серьезно и чрезвычайно спокойно спросил:
— Дозвольте сигаретку! Закурить кто из вас даст?
— Папаша, ты что ненормальный, или у тебя не все дома? А ну сей миг сесть на месте. На вокзале затянешься. Погоняй, шофер, — недовольно произнес бритоголовый. Остроносый добавил в полусонной дреме:
— Не мешкай, шеф. Курить в машине запрещено. — У Саида оставались закрытыми глаза. Коньяк, видно, наводил на него сонливость.
— У вас, по-моему, есть сигареты, — настаивал на своем Вершигородцев. И, не дав опомниться, полез в карман к бритоголовому, как в свой собственный, извлекая оттуда пистолет.
— Цыц, ни звука, — Вершигородцев не давал преступникам прийти в себя. — Живо из машины! — капитан быстрым движением рук дослал патрон в патронник. — Пристрелю, если задумаете бежать. Обыщи, водитель, остроносого. — Саид безумно таращил враз протрезвевшие глаза. Шофер активно помогал сотруднику милиции. И как-то загадочно единым духом выпалил:
— Зайцы бегают зигзагами…
Саид презрительно хмыкнул, а капитан к скрытому смыслу слов толкового водителя понимающе, живо добавил:
— Но все равно попадаются на глаза ловкому охотнику. Так?!
14
…Когда Вершигородцев ввел обоих в дежурную часть, сидевшая там женщина, потерпевшая по ночному происшествию, с которой утром беседовал Розодоев, округлила от изумления глаза, лицо ее вытянулось:
— Это же они, грабители! Ужас! Где сумка? Они у меня все отняли, они, товарищ начальник!
— Они? — рядом стояли Розодоев и его заместитель. — Они? Откуда вы их, Павел Иванович? И пистолет… Их?!
Остроносый Саид завизжал, окончательно проснувшись:
— Гражданин начальник, что она плетет? Вы меня, дамочка, видели?
— А как же, в стороне стоял. Как по-вашему: «на шухере». А вот этот ударил меня в живот и отнял сумку. Чуть с рукой не оторвал. Забрал перстень, кольцо, часы…
— У него и спрашивай, а я-то при чем? — трусливо залепетал остроносый, отмежевываясь от своего дружка.
Бритоголовый сочно сплюнул в сторону остроносого: «Гнида! Ворона! Впрочем, правильно делаешь: без соучастника меньше дадут».
Потерпевшая не унималась:
— Товарищ начальник, они отдадут мне вещи? Деньги, часы золотые — подарок мужа. Свадебное кольцо?
Подполковник Розодоев приказал дежурному, рослому симпатичному майору:
— Задержите по сто двадцать второй. И прими у капитана Вершигородцева оружие, изъятое у преступника.
При упоминании о часах Вершигородцев посмотрел на свои. Было без четверти двенадцать. Самый раз идти на беседу к начальнику управления. Розодоев улыбнулся:
— Пунктуальный вы, Павел Иванович. И на этот раз не опоздали.
— Но поволновался крепко, — признался Павел Иванович и попросил у помдежурного закурить, хотя забыл, когда держал в зубах сигарету. Он курил очень редко, разве что вот после такого нервного напряжения.
Подполковник Розодоев дружелюбно потряс старшего оперуполномоченного угрозыска за плечо:
— Молодчина. Как говорится: пришел, увидел, победил.
Затем он вызвал второго своего заместителя, молодого, стройного, все понимающего с полуслова, старшего лейтенанта Свириденко. Приказал ему:
— Оперативные группы снять с засад. Так сказать, чрезвычайное положение отменяется.
— Ясно. На завтра пригласим остальных потерпевших. В притон к Захаркиной выехали лейтенант Горный и капитан Всеволодов. Сделают там обыск.
— Хорошо, — ответил Розодоев, — все проверьте досконально и сами возглавьте. Почему у Захаркиной грабители останавливались? Откуда она их знала? Ну и все остальное уточните. А нам с Павлом Ивановичем пора предстать перед светлыми очами начальства. Дайте мне справки об освобождении, изъятые у задержанных. Так… один Уткис Саид Видеич, судимый по статье 117 Уголовного кодекса, второй Барабашкин Виталий Романович… за грабеж и разбой… Пистолет на экспертизу.
Секретарша генерала, моложавая, подвижная, как ртуть, женщина, гостеприимно показала на дверь кабинета начальника управления. Розодоев взялся за круглую стеклянную ручку и открыл отлично отполированную двойную дверь, пропустив впереди себя Вершигородцева и уже в кабинете победно произнес:
— Разрешите, Андрей Николаевич, войти и доложить: ночные неприятности кончились. Грабители задержаны.
— Все это я знаю, товарищ главный сыщик. Рапортуешь ты, Устин Кириллович, неплохо. Только не понимаю, что бы ты делал, не приди тебе на выручку Вершигородцев?
Розодоев не остался в долгу:
— Замечу, товарищ генерал, капитан Вершигородцев состоит в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска, а, значит, тоже мой кадр, моя выучка…
— Слышал, слышал, — прервал его генерал, — но тебе надо знать места, куда преступники лезут, как тараканы в щели. Купоросом опрыскивай эти притоны! А вот таких Геркулесов в милицейском деле нам бы побольше. — Генерал вышел из-за стола и крепко пожал Вершигородцеву руку. — Доволен тобой, доволен.
Павел Иванович виновато улыбнулся.
— Товарищ генерал, все произошло настолько неожиданно и даже как-то случайно. Не могу даже опомниться. Как в кино.
— В кино? — Подхватил генерал. — В кино покажут, зрители усомнятся: бывает ли в жизни такое, не наврал ли автор сценария? А выходит, что бывает. За поимку грабителей шофера наградим именными часами. Ну, ладно, с этим покончено. Какие проблемы в Цавле? Что у вас там? Что вы не поделили с Копылком? Может, от этого и преступления не раскрываются? Знаю, он заносчивый, а ты упрямый. В чем разногласия? Я сам хочу к вам ехать. Подкинули вы с Копылком нам информацию к размышлению. На месте буду разбираться. Может быть, даже завтра поутру и выберусь в Цавлю. Начальник отдела вернулся из отпуска? Подкачали вы без него.
— На днях выходит на работу. А с Копылком особых разногласий нет. В одном не сходимся. Он против моих бесед в домашней обстановке с ранее судимыми. Ну, а на это у меня есть полное разрешение начальника райотдела подполковника Парамонова.
— Обожди, обожди, разрешение… — осек капитана генерал. — Польза-то есть от этих посещений, народ не возмущается? Я лично считаю, наша служба не любит уединения. Выход в общество, разговор с людьми в непринужденной обстановке — это основа оперативной работы, если хотите. Знаю я: некоторые начальники в своих подчиненных больше любят исполнительность, чем умение думать. А здесь нужно и то и другое. Словом, будем у вас. — Генерал легкой, пружинистой походкой прошелся по мягкой ковровой дорожке.
— Меня не возьмете? — спросил Розодоев.
— Пожалуй, нет. Оставайтесь здесь. Поедет Щеглов. Ему, как моему заместителю по оперативной работе, тоже нужно вникнуть… — Генерал подошел к большим часам, стоящим в углу кабинета, открыл дверцу и поправил минутную стрелку. Он был высокого роста, полный, держался очень прямо, от этого казался еще выше.
— Нежданно-негаданно беды на Цавлю посыпались, — нарушил минутное молчание начальник уголовного розыска.
Генерал неторопливо и тщательно закрыл дверцу часов.
— Вот я и боюсь, что они прибавятся. А когда бед много, от них уже нет боли, а только черствеет сердце и тупеет голова. Подкачала Цавля, подкачала. Два нераскрытых за месяц! Многовато. Версии какие отрабатываете или списываете на гастролеров? — Хитро прищурил глаза генерал и той же почти невесомой походкой вернулся и сел за широкий письменный стол. — Доложите про это убийство сторожа. Что там?
— Такая штука вышла, товарищ генерал, — начал старший оперуполномоченный уголовного розыска.
— Ну, ну, какая незадача? — снова встал из-за стола генерал и заходил взад-вперед по ковровой дорожке. Вся его фигура от седой головы, подстриженной ежиком, до лакированных туфель излучала силу и добрую власть.
Все, кому приходилось встречаться с генералом, отзывались о нем как о человеке на редкость справедливом. Прославленный командир взвода во время войны, он всю свою жизнь посвятил работе в милиции. За эти беспокойные годы ему самому доводилось выполнять сложные задания. Не раз лично приходилось вступать в опасное единоборство с отпетыми рецидивистами и обезвреживать их. Начинал лейтенантом и дослужился до генерал-майора. Почти четыре десятка лет им отдано тому, чтобы все люди спокойно и радостно встречали рассвет и занимались своими делами: учились, работали, воспитывали детей, отдыхали. Это к нему можно полностью отнести слова Александра Блока: «И вечный бой, покой нам только снится…»
Сам генерал, несмотря на огромный стаж службы, постоянно прислушивался к мнению подчиненных, невзирая на их чин. Особой любовью его пользовались вот такие просмоленные жизнью, богатые мудростью, как старший оперуполномоченный Вершигородцев.
— Так какая штука произошла? — поторопил с ответом Евстигнеев капитана, открывая пошире форточку. Свежий ветерок затеребил атласные шторы.
— У меня сложилось твердое мнение, — продолжил капитан, — в машине эти двое произнесли фамилию шофера колхоза «Рассвет» Шаршнова.
Его дополнил подполковник Розодоев:
— Шаршнов — это скверная личность. Одним словом, прожженный негодяй. Может быть, помните, товарищ генерал, нашумевшее лет семь назад дело о посягательстве на жизнь молодой учительницы… Это и есть тот Шаршнов. Полностью отсидел срок и вернулся. По всему видно, дружки к нему путь держали, — закончил Розодоев.
— Да, припоминаю. Что против него есть по новому делу? — спросил Евстигнеев у Вершигородцева.
— Пока ничего, товарищ генерал, но меня осенило, как говорится. По объяснению буфетчицы выходит, что разговор обо мне на вокзале мог вести только Шаршнов. В прошлом преступлении, за которое отсидел, мне пришлось его изобличать. По приметам он — «крестник». А улики все вывел на Коровина, моего подшефного.
— Коровина… — повторил генерал. Он был в хорошем расположении духа. Его баритон заполнял обширный кабинет, — наслышался я о вашей индивидуальной профилактике. Отговариваете людей от преступлений… Мне думается, перевоспитанию поддаются все. Нужно только найти хорошее слово для каждого. Раздуть огонек в потемневшей душонке. Конечно, я не говорю о таких, как Шаршнов. Этот, как старая телега, прогнил до дна. А если, действительно, виноват Коровин?
— Уйду на заслуженный отдых.
— На пенсию собрался, — подтвердил серьезно Устин Кириллович.
— Именно. Выйдет из всей моей затеи мираж. — Капитан невесело, едва заметно улыбнулся. — Выходит, не нашел ничего светлого в сердце паренька.
— На пенсию — это не то слово: накажем. Да, да, накажем. Несмотря на заслуги. А их у вас, знаю, немало. Ни на что не посмотрим. Представляете — люлюкаться, люлюкаться с тем же Коровиным, а он вас за нос водил, убийство совершил. Будьте, как говорится, здоровы! Фикция тогда со всей вашей профилактикой.
— И я не думаю на Коровина, товарищ генерал, — заступился подполковник Розодоев. — Мне доводилось дважды с ним встречаться. Производит неплохое впечатление. Сожалеет о прошлой судимости. Парень раскаялся. Женился. Правда, в семейной жизни не все в порядке.
— Не повезло, похоже, с женой. А за все остальное ручаюсь головой, — твердо и даже с запалом произнес капитан.
Генералу понравились эти рассуждения. Он улыбнулся чему-то далекому и начал рассказывать, как в армии был назначен военным дознавателем, о первом милицейском крещении.
— Давно это, правда, было, — сказал генерал, — но памятно. Помню, в выгоревшей гимнастерке, сразу после Победы, с начищенными орденами и медалями пришел по направлению райкома партии служить оперуполномоченным в милицию… Часов в двенадцать ночи, на пятый то ли шестой день моей работы, сообщили: в вагоне товарного поезда обнаружен человек с огнестрельным ранением. Чуть жив. Выехал на место происшествия, осмотрели с милиционером злополучный вагон, облазили весь поезд в поисках следов преступления. Существенного ничего не нашли. Где мог скрыться преступник? Все прикидываю. В армии приходилось быть и дознавателем. Анализировать приучен. И вдруг среди пассажиров заметил мужчину лет тридцати пяти в засаленной рубашке. На голове — фетровая шляпа. На руке — старенькое демисезонное пальто. Незаметно наблюдаю за ним. Он явно нервничает. Думаю себе: не ко времени у него пальто и шляпа. Выходит, приехал из тех мест, где холодком веет. А злополучный поезд прибыл из Воркуты. Постовому советую проверить у неизвестного документы. У незнакомца задний карман брюк оттягивает что-то тяжелое.
Милиционер подошел к мужчине и предложил предъявить паспорт. Тот в миг выхватил «ТТ» и произошел бы выстрел. Но мне удалось молниеносно выбить пистолет. Мы вдвоем скрутили злодея с кучей убийств на совести. Вот у меня с тех пор такое ощущение, что нет большего счастья для нашего брата, чем раскрыть преступление, обезвредить злодея. Потому как за всем этим благодарность людей, которым мы служим. Так говорю? — Генерал встал из-за стола и посмотрел сначала на Вершигородцева, потом на Розодоева, протянул руку капитану. — До встречи на цавлинской земле.
15
В управлении начинался обеденный перерыв. Опустели кабинеты и коридоры: ни сотрудников, ни посетителей.
Вершигородцев вышел из управления в чрезвычайно приподнятом настроении. «Значит, есть порох в пороховнице», — думал он про себя. От разговора с генералом осталось сильное впечатление. Он забыл даже, что нужно где-либо перекусить.
В электричке, почти в полупустом вагоне, он глубоко и облегченно вздохнул. На маленьком полустанке в вагон вошел мужчина и ввел огромного бульдога в наморднике. Пес томился, высунув широкий, как лопата, язык. Тяжело дыша, крутил обрубленным хвостом.
В душе Вершигородцева, любившего животных, поднялось чувство восхищения отменной собакой. Он вспомнил о своем приятеле, старшем оперуполномоченном ОБХСС капитане Горелове, обладателе такой же собаки, и подумал: «Предложу ему поехать со мной в колхоз «Рассвет». И стал в уме прикидывать, как лучше сегодня же вечером, без промедления, заняться проверкой Шаршнова. Опять придется на всю ночь оставлять жену в тревоге. Но он знал, Елена его поймет и пожелает удачи.
Продолговатое, худощавое лицо Вершигородцева за два последних дня пожелтело, осунулось, точно сошел загар. У глаз залегли глубокие морщины и не пропадали, как это было раньше. Сейчас, когда прошло возбуждение, он почувствовал тяжелую усталость.
С деликатным, энергичным Гореловым Вершигородцев сдружился давно. С виду они казались очень не похожими друг на друга. Один высокий, худой, неразговорчивый — это Вершигородцев. Второй коренастый, улыбчивый, балагур и острослов — это Горелов. Грубая, обветренная кожа его лица и рук говорила о том, что он самый что ни на есть рабочий человек, несмотря на чин старшего оперуполномоченного ОБХСС, капитана милиции.
Но у этих двух капитанов, если приглядеться, можно было найти много общего. Завидная старательность и предельная честность в большом и малом — черта каждого из них. Оба глубоко переживали неудачи и искренне радовались успехам, чьи бы они ни были. Лишь бы на пользу общему делу.
Вершигородцев улыбнулся, представив, как обрадуется Горелов удачной поездке в областной центр. В двух словах ему, конечно, Павел Иванович расскажет о задержании грабителей. Будет о чем потолковать и обменяться мнением. Вершигородцеву явно сейчас не хватало скуластого, улыбчивого, любителя присочинить небывалую историю, придумать смешной анекдот, Семена Семеновича Горелова.
Ступив на перрон родного цавлинского вокзала, Павел Иванович по привычке зашел в линейный пункт, потом направился к себе домой. У калитки его обдал заветный и милый запах дорогого ему сада. Много раз приходилось ездить капитану в областной город, и всегда он вырывался с шумных, многоголосых улиц с удовольствием. Его манил зеленый, уютный уголок родного дома.
Вершигородцев открыл дверь и остановился у порога. Печальный и расстроенный вид жены насторожил его.
Елена Тихоновна, увидев вошедшего мужа, как протирала полотенцем чашки после обеда, так и замерла с ними в руках. Глаза ее блестели от слез.
— Что произошло, Лена?
— Пойдешь в райотдел — узнаешь. Горелов сейчас приходил. Задержан убийца сторожа Леонтьева.
— Кто такой?
Жена с досадой пристукнула чашку о блюдце.
— Коровин арестован. И вроде даже признался.
— Вот так да, — Вершигородцев присел на стул. Посмотрел на стенные ходики с кукушкой. Они прокуковали полчаса пятого. И хотя капитан не обедал, аппетит вдруг пропал. — Не верю, что он убийца. Значит, на себя все взял, паршивец. Без меня Коровин никому ничего не станет говорить толком. Упорный, самолюбивый. Особенно, если ему напрямик скажут: подозреваем в убийстве.
— Паша, пообедай и беги в отдел.
— Да, да. Меня не жди. Будет работа. Дочки где?
— Ушли к Гореловым, с бульдогом возятся. Свою собаку просят.
— С этим подождем, Лена. Есть дела поважнее. — Вершигородцев выпил стакан молока и выбежал на улицу. И уже в открытое окно крикнул:
— Меня не ждите. Я уеду в колхоз «Рассвет».
16
Жена смотрела мужу вслед, разделяя все его планы, сомнения и тревоги. Она не понимала тех жен, которые злились на мужей за задержку на службе, за ночные дежурства, наряды, подъемы. «Что возмущаетесь, — говорила она им, — знали, на какой службе ваш молодой человек, зачем же выходили замуж? Вы в тепле, а они где-нибудь на опасном задании, в операции, засаде. Не разыгрывайте сцен. Если уж не обещаете мужу лад в семье, так оставьте его в покое».
Когда Елена была слишком молода, ей казалось, что любовь с первого взгляда — только в книжках. Так было до тех пор, пока она, восемнадцатилетняя сельская учительница начальных классов, не встретила возмужалого Вершигородцева. С первого дня пошла у нее голова кругом. Вся истоскуется, пока дождется свидания. Видела она, что хмельным от счастья был и бравый фронтовик, младший сержант милиции Павел Вершигородцев.
Сейчас она смотрела ему в спину и понимала, что он для нее остался таким же, как много лет назад: молодым, умным, добрым.
17
От Горелова Вершигородцев узнал все, что было ему нужно. Сегодня утром, после отъезда Вершигородцева в УВД, в Цавлю вернулся мариупольским поездом Коровин. Пришел домой, если можно так назвать дом Витюгиных. Анна и ее мать, даже перепугались. Они считали, что Евгения уже посадили за решетку. Но вскоре изумление прошло, и зрачки обеих женщин потемнели от злости.
— Пришел? Заявился? Жив, здоров и не кашляешь? — грубо приветствовала мужа Анна.
— Дайте мне переодеться. Пойду на работу. И сообрази что-нибудь перекусить с дороги. Ездил я…
— Чувствую, что ездил, а не пешком шлялся, — небрежно сказала жена. — Вся жизнь твоя — дороги. Но когда-нибудь они кончатся. Где две ночи блудил? В каких краях болтался?
— Мать навещал. В Макеевку ездил. Болеет она. Тебя хотела бы видеть. Можешь выбраться на денек к ней, проведать?
— Проведать? Вот как!. — воскликнула с иронией, вскинув тонкие брови, Анна. — Сейчас это крайне необходимо…
— Давно женился, а мать в глаза невестку не видела, — спокойно возразил Евгений. Вид у него был измученный. Под глазами расплывались темные пятна.
— И не увидит, — крикнула из-за перегородки Витюгина-старшая. Она, видно, курила, и оттуда тянуло едким дымом. Анна добавила:
— Теплой встречи не будет.
— Не об этом сейчас речь. — Степанида Пантелеймоновна, теща Коровина, вышла из-за перегородки. Она, действительно, развлекалась сигаретой. Курила, затягивалась и пускала кольца дыма в потолок, — не об этом. И ты знаешь, о чем должен идти разговор. Не увиливай, не крути носом. Старика Леонтьева помнишь? Сторожа склада? Где он сейчас?
— Какой еще Леонтьев?
— Тот, что богу душу отдал с помощью некоторых, — визгливо крикнула Анна, — в нашу квартиру больше не заявляйся, чтоб ноги не было. Тебя ищет милиция.
Сердце Евгения сдавила тревога.
— За что же вы хотите меня отправить в колонию? За что? Что я сделал вам плохого? Эх, людишки! Я ведь свободу люблю, а не тюрьму. А вы, как тигры. Собак и тех без дела не бьют… В общем, решим так, по-вашему: ты мне, Анна, больше не жена. Я не желаю числиться твоим мужем, а вы Степанида… — не теща. — Коровин оглядел комнату, хотел что-то захватить с собой на память из вещей. Но не нашел ничего подходящего и подавленно закончил: — Я знаю, если меня посадят, передачи не принесете. Разведемся по закону, как положено, в ближайшее время.
— Да уж как водится, безотлагательно, — понеслись вслед Коровину голоса Анны и Степаниды Пантелеймоновны.
Коровин хлопнул дверью и выбежал на улицу.
Одна у него была мысль — сразу же идти к Вершигородцеву. Спросить, в чем дело. Все о себе рассказать. Просить о помощи, чтобы снова вернуться в общежитие, и, разумеется, развестись с Анной.
18
В райотделе милиции немало удивились, увидев Коровина. Все сотрудники знали, что вокруг его имени только и были разговоры в поселке: он или не он отправил на тот свет сторожа. Дежурный немедленно отвел Коровина к исполняющему обязанности начальника райотдела Александру Ивановичу Копылку.
В уголовном деле по убийству Леонтьева накопилось к этому времени много косвенных улик против молодого человека. Копылок не скрыл удивления:
— Сам явился? С повинной? Молодец, парень. Это самый лучший выход. С земли еще нет средства на другие планеты перескакивать. А на своей, брат, на матушке, все укромные уголки просматриваются.

Копылок усадил Евгения напротив себя и продолжал:
— Чистосердечные признания смягчают вину. Считаю своей обязанностью напомнить тебе, парень, об этом.
— Не соображу, что и ответить, — буквально прохрипел Коровин.
Его голос словно кто-то пересыпал битым стеклом. Откашлялся — все тот же хрип. «Беда не приходит одна», — вспомнилась поговорка.
— Последуй моему совету. Давай честно, подробно. Повторяю, если положиться на собранные доказательства на складе, а я не могу этим пренебречь, то тебя, Евгений, следует задержать…
— Хорошо, поступайте, как знаете. Мне все равно идти некуда.
— Не становись на путь запирательства. Ты должен все рассказать.
— Убийство сторожа. Вы шутите, товарищ майор. Да я узнал-то обо всем этом полчаса назад. — Вяло, как во сне, говорил Коровин. — Вы можете до одной минуты проверить, где я был эти двое суток. Уезжал я.
— Когда? Во сколько?
— Вчера утром, в три сорок пять, поездом Москва — Жданов, или как его называют, мариупольским. Им же приехал сегодня обратно в девять утра. Мне можно поговорить с Вершигородцевым?
— А со мной не желаешь?
— Не в том дело. Вы меня не поймете.
— А он поймет? — Майор возмущался все больше, но не подавал виду.
— Мне нужен он.
— Его нет. Нет. А тебя ждет пока изолятор временного содержания. Не обижайся. На моем месте поступил бы каждый точно так же.
— А вы не скажете, какие против меня доказательства?
— Пока не могу. Но верь, они есть и довольно весомые. Иначе мы бы не стали тебя подвергать аресту. Так как?
— Для меня — снег на голову. Не соображу, почему я оказался в роли убийцы. Надо подумать. Дайте мне время.
— Только в изоляторе. Не возражаешь?
— Ваше право. Надеюсь, вы его не превышаете. Но, повторяю, я ни в чем себя не могу признать виновным. Не совершил же я преступление в беспамятстве. Вот увидите, Павел Иванович во всем разберется.
— Ну, лады. До приезда твоего шефа. — Колко бросил Копылок. — Только смотри, не подведи его. Он не заслужил этого. Много для тебя старался.
— Все это я всегда буду помнить. Отец он для меня, и точка.
— А может, и запятая. Ну, все. Пожалуйста, думай. — Майор нажал на кнопку, вмонтированную в боковую стенку письменного стола. Когда вошел дежурный, приказал: — Обыщите в присутствии понятых. Пошлите к Витюгиным, чтобы рубашку другую прислали, а эту, синенькую, мне на стол. И составляйте протокол о задержании в порядке статьи сто двадцать второй уголовно-процессуального кодекса. Евгений, вам нечего мне на прощанье сказать? — Обратился вдруг на «вы» майор.
— Нет, гражданин начальник. Ищите настоящего убийцу. Я тут ни при чем. — Коровин стал привыкать к выдвинутому против него подозрению и уже задиристо отвечал заместителю начальника райотдела милиции.
— Учту ваш совет. Идите, полежите на нарах, поразмышляйте. Я знаю, что вы крепкий орешек. Голыми руками не возьмешь.
Дежурный вывел из кабинета Коровина, а Копылок позвонил прокурору, чтобы доложить о своих действиях и обменяться мнениями:
— Валерий Васильевич, мы задерживаем Коровина. С вашего согласия. Провел первый допрос. Никаких результатов. Давайте подождем Вершигородцева. Нам придется смириться с такими требованиями подозреваемого. Павел Иванович в управлении… Как вы считаете, не перегнули мы палку в отношении задерживания?.. По-моему, тоже полные основания. Рубашку изымем и направим сейчас же на экспертизу вместе с пуговицей. Тут и простым глазом видно, что она от его одежонки. На рукаве, на манжете оторвана. С мясом вырвана, видно, зацепился на складе за что-то… Придете сами? Хорошо.
19
Часа в четыре дня Коровина вновь привезли на допрос. Присутствовал теперь уже прокурор. Копылок представил его Коровину:
— Валерий Васильевич Мизинцев, прокурор района. В присутствии его тебе нет смысла скрытничать и запираться.
— Я не против. — Коровин безо всякого энтузиазма посмотрел на прокурора.
— В юриспруденции есть такое понятие, как презумпция невиновности, — начал Мизинцев. — Это значит: со всяким человеком мы беседуем, как говорится, с нулевого цикла. Заранее предполагаем, что он не виновен, и только по мере поступления в уголовное дело улик, противостоим, а не следуем слепо за ними, критически воспринимая собранные доказательства, мы строим обвинения… — Прокурор говорил долго, пока не почувствовал, что залез в книжные дебри.
— Вы мне поменьше теории, — хмуро произнес Евгений, — если захотите посадить — то и статью найдете.
— Ты в корне не прав, — опять начал прокурор. — Пожалуйста, вот законом предусмотрена статья о смягчении вины при чистосердечном признании. С кем ты распивал коньяк в буфете вокзала?
— Не знаю я его. Первый раз видел. Подошел, предложил выпить. Я был в расстроенных чувствах на семейной почве. Согласился выпить с ним с удовольствием. Разговорились. Поведал ему о домашних неурядицах. Он мне без отдачи предложил десятку на билет, и я уехал в Донецк, оттуда — в Макеевку. По-моему, все тут ясно. Мои показания легко проверить.
— Легко, — согласился прокурор, — если найти твоего собутыльника. А поскольку его нет, значит, трудно, даже невозможно. Ты брал ему два билета в железнодорожной кассе? Но он же был один?
— Сколько просил — столько и купил. Мне-то что, — Евгений немного начал раздражаться.
— Ну, а этот приятель почему сам не пошел покупать билеты? Он что, был занят?
— Нет. Сидел в зале ожидания. Сказал, что ему нельзя около касс появляться, — объяснил Коровин.
— Так был или не был с ним кто-нибудь второй?
— Чего не видел, того не видел, — ответил Коровин, — но, по-моему, никого с ним не было. Мы вдвоем с ним сидели и в буфете, и в зале ожидания.
Коровин неопределенно говорил о собутыльнике по вокзальному буфету. Евгений, якобы, этой ночью уехал к матери, потому что поссорился с женой, заскучал по родному дому, а случайный приятель остался на станции.
Описанные Коровиным приметы собутыльника совпадали с показаниями буфетчицы Канаевой.
20
Когда Вершигородцев вошел в кабинет к майору Копылку, из комнаты выводили Евгения Коровина.
— Здравствуйте, то… гражданин капитан, — пролепетал виновато и растерянно парень и стал ловить взгляд сотрудника уголовного розыска.
Вершигородцев успел положить руку на плечо Евгению и жестко спросил:
— Все рассказал? Не вздумай играть в благородство.
— Вы меня вызовете? — умоляюще смотрел на капитана молодой человек.
Евгения увели в изолятор временного содержания, или как его сокращенно называют — ИВС, вместо прежнего КПЗ. Прокурор и заместитель начальника отдела ждали, что скажет вернувшийся из управления капитан. Ждали и молчали. Вершигородцев в раздумье стоял у окна. Первым нарушил молчание прокурор:
— Садись, Павел Иванович, в ногах правды нет. И рассказывай. — Мизинцев показал на стул рядом с собой. — Ты что такой взволнованный? Какие есть новости?
— Вы его напрасно задержали! Не он! Хотя от Коровина в нынешнем его положении можно добиться и протокола явки с повинной, — убежденно заявил капитан.
— Да, но согласитесь с нами, — начал прокурор, — лучшим подтверждением ваших слов, Павел Иванович, будет представление нам конкретного лица…
— Вы хотите сказать: дай человека, совершившего преступление?
— Совершенно верно. И тогда мы перед Коровиным извинимся. А сейчас улики прямо показывают на него.
Вершигородцев отстаивал свою точку зрения:
— Валерий Васильевич, в этом деле, очень тонком, надо разобраться. Тут одним напором не возьмешь.
— Похвально, что вы так уверены в своем подшефном, можно сказать, грудью за него, но не забывайте и полный, главный круг своих обязанностей — раскрыть преступление. — Это раздраженно вставил Копылок.
А прокурор подхватил:
— Да. Не увлекайтесь только адвокатскими речами. Нужны дела в этом случае, тем более, от старшего оперуполномоченного уголовного розыска.
Прокурор считал, что оружие юриста — красноречие. В судебных заседаниях у него это очень хорошо получалось, но в частных беседах с сотрудниками он быстро уставал. Впрочем, он был справедливым человеком, и, в сущности, очень мягким по характеру.
— Выходит, мы все зашли в тупик и не можем ответить на вопрос, кто совершил преступление?
— Кто совершил убийство? Это хотите у меня спросить? — Капитан, утомленный, пересел к приставному столику. — Я подозреваю Шаршнова. Считаю, надо немедленно его задержать.
— Вот как? — поднял вверх карандаш прокурор. — Черт возьми, по приметам и в самом деле им пахнет. Гадкая личность. Сколько уже с ним возимся.
— Гм, — почесал переносицу майор. — Я согласен. Павел Иванович, мотоцикл в вашем распоряжении. Берите любого, кто на месте, в помощники. Успеха! Позвоните из колхоза. Приедет Волвенкин, направлю вам машину. Обязательно разыщите участкового колхоза «Рассвет». Привлеките его к этому задержанию. Будьте осторожны, бандюга на все способен.
К колхозу «Рассвет» Вершигородцев подъехал в сумерках. Горелов уехал в ОРС, поэтому принять участие в операции не мог. С капитаном был сержант Кириллов. Вершигородцев не стал «делать крюк» и заезжать за участковым милиционером. Он несся прямо в нужное село.
А между тем дотошный Георгий Кириллов продолжал настойчиво доводить сочинение своего стихотворения до конца. И в большом, и в малом сержант оказался пытливым и педантичным человеком. Даже к общественному поручению он относился так же, как к уставному требованию или распоряжению начальника.
— Товарищ капитан, послушайте третье четверостишие. Пока вас не было, я его написал. Скажите, хорошо ли придумал?
— Ты что, здесь хочешь декламировать?
— А что?
— Тогда попробуй, другого времени может у нас с тобой не быть.
На свистящем при быстрой езде ветре неутомимый сержант милиции, жестикулируя рукой, прокричал:
Добавлю не фигуральности ради:
Держи свою выдержку крепко в тисках.
И, что б ни случилось с тобою в наряде,
Мы верим — оружье в надежных руках.
21
Однако поиски Шаршнова осложнились. Несмотря на поздний час, дома его не было. Жена ответила односложно: «Небось пьянствует». В хате все вверх дном. Мастерят что-то на полу четверо грязных пацанов. Грудной, пятый, на руках у хозяйки и кричит благим матом. Словом, семейка!
— А синяки-то на лице откуда? — спросил инспектор у худой, не по годам старой женщины. — Он приложился?
— Сдох бы, проклятый.
Всю ночь разыскивали в большой деревне Шаршнова. Под утро Вершигородцев оставил Кириллова с двумя депутатами сельского Совета в доме Шаршнова, а сам поехал на ферму в соседнюю деревню: Шаршнов мог там быть у сестры.
Подъезжая на мотоцикле к ферме, капитан издали заметил массивную фигуру колхозного шофера. Шаршнов сидел на перевернутом из-под корма ящике.
— Выпили на крестинах у кумы. Шумит, — сообщил сотруднику милиции Шаршнов и постучал кулаком по голове. — Что так рано в наших краях?
— Дела, да вот тебя увидел — вспомнил. Допросить тебя надо еще разок по медку. Садись в люльку.
— Шаршнов послушный, — садясь в мотоцикл, пробурчал тот. — А теперь куда? Только все напрасно. Не я пасеку брал. Так куда мы?
— Заедешь домой, переоденешься и в райотдел. Допрос по всем правилам.
— Гони прямо в Цавлю. Переодеваться не стану. И так узнают, кому надо. Сплетен меньше в деревне будет… Погоняй, оперуполномоченный.
Бычья шея Шаршнова надулась, стала фиолетовой.
«Довезти бы благополучно», — подумал капитан и не стал заезжать за Кирилловым. Будет слишком наглядно для Шаршнова. Поймет, что обложили его, как медведя. А этого не следовало ему пока знать.
22
В это утро начальник управления рано выехал в Цавлю. С собой он взял своего заместителя Щеглова. А в девять утра он уже слушал доклад майора Копылка об оперативной обстановке в районе.
Дежурного офицера генерал Евстигнеев послал за вернувшимся из санатория начальником райотдела подполковником Парамоновым.
Андрей Николаевич Евстигнеев сел за стол начальника райотдела. Утренние лучи солнца светили в окно и золотили его погоны. Он неторопливо мял в пальцах папиросу.
— Накурюсь, пока жены нет рядом, — сказал начальник управления и прикурил от миниатюрной зажигалки. А когда вошел подполковник Парамонов, спросил его: — Не икалось в Сочах? Вспоминали. Уехал — и тут на тебе!
— Не было меня… — оправдывался Парамонов.
— Ну и ладно, — примирительно заключил Евстигнеев, — как отдохнул?
— Успел загореть, морской водичкой побаловаться.
— Видим, видим, — поддержал разговор Щеглов. — Подрумянился, посвежел, теперь за работу.
Несмотря на свои пятьдесят лет, подполковник Парамонов выглядел моложаво. Старился только лицом.
— Продолжайте доклад, Александр Иванович. — Генерал Евстигнеев пригасил в пепельнице окурок. — Извини, что прервали. Итак, убийство сторожа Леонтьева. Какие улики против Коровина?
— Пуговица от его рубашки — раз, — констатировал Копылок.
— Дайте мне ее разглядеть, — попросил начальник управления.
Копылок подал. И продолжал:
— Два билета. Найдены на складе. Кассир вокзала подтверждает, что покупал их Коровин, — это два.
— И что же третье? — торопливо спросил начальник управления.
— Третьим можно считать два обстоятельства: исчезновение в ту ночь Коровина и пьянство его с неустановленным лицом в буфете вокзала до двух часов. Главное, конечно, пуговица от его рубашки, — закончил Копылок и добавил: — Осложняется тем, что сам Коровин не дает вразумительных ответов. Поэтому мы не могли его не задержать. Все обдумано, конечно, с прокурором.
— А вы не допускаете, что Коровин подставное лицо? Потому что, как я ни смотрю на пуговицу, она не вырвана, а отрезана. Можно ли представить, что Коровин сам у себя срезал, к примеру, лезвием безопасной бритвы пуговицу и бросил ее на складе? Мол, ищите меня, визитную карточку я оставил.
— Да, но нужно найти убийцу, прежде чем снять полное подозрение с Коровина, — ответил майор Копылок.
— Безусловно. За этим, думается, дело не станет, Вершигородцев звонил, как идут у него дела? Нет? Непорядок! Шаршнова нужно немедленно проверить. А сейчас пригласите сюда Коровина, — приказал начальник управления.
Через минуту дежурный по отделу ввел в кабинет Коровина.
— Евгений Коровин, да? — спросил Евстигнеев.
— Так точно.
— Почему же вы не помогаете милиции раскрывать преступление?
— Я могу и вам, гражданин генерал, повторить. Уезжал я к матери. Могут там подтвердить. Ну, а пить — пил в буфете. Не знаю, с кем. Ему я брал в кассе два билета… Просил. Перепил я сильно с горя. Семейной жизни не получилось. Ничего не помню. Вообще не представляю, как я сел в таком виде в поезд. Слышу, объявляет проводник: «Донецк». Вышел, на автобус — и в Макеевку, к матери и сестрам. Напоил меня случайный собутыльник крепко.
— А возможно, и умышленно, — вставил Парамонов. — Эх, ты, Женька! Сколько Павел Иванович с тобой хлопотал… Непорядки в личной жизни — к нему надо было идти, посоветоваться, а ты на вокзал…
— В лапы к матерому преступнику, — тяжело вздохнул полковник Щеглов.
Начальник управления прервал молчание:
— У матери вас было много, Евгений?
— Семь душ.
— Чай, тяжело было ей поднимать вас на ноги?
— Куда мать не кидалась, чтобы нас прокормить, а тут я неудачный. Узнает, что меня снова… с горя умрет.
— У тебя одна задача — помочь нам найти твоего собутыльника.
— Я его запомнил. Приземистый, здоровый, как штангист, сильный. Физиономия — что свекла корешком вверх.
— В общем, прими наши извинения за то, что переночевал в милиции и… — Начальник управления не успел договорить. Вбежал дежурный офицер и растерянно произнес:
— Вершигородцева подобрали в кустах. Ранен. Везут сюда. Звонили из сельсовета.
— Что-о? — Евстигнеев ударил кулаком по спинке стула. — Коровин, это работа твоего собутыльника. Направить группы на вокзалы — железнодорожный, автобусный, в аэропорт. Закрыть все ворота Шаршнову!
23
Коровин, выскочив из райотдела, никак не мог привести свои мысли в порядок. Что нужно сделать в первую очередь? Что? Его сердце переполнилось болью за дорогого ему человека — Вершигородцева. На ступеньках крыльца Евгения догнал Горелов. Остановил за плечо.
— Куда сломя голову несешься? Хитростью надо, понял? Шаршнову теперь все равно, кого на тот свет отправить.
— Что мне делать?
— Сперва остудись. Ищи его вдоль железной дороги. У него другой дороги нет. Объясни ему, что тебя милиция ищет. Просись с ним в бега. А там найди возможность нам сообщить — хоть с Камчатки. Понял?
— Я буду ходить вдоль насыпи, за вокзалом.
24
…От деревни Вершигородцев вырулил на пригорок, к редкому кустарнику: через него пролегала проселочная дорога. Три километра, а там большак. По раннему утру безлюдно вокруг. Опытный сотрудник уголовного розыска привык действовать смело и решительно. Он на приличной скорости отъехал от села. Еще слышалось где-то кудахтанье кур, а дорогу уже с двух сторон стали теснить кусты орешника и мелкого ельника. Из травы, точно первомайские флажки над колоннами демонстрантов, выглядывали кумачовые, синие, желтые, голубые цветы.
Едва мотоцикл тряхнуло на ухабине, Шаршнов приподнялся. Вершигородцев вцепился в руль, чтобы не опрокинуться. И в эту же секунду понял, что проиграл. Шаршнов рывком достал из-за голенища своего сапога финку и ударил ею в спину капитана. Затем сделал толчок в бок офицеру, и Вершигородцев полетел с сиденья. На лету сотрудник милиции выхватил из бокового кармана пиджака пистолет. Раздался один, второй выстрел. Шаршнов, помышлявший добить капитана на земле, прыгнул из люльки на место Вершигородцева, слился с мотоциклом, до упора повернул ручку газа. Мощный «Урал» рванулся вперед, оставляя за собой облако пыли. Старший оперуполномоченный потерял цель. А в следующую минуту дорога, деревья поплыли перед глазами. Он терял сознание. Очнулся — вокруг незнакомые люди. Кто-то рассказывает: «Слышу: бах, бах, выстрелы!» Подъехала машина. «Живой? Осторожно берите, сюда его, в кузов, на солому…» Капитана спешно повезли в больницу, внесли в палату.

Потеряв много крови, он никак не мог справиться с ознобом. Сухие губы твердили одно слово: «Зябко». Его укрывали одеялами, но он по-прежнему не мог согреться.
В больнице Вершигородцева начало бросать в жар. Он стал бредить. У постели чуть-чуть посидел генерал. Затем он уступил место Елене Тимофеевне. Она плакала.
Врач пригласил Евстигнеева и Парамонова к себе в кабинет. И озабоченно сказал, сочувствуя собеседникам:
— Мне самому не по себе. Я преотлично знаю Павла Ивановича. Как-то пацаны сложный аппарат через окно из комнаты больницы утащили. Нашел капитан огольцов. Трудяга-человек, каких мало…
— Спасибо за добрые слова, доктор. — Голоса у подполковника и генерала дрожали. Фронтовики ведь, а как разволновались.
А доктор продолжал:
— Ранение у Вершигородцева тяжелое. Опасное. Удар прошел в миллиметре от легкого. Много потеряно крови. Несколько часов не приходил в сознание. Сейчас ему чуть лучше. Волевой он человек. Одно слово, как и вы, фронтовик. Таких лечить и врачам нетрудно. Поставим на ноги капитана, не беспокойтесь. Через денек-второй можно будет с ним и поговорить.
Тут же в коридоре, около палаты, где лежал в забытьи Павел Иванович, дежурил и Георгий Кириллов. Он, как и все сотрудники райотдела, очень волновался за состояние здоровья капитана Вершигородцева, своего любимого наставника. Сержант продекламировал сам себе четвертое четверостишие сочиненного им стихотворения:
За то, что отважный и строгий ты воин,
Тебе наш глубокий сердечный поклон.
Всегда будь заветов великих достоин,
От всех отведи и беду и урон.
А на словах сержант решил сказать капитану, что, сочиняя эти стихи, он видел перед собой безупречную службу Павла Ивановича, он, Вершигородцев, пример для подражания всем милиционерам.
25
Милиция действовала. В поиски преступника включилось областное управление внутренних дел. Все вокзалы, дороги, аэропорты были взяты под наблюдение. Выполнял поручение генерала Евстигнеева и Коровин. Хрустели у него под ногами стебли бурьяна, ветки кустарника. Евгений выбился из сил. Надвигалась ночь. И никаких результатов. Он несколько раз пытался припомнить подробности разговора с Шаршновым. Теперь он не сомневался, что его собутыльник в буфете вокзала и Шаршнов — одно и то же лицо. Вконец измучившись, он сел на траву у маленького шалаша: видно, кто-то из детворы соорудил. И тут Евгений вспомнил, что в буфете Шаршнов говорил ему: «Если надо будет укрыться от милиции, приходи за мост, к копнам сена. В одной из них мой шалаш. За мостом и поезда тише идут. Можно уехать на товарняке».
Коровин вскочил. Он торопливо зашагал по шпалам железнодорожного моста. Внизу бурлила река. Евгений оглянулся. Поселок — как на ладони. Неровные улицы, переулки и десятки электрических лампочек на столбах. Вокзал весь в огнях. Сон, который только что морил Евгения, как рукой сняло. Еще сотня шагов — и поляна с копнами. Дальше темные пятна опушки леса.
Коровин спустился с откоса. Шуршала под ногами галька. И тут от одного из стогов отделился человек, огромный, как глыба. Это он, Женькин собутыльник, Шаршнов. Бандит признал Коровина.

— Откуда взялся, суслик?
— Надо мотать. Милиция на пятки наступает. Убийство мне клеют.
— Напрасно не приклеют. Видно, после нашей выпивки в мокрое дело влип. Теперь, парень, мотай отсюда. Я тебе не пара. Впрочем, я тоже втюрился. Рву когти.
— На товарняк? Здесь вспрыгнем на подножку вагона?
— Большая скорость. Придется у вокзала садиться. — Шаршнов привалился плечом к одинокой ели. Деревце согнулось от тяжести. Страшно вдруг стало Коровину. Он пошатнулся.
— Ты что? Земля не держит?
— Оступился.
— Ладно. Через мост не пойдем. На лодке.
Шаршнов и Коровин спустились к реке. Нашли припасенную Шаршновым в кустах лодку.
— Садись за весла, — прохрипел Шаршнов. От него разило самогоном.
«Пьяный, скотина», — подумал Коровин и налег на весла. Шаршнов с медвежьей силой оттолкнулся от берега.
— Твоего благотворителя, да и моего тоже, Пашку Вершигородцева, секанул по брюху. Блаженный. Верную дорогу все для нашего брата ищет. Преподнес ты ему тоже пилюлю. Воспитатель! Куда прешь! — зашипел Шаршнов. — Там топь, бери правее, к камню.
Оба вылезли на противоположном берегу. Прошли густые заросли. Осмотрелись. Рука бандита коснулась Коровина. Нервное ее напряжение передалось Евгению. Он вдруг засомневался: не хватит, пожалуй, сил задержать. От этой мысли даже вспотел. Громко билось сердце.
— Ложись, — приказал Шаршнов, указывая место поближе к пыхтевшему локомотиву товарняка. — Вот-вот пойдет. Сбегай на вокзал, купи папирос. Жратвы тоже. Голодный, как волк, понял? На червонец. Своих-то, видно, нет.
— Боюсь, — медленно произнес Коровин.
Понравилось это Шаршнову. «Не терпится улизнуть».
— Не бойся. Держись вдоль состава. Прямо выйдешь к вечернему ларьку. Ступай, разомнись. Здесь буду ждать. Поспеши. Этим товарняком уедем. Слышишь, стучат молотки по колесам. Готовят к отправке.
Коровин встал и беспечной походкой обошел товарный состав. Подождал, пока мимо пронесся скорый поезд, и вышел на перрон. Предупредил, кого следовало, купил папирос и бутербродов и тем же путем вернулся к товарняку. Локомотив медленно тронул состав. Коровин сел в тамбур первого вагона и посмотрел туда, где остался Шаршнов. Ни души. Коровин уже решил спрыгнуть с подножки вагона, но тут заметил бандита. Он крупными прыжками догонял вагон, в тамбуре которого ехал Коровин. Евгений подал руку, Шаршнов ухватился за нее одной рукой, второй сжал скобу. И влетел в тамбур. А затем от сильного удара в спину проскочил его и вылетел в противоположную дверь. Ухнул плашмя на железнодорожный гравий и заревел, как раненый зверь. Коровин обхватил его руками и придавил к земле. На помощь бежал постовой милиционер.
— Сыроват, суслик, — простонал Шаршнов и успел подмять под себя Коровина. Но в эту минуту бандит почувствовал у своего горла кольцо чьей-то сильной руки. Шаршнов захрипел и выпустил Евгения. Помогая милиционеру, Коровин обхватил голову бандита руками, зажал рот и нос. Задыхаясь, Шаршнов вскинул правую руку вверх. Но милиционер, молодой и ловкий, сразу же схватил ее и через плечо стал выгибать до тех пор, пока бандит не запросил пощады. Щелкнули наручники.
— Гаденыш, — ядовито прошипел Шаршнов. Налитые кровью глаза его уперлись в тяжело дышавшего Коровина.
— Это, подонок, тебе за Вершигородцева, за сторожа Леонтьева и за себя, — вырвалось у Коровина. — Пуговицу обрезал.
— Жаль, что кишки не выпорол, — желчно сплюнул Шаршнов.
Коровин из дежурки вокзальной милиции позвонил по телефону в районную больницу.
— Сестричка, как Вершигородцев Павел Иванович?
— А вы кто ему будете? — спросила дежурная медсестра.
— Сын я ему, сын.
— Температура тридцать шесть и восемь, дело пошло к лучшему. Не волнуйтесь. Через каждые пять минут то родственники, то товарищи звонят. Неделька — и он будет, как новенький.
— Спасибо. — Коровин осторожно положил телефонную трубку. Улыбка застыла на его осунувшемся лице.
* * *
Только дома, вернувшись ровно через месяц из больницы в сопровождении сияющего от счастья Женьки Коровина, Павел Иванович почувствовал колоссальное облегчение.
Капитан (теперь уже майор) признательно взял за нежные руки жену и с легким смущением произнес:
— Прости.
Елена Тихоновна трогательно расцеловала мужа, помогла ему снять китель, в котором он угодил в больницу, дала ему возможность поплескаться около умывальника, нарядила его во все чистенькое и усадила всех за мирный, заботливо уставленный вкусными блюдами стол.
Но тут шумно открылась дверь и в комнату вбежала разбитная дочь старого учителя Власова — Настя.
— Павел Иванович, я мчалась к вам на всех парах, потому что видела того бандита… ну того, который в то утро шел со стороны огородов к складу… когда сторожа Леонтьева убили.
— Где же он? — серьезно, скрывая иронию, воскликнул Вершигородцев.
— Его повели в наручниках два милиционера.
— Дорогая ты наша свидетельница, — благодарно окинул взглядом боевую гостью майор, — тот бандит уже арестован и браво за это моему спасителю Евгению Коровину.
— Очень хорошо, что он ваш спаситель, а я с ним и разговаривать не хочу. Представляете, Павел Иванович, Елена Тихоновна, полгода за мной ухаживал, а женился на другой…
— Сейчас это можно поправить, — с готовностью, улыбчиво отозвался Женька.
— Как этотак, — не на шутку удивилась зардевшаяся девушка, — ты что ж, как турецкий паша, хочешь заиметь гарем?
— Ничего подобного. Свидетельство о разводе с Витюгиной в нагрудном кармане и греет душу, — констатировал довольный Коровин.
— О, тогда тебе вдвойне повезло. Еще и потому, что у меня уже куплены два билета на концерт. Приглашаю.
— С удовольствием.
Когда веселые Настя Власова и Женя Коровин ушли, Елена Тихоновна любовно проводила их взглядом и вымолвила тихо:
— Хотя бы им теперь повезло.
— Мне кажется — прекрасная пара, — согласился задумчиво Вершигородцев. — Ну, а со мной что будет начальство делать? Сам на пенсию не уйду. Еще подумают, что сдрейфил. Получил, мол, «майора» и — в кусты. Вот, если предложат — тогда другое дело.
Жена притворно тяжело покачала головой: «Вряд ли найдется где еще такой человек…»
1975—1978
ВСТРЕЧА С ДРАКОНОМ

1
С капитаном Вихревым Юдин расследовал дела в паре несколько лет. Им даже дали прозвище литературных героев Конан Дойля. И, действительно, Георгий Юдин привык к Руслану Юрьевичу, а он, надо думать, к нему. Но пришлось им ненадолго расстаться. Юдину предписывалось выехать в Ленинград подковаться, как говорится, в теории, а Вихрев оставался заниматься практикой, набираться классного мастерства. Хотя и без того о нем, как о везучем следователе, ходили легенды не только в областном управлении внутренних дел.
Когда Юдин вернулся с академических курсов, Руслан Юрьевич уже имел майорские погоны. Но и Георгий из старшего лейтенанта превратился в капитана. Они сразу стали искать возможность выехать на какое-нибудь происшествие вдвоем. Случай не заставил себя ждать.
Как-то под вечер в дежурную комнату управления вошла немолодая женщина. Нетрудно было догадаться, что появилась она там неспроста. Озабоченный вид говорил о том, что у нее имеется серьезное дело. А бледное лицо, запыленные туфли, волнение, нерешительность заставляли думать, что она приехала издалека и визит в милицию ей дался нелегко.
Она попросила встречи с Русланом Юрьевичем Вихревым.
— Вы хотите встретиться именно с ним, или вас устроит любой другой следователь? — попытался уточнить дежурный. — Вы знакомы с ним лично?
— Желательно только его. Сама товарища Вихрева не знаю. Но слышала о нем, да и читала в прессе. Он ловко распутывает уловки жуликов, а я приехала из Загорьевска именно по такому делу.
Им, сотрудникам милиции, кажется, что успехи служебного мастерства отражаются лишь на оперативных совещаниях, да в послужном списке, но нет — от народа и это не скроешь.
Проходивший мимо дежурной части начальник следственного отдела УВД Виктор Викторович Белов пригласил женщину к себе, в кабинет.
— Что у вас?
— Да как вам сказать, — уклончиво произнесла женщина, все еще собираясь с мыслями.
— Ну уж выкладывайте, не стесняйтесь, попытаемся разобраться. — Начальник следственного отдела пододвинул ближе к себе пепельницу, размял сигарету, но не закурил. — Что вас привело к нам?
— Да вот неладно у нас не почте вышло. Мне скоро пять десятков стукнет. Половину из них проработала в районном узле связи. Одна такая там осталась. Как говорится, последний из могикан. Вокруг солидных людей нет, одна молодежь. А с нее какой спрос? Да и по характеру я такая, что не могу закрывать глаза на беспорядки.
— Ну, ну, — подбадривал женщину полковник милиции. Ему хотелось конкретности и откровенности. — Я вас слушаю.
— На почте пропала сумка с деньгами. А начальство не заявляет. Сергей Иннокентьевич Любарский думает, что — найдется. А теперь с нас собирают, чтобы погасить недостачу. Разве это правильно?
— А что это за сумка?
— Госбанковская сумка, брезентовая, с металлической застежкой. Ее у нас называют страховой сумкой. В нее начальник Воскресенского почтового отделения Полина Яценко запломбировала десять тысяч рублей, а до нас деньги не дошли.
— Поясните, пожалуйста.
— Это деньги от переводов, собранные от граждан за неделю. Полина Яценко, с ее слов, опечатанную страховую сумку положила в почтовый мешок среди писем, бандеролей. Содержимое мешка она перечислила в реестре. Опечатанный мешок и реестр передала тому, кто занимается кольцевым объездом всех сельских почтовых отделений и собирает почту — шоферу Холодняку и его напарнице сопровождающей Галке Семирухиной. Но вся беда в том, что Яценко, якобы, забыла в реестре написать, что в почтовом мешке лежит страховая сумка с десятью тысячами. И кто-то воспользовался этим.
— А может быть, Яценко не вложила в мешок сумку с деньгами?
— Не исключено. Хотя она — передовик производства. Я с ней работаю лет двенадцать, ничего плохого не замечала.
— Но как она могла забыть написать в реестре о самом главном?
— Представления не имею. Но я другое хочу сказать: какая молодежь пошла: лентяи, бездельники, гулены, грубияны, алчные до денег. Работать не хочу, а зарплату дай высокую. Взять нашу почту — все молоденькие со школьной скамьи, спешат пораньше убежать с работы, чтобы ринуться в общежитие к итальянцам. Они у нас обувную фабрику строят. Сами иностранцы не могут от них отбиться… Курят, пьют, как сапожники. Извините, может, преувеличиваю, есть и у нас, конечно, хорошие девушки. Взять хотя бы Валюшу Цепко. Вожаком молодежи ее считают. Решительная. Она и воюет с такими, как Ахторина, Щербакова, Барабанова.
Полковник нажал кнопку электрического звонка, вмонтированного под крышкой стола. Вошла секретарь. Полковник попросил пригласить к нему Вихрева и Юдина.
Им было предложено записать показания гражданки, назвавшейся Тарасовой Евдокией Петровной. Что они и сделали. А когда озадачившая милицию посетительница ушла, Белов молча, пытливо, вроде бы изучающе, посмотрел на примолкших сыщиков. Они ответили ему таким же долгим, многозначительным взглядом.
— Вы что уставились, точно видите меня впервые, — полусерьезно спросил Белов. — Выкладывайте свои мысли по заявлению Тарасовой.
— М-да, — проронил Вихрев. — Не знаю, что и думать. Моя голова пока на этот счет без особых мыслей. Во всяком случае, один подозреваемый по делу уже есть.
— Заявительница?
— Точно.
— Доказательства?
— Почему загорелась она желанием ехать к нам за сотню километров, хотя в Загорьевске есть своя милиция и прокуратура, — вставил Георгий Юдин.
— Ты же слышал, что она ответила — сюда надежнее. Там, якобы, начальники друг друга покрывают. А Любарский — приятель прокурора, — прокомментировал Вихрев.
— Какие у вас есть еще аргументы, чтобы заподозрить Тарасову?
Вихрев стал оживленно, не особо заботясь о логике, загибать один за другим пальцы:
— Тарасова — работница почты, а кто-то же из них похитил страховую сумку — раз; больше всех заинтересована придать происшествию гласность — два, в-третьих…
Руслана Юрьевича остановил начальник:
— Хватит, достаточно. Сейчас нам не до шуток. К тому же у вас будет время поломать голову над версиями. Принимайте дело к производству и выезжайте в Загорьевск. На передовую линию огня. Оттуда виднее. А против твоих, Вихрев, пунктов в отношении заявительницы я могу выставить столько же, освобождающих ее от подозрения. У нее, на мой взгляд, есть и алиби. Женщиной могут руководить честные мотивы.
— Соглашусь с вами, Виктор Викторович. На меня и моего, надеюсь, коллегу Тарасова произвела неплохое впечатление. Но, как известно, даже самый безобидный человек не так прост уже по одному тому, что чужая душа — потемки. Уверен в одном: нас с капитаном ждет очередное дело…
— Ждет запутанное, непростое дело. Поторопитесь в дорогу.
2
На следующий день, рано утром, прежде чем идти на почту, Вихрев и Юдин заглянули к начальнику Загорьевского районного отдела милиции подполковнику Борисову. Он их словно ждал:
— Вот и они: Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
О пропаже страховой сумки на почте он все знал. Перед нашим приходом сам беседовал с Тарасовой, у которой в подозреваемые угодила Полина Яценко.
— Почему?
— Тарасова неожиданно заявилась вчера, к ночи, в Воскресенское отделение связи и на столе у начальницы отделения среди бумаг нашла настоящий реестр на этот злополучный мешок с почтой. В нем значилась сумка с деньгами. Но Яценко почему-то переписала его. В новом реестре в графе, где записывается сумма денег в страховой сумке, «забывает» написать «десять тысяч»? По забывчивости ли? В спешке ли? А может быть умышленно, тогда какую преследовала цель?
Загорьевск прибывшим сыщикам хорошо был известен по прежним командировкам. Они заблаговременно заняли места в гостинице, будучи уверенные, что в городе им предстоит прожить не один день. Умылись, побрились с дороги и около десяти утра капитан и майор стояли перед двухэтажным обветшалым кирпичным зданием районного узла связи.
Еще через несколько минут они входили в кабинет начальника почты Любарского, рослого, молодого мужчины с сочным баритоном. Все запахи почты поселились и в этой комнате.
Однако, едва открыв дверь, были встречены сухим раздраженным голосом хозяина кабинета:
— Я занят.
Майор Вихрев, не торопясь, подошел к письменному столу и предъявил начальнику удостоверение личности. Он не ждал следователей, но и не удивился, даже знал, что о пропаже денег сообщено в милицию. Руководитель почты суетливо протянул руку и отрекомендовался:
— Любарский Сергей Иннокентьевич.
Только теперь друзья разглядели, что кто-то в кабинете начальника узла замер по стойке «смирно». Это была Тарасова и детективы не знали, объявлять ее им знакомой или нет. Как для нее лучше. На всякий случай без всяких эмоций поздоровались с ней. Она беззвучно ответила шевелением губ и вышла.
Ей вслед Любарский крикнул:
— Все время я вас отпускать с работы не могу. Вчера отпрашивались, сегодня с утра куда-то уходили и снова — сюрпризы. Продолжайте работать. Мне некем вас заменить.
И уже заезжим детективам:
— Времечко пришло для начальников. Демократия. Гласность. Ни с кого нельзя потребовать четкости в работе, зато с меня три шкуры дерут.
Следователи попытались заинтересовать его тем делом, ради которого приехали в Загорьевск. Любарский объявил, что он рад приезду «знатных гостей»:
— Сколько позволяло время я сам пытался разыскивать страховую сумку. Но успеха не имел. Такую пропажу не замажешь. Это не десятка, а десять тысяч. Впрочем, допустил ошибку: нужно было сразу обращаться в милицию.
Любарский вышел из-за стола и во всем своем огромном росте предстал перед сыщиками. Вид у него был внушительный, но и удрученный. Вихрев попросил Любарского ввести их в курс дела. Начальник быстро вернулся к столу, открыл один, второй, третий ящик, наконец, нашел то, что искал. Это было заявление от начальника Вознесенского сельского отделения связи Полины Иосифовны Яценко.
«Докладываю, — писала она, — что мною 23 сентября была вложена страховая сумка с десятью тысячами рублей в почтовый мешок. Уведомление о получении этих денег ко мне до сих пор не поступило».
Любарский повел следователей показывать помещение почты. Миновав узкий коридор, по деревянной лестнице втроем спустились со второго этажа на первый, рабочий. Пахло сургучом, фруктами, отправляемыми в посылках, клеем. За стеклянным барьером девушки стучали штемпелями. Лица работниц серьезные, напряженные, в глазах отражалось холодное ожидание неприятного. Угадывалась гнетущая атмосфера, царившая на почте.
Пропавшая сумка с деньгами здесь была притчей во языцех, каждому, надо думать, было неловко до тошноты от мысли, что его могут заподозрить в мерзком преступлении.
Первая, с кем надо было детально побеседовать и кого официально допросить, в списках значилась начальница Воскресенского отделения связи. Она не заставила себя долго ждать. Открылась дверь: и следователи услышали бодрый и смелый голос дородной женщины лет сорока:
— Разрешите? Кто тут меня вызывал? Кому я понадобилась?
Яценко была весела, добродушно-беззаботна, словно не у нее выкрали сумку с деньгами. Она стояла на пороге выделенного именитым сыщикам кабинета, заслонив собой широкий дверной проем. Ждала приглашения. А когда его получила, поставила рядом два стула и села на них.
Полина Иосифовна сразу же бросилась в атаку:
— Да на кой ляд мне эта авантюра! Еще чего не хватало! Я сумку не клала? Какой подлец может такое сказать? Нашли у меня настоящий реестр от того мешка с записью о десяти тысячах? Ну и что? Заполнила его, да среди бумаг потеряла. Новый настрочила, но в нем уже не записала про деньги. Да у меня в голове не одна эта запись. Сама и за почтальона, и за телефонистку, и за газетного подписчика.
— Сами вы никого не подозреваете? — спросил Вихрев.
— А как же, еще как! Те же молодожены, я их так называю, Холодняк и Семирухина в прошлое воскресенье поехали в Киев и на грузовом такси привезли гарнитур. Спальный. На какие шиши? По сто рублей оклады. Видно, на мои денежки шиковали. Мешок почтовый им вскрыть и заново опечатать плевое дело. Я уверена, они давно уже с моей печати сделали себе дубликат. Эти жулики, видать, месяцами готовились к разбойному нападению на мой почтовый мешок. В реестре карандашом написали «нет» по графе о страховой сумке. А Холодняк, по-моему, судимый. С них начинайте. Припугните их как следует и выложат денежки, если у них остались после поездки в столицу Украины.
3
Наработавшись за день, поздно вечером капитан и майор возвращались в гостиницу. Лишь благодаря тому, что ни Юдин, ни Вихрев не курили, головы после работы оставались ясными, чистыми, способными продолжать мыслить уже в номере, в креслах.

Горничная только была недовольна. Она, фыркнув, наигранно произносила:
— Фу, как вы сургучом пропахли. Опять копались весь день на почте среди бандеролей и посылок. Знаю, знаю, что там деньги исчезли.
Дотошно и кропотливо «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» собирали воедино, казалось бы, случайные штрихи и детали. Вылепливали из малозначительных фактиков и сведений и характеристику всего коллектива, и картину пропажи денег. Накапливалось много данных. Друзья наметили и проверяли несколько концепций. Сопоставляли добытые сведения, факты, выясняли, какие из них ценны и относятся «к их» делу. Достоверность очень многих информаций не подтверждалась.
В гостиничном буфете они наедались булочек с кефиром и шли в тихий холл посидеть на диване. И порассуждать. Работа в милиции одних делает разговорчивыми, общительными, других сдержанными, серьезными. У Юдина с Вихревым было и того и другого понемножку. Когда выдавались вечерами лирические минуты, отдых в полном смысле, они расспрашивали друг друга о жизни. Так Юдин узнал, что с девятого класса, после гибели отца, Руслан Вихрев все свободное время посвящал спорту, готовил себя к службе в милиции. То, что будет работать следователем, он не сомневался. Тренировал молодое сердце для экстремальных ситуаций. Поэтому он и сейчас в свои сорок по-юношески поджарый, энергичный, умеющий как должное выносить эмоциональные перегрузки.
Школьником он по привычке бегал на городской шумный перекресток, где долгие годы с милицейским свистком и пистолетом стоял на посту его отец. Пожилой старшина, сменивший погибшего коллегу, по-мужски крепко прижимал парня к себе и глухо, проникновенно заявлял: «Скоро я уйду на пенсию. Пора. Ты отслужи армию и занимай отцовский пост».
Руслан и сам мечтал об этом. Но его матери не нравились разговоры о службе в милиции. Идти сыну по стопам отца для женщины многое значило. С одной стороны, боялась за Руслана, а с другой, понимала: хорошо для сына продолжить отцовское дело.
Взволнованно, растроганно обнимала она сына, когда тот, после окончания юрфака пришел домой в милицейской форме с погонами лейтенанта. Но годы летят так быстро, что кажется дни проходят медленнее. Вот он уже майор, густая и черная когда-то как смоль шевелюра усеяна серебристой блесткой. Юдин чуть моложе был его, да и то каждое утро находил на голове новые сединки, словно белые ниточки. А лица их украшать стали морщины. Иначе не бывает. Приходится мириться и воспринимать все как должное.
Новое дело пленило коллег. Они с головой ушли в него. Допросили всех без исключения работников почты. Даже мелкие противоречия в их показаниях устраняли на очных ставках.
Из пятидесяти трех сотрудников узла связи двадцать семь человек в тот день не были в здании почты. Это почтальоны, разносчики телеграмм, те, кто был в отпуске, отгуле, после ночной смены. Остается двадцать шесть человек. Из них бухгалтерия, уборщицы, телеграфистки, конюхи, — двенадцать работников. Эти лица непосредственного отношения к мешкам с корреспонденцией не имели. Круг поиска виновного сужался. Он был среди четырнадцати человек. Но и Любарского не было резона подозревать. Таким образом, оставалось тринадцать. Чертова дюжина.
Хотя, если следовать рассуждениям Любарского, философская позиция которого была — скептицизм, то можно было навести тень на каждого почтового работника, из пятидесяти трех.
Холодняка и Семирухину допрашивали дважды. Но так как накапливались неосвещенные вопросы, следователи их пригласили в третий раз.
Влюбленные заявились, как всегда, вдвоем, юные, одухотворенные, с сияющими от счастья глазами. Лишь от того, что они были вместе, ухватившись за руки, им было радостно. Они олицетворяли собой молодость, хотя и омраченную: Галя уже выходила замуж, но развелась, а Николай отбыл два года лишения свободы за кражу и в связи с этим в свои девятнадцать с половиной лет он не имел перспективы служить со своими сверстниками в армии.
Держались «молодожены» на следствии с такой неподкупной искренностью, так естественно, так правдоподобно, что их грешно было заподозрить не только в краже сумки с деньгами, но даже в том, что они с кем-то из знакомых не поздоровались утром.
— Да, — от стеснения, затаив дыхание, произносит Галя, — мы с Колей решили пожениться. Мы еще не знаем точно, когда сыграем свадьбу…
— Что, если бы я потребовал от вас декларацию, отчет, так сказать, об истраченных на мебель деньгах, как бы вы объяснились: — Вихреву, чувствовалось, и самому неловко намекать на то, что будущих молодоженов подозревают в краже сумки с деньгами.
— Мы купили «жилую комнату», — ободренная взглядом Николая, отвечала Галя. — Нам три тысячи дала соседка-бабушка. Но вы ее не сможете спросить об этом. Она позавчера умерла.
— Значит, перед самой смертью подарок вам сделала?
— Да-а, мы ей так благодарны. Коля был у нее за родного внука. Мы ее похоронили. Она была одинокая.
Так же стеснительно, мягко в разговор вступил Николай:
— Если мы угодили в подозреваемые, то напрасно. От Яценко мы получили почтовый мешок опечатанный и сдали его в районной почте Высоцкой опечатанный.
— Она при вас его распечатывала?
— Должна была при нас, если бы в реестре значились деньги, а так как по реестру страховая сумка не показана, то почтовый мешок она обязана была, не распечатывая, передать для выемки бандеролей и ценных бумаг Барабановой.
— Да, но нам известно, что Высоцкая раскрывала почтовый мешок.
— Мы этого не видели, честное слово. — Галя раскраснелась как маков цвет. Николай гладил руку молодой женщины. Точно этими движениями успокаивал ее.
Впрочем, они не очень-то волновались. Либо не чувствовали за собой ни малейшей вины, либо… очень опытные, искусно играют роль безумно влюбленных?
Но следователи все-таки исключили их из круга подозреваемых. Профессиональная проницательность — плод долгой вдумчивой работы. Вихрев ее имел и Юдин с ней не мог не считаться. Он не раз демонстрировал младшему другу свое умение быстро и верно отгадывать какую-нибудь скрытую следственную сущность. Проницательность Вихрева основывалась на знании, опыте, умении. Но даже сейчас, отделив незримым забором тех лиц, которых решили следователи тщательно проверить, от остальных почтовых работников, невольно сомневались, не остался ли преступник за намеченным кругом.
Тогда может случиться самое тяжелое, даже непоправимое: сыщики укокошат уйму времени на пустую ненужную следственную работу, выбьются из сил, упустят, наконец, момент, а преступник в темпе сколотит себе алиби.
4
Легкой стремительной походкой входила к приезжим детективам и помогала вести следствие вожак молодежи почты, как ее называли, Валя Цепко. Быстрым говорком, едва переводя дыхание, она сообщала все добытые за день сведения. Близоруко, через очки смотрела на них, а следователи на нее, ангелоподобную. Она умоляюще поднимала большие серые глаза и строчила как из пулемета:
— Если бы человек каждое утро просыпался с мыслью побольше за день сотворить добра, то никогда бы не случались преступления. Говорят пушкинисты, что Александр Сергеевич не мог прожить и часа, чтобы кому-нибудь не сделать приятного.
Но весь ее разговор, между характеристиками, которые она давала своим комсомольцам, сводился к тому, чтобы побыстрее найти подлого вора. И в то же время она не верила, что кто-то из ее девчат мог пойти по кривой дорожке.
Кропотливо, наблюдательно и дотошно коллеги продолжали вести следствие. Пришло время допросить выемщицу денежных средств Анжелу Высоцкую. Следователей интересовал вопрос, с какой стати она распечатала почтовый мешок, если делать этого она не имела права, так как по реестру в нем не значилась страховая сумка.
— Автоматически сорвала пломбы, по привычке, — подняла удивленно тоненькие плечи Анжела. — Сначала распечатала мешок, потом глянула в реестр. Не увидев в описи страховой сумки, я весь мешок передала выемщице бандеролей Марине Барабановой. Я даже руку не опускала в мешок, следовательно, не могла страховую сумку вытащить и притырить. Так это по-вашему называется. Но хорошо помню, что слова «нет», написанного карандашом по графе, где должна делаться запись о денежных вложениях, не было. Графа была чистой. Это слово могла написать либо Барабанова, либо троица, которая вынимает в самую последнюю очередь все из мешка: Цепко, Ахторина или Щербакова.
— По инструкции вы обязаны только в присутствии других работников почты распечатывать почтовый мешок, а 23 сентября это сделали самостоятельно?
Небольшого роста, на вид почти девочка, но уже мать двоих детей, Высоцкая заерзала на стуле, не находя объяснения. Но через минуту просто и безысходно признала свою вину:
— Допустила грубое нарушение. Но неужели я способна, по-вашему, совершить кражу и вместо своих детей увидеть железную решетку. За семь лет работы на почте имею одни благодарности.
Лицо молодой женщины перекосилось, губы запрыгали. Валя Цепко дала ей отменную характеристику. Сейчас Высоцкая была расстроена:
— Не только вы, но все на почте видят в моем лице преступницу. Косятся, шмыгают носами, что ни попрошу — огрызаются, нервничают.
— Что же тут можно поделать?
— Как что? Побыстрее найти настоящего вора. Но одно могу твердо сказать: в описи слово «нет» мог дописать только тот, кто похитил сумку с деньгами. Сличите почерки и вы убедитесь, что написано это слово не моей рукой.
Распрощавшись с Высоцкой, сыщики приступили к допросу Барабановой, двадцатидвухлетней женщины, муж которой не вернулся из Афганистана и она одна, на очень скудные средства воспитывала трехлетнего сына. Для нее бы, между прочим, сумка с деньгами была бы как нельзя кстати. Но смогла ли она бы присвоить государственные деньги? С ее положительной характеристикой и репутацией. Расследование продолжалось.
На допросе Барабанова в основном молчала или отделывалась односложными предложениями. Тяжелая личная драма отражалась на всем ее опечаленном в двадцать два года облике. В реестр она вообще не смотрела, поэтому, понятно, было ли в нем слово «нет», написанное карандашом, естественно, не знает. Сама она «на-темную» залезла в мешок рукой и вытащила из него бандероли. Распознала их на ощупь. Пальцы руки ее не касались страховой сумки, иначе она бы сразу сказала Высоцкой, что та пропустила выемку денежных ценностей.
5
Последним звеном в цепочке движения почтового мешка были Цепко, Ахторина и Щербакова. Они — сортировщицы писем. В их обязанности входит вытряхнуть все оставшееся после Высоцкой и Барабановой из мешка и приступить к сортировке конвертов.
Юдин с Вихревым, что называется, находились в пиковом положении: дошли до конца обработки почтового мешка, а вора не установили. Что касается Цепко, Ахториной и Щербаковой, то пока они вели следствие, у них сложилось впечатление, что до этих девушек страховая сумка дойти не могла, а если бы и могла, то, при наличии в этом звене безупречно честной Валентины, похитить Ахториной или Щербаковой страховой сумки невозможно.
— А не могла ли в этот момент отсутствовать Цепко, — заметил как-то Юдин. Вихрев тотчас отреагировал:
— Надо пригласить Валентину и спросить об этом. Только вряд ли.
Пришла Валентина и подтвердила:
— Выемка писем из поступивших из отделений связи почтовых мешков — это часы «пик». В сортировке мы все трое, засучив рукава, работаем. На минуту никуда нельзя отлучиться, и 23 сентября так было. Конечно, мы друг за другом не шпионим. Каждый берет свою долю писем и сортирует. И так пока весь мешок не пересортируем.
— Расскажите про Ахторину и Щербакову.
— Задушевные подруги. К итальянцам по ночам шляются, потом весь день в сортировке хихикают да порошки глотают. Говорят, от ангины и гриппа. Скорее всего, распустились и от ребят лечатся. Но, думаю, что прикарманить чужую сумку струсят. Тюрьма ведь, а у них ребята на уме. Музыка, дискотеки, вино, сигареты. Вы побеседуйте с ними.
На первой же беседе с Ксенией Щербаковой нельзя было не отметить ее опытности, хитрости. Год как окончила среднюю школу. Характеристика оттуда на нее пришла неприятная:
«Училась плохо, физического труда тоже избегала, не считалась с чужим мнением, конфликтовала с учителями. Замечена в обмане старших. Рано вступила в интимные отношения. В десятом классе сделана операция по имени «аборт».
Ксения вошла к следователям в кабинет накрахмаленная, одетая с иголочки. Милое личико измазано до такой степени, что вряд ли бы ее узнавала родная мать. Она стояла и словно танцевала, кривляясь, ее всю водило из стороны в сторону. Она призывно ухмылялась.
— Садитесь, — предложили ей.
— Нет уж, — забалансировала руками, точно вот-вот собиралась начать кадриль, — моему отчиму пять лет назад следователь тоже сказал «садись», так он до сих пор сидит.
— Будете стоять? Неудобно же? — резонно заметил Георгий.
— Присяду, в приметы не верю. Вас называть мне граждане следователи или товарищи. В первом случае по-казенному выйдет.
О том, что пропала страховая сумка, она краем уха слышала, но кто ее умыкнул, она знать не знает и слыхать не слыхивала. Вы, надеюсь, не намекаете на меня. Любопытно, как бы я это могла сделать. Впрочем, десять тысяч мне бы пригодились. Реестра никакого не видела…
Иногда подчиняешься побуждению, не всегда ясному самому себе. Лишь скажешь — потом подумаешь. Так было и на этот раз. Юдин брякнул:
— И вы не знаете, как эта страховая сумка защелкивается? — Вихрев недоумевающе осадил коллегу взглядом, но было поздно. Ксения беспокойно отреагировала на реплику капитана:
— Мой младший брат играл этой застежкой, где он ее взял, откуда принес в дом — не знаю. Но этим вы ничего не сможете доказать. Все это одни ваши слова, а конкретно против нас ничего нет.
Сыщики недоумевали от такого поворота событий. Юдин побежал изъять застежку. И вот она у него в руках с обгорелыми концами парусины.
Кто ее мог сжечь? А то, что ее сожгли, предварительно, естественно, забрав из нее деньги, сомнений не было.
Вихрев позвонил в УВД Белову. В трубке он услышал знакомый, ободряющий и рассудительный голос начальника следственного отдела. Полковник, выяснив все досконально, обещал приехать в Загорьевск на помощь.
6
Положив телефонную трубку, Вихрев посмотрел на часы. Они показывали четверть седьмого. Пинкертонам оставалось допросить Ахторину и программу сегодняшнего дня можно считать выполненной.
— Насчет иностранцев желаете меня спросить, — осведомилась протяжным певучим голосом девушка. — Все могу рассказать. Мне с ними приятно. Душа отдыхает. Вышла бы за любого замуж. Но имейте в виду, я не нахалка. Мужички сами меня зовут и угощают. Чем расплачиваюсь? Это мое личное дело. Расплачиваюсь своим. Ни у кого ничего не одалживаю. Я — продажная? Нисколечко. Я сама их покупаю за один поцелуй.
По внешнему виду Ахторина чем-то сродни была Щербаковой: такая же стройная, высокая, симпатичная. Но более горделивая, женственная: движения ленивые, мягкие, затейливые.
Она очень спокойно, даже величественно вытащила из сумочки сигарету и, не спрашивая разрешения, закурила. Поискала глазами, куда бы стряхнуть пепел. Я подвинул пепельницу. Затянувшись, затем медленно выпустив кольца дыма, она уточнила:

— В «ромашку» не играю. Если доступна, то только тем, кто мне нравится. И в течение вечера партнеров не меняю. С законами стараюсь ладить. Мое имя — Виктория, что означает — победа. Учтите.
Пожалуй, Ахторина была самой красивой девушкой из тех, кого офицеры милиции за неделю допросили. И как все красавицы, очень чистоплотная. Одежда на ней была модная, заграничная, надушенная до предела. На сторублевую зарплату и на пятую часть она бы не в состоянии была бы себя так содержать. Ясно, что великолепная Вика была на иждивении богатых кавалеров и гордилась этим. А детективы думали, что она будет смущаться.
Виктория сама изучала их пристальным взглядом. Демонстративно закидывала ногу на ногу, поглаживала колено и старалась засечь, любуются ли ее длинными ногами, обтянутыми чертовски модными ажурными капроновыми чулками, или как «сухари» отворачивают глаза?
Вульгарная откровенность Ахториной не пришлась по душе Руслану Юрьевичу, как, впрочем, и Юдину. Вихрев встал из-за стола и стал прохаживаться по кабинету. Бормотал себе под нос: «Эротика нам не чужда, но не в рабочее время…»
Когда майор заговорил о пропавшей на почте сумке с деньгами, Виктория подняла воротничок оранжевой не то шелковой, не то нейлоновой кофты, словно ей стало холодно, долго молчала, разглядывая не то кончик сигареты, не то свой отлично отполированный маникюр изящного ноготка. Затем повела плечами в недоумении:
— Вы же у меня отобрали образцы почерка, вот и сравните, кто в описи вставил карандашом слово «нет». Тот и хапнул десять тысчонок.
Было уже поздно и офицеры распрощались с Викторией, а Юдин еще раз прочитал на нее характеристику:
«В шесть лет потеряла родителей, воспитывается у тетки без ласки, в строгости. Рано познала тяжелый труд. С малых лет усвоила истину: «что нашла — то твое. На людей не надейся». В первый же день работы на почте завела сберкнижку. До приезда иностранцев в город была постоянной посетительницей общежития строителей. Будучи в десятом классе, уехала почти на месяц с артистами, гастролировавшими в Загорьевске. В противовес Щербаковой, к деньгам не жадная, любит сорить купюрами. Практически каждой женщине на почте что-нибудь подарила: духи, кофточки, колготки… Однако честную жизнь ненавидит, как и ее подруга Щербакова. По этой общей черте и сошлись они характерами».
Кто же совершил кражу денег? Этот вопрос ежедневно обсуждали друзья. Но одно дело было говорить об этом, когда они только приступили к расследованию, другое — сейчас. Практически все работники почты ими были допрошены. Но казалось, следователи не продвинулись ни на йоту к разгадке таинственного исчезновения страховой сумки.
— Подождем экспертизы почерка, — заметил Вихрев, и тут же к майору, капитану, легкий на помине, поступил конверт из УВД.
— Пришло заключение, — сказал вошедший дежурный райотдела.
Сыщики разом оживились. Руслан Юрьевич извлек из него листы машинописного текста.
— Читай, — попросил Юдин коллегу.
Вихрев быстро пробежал глазами заключение почерковедческой экспертизы. Его густые брови все больше хмурились.
— И кто, ты думаешь, написал в описи слово «нет»? — поднял майор глаза.
— Тот, кто совершил кражу сумки. Так пророчествовали Высоцкая и Щербакова, — ответил капитан майору, — так кто же, не тяни душу?
— Так вот сообщаю, дружище доктор Ватсон, оно в реестр внесено рукой самой Высоцкой. Как прикажешь это понимать?
— Металлическая застежка от страховой сумки найдена у Щербаковой, а реестр «запачкала» Высоцкая? Совсем мы что-то запутались. Будь они подругами — куда ни шло. Но женщины ненавидят друг друга, поэтому стать заговорщиками в краже никак, как будто, не могли.
Теперь оба сыщика озадаченно заметались по узенькому кабинету, потом Руслан Юрьевич и Георгий позвонили традиционно, как это делали каждый вечер, домой, поговорили со своими женами, осведомились о новостях и собрались уходить в гостиницу: утро вечера мудренее. Уже закрыли и опечатали сейф.
Но им не суждено было этой ночью отдыхать. За дверью послышался тяжелый суетливый топот. Появившийся снова дежурный теперь сообщил ужасную новость: на центральной улице убита Ахторина. Часы показывали около девяти вечера.
7
В юридическом институте студентов учили качественному осмотру места происшествия. Тысячи, пожалуй, раз за время службы Георгий с Вихревым теорию закрепили практикой. По умелому осмотру места происшествия судят о мастерстве следователя. Можно его начинать с центра и кончить периферией, или наоборот, с дальних участков подходить к основному месту преступления.
Осмотр места происшествия всегда искусство следственной практики. Но в этих действиях есть самый тяжелый случай для любого даже самого опытного следователя — это описание и осмотр лишенного жизни, окровавленного человеческого тела. Помимо квалификации — точности, собранности, компетентности — нужно обыкновенное мужество.
В арке между домами, на асфальте лежала мертвая, с обезображенным лицом сортировщица. На ней была та же оранжевая нейлоновая кофточка, в которой она сидела на допросе перед следователями около двух часов назад. Из порванного выреза на груди выглядывали испачканные кровью кружева тонкой импортной сорочки. Юбка была задрана, изорвана. Рядом с погибшей лежала открытая дамская сумочка. В ней находились тридцать семь копеек и ампула с морфием.

Всю ночь, не сомкнув глаз, сыщики помогали прокурору. Дело о краже страховой сумки окрасилось новой еще более таинственной ситуацией. Употребляла ли Ахторина наркотики? Кто и зачем лишил ее жизни? Кому помешала Виктория? И хотя напоказ были выставлены доказательства тому, что нападение на Ахторину связано с покушением на изнасилование, в эти признаки не верили. На некоторые вопросы ждали ответа от вскрытия тела покойной Ахториной в морге.
Врач следователям сказал так: то, что ножевые удары в основном пришлись молодой женщине в бок, заставляет думать, что убийца шел с Викторией рядом, был ее спутником, скорее всего для Ахториной не случайный человек. И шла она не домой, а из дома. Тетка, у которой жила Ахторина, заявила, что племянница пришла из милиции после допроса возбужденная и ждала кого-то. В полдевятого вечера постучали в окно, она вышла и больше не возвращалась. Взяла она с собой какой-то сверток. При убитой его уже не было. Что было в свертке, кому она его вынесла?
На почте сказали, что Ахторину и Щербакову, которые последние дни были молчаливы, но работали прилежнее, неоднократно вызывал к телефону мужчина с хриплым, простуженным голосом. Всякий раз после телефонного разговора подруги нервозно и боязливо шушукались друг с другом о каком-то «Драконе».
А Любарский даже видел Ахторину как-то с молодым человеком около гастронома. В почтовый ящик Виктория опускала белый конверт. Любарский же как-то заметил обеих подруг в компании того же молодого человека. В парке. Кто он?
Пришлось снова побеспокоить тетку Виктории Ахториной. О письме она была в курсе. Племянница посылала его в Мурманск, подруге по имени Жанна, с которой познакомилась истекшим летом на курорте в Сочи. Точного адреса Жанны не знала. Дополнила сведения о том молодом человеке, с которым видел Любарский два дня назад Викторию:
— Позавчера я в неурочный час явилась домой с работы. Застала племянницу с мужчиной лет тридцати. Он произвел неприятное впечатление: настороженный, пугливый, злой. Рыжеватыми бровями шевелит, как морж. Заметила на левой руке наколку «Дракон».

— Что было дальше? — сведения сыщикам поступали очень полезные.
— Вижу и чувствую: квартира заполнена едким дымом. Они сжигали какую-то тряпку. После и появилась у нас дома металлическая защелка. Ее забрал у нас младший брат Щербаковой.
— Эта защелка от страховой сумки, похищенной на почте…
— Не могу этого с точностью сказать. Но Виктория меня просила об увиденном никому ничего не говорить, особенно милиции, иначе, мол ей будет плохо, посадят в тюрьму.
8
Часов в восемь утра, после бессонной ночи, Юдин предложил Руслану Юрьевичу сходить в гостиницу, побриться, умыться и позавтракать. В это время из травматологического отделения больницы поступило новое сногсшибательное сообщение: в кустах сирени, около железнодорожного вокзала, с черепной травмой обнаружена Щербакова. Была без сознания. В настоящее время пришла в себя. Следователям разрешили с ней увидеться с условием, что вопросы ей будут задавать «не очень серьезные», чтобы ее не разволновать, причем отвечать на них Щербакова может только письменно.
Сотрудники вошли в палату, естественно, решив о гибели Ахториной ничего не говорить. Одетые в белоснежные халаты, мягко прошлись по ковровым дорожкам. Остановились у койки, на которой лежала около окна Щербакова. Посетителей обдало запахом гипса, йода, пряных лекарств. Голову их подопечной врачи укутали толстым слоем бинтов. Ксения застывшими глазами смотрела в потолок.
Увидев гостей и обо всем догадавшись, Щербакова заплакала, зашмыгала носом. Врач наклонилась над ней и ласковыми словами утешила девушку. Глаза Ксении начали высыхать, но дорожки от слез так и остались на щеках.
Руслан Юрьевич дал Ксении шариковую ручку. Лист бумаги положили перед ее глазами на картон. Попросил рассказать, что с ней произошло. Через несколько минут они читали каракули тяжело раненной девушки:
«Три дня назад к Ахториной приехал курортный ухажер, Заморенов Ипполит. «Дракон», «Прыщ». Она не знала, как от него отбиться: в Сочи летом он ей был нужен, а здесь — нет. Без него хватало. В десять часов вечера, вчера, он вызвал меня из дома, сказал, что окончательно поссорился с Викторией и просил, чтобы я проводила его до железнодорожного вокзала. Говорил, что к нему постоянно привязывается милиция, а когда он будет находиться с девушкой, то «легавые» не тронут. Я согласилась. Его поезд отправлялся около двадцати трех часов. Было время погулять. Он предложил пройтись к реке. Дальше ничего не помню».
Ксения подробно описала Заморенова:
«Двадцать восемь лет. Без определенного места жительства и работы. Среднего роста. Плечи покатые, брови и усы сбрил, прическа короткая щетинистая, мочка правого уха оторвана, на левой руке между большим и указательным пальцем татуировка в виде креста. На правой текст — «Дракон». Имел намерение выехать в Мурманск».
Дел следователям прибавлялось. Кто-то совершал преступления, тяжесть которых постоянно увеличивалась. К майору, капитану приехал на черной «Волге» Виктор Викторович Белов. Он остался в Загорьевске верховодить, а подчиненных самолетом отправил в Мурманск.
Прилетели капитан и майор в Заполярье в субботу. В помещении управления внутренних дел стояла тишина, несла службу лишь дежурная часть. Оперативник в звании старшего лейтенанта проверил у приезжих коллег документы, пригладил ладонью и без того безукоризненно прилизанные волосы и спросил, когда мы намерены начать работу с Замореновым?
— Как, разве он задержан? — от удивления детективы открыли рты.
— Похоже, вы разыскиваете того, кто сидит у нас в изоляторе. Ночью задержали. Подозревается в ношении холодного оружия. В железнодорожном ресторане пугал соседа по столику финкой, а тот заявил в транспортную милицию. Но он назвался Лапландиным. Документов не имел.
Вихрев попросил дежурного:
— Сначала дозвольте-ка посмотреть на оруженосца в дверной глазок.
— Может устали, обмякли с дороги, отдохнете часок, а потом и займетесь? — заботился о гостях старший лейтенант.
— Некогда отдыхать, — вставил Юдин, а Вихрев поддержал его кивком головы. Действительно, каждая минута была дорога.
Старший лейтенант повел нас по длинному коридору ИВС, куда выходили двери комнат, а лучше сказать камер-изоляторов.
— Самсонов, — крикнул офицер своему сержанту милиции, охранявшему арестованных. — Подойди ко мне. — А когда тот подошел, продолжал: — Проведи майора и капитана к тому, которого задержали ночью с финкой.
— К Лапландину? — уточнил сержант.
— Наши гости разберутся, Лапландин он или кто другой.
9
Вихрев открыл окошечко в двери комнаты-изолятора и, сначала он, потом Георгий, увидели лежавшего на нарах молодого мужчину. Свет от зарешеченного окна падал на его ноги, черты лица скрывались в тени.
— Допросим сразу, — у Вихрева возникло желание немедленно с дороги, несмотря на усталость, приступить к беседе с задержанным. Слишком много он с Юдиным пережили за время расследования дела о пропаже десяти тысяч на почте, переволновались в связи с убийством Ахториной и покушением науничтожение Щербаковой, чтобы и дальше держать себя в нервном напряжении.
Сержант открыл дверь. Сотрудники вошли внутрь изолятора.
— Заморенов, встаньте, — громко скомандовал Юдин.
Лежавший на нарах привстал и сонно посмотрел на вошедших.
— Это вы ко мне?
— Здесь только вас мы видим, — уточнил Руслан Юрьевич, — прекратите играть спектакль. Мы приехали из Загорьевска.
— Это мне ни о чем не говорит. Уверяю, впервые слышу о таком пункте. Возможно, в нем и живут люди, но я там не бывал.
Слишком ясно сыщики представляли себе Заморенова, с прозвищами «Дракон» и «Прыщ», чтобы ошибиться. В Мурманск заехал он, как следователи и высчитали. С земляным лицом, словно припудренным дорожной пылью, слегка рябой, с бородавкой у самого носа, с выколотым на левой руке крестом, под которым было написано «Не попадись в лапы…» Дальше шло грязное слово. Девизом своим «Прыщ» избрал формулу «Не попадись». И попался. Теперь они в этом не сомневались. Он находился в «тех» «лапах». Встреча с «Драконом» состоялась.
От чувства, что близко разоблачение убийцы, муторный холодок прошелся по лопаткам сотрудников милиции. Да и у Вихрева, заметно, вспотели руки. Но через секунду они оба овладели собой.
За что же он убил красавицу Викторию Ахторину, почему покушался на жизнь ее не менее симпатичной подруги Ксении Щербаковой — милых, к несчастью, распущенных девушек? Это еще предстояло узнать.
— Товарищ сержант, принесите нам две табуретки и бумагу, мы начнем допрашивать арестованного.
— Задержанного, — возмутился искусно Заморенов. — Примите к сведению мою поправку. — Прыщ, он же Дракон держал себя надменно, имея большой запас самообладания для экстремальных ситуаций.
— Арестованного, — четко повторил Руслан Юрьевич.
От того, что Вихрев изо всех сил напряг память, работу мозга, да и волю, вопросы он задавал ясные, как клетки в ученической тетради, логически цепкие, как звенья одной цепи. Помогал ему и верный капитан Георгий Юдин.
— Вам нет смысла отпираться от Загорьевска.
— Согласен. Не иголка, меня там видели. Вашу арифметику усвоил за три судимости. Предвосхищу ваш следующий вопрос. В Загорьевск приехал с Урала. Там жил тайно у одной девицы, потому выдавать ее адрес не стану, и не пытайте. Да он вам и не нужен.
— Каким поездом приехали в Заполярье? — вопросы задавали следователи оба.
— Москва — Мурманск.
— В котором часу вышли в Кандалакше?
— Какое это имеет значение?
— Самое прямое. Вы лжете. Установлен таксист, который вез вас в Мурманск, — Вихрев сказал это наугад и попал в точку. Он исходил из того, что Заморенов боялся милиции, а, значит, не решится ехать в поезде.
— Добирался не с Кандалакши, а с Петрозаводска на «Волге». Я три месяца назад освободился. Еще не истратил деньги. А я их кучу заработал в Магаданском крае на трелевке леса. Будут еще вопросы?
— Значит, признаетесь, что вы — Заморенов?
— Допустим.
— В Мурманске у кого остановились?
— Ни у кого. На вокзале провел ночь. Куда вы гнете? Выпустили меня на волю, а теперь страдаете, жаль стало. Я-то знаю, если вы захотите, то и у праведника грешки найдете, щуку утопите.
Юдин интуитивно почувствовал, не зря они с Вихревым в самолете не сомкнули глаз, на сто процентов уверенные, что встретятся с Замореновым. И готовились к его допросу.
Лицо Прыща заострилось, точно все его умственное напряжение по закону центробежной силы стеклось к губам, носу, подбородку. Мысль о поиске алиби билась в его сморщенном лбу.
— Я вам противен, граждане следователи, но, может, и у меня нет особых симпатий к милиции. Впрочем, как сказал Бальзак, мы не луидоры, чтобы всем нравиться. Однако это не причина состязаться в нападках друг на друга. У вас власть, у меня паразитические замашки. Но я клянусь, после шести лет тюрьмы и колоний я «завязал». Да, я был в Загорьевске, повидался с курортной своей возлюбленной, почтаркой Викой и уехал, чтобы путешествовать дальше…
— На этот раз к Жанне?
— Что за чушь? Впрочем, мели Емеля, твоя неделя.
— Ну, ладно, о Жанне поговорим чуть позже. Начнем с убийства…
— Что?! Что?! Мокрое дело пришиваете? Ни к какому преступлению там не причастен. И вообще, нигде не причастен. Повторяю: я «завязал».
— Заморенов, сейчас мы вас страшно обрадуем. Вы не знаете самого главного. Щербакова жива.
Прыщ на мгновение замер, точно кот перед прыжком на мышь. Глаза его стали вылезать из орбит и мы подумали, что он подавился. Но через несколько секунд он убрал голову в пиджак и сжался в комок, нецензурно выругавшись, гаркнул изо всех сил:
— Что вы в грязи копаетесь?
— Не обрастайте навозом, и мы не станем дерьмо тормошить, — в тон Заморенову, но более спокойно заметил Вихрев.
— Слушайте, граждане следователи, — наконец, тоже спокойно выговорил Прыщ, — вы утомили меня своей рассудительностью. Вам, наверное, много платят, раз вы такие умные. Мне вот-вот должны принести бурду под громким названием рассольник, я поем его, и мы с вами продолжим беседу. А кто кого убил или ограбил, мне это без надобности. Не насыщайте меня подобной информацией. Для меня это, как для зайца наперсток. — Заморенов снова невежливо в присутствии «гостей» выругался.
10
Сыщики оставили Прыща наслаждаться одиночеством, сами вышли на свежий воздух. Заморенову они дали большой заряд подумать о том, что он попался. Им с ним разговаривать пока было не о чем. Теперь надо было найти того, к кому приехал убийца в этот далекий северный город. Известно было лишь имя мурманчанки «Жанна».
Когда следователи очутились после двух часов беседы с Замореновым на улице, то поразились изменчивой заполярной погоде. На тротуарах лежало тонкое белое покрывало. И это в сентябре. Воздух, очищенный лениво падающими хлопьями снега, был свеж и ароматен.
Задумавшись, капитан и майор не заметили, как прошли до конца центральную улицу, гостиницу, в которой решили расположиться, несколько переулков, и неожиданно вышли на окраину города, к кладбищу.
Хоть они и гордились тем, что не курят и голова на плечах от этого всегда свежая, на этот раз она была тяжелой. И у Юдина, и у его Шерлока Холмса. У Георгия, к тому же, во рту расположился горьковато-едкий привкус. Ему даже подумалось, не простудился ли в дороге. Сейчас, когда возбуждение, не покидавшее капитана при допросе Прыща, прошло, захотелось ткнуться в постель и отоспаться.
Оба взад-вперед прошлись вдоль кирпичной стены кладбища, слушая, как шумят у оградок вековые деревья, охраняя вечный покой живших когда-то разных людей.
Вихрев вдруг остановился и неожиданно для коллеги произнес:
— Заморенова расстреляют и ему ни на одном кладбище не найдется места. Ему не стоило появляться на божий свет.
— Всем таким, как он, — ответил «доктор Ватсон».
11
Отдохнув час-другой, друзья снова пришли в управление. И занялись проверкой личных вещей Заморенова, отобранных при обыске во время задержания. Побеседовали с двумя милиционерами, которые задерживали Прыща в ресторане. Затем стали вместе с мурманчанами гадать, как найти неизвестную подругу «Дракона» — Жанну.
Когда Щербакова провожала Заморенова, он был с чемоданом-дипломатом. Сейчас его при нем не было. Стало быть, он оставлен либо у той самой Жанны, если он ее уже посетил, либо на вокзале в камере хранения.
Ахторина вышла из дома, накануне убийства, со свертком. У погибшей его не было, значит, сверток перекочевал к убийце. Может быть, из-за этого свертка Заморенов лишил жизни Викторию?
Надо искать дипломат. В нем, казалось, будет разгадка диких преступлений Прыща. Паспортный стол дал справку: в городе проживает сто четырнадцать Жанн в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Кто-то предложил обратиться к ним по телевидению, объявить, что следствие ищет ту, у которой остановился этой ночью молодой мужчина. Но, увы, отвергли эту идею. К «той» Жанне нужно было прийти неожиданно, сделать, возможно, обыск, если она добровольно не выдаст вещи Дракона.
Поэтому разделили город на участки, создали оперативные группы и стали из квартиры в квартиру обходить всех Жанн. Интересовала та, которая отдыхала этим летом в Сочи.
Три долгих дня сотрудникам милиции понадобилось на эту однообразную работу. Но труд увенчался успехом. И как всегда в таких случаях бывает, не потребовалось никакой затейливости.
У одной из Жанн, по фамилии Носкова, на подоконнике, опергруппа, Юдин и Вихрев обнаружили письмо Ахториной. Она просила принять на временное проживание Ипполита Заморенова.
Мурманчанка Жанна не стала долго с уголовным розыском объясняться, с готовностью вытащила из-под дивана чемоданчик Заморенова. Сотрудники, затаив дыхание, взломали отверткой его. Там лежали пачки денег. Каждая перетянута полоской бумаги, по которой шла подпись начальника Воскресенского почтового отделения Полины Яценко. Их насчитали девять тысяч триста рублей.
Настал час снова встретиться с Прыщом-Драконом. Теперь в лучших условиях, в кабинете начальника УВД. Его доставил конвой. Вихрев, едва сдерживая ликование, огорошил Заморенова первой фразой:
— Ну что, Заморенов, Жанну Носкову нашли. Дипломат твой в присутствии понятых вскрыли. Деньги пересчитали. Изъяли. Вот они, полюбуйся. Трех пачек хватит на показ или все выложить?
Лицо Прыща так налилось кровью, что даже посинело. Он завертелся на стуле, стал грызть ногти, но не думал сдаваться:
— Деньги мне дала Виктория Ахторина. Мы с ней собирались сюда приехать, но в последнюю минуту мы с этой дамой поругались и я один ушел на вокзал. А если ее кто укокошил — я не в курсе остального. Дайте сигаретку. — После нескольких затяжек он притушил окурок в пепельнице.
А что если Дракон дает правдивые показания? А он стоял на своем. Следователи доставили его в Загорьевск. Для очной ставки с Щербаковой. Но до этого дело не дошло.

Вихрев снова стал убеждать Заморенова, склонять его к откровенному признанию:
— Раскайся, Ипполит. Может быть, не веришь, что Щербакова жива? Вот ее собственноручное письмо. Мы ее посетили в больнице и тебе с ней свидание устроим. Теперь до Ксении рукой подать… Извини, я перешел на «ты». «Вы» — это слишком уважительно. Не извивайся как уж. Нет резона. Она действительно не на том свете, а на этом.
Прыщ уже второй раз на допросе оказался в тупике. Он посмотрел краем глаза показания Щербаковой и небрежно отодвинул исписанный лист бумаги от себя. Опустил голову к коленям, точно собирался с мыслями и делал выбор: все рассказать или закатить истерику. Остановился на последнем. Он уперся локтями в стол, обхватил голову руками и стал, как спятивший с ума, рвать на себя волосы.
Побесился и перестал. Все молча выжидали этот момент.
— Ну, будешь давать правдивые показания: время идет не в твою пользу, — многозначительно поднял палец Вихрев.
— Буду, буду… Эх, следователи, знали бы вы мое детство. Жил я с мальства как червяк в навозе. Познал пьянство и свинство. Менялись отчимы. Матери было не до меня. Если говорить по-вашему, так она содержала притон. Ее подруги научили меня с четырнадцати лет всему. Пил, играл в карты, отнимал вещи, деньги. Неужели я доживаю последние дни?..
— Ближе к делу, Ипполит, — заметил начальник управления внутренних дел, присутствовавший на допросе. — И не забудь уточнить, нет ли за тобой в Мурманске каких-либо преступлений?
— Нет, нет, а в Загорьевске есть. Сумку с деньгами неожиданно обнаружила в почтовом мешке Ахторина. Поделилась тайной с Щербаковой. В реестре подделал я почерк Высоцкой. Все данные на этот счет девчата мне дали. В остальном я мастер: денежные знаки рисую — комар носа не подточит. Когда мне Ахторина вынесла сверток с деньгами, я делить его на троих не стал. Решил от одной и второй избавиться.
— А про деньги что Щербаковой говорил?
— Наплел ей целый короб. Мол, они, деньжата, остались у ее подруги, Ахториной. Посоветовал Ксении деньги поделить с Викторией. А мне, вроде бы, дензнаки ни к чему, своих будто бы в избытке.
— И она поверила?
— Еще как. «Куколки» нечасто рождаются умными…
Вот и вся печальная детективная повесть. Увы, счастливых историй в этом жанре не бывает.
* * *
После суда Ксения Щербакова сочла необходимым засвидетельствовать свое почтение подполковнику Вихреву и майору Юдину. Следователи встретили девушку любезно. Поправилась она сравнительно быстро. Но, увы, Ксения была не только потерпевшей, но и обвиняемой
Усевшись поудобнее, она достала из сумочки пачку дорогих сигарет, закурила, безучастно подняла глаза к потолку, не торопясь выпустила кольца дыма изо рта, так же равнодушно проговорила:
— Вы здорово поработали. И все же я бы не хотела, чтобы массивными плечами «Дракона» удобряли землю. Пусть бы жил лет двадцать в тюряге. Там бы он хоть прочувствовал свое злодеяние, а так — раз и нету его. Пуля — дура.
— Суд решил все по закону, — резюмировал Вихрев, а Юдин добавил:
— Но почему его физиономия ехидно расплылась в улыбке, когда ты давала против него показания, изобличала его?
— Жалел, что не укокошил меня. В конце концов мне его не видеть больше никогда. Во всяком случае, этого я хочу. Да и вообще, мне все безразлично.
— Где думаешь работать? Надо ж отбывать наказание.
— Если бы не исправительные работы, то уехала бы отсюда. Тяжело без настоящих родных и приличных знакомых. Мать под влиянием отчима, обо мне забывает… Придется на почте год торчать, мозолить всем глаза. А потом, может быть, что-нибудь удастся и хорошее в жизни сделать. Повезло мне уже в том, что меня обвинили не в краже, а в присвоении найденных денег, а это статья полегче… Ну, дай вам Бог здоровья, я пойду. Прощайте.
Следователи искренне пожелали добра и ума еще одной своей «героине».
1989—1990
ДЕЛО № 14

1
Утром, когда в сонную тишину комнаты вползает через щели оконного занавеса синева рассвета, хорошо поваляться в постели. Благо — выходной день. Ведь еще с понедельника ждал этого дня, чтобы отоспаться за всю неделю. Так или иначе суббота подходит, а за ней — воскресенье. Тут уж на зорьке отключаются все рефлексы. Ясно слышу, как в коридоре в полную силу звенит дверной звонок, а окончательно проснуться не могу, хоть продирай глаза руками. И если бы работал не в милиции, а в какой-нибудь артели, ей-богу, не торопился бы открывать дверь.
Но делать нечего. Отбрасываю ногами легкое байковое одеяло. Колени как можно ближе подношу к груди, рывок — и я в сидячем положении.
Итак, прежде всего, сколько времени? Тянусь к именному «Старту» в анодированном корпусе: половина восьмого.
В трусах, майке, шлепанцах, с предусмотрительной осторожностью смотрю в дверной «глазок». Так и есть, в следственном отделе управления вспомнили обо мне. И вот уже на моем пороге самый исполнительный человек, каких я только знал, — старшина Хафизов.
Круглое лицо расплылось в улыбке. Он все еще продолжает нажимать пальцами кнопку электрического звонка.
С тоскою смотрю на плечистого, веснушчатого посланца.
В первую секунду мне хочется слукавить, придумать версию о недомогании, но всепонимающий Хафизов, прищурив, точно от яркого света, карие глаза, ухмыляется: понял, что я здоров, а следовательно, проблем для него нет. Может с безмятежной улыбкой взять в охапку, отнести меня в отдел.
Значит, дежурить. Вне всякой очереди. Кому ж еще «ремонтировать» лопнувший график? Начальство убеждено, что со всеми молодыми поступают испокон веков точно так же.
Впрочем, дежурство милицейское, когда нет краж, убийств, драк и тому подобных происшествий, совсем необременительно, от него почти не устаешь.
Хуже, когда всю ночь стоишь у трупа автомобилем раздавленного человека или пересматриваешь уйму стеклянных банок обворованного магазина, отыскивая отпечатки пальцев. Но не каждую ночь случается такое. Заступая на дежурство, надеешься, что все будет мирно, и тут же чувствуешь, что спокойное дежурство не удастся.
Есть неоспоримое преимущество спешного дежурства против запланированного: не надо с вечера, как строевому матросу, драить пуговицы, бляхи, утюжить штанины, а утром чуть свет вздрагивать от мысли, как бы не проспать.
Хитро устроен человек. Что ему ни делают — он всегда обоснует, что это к лучшему, и приведет десятки доводов.
Против любых утренних ритуалов в период спешки я могу погрешить. Но это не относится к физзарядке. Пятнадцать минут, куда бы я ни спешил, всегда неукоснительно отдаются ей. Поиграв с гантелями, бросаю их в угол, застилаю по-солдатски аккуратно и быстро кровать и, блаженно жмурясь, выхожу на залитую ярким майским солнцем улицу.
Какие могут быть происшествия в такой чудесный день, полный света, тепла, солнца, свежего воздуха, щебетания птиц в парке! Но я ошибался.
Едва я переступил порог дежурной комнаты, как сразу понял, что поступило сообщение о происшествии. По телефону вызывали эксперта, проводника служебной розыскной собаки.
2
До места происшествия мы добрались быстро. Я стал осматривать труп шофера. Два других наших сотрудника пошли вдоль дороги по высокой росной траве, кустарникам и вскоре нашли ключ от зажигания, фуражку, объедки пищи и две пустые бутылки из-под водки.
Участкового инспектора Иванова, Свинцова и Коржко из уголовного розыска послали ко второму месту происшествия — к колхозной бане — с заданием организовать охрану того, что от нее осталось после пожара до нашего прибытия туда.
Следователю приходится сталкиваться и с убийствами. И все-таки умом невозможно постигнуть, как можно отнять у человека жизнь. С большим нервным напряжением осматриваю еще теплое, податливое и тяжелое тело, распластавшееся на асфальте. Соблюдаю видимое спокойствие. Рядом судебно-медицинский эксперт сноровисто и невозмутимо (может быть, тоже через силу) диктовал глухим голосом:
«…кости черепа лица на ощуп подвижны. В отверстиях ушей, рта, носа — кровь. Огнестрельное ранение в область сердца».
У погибшего в кармане рубашки, под пиджаком, мы обнаружили документы на имя Киселева Ивана Романовича.
Первой, кто узнал об убийстве, была семнадцатилетняя Майя Алимова. Рано утром она пешком возвращалась с поезда домой. В лучах восходящего солнца девушка увидела на шоссе автомашину. Около нее возились люди. Двое бьют третьего. Потом раздался выстрел, и один из троих со стоном упал на асфальт, а двое бросились прочь от машины по направлению к деревне. Майя, подойдя с колотящимся сердцем ближе и увидев окровавленное и беспомощное тело, на мгновение онемела и растерялась. Но справилась с собой, сняла туфли и босиком, стороной, по кювету, бросилась вслед за убийцами к крайним домам деревни (отвага, которой мог бы позавидовать иной мужчина, ведь, оглянись убийцы, девушке пришлось бы худо).
Добежав до деревни, Майя забарабанила в одно, второе окно. Встревоженные люди стали преследовать преступников. Один из них не успел вырваться из оцепления колхозников, заскочил в баню и начал отстреливаться. Через полчаса после начала осады бани оттуда взметнулся черно-оранжевый клуб дыма.
Колхозники подтянули помпу, сунули пожарный рукав в колодец, и струя воды затушила огонь. В бане обнаружили труп преступника с пулей в виске.
У сгоревшего неизвестного был обнаружен пистолет «ТТ» без единого патрона. Последнюю пулю, видно, он пустил в себя. Между тем, извлеченная в результате вскрытия трупа шофера пуля, согласно заключению эксперта, была выстрелена не из «ТТ», а из автоматической мелкокалиберной винтовки, похищенной несколько дней назад из городского музея. Следовательно, скрывшийся преступник остается на свободе вооруженным.
Мне было поручено допросить первого очевидца, а затем выехать в соседнюю область, на которую указывал номер автомашины, оставшейся на шоссе без «хозяина».
3
— Алимова, — нараспев сказала девушка, войдя ко мне в кабинет. — Меня уже допрашивали.
— Теперь подробнее. Тогда мы просто беседовали.
Девушка в ситцевом платьице, в голубой кофточке, в новых туфлях, с ясным взглядом, села на предложенный мною стул. Щеки свидетельницы заалели от волнения. Светло-голубые большие глаза открылись еще шире.
— Ну, откуда мне было знать, что вот-вот убьют человека? Он же был еще жив, когда я увидела, что происходит.
— По заключению врачей, шофер не выжил бы и без выстрела в него. Перелом свода черепа. Понимаете?
— Конечно. Я собираюсь в медицинское училище. — Она положила на острые колени руки.
— Вот почему вы бесстрашны!
Девушка улыбнулась. А я открыл окно, впуская в кабинет вечернее солнце.
— Что же вы медлили с сообщением в милицию?..
— Да все село за ним гонялось, некому было позвонить. И некогда.
Я подробно записал, во что были одеты преступники, как выглядели, что делали, при каких обстоятельствах один из них заскочил в баню, второй убежал к опушке и скрылся в лесу. Затем протокол дал прочитать и подписать Майе.
Подперев ладонью подбородок, она стала читать, перелистывая тонюсенькими пальчиками листы протокола. Дочитав, подняла на меня глаза и сказала по слогам:
— Про-чи-та-ла.
— Распишитесь под каждой страницей.
Майя попрощалась со мной, тоже как-то нараспев, и ушла. Ее голосок долго висел в кабинете.
Я стал собираться в командировку.
4
Приехав в село Поземка, где жил Киселев, я первым долгом побеседовал с председателем колхоза, грузным мужчиной, по фамилии Галушка. Вот что он рассказал:
— В колхоз пришла разнарядка на шифер. Ехать за ним — верных триста километров. Охотников на такую командировку немного. Подходит шофер Киселев: «Я поеду». «Согласен, — говорю. — Утрясай с бригадиром Захаром Семеновичем Воропеенко. Он за груз — старший». Через день рано утром прихожу на наряд. Говорят: за шифером уехали. Еще день проходит, вваливается ко мне в кабинет бледный, как мел, Захар Семенович. «Где машина?» — «Там». — «А ты почему здесь?» — «Приедет Киселев, тогда я все расскажу».
Допрос бригадира я начинаю с вопроса: почему он не рассказал, возвратившись в колхоз, правду?
— А кто знал эту правду? Киселев-то уехал с теми жуликами.
— Где вы были, когда убивали шофера?
— Как, разве его нет в живых?
— Давайте по порядку. Начните с выезда из колхозного гаража.
— Вечером мы договорились, что Киселев утром пораньше заедет за мной. Чуть свет он постучал в окно. Я сунул в карман завтрак, вышел, сел прямо к нему в кабину.
— Никого больше с вами не было? По дороге останавливали машину?
— Вот тут в чем вопрос. Жена говорит (вы побеседуйте с ней), что когда Киселев постучал, она посмотрела в окно, из кузова, уверяет, торчала кепка. Я же, когда садился, видел только брезент. Им укрывать должны были шифер. Мне кажется все эти дни, что в том месте, где останавливался шофер, кто-то ударил из кузова по кабине. Навязчиво думается — и все.
— Но если шофер тут же остановился, а вы вышли из кабины, на дороге кто-либо сзади вас был? Или в кузове?
— Не было… Иван Романович говорит мне: иди в деревню, купи яиц, молока, машина надолго испортилась. Ночевать на дороге будем. «Как, — говорю, — ночевать, времени только четыре часа дня, неужели не починишь?» Отвечает: «Починить починю, да куда на ночь глядя ехать, где в городе ночевать? В гостинице места не бронировали».
— Что же вы сделали? — направляю я бригадира к главным вопросам следствия.
— Расстелил брезент на обочине, лег. Полежал, пока стало холодно, доел сало с хлебом. Шофер полез в кабину спать, а мне говорит: «Ты что, шифер уже везешь, боишься груз оставить? Иди в село ночевать. Я за тобой заеду утром».
— Разве он знал, у кого вы будете ночевать?
— Вот и я об этом подумал.
— Что же не спросили?
— Поздно сообразил. Лег я в колхозной риге, и вдруг среди ночи как ударит в голову то, о чем вы спрашиваете. Куда он заедет? Что у него на уме? Он в деревне новый человек. Жинка его, Елена Прохоровна, у нас ветеринарным фельдшером працует. Слухи были, что другая у него есть. Может, думаю, жену задумал бросить с тремя пацанами? Я и махнул враз к дороге. Еще издали слышу разговоры. С кем он там гутарит? Осторожно подхожу, вижу: трое неизвестных и Киселев. Шофер одному говорит: «Ты второй день морочишь мне голову». А тот со всего размаху как даст ему оплеуху. У меня сердце в пятки ушло. Двое стали вроде успокаивать третьего, здорового, плечистого. «Миша, не надо, он сам поедет». А тот опять как гаркнет: «Ты что, не веришь? Откуда я взял ее имя?» Иван сразу отвечает неуверенно: «У меня здесь старший в деревне ночует». «Вернешься к утру», — отвечал здоровяк уже мягче.
Я увидел: трое сели в стоящую впереди «Волгу», пропустили Ивана Романовича на машине и следом поехали за ним.
— Почему не заявили? — спросил я, невольно беря под сомнение путаные показания бригадира.
— Утра дожидался. Тысячу раз казнил себя, что не разбудил местного председателя колхоза или сельсовета.
Он стал говорить, что покажет место, где просидел в кустах, и противно моргал красными глазами.
Бригадир ушел, согнувшись, точно у него болел живот, а я выписал на листок: «вторые сутки голову морочишь», «сказал ее имя», «приезжала к Киселеву другая», «живут здесь недавно». «Был ли Киселев судим, об этом никто не знает в колхозе. Что скажет жена?»
Рассыльную я послал за Еленой Прохоровной Киселевой, а сам вышел подышать свежим воздухом.
Только что прошел сильный дождь. Лужи дождевой воды — по всей дороге. С листьев яблонь и черешен сползают крупные капли. Вот-вот, кажется, проглянет солнышко.
Отсюда, от здания правления колхоза, юго-западная часть села как на ладони. Вон поднимаются гуськом по тропинке на подъем запоздавшие к обеду колхозники с поля. О селах я имел смутное представление и, приехав сюда, готовился встретить узкие кривые улочки, заселенные приплюснутыми к земле избенками с подслеповатыми оконцами, а увидел строгие кирпичные и белые саманные дома, с фасадом в пять-шесть окон городского типа. Крыши — под красную тяжелую черепицу. Центральная улица заасфальтирована.
Чувствовался достаток и здесь, в помещении правления. На стенах дорогие картины. Я осмотрел их и остановился перед «Корабельной рощей» И. Шишкина.
5
Жена Киселева держалась спокойно, без суетливости. Попросила разрешения снять с себя и девочки мокрые плащи. Деловито перекинула их через спинку стула и, тяжело присев, сказала, словно самой себе:
— Третий день дождь. Ферму затопит.
И как вошла женщина с хмуро сдвинутыми бровями, так и не смягчила суровое выражение лица на протяжении всей беседы. Я готовился, что она станет задавать мне вопросы, на которые не смогу ответить, поэтому испытывал беспокойство, ожидая прихода Киселевой. Но все повернулось иначе.
— Что вы можете рассказать о выезде вашего мужа в командировку? — задал я вопрос Елене Прохоровне.
Белокурая черноглазая девчонка лет семи беззаботно вертелась у колен матери. Я ей дал лист бумаги и карандаш.
— Он часто брал ее в рейсы, — взглядом показала Киселева на дочь. Затем продолжала: — Иван сказал вечером, что едет в командировку. Собрала ему заранее завтрак. Легли спать. Он ворочался с боку на бок. Говорю: «Спи, а то аварию сделаешь». Отвечает: «Пойду покурю». Долго его не было. Думаю, наверное, беспокойная душа, к машине пошел. Заснула. Утром вдвоем чуть свет проснулись. Он торопливо ушел в гараж.
— Личные счеты к мужу кто-нибудь имел?
— В селе нет. Председатель им доволен, в гараже — тоже.
Уткнувшись разом в полу кофты, она приглушенно зарыдала, затем вытерла глаза концом косынки, сдавленным голосом сказала:
— Похоронить надо. Пусть дети ходят на могилу.
Я объяснил женщине порядок выдачи из морга трупов.
— С бригадиром у мужа не было недоразумений?
— По-моему, у такого бригадира ни с кем нет недоразумений.
— Извините, что это за другая женщина у Ивана?
— До меня доходили слухи, но он отрицал.
— Муж судим?
Женщина ответила отрицательно.
Я записал показания жены погибшего, дописал, во что он был одет — рубашка светло-голубого цвета, слева нагрудный карман, брюки галифе, солдатские, сапоги яловые, серый пиджак, — и дал листки прочитать Елене Прохоровне.
— Наверное, темно, — включить электричество?
— Спасибо, — поблагодарила женщина.
Минут пять я смотрел на каракули притихшей белокурой девочки, затем повернулся к окну. В четыре часа деревню сковывали сумерки.
Я щелкнул выключателем и заметил, что Киселева все это время задумчиво и отрешенно смотрит на одну и ту же страницу.
За окном небосвод с грохотом раскололся. Молния разбила на мелкие куски небо, словно блюдце.
Киселева вздрогнула, передала мне обратно протокол.
— Не могу, плывет перед глазами…
Я вслух прочитал ее показания.
Затем Киселева грузно встала, свернула изрисованный дочерью лист бумаги, напомнила девочке сказать дяде «Спасибо» и «До свидания», взяла за руку и неверной походкой вышла из кабинета.
Едва женщина ушла, дождь так же внезапно утих, как и начался. Я двинул створки окна, распахнув их. Меня обдало свежестью мокрых садов, зелени, цветов.
6
Решил сделать передышку, выйти на лоно сельской природы и как следует подумать, кого здесь еще допросить, какие вопросы меня могут интересовать в этом далеком от места преступления селе.
С высокого берега реки дома тонули в буйных садах. Их крыши глядели, как поплавки среди моря.
Над головой пронесся бекас, вытянув вперед длинный клюв. Безобидная ящерица вынырнула из-под ног и зарылась в песок.
А я стоял и смотрел на спокойное течение реки, в которой зыбко отражался зеленый берег. На горизонте, куда укатывалось вечернее солнышко, еще прижимались друг к другу красновато-серые от заката облака.
Вечером решил допросить жену бригадира Воропеенко, сторожа гаража и некоторых шоферов, а также на выбор пять-семь человек жителей села, хорошо знавших образ жизни семьи Киселевых.
7
Поздно ночью я закончил работу и, не получив ничего к тому, что имел в деле, усталый, возвращался в Дом приезжих. Лишь жена бригадира, бойкая и расторопная женщина, уверенно заявляет, что в кузов, пригнувшись, полез человек. Если это так, то «пассажир» мог скрыться от бригадира под брезентом. Кто этот человек? На этот вопрос мог бы ответить Киселев, будь он жив.
Я взял полотенце и пошел мыться в теплой протоке, проходящей в низине под самой моей «гостиницей».
Надел плавки, залез по мягкому илистому дну в воду по грудь и минут десять обливал себя пригоршнями нагретой теплыми дождями воды. Свежий, оставив усталость в реке, поднялся по тропинке, бегущей среди ивняка, в отведенную мне комнату.
«Завтра Шерлок Холмс отправляется ни с чем восвояси».
С такими малоутешительными мыслями открываю дверь и вижу — встает навстречу местный участковый инспектор, двухметрового роста детина, по фамилии Квартальный, с которым я познакомился в первый день своего приезда.
— Что случилось, Денис Гапеевич? — всматриваюсь в глаза милиционера, пытаясь угадать, зачем он пожаловал в двенадцать часов ночи.
— Извиняюсь, что не в урочный час, Киселева от вас — да ко мне. «Не все, — говорит, — сказала следователю, утаила малость». Я ее — за бумагу. Вот собственноручные показания.
Я развернул протокол, титульный лист которого заполнен на украинском языке, и стал вникать в слова, написанные мужским бисерным почерком.
«Из чувств личной безопасности, чтобы и с нами не рассчитались, укрыла от следователя, думаю, немаловажные сведения. К сожалению, мой муж Киселев Иван отсидел срок вместе с Матвеем Тананыкиным за кражу в совхозе зерна. Пшеницу продали, и два дня муж, Матвей и его сестра, непутевая Зинаида Ваксина, не показывались в деревне, прожигали «выручку». С той поры, пока его не забрала милиция, спутался он с Зинкой. Мне говорит: «Последние дни, мать, гуляю, ты уж разреши».
Срок у него был немалый, а вернулся прямо ко мне. Плакал, как баба, что промашку в жизни допустил, извинялся за причиненную мне обиду, благодарил, что четыре года ждала его, передачи возила. А Зинаида, совсем рехнулась, проходу ему не давала, тянет к себе в избу. «Брось, — советует ему, — Елену», — меня, значит. «У нас все есть». И действительно, Зинаида каталась в богатстве, как сыр в масле. Обшивала деревню втридорога и еще откуда-то доходы имела. Мы собрались и уехали на Украину, чтобы ничто не напоминало прошлое.
Был слух, что какая-то приезжала и сюда. Но Иван отрицал, может, не хотел меня расстраивать. В эти дни, когда пошли разговоры, что к Ивану «старая зазноба» приехала, загорелся у нас стог сена во дворе, дом отстояли.
Два года с Иваном не могли нарадоваться согласию, жили душа в душу. Деток растили. Весь грех я кладу на Зинку Ваксину, будь она трижды проклята, а доказать ничем не могу».
И тут меня осенило. Я торопливо спросил:
— Когда поезд в сторону Конотопа?
— Считаете, что надо ехать?
— Ни одной минуты, или, как вы говорите, «хвалыны», не медля. Проси у председателя машину.
— Могу на мотоцикле.
— Тем лучше.
Я бросил в свой огромный портфель мыльницу, электробритву, рассчитался с хозяйкой и сел в пыльную люльку мотоцикла. Через час с небольшим мы преодолели шестьдесят километров асфальтированной дорожной ленты, и я благодарно помахал рукой Денису Гапеевичу Квартальному из тамбура поезда.
8
Зашел в купе, расстелил постель на верхней единственной свободной полке и полез туда не спать, а только пока собраться с мыслями.
Два пассажира в полумраке купе сладко похрапывали. Но, кажется, и во сне слышали пронзительный свист тепловоза, на секунду притихли с тем, чтобы захрапеть еще громче.
Третий обитатель купе, несмотря на поздний час, с унылым видом склонился над столиком и на малой громкости крутил зубчатое «колесико» транзистора. Несколько раз метнул на меня взгляд, надувшись как мышь на крупу. Не размягчилось выражение лица, когда из его приемника послышалась веселая музыка и голос Аллы Пугачевой.
Он поднял голову и флегматично изрек:
— Я немножко мешаю, но у меня дело идет к бракосочетанию.
— Так и должно быть, — ответил я. Мужчина вновь стал привязываться:
— Томик Блока или Поля Элюара не желаете по сходной цене?
Я закрыл глаза и сделал вид, что сплю. А пассажир бормотал:
— А может быть, Сашку Грина… по странам и континентам…
Я же хотел только простой вещи: тишины, чтобы никто мне не мешал обдумывать ход следствия.
Я ворочался с боку на бок, ложился навзничь и зарывался лицом в мягкую подушку. Сон, который был мне так необходим, чтобы прямо с дороги можно было приступить к серьезным допросам свидетелей в селе Крапивная, на родине Киселева, не приходил. Наконец меня сковала тяжелая дрема.
Проспал я часа четыре. Вышел в коридор вагона. В предрассветной голубизне, за мостом, вырисовывались приближавшиеся очертания домов. Еще несколько минут, и я прибыл, как говорят, по назначению.
9
Меня никто не встречал, никому я здесь не был нужен. Мне предстояло искать необходимых свидетелей. Первое, что я сделал, — направился прямо в сельский Совет, к председателю.
Человек с обветренным, задубленным морозом и солнцем лицом поднялся мне навстречу. Знает ли он Ивана Романовича Киселева? Знает, здешние, кому за сорок, редко из сел выезжают, а этот снялся с насиженного места. Какая тут история с ним была? Не так, чтобы и значительная. Спутался с местной красавицей одинокой Зинаидой Александровной Ваксиной. Да потом порвал.
О Зинаиде председатель сказал три слова:
— Проворная, лукавая, смазливая.
— Чужой человек у нас, как на ладони, — говорит мне председатель, когда мы с ним шагали по деревне к дому Зинаиды. — Был у нее дня три мужчина, видели соседки, а вот как и что, не знаю. Одна сейчас живет, временный был, видно.
Мы постучали в крашеную дверь.
— Входите, не заперто, — раздался сочный женский голос.
— Она и есть, — шепнул председатель и машинально погладил руками лацканы своего хлопчатобумажного пиджака.
Хозяйка сидела перед зеркалом в модной меховой шапочке, нейлоновой кофте, держа перед губами помаду.
— Ой, сколько гостей, — непринужденно проговорила Зинаида, но я успел заметить, как тень беспокойства застыла в ее карих глазах.
Квартира обставлена самой что ни на есть городской мебелью.
Да, к ней заезжал старый приятель. Фамилия? Не то Сидоров, не то Иванов.
— Это старого-то приятеля имени не знать, — весело пристыдил я Зинаиду Александровну.
— А вы, простите, из ОБХСС?
— Следователь из милиции.
— Ой, как страшно, — произнесла она темпераментно и передернула в судороге плечиками, взвихрив на них пушистые кружева. — Я немножко знаю вашу профессию, по книжкам. Сама хотела после десятилетки поступать.
— Вы? — вырвалось у меня.
— Да, я! Что ж тут удивительного?
— А я не думаю удивляться. Мне необходимо вас официально допросить. Пойдемте в сельсовет.
— До этого мне нужно с вами с глазу на глаз побыть, — кокетничала Зинаида. — Сообщить кое-что. Сергей Ильич, оставьте нас.
Я остановил председателя.
— Стоит ли, Зинаида Александровна? Председатель сельсовета свой человек, стесняться его не следует.
Она чуть обиженно оттопырила влажную губу и разочарованно посмотрела на меня. Затем нехотя вслед за нами пошла в сельский Совет.
Я долго записывал показания Зинаиды, этой тридцатипятилетней женщины, живущей с большим достатком.
— С этим «Ивановым» или «Сидоровым» у вас серьезно? — спросил я, инстинктивно почувствовав, что мой вопрос такую женщину не смутит.
Она немедля отрапортовала:
— Легкие увлечения.
— А найти его сейчас можно?
— Разве он сделал что-нибудь противозаконное? — Прямо и настороженно глянула она на меня, но, не выдержав моего ответного взгляда, стушевалась, одернула на коленях юбку и повернула голову в сторону председателя, которого я от себя не отпускал, опасаясь какого-нибудь фокуса со стороны этой легкомысленной женщины.
— Нам просто есть смысл встретиться с вашим возлюбленным, но не вздумайте ему об этом сообщить.
— Я не знаю, где он. Случайный человек для меня, если хотите правду. Чай, не старуха, чтобы не пользоваться хотя бы и временными, — откровенно выпалила Зинаида, вздернув брови, как бы возмущаясь тем, что ей не верят.
Я понимал, что она лжет, но решил продолжать игру, слушая ее то спокойные и самоуверенные, то нарочито взволнованные ответы. Наблюдая за выражением ее лица, я делал с полным отчетом для себя вывод: актриса.
Вот она придвинулась ко мне и заговорщически затараторила:
— Марфа, та гонит, сейчас застанете. И продает рубль — стопка. Вот кого, пока вы здесь, надо приструнить. А любовь — все это вздор.
— Неужто вздор? — иронизировал я.
— Приспосабливаются бабы к мужику да на сторону зырят. Вот и все возвышение. Семья нужна. За мужем, как за каменной стеной. Делай что хочешь, муж — дурак. А я ночь переспала — следователь приехал. Одиночка, потому загородиться нечем.
— Зинаида Александровна, про вашу любовь мы к слову спросили. Ваше личное дело, где влюбляться и с кем, но коль следствие заинтересовалось некоторыми деталями и вас о них спрашивают, согласно статье уголовного кодекса вы сами можете быть привлечены к ответственности за отказ или дачу ложных показаний.
От Зинаиды я потребовал невыезда из села, отпустил ее домой, а сам стал перечитывать материалы и набрасывать план мероприятий. Прежде всего надо допросить тех свидетелей, кто видел неизвестного в деревне, уточнить его приметы, одежду, черты лица. Если не сойдется с показаниями Зинаиды, провести очные ставки. Зинаида при допросе отрицала связь с Киселевым даже до его ареста, в то время, как хвасталась трактористу Зорину, посетившему ее под хмельком неделю назад, что она наведывалась к Киселю, он опять будет ее или она «пустит дружка по миру».
Необходимо произвести обыск у Зинаиды. «Необходимо, — твержу себе. — Воспользуюсь своим правом исключительного случая. Сейчас же сделаю обыск, а потом сообщу об этом прокурору». Беру понятых — и вновь в ее дом.
— Что, следователь, деньги, небось, будешь искать? Сразу говорю, нет их, вот пять рублей наличными на неделю прожитья. Верь слухам больше. Пирожные из яичных белков делаю! Платья шелковые с бахромой ношу!
Зинаида была в сумасшедшем припадке. Ее, умевшую час назад показать себя перед следователем в лучшем свете, было не узнать.
— Да, да, я грешна. Люблю рестораны, танцы, вино, мужчин худощавых и лысоватых. Ищите.
Терялся в догадках, что у нее может быть криминального в квартире: награбленные кем-то деньги, золото или сам «Сидоров» на чердаке? А оказалось всего лишь, что она не успела до нашего обыска уничтожить письмо брата.
«Зиночка, к тебе едет Хабаров. Наш шеф. Устрой его как можно лучше и сведи с Киселем».
— Ну, вот видите, как неплохо закончилось, — стараясь изо всех сил казаться спокойным, сказал я натянутой, как струна, Зинаиде. А она плюх передо мной на колени.
— Расскажу, не срами перед деревней. Я ни в чем не виновата.
— Адрес брата.
— Приморский край. Был в тех местах вместе с Хабаровым. Срок новый получил. Зачем меня втягивает?
— Хабаров к Киселеву ездил?
— Не знаю.
— Лжете. Вы ему дали адрес Киселева. А знаете ли вы, что Иван Романович на… — я хотел сказать «на том свете», но вовремя остановился, вдруг это еще рано говорить, и я выпрямился, — настолько переменился, что вряд ли ваша затея привела бы к положительным результатам?
О, как я ждал сейчас кого-нибудь на подмогу. Один я выбился из сил физически и морально. На мои плечи легла дьявольская нагрузка: принимать важные для следствия самостоятельные решения. На следующий день я доставил Ваксину в управление внутренних дел.
10
Генерал ловко повертел, помял пальцами папироску, поднес к ней огонек, двумя глубокими затяжками раскурил ее.
— Подсаживайтесь ближе, угощайтесь. — Начальник управления легонько толкнул по столу коробку «Казбека», затем поправил очки, оглядел присутствующих начальников отделов и опергруппу во главе с прокурорским следователем Валерием Васильевичем Лаховым.
Я встал и начал, подавляя волнение, пересказывать показания Киселевой, бригадира, Зинаиды и других второстепенных свидетелей.
Лицо генерала было задумчивым, серьезным. Рубашка с золотыми погонами плотно облегала широкую грудь. Он стряхнул пепел с кончика папиросы и по ходу моего доклада задал вопрос:
— Вы все взвесили в смысле обоснованности ареста Зинаиды? Нужно, кстати, ей доказывать и поджог хозяйства Киселевых.
— План, который выполняет Свинцов, только на это и направлен, — ответил Кирилл Петрович, начальник следственного отдела.
— Ну, следует не только на это. — Генерал задумчиво поправил очки, потом услышал в углу шепот, легонько постучал ладонью по краю стола, напоминая о внимании.
Я окончил. Генерал еще раз затянулся, пустил кольцо дыма и взмахом руки разогнал его над собою, наклонился к пепельнице, придавил в ней остаток папиросы.
— Товарищи, час назад с прокурором области и начальником отдела уголовного розыска мы решали ребус. И, кажется, решили. Предстоит серьезная операция по проверке гражданина Рылина, вернувшегося несколько недель назад из заключения.
Вошла секретарь и, стеснительно улыбаясь, поставила на стол тарелочку с двумя бутербродами.
— Запасаюсь, — невесело улыбнулся краем губ генерал и, обернувшись к стене, всунул вилку электрического чайника в розетку. Затем включил свет. Зеленые шторы на окнах стали еще нежнее. Генерал закончил мысль: — В общих чертах операция намечена. Кому поручить отдельные участки ее выполнения, обдумают начальники отделов.
Заместитель генерала полковник Федор Леонтьевич Щелкунов только и знал, что ворошил свои густые с проседью волосы, волновался. Видно, его план претворялся в жизнь. А он мастак был придумывать комбинации.
От генерала я вышел, не зная, участвую ли в названной операции, или мне можно после пяти дней отсутствия вернуться в свою холостяцкую постель.
Зашел к себе в кабинет. После долгой разлуки он, как живое существо, встречал теплотой и уютом. Наверное, соскучился без хозяина. Зазвонил телефон. Я снял трубку.
— Это милиция? — раздался в ней женский голос.
— Управление внутренних дел.
— У меня повестка, я бы хотела узнать, зачем меня вызывают.
— Ничего не могу сказать, никого не вызывал. В повестке есть фамилия следователя, обратитесь к нему и узнаете.
Не успел я положить трубку и спросить у Кирилла Петровича, можно ли мне идти отдыхать, как раздался снова звонок. Он сам мне звонил:
— Зайди ко мне.
Спускаясь с третьего на второй этаж, я на лестнице встретил Людмилу Григорьевну Свинцову.
— Где Виктор?
— В командировке.
— Это я знаю, а где и когда приедет?
— Скоро, скоро, дорогая Людмила Григорьевна.
У меня поднялось настроение, стало приятно душе от того, что о моих товарищах так беспокоятся жены. Не мог сдержать улыбки. Может быть, и мне пора обзавестись милой женушкой, которая вот так же будет делить милицейские тревоги. Но Людмила Григорьевна сделала вид, что не замечает моей веселости. Она сердито бушевала:
— Подумать только, врач может семье говорить, куда едет, что делает, учитель может, инженер тоже может делиться с женой, а они не могут, попросту не хотят, дым на себя напускают.
«Нет, — решил я, еле-еле успокоив женщину, — рано мне еще думать о собственной «половине».
11
Чтобы ввести в курс дела читателя, которому надо понять так же, как в ту пору и мне, о какой «операции» говорил генерал и для чего меня вызывал следственный начальник, необходимо вернуться немного назад.
К участковому инспектору Смолякову, принимавшему в тот день на заводе граждан по личным вопросам, обратилась член заводского комитета Вера Васильевна Прохорцева:
— Соседка моя, Антонина Ивановна, «муженьком» подозрительного типа обзавелась, да и сама она озлобленная, недоброжелательная. При случае обратите внимание.
И вот теперь Вера Васильевна Прохорцева сидела в кабинете моего начальника и как ни храбрилась, не могла унять во всем теле дрожь от непривычного предложения. Я должен был немедленно на правах племянника переселиться в ее квартиру.
— Этого требует дело, — убеждал ее Кирилл Петрович. — Мы разыскиваем опасных преступников, очень опасных, — сделал ударение Кирилл Петрович на слове «очень». — Вы должны нам помочь. Вы, кажется, даже член месткома?
— Завкома, — поправила смущенно женщина.
— Вот видите… На кого же нам опираться, от кого ждать помощи?
— Да я не возражаю. Для дела…
Придвинувшись к столу, втроем мы обсудили детали комбинации: как убедительнее поселиться в квартире на правах родственника Прохорцевой.
Решили: Вера Васильевна сейчас же прибежит домой с заготовленной Кириллом Петровичем телеграммой и оповестит всех, что приезжает, мол, племянник. Благо у Веры Васильевны их на самом деле три, и игра должна быть как можно приближеннее к «боевой обстановке».
Вера Васильевна встала, покрыла свой высокий белесый начес косынкой, улыбаясь, смотрела на меня и, видно, на себя тоже, как на людей, задумавших играть в детскую, но опасную игру.
В первом часу ночи, сотни раз пройдя инструктаж и репетиции, я с чемоданом в руке громко в коридоре сообщил «тете» новости, переступив порог ее квартиры.
Утром Антонина Влажнова, женщина с зелеными и как будто пустыми глазами, в узеньких брючках, зашла к Вере Васильевне, и та представила ей меня. Влажнова сразу с предложением:
— Заходите к моему бездельнику, сами скучать будете меньше, и мой Николай даст отдохнуть пружинам дивана. Валяется целыми днями, вот жизнь кому. Слесарь же отменный, — наигранно обидчиво говорила Антонина Ивановна Влажнова. — Привела в дом — в одну неделю обещал устроиться, так поди ж ты, бьет баклуши. Фамилия-то неприличная — Рылин.
Я взял припасенную на этот случай бутылку водки и вместе с Антониной Ивановной пошел в гости к ее соседям.
В кухне чистил картошку смуглолицый, черноволосый, как цыган, с кустистыми бровями лет сорока мужчина. Он, не вставая, поздоровался со мной и молча продолжал делать свое дело.
— Бросай бабью работу! — зло крикнула на Николая Антонина. — Потолкуй со свежим человеком.
— Толкуй сама, раз привела, — буркнул он. И, обернувшись, быстро бросил взгляд на меня. Этот самый Николай Рылин.
Я развернул из газеты и со стуком ставил на стол поллитровку. Николай поднял глаза, медленно вытер руки о брюки:
— Это нас устраивает. Таким пузырькам рады завсегда. Распить могем.
Николай еще раз вытер, теперь уже полотенцем, руки и подошел к столу. Нетрудно было догадаться, что он исстрадался без алкоголя. «Залетный» пил много и терял контроль над собой. Болтал обо всем, что у трезвого было на уме. Но о том, что я ждал от него, не вел пока речи, все больше твердил о своих переживаниях, говорил, что Антонина баба-кулак и его держит в ежовых рукавицах, что она змея тропическая и только по большой нужде он согласился с ней жить.
Вошла Антонина в забрызганных грязью чулках.
— Ты пойдешь сегодня в отдел кадров? — спросила в упор она Николая.
Тот, не моргнув осоловелыми глазами, выдержал ее взгляд.
— Пойду, пойду, отвяжись, худая жисть.
Вид у Николая был неприличный. Засаленный пиджак с темными пятнами, торчащие вихры немытых, лоснящихся волос. Он явно опускался.
12
Третий день я «пил» с Николаем. Он обо мне знал больше, чем моя родная мамаша. Я рассказывал про рыболовный траулер, на котором хожу в море, обещал через неделю взять его с собой.
— Здесь ты пропадешь.
Вера Васильевна принесла мне записку. Писал Павел Коржко.
«Терпение, в городе, судя по приметам, бродит Хабаров».
А было так. На улице Коммунаров в доме № 117 по объявлению вошел незнакомый мужчина и, предъявив документы на имя Виталия Савельевича Стрельцова, снял сдававшуюся Пряхиными комнату. Жил два дня, но прописываться не торопился. Об этом узнал участковый Свиридов и на следующий день рано утром пришел в дом Пряхиных, чтобы проверить у жильца документы, что называется, в постели. Но того и в такую рань не застал в доме: как сквозь землю провалился.
— Только-только был, — недоумевала хозяйка. — Видела же, умывался.
Жилец больше в квартиру Пряхиных не пришел.
А Николай окончательно спился и проникся полным доверием ко мне.
— Когда уезжаем? — сонно спрашивал он.
— А с чем ехать? Мои деньги пропили, тебе дружок не несет.
— Принесет, тот не надует. Мужик-кровопиец, а силен. Судим семь раз и сбежал!
— Сейчас-то? — недоверчиво переспросил я. — Там колючая проволока.
Самолюбивый и мнительный, Николай был задет за живое.
— Говорю, сбежал. Вместе тельпужили. Я по сроку вышел, а он драпа по тайге.
— Как это можно по тайге? — сомневался я.
— Как? Очень просто для него. Сняли Мишку с работы… (У Зинки в записке тоже Михаил, — мелькнуло у меня в голове) и направили в изолятор с двумя бойцами. Привезли к зоне соседней колонии. Один олух пошел узнать, как сдать заключенного, а второй курил. Мишка бросил вещмешок, метнулся в ворота стройконторы, перемахнул через двор, выломал в заборе доску, дальше рукой подать — тайга. Сзади пах, пах. Миша мой скинул робу — под ней цивильная куртка и брюки.
— Просто получается, — подлил я масла в огонь.
— Иди, попробуй, просто или нет, — горячился Николай. — Я — Цыганок, меня все в колонии знают, неделями мог прикидываться глухонемым, прибивал себя за шкуру к нарам, а не рискнул бы. Пуля в горб смотрит.
— Ерунда! — не унимался я.
— Ерунда! Он вышел на трассу, — махал у меня перед лицом корявой, тяжелой рукой Цыганок. — На попутной машине приехал к левому берегу Колымы. Ты был там? Нет! Сообрази, четыре дня человек скитался по тайге, прежде чем попасть в поселок. Ты знаешь его?
— Мишку?
— Спрашиваю про поселок… А я его, как свои пять мозолистых знаю. — Он растопырил пальцы перед своим носом. — Я против него гнида неполноценная, хотя дважды веревку на шею накидывал и стул из-под ног выбивал. Чувствуешь, поржавели голосовые связки.
Я его больше не слушал, уложил на диван, пришел в «свою» половину и написал Павлу, чтобы он проверил спецтелеграммой, кто сбежал в начале мая этого года по Магаданскому управлению.
13
Утром верный наш связной Вера Васильевна принесла ответ:
«Бежал Михаил Хабаров. Повторяю, он гуляет у нас по городу, будь готов, может зайти к Цыганку».
Нам нужен был человек, который бы отбывал наказание на Севере. Подошла кандидатура Владимира Ишкина, в прошлом много хлопот доставлявшего милиции. Вернулся Ишкин из заключения и поставил крест на своем непутевом прошлом, его словно подменили. Закончил среднюю школу, женился. Его задача теперь — часть всей нашей операции — войти в доверие к Цыганку, поделиться воспоминаниями, намекнуть, что «старое» дело он не бросил, и уточнить, есть ли у Рылина оружие. Цыганок о пистолете ничего не говорил мне.
Дальнейшие события развивались в нашу пользу. Антонина принесла на имя Рылина конверт. Вертела его и вслух удивлялась:
— Ни одного штампа, откуда письмо?
— Это я его с днем рождения поздравил, — сморозил я. Антонина успокоилась, стала варить ужин.
Я помочил теплой водой заклеенные места и вытащил из конверта вчетверо сложенный почтовый листок бумаги. Было написано:
«Гад, прикончу, если не вернешь игрушку».
Я заклеил, подсушил конверт и положил его на прежнее место.
Из бани ввалился Цыганок. Я следил за выражением его лица, когда он торопливо разорвал конверт и вдруг стал бледный, как стена.
Он начал ко мне приставать, кусая губы:
— Выручи. Отнеси штучку одну, скажу — куда.
— А сам?
— Боюсь. Зверь он.
— Мишка-то?
— Неважно. Твое дело передать и сказать: «Цыганок заболел, к нему нельзя».
— Ищи дурака в другом месте.
— Тебя он не тронет, в людном месте встреча.
— А ты попроси Володьку Ишкина.
К тому времени они были уже знакомы. Николай хлопнул себя ладонью по лбу.
— Точно.
Рылин инструктировал Ишкина и передавал ему пистолет без меня.
14
— Хочешь, поедем сегодня, — говорил он, заискивающе и жалко заглядывая мне в лицо. — Женщину бы мне — не Тоньку. Эта тонкостей душевных не понимает.
У меня был один стальной аргумент.
— А деньги?
После этого Николай задумывался и умолкал. Я пьяной походкой подошел к окну, думая о своем. Невольно вспомнил командировку на Украину. Там давно расцвели цветы, а у нас кусты черемухи еще только в бутонах, собираются распуститься. Почему-то вдруг почувствовал усталость. Если бы кто-то заставил проделать всю работу снова, казалось, что не хватило бы сил.
— Кто бы вошел в мое положение, — канючил пьяный Рылин. — Для меня Михаил — бог, скажет: прыгай с третьего этажа — прыгну. Знал бы ты, как по струнке мы у него ходили там…
Рылин стал молча и сосредоточенно, словно и не пил водку, ходить по квадратной влажновской комнате.
И я с усмешкой вспомнил слова Антонины: «Он такой, что кому угодно поначалу голову заморочит». Эта грязь, мерзость, чудовище, убийца только и мог произвести впечатление на полуграмотную женщину.
А между тем события шли своим чередом. Ишкин вручил пистолет сотрудникам милиции. Стоило только на него взглянуть, чтобы убедиться, что оружие изготовлено из малокалиберной винтовки. Эксперт стал выявлять номер на затворной части, спиленной преступниками. Три последних цифры — 175. Из музея похищена винтовка 3175. Баллистическое исследование подтвердило, что извлеченная из тела погибшего шофера Киселева пуля выстрелена из этого пистолета.
Теперь предстояло вручить пистолет по назначению и в этот момент задержать Хабарова, а после — Рылина.
15
Мой подопечный волновался, передаст ли пистолет Владимир Ишкин.
Рылин раскупорил новую бутылку водки и вертикально опрокинул ее. Водка забулькала, наполняя до краев стакан.
Цыганок залпом выпил. Через минуту, мне показалось, он снова «окосел».
— Я страшно раскаиваюсь, — прижимал руки к груди Николай. — Ну, явлюсь я в милицию, расскажу, так кто мне поверит, что я сам жертва? — ревел он, насупив кустистые брови. — Когда приходит Антонина?
— Тебе лучше знать, — как можно бесшабашнее выбирал я тон.
— В двенадцать ночи! Во когда!
— А вдруг он не верит мне ни на йоту, — подумал я, — а так же играет в прятки, и никакому Мишке «штучку» нести не надо? Он просто проверяет меня и Ишкина?
Тут же я себя успокоил. Не может быть, уж очень тупым и недалеким виделся мне Цыганок.
Я прикорнул на диване, закрыл глаза. Одиннадцатый час вечера. Если «операция» еще не завершилась, то вот-вот завершится.
Рылин чертыхнулся. Лишь только один он знал, какой крайний срок придумал Хабаров для передачи ему оружия. Если бы я это знал, то, может быть, меньше бы волновался. Пока Цыганок о том, что нет с известием Ишкина, не проронил ни слова. Значит, время не вышло. Без пятнадцати одиннадцать…
Я вспомнил портрет, нарисованный нашим художником со слов Зинаиды и свидетелей, видевших Хабарова в деревне Крапивная.
Крупный подбородок, плоский, скошенный лоб, полукругом заросший темно-русыми волосами, глубоко сидящие, точно ввалившиеся кнопки, маленькие глаза. Сплошные, как говорят, архитектурные излишества и недотяжки.
Мой подопечный тоже чем-то оригинален. Тупостью. Беспредельной тупостью. Из-за стола вдруг раздалось:
— Бр-р-ыть.
16
Рылин мог бы рассказать мне о своих отношениях с Хабаровым многое. Освободившись из колонии, он несколько дней ждал Хабарова во Владивостоке, а затем в Комсомольске-на-Амуре с украденными им для «главаря» документами на имя Стрельцова Виталия Савельевича. А дождавшись, они вдвоем «направили стопы» к Шевчуку — их дружку, освободившемуся годом раньше. Во всем была четкая договоренность.
Добравшись до крупной станции, они дали Шевчуку телеграмму о времени приезда.
Рылин в вагоне познакомился с Антониной, ехавшей от находившегося на Севере мужа, и та немедля променяла «кукушку» на «ястреба», доставила Рылина к себе в комнату. С Шевчуком, встречавшим их, пошел Хабаров.
И если бы я заинтересовался и дальше, а Рылин был бы таким простаком, что продолжал бы рассказывать свою «эпопею», он мог бы поведать сразу, не дожидаясь допроса, как в первую же ночь он и Хабаров подошли к городскому музею и, пока Антонина была в ночной смене, принесли к ней в квартиру малокалиберную винтовку, отпилили ствол, сняли ложе и сделали маленький, удобный для ношения в кармане брюк пистолет.
Затем бы он рассказал, как жену и ребенка Шевчук отправил на неделю в деревню, готовясь для приема, по их расчетам, на десять тысяч товара, похищенного из намеченного универмага на ст. Елецкая. Эту станцию выбрал Хабаров по двум причинам — прежде всего, это в другой области, а воровской закон велит, не живи, где воруешь, и не воруй, где живешь, и, во-вторых, невдалеке от этого места живет сестра оставшегося еще в заключении Тананыкина. Имя той женщины Рылин, по своему обыкновению, забыл, но главарь шайки делал на нее большую ставку. Через нее он должен был познакомиться с «подельником» Тананыкина, шофером Киселевым, и тот на машине будет надежным их транспортным агентом по переброске шерстяных и шелковых рулонов ткани к месту сбыта. Сейчас нужны были, как никогда, деньги. Наладить их «производство» обещал высокомерно Хабаров, и только на них — Цыганка и Шевчука — цыкал:
— Планы проверены, возражений не должно быть, делайте точка в точку, как я велю, а теория о неотвратимости наказания — это пыль в глаза для слабонервных.
Многое мог рассказать, не дожидаясь следствия, наклонившийся над фужерами и тарелками Рылин. Мог он поведать то, что я и те, кто принимал участие в этой «операции», узнали только потом из его показаний… Единственное, чего не знал в ту пору Рылин, — что одного из соучастников — Шевчука — уже не существует, и опаленный пламенем прах его развеян по ветру.
Трусливый Рылин ни к кому не шел первым после «мокрого дела». Возможно, он и сделал бы шаг к этому, но мое вселение к нему и компанейское развлечение несколько облегчили одиночество, он не замечал, как быстро шли дни. Этого-то не мог сказать о себе Хабаров, ежечасно то выезжая из города, то приезжая на встречу, заранее обусловленную с Рылиным.
17
Я все время думал, где я мог видеть Хабарова, вспоминая нарисованные нашим художником Ильей Петраковым черты его портрета. И вдруг вспомнил: да я ведь столкнулся с ним, что называется, лицом к лицу на месте происшествия, осматривая погибшего Киселева.
События, установленные впоследствии, о которых уже можно поведать читателю, развивались так.
Хабаров от Зинаиды направился в деревню Поземки, к Киселеву. Там, в селе, поймал встречного мальчонку и попросил сходить в гараж, передать Киселеву, что его ждут в школе.
— Новый учитель, — уточнил мальчику Хабаров.
Киселев не замедлил явиться и тут, почти в середине села, жители которого так гордятся, что чужой человек у них, как на ладони, встретил Хабарова.
Бандит шел размашистой походкой к нему навстречу, не забывая озираться краем глаза на обе стороны. Рецидивист был с чисто выбритым лицом, аккуратно причесан, в темно-коричневом костюме из дорогого трико «ударник», в импортных, начищенных до зеркального блеска, несмотря на деревенскую пыль, туфлях. Кому могла прийти в голову мысль, что эта отяжеленная, квадратная, обрюзгшая личность ежеминутно, ежесекундно готова уничтожить любого, кто станет на его пути?
— Я сведу с тобой счеты, если ты не явишься для серьезного разговора с Зинаидой Александровной, — медленно, с расстановкой, сразу же после первых слов знакомства и передачи привета от «подельника» Тананыкина, процедил сквозь плотно сжатые зубы Хабаров.
— Что ей от меня нужно?
— Малого.
— Если вы не оставите меня в покое, я сообщу куда следует, — нервничал и неуверенно говорил Киселев.
— Попробуй, — сказал Хабаров и показал рукоятку пистолета. — Да или нет? Приговор тут же приведу в исполнение. Ты обидел Зинаиду. У нее от тебя… ребенок.
— Вздор, брехня, очумела.
— Разбирайтесь сами, мое дело доставить тебя на место. Бери недельный отпуск, проси машину за дровами, торфом, куда угодно, и айда за ней в Крапивную. За сутки обернемся. Жду ответа вечером у моста…
Первое намерение, какое было у приступившего к честной жизни Киселева, идти все рассказать — жене, председателю, милиционеру Квартальному. Широким шагом, возбужденно, не замечая встречных односельчан, он направился в правление колхоза.
— Иван! — окликнул его завгар. — Куда торопишься, к председателю? Решил…
— Что решил? — побледнел Киселев. — «Неужели уже все знают?»
— Решил, говорю, ехать за шифером?
— За каким шифером? Ты о чем?
— Как, разве ты не в курсе? Пришла разнарядка ехать в соседнюю область за шифером. Поедешь? И оплата побольше, а что дома высидишь?!
Киселев плохо поначалу разобрался, растерянно потер руки о пиджак:
— Могу поехать, — неуверенно выговорил он, а сам подумал: «Возьму этого типа, заеду к Зинке, раз и навсегда развяжу узел. Ребенок… Идиотка взбалмошная. Свидания просто захотела…»
Так утром на следующий день оказался у него в кузове под брезентом Хабаров. Киселев не мог тогда предполагать, что везет человека самого мерзкого, каких он только знал и о каких только слышал.
По договоренности Хабаров стукнул по кабине в нужном месте на дороге. Киселев остановил машину и должен был ждать. Хабаров сделал ему «услугу». «Незачем тебе показываться в Крапивной. Зинка на такси сюда подъедет, все и решите. Я буду считать, что свою миссию выполнил». Сказав так, непрошеный попутчик часа на два отлучился.
Частная «Волга» (хозяин решил подзаработать) с Хабаровым подъехала, как мы знаем, поздно ночью, но без Зинаиды. Планы у него были совсем иные: завербовать Киселева снова на преступный путь. В «Волге», кроме Хабарова, были Шевчук с «ТТ», хранившимся десяток лет в земле, и Рылин с самодельным пистолетом Хабарова. Они предложили Киселеву ехать за ними.
Шофер «Волги», позже установленный, Павличенков Федор Федорович, считал, что вез веселую компанию, подгулявшую на свадьбе, слушал их болтовню, сосредоточив внимание на автостраде. Ему в голову не приходило, что в своей автомашине он подвозит опасных преступников.
Заставив отъехать Павличенкова, трое окружили Киселева.
— Хабаров сказал:
— Отвезешь, что скажу и куда укажут ребята, и — на все четыре…
— Не повезу, — наотрез отказался Киселев, узнав, что речь идет об имуществе из обворованного магазина.
— От-ве-зешь, — по слогам повторил Хабаров.
Если бы Киселев имел представление, что кто-то сидит в двухстах метрах от него в «Волге», он бы кричал, звал на помощь. Владелец «Волги», как потом говорил, мог бы многое сделать по предотвращению убийства. Но ему тогда казалось: «Подгулявшая братия, разберутся».
— Буду ждать вас около вокзала с трофеями, — предупредил Хабаров Шевчука, Рылина и особенно Киселева. Затем бандит повернулся к двум «своим». Четко, так, чтобы слышал «строптивый», произнес:
— Не захочет — девять граммов. — И передал самодельный пистолет Рылину. — Думаю, жизнь ему дорога. — Хабаров угрожающе посмотрел на Киселева.
— Что ты? — Зашептал трусливый Рылин. — «Мокрое» же дело.
— Девять граммов. Пистолет потом мне вернешь. Я жду.
Он побежал вперед, сел в ожидавшую его «Волгу», толкнул дремавшего шофера.
— Замаялся, друг, ты с нами. Перепили ребята, ну их к черту. Доберутся сами. Машина у них есть. Поехали.
18
Но напрасно на привокзальной площади, через которую должны были ехать с «грузом» напарники с тем, чтобы отсюда свернуть к Шевчуку, ждал Хабаров.
— Что-то случилось? — томился он. — Если убили — полбеды, а вдруг попались, что делать одному здесь, в чужом городе, без оружия, без денег?
Прождав до девяти утра, он взял снова такси. Преступника всегда тянет к месту преступления, он решил проехать по этому участку автострады. Там как раз в эту пору проходил осмотр места происшествия, стометровую полоску асфальта оцепили, машины пропускали в объезд по грунтовой дороге.
— Что тут случилось? — услышал я у себя за спиной.
Я обернулся. Из приоткрытой дверцы «Волги» выглядывал мужчина с могучим подбородком, чисто выбритый, в костюме из отличного трико «ударник».
Милиционер, стоявший сбоку от меня, недовольно ответил:
— Разве не видите, человека убили.
— Нашли негодяев?
— Поезжай, поезжай! — раздраженно сказал милиционер. — Каждому встречному объяснять.
— А-а, — промычал неизвестный и захлопнул дверцу. Но на этом не успокоился. Отъехав, попросил шофера остановиться, вышел и подробности убийства с живым интересом расспросил у мальчишек, которые, как пчелы, налетели изо всех близлежащих сел.
— Сожгли одного гада в бане, — радостно сообщил мальчонка. — «ТТ» при нем, а второй бежал.
Все. Лучших сведений ни один следователь при всем желании не сообщит. Значит, погиб Шевчук: «ТТ» у него.
Хабаров прикинул. Одному из города не уехать — безрассудное дело. «Вместе с Рылиным приехали, вместе уедем. Пистолета одного на двоих пока хватит».
Но три дня он околачивался в запланированных местах, а Рылин как в воду канул. Невдомек было бандиту, что он время проводит в душеспасительных и совсем не официальных беседах со следователем управления внутренних дел. Идти к нему в дом Хабаров боялся — вдруг засада. Тогда он бросил записку. Но к этому времени Рылин так отвык от своего повелителя, что решился на такой необдуманный шаг, как передача пистолета Хабарову через Ишкина. Лишь бы навсегда избавиться от Хабарова, а это значило, по его разумению, почти на 100 процентов уйти от наказания за «мокрое дело».
Но неотвратимое наказание, как дамоклов меч, висело над головами Рылина, Хабарова и Антонины, тоже погревшей руки от кражи Рылиным выручки из магазина. Следствию предстояло доказать, что Зинаида совершила поджог хозяйства Киселева и упрятала часть ворованного имущества в магазине.
Но все эти обстоятельства выяснятся позднее.
А пока еще нужно было разыскать бандитов.
19
Ишкина, как и планировалось, взяли под наблюдение переодетые в штатскую одежду сотрудники милиции. Участвовавшие в «операции» дружинники получили фото бандита Хабарова. Парни и девушки дежурили на вокзале, у кинотеатров, двух ресторанов, вблизи других мест, где могло произойти неожиданное появление Хабарова.
В этой обстановке стоило Хабарову самую малость заподозрить, что он со всех сторон «обложен», почувствовать опасность, и он бы бросился бежать из города. И тогда поймать убийцу и главаря шайки было бы во сто крат сложнее.
Поэтому добровольных помощников милиции и самих блюстителей порядка во главе с полковником Щелкуновым тщательно проинструктировал сам начальник управления.
Согласно рылинскому указанию, Ишкин подошел в назначенное время к кинотеатру. В эту минуту окончился сеанс, и зрители потоком хлынули по улице. Хабаров мог быть среди них. Ишкин стал на видном месте, на ступеньках у колонны. И простоял, как от него требовалось, двадцать пять минут. Главарь не явился. В этом месте засада делалась напрасно.
Ишкин направился ко второму запланированному месту встречи — ресторану железнодорожного вокзала. Было около семи часов вечера. В это время дружинники сообщили, что подозрительного вида мужчина, имеющий в чертах лица что-то общее с фотокарточкой, обогнул с тыльной стороны привокзальные ларьки, сам вокзал и, не заходя в него, проскользнул на перрон.
Две дружинницы и переодетый сотрудник угрозыска Павел Коржко, прячась за спинами пассажиров, последовали за неизвестным, вместе с ним вошли в электричку.
Павлу была дана команда, если неизвестный не намерен будет возвращаться, задержать его.
Пусть не покажется некоторым, что милиция осложнила себе работу. Ведь, казалось, куда проще задержать незнакомца, проверить документы и в дальнейшем поступать сообразно с личностью гражданина. Но это так может представиться лишь на первый взгляд. Многие «но» предостерегали от этого шага. И первое из них такое: допустим, это Хабаров. Задерживаем. А дальше, попробуй, докажи, что он имеет отношение к убийству Киселева. Преступника во что бы то ни стало надо было задержать с «истребованным» им пистолетом, из которого был убит шофер и который сделан из похищенной в музее винтовки. Необходимо было быть очень осторожным при задержании и потому, что, возможно, он имел и других соучастников преступления, с которыми намеревался встретиться. Для следствия важно было закрепить «операцией» и связь Хабарова с Рылиным.
Между тем, возможно, в душу к Хабарову вкралось сомнение, а может быть, он вообще день и ночь пребывал в страхе. Это, по всей видимости, настораживало до предела его, побуждало никому не доверяться. Казалось, Хабарову можно было сбежать одному из чужого города, на память которому он оставил два преступления: кражу мелкокалиберной винтовки и организацию убийства Киселева (универмаг — в другой области). Но он отдавал себе отчет в том (мы на это делали ставку), что один он без Рылина попадется. Ему нужен был сообщник, чтобы вместе покинуть этот город. Как он мечтал обосноваться в нем, и вдруг такая нервотрепка после первых же преступлений…
«Я буду в случае чего отрицать все, — метались мысли в голове бандита. — Доказательств нет, что я участвовал в убийстве. За один побег «голый» судите, не возражаю, возвращайте в колонию. Какая мне разница. Я погулял месяц на воле».
На имя Стрельцова в камере хранения вокзала удалось обнаружить рюкзак и чемодан. С санкции прокурора произвели обыск. Содержимое его состояло в основном из консервированного продовольствия, сухарей и плащ-палатки. А это, пожалуй, было лучшим свидетельством того, что он готовился, получив пистолет, может быть, совершить еще одно преступление на пару с «дружком» и распрощаться с городом. Затем отлежаться в густой чаще леса на плащ-палатке, а возможно, пробраться куда-нибудь, где они навсегда будут в безопасности… подальше от расплаты за свои преступления.
20
Между тем через два с лишним часа Хабаров с незримыми для него сопровождающими, сделав круг в полсотни километров, вернулся в вечерний город, с которым его связывали вещи, находившиеся в камере хранения, пистолет, оставшийся во временном пользовании у Рылина, и сам Рылин.
На оружие убийца возлагал особые надежды. Совершив удачное ограбление или «мокрое» дело, можно было загулять на неделю. Жить с коньяком, белужьим балыком. Кидать официанткам за бутерброд с зернистой икрой красненькую бумажку и целовать какую-нибудь нещепетильную, типа Зинаиды или Антонины, дамочку в угарном забытьи. А потом… потом читать маленькую настольную книжечку следователя, именуемую Уголовным кодексом. «Да, счастье всегда должно зависеть от того, насколько мы, сильные и хладнокровные, не от мира сего, просто добываем себе на прожиточный минимум. Не хочешь, чтобы я тебя душил, положи сам на блюдечко с голубой каемочкой свои сбережения. Так, кажется, говорил Остап Бендер. Он знал сто один способ, не хватая за горло и не извиняясь перед Уголовным кодексом, иметь приобретения. Лично я этих приемов не знаю. Владею самым верным, одним: за горло. Но, как всякий метод, он имеет свои недостатки — излишняя опаска, потом как бы не сцапали и не пригвоздили навечно самого к стенке», — бились в висках Хабарова мысли. Он знал законы не хуже юриста: побег из мест лишения свободы — статья 188 уголовного кодекса — пять лет лишения свободы. Две кражи личного имущества на Дальнем Востоке и две — государственного — здесь, в том числе оружия, — до десятка лет. И, наконец, статья 102, от которой дыбятся на голове волосы, — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах — смертная казнь. Может быть, ему погулять напоследок? Устроить всемирный потоп? Поджечь землю со всех концов? Эти мысли сводили с ума Хабарова. Страшно подумать о том, что он будет пойман. А потом — следователь, прокурор, суд. В таком состоянии Хабаров, имея рабочий телефон сожительницы Рылина, позвонил ей на завод. Если все нормально, та должна быть на производстве. Ведь как-никак, она знала о краже и «доле» Рылина в четыреста рублей. В случае чего и ее сграбастает милиция.
К телефону подошла Антонина.
— Алло! Это я.
Хабаров прислонился к стеклу телефонной будки и натянуто ухмыльнулся. Разговор между ними состоялся краткий.
— Где Николай?
— Уходила, был дома. Ждет деньги, видно, от вас.
— Привез их, привез, — сказал Хабаров. А про себя подумал: «Последние заберу».
После этого он положил трубку и, широко распахнув дверь телефонной будки, с минуту с непринужденным видом постоял на выходе, а затем, оставив дверь открытой, направился, судя по всему, к месту третьей встречи, запланированной с Рылиным на одиннадцать часов вечера в сквере привокзальной площади.
Время еще было.
«Зайти, может, к Шевчуку? Переночевать у его жены?» — думал Хабаров. А там осталась одна улика, о которой он не знал. Запись «19 Москва К. 5 ваг. Миша Хабаров» — и сама телеграмма из Москвы Шевчуку от Хабарова.
21
Около часа Хабаров шлялся по вокзалу, не решаясь идти в дом погибшего «дружка», ходил по перрону, не отходя далеко от поездов. Не было сомнения, что в любую тревожную минуту готов нырнуть в уходящий поезд этот безумец.
В одиннадцать часов вечера Хабаров, сделав «отводную» петлю, направился в сквер. Еще издали в тени ветвей увидел сидящего на скамейке Ишкина, решил подойти. Может, Рылин не теряет времени даром, вербует «на службу», как он его учил?
— Папироски «Беломора» не найдется? — спросил, как инструктировал Рылин, у проходившего мимо Хабарова Ишкин. И хотя он десятки раз репетировал пароль, ему показалось, что сказал его чужой, рядом стоящий человек. Голос изменил ему при виде кряжистого здорового бандита.
— Сигаретой могу угостить, а спички ваши.
— Предпочитаю лучше совсем не курить.
— Что с Рылиным? — вплотную подошел Хабаров к Ишкину.
— Велел передать, — Ишкин натренированным движением сунул тому оружие.
Но Хабаров вдруг отстранил руку Ишкина.
— Пусть у тебя. Пойдем проведаем больного. Ночевать все равно негде, а с его возлюбленной договоримся, может, еще отобьем.
И они вдвоем через сквер гулко затопали по асфальту.
Согласно договоренности, если Хабаров возьмет оружие, Ишкин должен пойти в другую сторону, они должны разойтись. Но так не случилось. Это озадачило наблюдавших. Следом сразу идти было нельзя. В то же время совершенно ясно, что Хабаров, утомленный за день, измотанный, не мог спать как когда-то на диване вокзала или скамейке сквера.
Пойти он мог и к самому Ишкину, которому по дороге задал несколько вопросов.
— Где сидел? За что? Чем занимаешься?
Получив исчерпывающие ответы, успокоился.
Итак, Хабаров потащил Ишкина к Рылину. От северного пронизывающего ветра было холодно. Прижимаясь к стене, за ними незаметно побежали Свинцов, Коржко и их группа.
22
Было без четверти двенадцать. Рылин открыл створку окна. Со двора доносились горьковато-пряный запах и свежесть.
В это время в дверь постучали.
— Антонина, — сказал я.
— Рано, — насторожился Рылин и метнул взгляд в окно.
Я крикнул ему:
— Ты что, обалдел! Открывай дверь!
— Кто? — дрожащим голосом спросил Цыганок.
— Свои, — услышал он до ужаса знакомый голос главаря.
В комнату ввалились Хабаров, Ишкин. А следом за ними, не дав опомниться, Свинцов, Коржко и другие. Я и кто-то из наших рванулись к бросившемуся в окно Рылину, сцепились с ним, повалили его на пол, придавливая к шкафу.
Наши ребята скрутили руки главарю. Он плотно сжал зубы, маленькие волчьи глаза забегали, налились кровью.
— Отродье! — взвыл он в наручниках на Рылина. — Провалил дело.
23
Я зашел к Кириллу Петровичу, своему непосредственному начальнику, доложил, что задание выполнил. В кабинете у него сидел молодой лейтенант милиции.
— Знакомьтесь, молодое пополнение.
— Георгий Соловьев, — протянул мне руку стройный, большеглазый, как девчонка, офицер.
— Возьми его с собой. У тебя место найдется на одну койку?
— Конечно, найдется, — радостно произнес я и хотел добавить: — Все реже по выходным дням буду ходить в наряд — разделим внеочередные дежурства пополам.
Мы с Георгием пошли через парк к автобусной остановке. Ветер вздымал прошлогоднюю бледно-желтую обмороженную листву и пригоршнями бросал ее нам в лицо. Встречная девушка улыбчиво вскинула на молоденького лейтенанта брови.
«Будет пользоваться успехом, — отметил я про себя. — Четыре года назад, — думал я, — вот так же и я с чемоданом и направлением переступил порог родной милиции. И так же, как сейчас он, считал, что главное в нашей службе — романтика опасностей, риска. Отбрасывал повседневность, кропотливость нужной и важной для всех нашей работы».
Но этих первых представлений не стоит опасаться — они временны для тех, кто проникся уже с первых месяцев службы уважением к своей профессии не внешней стороной, а ее сутью.
Я открыл после долгой командировки свою холостяцкую уютную комнатку. Покой и обжитость дохнули на меня.
После разлуки простое следовательское жилье мне стало еще милее. Порадовался тому, что после вуза меня направили работать в этот город.
— Размещайся и будь, как дома, — сказал я новоиспеченному лейтенанту милиции, а сам стал распечатывать письма от милой, доброй мамы.
В это время в дверь позвонили. Открываю — опять старшина Хафизов. Он улыбается.
— Иду мимо, решил поздравить вас с успешным окончанием «операции». Вижу, вижу, сколько корреспонденции накопилось за эти дни…
Я втаскиваю его в комнату, и мы начинаем весело пить чай.
Итак, банде Хабарова пришел конец. Следователь прокуратуры поставил последнюю точку в уголовном деле № 14. Приговор коллегии по уголовным делам областного суда в отношении Хабарова и Рылина о высшей мере наказания приведен в исполнение. К разным срокам лишения свободы осуждены Зинаида Ваксина и Антонина Влажнова.
Ах, как Хабарову и его компании хотелось поставить запретный промысел на «широкую ногу». Но они (пусть и не так уж быстро) оказались укрощенными. Каждый из пятерых получил свое по закону. И по справедливости.
Закончив рассказ о своем первом «крупном» деле, Руслан Юрьевич Вихрев скромно заметил: «Рядовой эпизод. Но дорог тем, что от него пошло начало моей беспокойной службы».
1968—1970
«ЛЕКАРИ»

1
Начальник следственного отдела Виктор Викторович Белов, моложавый подполковник милиции, выслушав доклад следователя, полистал папку с бумагами, касающимися взлома аптеки, и, не глядя, протянул руку к телефону.
— Обстановка несколько осложняется, товарищ генерал, — сказал Белов в телефонную трубку.
Начальник управления попросил зайти к нему.
Генерал был в годах, закаленный жизнью, на вид простоватый, но на самом деле с хитрецой человек.
— Ну-ну, что там у нас плохого с аптечным делом? — спросил он и по привычке стал вертеть в руке коробок спичек.
Начальник следственного отдела подумал невольно: «Вот еще провидец! Я не успел рта раскрыть, а он уже знает, с чем я пришел».
Подполковник с легкостью человека с натренированной памятью, даже не открыв папку с документами, стал выкладывать обстоятельства и подробности преступления.
Теперь уже генерал исподволь восхищался тридцатидвухлетним руководителем самого сложного отдела управления и в который раз подумал о том, что, возможно, придется все же расстаться с Виктором Викторовичем: министерство ставило вопрос о переводе Белова в другую область — на повышение. А отпускать подполковника не было у генерала ни малейшего желания.
Впрочем, если говорить начистоту, выдвижение не радовало и Белова. Оно означало расставание с генералом, товарищами. А он этого не хотел. Кто знает, как сложится служба на новом месте, каковы будут начальники и подчиненные. Здесь же Белову работалось легко и удачливо.
— Так как дела с аптечными разбойниками? — повторил вопрос генерал.
— Осмотр аптечного киоска на улице Кирова подтвердил, что стекло выставлено тем же способом, что и в других. — Подполковник положил перед генералом протоколы осмотра места происшествия. — А вот список похищенного.
Начальник управления поправил очки, взял поданный Беловым листок бумаги.
— Опять натрий бром — 3 килограмма. Пирамидон в порошках — 500 граммов, пенициллин — 150 трубочек номер 10 и сто тысяч единиц, еще десятки названий. Кому это нужно? — генерал поднял глаза. — Можно вылечить целый город от эпидемии. Что вы думаете на этот счет? С кем мы имеем дело? Что за «лекари»?
— Напрашивается предположение, что у воров есть связь с каким-нибудь аптечным киоском, возможно, обеспечивают таблетками токсикоманов.
— Улик на месте происшествия оставлено немного, и все-таки, думается, зацепиться есть за что. Не так ли? — генерал вопросительно глянул на подполковника. Версия о токсикоманах, думаю, реальная.
— Да, — согласился Белов. — Слепки со следов обуви у аптек сличили. Одни и те же туфли. И еще кое-какие улики изъяты, которые пригодятся. Будем проверять наркоманов и их «младших братьев».
— Сейчас самыйраз, — оживился генерал, — усилить охрану у аптек, которые на окраине. Нужно быть готовыми к новым аналогичным взломам и в пригородных селах. Эта тварь не остановится ни перед чем.
2
Возвратясь к себе в кабинет, Белов вызвал следователей на оперативное совещание. Переводя взгляд с одного на другого, подполковник с удовлетворением отметил, что любому из них можно поручить самое серьезное задание. Выполнят. Возьмут молодой энергией, знаниями, которые они получили в вузах, опытом.
— У кого есть неотложная работа? — поинтересовался Белов.
Следователи начали докладывать о срочных делах, необходимых выездах, следственных мероприятиях. В результате оказалось, что лишь капитан Вихрев полностью свободен от расследования уголовных дел: он только что вышел на службу после отпуска.
— Тогда с вас и начнем, Руслан Юрьевич, — сказал Белов.
Неторопливый, обстоятельный, логичный в рассуждениях, капитан был симпатичен подполковнику, хотя у капитана была слабость: ехидничать по поводу даже самых здравых и толковых рассуждений товарищей, а иногда и начальника.
— Согласен, не глядя, — сострил по привычке Вихрев и безмятежно уставился в глаза начальника отдела. На самом деле капитан пытался угадать, что за происшествие ему предстоит расследовать.
Белов, пройдясь взад-вперед по ковровой дорожке, сказал:
— Аптеки трещат по швам. Вернее, по окнам. Беритесь и раскрывайте преступления.
3
Когда материалы о взломах аптек оказались в руках Вихрева, он со свойственной ему скрупулезностью стал вчитываться в каждую строчку протоколов. Время от времени запускал пятерню в свою буйную шевелюру. Наконец позвонил Белову:
— Товарищ подполковник, разрешите командировочку в Малые дворики. По моим подсчетам, этой ночью преступники заглянут туда. Ведь три аптеки взломаны по автотрассе, следующая по логике в Малых двориках.
— В Малых двориках нет аптеки, а рядом, в Васильевке, есть. Поезжайте туда на ночь.
Вечером Руслан Юрьевич прибыл в село и разместился в малюсенькой комнатке для приезжих. В час ночи он уже был поднят по тревоге. В аптеке орудовали грабители.
4
Минут через пять капитан был на месте происшествия. Дрожали, как в лихорадке, пальцы рук у заведующего аптекой Волина.
— Я вас попозже допрошу, — пригасив чужой окурок, сказал Волину Вихрев. — А сейчас помогите мне снять вот эти следы топора с дверей.
Затем были собраны в пакет рваные части металлического запора, сфотографированы вмятины от ломика на дверцах старинного сейфа.
Преступники, чувствовалось, были опытные, сильные и решительные. Эти предположения подтвердились взволнованным и сбивчивым рассказом управляющего аптекой Волина. Налетчики не подозревали, что под одной крышей с аптекой расположена квартира управляющего Волина. Проникнув в помещение, они оказались у него в спальне. И Волин столкнулся с ними лицом к лицу. Один из них был рослым, гораздо выше Волина. Второй хоть и маленький, но крепыш.
Сцепившись с рослым незнакомцем, Волин оттеснил бандита к шкафу. Неистово и жалобно задребезжала разбитая посуда, с грохотом повалились на пол чашки, тарелки. На помощь верзиле бросился другой — низкорослый крепыш. Скуластый, широколицый. И неизвестно, чем бы кончился этот неравный поединок, если бы на помощь управляющему не кинулась его престарелая мать. Она вцепилась ногтями в лицо крепыша и тем самым помешала ему нанести удар сыну. Волину удалось на какое-то мгновение оттолкнуть от себя рослого преступника. Споткнувшись о поваленный стул, бандит упал. Метнувшись к двери, Волин схватил ружье, обычно висевшее возле двери. Ружье не было заряжено, но угрожающий вид двух стволов подействовал на бандитов отрезвляюще. Они, протаранив головами остекленные рамы, исчезли в темноте.
Рассказывая о случившемся, Волин глубоко затягивался дымящей папиросой, изредка разгоняя дым усталым движением руки. Не окончив фразу, вдруг вскакивал и убегал в соседнюю комнату, где лежала больная мать. Пережитая ночь ее потрясла. Возвращаясь к следователю, управляющий снова отвечал на вопросы Вихрева. Это был до смерти уставший человек. Но он крепился, не подавал виду, что самое большое его желание сейчас — остаться одному, отдохнуть, развеяться.
Все, что интересовало следователя, Волин рассказал в полчаса. К своим показаниям он ничего добавить не мог. Кто преступники, откуда взялись они в селе — об этом он не имел ни малейшего представления. Но предположил, что были наркоманы или токсикоманы. Они часто отираются около аптеки.
— Ну что ж, Аркадий Васильевич, спасибо за показания и за смелость, идите отдыхайте, у нас еще будет время побеседовать с вами.
— Какой уж тут отдых, — мягко возразил Волин. — Скоро аптеку открывать. Больные ждать не будут.
— Вот этого делать не следует.
— Не понял, что именно?
— Открывать учреждение. Нужно сделать ревизию, — напомнил следователь управляющему.
— Ах, да, да, — оживился Волин. — Пойду распоряжусь.
5
В это раннее утро большая группа сотрудников была поднята по тревоге на ноги. Срочно перекрывались дороги, ведущие из города, выставлялись посты на вокзалах. Сообщение о преступлении было передано в соседние области. Четкие распоряжения капитана Вихрева создавали у сотрудников, подчиненных следователю, уверенность в правильности принятых решений. Сам же следователь был далек от мысли, что преступников удастся задержать легко и быстро.
Следователь приступил к повторному осмотру места происшествия утром. Появились дополнительные улики. Прежде всего — на осколках разбитого стекла обнаружились следы крови. Очевидно, кто-то из бандитов повредил открытые части лица, рук или шеи. Насколько серьезны эти ранения — пока судить трудно, но для следователя обнаруженная кровь — немаловажная улика.
Вихрев осмотрел оставленные бандитами второпях вещи. В обычном рюкзаке — пиджак, полотенце, сапожная и одежная щетки.
— Чистоплотные, — брезгливо поморщился Волин. Он стоял рядом со следователем и подписывал протокол.
Следователь обрадовался находке. Это уже кое-что: личные вещи преступников да к тому же среди них увесистая связка ключей. Вихрев внимательно осмотрел ее, перебрал ключи.
— Давно, видно, готовились к кражам. Сколько припасли запчастей.
— Какие-то залетные птахи, у нас в селе таких не видать было. Может, приехали по большаку.
Но следователь уже не слушал аптекаря. Он, как опытный в своем деле человек, почувствовал, что нащупывается «ниточка». Она начиналась клочком газеты, обнаруженным на полу помещения. В верхнем углу обрывка стояла пометка, которую обычно делают почтальоны при доставке корреспонденции подписчикам: «26.31/8».
Пока Вихрев оценивал и фиксировал в протоколах улики, ребята из опергруппы, дружинники, отряд добровольных помощников продолжали поиск. Не исключалось, что преступники, в надежде выиграть время, притаились где-нибудь в ближайшем лесу и ждут, когда наступит затишье, поэтому нужно было прочесать влажные от утренней росы опушки леса, опросить сторожей, случайных прохожих, шоферов проезжающих машин.
К исходу дня следователь выработал план дальнейших действий, составил перечень мероприятий. Об отдыхе никто не думал. Все были одержимы одним стремлением — найти и обезвредить преступников.
— Братцы, человек — не вечный двигатель, его нетрудно испортить, — неожиданно заявил молодой лейтенант из уголовного розыска. — Мы же совсем отощали.
Несмотря на молодость, лейтенант был массивен, упитан и все же раньше всех запросил передышки. Сотрудники начали по-дружески подтрунивать над ним. Тем не менее на столе появились колбаса, аппетитные ломтики хлеба, свежего, ржаного. Жена Волина подала проголодавшимся по стакану ароматного чая.
Позвонили из управления внутренних дел:
— Какие результаты, Руслан Юрьевич? — спросил Белов.
— Улики — пальчики оближешь.
— Выезжайте в управление, — решил Белов. — Обратимся к экспертам.
6
Эксперты быстро установили название газеты. Районный центр, где она издавалась, был расположен в семидесяти километрах от места преступления. Для начала совсем неплохо. Но оснований утверждать, что воры прибыли именно из этого городка, пока у следователей не было.
В который раз капитан вчитывался в крайне лаконичную запись: «26.31/8». Положим, 31 — номер дома, а 8 — номер квартиры. Но что означает цифра 26? Эту загадку скорее всего можно решить на месте, где издается газета.
Сумрачно посматривая из окна кабины «газика», Вихрев ждал встречи с райцентром, в котором не был ни разу. Перед тем, как зайти в местное отделение милиции, он проехал по нескольким улицам небольшого городка.
7
Было еще рано. Во всем отделении милиции хозяйничал дежурный старший лейтенант Кравцов, плечистый, с военной выправкой. Он оказался участковым инспектором райцентра. Значит, можно было сразу же приступать к делу.
Кравцов взял у капитана клочок бумажки и посмотрел на него острым взглядом из-под тяжелых нависших век. Потом откинулся на спинку стула — резко, энергично.
— Значит, нам нужно расшифровать…
— Сначала цифру 26. По-моему, в ней что-то для нас скрыто, — уверенно сказал Руслан Юрьевич.
— Это нить для вас. Стоп! — Участковый инспектор заметно оживился. — Идея, причем блестящая. Давайте я вас познакомлю с наименованием всех райцентровских улиц.
Может быть, менее опытный следователь сказал бы: пустое, что может быть общего в цифре с наименованием улиц, но Вихрев впился в справочник города. А участковый инспектор уже загорелся осенившей его идеей.
— Фантастически! Улица 26 Бакинских комиссаров. Идет?
— Подходит, — Вихрев бросил на спинку стула плащ. — Вроде.
8
В доме под номером 31 в квартире 8 по улице 26 Бакинских комиссаров капитана и старшего лейтенанта встретила предупредительная и до умиления доброжелательная старушка.
— Проходите, проходите! — засуетилась она, увидев на пороге двух незнакомых мужчин, один из которых был в милицейской форме.
Извинившись за столь ранний час визита, следователь пропустил вперед Кравцова, затем переступил порог сам. Старушка провела гостей в большую комнату и усадила в старые, но удобные кресла, и к немалому удивлению мужчин закурила.
— Закуривайте, молодежь. Своего Сашку я, ох, как гоняю за эти шалости, а сама вот балуюсь. С войны привычка. Тяжело досталось. Связисткой была. Ну да ладно. — Она заговорщически подмигнула и с доброй материнской улыбкой пододвинула пачку сигарет гостям.
— Вы нас извините, Екатерина Семеновна, мы сразу с вопроса, — начал Вихрев.
— Будьте добры. Слушаю.
— Саша — это кто?
— Саша-то? Мой внук. Он уже теперь по фигуре величается Александром Ивановичем. Вот, голуби мои. Восемнадцать стукнуло.
— Спит, что ли? — понизив голос до шепота, допытывался Вихрев.
— Да нет его дома, говорите громко, — добродушно сказала женщина. — Еще будут вопросы? Уж, верно, неспроста вы ко мне.
— Да как вам сказать, — тянул в нерешительности участковый, выразительно поглядывая на приезжего следователя.
А Вихрев, заметив на тумбочке районную газету, потянулся к ней. Очевидно, он изменился в лице, так как старушка участливо посмотрела на Андрея Даниловича и поспешно распахнула окно.
— Мне невдомек. Я столько курю. Сейчас проветрим комнату.
— Нет-нет, я сам балуюсь куревом, только не с утра, — заверил хозяйку капитан, а сам с трудом оторвал взгляд от характерного «26.31/8». Такая же пометка. Да и сделана она той же рукой.
— Екатерина Семеновна, вы не можете уточнить, где сейчас находится ваш внук, Александр?
Теперь уже старушка не сомневалась: гости пожаловали неспроста, а по поводу ее внука. Она изменилась в лице и озабоченно посмотрела в глаза следователю:
— Не томите, что случилось?
— Ради бога, не волнуйтесь. Ничего не случилось. Но на мой вопрос прошу ответить. Это необходимо знать.
— Саша на заводе. Он в ночную смену… — голос изменил старой женщине, она умоляюще попросила: — Пожалуйста, еще раз прошу, скажите, что с ним? Он здоров?
— Екатерина Семеновна, конечно, здоров. Впрочем, мы его не видели. Но раз он на работе, значит, здоров, все с ним в порядке, — заверил старший лейтенант.
Старушка помолчала. Затем закурила новую сигарету и тихим, уже менее взволнованным голосом пояснила:
— Не думайте, я ведь прекрасно поняла сразу, что ваше посещение не случайно. Сперва мне показалось, что вас интересует какой-то вопрос, касающийся наших соседей, жильцов напротив. Но вдруг вы заинтересовались Сашей — это другой оборот. Я забеспокоилась. Сами должны понимать, кто он для меня. Впрочем, если вы утверждаете, что он жив, здоров, значит, с ним ничего не случилось. А в остальном я спокойна. Я слишком хорошо знаю своего мальчика, чтобы допустить мысль о его причастности к делам, которые расследуете вы, я имею в виду милицию. Впрочем, опекуны всегда узнают последними о проказах своих воспитанников.
9
Минут через двадцать следователь выяснил все, зачем пришел в эту квартиру, к Екатерине Семеновне. Саша работает на заводе фрезеровщиком. В прошлую ночь спал дома. И хотя это требовало дополнительной проверки, тем не менее чувствовалось, что ответы старушки правдивы. Действительно, районную газету они выписывают. Ее доставляет почтальон Вера. К восьми утра она, как всегда, и сегодня принесла свежую почту. Когда вернется Саша? Часов в десять. То есть минут через сорок, сорок пять.
Решили подождать Сашу. А заодно и письмоносца.
Вера вскоре появилась. Глаза у девушки были лукавые и задорные. Она вмиг рассказала все новости, какие напечатаны в газетах, и извинилась, что немного припоздала.
— Когда же вы смогли их прочитать? — изумился Вихрев, которому понравилась общительная девушка.
— А вот кладу в почтовый ящик и на ходу заглядываю сначала на первую страницу, потом на последнюю. Ведь свежие события только на этих страницах.
Когда Вера ушла, Екатерина Семеновна стала хвалить ее:
— Чудо-человек. Смотрите, ведь красавица, может пойти в секретарши, в тепло, на легкую работу, а привязалась к нам, говорит, утра не дождусь, чтобы обрадовать кого-нибудь письмецом.
Пришел Саша. Длинный, стройный, юношеская спортивная выправка подчеркивалась модной курткой. Лицо улыбчивое, открытое, располагающее с первого взгляда. И умное. Ни тени смятения, ни малейшего повода к замешательству не заметили сотрудники в глазах парня. Да, такие ребята не бывают причастными ни к чему, кроме работы, спорта, учебы.
И все-таки сотрудники милиции объяснили Александру цель своего прихода. Саша подумал и не спеша ответил:
— Газеты мы все храним. Наша не могла быть в другом районе в каком-то селе. Свою газету за то число я попытаюсь найти.
Но, просмотрев сохранившиеся экземпляры, Саша недоуменно пожал плечами.
— Не нашел. Куда она девалась — ответить прямо-таки затрудняюсь. Может, кто-нибудь взял? Кто же к нам приходил в последнее время? Бабуля, ты не помнишь?
— Ну как же, — охотно вступила в разговор бабушка, — например, вчера приходила Ирина Родионовна. Несколько дней тому назад — Игорь Степанович… Была Верочка.
Но Саша вдруг задумался.
— Припоминаю. После майских праздников забегал Юрка, — сказал парень. И вдруг воскликнул: — Вы знаете, пожалуй, вспомнил. Точно, приходил Юрий и просил дня на два ножовку. Я дал ее, но предварительно завернул в попавшуюся под руку районную газету. Помню, ножовку едва прикрыла маленькая газета. Впрочем, я не могу утверждать, что именно за 23 апреля была та газета. Я лишь утверждаю, что газета была районная, малоформатная.
Следователь насторожился:
— Юрий — это кто?
— Он бабушкин племянник. Мой родственник, но у нас мало общего.
— Парню девятнадцатый год, — вмешалась Екатерина Семеновна, — нигде не работает, сестру до нитки вымотал. Извел, негодяй. Какую-то гадость глотает.
10
В квартире Савинских были сбиты в кучу половики. Прямо в прихожей — бак с мусором. Хозяйка, истощенная сутулая женщина, убиралась. Она болезненно восприняла приход работников милиции. Рассматривая предъявленные ей для опознания вещи, найденные в аптеке, никак не могла успокоиться.
— Пиджак сына, — помявшись, согласилась женщина. Потом, повернувшись к длинному и худому, как жердь, сыну, спросила: — Где опять таскаешься? Твой пиджак ведь. Почему он в милиции? Эх, Юрка, Юрка…
Парень стоял с заспанным помятым лицом. Правая щека в мелких и частых царапинах. «Свежие порезы» — отметил про себя Руслан Юрьевич. Руки его заметно дрожали, как после крепкого похмелья.
— Твой пиджак? — спросил следователь у Юрия.
— Что вы привязались? «Твой, твой». Что у меня у одного такой пиджак? Их фабрика для всего Союза производит…
— Покажи свой, — произнес участковый инспектор. — Неси!
— Я о другом, а вы свое, — путался и соображал, как ответить, парень. — Может, и это мой, откуда я знаю…
— Что ты мелешь? — прикрикнула мать.
Юрий молча ушел, заплескалась вода. Умылся, вернулся с полотенцем через плечо. Немного посвежел.
— Вы у меня спрашиваете: «Твой?», я отвечаю: «Не знаю», потому что свой пиджак я продал на прошлой неделе одному чуваку встречному. Деньги нужны были, — угрюмо ответил Юрий.
Вихрев не выдавал волнения. Он понял, что напал на след — какой, трудно предугадать. Но Юрий не из тех, кто боится нарушить закон.
— Кому продал, Юрий? — поинтересовался Вихрев. — Назови. Он нам нужен, твой покупатель.
— А откуда я знаю, кому. Говорю: чуваку встречному, впервые тогда видел. Удостоверение личности не спрашивал. Если б знал, что с милицией встречусь по этому поводу, спросил бы. Мама, дай что-нибудь пожевать. — Юрий сказал так, как будто и не было в комнате работников милиции. Он недвусмысленно дал понять, что ему больше нечего сказать. Зато милиции было что спросить у Юрия. Его пригласили в райотдел.
— Одевайся, проедемся, — сказал участковый инспектор, — потом насытишься. Это ты у меня на прошлой неделе изгородь в парке поломал?
— На оградку я ее. Старушка одна — божий одуванчик — попросила. Как откажешь? — нагло отвечал Юрий, одеваясь. Женщина крикнула вслед:
— Если в чем замешан, чтоб духу твоего в доме не было. Не дает жить, стервец. В кого ж он, бандюга, сработан?
11
Через полчаса беседу с Юрием следователь продолжил в райотделе. А еще через час и приятель Юрия отыскался — Борис Сорокин.
Борис, низкорослый, длиннорукий парень, был дважды судим. На допросе он вел себя предупредительно, заискивающе и все советовал приятелю на очной ставке «говорить все», хотя сам ни словом не обмолвился о своей причастности к расследуемому преступлению. Его лицо, руки еще больше, чем у Юрия, исполосовали ссадины и царапины.
— Мне нужно задать вам несколько вопросов, — сказал Борису капитан. — С какого начинать, как вы считаете?
— С любого, товарищ следователь. Я вам прямо скажу, с некоторых пор я исключительно честно помогаю милиции. Блюстители порядка — наши друзья, если разобраться.
Словоохотливого Сорокина следователь заставил задуматься над вопросом:
— Две ночи вы не ночевали дома, на работе вас не было, где вы их провели? Только честно, как мы и договаривались.
— Как мы договаривались, не сомневайтесь, как договаривались, все расскажу, точно на духу, к этому я привык. Не скажу правды, бывало, в детстве матери, маюсь, приду, говорю: ма, прости, соврал… Тут вот ведь какое дело. В каком-то фильме (я уже не помню его названия), у одного товарища спрашивают, где он провел ночь? Так вот, если вы смотрели эту ленту, то помните, товарищ тот ответил так: я же не импотент. Зарок на безбрачие не давал.
— Ну, что ж, — развеселился следователь, хотя участковому казалось, что Вихреву следовало рассердиться на эту чепуху, — примем информацию к сведению. А отчего порезы на лице да вот и на руках?
— По пьянке. Ей-богу.
— Стеклом? Ну-ка, дайте правую руку, посмотрим с участковым. По-моему, стеклом. Так, стеклом?
— Не знаю. Говорю же, по пьянке.
И Юрий, и Борис продолжали изворачиваться, лгать.
12
Из сельсовета Вихрев позвонил управляющему аптекой Волину:
— Доставлены два орла с поломанными клювами, придется прийти, попробовать опознать. Опознаете — наша взяла, других доказательств немного, хотя и немало. Приходите в сельсовет.
Волин, какой-то растерянный и угнетенный, пришел в сельсовет, и лишь после того, как опознал и Сорокина, и Савинского, побывавших у него в комнате у ту злополучную ночь, улыбнулся.
— Знаете, где-то в глубине души боялся, что вы меня заподозрите в трусости. Мол, имел ружье и не смог хотя бы одного бандита задержать.
— Ну, что вы, — успокоил его Руслан Юрьевич, — даже и в мыслях не имел подобного. Храбрость вашу вы и сейчас подтверждаете: смело опознали налетчиков, в глаза им сказали об их преступлении. Идите работайте и ни о чем таком не думайте.
13
Первым на допрос запросился Юрий. Он застучал кулаками и ногами в дверь изолятора временного содержания.
— Постовой, капитана мне, быстрей, иначе он тебе всыплет. Не медли, дело важное. Понял?
— А ты, голубь бескрылый, не шуми, — сказал степенный старшина Абрамов.
— Не оскорбляй! — завизжал Савинский. Он был на грани истерики.
— Доставьте Савинского в кабинет начальника следственного отдела Белова, — распорядился капитан Вихрев.
— Хотите полное признание? — с порога в каком-то нервном испуге начал Савинский.
— Очередной каламбур слушать, увы, у нас нет времени, — встал из-за стола Белов. — Говорите дело.
— Мы в аптеке были, управляющий не ошибся. Подробности давайте на бумаге. Простите, если можно, я сразу устроюсь на работу. Я не понимал, что за аптеку могут посадить. Мать жалко. — Натянутые нервы сдали, Савинский зарыдал. Задергались худые плечи, заходил кадык на длинной шее. — Мы таблетки потом выбрасывали. Они нам не пригодились.
Белов возмутился:
— Перестаньте хныкать. Умели воровать, умейте отвечать. Токсикоманы паршивые. Разбойники-«лекари». Взломщики несчастные.
— Просчитались мы, думали, тихое село… Сорокин говорит: ломанем что-нибудь, потом побалдеем, — с горечью признался Савинский. — Первый раз пошел…
Вихрев возразил:
— Первый ли? Вы пришли с раскаянием, а не договариваете. Какого снисхождения вы ждете? Вот прочитайте еще раз статью о смягчающих вину обстоятельствах. Только при полном раскаянии и при условии, что будете содействовать раскрытию преступления, вы можете рассчитывать на мягкое наказание. Расскажите о других аптеках.
— К другим непричастен. В них кто-то другой лазил. Не я.
14
Предстояла дальнейшая работа по разоблачению преступников. Хотя Белов с удовлетворением доложил генералу о том, что большая часть задачи решена Вихревым, сам он понимал, что праздновать победу еще рано.
И Белов не ошибся. Утром следующего дня, когда Савинский и Сорокин, признавшиеся в краже из одной аптеки, пребывали в изоляторе временного содержания, в городе была взломана еще одна аптека.
Начальник управления вместе с Беловым и Вихревым сам прибыл на место нового происшествия.
— Ну, что у вас, кража? — начал генерал, обращаясь к заведующей аптекой. — Или не похоже?
— Как же не похоже: все вверх дном, разве этого ералаша мало?
— Не мало, а много, а как вы думаете, Виктор Викторович? — обратился генерал к начальнику следственного отдела.
— Тут и дураку ясно — симуляция, — подтвердил Белов.
Генерал иронически поджал губы. Вихрев, нагнувшись, поднимал с пола разбросанные коробки из-под дорогих духов.
— Совсем ненужный беспорядок, — констатировал между тем генерал, прохаживаясь по аптечному торговому залу. — Перестарался кто-то, — продолжал начальник управления, — часы и те на стене перевернули. Было ли время у преступников забираться на стенку?
— И рецептурное окно разбито, — воскликнула работница аптеки.
— Разве оно вору мешало? — спросил сам у себя генерал. — Нет, разумеется. Кто последний уходил вчера вечером после работы из аптеки? Уточните это, — сказал Вихреву генерал вполголоса. — Ищите преступника среди работников аптеки. Только не обидьте подозрением честного человека.
15
— Кто там у нас на очереди? — спросил Белов Вихрева. Они оба несколько часов подряд допрашивали свидетелей по поводу кражи из городской аптеки.
— Продавец ручного отдела Валентина Маничева. Кстати, я изучил акты ревизии по этому отделу.
— И что нашли?
— Странность нашел, Виктор Викторович. Внезапные проверки выявляли в отделе излишние товары, плановые же заканчивались, как правило, недостачами.
— Так, интересно, — отозвался Белов. — Что из себя представляет Маничева — не интересовались?
— Ей двадцать лет. Была замужем. Развелась год назад. Ребенок есть, двух лет. Живет с престарелыми родителями. Встречается с мужчинами, посещает рестораны. Носит все модное, дорогое. Зарплата до ста рублей.
— Любопытно, — потер в задумчивости затылок Белов. — А давайте не будем трогать денек-другой эту самую Валентину, присмотримся к ней пристальней, а?
— Есть резон. Мне кажется, у нее есть связь с наркоманами и прочей шушерой.
16
В управлении внутренних дел к окошечку вахтера подошла Екатерина Семеновна — бабушка Саши. Ей надо было срочно увидеть следователя Руслана Юрьевича Вихрева.
— Екатерина Семеновна, дорогая, какими судьбами к нам?
— Из вашего города девушка приезжала вчера, племянника моего, Юрку, разыскивала. Как узнала, что его милиция увезла — так и заторопилась обратно. Не имеет ли это отношения к вашему делу-то? Вот я с чем к вам пришла.
— Девушку эту вы в лицо видели? — спросил Вихрев.
— Как вот с вами разговаривала, потому что сестра ее ко мне привезла.
— Пойдемте.
Вихрев, Белов и Екатерина Семеновна вошли в обворованную аптеку. В прихожей толпились все работники. Екатерина Семеновна подошла к одной и, как старой знакомой, протянула руку:
— Здравствуй, Валюша. Я вот приехала: думаю, узнаю насчет племянника. Да вот неожиданность: вас встретила. Вы здесь работаете?
17
В кабинете следователя сидели двое: Вихрев и Маничева.
— Где же вы познакомились с Юрием?
— Случайно.
— Он вроде помоложе вас будет?
— Молодой конь борозды не испортит.
Вошел генерал. Вихрев встал.
— Сиди, сиди. Возьми протокол и записывай, а я побеседую с Валей. Не возражаете, Валя?
— Хоть сколько… — Маничева недоверчиво, чуть-чуть испуганно перевела взгляд с генерала на протокол, который положил перед собой Вихрев.
— И давно вы с ним связь поддерживаете? — напомнил о себе генерал.
— Вы о ком?
— О Савинском. А вы о ком думали?
— О нем же, — раздраженно проговорила Маничева.
Генерал, словно не замечая этого, продолжал:
— В ваши годы пора уже серьезно задуматься над жизнью. Опоздаете — заест бесчестье. Тогда пиши пропало. Крест на себе ставь. А мы, то есть общество, этого не желаем. Лично я хочу приходить и покупать у вас лекарства. Но только лечиться, а не травиться…
— Вы ищите козла отпущения. Арестовали преступников — с них и спрашивайте. А ваши намеки приберегите для других.
— Вы не поняли меня, — снова взялся за свое неутомимый и терпеливый генерал. — Вдумайтесь в то, о чем я говорю. Может ли быть человек счастлив, если живет не по закону?
— Я в этом не разбираюсь, у меня среднее образование.
— Эта истина с молоком матери должна всасываться.
Видно, генералу удалось растопить ледок отчуждения в душе Маничевой. Она вдруг заговорила быстро, горячо:
— Вы, я понимаю, здесь самый главный. Не вмешивайте меня в аптечные дела. Моя вина в том, что я дружила с Савинским, хотя, конечно, как можно дружить, если живем мы в разных городах? По делам иногда я бываю в его городе, захожу, проведываю. И только. Какой тут грех? Или есть? Он просил у меня денег в долг: нигде ведь не работал. Я ему давала, правда, иногда брала из кассы, вот и вскрывали ревизии недостачу.
— А чем ребята рассчитывались? — пристально глядя в глаза женщины, спросил генерал.
Лицо Маничевой стало злым и замкнутым. Налаженного контакта как не бывало. А генерал, как бы между прочим, поставил на стол коробку со 150 трубочками пенициллина, десяток разных пузырьков.
— Их обнаружили у вас, Валя, в портфеле, под кроватью.
— Ну и что?
— Откуда они? — От пота загорелая лысина генерала заблестела. Он протер ее носовым платком и признался, не стесняясь:
— Тяжело в мои годы вести допрос. Ну, будем кончать, Валя?
— Пустое. Пенициллин и прочие таблетки, что мне выставили, никакого отношения к кражам из аптек не имеют. Что, трубочки и пузырьки помечены?
— Ох, упорная, — провел ладонью по лбу генерал и вытащил из папки клочок газеты с пометкой «26.31/8», обнаруженный у сельской аптеки, приложил его к газете, в которую была завернута коробка с пенициллином и другими лекарствами.
— Вот смотрите, Валя, сходится. Тютелька в тютельку.
Глаза Маничевой, тщательно подведенные тушью, округлились от удивления. Генерал неторопливой, уверенной походкой человека, поставившего все точки над «и», прошелся по кабинету из угла в угол. Маничева тихо заговорила:
— Савинский таскал мне медикаменты. Я их продавала в штучном отделе, выручку делили. А когда узнала, что Савинского посадили, решила доказать, что не он ворует из аптек, еще кто-то есть. На ночь окно оставила открытым — и вот… Иногда меняла лекарства: брала, что у них лишнее, а давала то, что просили. Они токсикоманы. Своего здоровья — «лекари». Только в кавычках.
Ее вывели из управления. На тротуаре она остановилась и обернулась: лицо не выражало ничего, кроме злости. Видимо, много еще пройдет времени, прежде чем она поймет, что жизнь начала плохо, что сама себя, как говорится, объехала по кривой…
Большая предстояла работа и с аптечными разбойниками, диверсантами собственного здоровья.
* * *
Разные сроки лишения свободы определил народный суд Юрию Савинскому, Борису Сорокину и Валентине Маничевой. С учетом роли каждого в преступлении.
Екатерина Семеновна Сорокина часто присылала письма следователю Вихреву. Писала она рассудительно, доброжелательно, спокойно. Хлопотала за племянника Бориса. Все спрашивала совета, кому ей написать, чтобы пересмотрели приговор. Борис, на ее взгляд, наказан очень строго. Не заслуженно. А милицию хвалила. Находила лестные слова Вихреву и его коллегам. Стражей порядка величала защитниками, желала успехов в «искоренении преступлений» и тут же уточняла:
«А мой племянник Борис — какой же он преступник? А что дважды отсидел, так то судьи до конца не разобрались…»
Случайные послания получал Вихрев и от вспыльчивой, раздражительной матери Юрия Савинского. Читая их, Вихрев непременно мысленно воскрешал в памяти ее — худенькую с болезненно-желтым лицом. И гневные слова, брошенные этой женщиной вслед сыну: «Если в чем замешан, чтоб духу твоего в доме не было…»
Да, Юрий и не собирался, видать, в родной дом возвращаться. Как сообщила Савинская,
«ее сын Юрий пишет очень часто из колонии Валентине Маничевой. Она собирается к нему ехать, чтобы стать его законной женой. Начальство колонии обещало содействовать регистрации брака».
Самой Валентине Маничевой, как матери малолетнего ребенка, назначена была мера наказания условной.
1970—1971
В ОДНОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

1
Село это расположилось в чудном лесном уголке, на берегу Оки. Все в нем сейчас есть: дорога, автобус, детский сад, школа, клуб, медпункт, магазин, новая улица из разноцветных коттеджей. Природный газ проводят в новые и старые дома. Не хватает только людей, особенно женского пола. От этого «страдают» и ребята. Только в нынешнем году из армии вернулись пятеро, а свидание назначать некому. Если переиначить старую песню, то выйдет, на десять парней приходится три девушки.
И старый председатель колхоза, местный старожил Егор Иванович с досадой смотрит, как готовит свою единственную дочь Лену к выезду в город доярка Полина Матвеевна Зубова.
— Зачем ты Елену с такой любовью выпроваживаешь из села? Вон у нас в животноводстве едва хватает людей на одну смену. Нужны продавец, помощник бухгалтера, библиотекарь. Что твоя Ленка, выпускница нашей школы, забыла в областном центре?
— Счастье, Егор Иванович, счастье. Ты уж не обессудь.
Мать подала дочери в автобус чемодан, сумку, свертки… А через пять часов пути девушка увидела за окном салона весь в огнях вечерний город, тот, в котором должна решиться ее судьба.
Лену уговаривали остаться в селе не только председатель и ее лучшая подруга Галя. Ее просил не уезжать и демобилизованный солдат озорной Павлушка. Но если Лена колебалась, то ее мать оставалась непреклонной. Женщине давно хотелось, чтобы дочь ее стала горожанкой. Это было заветной мечтой Полины Матвеевны.
И вот уже побежали дни в городской суете. Девушка поступила работать на огромный хлебозавод. Труд оказался нелегким. Лена усталая и одинокая возвращалась после смены в небольшую комнату общежития, где впритык стояли три кровати. Одну из них занимала Люся со швейной фабрики, вторую — медсестра Валентина. Обе приехали тоже из деревни, но уже пообжились в большом городе.
Лене, особенно поначалу, не пришлись по душе беспокойная городская суета, торопливость, вечная беготня. И матери с отцом она написала первые свои письма не радостные, сообщала, что невесело ей пока живется в городе.
Лена скучала по отчему дому. В городе она была потерянной, никому не нужной, заменить тех друзей, которых она оставила в родном селе, было некем.
Забывалась девушка лишь на заводе. Ее там полюбили. Только старый мастер Федор Кузьмич первые недели хмуро, с холодком относился к «пополнению» из деревни. Он знал: там своего труда хватает и руки Лены в селе куда нужнее, чем здесь.
Но Елена, от природы человек трудолюбивый, старательный, каждый раз, подходя к проходной завода, загодя настраивала себя на прилежную, безукоризненную работу. И, действительно, она выполняла свои обязанности, хоть и нехитрые, безупречно.
Она научилась виртуозно смазывать сдобные булочки густой помадой, включать транспортер и отправлять выпечку на стеллажи.
У Лены был дар: она ни с кем никогда не ссорилась. Обладая уступчивым, легким характером, девушка покоряла всех своим обаянием, считалась у своих напарниц по труду «золотцем».
2
Жизнь Лены Зубовой в городе совпала с расследованием необычного преступления. Все дело было в том, что в ОБХСС пришло письмо, в котором сообщалось о существовании матерого спекулянта. Тот, якобы, появляется в учреждениях, на предприятиях города и втридорога сбывает служащим французские духи, иноземный шампунь, туалетное мыло, импортную губную помаду, тушь и многое другое из парфюмерного дефицита.
Полковник Георгий Митрофанович Сомов и руководитель ОБХСС подполковник Иван Семенович Тумановский решали, кому поручить расследование этого преступления.
Нужен был опытный, осмотрительный и цепкий оперативный работник, который бы скрупулезно вник в обстоятельства дела и докопался до истины.
— А что, если передать материалы старшему лейтенанту Александре Васильевне Кучеренко? — предложил Тумановский. — У нее, правда, есть в производстве одно уголовное дело по обвесу и обсчету покупателей продавцами продовольственного магазина «Ладога», но она его вот-вот закончит и тогда полностью сможет заняться материалами о спекуляции косметическими товарами.
— Ей, думаете, уже можно доверить такое дело, не рано ли? — усомнился полковник Сомов. — Ведь она у нас специалист по делам другого рода?
— Не рано. Считаю, в самый раз. Сколько ей сидеть на одном и том же? В нашей службе она прижилась, много изобличила нечестных продавцов, директора магазина Стоянову — хитрого и матерого жулика — и то не упустила, довела до скамьи подсудимых.
— Ну, что ж. Убедили. Поручим ей, — подвел итог беседе Георгий Митрофанович Сомов и написал ей на поступившем в УВД письме:
«Товарищ Кучеренко, принять меры к розыску спекулянта…»
Я лично хорошо помню тот день, когда появилась у нас в отделе БХСС стройная, симпатичная девушка с волевым выражением смуглого лица. Ей было тогда… впрочем, она была еще буквально девчонкой.
Известно, с какой осторожностью принимают в милицейские учебные заведения женщин. Но она, видать, произвела хорошее впечатление на экзаменационную, а потом и мандатную комиссию Волгоградской Высшей школы МВД СССР и в результате с дипломом образованного специалиста прибыла к нам для прохождения дальнейшей службы.
Некоторые из нас приятно и не без иронии улыбались, завидя нового сотрудника ОБХСС в платье. Мы ждали дальнейших событий. Было небезынтересно: справится ли она с чисто, как нам казалось, мужским делом?
Но в любом случае Кучеренко сразу обратила на себя внимание. Не было в отделе такого человека, который бы остался к ней равнодушным. Она успевала всюду: выполнить комсомольское поручение, написать заметку в стенгазету, увязаться с товарищем на задание, если сама оказывалась свободной.
Общительность, душевность, начитанность, искренность — это как раз те качества, за которые уважают человека. Немудрено, что к Александре Васильевне стали относиться с симпатией. А кое-кто из наших холостяков стал поглядывать на девушку и более пристально. Потянулись к ней и наши женщины — сотрудницы из канцелярии, инспекции по делам несовершеннолетних.
Сейчас ее уже все называют по имени и отчеству. За ее плечами семь лет службы в милиции, у нее подрастает сынишка, да и фамилию она носит одного из наших работников. Но мы ее по-прежнему знаем как Сашу Кучеренко.
Из дневника Кучеренко
Первая запись
Я хорошо понимала, что в мои обязанности входит оповещение руководителей предприятий, учреждений о появившемся «жучке». Что и сделала. Рассказала им о ловком торговце, который ходит по рабочим точкам и сбывает доверчивым покупателям импортную косметику втридорога. Сегодня я побывала в локомотивном и вагонном депо, на станции «Скорой помощи», на других предприятиях.
Информации поступило много. Проверила цыганку, продававшую кофточки и покрывало, мужчину, предлагавшего женские импортные сапоги. Но это не те, кого я разыскиваю. Оказывается, действительно, кое-где появляется искомый молодой человек. Он прилично одет, гладко выбрит, волосы уложены безукоризненно, словно щегольски пользуется ежедневно первоклассной парикмахерской. Кстати, надо побеседовать с работниками служб быта.
Не находит ли спекулянт и среди них ярых покупателей дезодоранта, венгерского мыла, французских духов, помады и прочего косметического товара, который идет среди городских модниц, что называется, с молотка? Он берет за свой дефицит по двойной, а то и тройной цене.
Основания для возбуждения уголовного дела есть. Пожалуй, уже можно приступать к полному расследованию собранного материала.
3
А жизнь Лены в городской суматохе набирала скорость. Нельзя сказать, что девушка не была замечена парнями. Напротив, многие навязывались ей в приятели. Но мало кто из них отвечал ее требованиям. Будучи человеком тонким, умным, разборчивым, она не принимала приглашения развязных «современных» парней. Успех у таких ребят она не ценила высоко.
Но дружить с хорошим парнем хотелось. И вскоре она свой выбор остановила на студенте сельскохозяйственного техникума. Его звали Владислав. Лена охотно бежала к нему на свидание. Встречи с Владиком продолжались, увы, недолго. Разрыву отношений послужил один случай.
Как-то, гуляя одна по городу, она заметила Владислава у входа в центральное кафе. Молодой человек был не один: он держал руки симпатичной, невысокого роста девушки и в чем-то страстно ее убеждал. Наверное, приглашал в кафе. Она не давала согласия, кокетничала. Тогда Владислав, в качестве последнего аргумента, привлек к себе свою спутницу и поцеловал в щеку.
У Лены поплыло все перед глазами. Она решительно подошла к Владиславу и четко, делая соответствующие ударения, произнесла:
— Ко мне больше не приходи. Понял? Не при-хо-ди!
Он пришел. Пытался что-то объяснить, извинялся, клялся. Но Лена не простила измены.
Как-то в парке Лена познакомилась еще с одним молодым человеком. Он был на семь лет ее старше, но во вкусе Лены. Однако и тут творилось что-то неладное. Дмитрий назначал свидания в укромных безлюдных местах. Говорил о любви, озираясь по сторонам. А потом признался, что он еще не разведен с женой и боится, что та его выследит и учинит скандал.
На следующее свидание Лена к нему не пришла.
Так бесплодно проходили день за днем городской жизни. Но у девушки были светлые надежды, вера. Сердце переполнялось неведомой любовью. Она ждала настоящего своего суженого.
Однако все чаще Лену охватывала тоска по отчему дому. В такие минуты она подумывала о расчете, увольнении с хлебозавода… Девушка томилась и в общежитии, как птица в клетке. Часто приходили письма от девчат из деревни. Подруга Зоя писала, что в село вернулись братья Рубовы. Сергей устроился лаборантом, а Василий шофером — на легковую машину. Ребята часто вспоминают ее, Лену. Бывший солдат Павлик женился. А Егор Лосев после окончания техникума назначен руководителем мастерских. Он даже выспрашивал Ленин городской адрес. Зоя перечисляла подруг, которые уже вышли или вот-вот выйдут замуж.
Такие письма сильно тревожили душу Лене. В ееселе происходило что-то значительное, радостное, живое, а Лена уехала оттуда. Втайне Елена считала, что раньше подружек в городе выйдет замуж и найдет свое счастье. И не находила его. Лена вспоминала, как Егор Лосев в прошлом году, когда она была еще десятиклассницей, а он заканчивал техникум, встречался с ней у крутого берега Оки, угощал яблоками, конфетами, объяснялся в любви, добивался поцелуя. А она только смеялась. Ей, действительно, было весело. Егор ей больше всех нравился.
4
Из дневника Кучеренко
Вторая запись
Сегодня утром стало известно, что раз в неделю неизвестный спекулянт, которого полковник Сомов окрестил «коробейником», и впредь я последую его примеру, заглядывает в трест столовых и ресторанов.
Предупредила всех работников бухгалтерии: при появлении спекулянта немедленно звонить мне или дежурному по управлению внутренних дел. Не прошло и двух часов, как у меня зазвонил телефон:
— ОБХСС? — скороговоркой зачастил кто-то. — Вы ищите спекулянта, а он в бухгалтерии, что во дворе склада ресторана железнодорожной станции.
И тотчас пошли короткие гудки. Заколотилось мое сердце, как колокол, хоть рукой держи. Я набрала номер телефона директора того учреждения — Владимира Антоновича Косарева:
— Говорит Кучеренко из ОБХСС. Задержите человека, который вашим сотрудникам продает парфюмерный товар. Он сейчас в бухгалтерии.
Сама почти бегом спустилась с пятого этажа органа внутренних дел и буквально взлетела на второй этаж названного здания. А там переполох.
— Выпрыгнул в окно. Выпрыгнул, — волновался директор. — Я взял его под руку, велел ждать прихода милиции, а он оттолкнул меня и выпрыгнул в открытое окно. Не знаю, как он только не разбился. Вот его «дипломат», в котором весь товар, то, что предлагал спекулянт моим работницам: помада, шампунь, тушь, дезодорант…
Я осмотрела место происшествия и доложила начальнику ОБХСС Тумановскому, а тот — Георгию Митрофановичу. Полковник Сомов сказал, что надо действовать предельно осторожно, чтобы впредь не спугнуть «коробейника».
Приметы оставались прежними — молодой, очень привлекательный шатен. Предлагает товар совершенно открыто, но боится попасть в руки милиции. Идет на любой риск, избегая задержания.
Из дневника Кучеренко
Третья запись
Внимательно наблюдаю на привокзальной площади за одной парочкой. Девушка, раскачивая целлофановую сумку, расстегнула зеленую кофточку. Открылось модное платье-халат с блестящими металлическими пуговицами, украшенное этикетками. Редкие рыжеватые волосы завязаны сзади.
Когда девушка улыбалась, на ее щеках проступали ямочки.
Ее собеседник — молодой человек, лет двадцати шести, одет в костюм серого цвета, воротник белой рубашки повязан темным галстуком в красную полоску. Почти на полголовы выше собеседницы.
Разговор между ними проходил не более трех минут. Попрощавшись, они разошлись, но тут же мужчина, словно передумав, догнал девушку, обмолвился с ней двумя фразами. Целлофановая сумка у девушки стала тяжелее: молодой человек положил туда какой-то сверток.
В кавалере обнаружила сходство с разыскиваемым спекулянтом. Но он так стремительно нырнул в отходящий троллейбус, что побеседовать с ним мне не удалось.
Мужчину теперь не догонишь, а вот с девушкой поговорить стоит. Назвалась Светой и показала набор импортных парфюмерных изделий, только что купленных у молодого, человека. Его ей рекомендовала два дня назад случайная попутчица по электричке, назвавшаяся Люсей Шведовой, продавцом магазина. Еще Светлана сказала, что только что к ней подходила подружка того спекулянта, интересовалась, «какие у меня отношения с ее возлюбленным». Приревновала. Или помогает сбывать товар.
Итак, у «коробейника» есть компаньоны среди миловидных девушек. Хорошо бы поскорее найти хотя бы одну из помощниц.
Надо запросить все торговые организации города и прежде всего найти Люсю Шведову. Это резко повлияло бы на ход розыска.
Эксперт посмотрел «товар», оставленный в дипломате беглеца, и флаконы, купленные Светланой. Они идентичны. Все сфотографировала. Сняла отпечатки обуви на мягком грунте под окном, куда спрыгнул «коробейник». Это сделала на случай, если после задержания спекулянт будет отрицать, что именно он выпрыгнул из окна в бухгалтерии.
И вдруг вечером ко мне подходит паренек и заявляет:
— Вы ищете спекулянта косметикой, мне говорила знакомая по имени Светлана. Я — дружинник. Работаю таксистом. Подвозил его с последней электрички на улицу Борщовскую, номер дома не помню. Обратил внимание на пузырьки, баночки, скляночки, потому что парень что-то разбил у меня в машине.
5
Рассказывая о «коробейнике», мы не забыли о Лене. Она уже несколько раз порывалась написать заявление об увольнении, но сдерживало ее то, что не за горами отпуск. А после отпуска, думала она, все решится.
Как-то в обеденный перерыв Лена проходила мимо заводоуправления. Ее окликнул молодой человек в куртке, джинсах, кроссовках.
— Не желаете приобрести вот такой дефицит? — обворожительно улыбаясь спросил он и раскрыл перед Леной «дипломат». Пленяя яркими этикетками, в нем лежала импортная парфюмерия. А как галантен и симпатичен был сам «коробейник»!
Молодой человек спешил, но успел сказать Лене, купившей у него что-то по мелочи, что она ему необыкновенно понравилась и он посчитает за счастье, если встретится с ней вечером…
6
Из дневника Кучеренко
Четвертая запись
«Коробейник» снова появился на привокзальной площади. Но, завидев милиционера Анатолия Громова, исчез. Громов привел ко мне девушку, с которой «коробейник» разговаривал и продал товар.
Вот уж действительно случай! Девушка оказалась именно той продавщицей Люсей, которую я разыскивала по магазинам.
— Кто тот парень, передавший вам губную помаду, одеколон, тушь?
— Вы, небось, и сами знаете, — уклончиво ответила она, — Валерка…
— А поподробнее?
— Прежде чем искать этого Валерку, вы отыщите Катю Перцовскую. Она мне его порекомендовала, говорила, что может достать любую косметику. Где сейчас работает Перцовская, я не знаю. Слышала, вроде учится в Подольске. Но вы ей не очень-то доверяйте, может слукавить. Легкомысленная особа. Имеет близкие отношения… в общем, связь с Валеркой.
Если Перцовская в городе, то я ее установлю быстро. Адресный стол дал несколько адресов. Отправилась искать. И нашла сравнительно удачно при помощи ее брата. Катя Перцовская сидела на скамейке в парке и держала на поводке домашнюю собачку. Охотно познакомилась со мной. И не довела допрос до стен милиции. Все рассказала тут же. Собственно, речь шла лишь о фамилии Валерки — Атракционов. Не то с 1969, не то с 1970 года рождения.
— Я ни в чем не виновата. С Атракционовым лет шесть назад в одной спортивной секции была. И потом изредка встречалась в городе. Он рос и я росла. Года два последних вообще его не видела. Потом встретила и по старой дружбе находила ему клиентов на парфюмерию. Мне говорил, что после десяти классов до ухода в армию устроился работать в Москве агентом универсальной фирмы «Альфа-Омега», к ним, якобы, поступает товар из Франции, Аргентины, Туниса… Доигрался, как я понимаю, разъездной приказчик. И нас, дураков, околпачил. Потеха. — Все это Перцовская произнесла добродушно и с юмором.
— Где он живет?
— Не знаю. Слышала, что он получил новую квартиру, в связи со сносом их старого дома.
Не такой уж плохой мне показалась Перцовская. Выходит, права пословица: людской суд не всегда справедливый.
Из дневника Кучеренко
Пятая запись
Поиски продолжаются. Передо мной уже сидело более сотни разных свидетелей. Согласно появившимся у меня данным, Валерий Семенович Атракционов, которому не исполнилось еще и восемнадцати лет, уже был судим за корыстное преступление. Ему приговором суда определили три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на этот же срок. Наконец-то в моих руках его адрес. Подхожу к искомому дому и вижу, что он снесен. А жильцов расселили по городу. Это то, о чем говорила Перцовская. В домоуправлении сказали, что Атракционовой Клавдии Варфоломеевне с дочерью выделили двухкомнатную квартиру на улице Красной, а ее сыну с отцом (супруги расторгли брак) однокомнатную квартиру по переулку Радищева. Побывала по этим адресам. Заглянула и в райотдел милиции, обслуживающий этот район. Обследовала лично подходы к названным домам. В общем, предварительно все изучила. В переулке Радищева соседи сказали, что квартиросъемщик Атракционов Семен Данилович работает шофером и уезжает иногда на месяц в дальние рейсы, а сын его Валерий — редкий гость в своей маленькой квартире. Что-то приносит туда раз в неделю, закрывает дверь на три замка и уходит.
У него много в городе знакомых женщин и девушек. У них он частенько ночует. Иногда отдыхает у матери на Красной. Любит посещать кинотеатр «Октябрь», вечерние кафе и рестораны.
Атракционова Клавдия Варфоломеевна продолжает настаивать на том, что сына почти не видит и не знает, где он обитает.
Правду ли говорит мать? Я ей не верю, поэтому всю ночь с милиционером, переодетым в гражданский костюм, прождала Валерия на улице Красной, а мой коллега Лизунков — в переулке Радищева. Но «агент» универсальной иностранной фирмы «Альфа-Омега» не объявился.
7
В этот день Елена трудилась за двоих. Ни о каком возвращении в село она не могла и думать. Эдуард, как парень себя назвал ей, очень понравился. На вид она ему дала гораздо больше лет, чем в действительности был его возраст. С таким не стыдно приехать к родителям в село, если дело дойдет до обручения. Этого Лена желала. Хотелось уже иметь настоящего суженого.
Принарядившись с помощью подруг по комнате в общежитии, Лена, переполненная сердечным трепетом, отправилась на свидание…
Первые две недели они встречались каждый вечер. Гуляли по узеньким улочкам, где лишь лай собак нарушал почти деревенскую тишину. Он не заходил в общежитие к Лене, как это делали знакомые парни других девушек, а приглашал ее иногда к себе, в двухкомнатную квартиру, где жил с матерью. Был он с девушкой ласков и легко добился близких отношений.
Он отверг предложения Лены познакомиться с ее подругами, но попросил подыскать среди ее знакомых покупателей на парфюмерный товар. Желающие нашлись.
Безоблачная любовь длилась недолго. Однажды Лена пошла встречать Эдуарда. Он должен был возвратиться из столицы. Якобы заканчивалась его работа «агентом по реализации изъятых у контрабандистов предметов дефицита». Так замысловато называл он свою должность в загадочной конторе «Альфа-Омега».
До прихода электрички оставалось чуть больше получаса. И вдруг Лена увидела Эдика. Он гулял по привокзальной площади. Рядом с ним прохаживалась рыжеволосая девушка. На ходу он перекладывал что-то в ее сумку. У Лены зашлось сердце от горькой неожиданности. Думала: что ей делать? Но секунда — и парочка рассталась.
Не помня себя, Лена подбежала к «сопернице», та спокойно объяснила, что лишь купила у парня тушь и губную помаду.
Лена отошла пристыженная, но сомнения в верности возлюбленного не угасли. В тот вечер она слушала объяснения Эдуарда, старалась поверить ему. Однако чисто женским чутьем улавливала в голосе неискренность. И однажды, сгорая от ревности, страха быть обманутой Эдуардом, она решилась на безнравственный поступок: проверила карманы его пиджака на вешалке. Обнаружила клочок бумаги:
«Валера, приди ко мне домой, хочу с тобой поговорить. Томлюсь в ожидании…»
Дальше стоял адрес, округленный красным карандашом. Это изумило и озадачило Лену. Почему Эдика называют Валерой? Эдик говорил, что среди ребят он носит это имя. Но, выходит, и девушки называют его так же. А в том, что записка была от девчонки, она не сомневалась.
8
Из дневника Кучеренко
Запись шестая
Изучаю записную книжку Атракционова. Ее обнаружили в потайном кармане «дипломата», оставленного им при бегстве. В ней более пятидесяти адресов. И все женские. Каков ловелас и донжуан! Проверила десятка два адресов. Все девушки подтвердили, что покупали у «коробейника» косметический товар. О самом продавце ничего толком не знали.
Наконец, еду в поселок, расположенный в пригороде. В глубине палисадника домик с белой черепичной крышей. Свежевыкрашенный зеленый забор. Калитка скрипнула и я пошла к крыльцу. Не здесь ли живет «невеста номер один»?
Навстречу мне выбежала небольшого роста, аккуратная девушка лет восемнадцати. Безупречный овал лица, мягкие щеки, подбородок тронуты приятным загаром, веселые карие глаза, пышные каштановые волосы. Красавица. Синяя кофта с молниями, вельветовые брюки в обтяжку подчеркивали стройность фигурки.
— Что вы хотите? — Девушка молниеносно, оценивая мою личность, прошлась по моей замшевой куртке, джинсам, модным кроссовкам и осталась, видно, довольна.
— Мне нужен Валерий, очень срочно, — ответила я.
— Адрес мой он дал?
— Кто ж еще! Я из Москвы. Он мне чрезвычайно необходим. Я ему должна передать кое-какой товар. Это не терпит отлагательства.
— Тогда другое дело. Поищите, может, у Кольки Рыжего. Но где Рыжий живет — не знаю. По четвергам Валерка ночует у матери.
Итак, Колька Рыжий. Это уже кое-что. Решила позвонить на работу матери Валерки по телефону.
— Клавдия Варфоломеевна, я от имени Рыжего вам звоню. Где Валерка?
— Какого Рыжего, ты что болтаешь?
— Вы что от своих отрекаетесь?
— А я тебя своею признавала? — хрипловато рокотало в трубке.
— Давайте не будем терять время. Я от Кольки Рыжего. Валерка мне очень нужен. Немедленно. За ним «почет» (на жаргоне «слежка»), я должна ему кое-что сказать. В общем, предупредить…
— Идолы, окаянные, мне покоя не даете. Не знаю, где он, может, вечером ко мне придет. — Она положила трубку.
Я и мои помощники всю ночь прождали спекулянта на улице Красной и в переулке Радищева. Безрезультатно. Напрасно встречали электрички. Он не появлялся.
9
По адресу в записке, найденной в кармане Эдика, Лена, сильно томясь, поехала выяснять отношения.
Автобус привез в пригородный поселок. Вот и домик с белой черепичной крышей. Открыв калитку, Лена шла по асфальтированной дорожке. Что, если она, на свою беду, застанет Эдика здесь? Нервно постучала в окно.
На крыльце появилась девушка совсем молодая и очень привлекательного вида. Лена сразу поняла, что и в красоте и в нарядах она уступает ей. От этой мысли еще больше сдавило сердце.
— Эдик у вас? — с дрожью в голосе, презирая себя за малодушие, произнесла Лена.
— Кто, кто? Эдик? Не знаю такого. Вы не ошиблись адресом?
— Ну как же! Вспомните, французскую тушь… — пролепетала Лена.
— Да? Может быть, Валерка Атракционов?
— Он, он самый!
— Так бы и сказала! При чем здесь какой-то Эдик. Где он — не знаю. Им что-то многие сегодня интересуются. Ты не первая. Заходили и до тебя, с полчаса назад его спрашивали. А вчера им интересовалась какая-то элегантная москвичка.
После взаимных вопросов «соперницы» узнали, кто есть кто. Молодая хозяйка поняла, что «коробейник» завлек в свои сети еще одну простодушную девчушку и обманул ее. Хозяйка дома сообщила, что с торговцем дефицитом ее связывают только коммерческие отношения. Ревновать не следует. У нее есть перспективный жених. Она вот-вот выйдет замуж.
С чувством смущения, покидала дом пригорода с белой черепичной крышей Лена. Девушка решила немедленно отправиться к своему суженому и забыть о ревности. Лена готова была даже извиниться перед ним за свой душевный бунт. В конце концов из-за этой сердечной вспышки не расстраиваться же свадьбе… О ней Лена уже мечтала…
Елена прибежала на Красную улицу и привычно позвонила в дверь. Ей долго не открывали, наконец, впустили в прихожую. Ее приходу «благоверный» явно был не рад. Возлюбленный даже вспылил:
— Ты должна приходить ко мне только тогда, когда тебя приглашают!
Неловкая пауза сменилась приглашением присоединиться к игре в карты. Кроме Клавдии Варфоломеевны и ее сынули Валерки, за столом сидел незнакомый молодой человек с рыжей шевелюрой. Он много острил, говорил в адрес Лены комплименты. Словом, только один за столом был в отличном настроении.
10
Из дневника Кучеренко
Запись седьмая, последняя
Утром на машине объехала все адреса, где возможно появление «коробейника». Под особым присмотром находился дом, где живет его мать. И все-таки фарцовщика проглядели, но не упустили. Мы лишь не заметили, как он прошмыгнул к Клавдии Варфоломеевне. Однако, находясь под открытым окном, услышали голос пожилой женщины:
— Валер, а Валер, ты хоть не носи ко мне эту косметику. Обыск может быть. И я с тобой погорю.
— Не паникуй, мамуль. У меня сотни адресов, до всех милиция не докопается. А от тебя сегодня все заберу. Ленка должна отнести половину на свой завод.
— Девку ты напрасно впутал в наше дело. Коснись чего — все в милиции расскажет.
— Я, мать, закамуфлировался, ничего она обо мне толком не знает. Сделает дело — и пошлю ее ко всем прабабушкам. С минуты на минуту Рыжий должен прийти, часть товара он себе возьмет.
«Рыжий», как нетрудно было понять из приветствий хозяина квартиры, появился вовремя. Из окна послышалось его предложение сыграть в карты. Затем в комнату вошла какая-то девушка. Игра продолжалась вчетвером, судя по репликам.
— Я приехал из Москвы, — говорил Валерка. — На этот раз «Альфа-Омега» порадовала меня особенно — наложен полный «дипломат». Чудесную тушь изъяли у контрабандистов. Моя задача, как всегда, реализовывать. Ты мне, Леночка, должна помочь. Весь товар с «дипломатом» забери в общежитие. Но уговор: подружкам о нем — ни слова».
11
Лена уже не верила рассказам об агентстве по реализации изъятых у контрабандистов предметов дефицита. Но помалкивала. Она хотела остаться с лже-Эдиком наедине, чтобы выяснить все.
В эту минуту в дверь постучали, а затем в квартиру вошли два человека — мужчина и женщина. Они объявили, что являются сотрудниками ОБХСС. Предъявили удостоверения.
— Не делай глупостей, — крикнула женщина спекулянту, когда тот по старой привычке метнулся к окну, чтобы выпрыгнуть на улицу. Но Александра Васильевна Кучеренко предусмотрительно выставила под окном пост в лице капитана милиции Хорева и шофера-милиционера Рябинина. Увидев их на тротуаре, махровый фарцовщик отбежал назад.
Пригласили двух понятых. Начался обыск. Из-за шкафа, из-под дивана, кровати сотрудники милиции вытащили сотни баночек, пузырьков, коробочек с импортными этикетками. На полу, столе образовались горы тюбиков помады, мыла, духов, дезодоранта… приобретенных фарцовщиком у иностранцев. Весь этот товар должен был дать огромный барыш спекулянту.
— Еще, не откажи в любезности, разреши мне «дипломат». И прихвати с собой паспорт, поедем в милицию. — Александра Кучеренко взяла в руки тяжелый чемоданчик, наполненный свежим привозом парфюмерии. Но Валерий попытался вырвать его у Александры Васильевны. Ручка оказалась у «коробейника», а «дипломат» у старшего лейтенанта Кучеренко. Мать спекулянта вцепилась в бок женщине, пытаясь выручить сына. Она пыталась, как ей казалось, выхватить самую главную улику против сына — «дипломат» с новой партией косметического иностранного товара.
На помощь Кучеренко бросился второй сотрудник лейтенант Павлов. «Дипломат» остался в руках работников ОБХСС. Тогда Валерка выбежал на кухню. В его руке появился кухонный нож. Он стал тупой стороной лезвия водить себе по горлу. Крепко переволновались сотрудники милиции, думали, что Атракционов всерьез хочет покончить жизнь самоубийством.
Клавдия Варфоломеевна дико вопила, что милиция хочет загубить ее единственного сыночка.
И тут Валерка исчез, словно испарился. Перед старшим лейтенантом стояла лишь обозленная, сверкающая от ярости глазами его матушка.
Две комнаты и кухню быстро осмотрели работники милиции с понятыми. Валерия нигде не было. Заглянули под кровать, столы, в шкафы. Не осмотренной оставалась лишь кладовая. Но на двери ее висел солидный замок. Куда же нырнул неуловимый проходимец?
Кучеренко переглянулась с лейтенантом Павловым. Может быть, шустрая Варфоломеевна успела упрятать сына туда и повесить замок? Но это просто невероятно, сделать такое за несколько секунд. За узкой дверью полнейшая тишина.
— Клавдия Варфоломеевна, где ваш сын? Нам не до шуток. — Строго произнесла Кучеренко, посматривая на притихших гостей Атракционовых.
— Дык, убег, видать. Лен, ты не видала, куды убег Валерка?
— Не разыгрывайте комедию, — вдруг осмелела Елена, — он в кладовой.
— Дайте ключи, — попросила Кучеренко у старухи. С помощью лейтенанта Павлова связка ключей перешла в руки Кучеренко. Она находит нужный и вставляет в скважину замка. Старуху снова словно обдало кипятком. С реакцией кошки она кинулась к Кучеренко и вцепилась в ключи. Ее оттащил в сторону Павлов.
В чулане, на ворохе тряпья, сидел Атракционов.
12
Долго шло следствие. Покупателей пришлось выявлять и допрашивать. Их оказалось более трехсот человек. Несколько раз вызывал следователь и Лену. Не была ли она соучастницей Валерки? К счастью, нет. Девушке сказал на прощание следователь: подозрение с нее снято. Еще он ей посоветовал напрочь забыть фарцовщика.
Автобус подвозил Лену к родному селу поздно вечером. Сонную тишину нарушал лишь лай разбуженных собак. Лена подошла с чемоданом и сумкой к своему дому с широкими окнами и высоким крыльцом. Дворняжка Лайка взвизгнула от радости и лизнула ей руку. Лена погладила собаку, а затем постучала в третье от крыльца окно. Где-то там спала мать.
1982—1983
В ГОСТЯХ У «КОШКИ»

За годы службы в уголовном розыске мой друг Алексей Ермаков раскрыл много преступлений. О талантливом розыскнике ходили легенды. Одним словом — мастер. А новое дело не поддавалось.
В связи с этим и пригласил его к себе начальник отдела полковник Сомов. Нахмурив брови, чуть хрипловатым от недовольства голосом он спросил у вошедшего капитана милиции:
— Что с разбойным нападением на сторожку у разъезда Вавилино? Понимаю: бандиты ничего не взяли. Лишь замки посрывали и хозяйку перепугали. Но у них есть оружие, поэтому искать их нужно упорно.
— Нового пока ничего нет, товарищ полковник. Я вам уже докладывал: верное дело сойтись поближе с Харитоном Петраковым. Думаю, налетчики из его компании. Искали в сторожке деньги, да не нашли. Так что разрешите мне на время перевоплотиться?
Полковник помолчал.
— Для осуществления твоего плана нужен сотрудник помоложе, — наконец произнес он. Это, видно, и было бы окончательным решением, но разговор прервал вошедший в кабинет заместитель начальника отдела майор Орловский. Он догадливо спросил:
— Опять о Петракове?
— Да, о нем, — подтвердил начальник отдела. — Вот Ермаков просится к нему, так сказать, в гости. А я считаю: помоложе годился бы сотрудник для такого опасного дела.
— Ну уж нет, тут я с вами, Георгий Митрофанович, не согласен, — весело заступился за Ермакова быстроглазый, энергичный Орловский. — Что молодой? Горяч и необъезжен. Опыта никакого. А наш Гаврилыч знает повадки этих людишек.
— Все это так. Все так, — беспокойно завертел в руках шариковую ручку полковник. — А вдруг на нож нарвется? Как, не подкачаешь? — теперь уже мягко, но испытующе посмотрел на капитана полковник.
После заверений Ермакова, что он будет действовать осмотрительно, сообразно обстановке, Сомов дал согласие на операцию. Тут же пригласил к себе второго заместителя по оперативной работе, майора Котова:
— Павел Петрович, присаживайся к столу, обсудим план сближения Ермакова с рецидивистом Петраковым.
Когда все в деталях было обговорено, Ермакову разрешили готовиться к необычайной командировке.
На следующий день Ермаков расхаживал по перрону вокзала соседнего областного центра, ожидая скорого поезда из Одессы. На первом этапе операции капитан должен был познакомиться с сестрой рецидивиста, Альбиной Петраковой. Она работала проводницей этого скорого поезда.
В назначенный час, согласно расписанию, одесский плавно подкатил к перрону. Алексея Гавриловича интересовал восьмой вагон, в него и куплен был заранее билет. Он предъявил билет до Москвы высокой и худой девице, оказавшейся напарницей Альбины. Интересовавшая капитана Петракова отдыхала в купе после своей смены. Завязывая знакомство с проводницей Любой, подругой Альбины, Ермаков пустился в пространственные рассуждения о наступлении весны, пригласил зайти к нему в купе, попробовать розового ликера, но та игриво отказалась.
Мелькнул за окнами калужский вокзал. Ермаков начал волноваться: этак можно приехать в Москву и не познакомиться с Альбиной. Наконец из служебного купе высунулась голова Любы. Она, смеясь, поманила Ермакова пальцем, приглашая зайти в служебку.
— Познакомьтесь, моя подруга, — представила Люба. — Тоже холостячка. Потолкуйте. Я подмету вагон.
Маленького роста, упитанная Альбина враждебно, с недоверием косилась на Ермакова.
— Холостяк или трепался Любке? — спросила она.
— Был женат. Сейчас один. Не скрою: знакомые женщины есть. Ищу по душе. — Взгляд Альбины стал добрее. Обращая внимание Ермакова на свои дорогие украшения, молодая женщина перебирала пальцами золотую цепочку и узорчатый медальон, возможно, щедрые подарки братца.
— Мужичок ты видный, — заметила Альбина после двухчасового разговора. — Я бы с таким не против встречаться. Заработком твоим не интересуюсь. Прокормлю со своей «грядки».
— В таком случае, что от меня требуется? Большие обязательства?
— Ничего особенного, — выйти за меня замуж, — Альбина, довольная своей шуткой, громко засмеялась.
— В этих делах нет нужды торопиться. Пойду собираться — Москва.
— Возьми мой адресок. Может, заглянешь.
— Твердо не обещаю, но постараюсь.
Поезд медленно подходил к Киевскому вокзалу. С чемоданом в руке Ермаков стоял в тамбуре.
— Ну, так как, ждать? — еще раз навязчиво спросила у него Альбина. — У меня отгулы, пять дней буду дома.
— Если не задержат командировка и начальство, приеду, — Ермаков ломал голову: вместе ли с сестрой живет Петраков?
Вдруг напарница Альбины, проворная и смышленая Любка, шепнула:
— Задержись, Юра (при знакомстве так себя назвал Ермаков). На перроне брат Альбины. Встречает сестренку любимую.
Поезд остановился. В вагон вошел высокий плечистый молодой человек лет тридцати. Альбина передала ему тяжелую сумку и о чем-то стала рассказывать, кивая на Ермакова.
Петраков подал «кавалеру» широкую шершавую ладонь:
— Харитоша. Брат Альбины.
— Юраша, — в тон ему ответил Алексей. — Сестер не имею.
— Тогда отметим это событие. За то, что ты не имеешь, а я имею.
Харитон потащил Ермакова в ресторан «выпить по стопочке за знакомство». Сели за свободный столик. Петраков поманил пальцем из дальнего угла официантку.
— Что будем пить? — спросил у Ермакова бандит.
— Что дадут, — ответил Ермаков, — не пью только расплавленное олово.
Шутка понравилась Петракову. Он осклабился.
Подошла с недовольным видом официантка:
— Вы что, черти, расселись? Не знаете мои столики?
Пересели за другой столик.
— Не шуми, Зойка, — самодовольно произнес Петраков. — Альбину пропить думаю. Видала, какого женишка отхватила?
— Заждалась принца Альбина, — ответила Зойка и убежала на кухню.
Ермаков и Харитон сидели молча до первой рюмки. Затем Петраков толкнул легонько старшего оперативного уполномоченного уголовного розыска в бок.
— Ну, рассказывай. Откуда будешь? Чем занимаешься? Выскабливай душу. Меня сам видишь: малый-рубаха.
Для капитана милиции наступал ответственный момент. Алексей почувствовал, как кровь застучала в висках. Поверит ли ему опытный рецидивист?
— Обижен я. Все тут. Злость в груди, — глухо бросил Ермаков. Петраков чертил на скатерти вилкой. Он по-своему понял немногословное признание будущего родственника. Уставив отупевший взор в лицо Ермакову, спросил:
— Срок имел?
— Было, — признался Ермаков, входя в свою роль.
— Статья?
— Все из раздела «личная собственность граждан».
— Где утюжил? — задавал вопросы бандит.
Тут Ермаков счел нужным возмутиться:
— Что в душу лезешь?
— Испугался, майданник! Спрашиваю, потому что сам три срока нанизал. Не встречались ли?
— Лапшу на уши не вешай, — хмыкнул Ермаков.
Харитон даже поперхнулся салатом.
— Гм, не веришь?
— Я недоверчивый.
— Годится. Люблю таких. Еще по одной и айда. Поедем ко мне. Поговорим без людских глаз. Но прежде выкладывай, где срок тянул?
Ермаков вскинул удивленно брови.
— Хочешь признаний. Сам, небось, туфту порешь.
Харитон закипел. Кровью налились его пьяные глаза:
— Космы твои зараз на вилку намотаю. На мушку ловишь? Я и сейчас в бегах. Видишь, каким документом прикрываюсь. — Охмелевший бандит полез в карман. Но его остановил Ермаков:
— Нашел место. Меньше об этом толкуй.
— Понял, с кем имею дело! — не унимался Харитон.
Ермаков, стараясь быть последовательным, придерживаясь выработанной легенды, подробно рассказывал о своей «малопривлекательной жизни».
— Пропадаем, — подвел итог рассказу рецидивист.
Ермаков для пущей важности сплюнул на пол, небрежно бросил:
— Голыми руками нас не возьмешь…
Расстегнул ворот рубахи, добавил:
— Нужно держаться дружно.
Подошла к столику Зоя.
— Набили желудки? Чего еще?
— Все, Зоюха! — крикнул Петраков. — Счет. Дружок жаждет кинуть тебе на чай. За моментальный ремонт нашего душевного состояния, — весело подмигнул Петраков Алексею Ермакову.
— Возражений не имею, — буркнул старший оперуполномоченный угрозыска.
— Хороша у тебя, Зойка, юбчонка, — Харитон вытянул руку и ущипнул официантку.
— Не цапай, — в тон ему возразила игриво Зоя. — Сейчас представлю счет.
Когда официантка ушла, Харитон с завистью произнес:
— Хороша Маша, да не наша. Хохлушка. Горячих кровей. Наши так не умеют.
Потом, спохватившись, спросил:
— Альбина вправду пришлась тебе по душе?
— Гм, — почесал переносицу Ермаков.
— Понимаю.
— Время, когда я угорал от любви, прошло, — многозначительно сказал Ермаков. — Надо все взвесить. Хотя к Альбине я расположен…
Харитон удовлетворенно стукнул кулаком по спинке соседнего кресла. Ему понравился «кирюха». Это чувствовал Ермаков и смелел. Он торжествовал: тонко сыграно. Ничего существенного не сказал о себе, а бандит уже видел в нем бывалого рецидивиста, как он сам.
— Заночуешь у меня, — сказал Харитон после того, как Ермаков щедро рассчитался с Зойкой. Туго набитый червонцами кошелек Ермакова окончательно успокоил бандита. Не мог он подумать, что эти деньги честно заработаны. Он не сомневался, что «приятель» занимается «капитальными» кражами. Ермакову это и было нужно. Поняв немой вопрос бандита, небрежно буркнул:
— Занимаюсь делами. Но только такими, в которых абсолютно уверен. Советую и тебе не рисковать. Зря не суйся в клетку.
Они вышли из ресторана. Харитон стал угрюмым. В ресторане он выглядел спокойнее и увереннее. Вышли на вокзал: Петраков жил в пригороде Москвы.
Но Ермаков, соблюдая выработанную для себя линию действий, не сразу согласился посетить квартиру Петракова. Упрямился:
— Поезжай один. Завтра встретимся. На вокзале. Здесь.
Озираясь, Петраков обдавал Алексея коньячным перегаром:
— Там укромно. Комар носа не подточит. Познакомлю с дружками. У Гришки Крепыша пушка и маслины есть. Поехали.
Это то, что нужно было Ермакову. На воровском жаргоне значило, что шайка бандитов имеет пистолет и патроны к нему. Капитан милиции удачно зацепился за ниточку. Она должна привести к воровскому клубку.
— Мы действуем сообща. Одной компанией, — убеждал Петраков. — Присоединяйся. С Альбиной будешь видеться. А там решай. За горбом у нас многовато. Вскорости соберу пожитки и отвалю в дальний уголок необъятного Союза. Косяк пахнет. Деньги требуются. Вместе, авось, и добудем. Ты мне по душе. Не пропадем. Такие корешки на вес золота.
Из этой болтовни капитан уловил главное — момент подходящий. Надо его не упустить. «Птенцы» могут разлететься. Держат такие планы. Лови потом ветра в поле. Десятки преступлений останутся нераскрытыми. Поколебавшись, Ермаков махнул рукой:
— Поехали.
— Деловой разговор. Электричка через полчаса.
Все шло как нельзя лучше. Пружинисто покачиваясь, как волк с переполненным брюхом, на полшага впереди Ермакова шел Петраков. Вдруг нечаянно толкнул перегруженную покупками женщину. Она вскрикнула:
— Не шибко руками-то. Сила есть — ума не надо!
— Не шуми тетка, — заступился за Петракова Ермаков, — видишь, какая давка. Родную мать не заметишь.
— А вы замечайте, ястреб вас дери. Никакого уважения.
Высокая пожилая дама в старомодной шляпе, не понимая, в чем дело, сочла необходимым внести свою лепту в конфликт:
— Поглядите нынче на молодежь. Никакого преклонения. Не уступят недоросли ни места, ни дороги.
Маленький мужичок с крестом на груди поверх пальто вставил:
— И куды глазеет милиция? Кто пресыщает их интерес?
На перроне рядом с обиженной толстухой появился постовой милиционер. Издали Ермаков заметил: женщина что-то возмущенно говорит блюстителю порядка. Тот скорым шагом стал догонять Петракова. Ермаков понял, что нелепое перронное происшествие может перепутать все карты. Ему вдруг захотелось отстать от Харитона и шепнуть милиционеру: «Не тратьте время. Я сотрудник уголовного розыска…» Но капитан не мог позволить себе этого. Он ждал, что сейчас произойдет.
Петраков, не предвидя ничего плохого, торопился во второй от локомотива вагон. А его настигал милиционер, молодой и бдительный сержант милиции.
— Одну минуту, гражданин, — взял он за руку Петракова. — Нарушаете?
Петраков остолбенел:
— Товарищ лейтенант, ошибаетесь. Еду домой с работы. Вот подтвердит товарищ. Со мной работает на заводе…
Но бесполезно. Сержант был непреклонным. Стоял на своем:
— Пройдемте в дежурную комнату.
Постовой обернулся, отыскивая потерпевшую. Но ее и след простыл. Милиционер стал помягче:
— Хорошо, предъявите документы. Запишу на всякий случай.
Петраков замялся, начал оправдываться:
— Но с какой стати. Если каждый будет обвинять, в чем ему вздумается, а ты оправдывайся, предъявляй документы… Мы опаздываем. Отправление…
Милиционер снова сменил милость на гнев. Он истолковал слова Петракова по-своему: «Виноват и крутит. Надо вести в отдел».
Ермаков решил спасать рухнувшие планы:
— Товарищ сержант, я могу подтвердить, ничего предосудительного не случилось. Излишне капризная дамочка… Вот и затеяла перебранку. Отвлекает от работы. Убедительно прошу…
— И вы со мной, — твердо ответил постовой.
Ермаков шел за сержантом и проклинал неудачу. Пути господни неисповедимы. Только что капитан не мог сдержать душевного подъема, и вдруг все насмарку.
К счастью, дежурный офицер счел необходимым поговорить с каждым из нарушителей в отдельности. Оставшись наедине с ним, Ермаков сказал, кто он, и попросил выпустить Харитона Петракова. Тот так и сделал, предварительно прочитав «приятелям» целую лекцию о правилах поведения в общественных местах.
— А в общем, извините за недоразумение, — заключил офицер, — однако впредь толкайте женщин поосторожнее.
Инцидент наконец-то был исчерпан. Своим бойким заступничеством в милиции Ермаков еще раз подтвердил Петракову свою верность.
— Молодец, в беде не оставил, — заметил Петраков, когда приятели остались вдвоем. Бандит не находил слов благодарности:
— Думал, все, пропало. Хотел долбануть мильтона, да зевак вокруг много. Но ты хладнокровен. До гробовой доски обязан. Заставлю Альбину раскошеливаться. Ты заслужил роскошное угощение. К твердому выводу пришел: надо будет забрать у «кирюхи» пушку и ходить с ней, с «дурой» спокойнее. Чуть что… пах.
Вдруг на перрон снова вышел старый знакомый сержант милиции. Петраков зыркнул на него искоса и прикусил губу.
— Никак ищет кого-то? Не нас?
— Меньше паникуй, — ответил Ермаков. Но ему самому показалось странным, что постовой пристально всматривается в лица отъезжающих. Не хотелось бы снова…
— Пошли, — кивнул Петраков в сторону поездов дальнего следования. — Сумской сейчас отправится. Им поедем. Сойдем в Апрелевке, а оттуда на автобусе доедем.
— Не останавливается в Апрелевке, — возразил Ермаков.
— Спрыгнем.
— Заманчивая перспектива! — бурчал Ермаков. — На полном ходу ночью.
— Теперь доверься мне. С проводниками умею ладить. — С этими словами Петраков сунул два червонца мордастому с мясистым носом проводнику. Тот открыл вход в вагон.
— Куда вам?
— До первой остановки, — ответил Харитон и ринулся в тамбур вагона. Ермаков последовал за ним. Не было другого выхода.
Перед Апрелевкой Петраков и капитан вышли в тамбур. Харитон своим ключом открыл дверь вагона. Скорость поезд держал бешеную. Бандит не решился на риск.
— Не меньше сотни, — заметил Петраков. — Подождем, по станции пойдет со снижением.
Прогнозы не оправдались. Отбивая мелкую дробь колесами по стрелкам, скорый на полном ходу пролетел Апрелевку.
Петраков, не говоря ни слова, спустился на последнюю ступеньку подножки и крикнул:
— За мной!
Петраков приземлился удачно.
— Была не была, — вырвалось у капитана милиции, и он коснулся ногами земли. Но неудачно, встал на пятки. В следующий момент не удержался и ударился лицом о землю.
Когда к Ермакову вернулось сознание, он не сразу понял, где находится. Осмыслив происшедшее, забеспокоился: не выдал ли себя. Харитон и его сестра Альбина суетились около него.
— Ну, что, родненький, — прикладывая мокрую тряпку к лицу сотрудника уголовного розыска, заискивающе заглядывала в глаза «своему любимому» девица.
Харитон тормошил Ермакова за плечо, с беспокойством спрашивал:
— Корешок, живой? Душа в теле?
Ермаков вяло отозвался:
— Дураков приключения любят. Вполне бы приехали электричкой. Чуть шею не свернул.
— Главное — живой. Остальное приложится. Лучше отдать богу душу, чем вернуться за колючку.
Альбина стояла рядом, охала и ахала. Гундосила:
— Родненький! Раньше времени хотел вдовой оставить.
Петраков хитро подмигнул сестре:
— Губа не дура, да только не спеши. Не навязывайся. Пусть решает. Я молчу.
От боли в груди, голове Ермакова мутило. Он недовольно махнул рукой:
— Дайте прийти в себя. Не до жиру, быть бы живу. — Он взял у Альбины заново смоченную водой тряпку и приложил ко лбу. Стало легче.
Два дня старательно лечили Ермакова Харитон и его сестра. Петраков лез из кожи вон, доказывая новому «приятелю» верность и дружбу. Он как самого близкого человека лечил Ермакова.
На второй день старший оперуполномоченный встал с постели и подошел к зеркалу. Посмотрел на себя — бледного, с синяками под глазами. Лицо было обсыпано каким-то порошком. «Стрептоцидом», — пояснила Альбина. Одет он был в чисто выстиранное белье. В прихожей висели на вешалке вычищенные костюм и плащ. Тут же стояли до блеска надраенные полуботинки.
Поздно вечером в квартиру Петракова пришли те, с кем Харитон обещал познакомить. Их было трое. Назвались: Петр (на вид ему не больше двадцати лет), Валерка (этот был чуть старше, лобастый крепыш) и Василий — самый старший среди всех.
После выпивки и щедрой закуски Харитон отвел Ермакова в сторону и сказал:
— У Васьки пушка. Ему передал Валерка. Желаешь — заберем себе?
— Возьми, — согласился Ермаков.
Однако тут же оказалось, что оружия у Васьки нет. Он передал его «одному малому, который сидит в укрытии». Оружие вот-вот должен вернуть.
«Значит, не вся банда в сборе», — отметил Ермаков. Петраков ему больше не был нужен. Все, что можно было из него выжать, — выжато. Он дал не только важные сведения, но и ввел капитана в шайку преступников, хорошо отрекомендовал Ермакова Василию и его сообщникам. Рассказанную старшим оперуполномоченным легенду Харитон развил и приукрасил: находчивость и хладнокровие, проявленные на вокзале, сыграли тут не последнюю роль. Васек поверил Харитону и с удовлетворением выпил стакан водки за нового «кирюху». Были тосты за воровские удачи, за намеченные дела.
Узнав все, что нужно, о Василии по прозвищу «Бомба» — где его найти, как с ним встретиться, если потребуется, Ермаков сказал Харитону, что ему пора ехать домой.
— И я с тобой! — напрашивался Харитон.
Капитану милиции только и требовалось: ликвидацию банды решил начать с Петракова. Но он счел нужным не сразу согласиться. В шайке бандитов никому не должно прийти в голову, что Харитон заманивается в ловушку.
— Я же тебе говорил, — начал Ермаков, — ремонт у меня. Приведу в порядок квартиру — прошу, приезжай. Адрес дам.
За Петракова вступился Васек:
— Дурень, Харитон пригодится: таскать, передвигать — этим он занимался в местах не столь отдаленных. Так, что ли, «Слон»?
Для Ермакова кличка «Слон» много значила: в двух налетах на пассажиров потерпевшие слышали, как этим прозвищем сообщники называли одного грабителя. «Был он в маске. Высокого роста. Руки длинные, как лопаты». — Так они описывали его.
— Ладно, как знаешь, — согласился Ермаков, — собирайся. Мне нельзя больше здесь оставаться.
— Мне тоже, — буркнул как всегда пьяный Харитон и повел своим массивным подбородком. Все черты лица Петракова говорили о его грубом и сильном характере.
Продрогший в холодном вагоне, капитан милиции легко вздохнул на вокзале родного города. Петраков был настроенрадушно. Ему казалось, что он ушел от опасности. «Слон» даже пустился в философию:
— Людей я делю на два рода. Одни мильтоны, с которыми шутки плохи, вторые — все остальные. С этими, грешным делом, люблю позабавиться.
— Постой здесь, — приказал Ермаков верзиле, — я на минуту. Есть свой человек. Узнаю, никто мной не интересовался?
Петраков послушно остановился, прислонился к стене. Смотрел, как спокойно его дружок подошел к одной из билетных касс и что-то начал говорить кассирше.
Ермаков попросил знакомую женщину позвонить Георгию Митрофановичу Сомову и сказать следующее: «Товарищ полковник, на вокзале Ермаков. Он не один. Вас ждет».
Но Сомова в кабинете не оказалось. Произошла заминка. Капитан милиции скосил глаза в ту сторону, где остановился Петраков. Тот прохаживался вдоль стены, хмурился. Ермаков назвал кассиру номер телефона заместителя Сомова. Он, к счастью, был на месте.
Не успел Ермаков отойти от окошечка кассы, как услышал надрывный крик Петракова:
— Беги, кореш!
Скрученный сотрудниками уголовного розыска, бандит своим криком предупредил капитана «об опасности».
Ермаков на глазах у Петракова с паническим выражением на лице бросился в густой поток пассажиров. А обладателя пыжиковой шапки повели в дежурную комнату милиции. Он не мог сообразить, что произошло.
Капитан впервые за четверо суток почувствовал себя душевно раскованным. Почти бегом он устремился в отдел.
Едва Ермаков, запыхавшийся, бледный, появился в родном кабинете, как с объятиями на него набросились друзья, те, кто знал об операции.
Сомов тепло пожал руку Ермакову, внимательно всмотрелся в его лицо.
— Болел? Осунулся. Весь поцарапан. По всему вижу, не сладкая у тебя была жизнь.
— Житуха — во! — со смехом ответил Алексей Гаврилович.
Ермаков обстоятельно доложил о ходе выполнения задания.
— По-моему, — вставил Орловский, — на главного организатора разбойных нападений Алексей еще не вышел.
— Да, — согласился Георгий Митрофанович, — главарь тщательно законспирировался. «Бомбы», «Слоны» — послушные овечки в его руках. Задача такая, Алексей Гаврилович: теперь сближайся с Васьком «Бомбой», войди к нему в полное доверие и с его помощью знакомься со всей бандой. Устанавливай вожака. Это опаснейший рецидивист.
— Он вооружен, — предостерегающе напомнил заместитель Сомова по оперативной работе Павел Петрович Котов.
— Пожалуй, при знакомстве с вожаком стоит выдвинуть версию, будто ты, Алексей, отбывал срок вместе с Петраковым, — посоветовал Орловский.
Обсуждая это предложение, все пришли к выводу, что и тут нужна осторожность. Что, если главарь сам скитался по колониям вместе с Петраковым?
— Буду действовать сообразно обстановке, — пообещал Ермаков.
— Как ты себя чувствуешь? — изменил тему разговора полковник.
Ермаков потер ладонью бледное лицо. Помедлив, ответил:
— Все еще плохо, если честно. Падение с поезда чуть не стоило мне жизни. Но задание выполню до конца.
— Павел Петрович, — обратился Сомов к заместителю по оперработе, — нужен врач: осмотреть Алексея и оказать первую помощь. Пошли машину.
Котов вышел. Минуту молчали. Сомов, беспокоясь за благополучный исход операции, вновь вернулся к ней, спросил у Ермакова:
— Как там ответишь, где Петраков? Капитан сказал с улыбкой:
— У меня, в надежной квартире, на «малине».
— Хорошо, ну, а почему снова приехал, бросив Петракова и ремонт?
— Клюнуло верное дело.
— Нужно придумать такое, которое заинтересует «Бомбу». Если предложить что-нибудь заурядное — не польстится, не поведет тебя знакомить с главарем. Давай подумаем вместе, как выманить из берлоги зверя и задержать его.
Сомов предложил несколько вариантов. Обсуждая их, решили: выбор сделает Ермаков на месте, согласуясь с настроением «Бомбы».
«Подремонтированный», Ермаков поздно вечером вышел из отдела милиции. Путь лежал сначала в Апрелевку, а оттуда — на встречу с Василием. На улице бушевал свирепый ноябрьский ветер. Закрывались глаза от бессонных ночей. Лечь бы в постель и согреться! Но долг повелевал идти, что называется, вперед. Когда двадцать лет назад принес Ермаков Сомову заявление с просьбой зачислить в уголовный розыск, услышал от начальника отдела:
— Вы знаете, что вас ждет?
— Да, знаю.
— Нет, не представляете. Начитались книг. Нелегкая будет жизнь. Опасная. Не пожалеете ли?
— Не придется за меня краснеть, — отчеканил Ермаков. — Можете посылать на любое задание.
Пустой вагон был неуютным и холодным. А тут еще погас свет. Ермаков поежился. Вдруг сзади с шумом распахнулась дверь. Ермаков почувствовал, как кто-то положил ему на плечо тяжелую руку. Над ухом хрипло пробасили:
— Деньги есть?
Капитан боковым зрением увидел у себя за спиной двоих. Один был невысокий, кряжистый, в короткой тужурке, без головного убора. Второго разглядеть не удалось. В следующую минуту Ермаков безмятежно ответил:
— Есть. Без валюты не выхожу из дома.
Такого бесстрастного ответа грабители не ожидали. Смутила смелость пассажира. Несколько секунд они молчали в растерянности. Капитан милиции воспользовался их замешательством, с вызовом продолжал:
— Будете брать?
Кряжистый бандит сказал второму:
— Не тронь. Пошли дальше.
— Постойте. — Ермаков привстал и схватил одного за руку. — Куда? А деньги?
Кряжистый вгляделся в лицо Ермакову и радостно воскликнул:
— Мать родная, Юрка!
Это оказался не кто иной, как дружок Васьки «Бомбы», Валерка. Сообщник Валерки сел напротив капитана, поджал губы. Монгольского типа лицо его луна окрасила в синевато-бледный цвет.
Ермаков для порядка снял с «дружков» «стружку» за то, что не умеют «работать».
— Ты куда? — спросил пристыженный Валерка.
— К Ваське.
— Зачем?
— Есть дело.
— Хорошо. Да только вряд ли его застанешь. Он завербовался после твоего отъезда на Север. Ему солнце здесь не светит.
Эта новость встряхнула Ермакова. Может быть, он сам его напугал? Что делать? Ехать на встречу или возвращаться? Но в конце концов Ермаков счел свои подозрения напрасными: если бы ему «Бомба» не поверил, то предупредил бы всех сообщников. Валерий не проявил никаких признаков недоверия Ермакову. Выкладывал все новости. Значит, операция продолжается. В Апрелевке все трое вышли.
— Пойдем ко мне, побудешь до утра, — предложил Валерка.
— Пожалуй, — согласился Ермаков. Он отметил, что настроение у преступников скверное. Видимо, они рассчитывали сорвать куш с какого-нибудь пассажира.
Распрощавшись с «монголом», Ермаков последовал за Валеркой. Тот привел его на пятый этаж многоквартирного дома.
— Располагайся.
— Один живешь?
— Мать. В отлучке.
Немного поболтали. Ермаков пытался заполучить какие-либо сведения о скрывающемся главаре банды, но Валерка о нем ничего не знал. Он коротко буркнул:
— Не вхож. С ним связь через «Бомбу».
Валерий рассказал о себе. Ему двадцать семь. Четыре года отсидел за соучастие в разбойном нападении на какого-то профессора. Вернулся из колонии неделю назад. Имеет на руках предписание сразу же по прибытии к матери стать на учет в милиции. Не торопится. Ему «светит» административный надзор. На счету у него уже был после возвращения из колонии не один грабеж. Валерий знал: если поймают, то новый срок «заработан». Поэтому стал осторожничать. Разделились в шайке воры по парам. Валерка ездит с «монголом». Имя его он не может запомнить, так как «его не выговоришь». «Монгол» раньше Валерки вернулся из мест лишения свободы. Дела прежние не бросил. Живет по чужому паспорту. Его разыскивает милиция.
Утром Валерка вызвался найти Ваську «Бомбу».
— Сиди у меня. Жди.
Но к обеду он вернулся ни с чем.
Поздно вечером Ермаков пошел искать «Бомбу» вдвоем с Валеркой. И надо же такому случиться: на одной из улиц, прижимаясь к безлюдной ее стороне, «Бомба» лицом к лицу встретился с Ермаковым и его попутчиком. Он удирал из города. В руках нес чемодан.
— Вы? — удивился Васька. — Откуда взялись?
— К тебе.
— А я тебя, Юрака, не признал, — сказал Василий. — А «Слон» где?
— У меня. В надежной «малине». Я к тебе — дело есть.
— Что за дело? — поинтересовался Василий. — Пойдем вон туда, в скверик, присядем.
— Охоты не стало говорить, — притворился Ермаков, — уматываешь.
— Выкладывай, — потребовал Василий.
— Дело, — зашептал капитан, — лучше не придумаешь. Поэтому приехал. Пятнадцать кусков. Разделим. Всем хватит.
Васька задумался. Потом сказал:
— Ладно, вхожу в пай, валюта нужна. Без гроша в кармане.
Ермаков произнес:
— Не с пустыми руками, надеюсь, входить в пай желаешь?
— А с чем? — насторожился Василий.
Ермаков, сославшись на Харитона Петракова, попросил взять оружие с собой. Василий возразил:
— Зачем пушка? Деньги, говоришь, в квартире? Старуху пальцами задушим.
Ермаков озлобился:
— Еще я сюда топал! И без тебя бы с Петраковым обтяпали. Уж если кого придушить, так Харитона Петракова. Посылает, а тут ничего нет. Вернусь, я его проучу.
— Пушка — не шутки, — вмешался Валерка.
— Без тебя знаю, — возмутился Ермаков. — Она нужна попугать старуху, чтобы рехнулась со страху.
«Бомба» задумался.
— Ну, все. Рву когти. Мне тут нечего делать. — Капитан встал.
— Брось пороть горячку. Не психуй, — примирительно произнес Васька, вставая вслед за Ермаковым. — Пушка есть. За ней нужно съездить.
Сдерживая волнение, старший оперуполномоченный угрозыска спросил:
— Далеко?
— Здесь, в городе.
— Поедем вместе, — сказал Ермаков.
Васька состроил кислую мину.
— Мне нельзя. Поезжай один. Буду ждать на вокзале. Пистолет я передал «Седому» — Ивану Брыкину. Обратишься к нему от моего имени. Отказа не будет. — Василий назвал улицу и номер дома. Сказал, как проехать, сообщил, что с «Седым» они обтяпали не одно дельце. — Вчера мы с ним тоже хотели грабануть одну старуху: продала полдома. Но опоздали — она деньги в сберкассу снесла. Не досадно ли?
— Может, туфтила? — небрежно обронил Ермаков.
— Сами видели сберкнижку.
Ермаков взглянул на часы. Было без четверти восемь вечера. Поиски пистолета затягивались. Он прикинул и решил, что лучше заняться «Седым» завтра утром. Да и Васька посоветовал перенести встречу на утро.
На квартире у Валерки Васька достал из чемодана бутылку коньяка и сказал:
— Берег. На случай хорошей встречи. По-одному нам жить трудно. За совместимость!
До середины ночи Валерка и Васька, разгоряченные коньяком, не могли уснуть, вспоминали прошлое. Ермаков пристроился на тахте, слушал, вставлял словечки.
— Неплохое дело и здесь есть. Завтра хотели обтяпать с Брыкиным, — произнес «Бомба».
— Что за дело? — поинтересовался Ермаков.
— Кусков на тридцать, не меньше.
— Может, и пушку для себя оставит? — забеспокоился капитан.
— Подождешь день, если так, — вставил Валерка.
— Пушку он тебе отдаст, раз я сказал, — ответил Василий.
— Так какое дело? — опять спросил Ермаков.
Директор сельской школы сам получает в городе зарплату для учителей. Носит ее в портфеле. Иногда его сопровождают завхоз и физрук. «Седой» идет на мокрое дело. Если потребуется, то всем троим выпустит кишки.
Утром, чуть свет, Ермаков отправился искать Ивана Брыкина. По просьбе капитана Василий чиркнул Брыкину на листке календаря:
«Вано, посылаю к тебе своего кирюху. Буду потом у него на малине. Сделай то, что он просит».
Сжав в руке записку, Ермаков разыскал местных сотрудников милиции; сделать это было нетрудно.
Поздоровавшись с широкоплечим майором, начальником отделения, Ермаков рассказал ему, что вышел на окопавшихся на станции и вблизи нее грабителей, попросил срочно задержать Валерку и Василия, назвав их адреса.
— Еще сообщите моему начальнику полковнику Сомову: пусть выезжает сюда с опергруппой, перекрывает станции около города. На какой-нибудь из них я появлюсь с вооруженным главарем банды Иваном Брыкиным по прозвищу «Седой». Иду к нему в логово.
— А если взять вам наших сотрудников?
— Не стоит, — ответил Ермаков. — Записке Васьки он поверит. Вопрос лишь в том, с какой станции он пожелает со мной ехать?
— Хорошо. Сейчас свяжусь с Сомовым.
Через полчаса Ермаков был в нужном месте. Отыскал дом Брыкина. На дверях висел замок. Соседка Ивана назвала Ермакову номер дома, где он может быть. Ермаков быстро нашел небольшую хату. Заглянул в окно: за столом сидело четверо мужчин. Они играли в карты. Кто из них Иван? Чтобы не попасть в неловкое положение, Ермаков окликнул находившуюся во дворе девочку, попросил ее вызвать из дома Ивана Брыкина.
Через несколько секунд на крыльцо вышел парень. Ермаков отозвал его в сторону и заговорщически зашептал:
— Кончай, Ванюха, свои шуры-муры. Дело есть.
Капитан протянул записку.
— Если узнаешь, кто писал, тогда буду толковать дальше.
Иван внимательно, несколько раз, прочитал записку и указал глазами на скамейку:
— Сядем, записка от Васьки «Бомбы».
Ермаков и Брыкин разместились на лавке. Капитан повторил рассказ о выдуманных пятнадцати кусках «навара».
— Желаешь с нами — отчаливаем сейчас же. Но прихвати оружие. За ним меня послал «Бомба».
Иван присвистнул:
— У меня его нет.
— Брось заливать. Не играй в дурачка. Васька тебе отдал.
— Не отрицаю, но со вчерашнего вечера пушка у «Кошки», моего кирюхи. Освободился. Заглянул ко мне в гости. Без денег, и на твое дело скорее всего он может пойти.
— Как его увидеть?
— Потопали.
Это было через два дома.
Вошли в прихожую. Из нее одна дверь вела в светлую комнату, вторая — в кухню. Подслеповатое окно ее едва пропускало полуденный свет.
— Ростик! — крикнул, пройдя на кухню, Иван. Откуда-то сверху раздался приглушенный кашель.
Ермаков заметил: с печи слезал крепко сбитый, мускулистый парень лет двадцати пяти.
— Ты с кем? — спросил Ростик. — Кто это? — повторил он вопрос. Бандит смотрел то на Ивана, то на Ермакова.
Брыкин самодовольно крякнул:
— Кирюха мой, знакомься.
Капитан милиции назвался, как и раньше, Юркой. Бандит с иронией переспросил:
— А точнее?
— Ты что, не слышал, что сказал? — серьезно ответил Ермаков. Своим деловым видом сотрудник уголовного розыска показывал, что ему не до шуток.
Знакомство состоялось. Но Ростик по прозвищу «Кошка» оказался осмотрительнее своих дружков. Выслушав набившую Ермакову оскомину историю с пятнадцатью дармовыми кусками, он с ухмылкой спросил:
— Откуда ты знаешь, что именно пятнадцать? Ты что, их считал? Тогда почему не взял?
Ермаков рассказал, что, якобы, его девушка проживает на квартире у одной старухи. Однажды, будучи там, Ермаков заглянул старухе под матрац и увидел несколько пачек сторублевок. А позднее Ермаков выпытал у своей девушки, сколько у бабки денег.
— Не лезу я сам потому, что хочу сделать как надо. Не навлекая подозрения на свою девку.
Тогда, не глядя на Ермакова, Ростик спросил у Ивана, тыча пальцем в грудь капитана:
— Ты хорошо его знаешь?
Ермаков затаил дыхание. Что ответит Иван?
Иван произнес:
— Можешь в нем быть уверен, как в самом себе. Он лучший кирюха Васьки «Бомбы».
В это время Ермаков услышал на кухне шорохи. Кто-то чиркнул спичкой. Потянуло папиросным дымом. Капитан поднял глаза и увидел на печке курящую девицу. Безобразно разлохмаченная, в одной сорочке, она свесила с печки ноги.
— А ну, сгинь! — крикнул на нее Ростик.
Девица ответила:
— Сам пропади пропадом.
— У, дьяволина. — Главарь со злостью ударил ложкой но тарелке, стоявшей на столе.
— Не кипятись, — посоветовал Иван.
«Кошка» действительно напоминал рысь: глаза бегают в разные стороны, резкий, пружинистый, готовый прыгнуть и придушить любого, в ком померещится «враг».
— Как с директором?
— Потерпит, — ответил «Кошке» Иван.
— К этому времени вернем пушку, — вставил Ермаков. — Васька мне говорил, — объяснил он Ростику, показывая свою осведомленность.
Краснея от раздражения, главарь, которому не понравилась реплика незнакомца, ядовито прошипел:
— Трепло Васька. Все вы дерьмо. Вам, щипачам, в куклы играть. — Ростик яростно запустил руку в свои густые волосы. — Ладно, пес с вами. В случае чего пушка выручит. Всех пошмаляю, если замечу «стукачей».
Ростик взял со стола тряпку и стал протирать пистолет. Загнал патрон в патронник.
— Запомните: буду шмалять в каждого гада. А ты, как тебя, Юрка, что ли, покажешь мне эту старуху с дармовыми кусками. Иван, останешься здесь. Приготовь к нашему возвращению «горючего». Обмоем ваше дельце. Не обделим. Доля твоя — равная будет со всеми.
Ермаков радовался такому решению «Кошки». «Седой» мог помешать в будущем при задержании Ростика. Он пока был не нужен.
Ермаков и Ростик вышли из хаты. «Кошка» предупредил:
— В Апрелевке садиться не станем, перехватим поезд на соседней станции.
Они пешком прошлись километров пять. На маленькой железнодорожной платформе Ростислав заметил, как двое мужчин скрылись в помещении вокзала. Он толкнул Ермакова:
— Не мильтоны?
— Откуда им взяться? — ответил капитан и тут же спохватился. В таких случаях рискованно разубеждать. Поправился: — Может, и они. Давай-ка махнем лесом до другой станции.
Расчет Ермакова оправдался.
— Ерунда. В случае чего пушка выручит. Подождем здесь, — махнул рукой Ростик.
— Тогда сходи, посмотри расписание, — предложил Ермаков. И опять попал в точку. На вокзал главарь отправил Ермакова.
Капитан вбежал в зал ожидания, увидел Сомова, Орловского и рослого, крепкого сержанта Расина, передал им:
— Там — главарь «Кошка». С пистолетом. — Быстро обговорили, что делать дальше.
План наметили такой: прямо на этом полустанке во время посадки в вагон и надеть бандиту наручники.
Ермаков, вернувшись к «Кошке», прошелся с ним до конца платформы. Главарь, кажется, держался спокойно, а капитан волновался. Бешено колотилось сердце.
Вдали показалась электричка.
Когда поезд остановился и открылись двери, Ермаков и Ростислав быстро вбежали в вагон. Капитан ожидал, что вслед за ними в вагон войдет и опергруппа. Но поезд тронулся, а сотрудников милиции не было. В последнюю минуту Сомов передумал брать бандита на этой маленькой станции и решил сопровождать его до конечной остановки и там задержать.
Ермаков все понял, едва увидел в дверях вагона Сомова и Расина.
Когда поезд остановился на конечной станции, пассажиры густым потоком хлынули на перрон.
Теперь пришло время действовать Сомову, Орловскому и Ермакову. Они рывком окружили бандита, затем прижали у стены и вытащили из кармана его пиджака пистолет. Ростик не мог сообразить, что произошло. Он еще не пришел в себя, а его уже под руки вели в дежурную часть. Все явилось как во сне. Он буквально опешил.
Опомнившись, бандит яростно закрутил головой и несколько раз сплюнул на асфальт, скосил глаза на Ермакова и в бессилии выругался.
— Хорош у вас Юра…
Да, действительно, «Юра» блестяще выполнил свою миссию. И Сомов с удовольствием пожал руку Ермакову.
А в это время другая оперативная группа заканчивала задержание и аресты «Монгола», «Бомбы», «Седого» — всей компании оплошавшего Ростика — «Кошки». Волчье-кошачье логово обезврежено.
А вскоре пришел приказ министра о досрочном присвоении Алексею Гавриловичу специального звания «майор милиции».
Действительно, прекрасный у меня есть друг «Юра». Живу я с ним почти в одном доме, поэтому встречаюсь и по выходным дням, если они случаются. Рядом с ним неразлучны в таких моментах жена и сынишка. Лицо главы семейства всегда излучает жизнерадостную улыбку. Я не видел его унывающим. Без шутки, розыгрыша вообще его не представляю.
А за светлой улыбкой майора Ермакова вижу то одну, то другую операцию, каждая из которых могла стоить ему жизни.
1980—1983
РАССКАЗЫ
ВЫСТРЕЛ НА УЛИЦЕ
1
Что-то громыхнуло на улице среди ночи. А утром «скорая помощь» подобрала у крыльца жилого дома восемнадцатилетнего Диму Кузьмина. Он лежал без сознания, пульс почти не прощупывался, рубашка, простреленная на животе, густо пропиталась кровью.
Галина Степановна Изотова, первая свидетельница, рассказала на следствии так:
— Выхожу рано утром, слышу — кто-то не то стонет, не то храпит. Подхожу — парень лежит на ступеньках. Словно карабкался по ним, да не осилил до двери дотянуться. Что пьяный — не похоже. Пригляделась, еще не совсем рассвело, а он руками живот зажал. Показалось, умирает. Ну и срочно позвонила по «03».
В больнице определили: огнестрельное ранение в брюшную полость. Опасное для жизни. Парня немедленно повезли в операционную.
Не пришлось долго устанавливать личность раненого. В заднем кармане джинсов лежал пропуск на автозавод. Там следователю Петрову пояснили, что Дмитрий Кузьмин приехал в город год назад из-под Киева. Пытался поступить в институт, но не набрал нужного количества баллов, год как работает (и хорошо работает), активист заводской комсомолии. А на днях должен был снова сдавать экзамены в вуз. Живет в заводском общежитии, на той самой улице Пирогова, где на него напали.
Косвенные улики в деле появились сразу. Установили многих свидетелей, которые слышали выстрел и видели бежавших вдоль домов парней. С ними была женщина.
Помните; как Шерлок Холмс в «Собаке Баскервилей» утверждает, что косвенные доказательства очень обманчивы, бывает, они ведут нас не к истине, а в противоположную сторону.
И все же косвенные улики нередко помогают.
В течение дня к Диме дважды возвращалось сознание, но такое мимолетное, что следователь не успевал с ним обмолвиться словом.
К вечеру юноше стало лучше, боль отступила. Он смог говорить, правда, еле-еле шелестя пересохшими губами:
— На автобусной остановке, около котельной, подбежали ко мне двое парней, третий вдалеке как будто стоял, может, это была и женщина. В руках одного разглядел какой-то маленький предмет, точно игрушка была со стволом, из которого вылетело пламя. Что было дальше, не помню. Очнулся здесь, в больнице.
— Узнаете их? — с надеждой услышать положительный ответ, спросил Петров.
— Вряд ли. В том месте улица не освещена.
2
В тот день в городе назревало новое происшествие. В субботу утром, сдав последний экзамен за четвертый курс, выехала на каникулы в родную деревню студентка техникума Зоя Рогожина. Мать не дождалась дочери и заявила в милицию. Начальник сказал Петрову: «Займись. Может быть, эта Зоя еще в городе и никуда не выезжала? Узнай точно, садилась ли она вчера в электричку».
…В субботу Зою провожали подружки. Компания была чисто девичья. Только Зоин дружок Михаил Вавилов был тут же — для него сделали исключение.
Настроение у всех было превосходное. На прощанье подруги экипировали Зою чем могли: кто дал кофточку, кто туфли, надавали взаймы денег.
Миша попрощался с Зоей на привокзальной площади. Девушка побежала за билетом, когда электропоезд уже подкатил к перрону. Села ли Зоя в вагон — Михаил не видел…
А в это время Зоя, раненная из огнестрельного оружия в шею, пришла с помощью добрых людей домой. В сельском медпункте ей уже сделали перевязку.
— В вагоне ко мне стали приставать два парня, — рассказывала Зоя. — Один высокий, очень худой, сутулый, волосы темно-русые, лицо бледное. Лет двадцати двух, назвался Андреем. Играл на гитаре. Был в темно-синем спортивном костюме. Второй пониже, улыбчивый, круглолицый, в джинсах, вельветовая тужурка надета прямо на майку. Сергей. Оба в импортных кроссовках. Когда подошла моя остановка, вышли со мной. Уже темнело, людей вокруг ни души. Андрей начал приставать, я оттолкнула его, тогда Сергей вытащил самодельный, как игрушечный, пистолет и прострелил мне шею. Упала я больше от страха, сделала вид, что они меня убили, а на самом деле немножко жгло и сочилась кровь. Парни тут же сбежали.
Возможно, два выстрела — в Диму и Зою — произведены из одного и того же самодельного пистолета?
Зоя показалась майору милиции Петрову не совсем серьезным человеком. Миша признался, что Зоя взбалмошна, легко могла уйти на танцы, в кино с малознакомыми парнями. Не встречалась ли Зоя раньше с Андреем и Сергеем?
3
Кузьмин чувствовал себя плохо. Врачи опасались за его жизнь. Петрову пришлось во второй раз выехать к месту происшествия на улицу Пирогова.
«Вряд ли все происходило без свидетелей, — размышлял он. — Ради чего напали на беззащитного юнца? Может, Димка что-то скрывает, недоговаривает?»
Из дома в дом обошел всю улицу: одни ничего не знали, другие слышали выстрел, но выйти побоялись.
Истекали вторые сутки, а поиск оставался безуспешным.
Петров опять взялся за второе происшествие. Зоя совершенно оправилась от ранения. Проговорилась, что ребята в вагоне откупорили бутылку вина, сказали, что обмывают удачу, предложили Зое присоединиться, но она отказалась. Тогда длинный парень в спортивном костюме угостил Зою сигаретой, она закурила — хотелось быть вполне современной. Никто их не одернул: в вагоне ехала лишь бабушка с внучкой. Постепенно следователь установил, что, когда Зоя вошла в вагон, крепыш подошел к ней и услужливо стал помогать развешивать сумки. Кивнул за окно, где остался Миша:
— Прелестный мальчик. Но теленок.
От парня попахивало вином. Он болтал без умолку:
— Прошу прощения за хамство, рад с вами познакомиться. Студент — будущий инженер. Мой друг, без пяти минут доктор. Обратите, сделайте одолжение, и на него внимание. Персона!
Парень показался ей добродушным и остроумным. Не то, что деревенский Мишка, которого город за четыре года студенчества так и не обтесал.
Зоя вытянула руку в открытое окно навстречу приятно холодившему ветру.
Солнце садилось за лесом. Чуть померкли краски полевых цветов.
В вагоне стояла предвечерняя духота.
Поезд приближался к Зоиной станции. Стала прощаться с парнями. Но те запротестовали:
— За кого ты нас принимаешь? Можем ли мы тебя оставить наедине с сумками? Проводим до деревни…
Сергей поднял палец над головой и уточнил:
— До дверей родной хижины!
Когда сошли на глухом разъезде, совсем стемнело. Ребята весело галдели, подтрунивали, пугали Зою то волком, то разбойником за кустом.
От железной дороги уже отошли с полкилометра. Слева и справа от тропинки простирался буйно-зеленый кустарник.
Длинный Андрей, перебросив через плечо гитару, стал вести себя нагловато.
— Прекратите, — пыталась оттолкнуть Зоя Андрея.
— Не трогай — моя… — Сергей недобро глянул на Андрея, и в руках у него появился самодельный пистолет. — Мне не страшен серый волк. Бах — и дырка!
Зоя похолодела от страха:
— Что это?
Грохнул выстрел. Кровь заструилась по кофточке.
Зоя разом перестала вырываться от Андрея и, точно мертвая, сползла с его руки на траву. Когда пришла в себя, ребят рядом не было. Только к вечеру следующего дня раненная, в бинтах, она заявилась домой.

4
— И еще вот что, — вспоминает Зоя, — ребята выбегали на перрон за три остановки от моей станции, я поняла, что там живет их друг и может оказаться на вокзале. Он хромой…
— А вернулись, что сказали? — следователь искал подробности.
— Молчали. Длинный со злостью ударил по струнам гитары… И еще вас прошу. Допрашивать будете Мишу, не говорите ему подробности…
Петров обещал. Она попрощалась, быстро застучала каблучками к выходу.
Поправлялся, набирался сил и Дима Кузьмин. Майор Петров приступил к основательной беседе с юношей.
5
…В тот вечер Дима был в парке культуры и отдыха. Познакомился с Тамарой. Договорился после концерта на открытой эстраде ее проводить. Когда стемнело, он на минуту оставил ее, чтобы купить сигарет. В темной аллее на него набросились двое, предупредили, чтобы он немедленно уходил из парка. Дима понял, что конфликт — из-за девушки.
Тамару на скамейке он не нашел. Пошел домой… Потом вспомнил, что в потасовке сильно ударил одного ногой в живот…
Поиск продолжался. Следователь зашел посоветоваться к полковнику, своему непосредственному начальнику.
— А не поможет ли нам такое мероприятие… — полковник изложил свои мысли. — Завтра в любом случае поезжай на ту станцию, где выходили попутчики этой самой Зои. Побеседуй с железнодорожниками. Кстати, из транспортной милиции тебя сотрудник будет ждать. Эксперты не смогли вынести заключение, что два выстрела произведены из одного и того же пистолета. Но я не сомневаюсь, ребята одни и те же.
Через час Петров беседовал с водителями автобусов, курсирующих по улице Пирогова, и ухватился, кажется, за ниточку. Следователю помог сослуживец Юдин. Он возбужденно докладывал:
— Кондуктор Шарова — просто находка.
Петров взглянул в протокол допроса:
«Около 22 часов ехали в моем автобусе двое подвыпивших парней. Один высокий, худой, остриженный почти наголо. Второй — малоросток, плечистый, круглолицый, крепыш в джинсовых брюках и вельветовой тужурке темно-синего цвета. Из-под куртки выглядывала красная рубашка. У крепыша лицо очень загорелое, темно-каштановые вьющиеся волосы зачесаны назад, заметила во рту золотой зуб. Сходили они на остановке «Улица Пирогова». Выскочили из дверей и сразу сбили кепку у парня, стоявшего с девушкой под навесом автобусной остановки, придирались к прохожему, пожилому мужчине с палочкой (тот заступился за парня). Старичок нагнулся, поднял головной убор и отдал его девушке. В это время старика так толкнул высокий, что тот чуть не упал. Что было потом — не видела. Автобус пошел дальше».
Петров и Юдин наметили план дальнейших действий. Выходило, есть еще потерпевшие, даже двое. Один — тот, у кого кепку сорвали с головы, и, возможно, ударили. Второй — старичок с палкой, ему нанесли удар — видела кондуктор.
Петров поручил Юдину довести дело до конца, зайти в райком комсомола, посоветоваться, собрать оперативный отряд, раздать ребятам задания. И попросить помощь в розыске преступников и свидетелей происшествия.
Первый день положительных результатов не дал. А к полудню второго член комсомольского оперативного отряда Марина Зорина привела к капитану Юдину Юру Окина. Паренек разволновался, смутился, лицо покрылось испариной.
— Боюсь, мстить будут.
Но кое-что рассказал:
— У меня сбили кепку, ударили по лицу. И угрожали. Их было двое: один небольшого роста, в руке у высокого был какой-то металлический предмет со стволом, на настоящий пистолет не похожий.
Юра согласился подежурить вечерами на улице: он бы их узнал в лицо.
Нашли дружинники и обиженного старичка. Но ничего нового он не добавил, сказал лишь, что одного хулигана видел и даже часто встречал где-то.
— Вспоминайте, Тихон Мартынович! — взмолился Юдин.
Тем временем вместе с лейтенантом из железнодорожной милиции Петров вел свой поиск. Приехали на станцию, где парни встречали своего хромого приятеля.
Билетные кассиры, путевые обходчики, наконец, жители небольшой деревни, прилегающей к вокзалу, тщательно были допрошены. Никто тех парней не видел. Что за дружка они встречали — понятия не имели.
Кем он может быть? Студентом, который проводит каникулы в деревне? Отпускником? Бездельником?
Пригласили дежурного по станции. Молодая женщина лет двадцати пяти, увидев удостоверение сотрудника милиции, насторожилась:
— В прошлое дежурство двое парней выбегали из вечерней электрички. Прошлись по перрону, снова вскочили в вагон. Один высокий в спортивном костюме, второй низкорослый в джинсах, вельветовой куртке. Какого-то приятеля с поврежденной ногой пытались увидеть.
— А у низкорослого нет ли золотого зуба?
— Есть.
— А высокий — в темных очках, с гитарой?
— Да! Кажется, припоминаю, имен их не знаю, а вот к кому приезжают, укажу. Полгода назад парень сломал ногу, говорил, в каких-то спортивных состязаниях. В Ольховке живет.
Отыскали «хромого» быстро.
Стас, мускулистый стройный паренек — действительно мастер спорта по настольному теннису, бывший работник радиозавода. На ранней инвалидности. Указал адреса своих приятелей и назвал имена: Андрей и Сергей Поповские, двоюродные братья. Сергей работает на заводе в областном центре, Андрей учится в Москве.
Задерживал Сергея Юдин прямо в цехе. Петров ждал в райотделе.
Сделал подготовку к опознанию преступника. Юра Окин узнал Сергея. Тот, помявшись, во всем признался.
В противоположность брату Андрей держался вызывающе, агрессивно.
Даже очные ставки с Дмитрием, Сергеем, Зоей и Тихоном Мартыновичем не образумили его.
— Никакого пистолета у меня нет. Кто стрелял — тот пусть и отвечает.
Обыск решил все. В кухонном столе, в комнате, которую в Москве занимал Андрей, Петров и Юдин нашли пачку малокалиберных патронов и кожаный самодельный чехол (кобуру от пистолета), а за ковром, в стенной нише и сам оловянный корпус пистолета. Ствол разыскали в помойном ведре.
Теперь Андрей сознался:
— Мы выследили его, ну… того, который ударил меня ногой в парке. Я его просил не приставать к моей девушке. Стрелял поверху, не думал, что угодил в него. На следующий день, в субботу, мы поехали в Ольховку проведать Стаса, ну и так, прошвырнуться. В электричке познакомились с Зоей. Показалась она нам такой… свойской. Увязались за ней. А в лесу допустили оплошность. Надо же было Сергею «самоделку» достать! Придурок… Думал, ей в грудь пуля досталась. Я еще ей подул в лицо, побил по щекам. Бесполезно. Драпанули. Только учтите, гражданин следователь, что и она хорошая птичка.
— Пусть так, но как же вы спокойно ели, спали все эти дни?
— Больше себя жалели, что получим срок ни за что… по дурости, — произнес Андрей.
Вот так своеобразно смотрят порой преступники на содеянное. Кажется им, что ни за что пострадали. Подвели вроде бы нелепая ситуация, случайность, оплошность, безвинная шалость, ребячество.
Еще раза два приходили ко мне и потерпевшие Зоя и Димка. Они быстро поправились, молодость брала свое. Лица веселые, беззаботные. И вроде бы даже ничего особенного с ними не случилось…
Только следователи долго не могут забыть такие происшествия, и носят их, как рубцы на сердце.
1968—1976
ДЕНЬ СЛУЖБЫ

Просыпаюсь ровно в пять. Полчаса на зарядку. Умываюсь, завтракаю. В голове мысли о работе: что случилось за ночь, все ли вызванные свидетели придут, по каким делам истекают сроки следствия?
Жена что-то спрашивает. Невпопад отвечаю, что побуждает ее упрекнуть меня: «У всех мужья как мужья: спокойно к девяти уходят, спокойно к семи приходят».
Но я уже на лестнице.
До службы час пешего хода. Торопливо шагаю по пустынным улицам города, по которым вот-вот хлынет поток рабочих. Наконец, поворот в узкую улочку, на которой выросло двухэтажное здание милиции. Прежде чем идти к себе в кабинет, заглядываю в дежурную комнату, где наряд сотрудников круглосуточно несет вахту и каждую минуту готов выехать на задержание правонарушителя.
Меня встречает Тимур Фазаматов, небольшого роста, коренастый, улыбчивый, широколицый. Он недавно пришел к нам после окончания школы милиции и быстро прижился в отделе. Бодрый даже в конце суточного дежурства, после бессонной ночи, Тимур рад моему раннему приходу.
— Дорогой Шерлок Холмс, только что думал посылать за тобой машину. Что случилось, спросишь? Неприятная новость. Ограбление. Всю ночь колесили, задержать преступников не смогли. Женщины, потерпевшие, ждут.
Забираю у Тимура собранные материалы, иду к себе в кабинет на второй этаж. Вызываю потерпевших на допрос. Их трое: пожилая полная, с претензией одетая дама, она возвращалась с электрички домой, девушка в легком платьице, повар заводской столовой, и женщина лет сорока в траурном черном одеянии, приехавшая разыскивать родственников. Все трое говорят примерно одно и то же, называют приметы мужчины, который при встрече с ними неожиданно выхватывал у них сумки: по возрасту около тридцати лет, среднего роста, худой, в коричневых мятых брюках, в рубашке защитного цвета, военного покроя.
В кабинет заходит сотрудник уголовного розыска капитан Архипов. В руках у него альбом с фотографиями тех, кто вернулся недавно из мест лишения свободы. Архипов уводит с собой женщин, чтобы показать им снимки. Тем временем достаю из сейфа два уголовных дела, по которым сегодня будут приходить свидетели. Одно — на неизвестную мошенницу, присвоившую деньги нескольких горожан, которым она пообещала достать ковры и шубы. Второе — по автодорожному происшествию.
В дверь кто-то стучит. Спустя несколько секунд в кабинет мелкими шажками входит, словно вплывает, сухой, съежившийся лысый старик.
— Жученков, такая фамилия, — объявляет первый посетитель. — Вы ищите лихача-шофера? Смею доложить: перед вами единственный и достоверный свидетель. Видел все до тонкостей. Пьяный был водитель, факт. Я и звонил в милицию, когда он скрылся, «Скорую помощь» вызывал. Номера, врать не стану, не запомнил, а вот был шофер в кепке. Это я точно заметил.
Записываю показания старичка. Хотя он ничего нового к имеющимся материалам не прибавил, но я ему признателен: человек преклонного возраста, ехал издалека, чтобы выполнить свой гражданский долг.
Однако вскоре мнение о посетителе пришлось изменить. Он перегнулся через стол и таинственно зашептал:
— Нельзя ли, товарищ следователь, эквивалентик за мою честность? Не понимаете? Поясню. Есть у меня один сосед, Прохоров Васька, надоел, как горькая редька. Постоянные с ним стычки по поводу совместной межи. Ну, доложу вам, проходимец!
— Что ж он, хулиганит, ворует?
— Пока не замечал. Но уж, конечно, не без этого. Рожа — во! Рисковый мужик. На любое «мокрое» дело может пойти. Достоверно говорю. Так вот, я и прошу обыск у него на всякий случай… А насчет машины не сомневайтесь: грузовая была, шла с потушенными фарами и врезалась в мотоцикл. Сами знаете: одного человека насмерть, второй — до сих пор в больнице.
Мне захотелось скорее закончить разговор со склонным к мести стариком. Сдерживаясь, объясняю, что на всякий случай милиция обыски не делает. Это будет нарушением социалистической законности. Советую таким образом не сводить счеты. Благодарю старика за показания. Жученков, оглядываясь, теми же мелкими шажками выплывает из кабинета.
А на смену ему уже входит другой посетитель, молодой человек с бородкой.
— Работаю шофером в третьем автохозяйстве. Секретарь комсомольской организации. Пришел по своей инициативе. После осмотра нашего гаража автоинспекцией. Меня послали ребята. Располагайте нами, если нужна помощь. Лихача надо найти. Послушайте, может быть какие дежурства на дорогах надо? Чехов моя фамилия. Но не подумайте, в родстве с великим писателем не состою.
Не могу не улыбнуться этому бородатому парню по фамилии Чехов.
— Спасибо. Учту ваши предложения. Понадобитесь — разыщу. А теперь желаю счастья: меня ждут дела.
— Понимаю. Исчезаю. — И он стремительно скрывается за дверью кабинета.
Слабый стук в дверь.
— Да, да, прошу!
Кто-то робеет, не решается войти.
— Да входите же! Кто там?
Наконец дверь потянули, она открылась. Порог переступила молодая круглолицая женщина. Красная косынка на пышной прическе. Черные, тонко начертанные дуги бровей, глаза карие. Выражение лица извиняющееся, просительное. Рядом с женщиной девочка в синем шерстяном костюмчике.
Я предложил им сесть, подбадривающе спросил:
— Вы ко мне? Не ошиблись комнатой?
— Нет, нет. — Женщина опустилась на стул, подтянула к коленям дочь.
— Тогда давайте для начала познакомимся.
Женщина стеснительно выдавила что-то похожее на улыбку. Отрекомендовалась:
— Ефремова, захотела с вами поговорить насчет брата, Ефремова Николая.
— Что с ним?
— Стыдно признаться. Его посадили. Но все равно. Я так рада, рада.
— Чему же? — не понял я.
— Думала, умер, а он, оказывается, в тюрьме. Хотела бы узнать адрес, чтобы письмо написать.
Пообещал узнать. Женщина с тем же напряжением, с каким вошла, удалилась. На ходу поблагодарила: «Спасибо вам, спасибо».
Звонят из ГАИ:
— Радуйся, товарищ следователь. В общем, нашли. Погнуты буфер и радиатор у «газика» из пригородного совхоза «Восход». Водитель Белев. Сейчас его доставим. Допрашивай. Ух, устали: облазили три сотни больших и малых гаражей.
Через полчаса передо мной стоит упитанный мужчина лет сорока, вяло дает показания:
— А кто его знает, что с машиной, кто ее погнул. Может стукнули, когда стояла в гараже. Я вины за собой не чувствую.
Ну что ж, проверим версии шофера Белева. Прошу его расписаться на пакете, в котором находятся соскобы краски с облицовки радиатора его машины. Краска явно другого, чем «газик», цвета. Похоже, она от поврежденного мотоцикла.
— Отправим на экспертизу. Сличим с краской поврежденного транспорта.
— Ваше дело, — безразлично отвечает Белев. — Проверяйте сколько угодно. Непричастен.
…Занимаюсь снова ночным грабежом. Потерпевшая Печерникова, та, что вся в черном одеянии, внимательно всматриваясь в фотокарточки альбома, обратила внимание на одну из них.
— Вот он! Да, точно. Выхватил сумку и убежал.
Инспектор уголовного розыска Архипов в моем присутствии дает альбом потерпевшей Еремеевой, полной женщине. И она указывает на ту же карточку.
Третья потерпевшая — Лазовая, девушка из столовой, видно, волнуется: ей еще ни разу в жизни не приходилось давать показания. Она прижимает руки к груди и со страхом произносит, останавливая взгляд все на той же фотографии:
— Он, он. Схватил меня сзади за плечи, вырвал сумку. Там ключи от квартиры. Денег не жалко, рублей пять.
Закрепляю опознания протоколами. Докладываю начальнику отдела. Он направляет на квартиру рецидивиста Киськова, на чью фотографию указали все три потерпевшие,оперативную группу. Киськов месяц назад вернулся из мест не столь отдаленных и вот, как видно, снова «напроказил». Печерникову, Лазовую и Еремееву прошу подождать привода Киськова для опознания уже, как говорят, в натуре. Вскоре его приводят. Сонное лицо. От него за версту тянет водочным перегаром. Обмывал, видно, удачу. После очных ставок легко признает:
— С горя взялся. Жена от меня сбежала. Учтите, гражданин следователь, мои семейные неприятности. От нее, Верки, все беды. Да разве я пошел бы на это, будь она человеком. Не хочет жить, и баста. Принялся за старое, будь оно проклято. Опять решетка, опять нары, трижды им в дышло.
Нервного, издерганного, прозрачного от худобы Киськова уводят.
— Матери сообщите! — кричит он мне.
Преступление раскрыто, что называется «по горячим следам».
Секретарь отдела, всеми уважаемая Лидия Ивановна, приносит мне на исполнение анонимное заявление. Неизвестная женщина пишет:
«Слышала, что вы разыскиваете мошенницу. Попалась и я на ее удочку. Дала двести рублей. Та обещала достать ковер. Заставила ждать около универмага. Да так и не дождалась. Сама виновата, поэтому свою фамилию не называю. Однако помочь могу. Ищите мошенницу на железнодорожном вокзале. Там скитается, клиентов ловит. Ищите по наколке «Марина» у большого пальца левой руки».
Это уже кое-что. Приглашаю ожидающих вызова двух женщин, одураченных мошенницей «Мариной».
— Опознаете мошенницу?
— Да, — отвечают обе.
— Подежурьте с нашим сотрудником на железнодорожном вокзале. Можете?
Женщины просят позвонить домой и еще куда-то — своим родственникам. Согласовывают с ними свое отсутствие на целую ночь. Наконец сообщают:
— Одну ночь для общего дела подежурим.
Открывается дверь. В кабинет нерешительно, с опаской, входит высокий мужчина. Лицо мученическое, утомленное, под глазами фиолетовые впадины.
— Румбов Семен Яковлевич. Горе привело меня к вам. Много читаю об изобличении виновных. И решил не ждать. Сам пришел. Записывайте.
На трех листах составляю протокол явки с повинной. Две недели назад работники милиции обнаружили в кювете молодого парня. Он был без сознания. Кто приложился кулаком к нему? Преступление оставалось нераскрытым. И вот виновник передо мной.
— Все произошло в порядке самообороны, — еще раз поясняет Румбов. — Шапку он с меня снял. Ну, я догнал его и стукнул по затылку. Не думал, что налетчик такой хилый. Вижу — упал. Я — дай бог ноги. Что будет?
Через несколько минут в кабинет входит супружеская чета. Оба щеголи, одеты с иголочки.
— Пропала дочь, — произносит дама. — Найдите!
Берусь за карандаш, чтобы записать возраст, приметы пропавшей, но все тот же голос останавливает:
— Мы знаем, где она. Она вышла замуж. Неудачно. Он пьет. Хорошо бы его вам приструнить. Пусть знает, что мы шутить не станем.
С минуту недоуменно смотрю на них. Наконец объясняю, что следователь не может выступить в такой роли. Они, обиженные, уходят, сильно хлопнув дверью.
Меня вызывает прокурор с материалами на грабителя Киськова. К прокурору приводят и задержанного. В коридоре мать Киськова, старенькая, сгорбленная женщина, увидев сына, бросается ему на грудь.
— Ну, что расплакалась? — вдруг нежно произносит рецидивист. — Уймись. Все будет хорошо. Вот увидишь, в тюрьме я буду бригадиром.
Глаза старушки как будто бы даже повеселели. Она поверила шутке неисправимого отпрыска. Прокурор санкционирует арест грабителя. Его уводит конвой. Я возвращаюсь к себе и берусь за дело об автонаезде.
На допрос приходит сторож гаража колхоза «Восход» Кузьмичев.
— Что скажете о Белеве, когда он вернулся в тот вечер?
— Гараж сам тогда ему открывал. Въехал он на территорию со стороны свинофермы. Там разгорожено. Крыло машины было помято. Белев еле стоял на ногах. Заплетался язык. Проговорил только: «Втюрился». Я спросил: «Авария, что ли?» Махнул рукой: «Тюрьма, если дознаются: мотоцикл смахнул, убил кого-то. Ты уж молчи, Кузьмичев. Не осироти детвору». Ну, я и молчал. Да из ГАИ осмотрели вчера машину и все вылезло наружу. — Кузьмичев сильно волнуется.
Составляю протокол, даю подписать его сторожу. Звоню по телефону в госавтоинспекцию. Прошу на завтра доставить ко мне на повторный допрос Белева. Вина Белева, видимо, теперь без труда будет доказана. Поступит заключение экспертизы. Проведу очную ставку со сторожем. Да, пожалуй, и сам виновник не станет больше отпираться. Чистосердечное призвание в его пользу.
Закрываю сейфы, кабинет. Перед тем как уйти домой, спускаюсь со второго этажа на первый в дежурную комнату. К вечеру там чаще трезвонят телефоны, мигают на пульте связи сигнальные лампочки. Все подчинено одному: приему, обработке, передаче сообщений о кражах, хулиганствах, авариях, семейных скандалах, горестных происшествиях. Отсюда идут радиокоманды нарядам милиции, постам, которые охраняют покой и безопасность людей.
Дежурный, его помощник еще бодры, подвижны. Но к утру навалится на тело усталость, и, по себе знаю, будет казаться, что нет даже сил подняться с кресла.
Прощаюсь с дежурным, но не за руку. Это считается дурной приметой: поднимут ночью на расследование нового происшествия. Лишь говорю: «Удачи. Спокойного дежурства».
…Восемь часов вечера. Мой рабочий день кончается. Но знаю: и поздно ночью будут крутиться в голове обрывки разговоров с посетителями, а перед глазами стоять их лица, радостные и печальные, усталые и бодрые, простодушные и с хитрецой. И мне все будет казаться, что в беседах с ними я что-то забыл сказать, спросить.
За окном полуголые тополя. Последние уцелевшие листья сморщились, потемнели, свесились к земле, готовые упасть. Косо чертит квадрат окна мелкий въедливый дождь. Капли прилипают к стеклу, нехотя ползут вниз, точно просятся в теплую комнату.
Думают о том, как быстро промелькнули три десятка лет службы. Совсем не за горами тот день, когда в последний раз окину взором свой рабочий кабинет, задержусь у кустистого фикуса, полью его водой… От этой трогательной мысли сжимается тоскливо сердце.
За долгие годы службы в милиции мне довелось работать со многими людьми. На их плечах были погоны сержантов, лейтенантов, полковников и даже генералов. Но вне зависимости от этого они были надежными коллегами, товарищами, боевыми друзьями, которых объединяют одни заботы, тревоги, раздумья, одна готовность к самым опасным и неожиданным испытаниям.
1965—1969
«ТАЙНА» БУФЕТА
День стоял ноябрьский, пасмурный. Работать в кабинете можно было только при свете, но начальник следственного отдела полковник Белов не стал его включать. Он прошелся взад-вперед по ковровой дорожке, сел за стол, закурил. С флегматичным видом стал пускать кольца дыма: нужно было хорошенько обдумать все то, что услышал в кабинете начальника управления. Белов не мог не признать справедливости слов генерала по поводу дела заведующей буфетом Панфиловой, которая, судя по кипе поступивших анонимок, присваивает продукты, ворует.
По анонимкам подписывать постановление на возбуждение уголовного дела против Панфиловой Белов не хотел: если пойти навстречу фантазии анонимщиков, то можно несчетное число дел возбудить. Анонимки вроде бы вне закона.
— Но если так, — сказал генерал, — то нужно сдержать натиск анонимок, нужно тщательно расследовать все факты недостач в этом буфете. Отчего они происходят? Если Панфилова честно торгует, но каждый месяц ревизия вскрывает у нее нехватку товара, значит, к ней присосались паразиты. Защищать надо женщину. Разве Панфилова, мать троих детей, не заслуживает внимания? Покорись судьбе, — с легкой иронией продолжал генерал, по-приятельски положив руку на плечо Белову. — Возбуждай дело, наша задача не только наказывать, но и защищать обиженных.
— Знаю, товарищ генерал, — ответил Белов. — Но проверкой не установлены признаки растраты, налицо всего лишь недостача. Ежемесячная, на одну и ту же сумму — тридцать рублей.
Генерал подсел к Белову. Он досадовал, что приводимые им аргументы не производят на того впечатления.
— Разве мы можем быть безразличны к тому, что у Панфиловой, честно торгующей, как ты установил, пропадают продукты? Это не пустячное дело. Удивляюсь на этот раз твоему упорству. — Рослый генерал прошелся по своему огромному, как лекционный зал, кабинету. — Ты же двадцать лет неустанно разыскиваешь преступников. — И заключил: — Вот тебе мой приказ — защити Панфилову или установи, что она ворует. Не спускай материал, как говорят, на тормозах. Понял меня?
— Все я понимаю, — буркнул Белов.
— А раз понимаешь — действуй. Сам должен знать состояние этой женщины, если на нее вот такой поклеп возведен. К тому же она страдает материально. Зачем ей, вдове, ежемесячно покрывать из собственного кармана недостачу? Сама-то, чай, еле-еле концы с концами сводит. Поддайся искушению, — весело закончил генерал, — найди, кто ворует. Пошли на место своего самого лучшего сотрудника.
Все это, сидя за столом и листая в который раз бумаги, морщась как от оскомины, вспоминал полковник. Белов как-то сбросил со счетов возможного «паразита», как выразился генерал, присосавшегося к буфету Панфиловой. Поэтому сейчас ему было не по себе от той небрежной легкости, с которой он час назад докладывал генералу о буфетном деле.
Ему было стыдно и за то, что «зеленый» следователь Ландышева, только-только пришедшая после окончания юрфака в отдел, ей он поручил провести проверку анонимок, сумела легко убедить его, опытного в делах человека, прекратить расследование. Общеизвестными, даже можно сказать примитивными, аргументами она мотивировала свою позицию. Но Белов, изменив своей привычке вчитываться самому в каждую строчку, с легкостью, с какой стряхивают пепел с листа бумаги, махнул рукой: «Хорошо, я согласен».
Заглушая в сердце неприятные воспоминания, полковник поднялся навстречу вошедшему подполковнику Вихреву.
— Руслан Юрьевич, вот. — Белов двинул на край стола папку с материалами на Панфилову. — Тут надо…
Бывалому старшему следователю не нужно было объяснять, что к чему. Он быстро полистал бумаги и произнес:
— Будем возбуждать дело, Виктор Викторович?
— Вот именно. И проверь все обстоятельно. Ландышевой не удалось отыскать ахиллесову пяту. По совести говоря, и рано ей. Дело сложное. А для тебя это, что называется, семечки. — Белов улыбнулся.
— Спасибо за доверие, — так же весело ответил подполковник, — но вы же скажете: сейчас и ехать в эти самые Белые Озерки. А сегодня пятница. Значит, дома не оценят ваше исключительно положительное ко мне отношение.
— Жене от меня передай тысячу извинений. Скажи: обязательно дам тебе отгулы. И добавь: ты не такой, как все, ты — легендарная в народе личность, молодые следователи с благоговением смотрят на тебя. Итак, выписывай на неделю командировку — и в дорогу. Смотришь — и засверкает на твоей груди еще одна медаль.
— Ладно, товарищ полковник. Не за медали служим. Они…
— Сами находят героев? Так хотел сказать?
…Рыжеволосая, жилистая, сухопарая тридцатилетняя буфетчица Любовь Николаевна Панфилова, узнав, что по ее делу в поселок приехал следователь, сама прибежала поздно вечером к нему в гостиницу, не дожидаясь, когда он пожалует к ней. Начала рассказывать про недостачи, про горькую жизнь. Она смотрела на Вихрева глазами, в которых стояло какое-то жалкое выражение, пыталась в каждом его движении уловить самое важное для себя: понимает он ее или безучастен к вдовьим страданиям. Вихрев ничем не выдал своего отношения к делу Панфиловой, но долго и внимательно смотрел в заплаканное лицо женщины, в ее грустные глаза.
Утром Вихрев собирался побывать в торговом отделе райпотребсоюза, в самом буфете, а вечером заглянуть на квартиру Панфиловой. Легкая досада от того, что в субботний день он должен таскаться по чужому поселку, незаметно исчезла, уступив место другому чувству: желанию довести начатое дело до конца.
В беседе с вызванными в контору райпотребсоюза несколькими должностными лицами выяснилось, что Панфилова уже давно просила перевести ее из буфета столовой на кухню: она была отменной поварихой. Отчасти эта просьба была вызвана тем, что после гибели мужа Панфиловой хотелось уединения, покоя. Основная же причина была в том, что Ольга Косовотова, прежняя буфетчица, которую сменила Панфилова, бросала мстительные взгляды в ее сторону, распускала о ней небылицы, считала, что та подсидела ее, чтобы занять «теплое» место. Были и скандальные случаи: Косовотова встречала Панфилову на дороге и обвиняла ее на людях в том, что она ворует, но ее защищают начальники.
Вихрев предположил, что все анонимки скорее всего настрочила Косовотова и решил при встрече с этой взбалмошной женщиной взять необходимые для сличения образцы почерка.
Равнодушно взирали на враждебные действия Косовотовой руководители райпотребсоюза.
— Все недосуг вплотную заняться этими бабами, — сказал тучный заведующий торговым отделом Яков Сидоренко. — А про загадочные недостачи давно знаем. Многие Панфиловой сочувствуют, но некоторые не верят в ее честность: получали сигналы. Вот и разберитесь. Полагаю, что тут надо взяться за старика Пенчева. Нечист он на руку, хотя ему доверена охрана столовой. Кстати, он приходится дядькой прежней буфетчице Косовотовой.
Вихрев кинул быстрый взгляд на массивную фигуру Сидоренко, от которого несло перегаром, и подумал: ни чужое добро, ни зло такого не станут волновать.
— Может, и сама ворует, — продолжал Сидоренко. — Только какой смысл — самой и платить недостачи. Но заметьте: ежемесячные нехватки продуктов на одну и ту же сумму: три червонца. Можно и ревизии не делать, а высчитывать в конце месяца тридцатку из зарплаты Любки.
Квартира буфетчицы состояла из одной большой комнаты и кухни. Дешевая старомодная мебель, стертые половики. Все говорило о скромном бюджете хозяйки.
В квартире Панфиловой подполковник застал, к своему удивлению, родственницу враждующей стороны, старуху Пелагею Пенчеву, супругу сторожа и кочегара столовой Дмитрия Пенчева.
Старуха оказалась говорливой, ловкой. Чистила хозяйке картошку, помогала стирать, развешивать белье, хваталась за веник, едва увидев, что ребятишки Панфиловой намусорили. Люба даже не успевала отказаться от ее услуг.
— Разыщите грабителя, — бойко тараторила Пелагея, — может быть, во вред Косовотовой, но я, как родной, хочу добра Любке. Мальцам вон валенки бабенка купить не может. Люб, ставь-ка на стол угощение! Чайку с дороги… Холодцу? Нехитрое блюдо, но не прогневайтесь.
Вихрев почтительно отказался от угощения, сказал, что он гость поневоле, но все-таки выпил чашку домашнего кваса и приступил к уяснению некоторых непонятных вещей.
— Ну, допустим, — мягко, но решительно начал Вихрев, — кто-то ворует из буфета продукты. Но как он это может делать?
— По правде говоря, не знаю. Разве что подземный ход есть А так — на два замка запираю. Сами видели. Ключи не подберешь. А если подберешь — прорвешь контрольную бумажку. Я бы утром заметила.
Вихрев нечаянно во время разговора с буфетчицей поднял глаза на старуху, протиравшую окна. Он не мог не заметить что она делала свою работу машинально и очень внимательно и серьезно ждала ответа Панфиловой. Складки прорезали ее лоб, а взор маленьких, прищуренных глаз становился то тревожным, то довольным. Но какое-то замешательство выразилось на лице Пенчевой, когда Панфилова вывалила на стол из книги горсть заранее заготовленных контрольных бумажек величиной с этикетку спичечного коробка. По диагонали на клочках бумаги стояла подпись Панфиловой.
— Что за необходимость такой запас делать? — деликатно спросил подполковник. — Ведь их на полгода хватит.
Панфилова смущенно пояснила:
— Гавриловна мне листы принесла, я и нарезала.
— Да уж чтоб никто не подделал, — вспыхнула краской старуха и яростно заработала по стеклу тряпкой. Шестым чувством, именуемым интуицией, Вихрев неожиданно понял: в этих клочках бумаги и в том, что Панфилову усердно посещает жена сторожа, кроется отгадка преступления.
А бабку на окне точно подкосило. Она обеими руками схватилась за подоконник.
— Забываю, что не молодая. Проворность до обморока чуть не довела, — сказала Пенчева, приникнув лбом к холодному подоконнику.
Старуха выпила стакан воды, почувствовала себя лучше и почему-то резко сказала:
— Что тут болтать про кражу? Знаете, чай, муженек мой охраняет столовую. Неужто не заметил бы вора? Поймал бы если что… Да и дырки были бы в бумажках.
…Маясь вечером от скуки в номере гостиницы, Руслан Юрьевич с величайшей досадой думал о какой-то непонятной любви старухи к семье Панфиловой. Утомленный рабочим днем, он улегся в свежую постель и вскоре заснул. Но спалось на новом месте неважно, ему снились то краснощекий и пьяный завторгом Сидоренко, то сама Панфилова явилась к нему и стала просить умоляющим взглядом побыстрее найти вора, а под утро в каком-то неясном виде представился старик Пенчев.
В воскресенье с утра Вихрев, позавтракав в гостиничном буфете, решил заняться сторожем. Тот словно угадал его мысли. Когда Вихрев прохаживался около конторы райпотребсоюза, к нему подошел маленького росточка, довольно пожилой человек и, подав руку, отрекомендовался:
— Пенчев буду. Речь пойдет об ней, Панфилихе.
Часа два беседовал Вихрев со сторожем. «Где я мог видеть его?» — спрашивал себя Руслан Юрьевич и только к концу встречи вспомнил. Чтобы проверить себя, спросил как бы между прочим:
— Не скажете, где мы с вами встречались?
— Ей-богу, не припоминаю, — ответил сторож и переменил тему: — Панфилова — любопытная баба. Неграмотная. Видно, счет ее подводит. Нечестности с ее стороны нет.
— А чем же она любопытная? Вы-то сами понимаете это слово?
Старик оскорбился.
— Вы что ж, считаете, одним городским можно щеголять хорошими речами? — И присовокупил: — Скупая у нее душа. А выходит, теряет больше. Шла бы из буфета. Что тянуться за буфетной стойкой, раз образования маловато. Вот тем и любопытная, что в интеллигенцию норовит прописаться. А племянница моя, Косовотова, замечу между прочим, имеет полное среднее образование. И ни за что ни про что сняли с работы. А тут целый год недостачи у Панфилихи — и держат.
— Нет, мы с вами-таки где-то встречались, — прощаясь, еще раз сказал старику Вихрев.
Подполковник вспомнил, как лет восемь назад привлекались к уголовной ответственности расхитители зерна с районного элеватора. Среди них был и Пенчев. Он отделался тогда легким наказанием, потому как главная вина пала на других.
Но сейчас Вихрев не проявит оплошности. «Надо только не поспать эту ночку», — решил Вихрев, обдумывая операцию.
По подсчетам, ему нужно было восемь помощников.
— Работа предстоит ночная, интересная, — сказал подполковник начальнику районного отдела милиции Бессонову.
Тот понимающе кивнул.
Поздним теплым вечером Вихрев сам расставил сотрудников милиции по постам.
За лето подполковник, стыдно признаться, ни разу не смог сходить в лес. А тут, попав в него золотой осенью, стоял на опушке леса, подступающей к окраине райцентра метрах в ста от столовой, и как завороженный втягивал лесной аромат.
— Какая свежесть, не могу надышаться! — мечтательно произнес Вихрев, обращаясь к стоящему рядом подполковнику Бессонову.
— Слишком не увлекайся, — весело сказал начальник райотдела, — в лес надо ходить по воскресеньям.
— Вот я и пришел. Сегодня — воскресенье. Все правильно.
Оба негромко засмеялись.
Над головой у самых верхушек сосен висели рыхлые тучи. Накрапывал дождь. К утру совсем похолодало. Вместо дождя посыпалась снежная крупа. Вихрев упросил идти домой Бессонова, а сам стал подумывать, не снять ли посты, чтобы не простудить своих помощников. Но тут в окне столовой заморгал условный огонек участкового инспектора Корнеева, у которого пост был самый благоустроенный и теплый — внутри помещения. И хотя всю ночь прождал этого заветного огонька подполковник, он показался неожиданным и ошеломляющим.
Все сотрудники бросились к столовой на условный сигнал. Он означал: вор почти пойман, он в заветном буфете. Но как он попал в столовую, если входные двери заперты на замки, а та, что ведет в кочегарку, закрыта изнутри на крючок?
Впрочем, на эти вопросы не так сложно оказалось ответить. Вором, как и предполагал Вихрев, был сторож, он же кочегар дед Пенчев.
Прижатый в угол с кругами колбасы, пивом за пазухой и в руках, он ощерился, как бешеная собака, загнанная в клетку. Из-под грязной фуражки выбились седые волосы. Пенчев зло сверкал глазами по сторонам, искал подполковника. Он понял, кто ему подстроил западню.
Из кармана старика изъяли поддельные ключи к замкам буфета и несколько клочков бумаги с подписью Панфиловой. Ими обеспечивала Пенчева его старуха, втершись в доверие к одинокой женщине.
Полковнику Белову Вихрев доложил из гостиницы по телефону:
— Воришка пойман. Буфетчица тут ни при чем. За ее счет жил сторож Пенчев со своей старухой. Недурно устроились. Каждый месяц на тридцатку воровали, а заодно и выживали буфетчицу. Расчищали место для Косовотовой.
— Ну вот, видишь, милиция не только обвиняет, но и защищает, — крикнул в трубку издалека Белов. — Ты у меня палочка-выручалочка. Не знаю, что буду делать без тебя. Иду докладывать генералу. Или, может быть, тебя подождать с подробностями?
— Давайте, Виктор Викторович, без подробностей. Скажите, что глаза Панфиловой полны слез от радости. Генерал всю жизнь работает за такие благодарности и нас научил. А жене позвоните: к концу дня приеду.
1972—1973
ТРУДНЫЙ РОЗЫСК

1
Много людей пройдет перед следователем, прежде чем он поставит точку в уголовном деле. И все разные, непохожие друг на друга. Одни уйдут из кабинета, и как будто их не было. Другие надолго запомнятся, иногда на всю жизнь. Едва вспомнишь одну-две детали из встреч с такими людьми, и память услужливо воскресит многие события.
Почти все следователи любят дела бойкие, так называемые событийные, те, что регистрируются по линии уголовного розыска. Поэтому я не очень обрадовался, когда однажды утром, переступив порог кабинета своего начальника, получил задание расследовать скучное уголовное дело из сферы отдела борьбы с хищениями социалистической собственности. Подсчетами рублей и копеек, ревизиями, квитанциями и накладными, считал я тогда, должен заниматься не следователь, а бухгалтер.
Полковник Белов угадал мое минорное настроение и на кислую мину рассудительно заметил:
— Экий вы народ горячий и непоседливый. Возьми-ка сначала материал да вникни в него. Полагаю, интересное дело получится. Будет в нем тебе и романтика, и динамика, и событийность. Еще не известно, по какой линии закончишь его. Сдается мне, что действующие лица этого материала занимаются не только должностными преступлениями, но и кое-чем еще… Впрочем, не стану предрекать, сам разберешься. Одним словом, дерзай!
Началось все с листа ученической тетради в клетку. Фиолетовыми чернилами неровным почерком на нем было написано:
«Приглядитесь к нашему райтопсбыту. Уголь, торф и дрова там расхищаются должностными лицами. А все дело в накладных. На них обратите внимание».
Я отправился по указанному адресу. Райтопсбыт по числу рабочих — организация небольшая, управленческого аппарата всего несколько человек. Небольшую комнату в конторе занимают учетчик Белидзе, бухгалтер Вольтов и кассир Редискина. По территории склада постоянно мотается его заведующий, попросту говоря, кладовщик Маркин. Заведует всем хозяйством директор Ранцев.
Пять человек — вся контора. Работают вместе не один год. Новичок среди них Антий Белидзе, в недавнем прошлом — судимый. Когда я попросил его рассказать, за что он раньше привлекался к уголовной ответственности, Антий постарался представить дело так, будто оказался жертвой мошенников, занимавшихся воровством кровельного железа. Он верил людям, помогал перевозить и продавать листовую сталь, думая, что все происходит на законном основании, а они оказались проходимцами, об этом он узнал уже во время следствия. Теперь Белидзе, с его слов, настолько прочувствовал и понял, как запросто можно «влипнуть» в грязную историю, что на всю жизнь зарекся иметь дело с какими бы то ни было подозрительными личностями.
Белидзе можно было бы отнести к числу, если можно так выразиться, благонадежных, если бы не одно «но». В беседах с работниками конторы выяснилась такая деталь: заведующий складом Маркин, однажды придя на работу во хмелю, заплетающимся языком стал выкрикивать то, что, видимо, не давало ему покоя: «Если меня посадят, я их тоже всех пересажаю…»
Он намекал на свое окружение, на сослуживцев по складу.
Не входит ли Белидзе в число тех, кого имел в виду Маркин? Ведь Антий его первый помощник.
2
Вскоре в поселок, где я вел расследование, прибыл мой коллега Руслан Юрьевич Вихрев. Обликом, характером являл он полную противоположность своей фамилии. Был высок, худощав, физически очень сильный, представлял собой образец спокойствия, не охотник до многословия, говорил коротко, лаконично.
В то же время оправдывал свою фамилию тем, что никогда не унывал, был решителен, упорен в сборе доказательств по уголовным делам. Он умел довести до логического конца самые замысловатые происшествия. Начальство, конечно, было довольно его работой и не скупилось на благодарности. Любили его и мы, товарищи, прежде всего за то, что он всегда в трудную минуту приходил на помощь любому из нас.
Раньше Вихрев любил поострить, присочинить историю. Теперь, с годами, стал серьезным, степенным. К нему пришли опыт, знания, уважения, авторитет.
На погонах он уже носил две большие звездочки, а не одну, как я.
Признаюсь, мне давно Вихрев нравился, я старался во многом ему подражать. Хотелось так же, как он, прекрасно владеть следственным мастерством и быть своим коллегам надежным соратником. Я давно с ним дружил.
Руслана Юрьевича Вихрева с приятной неожиданностью я увидел в холле второго этажа гостиницы. Поздоровавшись, он жестом руки пригласил меня сесть, затем сухо сказал:
— Футбол в девятнадцать часов. Приходи смотреть телевизор, товарищ майор.
— Как ты сюда попал? — улыбнулся я.
— Тем же путем, что и ты, — отшутился он.
Чуть позже, когда я, умывшись и переодевшись, подсел к нему, Руслан Юрьевич сказал:
— Грабители завелись в этих местах. Очищают один за другим соседние с поселком сельские магазины и остаются неуловимыми.
Я не сомневался, что Руслана Юрьевича на пустяковое дело начальство не пошлет.
— Каков же метод налетчиков? — поинтересовался я у Вихрева.
— Самый обычный. Заявляются в какую-нибудь ближайшую деревню ночью. Взламывают дверные запоры. Орудий взлома не оставляют. Действуют наверняка. Налетом очищают прилавки и уматывают.
— Отпечатки?..
— Найти не удается. Следы заливают одеколоном. Сегодня весь день, тщательно изучал места происшествий. Одна деталь привлекает внимание: кражи совершаются из сельских магазинов, расположенных у реки.
— Вывод? — подражая Вихреву, задавал я вопросы из одного слова.
— Похоже, что преступники обеспечены водным транспортом, обитают в этом поселке. Поэтому я и приехал сюда.
— Поработаем, товарищ подполковник?!
— Как водится, — невозмутимо ответил Вихрев.
3
С утра Вихрев занимался своим делом, а я отправился побеседовать с директором топсбыта.
Сергей Михайлович Ранцев отвечал на вопросы охотно. Давал характеристики каждому сотруднику. Антий Белидзе — работник неплохой. Старательный. Маркин любит выпить, но, в общем, человек надежный в труде. Редискина халатна в работе. Бухгалтер Вольтов не весь отдается службе, трудится «от» и «до». Характеристикой же самому Ранцеву служило то, что он вот уже десять лет состоит в этой руководящей должности. Имеет благодарности. Не на худом счету у своего начальства.
После беседы с Ранцевым у меня осталось впечатление, что о хищениях в топсбыте он может и ничего не знать. Вышло так, что я ему как бы открыл глаза на то, что некоторые работники конторы менее чем за два года приобрели по автомашине, построили новые дома, обзавелись отличной мебелью. «Трудно представить себе, что они могли сэкономить так много, получая весьма скромную зарплату», — заметил я. Ранцев залился краской и заерзал на стуле. Не проронил ни слова. Он и сам сделал много дорогостоящих приобретений, что было доподлинно известно. Но, наверное, мог бы отчитаться, коснись я этого вопроса.
Я приступил к допросу сотрудников конторы. Показания Белидзе и Маркина не представляли интереса. Но вот тревожная информация бухгалтера Вольтова давала пищу для размышлений. После летних месячных курсов он вернулся в контору и обнаружил ящик письменного стола взломанным. Вольтов категорически заявил, что недосчитался нескольких десятков бланков непронумерованных накладных на отпуск топлива. Доложил руководству. Виновные взлома стола так и не были установлены. Впрочем, директор Ранцев, со слов Вольтова, не придал особого значения этому происшествию.
4
Через три дня я увидел Вихрева.
— Куда ты запропастился?
— Дела, брат, дела, — нахмурился Руслан Юрьевич. — Выезжал в село Евдоколье. Очередная дерзкая кража из универмага. Преступники не изменили своим привычкам: опять взлом дверных запоров и похищение в основном выручки, ценных необъемных вещей.
— Осмотр ничего не дал?
— Почти. Хотя есть зацепочка. На стеклянной банке обнаружили отпечаток пальца.
— Когда это случилось?
— Два дня назад. Под утро. Надо присмотреться к мужичкам райцентра. Воры наверняка отсюда. Кто-то должен обмывать удачу.
— Могу тебе, кажется, помочь, — ответил я. — Вчера и сегодня не вышел на работу учетчик Белидзе. В прошлом судимый. Кстати, имеет лодку. Моторную.
— Транспорт на колесах есть?
— «Москвич».
Вихрев задумался.
— Белидзе, Белидзе — знакомая фамилия. Мною установлено, что не выходил на работу и баянист Дома культуры Иван Король, тоже в прошлом судимый. Есть данные, что он пьянствовал именно с «твоим» Белидзе. Однако как дела наши объединяются. Впрочем, наш начальник почему-то предвидел это.
5
На следующий день я допросил Белидзе, а Вихрев — баяниста Дома культуры. Нас интересовал вопрос, где они провели ночь, когда была совершена кража из магазина села Евдоколье. Оба дали путаные показания. А когда отпечаток пальца Антия сошелся с отпечатком, изъятым в магазине со стеклянной банки, я произвел обыск у Белидзе, а Вихрев — у Короля. В ванной комнате Белидзе за трубой канализации лежали хрустящие червонцы — три тысячи триста рублей, а у Короля в носке дырявого сапога «прижались» две тысячи. Это была именно та сумма, которую захватили налетчики в универмаге.
Продавщицы, три молоденькие девушки, только-только окончившие торговые училища, неопытные, расстроенные, признались:
— Поленились сдать выручку. Но ведь спрятали так, что сами могли не найти, под мешками. А эти бандиты отыскали. Все вверх дном перевернули. Еще похитили трое золотых часов…
У нас с Вихревым были теперь все основания предположить, что взятые под стражу Белидзе и Король участвовали в кражах из других магазинов и у них есть сообщники. Их стал выявлять Вихрев.
6
Я продолжал заниматься своим делом в топсбыте. Оно постепенно прояснялось. Похищенные бланки накладных могли использоваться для фиктивного оформления топлива покупателям. Их можно было заполнять для вида на глазах у покупателей, затем рвать, а полученные деньги класть себе в карман. Но для такого хищения необходимо почти всех сотрудников конторы вовлечь в преступные махинации. Без кассира Редискиной обойтись нельзя — покупатели отдают ей деньги по накладным Белидзе. Один экземпляр такой накладной идет кладовщику Маркину. Тот прикладывает документы к отчету для списания со склада топлива: угля, дров, торфа. Предусмотрительные преступники в таких случаях обычно создают излишки на складе, базе, а затем их реализуют по «липовым» документам. Деньги, естественно, присваивают. Следовательно, Маркин вполне мог быть причастен к хищениям.
Трудно сказать, сколько бы времени мы потратили на выяснение этого, если бы не произошла встреча с учителем местной школы Василием Васильевичем Нечаевым.
Узнав, что ведется расследование, он принес сохранившуюся накладную топсбыта на сорок четыре тонны угля стоимостью 680 рублей. Выяснилось, что в райтопе двух других экземпляров накладной не оказалось ни в отчетах Маркина, ни в кассе бухгалтера. Деньги в кассу не поступали.
Итак, первый криминал установлен: 680 рублей, уплаченных Нечаевым, присвоены. Похищены.
— Есть ли смысл преступной группе брать к себе в компанию соучастницей Редискину? — выслушав меня, спросил Вихрев. — Если бы она оказалась заодно с ними, то расхитителям вообще не нужны были бы никакие бланки, отправляли бы покупателей топлива с клочком бумаги. Хотя, впрочем, видимость законности нужна и для приобретения топлива…
— Редискина, — заметил я, — находится в дружеских отношениях с бухгалтером Вольтовым. Знала, в каком ящике стола лежали бланки. Редискина представляет интерес для следствия.
— Ну, пусть так, — согласился флегматично Вихрев. — Теперь послушай меня. Собутыльником Короля и Белидзе, по свидетельским показаниям, вырисовывается Кулешов, рабочий мебельной фабрики. Тоже судимый. На допросе отрекается от дружков. Говорит: «Только здоровались, и то под настроение». А у меня есть данные иные. Вот я и осмотрел одежду Кулешова. На пиджаке отыскал розовую краску — именно такой, как подтвердил наш эксперт, была выкрашена накануне кражи часть прилавка в магазине села Евдоколье. Вызвал Кулешова в райотдел милиции повторно.
Держится уверенно. Входит в кабинет этакой морской размашистой походочкой. На лице — ухмылка. Приглашаю его сесть, уточняю:
— Когда, где и при каких обстоятельствах запачкали одежду?
Вальяжно балагурит:
— Убей громом, не помню. Замети меня метелью, не лгу.
Пришлось пойти на крайнюю меру: задержал его. Утром выводят из камеры потемневшего, хмурого, со лба не сходит глубокая морщина. Обменялись несколькими малозначительными фразами. Смотрю на него, молчу. Жду.
— Чистосердечное признание желаете? — спрашивает.
— Конечно. И поподробнее. Никого не выгораживайте.
Кулешов закуривает, плотнее садится в кресло, теребит лохматую шевелюру. Гонора как не бывало. Он скороговоркой рассказал, как вместе с Белидзе и Королем ограбили универмаг в Евдоколье. Признал за собой кражи в поселке Степино и в селе Ларово. Заверил, что шайка состояла только из названных трех человек. Больше никто не причастен, и искать бесполезно. Торопит меня. Хочет, как можно скорее предстать перед судом. Понести кару за три магазинных взлома. По-детски даже прослезился.
— Ты ему веришь? — спросил я у Вихрева.
— Нет.
— Три дня уже под стражей Белидзе.
— Да это так. Показания их ты знаешь. Белидзе и Король начисто отмежевываются от Кулешова. Твердят, что обокрали только универмаг в Евдоколье. Устроил им очные ставки с Кулешовым. И только после них признались в трех кражах, о которых рассказал Кулешов. А вчера все трое признались и в краже из почтового отделения села Севское. Там похитили, кроме денег, револьвер системы «Наган» с семью боевыми патронами.
— И оружие сдали?!
— Увы! Наган нужно искать. Его якобы потеряли.
— Врут?
— Конечно.
7
Утром я предъявил Белидзе для ознакомления материалы графической экспертизы по накладным райтопсбыта. Но он продолжал твердить, что ни в чем не виноват. Досадовал:
— Вы все на меня валите. Ну, влип, попался с магазином, втянули дружки. А насчет топлива моя совесть чиста. Упрекают меня покупками? Да, приобрел машину. Ну, построил дом. Так у меня бабуся богу душу отдала, а мне чулок с кредитками оставила. Больше десяти тысчонок. С обворованных магазинов кое-что перепало. Вот и обживался. Нечаев, говорите, меня уличает? Я даже помню, когда он покупал у нас для школы уголь. Мною заполнялись три экземпляра накладных. Два вручили Нечаеву. Он пошел платить деньги Редискиной. Третий экземпляр накладной, как и положено, передал Маркину.
Как случилось, что двух экземпляров накладной (от кассира и от кладовщика) нет в бухгалтерии, он понятия не имеет. Почему 680 рублей не оприходованы, Белидзе объяснить не мог.
Редискина на допросе решительно заявила:
— Никакого Нечаева я в глаза не видела. Если бы от него деньги принимала, то они были бы в кассе. — И добавила: — С утра до вечера сижу в конторе. Контролирую, как положено, отпуск топлива. Хищений быть не может. Впрочем, если были, то без моего участия.
Да, вполне возможно, Маркин отпускал иногда топливо со склада без накладных, а денежки присваивал. Чтобы пьянствовать, их надо иметь и дармовые. В накладной Нечаева, согласно экспертизе да и по показаниям самого кладовщика, стоит его подпись. Правда, не подтверждаются его слова, что два экземпляра накладной он отправил в бухгалтерию. Деньги от Нечаева в кассу не поступали.
Неужели водит за нос и главный бухгалтер Вольтов? Однако проверка документов Маркина опровергла эту мысль. В реестре, написанном рукой кладовщика, накладная Нечаева не значилась.
Впрочем, Маркин не сдается:
— Одна накладная могла быть и пропущена из-за спешки. Это ни о чем не говорит. Единичный случай. Вы установите систему. Повторяю, накладную Нечаева, помню, я сдавал в бухгалтерию с отчетом.
8
Через день ко мне поступили новые интересные данные на Белидзе. На запрос в колонию о том, на каком основании тот был освобожден досрочно, пришел ответ:
«Ходатайство об освобождении Белидзе условно-досрочно поступило от директора райтопсбыта Ранцева. В письме заверялось, что Белидзе будет предоставлена должность учетчика».
Сама по себе бумага не вызвала удивления, если бы Ранцев не твердил на допросах, что Белидзе он раньше не знал, трудоустроить его предложили исполком райсовета и еще какие-то общественные организации.
Больше того, стало известно, что незадолго до прихода Белидзе на место учетчика собирались принять кого-то, но в один прекрасный день Ранцев, ссылаясь на «вышестоящих», неожиданно заявил: «Никого брать не будем, пришлют из райисполкома».
Жена Белидзе рассказывала: «Ранцев в первый же день по прибытии мужа из колонии пришел к нам в гости…»
Впрочем, очень скоро стало известно, что Ранцева, Белидзе, Маркина часто видели вместе не только на работе. Иногда с ними был высокий смуглый мужчина в светло-коричневом костюме из чесучи. Вчетвером выезжали на природу в машине Белидзе. Я стал наводить справки, интересоваться «четвертым» и установил его личность. Это был завхоз соседней сельской больницы Румынский. Кстати, в прошлом судимый за разбойное нападение на сторожку лесника.
Меня продолжал волновать вопрос: какое отношение к преступлению имеет кассир Редискина? Изучил ее распорядок дня. Подозрительной представлялась, по показаниям кассира, такая деталь. Каждый день, ровно в 12 часов, Ранцев провожал Редискину в Госбанк. У дверей банка он говорил:
— Можешь пообедать дома. Управимся без тебя. Попридержим покупателей до твоего возвращения.
Выходило, что Ранцев, Маркин и Белидзе один рабочий час оставались без кассира. Могли отпускать топливо и прикарманивать денежки. Возникла уверенность, что у населения на руках много липовых накладных. Их нужно найти, собрать и приобщить к делу. Переговорив с начальником райотдела милиции, я попросил выделить мне пятнадцать энергичных дружинников, которым дал соответствующее задание. Они приступили к повторному обходу многих прилегающих деревень. А я выступил с сообщением по радио. Мы разыскивали тех, кто в течение двух лет приобретал топливо.
Наши поиски увенчались успехом. Каждый день приносил результаты. И вот в руках следствия двадцать шесть, тридцать восемь, сорок девять липовых, неучтенных накладных. Бланки были похищены из стола бухгалтера Вольтова.
9
Инвентаризация материальных ценностей выявила крупные излишки топлива на складе. Снова допрашиваю Маркина, а потом Белидзе. Показываю им целую стопку фиктивных накладных. Маркин изворачивается.
— Мое дело отпускать. Документы выписывает Белидзе, деньги принимает Редискина. Она же должна расписываться в их получении, хотя в накладных, вижу, подписи стоят не понятно чьи. Загогулины не мои.
Но покупатели говорят, что деньги платили не женщине, а мужчине. Что на это скажет Маркин? Чьи же в накладных каракули?
— Проведите опознание, и люди скажут, кому платили.
Почему же так смело ведет себя на следствии Маркин? Оказалось потому, что деньги брал с покупателей Белидзе. Установлено это было опознанием.
Белидзе твердил:
— Да, получал от граждан деньги. Было. Но их вместе с копиями накладных сдавал в кассу Редискиной.
Лишь изобличенный Редискиной, очными ставками, всеми материалами дела, он вынужден был сознаться:
— Да, брал и пропивал деньги. Семь бед — один ответ. Прибыль делил с Маркиным.
— А Ранцев?
— Он ни при чем. Знал ли Ранцев о хищениях? Не могу сказать. Неучтенные накладные передал мне Маркин. Где взял? Не уточнял, ни к чему. С Маркиным ухо держал востро. Имеет силу. Он — дружок Васьки Румынского. А тот шутить не любит. Раз пять судимый. Он-то, собственно, и подсказал, как на складе накопить излишки и как распорядиться ими.
— А излишки откуда? Неполный вес получателям отпускали?
— Маркин скажет. С ним занимайтесь.
Еще раз копаюсь в документах вместе с бухгалтером-экспертом, и он мне подсказывает:
— По отчетам Маркина значится, что склад должен Сусловской больнице сотню тонн угля. А что если выехать и проверить?
Направился туда. Директорбольницы говорит:
— Спасибо, спасибо за уголек. Но мы все перевезли. Даже благодарность за оперативность объявили Василию Романовичу.
— Василию Романовичу? Это кто? — спрашиваю у директора.
Он удивлен моей неосведомленностью:
— Как кто? Завхоз Румынский. Вон он.
Румынский стоял невдалеке, давал какое-то указание больничному шоферу. Высокий, крепкий, пропитан солнцем, в светло-коричневом чесучовом костюме.
10
А в это время подполковник Вихрев изобличал группу грабителей магазинов. Показания Короля и Кулешова, которые под напором неопровержимых улик признали за собой уже шесть ограблений (на три последних из них Белидзе брал с собой наган), капитан милиции записал на пленку. Ее он дал послушать на допросе Антию Белидзе. С магнитной пленки Антий услышал голоса соучастников, изобличавших его.
— Вот дают! Все на меня валят, — от ярости и негодования Антий даже привстал. — Хорошо, я тоже знаю, что такое пункт девятый статьи тридцать восьмой Уголовного кодекса. Выключайте магнитофон. Дальше сам отчитаюсь.
И Белидзе собственноручно все изложил:
«Перед выездом на грабежи, — писал он, — один приятель Румынского на заводе изготовлял два-три металлических ломика, которыми мы ломали дверные запоры. Ломики затем бросали в реку или на платформы проходящих товарняков. Уходили все из дома под видом рыболовов, встречались в кустах. На моей моторной лодке или лодке Короля подплывали к выбранному населенному пункту. Взламывали в перчатках. Согласно установке Румынского брали только деньги, часы, а также водку, чтобы обмыть удачу. Револьвер хранится у шефа — Василия Румынского, по тюремному прозвищу Бином-ньютона. Сидел я с ним в колонии и знаю, на что он способен. Любимая поговорка шефа: «Сотру в бином Ньютона». Сам-то он не знает никаких ньютонов, да, видно, понравилось когда-то услышанное словечко…»
Допрашивали мы Румынского с Русланом Юрьевичем Вихревым. Наши дела в этой точке сошлись, натолкнулись на одного организатора по его и по моему расследованию.
Я не видел еще таких артистов, как Василий Румынский. Едва мы успели сказать, по какому поводу вызвали его на допрос, как увидели перед собой взъяренного несправедливостью, оговором человека.
— Я так дело не оставлю, — кипятился Румынский. — Вы что, не понимаете: эти прохвосты хотят меня опорочить! Я имею за год работы восемь благодарностей, почетную грамоту, а вы верите каким-то ворам.
Обыск у Румынского никаких результатов не дал. Однако оперативная группа продолжала искать револьвер с помощью миноискателя во дворе его усадьбы. И наконец аппарат «заговорил». Револьвер и патроны, завернутые в целлофан, и «трофеи» из магазинов: золотые часы, зажигалки, крупная сумма денег.
Теперь разыгрывать оскорбленного Румынскому было наивно… Он тоже склонился над протоколами допроса и стал запоздало раскаиваться. Тут же его арестовали.
Вскоре и Маркина взяли под стражу. Оказалось, что и он участвовал в кражах. Нашли в его тайниках ворованную обувь, костюмы, золотые изделия.
11
Настало время браться за директора райтопсбыта. Произвели обыск в его кабинете. В столе среди множества бумаг нашли неопровержимое доказательство участия Ранцева в хищении: один экземпляр потертой накладной на сумму 260 рублей с его подписью. Из нее было видно, что топливо потребителю отпущено. Но в кассу бухгалтерии эта сумма денег не поступала.
Уронив лысую голову, Ранцев с горечью признавался:
— Занял у Румынского такую сумму. Тот вскоре затребовал долг. Где взять денег? Дома ни копейки — мебель купили. Вот и попутал бес…
А Румынский не стал больше притворяться, цинично изрек на последнем допросе:
— Пожили на славу, гражданин следователь. Только Ранцев дурак и размазня. Руководил-то райтопом фактически я.
Все виновные получили по заслугам. Ранцеву тоже пришлось предъявить обвинение в хищении государственных материальных ценностей, взять под стражу.
Вот и вышло по народной поговорке: сколько веревочка ни вьется, конец найдется. Что и говорить, руководитель только тогда имеет право стоять во главе трудового коллектива, когда сам кристально честен и неподкупен.
Следствие закончено. Обвинительное заключение подшито. Гора томов возвышается на столе. Мы с Русланом Юрьевичем Вихревым можем наконец-то облегченно вздохнуть: денек-другой выйдет передышка, прежде чем нам поручат новое дело с новыми вопросительными знаками.
1979—1981
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ
Говорят, что самое таинственное в человеке — зарождение любви. И все-таки появление страсти где-то закономерно. Куда более загадочно возникновение предчувствия.
Какой мудрец возьмется объяснить причину возникшего вдруг чувства ожидания беды? Где взять формулу, по которой можно вычислить, за какое время до бедствия приходит к человеку тревожное состояние, беспокойные мысли?
Извечный вопрос: почему предчувствия нередко сбываются? После них частенько случаются малые неприятности и большие удары судьбы.
Вот и сейчас Оксана вышла на крыльцо провожать жениха, переполненная тоской и отчаянием. Недобрые предчувствия, неожиданно вспыхнувшие, томили ее весь вечер.
В районном поселке уже третий месяц девушка жила на квартире у бабушки Поли. Сюда ее направили после окончания института.
Суженый Оксаны — Михаил недавно возвратился из Афганистана, работал в уголовном розыске, из областного центра наведывался к невесте. Скорая свадьба у них считалась как решенное дело.
Ему шел двадцать второй год. Носил он невзрачный, добротный пиджак, рубашку без галстука, джинсы, немодные кроссовки. Но это не мешало невольно обращать на него внимание не только девушек.
В Михаиле под неброской одеждой чувствовался основательный молодой человек, угадывался спортсмен: широкие плечи, волевое лицо, уверенная походка.
Под стать ему была и Оксана: фигурка тонкая, женственная, взгляд внимательный, доброжелательный к людям, крупные серые глаза, пышные блестящие волосы. Все это всегда было причиной тому, что случайные парни искали с ней знакомства, а те, с кем она училась в институте, встреч и дружбы.
Но она со школьной скамьи любила ловкого и веселого, с ленцой, как все ребята, к наукам, Мишку-Медведя. Он мог так сильно, ловко и нежно обнять, что казалось вот-вот и перехватит дух. Всех своих поклонников девушка предпочитала ему еще и потому, что он был очень бережен по отношению к ней, своей невесте.
Но сегодня она, от какого-то страха дрожа, разрешила сама Мише сесть на ее кровать и вдруг крепко обняла его за шею и стала неудержимо целовать Мишины глаза, губы, щеки, а слезы у самой лились градом.
Бабушка Поля крикнула из своей комнаты:
— Миша, ты бы рассказал что-нибудь про службу в Афганистане.
— Ничего особенного, бабуш, там не было.
— Он очень скромный, бабушка, — наигранно оживленно и бойко заявила Оксана. — Я расскажу, за что он получил орден Красной Звезды. Дело было так, — Мишка-Медведь с двумя своими товарищами горами возвращался с задания в свою часть. Их заметили душманы, конечно, захотели взять в плен. Окружили, загнали в ущелье. Закричали: «Русь, сдавайся! Москау капут!» Тогда Миша стал карабкаться почти по отвесной стене. Ему помогали товарищи. Через пять минут он оказался за спинами у бандитов. Оставалось разрядить свой автомат, что он и сделал. Михаил дюжину уложил душманов. Остальные в панике разбежались. Одного удалось взять в плен и доставить в часть. Так?
— Почти. Только один бы я там ничего не сделал…
— Да и ноне он выбрал работу — не сахар, — заключила бабушка.
— Я сам думал, — отозвался успокаивающе Миша, — что в милиции все время происходят сплошные происшествия, ночные засады, погони, сражения. Ничего подобного. И хочется чего-нибудь такого, да нет.
Все еще с тягостными мыслями в ожидании неприятности, предчувствия удручающего одиночества, Оксана на крыльце крепко обняла Михаила и улыбнулась ему через силу в темноте.
— Береги и ты себя, — ответил понимающе молодой человек и с той же признательностью заглянул в глаза невесте.
Шел первый час ночи. Он успевал к последней электричке. Лишь звезды летнего неба освещали притихший поселок. Громыхнет вдали поезд, залает собака — и снова тишина. Лишь гулко раздаются торопливые шаги окрыленного счастьем Михаила. Дышалось легко воздухом, напоенным ароматом садов и трав.
Когда Михаил спустился к центральной улице, ведущей на вокзал, то невольно стал свидетелем такой картины. По асфальтированной дороге, на большой скорости с дальним светом, грохоча кузовом, мчался грузовик. Два постовых сотрудника ГАИ жезлом давали команду ему остановиться.
В кабине мог сидеть пьяный водитель, и Михаил подумал, что машина вряд ли послушается. Однако самосвал покорно заскрипел тормозами. В кабине сидели трое настороженных, с отекшими пропитыми лицами мужчин.
Повинуясь неведомому зову, Михаил затаился у темной стены дома. Внутренний голос как бы говорил ему, что в грузовике гуляют небезобидные путешественники.
— За чем дело, — вылезая из кабины, серьезно спросил упитанный, с квадратной физиономией мужчина лет двадцати семи.
Один сотрудник милиции с погонами сержанта полез в кузов, в котором оказалось зерно, а второй — лейтенант стал проверять документы.
Из кабины самосвала двое продолжали угрюмо наблюдать за действиями работников милиции. Интуиция все больше подсказывала Михаилу, что здесь может понадобиться его помощь.
— Откуда пшеница? — спросил сержант.
— Из поля, вестимо, — недружелюбно ответил мордастый шофер.
Запоздалым путникам сотрудники ГАИ предложили следовать в райотдел милиции.
Началась перегруппировка. За управление самосвала сел сержант милиции, потеснив там хмурых двоих пассажиров, а лейтенант открыл дверцу своего «Жигуленка», стоявшего у обочины дороги, шоферу грузовика.
И тут раздались выстрелы. Это в лейтенанта трижды выстрелил его подозрительный «клиент». Работник милиции ухватился за живот, потом за кобуру своего пистолета, но вытащить оружие не смог: ничком ткнулся в землю.
В эти же секунды те двое, что тихо сидели в кабине самосвала и угрюмо молчали, двинули так сержанта от себя, что тот вылетел через дверцу на асфальт.
Они хотели его добить на земле, но услышали постороннюю властную команду:
— Стой, стрелять буду! Оставаться на местах.
Это кричал Михаил, подбежавший к смертельно раненному лейтенанту. По Михаилу бандиты, опомнившись, открыли огонь, продырявив в нескольких местах «Жигули», но не попав в него.
Самосвал рванул с места. От мертвого лейтенанта Михаил подбежал к сержанту. Тот тоже бездыханно лежал на дороге с разбитой головой и пулей в груди.
Михаил по рации связался с дежурным по райотделу и коротко доложил ситуацию, а сам с его разрешения на милицейских «Жигулях» стал делать все возможное, чтобы загнать «КамАЗ» в тупик.
Поравнявшись с самосвалом, он дал несколько сигналов, заставляя бандитов остановиться. Но те, безуспешно пытаясь раздавить легковушку, уходили от преследования.
Кругом ни души, ни одной машины. Некого звать на помощь. Михаил заметил, что у «КамАЗа» нет правого зеркала. Он стал обходить самосвал с нужной стороны, а поравнявшись с машиной, несколько раз выстрелил из пистолета, взятого у мертвого лейтенанта, по скатам.
Грузовик на ухабинах подпрыгнул несколько раз, его стало заносить в кювет. Он остановился. Трое бандитов прыгнули из кабины и залегли в траве.
Текли минуты. Подмоги Михаилу все не было. Он один против троих вступал в сражение. Сражение… Словно как там, в Афганистане.
Выкатившись колобком из кабины «Жигулей», Михаил на противоположной стороне дороги стал выбирать удобное место для поединка. В его сторону полетели пули. Бандиты стреляли наугад. Притаившись, Михаил всматривался в темноту. Вот одна из троих фигур приподнялась из травы, и Михаил тотчас послал туда пулю. Крик, возня, кажется, попал в цель. В ответ очередь из автомата в сторону Михаила.
Выходило, что противники вооружены до зубов.
В это время стала подъезжать милицейская подмога на машинах. Высыпав из двух «Москвичей», шестеро сотрудников начали окружать бандитов.
Те не думали сдаваться. Их можно было взять решительной схваткой. Михаил пополз через дорогу, за ним — трое сотрудников милиции. Их заметили бандиты. Началась почти рукопашная схватка. В ней пришлось уничтожить всех убийц, но получил тяжелые ранения в плечо и шею, а самое опасное в грудь, Михаил.
С места происшествия его доставили на операционный стол. От большой потери крови его охватил холод, он никак не мог справиться с дрожью. Сухие губы произнесли: «Как-нибудь поосторожней сообщите обо мне Оксане».
Вскоре и она, невеста, заливаясь слезами, прибежала в больницу.
— Я ведь чувствовала, я ведь чувствовала, — причитала она. Оксана застала Михаила в бессознательном состоянии. Он выкрикивал бессвязные слова. У постели посидели сотрудники из районной милиции. Оксана не отходила от постели бредившего Михаила дни и ночи.
Ранения были тяжелые. Одна пуля прошла в миллиметре от легкого. Несколько суток пришлось бороться за жизнь Михаила. Доктор подытожил:
— Волевой он человек. Одно слово — афганец. Фронтовик. Таких и врачам ставить на ноги нетрудно. Вылечим, Оксана, твоего жениха… Вот тех двух героев уже не вернешь. Жаль в мирное время терять от бандитских пуль отличных парней. Да, такая у них служба. Опасная и трудная. Мы привыкли лишь в фильмах о милиции к сценам перестрелок и поимки тяжких злоумышленников только в кино… Благодатней была бы и наша служба и жизнь.
1976—1977
РЮМКА ШАМПАНСКОГО
1
Зоя Митрофановна Дубровина, мать не вернувшейся из школы домой десятиклассницы, как мне показалось, чего-то недоговаривала. Задал ей вопрос: «С кем дружила Лена? Могла ли куда-нибудь уехать, не заходя домой?»
— Да нет же, — ответила она и пожала плечами нерешительно, и я готов был думать, что угодно.
Потом я понял Дубровину: она впервые за свою жизнь пришла в милицию и не знала, как себя вести.
Дубровина была скромна и душевна. Упрекала только себя, что не усмотрела за единственной дочерью. Никого не хотела больше винить.
У классного руководителя удалось выяснить, что после уроков, около часу дня, Лена вместе с Антониной Ворониной и Валентиной Седневой вышли из школы.
Зоя Митрофановна уже побывала у подруг дочери. Застала лишь Валю Седневу. Та подтвердила, что действительно вместе с Леной и Тоней вышла из школы. Далее было так. На улице Тоню Воронину ждал парень, по имени Сергей. Тоня о чем-то пошепталась с ним. Затем Сергей забрал у Тони портфель, громко сказал: «Только побыстрее, я жду». И ушел в сторону автобусной остановки. Воронина вернулась к подругам и попросила их минут пять ее подождать. Сама пошла в гастроном и вернулась с бутылкой шампанского. «По случаю субботы рюмка шампанского не повредит здоровью».
Лена отказывалась:
— Чур, без меня. Болит горло. Иду прогреваться в поликлинику.
Воронина решительно взяла Дубровину под руку.
— Никуда я тебя не отпущу.
Под натиском настойчивой и энергичной Ворониной в овраге выпили вина. Рюмки сделали из бумаги. После этого Валя сразу ушла: ее ждала мать, чтобы ехать на дачу. Лена с Антониной остались сидеть на травке.
С Дубровиной-матерью, понятыми осмотрели овраг. Никаких следов не нашли: ни пустой бутылки из-под шампанского, фантика от конфет, девчата закусывали ими. Наметили план действий. Прежде всего нужно сходить к родителям Ворониной, затем разыскать парня по имени Сергей.
Антонины дома не было. Родители сказали, что дочь пришла из школы поздно, взяла теплую кофту и молча ушла. Узнал также, что дочь частенько выпивает. Родители не видят в этом беды.
— Не водку же, а розовую водичку, — заметив мое недоумение, произнесла представительная брюнетка лет сорока пяти Лара Львовна Воронина, преподавательница музыкальной школы. — Тем и отличается слабый пол от сильного, что пьет шампанское, а не покрепче. Что касается дочери, то плохого не сделает. Голова на плечах. И если что произошло — Тонечка ни при чем.
Я не сдавался:
— Девушка же. Если от нее пахнет вином — теряешь всякое уважение.
Своими возражениями никого не убедил, а только подлил масла в огонь. Лара Львовна стала спорить. Она заявила, что старомодно смотрю на воспитание подрастающего поколения.
Вышел из дальней комнаты отец Антонины Роман Николаевич Воронин, инженер автохозяйства. В руках он держал журнал «За рулем».
— Извиняюсь. Не мешал вашему разговору, а сейчас счел нужным вмешаться.
— Здравствуйте, — подчеркнуто громко произнес я, намекнув этим, что нелишне нам поприветствовать друг друга.
— Мое почтение, — ответил Роман Николаевич. — Как понял, вы пришли узнать, где наша дочь? Мы не знаем. Она не обязана докладывать, куда уходит и с кем. Мы ей доверяем. Ее моральные качества положительны. Об этом мы позаботились. А работникам милиции следует заниматься ворами и разбойниками, смотреть за порядком в скверах, парках. Я хожу с работы мимо злачных мест. Вижу такие безобразия, что диву даюсь. Тороплюсь унести ноги.
Я мог не продолжать разговора в таком тоне, но очень заинтересовался суждениями Воронина.
— Любопытно. Что там в скверах?
— Вы прекрасно знаете. Девушки сквернословят, курят, хулиганят наравне с парнями, дерутся, набрасываются на прохожих. Так что…
— Извините, Роман Николаевич, — не выдержал я, — но я хорошо знаю вечерний город. Часто дежурю по ночам. Не соглашусь с вами. По одной распущенной девице не судите. Но давайте закончим разговор по существу. Сегодня после занятий в школе ваша дочь организовала выпивку в овраге с одноклассницами. Одной из них до сих пор нет дома.
— Нет дома… Причем здесь Тоня? — подняла плечи рослая Воронина-мать. — Свалить всю вину на дочь! Девочки, наверное, отметили какое-то событие. Что тут криминального? Зачем сгущать краски.
— Криминального? Кончается и таким…
— Опять замечу, — зарокотал баритоном Роман Николаевич, — рано паниковать. Всего десять часов вечера. Найдется ваша Лена. Никуда не денется. Не иголка.
— Именно, — кивнула шапкой-париком Лара Львовна. — Она, возможно, зашла к приятелям. Увидите: все кончится благополучно… Милиция напрасно встревожена. — Лара Львовна говорила со мной и точила пилкой длинные, покрытые розовым лаком ногти. Она не смотрела на меня. Похоже, ей представлялось, что я не заслужил должного внимания.
— Я разделяю беспокойство Дубровиной. Припомните, где бывает Тоня. Надо помочь в поисках Лены.
— Боже мой, — махнула пилкой для ногтей Лара Львовна, — утомили, откуда нам знать, с кем и куда пошла Антонина?
— Ручаемся головой за нее, — Роман Николаевич свернул трубочкой журнал «За рулем» и бил им себя по колену. — А вы, если переполнены забот и тревог за судьбы молодежи, то находите применение теплым своим чувствам в другом месте. Наша квартира благополучная. Занимайтесь трудными.
Родители Тони не принимали к сердцу мое беспокойство. Я напрасно тратил время. Сытые, самодовольные, Воронины не терзались угрызениями совести. Все мои замечания они встречали с иронией. Ни за свою дочь, ни за чужую они не волновались. Разговаривали мы друг с другом на разных языках. Время двигалось к одиннадцати вечера. Антонина не возвращалась. Делать у Ворониных было больше нечего.
2
Встреча с Ворониными подействовала ошеломляюще. Не подозревал, что есть такие родители. В сознании «прокручивались» фразы Лары Львовны и Романа Николаевича. «У нас все вечера заняты. Дочь часто одна остается дома. Мы разрешаем ей приглашать в гости кого угодно и ходить с тем, с кем считает нужным. Лишь однажды у нас было объяснение с Тоней. Она пришла домой под утро. Да, у девочки нашей есть парень по имени Сережа. Он вернулся из армии, работает водителем автобуса».
Решил сам поговорить с Валей Седневой, а потом уж разыскивать Сергея. Валю застал у плитки: она варила, узнал по запаху, картошку. Матери дома не было. «Вот-вот должна прийти. Готовлю ужин». Узнал, что Седнева-мать работает мотористкой на швейной фабрике. Задаю те вопросы, которые приготовил для Антонины. Она повторяет то, что уже рассказывала Лениной матери.
Взрослый брат Вали, в спецовке, с молотком и гвоздями в руках, мастерил в прихожей ящик для цветов. Внимательно слушал наш разговор. Когда зашла речь о Сергее, вставил:
— Это Голубев. Знаю, стиляга. Живет за углом.
Он назвал улицу и номер дома.
Хотел уже уходить, но вошла мать Вали. Пришлось ей рассказать, в чем дело. Сделал это без охоты. Боялся реакции, как в семье Ворониных. Но Седнева, напротив, очень близко приняла к сердцу исчезновение Лены. Ее она хорошо знала, как подругу дочери. Седневу поразило, что девочки распивали спиртные напитки. Да еще в кустах, как алкоголики. Сделала дочери строгий выговор. Пригрозила:
— Обожди, займусь. Без следователя. Долго будешь помнить. Отчитаешься за все действия.
Валя старалась задобрить мать. Сняла с нее пальто, помыла высвободившуюся от продуктов хозяйственную сумку.
— Мамочка, так вышло, — оправдывалась она, — мы с Леной не хотели выпивать, но Тоня, как репейник. Выпила-то две капли. Пригубили.
— И Лена? — спросил я.
— Чуть больше. У нее горло болело. Антонина ей сказала: прополоскай шампанским — как рукой ангину снимет.
— Наивные дурочки, — закипятилась Седнева. — Дополоскались. Может, уже нет в живых Лены? Сколько раз говорила: держись подальше от Антонины. Иди в свою комнату.
Когда мы остались одни, женщина тяжело вздохнула:
— Не стану расхваливать дочь. У нее много недостатков. За них ей достается. Не жалую. Люблю порядок. И пока, слава богу, удается. Но в голове не держала, чтобы Валя вот так на улице, в овраге… Одно могу сказать: каждому ее слову верьте. Между нами все честно. Валя меня ни в чем не обманула. Корень был — Антонина.
— Что-нибудь знаете о ней?
— Да, поэтому запретила дочери встречаться с Ворониной: раньше Антонина к нам частенько заходила.
— Что произошло?
— Не хочу сплетничать. Одним словом, распущенность.
— История неприятная. — Я напомнил женщине, неизвестно чем кончится. Милиция поднята на ноги.
— Раньше я знала, — решилась Седнева, — что Тоня неважно учится, пропускает занятия, грубит учителям, на родительских собраниях об этом слышала. Потом от своих ребят знала, что Тоня встречается и допоздна задерживается с кавалерами, но не придавала этому значения. А недели три назад… В общем, расскажу все по порядку. В полночь мне не спалось. Укрыла детей. Дописала письмо мужу — он в экспедиции сейчас. Подхожу к окну, смотрю во двор. У нашего подъезда на скамейке сидит парочка. Целуется. Ну, бог с ними, сами молодыми были. Вдруг в тусклом свете узнаю Тоню. Любопытно стало. Смотрю, парень встает, берет Антонину за руку, тянет. Она упирается. Отталкивает парня. Он сильнее потянул и потащил ее за собой. Куда бы вы думали? В подвал. Представляете мое состояние? Что делать? Растерялась. Ломала голову, как поступить. Может, позвать людей на помощь? Влюбленная пара как ни в чем не бывало показалась через час из мрака. Парень сел на скамейку, закурил, потянулся. Тяжело было мне ночью. Не заснула до утра. Что за дружба по подвалам? Обо всем рассказала дочери. Убедительно попросила порвать дружбу с Антониной. Сама стала холодно встречать Тоню. Она заметила, спрашивает: — Тетя Катя, что вы на меня дуетесь? За что в обиде? — Вот тут и произошел у меня с ней откровенный разговор. И что вы думаете? Не смутилась! Невинно говорит: «Что тут такого?». Я ей: «Ну разве место в подвале среди ночи девушке с парнем?» Она свое: «Какое тут преступление?» Я ей слово. Она — два. «Вы тетя Катя, с предрассудками». Я ей: «Родителям скажу». Фыркнула: «Вы наивные». И правда, Антонину отец с матерью не винят за поздние возвращения с гуляний, разрешают пить спиртное. Так мой разговор и окончился ничем…
Сел в машину. Назвал водителю старшине Рябинину адрес Сергея. Посмотрел на часы: пошел двенадцатый час ночи.
Если от Ворониных вышел мрачным и злым, то от Седневых, напротив, с хорошим настроением. Почувствовал себя способным работать всю ночь. Пришла уверенность, что Лену найдем.
Дверь мне открыл молодой человек высокого роста с эффектной укладкой пышных иссиня-черных цыганских волос. В майке и шортах. Из комнаты неслась эстрадная музыка.
Первая мысль: «Неужели девчата еще здесь? Их ищут, а они весело проводят время».
Но, как выяснилось, ни их, ни Сергея здесь не было. Передо мной стоял его брат Андрей. Он сказал, что Сергей минут пять назад ушел провожать маму в больницу. Она там медсестрой работает.
— Что случилось? — участливо спросил Андрей.
Пришлось рассказать.
— Девчата к нам не приходили. Тоню знаю. Приходит к Сергею. Последнее время часто. А портфель лежит на письменном столе, — сообщил Андрей.
Открыл его, увидел учебники, тетрадки. Они принадлежали Ворониной. Тревога снова вошла в сердце. Где девушки? Почему Воронина не пришла за портфелем?
Андрей добавил:
— Сергей ждал Тоньку. Никуда не уходил из дома. Сам возмущался. Он страшно ревнивый. Подождите, брат должен вот-вот прийти…
«Должен прийти»… Он не представлял, как нам дорога каждая минута.
Я не мог оставаться в квартире Андрея. Стало ясно: Сергей не знает, где девушки.
Сел в машину и сказал Рябинину:
— Не вешать носа, Алексей Петрович. Надо собраться с мыслями. Наметить план.
— Розыскную бы собаку, — поддержал разговор водитель.
— Именно. Возьмем овчарку, проводника. Пустим с того места, где пила вино потерпевшая. Авось, повезет. Дождя не предвидится. Тоже — к лучшему.
У меня, крепкого человека, так вдруг защемило в левой стороне груди, что замычал от боли. Предчувствие беды, чего-то недоброго вошло в душу. Каково матери пропавшей девушки? Что теперь делает? Где ожидает известий?
Шел второй час ночи. Из телефона-автомата позвонил дежурному. Капитан милиции Муров басом пророкотал:
— Товарищ майор, вас ждут.
— Кто?
— В дежурной комнате. Парень. Назвался Сергеем. Вы к нему заезжали домой. Хочет вас видеть. — Муров замолчал. Я слышал, как он с кем-то переговаривался. Через полминуты капитан добавил: — Имеет важные сведения. Что ему сказать? Пусть ждет?
— Непременно. Сейчас буду. Позвоните в питомник: нужна служебная собака. — У меня в какой раз тревожно забилось сердце. В голове беспокойные мысли. Хотел положить трубку. Упредил торопливый голос Мурова:
— Тут мать пропавшей девушки…
В телефонной трубке послышались глухие рыдания. Упавшим и обессиленным голосом Зоя Митрофановна спросила:
— Товарищ следователь, нет у вас никаких новостей? Извелась я. Не доживу до утра. Мочи нет ждать известий.
Ответил женщине как можно спокойнее, что нельзя терять надежды. Потом добавил:
— Ждите меня. Сейчас приеду.
Голос меня выдал: он был глухим и неуверенным. И женщина вновь заговорила дрожащим, взволнованным голосом:
— Ее нет в живых? Не скрывайте. Лену убили? Признайтесь.
Все эти расспросы холодили душу. Как мог, попытался утешить Дубровину:
— Откуда вы взяли? Что за кошмарные предположения? Вы так себя доведете бог знает до чего. Возьмите себя в руки.
Я попросил Мурова создать к моему приезду оперативную группу из сотрудников уголовного розыска. Вызвать тех, кто поближе живет.
4
Через четверть часа приехал в отдел. Стал успокаивать Дубровину. Потом беседовал с Сергеем. Это был щуплый, юркий парень с бегающими по сторонам маленькими серыми глазками. Он больше походил на девушку: длинные, до плеч, мягкие вьющиеся волосы, замшевая куртка, цветастая шелковая рубашка с выпущенным воротником.
— Я хочу вам помочь, — тихо сказал парень и покраснел, точно в чем-то был виноват. Не имеет ли он к исчезновению девушек какого-нибудь отношения? — Не надо собаки. — Сергей судорожно заглотнул воздух. Надрывно закашлял.
— Где? — раньше меня спросил Муров.
— Я вам покажу, где мы встречаемся с Тоней. У железной дороги, там наш шалаш.
Мать Лены услышала и запричитала:
— Едемте. Я с вами. Здесь не останусь. Лучше видеть своими глазами, чем умирать в ожидании. Возьмите меня. Пусть самая горькая правда.
Приехал проводник со служебно-розыскной собакой. Собрались три сотрудника уголовного розыска: Кафтанов, Мишин и Переверзев. Брать или не брать с собой Дубровину? Не испортит ли она поиск? Посмотрел на четко выступившую прядь седых волос у женщины, дрожащие, как в лихорадке, губы. Принял решение: взять ее с собой. Будь что будет.
Рассветало. Было без четверти пять. Летнее ранее утро. Оставив в машине на опушке леса шофера Рябинина, мы все пошли за Сергеем. Он проворно лез через кусты. Утренняя роса мочила ноги, ветки деревьев хлестали по глазам.
— Там, там, — показывал рукой Сергей. — Еще метров сто.
Дубровина вырвалась вперед. С нетерпением раздвигая кусты, бежала за Сергеем.
Рядом захрустели сломанные ветки. Послышалось сопение. Через минуту я увидел ползущего по репейнику человека. Коричневый пиджак его был порван. Лицо исцарапано до крови. Пьяный, он тупо смотрел по сторонам. Мы заставили его встать. Он нехотя сделал это, но еле держался на ногах. Липкие волосы его торчали клочьями. Создавалось впечатление, что он участвовал в потасовке.
— Михаил Иванович, — приказал я Переверзеву, — охраняйте. Потом проверим, кто такой.
Мы снова побежали за Сергеем. Минут через десять лес кончился, начался низкий кустарник. Он полосой тянулся вдоль железной дороги. Издали я заметил в кустах шалаш из веток и сена. Когда пробрались к нему поближе — увидели, что оттуда торчит пара девичьих ног в красных босоножках.
Дубровина узнала по обуви свою дочь. С душераздирающим криком она бросилась к шалашу. Подбежала к нему первая. Стала на колени и наклонила голову, чтобы заглянуть внутрь. Тут новый, еще более сумасшедший вопль вырвался из ее груди. Над Леной на корточках сидела Воронина и кусками какого-то материала бинтовала ее окровавленную шею.
Увидев нас, она затараторила:
— Быстрее. Он напал на нее, когда я собирала сучья. Ранил. Где-то рядом. Если бы я не подоспела да крик Лены, он бы… не знаю, что сделал.
В полутемном шалаше рассмотрели Лену. Одежда ее была порвана, весь вид — истерзанный.
Мы вовремя подоспели. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый за грабеж Костиков бродил пьяный по лесу и случайно наткнулся на спящую в шалаше Лену. Набросился на нее. Девушка, как могла, сопротивлялась. Озверевший бандит нанес ей удар ножом в шею. К счастью, рана оказалась неглубокой, легкой.
Лена дрожала. Посиневшие губы едва выговаривали слова оправдания.
— Мамочка, родная, прости. Сама виновата. Не могла прийти, хотела переждать.
Воронина вызывающе бросила:
— Лучше быстрее ищите бандита. Далеко не ушел. А нам дайте доспать на свежем воздухе. Ну, что вы на меня уставились?
Она зло кричала на нас. На миловидном личике яростно блестели огромные, как два желудя, карие глаза.
Дубровина ползала на коленях около Лены, трогала пальцами на шее ранку. Прижимала к груди дочь.
— Думала, больше не увижу…
— Согрей меня, — прижималась к ней Лена. Она выглядела совсем девочкой. Под кофточкой едва обозначились груди. На них упала длинная толстая коса. — Выпили самую малость. В голову ударило. Ничего не соображала. Ты бы меня ругала. Думали, часок в шалаше посидеть, да заснули…
Антонина с возмущением перебила:
— От рюмки шампанского захмелела, как заяц! Твердит: «Я пьяная, боюсь идти домой». Вожусь с ней целую ночь. Боже, с кем связалась! Чуть жизни обе не лишились. Будь этот бандит не один, чтобы от нас осталось?
— Ах, Тоня, зачем вы сюда пошли, — вздохнула Зоя Митрофановна. — Вас могли убить. Милиция только задержала такого, что страшно смотреть…
Руки Антонины были перемазаны кровью. Она вытирала их о мокрую траву. Не обращая внимания на переживания, нервное состояние Зои Митрофановны, холодно бросила:
— Учите девчонку пить вино. Тогда бы я тут не торчала, не охраняла ее.
— Тебя тоже, наверное, родители ищут, Тонечка, — ответила женщина.
— Обойдутся, — вяло проронила Воронина.
5
Долго из головы не выходила история с пропажей Лены Дубровиной. Мать уделяла ее воспитанию много внимания, сама показывала хороший пример того, как быть самостоятельной и осторожной в поступках, однако власть над Леной смогла без всякого труда взять подруга с неблестящей репутацией. Почему? Пришел к выводу, что Лену увлекала романтика, игра во взрослых и современных девушек. Она не могла подозревать, как плохо все кончится, не знала, что бывают случаи патологического опьянения, оно наступает порой от одной стопки спиртного. У тех, кто никогда раньше не пил.
Но для Лены тот день преподал урок на всю жизнь. За нее я спокоен, а вот Антонина… Вспоминая беседу с ее родителями, вообразившими себя, видимо, воспитателями нового типа, начинал злиться, лишался хорошего настроения. Как я понял, та история их ничему не научила, и мы, к сожалению, не смогли открыть им глаза…
Прошло время. Однажды у дверей своего кабинета я увидел супругов Ворониных. Они смущенно поздоровались со мной, попросили разрешения зайти в кабинет.
— Сделайте одолжение, — открыв дверь, я пропустил их вперед, отметив про себя: прежней недоступности в Ларе Львовне и Романе Николаевиче нет и в помине. Они выступали в роли посетителей.
— Дело вот в чем, — начала Воронина. — Дочь попала в беду. Нужна помощь. — Она замялась, не зная, видно, как приступить к главному, тому, что привело их сюда. Сам Воронин молчал, теребил в руках ключи от «Жигулей». Я их видел у входа.
— Несчастье! Тонечка во всем призналась. Ужасно, — сжала кулачки Лара Львовна.
— Дочь знает, кто он. То есть, называет его, — вставил Воронин.
— Вызовите его. Строго предупредите. Заставьте жениться. Боже, она еще ребенок, едва минуло восемнадцать, и уже беременна. Он не должен отвертеться, — запричитала Лара Львовна.
Я напомнил им об их «системе воспитания». Им не понравились мои нравоучения…
— Ну и не надо, — зло поджала губы женщина. — Не утруждайте себя. Сами разберемся. Жалеем, что пришли.
Да, болезнь зашла слишком далеко.
1977—1978
ЗАДЕРЖАТЬ В ПОЕЗДЕ

Зеленый «уазик» медленно подкатил к подъезду пятиэтажного дома. Водитель, грузный мужчина в зеленом берете, прилег грудью на руль и замер. Когда начали сгущаться ранние осенние сумерки, мужчина отпрянул от руля, вылез из машины, вошел в подъезд, позвонил в одну из квартир.
Пожилая женщина, очень осторожная, не раз предупрежденная ушедшими на работу домочадцами: «Никому дверь не открывать», посмотрела в дверной «глазок». В коридорчике она увидела мужчину, белолицего, низкорослого, плечистого, лет тридцати пяти — сорока. Рыжеволосого.
Тот понял, что его видят через «глазок», и заговорил:
— Я из электросети…
Хозяйка открыла дверь.
Незнакомец решительно ступил через порог, спиной закрыл выход из квартиры, щелкнул дверным замком, наставил пистолет:
— Молчать. Пристрелю.
Грабитель запер женщину в ванной и заметался по чужой квартире. Ценные вещи засунул к себе в сумку. Затем вышел из квартиры и направился к машине.
Сорвав дверь в ванной, Мария Васильевна Скворцова подбежала к окну, затем — на балкон. Рычавший автомобиль выезжал со двора. Женщина могла потом назвать лишь марку и цифру «15» в номере. Из телефона-автомата она обо всем рассказала дочери.
Милиция о происшествии узнала через сорок минут. Именно в это время поступило в дежурную часть еще одно сообщение: при выезде из города автомашина марки «УАЗ» сбила восьмиклассницу Зою Фирсову.
Ее подруга Лена Сопкина ехала почти рядом, тоже на велосипеде. Она рассказывала:
— Помню, что Зоя крикнула: «Машина, сворачивай!» В следующее мгновение мимо меня проскочил «козел». У машины горели фары. Я обернулась. Зоя лежала на дороге с разбитой головой. Нашли и других ребят, которые катались на асфальтированной, только что открытой для движения дороге.
Девятиклассник Виктор Коростылев дал такие показания:
— Я поехал за Зоей и Леной по большаку, пытался их догнать. Когда до девочек оставалось метров двести пятьдесят, они вдруг развернулись и поехали мне навстречу. Я тоже повернул домой. Теперь девочки ехали за мной. Навстречу промчалась автомашина «УАЗ-469», в марках я разбираюсь, темно-зеленого цвета. О гибели Зои я узнал только утром. Со слов Лены я понял, что тот «уазик» сбил Зою.
— Витя, ты случайно не запомнил номер?
— Помню первые и последние — не могу сказать — 15 и букву «Б».
Большак опустел. Родители запретили кататься детям по шоссе.
Автомашины «УАЗ-469», как правило, почти все темно-зеленого цвета, и среди них большинство в области с буквой «Б», но ни одна не имеет в номере цифру 15. Проверив все «уазики» области, оперативная группа сделала запрос в госавтоинспекции соседних областей с просьбой выслать сведения на автомашины «УАЗ-469», имеющие в номере цифру 15. Данных на такие автомашины у меня оказалось больше сотни. Поехал осматривать их. Одни за другим «уазики» исключались из круга моих подозрений. Многие из них вообще не заезжали на территорию области. Это было видно по путевым листам. В конце концов осталось только четыре автомобиля.
Шофер госплемстанции Макеев дал показания, что он в день ограбления квартиры и убийства девочки поставил автомашину «УАЗ-469» под номером 15—79 в гараж в шесть часов вечера. Осмотр его автомобиля следствию ничего нового не дал. Достоверность показаний не вызывала сомнений.
Полностью исключалась причастность к преступлениям и водителей двух других автомашин. Оставалась машина торфпредприятия соседней области, в номере которой нет буквы «Б», но есть буква «В» с цифровым добавлением 43—15.
В путевом листе значилось, что водитель Дафонин Евгений Васильевич в день ограбления квартиры Скворцовой и несчастья на большаке выезжал по поручению директора за яблоками в Подмосковье и проезжал он через место происшествия. Согласно отметке в гараже, Дафонин вернулся обратно в двадцать три часа этого дня. Место происшествия от гаража в 7 часах непрерывной езды. Значит, он был там еще засветло.
Допросить Дафонина было невозможно. Он выехал якобы по телеграмме хоронить мать в Черкасскую область. Я отправился туда, но оставленный шофером адрес оказался ложным. Приметы, названные Скворцовой, сходились с обликом Дафонина.
При осмотре его автомобиля установили, что на левой задней дверце на высоте семидесяти пяти сантиметров от земли — тонкая горизонтальная царапина длиной тринадцать с половиной сантиметров, чуть пониже — еще одна полоска.
Судя по показаниям диспетчера и по отметке в журнале о времени прибытия транспорта, у Дафонина полное алиби. И все-таки мы сделали обыск в комнате, где он жил после возвращения из мест лишения свободы. Обыск ничего нам не дал.
Среди тех, кто катался вместе с погибшей Зоей, разыскал Катю Погорелец. Она мне сказала:
— Машину «уазик» видела. По поселку ехала, потом свернула на большак. Смеркалось. Шофер был в берете, в кабине играла музыка.
Берет темно-зеленого цвета нашел в багажнике Дафонина. Радиоприемник в автомобиле на диво громкий, исправный.
В котором часу все-таки было происшествие? Это мне удалось точно установить во время допроса матери Виктора Коростылева. Мальчик приехал домой вечером без десяти или без пятнадцати девять. Я посадил Витю на велосипед в том месте, где он увидел автомашину с цифрой 15. Он поехал домой и через двадцать минут был у своей калитки. Значит, происшествие случилось ровно в половине девятого вечера. Выходит, Дафонин, вернувшись из поездки, уговорил диспетчера поставить другое время, а может быть, он и не причастен к преступлениям?
Как раз в это время в наш город приехали несколько человек — возмущенное начальство Дафонина. Послали на меня жалобу в горком партии. Кто позволил следователю третьи сутки держать «арестованной» автомашину? Трудно с ними спорить. У меня в руках находились хотя и веские, но только подозрения в отношении их шофера.
— Объясните происхождение царапин? — спрашиваю у начальства.
— Это скажет Дафонин, когда вернется из Черкасс.
— Его там нет.
— Плохо искали.
— Да какая там царапина? — продолжают возмущаться руководители. — На каждой машине таких полно. Придирки…
Снова еду к месту автодорожного происшествия, вызываю ребят на беседу:
— Расскажите подробнее о той машине…
— Шофер меня пугал, в мою сторону вилял, — говорит Витя Коростылев.
— Да, да, — вторит ему Лена, — он бы Зою не сбил, если бы не повернул свою машину. Чуть-чуть меня не задел, я соскочила с велосипеда, а Зоя — вот видите.
Шофер «шутил», развлекался.
Одна мысль не давала мне покоя: в результате чего, какого столкновения, могли быть оставлены на машине Дафонина царапины? Велосипеды не задеты. В воображении рисовал картину автомобильного наезда на Зою. Увидев рядом с собой машину, Зоя наверняка инстинктивно левой ногой должна была ударить по кузову машины, оттолкнуться. Что если царапины оставлены левой туфлей девочки? В морге допросили санитарок. Оказалось, Зоя была доставлена туда без туфли. Снова еду на место происшествия. Конечно, именно от удара о кузов туфля соскочила с ноги! Стоит приставить туфлю к царапинам, и все станет на свои места.
Однако на том месте, где сбили Зою, в эти дни проведены дорожные работы. Обочина расширена на полтора метра, сотни кубометров грунта уложены заново. И хотя три бульдозера подогнали к месту происшествия, чтобы весь новый грунт перевернуть, найти туфлю не удалось.
Снова допрашиваю ребят:
— Кого вы по дороге встречали?
— Я видел мотоциклиста. Он долго стоял с девушкой на обочине, — вспомнил Коростылев.
Мы решили попытаться найти этих людей через газету. В заметке писали:
«Около половины девятого вечера в двухкилометрах от поселка шофер-лихач сбил восьмиклассницу Зою Фирсову. В это время, в километре от места происшествия на обочине стоял мотоцикл. Хозяин его может дать ценные показания следствию об убийстве девочки».
Владелец мотоцикла Николай Самохвалов пришел по заметке и привел с собой девушку. Да, они поднимали руки, пытаясь остановить автомашину «УАЗ-469», хотели попросить бензина. Темнело. Часы показывали девять вечера. Машина на зверской скорости проскочила мимо, и номер ее, освещенный фарами, оба запомнили: 43—15.
Значит, к двум преступлениям, ограблению квартиры и убийству Зои причастен исчезнувший и вооруженный Дафонин. Он понимал, что натворил, поэтому упросил диспетчера поставить нужные ему часы прибытия. Прокурор дал санкцию на его арест. Дафонина, прозвище которого по местам лишения свободы Жук, объявили во всесоюзный розыск.
Вскоре поступила с Украины телеграмма о замеченных следах Дафонина. Стало известно, что выехал он одним из поездов и должен сделать пересадку либо в Брянске, либо в Москве, направляясь в Томскую область, к дружкам, к прежнему месту жительства.
Приметы его назывались: рост — 168 см, плотного телосложения, круглолиц. Волосы рыжие, зачесаны назад.
Не был известен точный поезд, в котором мог поехать Дафонин, это осложняло поиск. Но в телеграмме указывалось число, когда был замечен в Черкассах на вокзале опасный преступник.
…Начальник отдела полковник Георгий Митрофанович Сомов положил перед собой расписание движения поездов и обвел кружками те, которые, следуя в Москву, проходили через Черкассы.
Их было несколько. Один уже прошел в Брянск и приближался к Москве. Второй должен находиться еще в Конотопе, а вот поезд № 150 на Москву полчаса назад отправился с ближайшей станции.
Сомов позвонил по телефону руководителю той железнодорожной милиции:
— Посмотрите, кто сделает остановку у вас со 150-го поезда. Не забыли приметы Дафонина?.. Вот-вот…
Полковник связался с милицией других станций. Затем с группой сотрудников направился встречать этот поезд.
Точно по расписанию к перрону подкатил пассажирский состав. Ни один пассажир из него не вышел.
В планах руководителя операции Сомова допускался этот вариант. Им была сформирована и ждала команды оперативная группа, возглавляемая начальником линейного пункта Растаховым. Туда вошли также инспектор уголовного розыска старший лейтенант Юрдеев и рослый милиционер старший сержант Лаков. Надежные, осмотрительные сотрудники. Каждый имел на своем счету десятки задержанных преступников.
Дафонин, конечно, знал, что его ловят, и, как заяц, метался в поиске надежного укрытия. Заглянув на станцию Черкассы, он не стал там садиться в поезд, хотя и купил билет до Томска. Взял такси, выехал за город. В поле, в стогу сена скоротал несколько часов, а утром перехватил попутную грузовую машину, догнал свой поезд № 150, идущий в Москву, на глухом полустанке. Вошел в вагон № 2 и занял свое место.
Он не мог отдышаться: бежал за поездом, садился уже на ходу. Мучного цвета лицо его, казалось, еще больше побледнело. Выступили лишь темными буграми желваки на широких, тяжелых скулах. Вдавленные маленькие глаза горели лихорадочным огнем.
Чуть успокоившись, понял: здесь его не найдут. И опять прикинул в уме: милиция не должна узнать, где он. За те несколько суток, которые провел, скрываясь от нее, он изменил свой облик, сменил одежду и даже постригся, чтобы не «светить» рыжими волосами.
А Сомов от оперативной группы ждал сообщения. Текли тревожные минуты. Он то и дело смотрел на часы. Еще и еще раз, как опытный шахматист, продолжал предугадывать, какие нужно сделать ходы, только не на шахматной доске, а в жизни, чтобы вооруженному преступнику перекрыть дорогу.
…Дафонин проявлял исключительную бдительность в отношении каждого вновь появившегося пассажира. А они выходили и садились на станциях. Поезд проследовал крупные железнодорожные узлы. Тревога полностью покинула его. Кажется, погони нет. Он вне опасности.
Потрогал за поясом выступившую через свитер едва заметную рукоятку пистолета и подумал: «Зря не укокошил шофера, который подвозил до полустанка».
А в это время Растахов, Юрдеев и Лаков проводили беседу с бригадиром поезда, проводниками вагонов. По названным приметам никто такого у себя не видел.
Тогда сотрудники милиции порознь, держа друг друга на зрительной дистанции, стали изучать вагон за вагоном, пассажира за пассажиром.
Первый обход состава положительных результатов не дал. Растахов вспомнил напутственные слова полковника Сомова: «Особенно на приметы одежды не уповайте. Может переодеться. Держите в памяти черты лица».
Все ближе поезд подходил к конечной остановке. Через полчаса Москва — и тогда ищи ветра в поле. Растахов, Юрдеев, Лаков, посоветовавшись, стали снова обходить и осматривать каждое купе, в воображении держали только приметы: низкорослый, грузный, белолицый, рыжеволосый, с залысинами… Такой встретился глазами с Растаховым во втором плацкартном вагоне. Правда, пострижен наголо, едва заметен рыжий «ежик». В лице его капитану показалось что-то крайне неприятное, злое. Пассажир скосил глаза в сторону прошедшего по вагону Растахова. Диктор по поездному радио торжественно передал: «Товарищи пассажиры! Поезд приближается к столице нашей Родины городу-герою Москве». Юрдеев стоял в тамбуре. Минуту назад он тоже посмотрел на белолицего с «ежиком». Приметы сходились. Он! Старший лейтенант отошел подальше и ждал сигнала от Растахова.
…Проводница, пожилая женщина, открыла свою папку-кассу, нашла нужный билет, покрутила им и понимающе глядела в лицо Растахову:
— До Томска.
Анатолий Прокофьевич дал знак Юрдееву, Лакову, сидевшим через купе от белолицего. Все трое сошлись около бандита.
— Ваши документы.
Надеясь, что проверка по недоразумению, подозреваемый напрягся, но произнес спокойно:
— В чем дело?
В купе тут же нашелся старичок «доброхот»:
— Зачем пристаете к молодому человеку?
Его поддержала моложавая женщина в шелковом, как говорится, бабушкином, в оборочках, платье:
— Ходят всякие, не поймешь, кого ищут. Жить спокойно не дают.
— Ваши документы, — повторил Юрдеев.
Ни слова не говоря, Дафонин, окруженный работниками милиции, в тревоге, страхе, почти инстинктивно, подал военный билет. Документ был на имя Дафонина Евгения Васильевича.
— Где оружие? — Дафонина взял за одну руку Растахов, за вторую — Юрдеев.
Бандит крутнулся, чтобы вырваться, но его придавил к сиденью Лаков. Жук, как говорится, отлетался.
Он попятился, запрокинулся всем корпусом назад, опустился на лавку под нажимом Лакова и утихомирился. Сопротивление не имело смысла. Подавленный, он в яростном бессилии зарычал, как загнанный в клетку хищный зверь.
— Оружие… Минуту назад положил в портфель. Фортуна на вашей стороне. Жаль, что не подошли чуть раньше, когда пистолет держал за поясом. Вряд ли достался бы я вам.
Когда из портфеля Растахов на глазах у заступников-пассажиров вытащил пистолет, а из его рукоятки выпала обойма с патронами, люди невольно вскрикнули.
— Разве знали, что вы из милиции. Спасибо, голубчики. Вот уж точно: милиция бережет наш покой, — смущенно продекламировала женщина в шелковом платье.
Через несколько минут Растахов докладывал полковнику Сомову из дежурной части одного из отделов внутренних дел Москвы:
— Товарищ полковник, преступник обезврежен. Пистолет «ТТ» и восемь боевых патронов изъяты.
— Не беседовали с ним? Как он попал в квартиру Скворцовой.
— Рассказал подробно. Говорит, таить мне теперь нечего. Чистосердечное признание, мол, смягчит вину…
— Ну, ну. Суть…
— Ехал в командировку за яблоками через наш город, утром зашел в Госбанк на разведку. Машина его стояла У подъезда. В здании, видит, милиция дежурит, людей полно. Строить преступные планы — и думать нечего. В вестибюле Дафонин услышал интересный для него разговор двух женщин. Одна из них была Галина Сергеевна Скворцова. Ее расспрашивала подруга о домашних делах. Скворцова похвалилась, что получила новую квартиру, назвала адрес, пригласила подругу в гости, там, мол, одна мама сейчас, а сын — в школе. Третья женщина из-за барьера обратилась к Скворцовой: «Галина Сергеевна, арифмометр принесли?» Та ответила: «Дома, завтра верну».
Сомов остановил Растахова:
— Не продолжайте, все ясно. Сама же Скворцова «навела» Дафонина на свою квартиру. Ну, а Зою Фирсову умышленно сбил?
— Нет, по неосторожности. Ему показалась она взрослой, и захотел в хорошем настроении ее попугать, затеял «игру». Но руль не смог вовремя вывернуть. Говорит, подвело управление «уазика»…
— В этом разберемся. А пока благодарю за службу. Возвращайтесь.
1982—1983
ЧП В СЕЛЕ
В Сергеевке ограбили кассу.
Мы выехали солидной оперативной группой: следователь, старший оперуполномоченный уголовного розыска, эксперт и начальник отделения кинологов с овчаркой.
Встретил нас председатель колхоза, грузный мужчина лет шестидесяти со шрамом на лице.
— Вы, смекаю, люди бывалые, докопаетесь. Если наша кассирша виновата, ее упеките. Давно по ней наказание плачет. Если же она ни при чем — найдите лихачей…
Сергеевка — село раздольное, главная улица тянется на пять километров. Райцентром бы в пору сделать.
Вот и здание правления колхоза. Следов взломов на дверях и окнах нет. Запоры целехоньки, крепкие двойные рамы окон остеклены, в пазах не тронута замазка. На потолке и крыше проломы, лазейки исключались. Значит, подбирали ключи.
А сейф! Повреждений и взломов тоже нет. Свыше десяти тысяч рублей словно высосали пылесосом через толстую металлическую обшивку…
Кассирша Раиса Архипова рассказала, как в пятницу она пересчитала банковские упаковки, поставила на каждой зеленым карандашом «галочки», закрыла и опечатала сейф, в понедельник открыла его, а полки пусты. Молодая женщина онемела от страха. Заявила председателю. Убежала домой, заперлась. Никого не пускала: пусть, мол, приезжает следователь и разбирается. Ей показалось, что сослуживцы не поверили в кражу.
Она сидела перед нами расстроенная, настороженная, недоумевающая. Сухие губы дрожали, волосы не причесаны. Одета в помятое платье и шлепанцы. Может, специально так нарядилась? Сразить нас своей отрешенностью, безразличием к жизни! Мол, ей опротивело все на свете, готова наложить на себя руки. Обхватив руками голову, твердила: «Мне хоть петлю на шею. Я пропала… Я пропала… Кто меня защитит?»
Ее разрисовали нам отчаянной соблазнительницей. Я бы с первого взгляда этого не сказал.
Видно, мы произвели на нее неплохое впечатление, успокоили. Сказали, что беззакония не допустим.
— Виновного найдем! — заявил мой давний коллега Алексей Егорович Соколов. Мыкались мы и с ним уже лет двадцать по командировкам. За эти годы ни по одному делу не опростоволосились. Соколов в качестве поощрения лично из рук министра получил погоны подполковника. Естественно, у нас был опыт, однако подобного преступления в нашей следственной практике не могли припомнить.
На следующий день Раиса пришла к нам преображенной. Королева! Румяна, стройна, слегка тронуты загаром плечи, руки. Подчеркнуты тушью большие серые глаза, тонкие брови разлетелись яркими дужками. Пышные каштановые волосы завитушками нависли над матовым лбом, в улыбке она то и дело показывала белоснежные, ровные, крепкие зубы. Одета со вкусом. Мы залюбовались своей «подозреваемой».
— Явилась, — проворчал председатель.
Опергруппа изучала жизнь села. Ведь кражу могли совершить как местные, так и заезжие. Кто навел на кассу? Знаючи в нее лезли. О поступлении в пятницу из банка крупной суммы немногим было известно. А может все-таки симуляция? Было в селе еще одно происшествие. Как раз в ночь с субботы на воскресенье из колхозного двора угнали грузовик. Машину нашли в пяти километрах на большаке недалеко от железнодорожной станции. Назад пригнали, подремонтировали. Председатель в район об этом даже и не докладывал. Сейчас он агрессивно посматривал в сторону Раисы. Он явно ее недолюбливал.
— Что вы ищете? Вчерашний день. Сажайте кассиршу, — настаивал он. — Это она все вытворяет. Уж вы прислушайтесь к нашему мнению.
Что мы знали о Раисе?
Появилась она здесь семь лет назад девятнадцатилетней женой Димки Архипова, бывшего солдата, вернувшегося в родное село.
— Жили мы сначала дружно, — рассказывала она нам. — Не замечали, как время бежит. Работы я не боялась, в детстве намучилась и всему научилась. Мне было четырнадцать лет, когда отец погиб в шахте, под вагонеткой. Недосмотрел в темноте, а та его и придавила. А я из троих детей старшая. Специальности толковой не досталось, но десятилетку закончила. Любил меня Димка, уважал. Не все он знал. Когда мне дали в Сергеевке магазин, был у меня залетный зазнобушка. Из города на субботу и воскресенье наведывался. Не устояла против него. К тому были тайные семейные причины. А вскорости и умер от болезней муженек. Тут бы мне найти одного да привязаться к нему, а я их стала менять.
Мы же анализировали каждую деталь ее биографии. Думали, вдруг сама натворила. Много было показаний «за» и «против» этого. Сторож конторы, старик лет под восемьдесят, спал ночами, но категорически это отрицал: «Сама, чай, себя облапошила со своими хахалями». Главный бухгалтер, дородная молодая женщина, пожимала плечами: «Чужая душа — потемки. В нечестность Райкину не верю, не примечала за ней жадности к деньгам. Копеечку поднимет с пола, на стол положит».
Оперативная группа особенно была внимательна к людям, нечистым на руку. Интересовались, кто за последние дни выехал из деревни.
Среди выехавших были Павел Матронов, Аркадий Вакаревич, Борис Яковин. Наводили о них справки, уточняли, кто на что способен, причину выезда и другие необходимые для нас данные.
Между тем доставили результаты повторной экспертизы замков. Оказывается, дверь здания правления колхоза открывалась особым ключом, а сейф — либо отмычкой, либо поддельной заготовкой.
Подозрения в отношении кассира, как и следовало ожидать, постепенно таяли. Хотя совсем исчезнуть, конечно, не могли. Не менял своего убеждения председатель.
С Раисой встречались каждый день. Мой напарник Соколов все хотел что-то понять в ней. Я подшучивал над коллегой. А он отвечал:
— Многих убийц, думается, такая красавица уговорила бы на покаяние. А мы ее записываем в преступники. На мой взгляд, чистое ее сердце. А что имела любовников, то не мы ей судьи.
Почему уехал ее приятель Павел Матронов? Надо бы допросить его жену. Но где гарантия, что она по злости не наговорит на Раису?
Полина Матронова, доярка колхоза, сидит перед нами. В волосах чуть пробивалась седина, большие, выразительные, спокойные глаза. Она заметно смущена — неприятна ей роль покинутой женщины.
— Муж поначалу работал не хуже других. Начальство было всегда довольно, поощряло. На стороне кто чем угостит — яблоком, медом — детям несет. Меня не обижал… А год назад признался: подбивается к нему Раиса. Посмеялись оба. И точку поставили. Слетал Райкин соблазн с Павлушки, как шелуха со спелой луковицы. Раиса бесновалась, что не по ее выходило. Строила ему одну за одной задачи. Но я наперед знала: бесполезно. И представьте себе, ошиблась…
Павлом следствие все больше заинтересовалось. Опять расспрашивали Раису, с которой продолжали встречаться почти каждый день.
— Лучше его в деревне, почитай, никого не было. Высокий, сильный, смелый, буйная шевелюра. А ни в какую. За грибами вместе ходили и на покосе под дождем куковали… Заманивала я его как-то поколоть мне дрова. Полины тем временем дома не было… Ну и добилась своего. Полина приехала, обо всем дозналась. Говорит ему: «Не мучь себя и поступай так, как велит сердце, разойдемся достойно, по-людски, оставь меня, иди к ней». Он и заявился среди ночи, в руке чемоданчик. И по-серьезному говорит: «Будем жить мужем и женой, разведусь, сходим в сельсовет». Тут-то я как заново родилась: «Зачем же ты мне напостоянно? Да я одна где села, там и легла, проснулась, встряхнулась — никому ничего не должна. А для тебя надо стирать, у плиты коптиться…» Уговаривал вместе уехать. Отказалась. Он исчез. Видно, с Вакаревичем Аркашкой подружился, — рассказывала Раиса бесхитростно.
Итак, Павел Матронов вместе с Аркадием Вакаревичем выехал из деревни. Куда? Узнали у матери Аркадия: устроились дружки каменщиками в местном строительно-монтажном управлении. Уехали как раз в тот день, когда была обнаружена в Сергеевке кража. Следовательно, алиби у них нет. Проверять надо.
Соколов, который выезжал допрашивать сельских беглецов, вернулся с новостью. В общежитии Матронова и Вакаревича он не встретил. Не могли их найти и товарищи по работе, а в комнате, где они жили, у соседей пропали деньги, часы и транзисторный приемник. Местная милиция разослала ориентировку об их задержании. Планы у нас менялись, вернее сказать, стали более определенными. Аркадия знали в селе как вора, это подтверждалось новыми обстоятельствами.
Мне дали в управлении дополнительные силы для засад в местах возможного появления приятелей. Розыск их стал неизбежным.
Трое суток ждали в Сергеевке, искали в прилегающих деревнях следы Матронова и Вакаревича. Наконец Павла нашли недалеко от Сергеевки, в заброшенном подвале, он колотился в ознобе. Когда пришел в себя, начал говорить медленно, глубоко продуманно:
— Судачат про нее, что она такая-рассякая. Одинокая она, не встретила человека по сердцу. Меня б любила, да между нами трое моих совсем еще сопливых, не выращенных, никому, кроме родителей не нужных ребят. Ни в чем не виню ее. Раньше бы встретить да жениться. Она б гулять от меня не пошла. Вакаревич! Скажу, где, скажу, где его искать. Про кражу в общежитии впервые слышу. Аркашка, выходит, негодяй, тень и на меня навел.
Вакаревич сознался в краже ценностей в общежитии. Часы «Молния» висели на стене, приемник «Вега» Аркадий уже продал, деньги потратил. От кражи в колхозной кассе, — отпирался. «И знать не знаю, и ведать не ведаю».
— Нет смысла, Аркаша, утаивать, — мрачно сказал Павел на очной ставке. — Рассказывай, как дело было, рассказывай. Меньше дадут…
Аркадий смотрел в пол, упорно молчал, раздумывая. Прошло немало дней, пока Вакаревичу втолковали, что по закону он может рассчитывать на такое смягчающее вину обстоятельство, как чистосердечное признание, если ничего не утаит о других преступлениях и своих соучастниках.
Павел Матронов утверждал, что будто они вдвоем с Аркадием «брали» кассу, но в это плохо верилось. Мелкие детали Павел путал. Сколько было денег, как их разделили и где они, объяснить не хотел. Нам представлялось, что Павел наговаривает на себя.
У Вакаревича сотрудники милиции за балкой в курятнике обнаружили деньги: четыре пачки десятирублевок в банковской упаковке и завернутые в бумагу несколько купюр разного достоинства. Всего более четырех тысяч рублей.
Между тем из допроса кассира было известно, что пропало шесть пачек десятирублевок, восемь пачек пятирублевок в банковской упаковке. Все оклеены полоской бумаги, на которой она ставила при пересчете двойную «птичку» зеленым карандашом. У Вакаревича деньги имели такую пометку.
В уголовном деле появились интересные показания киномеханика Николаева. В час ночи, в субботу, перед исчезновением Вакаревича и Матронова из Сергеевки, он видел с ними и третьего. Это был дважды судимый за грабежи Лавренюк Захар Петрович, всего месяц назад он вернулся из тюрьмы. Все это время Захар из деревни никуда не исчезал и вроде бы даже проявил усердие к работе скотника. Впрочем, пил сильно.
Павел и Аркадий опровергли показания киномеханика: «Врет. Лавренюка с нами не было».
Но сам-то Лавренюк, не зная, что о нем будут говорить Вакаревич и Матронов, вдруг занервничал, собрал пожитки и дал тягу из деревни. Доставили его снова в село. Теперь он не сомневался, что выдали его дружки. И стал давать показания о воровстве всего шести тысяч рублей.
— Я расскажу, как все было. Знал я, что Матронова выгнала жена, но не думал, что и с полюбовницей дело швах. Пашка во хмелю слезу пустил, мол, утопиться мне в пору. Я ему другое толкую: нюни не распускай, а посади за решетку Райку, тогда и с женой легче станет уладить. «Что для этого надо?» Отвечаю: «Узнай, когда поступят в кассу деньги. Открою сейф, комар носа не подточит, растрата на нее обернется». В пятницу Пашка мне сказал: «Деньги в сейфе, много пачек. Сам видел». Я-то думал, он забыл про тот разговор… Работал отмычками. Деньги разделили с Аркадием Вакаревичем. Я взял меньшую часть. Около тысячи. Павел от доли своей отказался.
Последнее, что надо сделать нам, — найти долю, что досталась Лавренюку. Если делили на двоих с Вакаревичем, то у него пять тысяч рублей. Сотрудники милиции разделились на три группы. Одна обыскивала надворные постройки, вторая — приусадебный участок и третья — дом Лавренюка, который утверждал: «свою долю сжег».
Обыск затягивался. Осматривали множество закоулков, укромных мест. Пересмотрели чашки, кружки, сундуки, шкафы, кладовки, чердаки, сараи… Никакого результата.
Пришлось вызвать специалиста с миноискателем. Через несколько часов около расколотой молнией старой яблони сработал механизм «прощупывания». Очертили круг, и застучали штыки, ломики, заработали лопаты.
Раиса не отходила от нас. Воспрянув было духом после задержания преступников, она снова приуныла. Из десяти тысяч воры признают, что взяли только шесть. Мы, опергруппа, и сами понимали: если не найдем недостающих четырех тысяч, то Раиса останется под подозрением.
А сотрудники милиции тем временем трудились, как истинные землекопы. Наконец что-то затрещало… В металлической миске, прикрытой стеклом, лежало восемь пачек пятирублевок в банковской упаковке с зелеными «галочками» на оберточной бумажной ленте. Пересчитала сама Раиса. Выходит, не хватало у Вакаревича лишь пятисот рублей, а у Лавренюка — тысячи. Но это пустяки. Мы с облегчением вздохнули. Раиса тоже. Основное найдено.
В просторном зале сельского Дворца культуры публично проходило заседание народного суда. Независимо и кокетливо вошла туда и обворожительная какой-то особенной крестьянской красотой Раиса. Улыбаясь, она грациозным движением поприветствовала всех. Плутовка не увядала, а расцветала, любовалась собой.
У нее был даже какой-то особый женский голос: свежий, звонкий, сильный. Работала она уже не в бухгалтерии, а воспитательницей в колхозном детском саду.
А еще через минуту вошла в зал судебного заседания и Полина Матронова. Бледность тонкого лица, скорбный вид как бы подчеркивали благородство ее души.
«Теперь, когда Павел в беде, я останусь с ним, буду ждать его сколько угодно, облегчу этим его участь. Я всегда любила его, знала с ним счастье и горе», — это она нам сказала накануне суда.
Потом прозвучал приговор. Мера наказания Павлу Матронову была минимальной, без лишения свободы…
1981—1985
ПРЕРВАННЫЙ ОТПУСК

В то лето я безмятежно поехал отдыхать на Херсонщину. Поселился у самого берега Днепра. Как-то в ресторане ко мне подсел симпатичный паренек. Разговорились. Он пригласил в свою компанию. Так я в самом начале отпуска оказался среди веселых, умных и бедовых молодых людей. Каждый должен был что-нибудь рассказывать о себе.
Узнав, что я работаю следователем, меня засыпали вопросами и начали жадно слушать мои истории. Можно представить, как я трудился, если учесть, что в этой компании мне приглянулось совсем юное существо по имени Вероника Серова.
Приехав на каникулы к матери, Вера так же, как и я случайно оказалась здесь и быстро стала всем задушевной подругой.
На лугу мы пировали: соленую рыбу запивали квасом, уничтожали огурцы, помидоры, варили уху. Ненасытно смеялись от игривых, приятных чувств. Словом, дурачились.
На второй или третий день нашего знакомства Вероника, закинув голову, с невинным любопытством спросила меня:
— Вам не скучно у нас?
— Отчего же, помилуйте. Очень даже недурно.
Приднепровское раздолье, действительно, меня трогало. Но еще больше — волновала девушка в легком кремовом халате, небрежно накинутом на загорелые плечи. Она!
Юная Вероника и впрямь вся освещалась красотой и милым задором.
Точеная фигурка, волшебные глаза, лукавая улыбка, искрометный ее юмор — все было привлекательно и неотразимо. Природа создает таких безупречных в красоте для того, чтобы все их любили.
Валяясь в горячем песке, я закрывал глаза и узнавал приближение этой девушки по дыханию и походке. Она требовала от меня лишь одного — обучения плаванию. При этом была усердной ученицей. Вечерами мы слушали жаворонков и сбивали росу с вольной травы ногами.
Но всему бывает конец, и я с тоской и досадой считал оставшиеся дни отпуска. Их оставалось чуть больше недели, когда я провожал Веронику в близлежащее село на свадьбу к подруге.
На дорожку я положил ей в сумку две горсти шоколадных конфет московской кондитерской фабрики «Мишка на севере». А на следующее утро я был поднят, что называется, по тревоге. Известие сразило меня.
В кабине мощного самосвала я продолжал начатый в гостинице разговор с шофером Сидорчуком. Слушал его рассказ.
В то утро он, шофер колхоза «Урожай», в последний раз отвез в хозяйство известковую муку и свернул к реке, чтобы выкупаться.
Самосвал затормозил у берега неширокой речушки, притока Днепра. Шофер хотел уже нырнуть в воду, как вдруг облился холодным потом. Он увидел зацепившееся за куст женское белье, оно словно полоскалось у берега.
— Кровь бросилась мне в голову, — возбужденно, в смятении говорил водитель. Не разбирая дороги, напрямик, устремился к самосвалу. Наткнулся на корягу и обнаружил новую поразительную находку. У его ног лежали скомканные, истоптанные кофта и юбка.
А я еще больше не мог прийти в себя. По описанию найденной водителем одежды я почти на все сто процентов догадался, что она принадлежит моей Веронике. С тупым недоумением задавал и задавал себе вопрос: «Как же это могло случиться?» Сидорчук приехал за мной в гостиницу, потому что присутствовал накануне на моей беседе на подобные темы. Он боялся, что его самого могут обвинить в чем-нибудь предосудительном, коль он оказался на том злосчастном месте.
И вот мы на берегу реки. Валялись опрокинутые лодки, обрывки бумаги, порванный резиновый круг… Я остался охранять место происшествия, а шофера направил за милицией и понятыми.
Вскоре собралась солидная оперативная группа. Следователь прокуратуры, сотрудники уголовного розыска, криминалист и самый обнадеживающий длинноногий проводник служебной розыскной собаки со своей рослой овчаркой начали работу.
Ищейка и точно оправдала надежду. Она вмиг привела к самой изувеченной потерпевшей. Это была Вероника. Предчувствие не подвело меня. Она комом лежала между кустов в траве. Трудно было поверить, что девчонка еще дышит. С окровавленной головой, исцарапанная, она была еще, к счастью, жива. Туго завязанный на шее чулок прикрывал ярко выраженные следы душения.
Веронику торопливо увозили в больницу, чтобы спасти ей жизнь. А мы намечали для расследования версии. Их выстраивалось многовато. И было от чего.
Здесь, в этих местах, стучали топорами лесорубы и плотники на соседней колхозной ферме. Вдоль реки полно расположилось рыболовов. В деревнях Кашино и Глоднево — отдыхающие горожане. Там, где обнаружили Веронику, тянулся глубокий след трактора.
Но и это еще не весь, как говорится, строительный материал для версий. В близлежащих населенных пунктах проживало порядочное число лиц, в прошлом судимых. В том числе и за изнасилование, другие тяжкие преступления.
В селах расположилось несколько строительных студенческих отрядов. Они строили дома колхозникам, всем желающим по заявкам. С членами студотрядов несложно было побеседовать. Они все находились там, где квартировали.
На третий день в опергруппу влился опытный работник управления внутренних дел майор Коровин. Он начал с того, что в каждом селе провел информацию среди колхозников, подростков, мобилизовал дружинников, всю общественность на участие в розыске опаснейших преступников.
Содружество милиции и населения всегда приносило отрадные результаты. Надеялись мы на это и сей раз.
Прослышала о нашумевшем происшествии и кондуктор рейсового автобуса Надежда Кисель.
— Я знаю Верину мать, а девушку везла из города в Кашино. Она мне рассказывала, что едет в деревню на свадьбу. После меня с Верой в салоне беседовали два паренька, по-видимому, ее знакомые. Все трое сошли на конечной остановке в селе Глоднево. В соседнюю деревню Кашино многие пошли пешком. Никого подозрительного не заметила. Но вот парней разыщите.
— Они пошли тоже в Кашино?
— Может быть. Да, скорее всего. Но точно не знаю.
Ах, как нужны нам были сию же минуту те ребята, что ехали вместе с Вероникой. Что они нам скажут? Какой прольют свет на загадочное нападение фактически в полдень, среди массы людей на Веронику? То, что подонков было не менее двоих, мы доподлинно определили по осмотру места происшествия и освидетельствованию потерпевшей.
Борис Лохнин и Николай Резник сами пришли к нам. Серьезные ребята. Им можно было полностью доверять. Первый вопрос им был задан такой:
— В каком месте расстались с Верой?
Отвечал Лохнин:
— У магазина в селе Глоднево. Мы зашли купить сигарет. Она не стала нас ждать. Торопилась. Минут через десять, не больше, мы пошли вслед за ней по той же тропинке, вдоль реки. Ни крика, ни шума не слышали. Считали, что она идет впереди нас. Договорились с ней встретиться на свадьбе. Мы тоже были приглашены. Удивились, когда ее там не встретили. Ума не могли приложить: неужели вернулась домой? Зачем тогда приезжала. А потом все узнали, к вам притопали. Готовы помочь, что в наших силах. Кстати, может пригодиться, видели двух рыбаков, тоже шли по тропинке, впереди нас.
Мы со своими энергичными и бескорыстными добровольными помощниками продолжали искать следы преступников. Пытались представить, как могла Вера оказаться в десятках метрах от тропинки в густых зарослях кустарника. Естественно, не по своей воле. Почему не звала на помощь, если неожиданно на нее напали насильники?
Лучше всех на эти и другие вопросы могла бы ответить сама Вероника, но она еще очень была нездорова, и врачи не разрешали беседовать пока с ней. Тяжелые и жуткие воспоминания были бы ее неокрепшим силам опасны, могли привести к непредсказуемым последствиям.
Но измятая во многих местах трава, перемешанная с землей, поломанные ветки, валявшееся окровавленное топорище, которым скорее всего и был нанесен первый роковой удар ей по голове, говорили о том, что Вероника первое мгновение сопротивлялась, а потом ее лишили этой возможности.
Зеленое село, где мы разместились для работы, продолжало оставаться спокойным и красивым, точно не здесь этими днями разыгралась нашумевшая в округе драма.
Но тишина и покой не касались нас. Никто не мог ни о чем думать, кроме как о раскрытии кровавого злодеяния. А между тем, мерзавцы оставались на свободе и кто знает, что вытворяли еще.
День за днем мы допрашивали свидетелей, подворно обходили села в надежде получить любую полезную информацию. Отыскали молодых рыбаков Сашку Долгих и Владимира Марченко. Оба приезжали рыбачить из Новой Каховки.
Когда мы ввели их в курс дела, то Саша Долгих, оказавшись более наблюдательным, отметил деталь: «Часов в двенадцать в том месте, где совершалось нападение по нашим предположениям на Веронику, появился парень в мокрой одежде». Долгих обрисовал его портрет. Нам показалось, что то был один из насильников, вышедший после преступления из кустов.
Кто тот парень? Он наверняка купался в реке. Новый подворный обход теперь был целевым. В беседе с подростками удалось получить почти точную информацию. В мокрой одежде на пляже валялся в песке один из братьев: не то Юрий, не то Сергей Полонский. Вчера или позавчера они выехали к себе домой, в Харьков. Оттуда они почти каждое лето приезжают отдыхать и останавливаются у глухонемой старушки Кубенко. Беседа с женщиной, естественно, ничего не могла дать.
Сведения о Полонских расширялись. Девушка из села Кашино по имени Зоя рассказала следующее:
— С Полонскими в последнюю неделю их пребывания в Глодневе неотлучно бродили двое чернявых молодых людей, похоже, цыган или кавказцев. Один из них, лет двадцати двух, назначал мне свидание, ухаживал за мной. По имени Тимур. Приятеля его помоложе звали Василием.
Домашних адресов Зоя не знала, но предполагала, что эти двое чернявых ведут кочевой образ жизни. Следовательно, найти Тимура и Василия могли мы только случайно, а вот харьковские координаты Полонских мы раздобыли. А на Василия и Тимура мы подготовили ориентировку и разослали во все концы нашей страны.
И тотчас к нам поступило сообщение из Киева. Там железнодорожной милицией были задержаны за кражу в поезде Тимур Салыква и Василий Шакия.
В составе бригады я тоже собрался выехать в Киев, затем в Харьков. Позвонил в больницу очередной раз. Меня уже по голосу узнавали медсестры и доброжелательно осведомляли о состоянии здоровья Веры. Она поправлялась. От нее не отходила мама, с которой в одно из посещений больницы успел познакомиться и я. Нетрудно себе представить, что творилось на душе у женщины.
Некто Тимур Салыква был отпетым вором. В скитаниях по станциям и поездам рецидивист познакомился с несовершеннолетним Василием Шакия. Бывалый Салыква пригрел паренька и сделал своим соучастником в поездных кражах.
Оставалось уяснить, как Тимур и Василий забрели в Кашино. Такие, как они, как правило, чураются деревень. Им легче скрываться в больших городах.
Пояснение давал Тимур при допросе в линейном отделе милиции. Оказалось все не так уж и сложно. Как-то в поезде он познакомился с моложавой женщиной легкого поведения Прошиной. Она привезла Тимура на ночевку к себе домой. Для ее шестнадцатилетней дочери Валентины подошел симпатичный Василий. Но он оказался соперником Сергея Полонского, который тоже встречался с ученицей на парикмахершу Валентиной.
Однако все кончилось мирно. Валентина оказывала чуткое внимание обоим, тем и предотвратила войну. Более того, Сергей Полонский пригласил Салыкву и Шакия на недельку в деревню Глоднево, позагорать, покупаться. Четвертым поехал старший брат Сергея Юрий Полонский.
Кто же из них выходил из кустов в мокрой одежде? Оказалось, — никто. Был еще пятый, о котором все четверо молчали, не называли его. Но в любом случае с тем, пятым, вышедшим после злодеяния из кустарника, соучастником был кто-то из этой четверки.
О Юрии Полонском мы наслышались много лестных характеристик: примерный семьянин, работник, общественник и даже депутат районного Совета, а вот о его младшем брате этого не скажешь. Он бездельничал, отлынивал от школы. Увез на велосипеде за город восьмиклассницу и там обесчестил ее, за что привлекался к уголовной ответственности, но из-за малолетства отделался небольшим сроком лишения свободы и уже гулял на свободе.
Дружба с Прошиной была для него и нее самой подходящей: оба распущены, бесконтрольны и вольны. Произведенным обыском в квартире Прошиной нашли Вероникины золотые часы «Заря», маникюрный набор, косынку, дамскую сумку. На подоконнике валялись фантики от, скорее всего, моих конфет «Мишка на севере», которыми я угостил на дорожку Веронику, когда она отправлялась в село на свадьбу.
Допрос Прошиной состоял из одного вопроса и ответа на него. И часы, и капроновую косынку, и все другое ей подарил по возвращении из села Глоднево Сергей Полонский. Тот и не думал отпираться. Правда, сначала развел болтовню о том, что нашел вещи, а потом сознался, что наблюдал, как пошла по тропинке из Глоднева в Кашино девушка, догнал, сбил ее с ног, закрыл рот, чтобы не кричала, и потащил в глубь кустарника. Так как она сопротивлялась, то ударил ее топорищем по голове.
— Что стало дальше с девушкой, я не знаю, — закончил показания Сергей, — никакого насилия больше не совершал. Кто это сделал, я не знаю. Мужчин в чаще было много, может, кто и воспользовался беспомощностью девушки. Мне достались только ее вещи.
Он врал. Врал до тех пор, пока не нашли мы парня в «мокрой одежде», того, кого видели Саша Долгих и Владимир Марченко. Это был двадцатилетний местный конюх, ранее дважды судимый за разбой и грабеж Григорий Андаренко. Без чести и совести пьяница, развратник, увидев, как пошла по тропинке Вероника, направил за ней следом Сергея, а сам побежал ей наперерез.
Вдвоем они мучали, издевались над своей жертвой, пока та не потеряла сознание. После преступления Сергей убежал полем, а Андаренко в мокрой одежде вышел из кустов, обдумывая, что дальше делать.
После опознания Вероникой преступников их арестовали. Им предстоял суд. Население ждало его и требовало публичного процесса. А я засобирался в дорогу. Отпуск мой кончился, нужно было спешить на службу.
Перед отъездом зашел в больницу, чтобы еще раз проведать Веру. Застал в холле. Она выписывалась домой. Я напросился ее проводить.
И вот уже открываем скрипучую калитку ее забора, окружавшего небольшой зеленый с верандой домик. Совсем поседевшая за эти десять дней женщина сосредоточенно смотрит на нас. Через секунду она трепетно распахивает дверь и, волнуясь, семенит нам навстречу. Отчаяние этих дней сменилось счастьем, хоть и перемешанным с глубоко засевшей в душе грустью. Глаза ее, добрые и робкие, полны слез и радости.
В сумерках седая женщина разливает нам по кружкам козье молоко. Не отрывает мягкого взгляда от дочери. То и дело обнимает ее и целует, благодарит врачей и милицию.
Я вспоминаю своих отца, мать, сестру и даю себе слово непременно заехать к ним по дороге с юга. Может быть, надо бы мне провести это лето у них, и тогда бы я не стал в этой истории действующим лицом. История, которую не выброшу из сердца всю жизнь.
Вечерело. Садилось солнце. Алый свет озарял вокзал, делал прозрачным и сияющим воздух. «Прощайте», — услышал я в последний раз дорогой мне голос Веры. На сердце было горько. Поезд набирал скорость. А я думал: «Вера все равно должна быть счастливой».
1985—1986
ДОРОГА В ОМУТ

1. Исчезновение девушки
Полковник Сомов, как обычно, в шесть утра позвонил дежурному по городскому отделу внутренних дел и спросил, как прошла ночь.
Оперативный дежурный капитан Хорин обстоятельно доложил о всех зарегистрированных преступлениях. В заключение коротко сообщил, что только что от него ушли супруги Молодихины, заявив о пропаже взрослой дочери: Вероника, учащаяся техникума, 18 лет. Живет с матерью, отчимом.
Георгий Митрофанович Сомов насторожился:
— Молодихины… Вот об этом происшествии поподробнее.
— Говорят, вечером отправилась с подругами их дочь не то в кино, не то в парк и до сих пор не вернулась. Одета она, якобы, была в новые, дорогие модные вещи, имела серьги, перстень, электронные часы.
— Молодихина Вера, — медленно произнес Сомов…
— Да. Ее мать — Анна Алексеевна официально подала заявление. С какой-то непонятной уверенностью твердила, что Веронику ограбили и убили.
— Что-то с этой Вероникой было подобное прошлым летом. Позвоните начальнику уголовного розыска Николаю Васильевичу Спиридонову. Девочка эта, по-моему, в прошлом году стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Разыскивая девушку, пришлось изучить материалы, связанные с прошлогодним исчезновением из дома Вероники. Ее мать также тогда панически кричала в дежурной части милиции, что дочь погибла, однако девчонка нашлась через сутки: гуляла с «кавалером» по Москве.
На этот раз дело обстояло иначе. Истекали третьи сутки, а Вероника не появлялась дома. Тревога матери была не напрасной. А когда в зарослях крутого берега Оки, у самой кромки воды вездесущие пацаны нашли шерстяную кофту, джинсы, опознанные, как Вероникины, Анна Алексеевна вообще чуть не потеряла рассудок.
Если предположить, что Вероника, купаясь, утонула, то вряд ли бы она полезла в сентябрьскую холодную воду. Да и делать это в таком неудобном и рискованном месте безрассудно: двухметровая глубина у крутого берега, дно завалено корягами, железками — ничего другого там водолазы не нашли.
Кто затащил девушку в это глухое место? По чьей воле она полезла в осеннюю воду. Версий строилось немало. Только мать, истерически причитая, в бесконечных слезах повторяла одно и то же:
— Мою доченьку утопили, уто-пи-ли, польстились на сережки…
Мне, как следователю, принявшему дело к своему производству, хотелось знать больше о Веронике.
Девушка поступила в техникум после восьми классов. Мать ее тогда расторгла брак с алкоголиком мужем. Вера, несмотря на домашние дрязги, росла спокойной, аккуратной, словно ее и не касались ссоры родителей.
Учителя, знавшие ее семейные неприятности, между собой говорили: «Какая скромная, хозяйственная, послушная, словно не она живет с отцом-пьяницей. Мамина школа. Анна Алексеевна не даст с пути сбиться».
Вероника во всем, действительно, беспрекословно подчинялась матери, авторитет которой поколебался с прошлого года, когда к ней стал захаживать мужчина, ставший впоследствии отчимом девушки.
У Вероники в душе точно что-то надломилось. Она перестала спешить домой с занятий, задерживалась на улице вечерами. И мать как-то не то остыла к ней, не то устала ее воспитывать.
Дочь это поняла. Став студенткой, еще больше начала задерживаться до ночи, ссылаясь на срочные занятия с подругами, на отсутствие транспорта. Она выучилась ловчить, хитрить, оговариваться. Приходила с улицы то в повышенно-радостном настроении, то хандрила, точно потерянная, не сбрасывая платья, ложилась в постель.
После окончания второго курса группу Вероники отправили в колхоз. Старшей была преподаватель математики Юлия Галактионовна Смолякова. Пришлось попросить ее рассказать о том времени.
— Группа из двадцати двух девушек жила в колхозной школе, — вспоминала преподаватель, — убирали мы с поля овощи. Вечерами заниматься в основном было нечем. Но деревенские парнизаглядывались на наших девчат, особенно на статную, рослую Веронику с вьющимися волосами над милым личиком… А когда в село приехала группа ребят из ПТУ нашего города, Веронику словно подменили: крутится перед зеркалом беспокойно, нервно, вечерами пропадает. Я с ней поговорила, узнала, что из города ее парень приехал. Попросила Веронику на улице не задерживаться вечерами, в крайнем случае гулять до десяти часов, познакомилась с ее кавалером Усланом, не то грузином, не то армянином. Вот я чувствовала, что Вера потянулась к нему, не может дождаться свидания… Тут я поняла, что дела мои плохи: за Верой нужен глаз да глаз. Приструнила ее, объяснила, чем это может кончиться, предложила после десяти вечера сидеть в школе. Они выполнили мои требования: проводили время, когда уже было поздно, в коридоре школы. Услан мне нравился. Не строптивый.
Следующая беседа у меня была с Анной Алексеевной все по поводу того же колхозного лета ее дочери. Она охотно рассказала:
— Вероника возвратилась тогда из колхоза возбужденная, хвалилась, что заработала за лето двести рублей, прикидывала, куда их истратить. Об Услане я впервые услышала. Даже, не видя парня, мне страшно было предположить, что у Верочки началась большая любовь. Через три дня после приезда из колхоза дочь исчезла из города. Можете представить мое состояние. Пропала единственная дочь. Вся радость-то моя в ней. Я тогда была вне себя от горя. Мне казалось, что Услан увез ее в Грузию или Армению. Что мне оставалось — бежать в милицию.
А начальник уголовного розыска Николай Васильевич Спиридонов добавил, вспоминая то заявление Анны Алексеевны Молодихиной:
— Первое мое предположение тогда было такое: Вера уехала в Москву потратить заработанные деньги. Не сказала матери об этом, зная ее отношение к Услану. А что уехала она с ним — не сомневался. Я пообещал — разыщу Услана, если дочь не вернется ночью. Организовали встречу приходящих из столицы электричек. И вот, почти под утро, девчонка с чернявым пареньком вышли из вагона, нагруженные покупками. Счастливая Анна Алексеевна обняла дочь. Тут же стоял тот самый Услан.
Все как будто кончилось благополучно, и тревоги были напрасны.
Анна Алексеевна сменила работу. Она перешла к мужу на завод, были ночные смены. В это время Вероника оставалась на собственной совести. И все-таки контроль за девушкой кое-какой был. Анна Алексеевна попросила свою сестру Тамару Алексеевну Звереву заглядывать в вечерние часы к ней домой и проведывать Веронику.
Что она и делала, в результате произошло такое событие, что Веронику пришлось поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А дело происходило так. Тут не обойтись без пояснений Тамары Алексеевны Зверевой:
— Я была в курсе: сестра Анна мне говорила про любовь Вероники к Услану. В один из вечеров, когда сестра была в ночной смене, подхожу к их дому, чтобы проведать племянницу, и вижу — сидит на скамейке во дворе Услан, точно Вероники нет дома, и он ждет ее. Спрашиваю: «Ты почему здесь?». Он смутился, покраснел, что-то нечленораздельное промямлил и его как ветром сдуло — убежал. Я прямо опешила. Открываю дверь — у меня свой ключ — и застаю Веронику в постели с каким-то незнакомым парнем… «Кавалера» пришлось выставить из квартиры. «Кто этот парень?» — спрашиваю. Отвечает: «Друг Услана». «До чего ты докатилась!» Парирует мне: «А у меня с ним ничего не было, просто валялись…»
Тогда, придя снова в милицию, обе женщины-сестры спрашивали, советовались, как им дальше поступить, спасая Веронику от возможного морального разложения.
Девушку, которой оставалось полгода до совершеннолетия, поставили в инспекции на учет. Но ни родители, ни сотрудники ИДН еще не догадывались, что Вера начала принимать наркотики. Они видели, что психическое состояние девчонки безобразное, она вся расстроенная, но не могли понять, отчего это происходит.
2. Поиски-розыски
Итак, мы делали свою работу. Оперативные сотрудники вместе со мной, следователем, ломали голову над вопросом: «Было ли убийство или сама запутавшаяся девчонка свела с жизнью счеты, а, возможно, несчастный случай — полезла, забубенная, купаться и утонула?»
Продолжали изучать поведение девушки до исчезновения.
Известно было, что Вера приводила домой последние месяцы многих парней, подруг. Уточнив приметы, разыскиваю их. Я опрашивал соседей Молодихиных.
Татьяна Валерьяновна Быстрова, живущая рядом с Анной Алексеевной, при беседе рассказала следующее:
— Хорошо, скрывать не буду. Я заметила то, о чем не догадывалась Анна Алексеевна: в комнату к ее дочери приходили разные парни. На кухне звенели поздним вечером стаканы, тянуло дымком сигарет. Замечала, что пьет вино и Вероника. Однажды слышу какой-то крик. Выбегаю в коридор, дверь у соседей не заперта, приоткрыла ее и вижу: Вероника вцепилась в волосы незнакомому парню. В чем дело, я так и не поняла. Молодой человек убежал, а Вероника просила ничего не рассказывать матери. Это было за неделю до ее исчезновения.
Разыскали мы и Услана. Наконец-то, он сидит передо мной. На мои вопросы он отвечал как будто бы откровенно, хотя и требовалось их, конечно, проверять.
— Я хотел по-хорошему, может, и женился бы на Веронике. А она, с кем к ней ни приду, к тому и лезет. Мне говорит: побудь во дворе на лавочке, оставь нас с твоим другом. Доставлял ей кодеин, анашу. Но я ни разу не кололся, а она много раз. Стала и вино безбожно пить. К тому, что с ней произошло, отношения не имею. Последние две недели ее не видел. У Вероники появились две закадычные подруги. Одну зовут Калерией, вторую — Нонной. Живут где-то около универсама. Обе нигде не работают, да и Верка неделями не ходит в техникум.
Нас интересовали все ребята и девчата, с которыми общалась Вера в той или иной степени. На вопрос о том, кто тот парень, которого видела в постели с Вероникой ее тетка Тамара Алексеевна, Услан ответил, что это его приятель Дмитрий Чернов. Сейчас он лечится от наркомании где-то под Москвой.
Майор Спиридонов разыскал точный адрес клиники, и мы выехали туда.
3. «Особая» больница
Самое поразительное в этой клинике было то, что ее обитатели получили мучительные недуги по собственной воле. За эту болезнь платили еще и бешеные деньги. Нам с Николаем Васильевичем горько было смотреть на изможденных людей в недуге. Они неприкаянно в байковых халатах и шлепанцах бродили по коридорам, молчаливыми группами теснились перед дверьми кабинетов врачей.
Раньше мы стеснялись говорить о наркоманах: закрытая тема. А между тем кошмарное пристрастие получало и получило распространение. Как бы мы преуспели в искоренении дурной привычки, если бы открыто провозгласили борьбу с коварной червоточиной намного раньше.
…Остро пахнет лекарствами. Снуют взад-вперед сестры и нянечки в белых халатах среди особых пациентов, которые здесь о своих болезнях не рассказывают ничего друг другу. У всех она одна. И причины ее возникновения одинаковые: сегодня таблетку, завтра — две, послезавтра укол. И вот уже пристрастие, с которого начинается дорога в трясину, а то и в омут, если туда «ушла» несчастная Вероника.
В палате, куда нас привели, пациенты выглядели такими же, как и в коридорах другие, — жалкими, безвольными. Чувствовалось, что они переживали страшные муки: их кости, мышцы, мозг, желудок, похоже, выворачивало буквально наизнанку — организм со страшной силой требовал допинга.
Дмитрия Чернова мы пригласили в маленькую изолированную комнату. Он рассказал:
— Познакомил меня с Вероникой Услан. Ей нужны были деньги, чтобы покупать наркотики. Заглядывал к ней трижды. Платил по десятке. Последний раз у нее был с месяц назад. Однажды на нее посмотрел и понял: конченый она человек — руки исколоты, в синих рубцах. Верка вполне могла сама утопиться, вряд ли кто о нее будет пачкать руки. И все-таки покрепче займитесь ее подружками. Одну зовут Нонной, вторую — Калерией.
Уходя из клиники, мы попросили у врача-психиатра разрешения поприсутствовать на приеме больных. Хорошо бы здесь установить телекамеру и показать людям, во что превращаются наркоманы от «безобидной травки». И через стенку слышали, как визжали, вопили истошно «не хочу жить» пациенты этой «особой» клиники.
Вот в кабинет к врачу не заходит, а почти заползает с трясущимися руками, блуждающим взглядом молодой мужчина лет тридцати.
— Доктор, помоги, дай одну таблетку кодеина, потом все брошу…
Мы глядели на все это и думали: сколько же надо выдержки, терпения врачу в этой непростой клинике. А медсестры, нянечки…
Когда прием закончился, Михаил Георгиевич мог уделить нам полчаса своего внимания. Мы ему рассказали о происшествии.
— Не доверяйте этому Услану, — предупредил нас врач. — Скорее всего, он имел и гашиш, и анашу не только для себя, но и для друзей. За деньги. Проверьте его как следует. Он, видимо, пользовался тем, что девушка увлеклась им. Стал приучать ее к сильным наркотикам. Приобщив Веронику к наркотикам, Услан мог использовать ее как товар. Когда Вера оставалась без допинга, то металась в поисках денег на «лекарство». Наступала опустошающая депрессия, которая и могла стать причиной самоубийства.
4. Снова дома
По дороге домой мы с майором Спиридоновым думали вот о чем: почему не перекрыты буквально все каналы утечек из аптек, больниц, других мест сильнодействующих, и наркотических препаратов? Почему наркоманы оказались опытнее врачей, и медикаменты, отпускаемые без рецептов, при переработке умельцами становятся источником дурмана?
Еще думали об Услане. Безусловно, им совершено тяжкое преступление, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса. Он склонял к употреблению наркотиков Веру, которой потребовалось всего два-три месяца, чтобы дойти до полной деградации. Как уязвим подросток, как стремительно укореняется в нем дурная наклонность!
Россказни Услана теперь для нас ничего не стоили. Наблюдение за ним дало новые сведения. Как паук-скорпион, он прибрал к рукам еще одну доверчивую девушку. Ее показаний было достаточно, чтобы Услана арестовать.
Вскоре он уже давал показания и назвал место, где прячет наркотики. В заброшенном подвале сотрудники уголовного розыска нашли двадцать две ампулы морфия, анашу, расфасованную на разные порции, таблетки кодеина. В его «аптеке» было все — от легкого до сильного дурмана. Своих «избранниц» он взбадривал слабеньким зельем… А потом, когда девушка попадала в зависимость от поставщика допинга, торговал своей жертвой, зарабатывая большие деньги.
Нам стали известны и настоящие имена Нонны и Калерии, с которыми Вера ушла на «прогулку» в тот злополучный вечер. Одной из них — Фалеевой Элле, шел двадцатый год, второй — Зинаиде Петрушевой, уже исполнилось двадцать пять.
Они брали Веру с собой для приманки «клиентов». Наркотики девицы не употребляли, а без вина и водки жить не могли.
На допросе они заявили, что в тот вечер, действительно, заходили к Вере домой, пригласили ее в кино. Она согласилась, но около кинотеатра Вероника встретила знакомого парня, которого подруги раньше не знали. Больше ее в тот вечер они не видели.
Мы им не верили. Неоднократно допрашивали каждую, но не могли изобличить во лжи. Помог случай.
Вскоре Элла, оказавшаяся на излечении в вендиспансере, рассказала подруге по койке о том, что они вручили Веронику среди ночи одному с виду порядочному «клиенту». А позже одежду девушки нашли у реки. Зинаида и Эльвира переживали, что им придется отвечать. Рассказать в милиции правду боялись: вдруг их заподозрят в убийстве или еще в каком тяжком преступлении, которого они не совершали. И вина их лишь в том, что они последними видели Веронику.
5. Признание «куртизанок»
Запирательство Зинаиды и Эльвиры теперь стало бессмысленным. В милиции им объяснили, что за лжесвидетельство они могут быть привлечены к строгой уголовной ответственности. После очных ставок Зинаида и Эльвира чистосердечно рассказали обо всем.
В тот злополучный вечер Зинаида, Эльвира и Вероника почти ни с кем из мужчин не могли познакомиться. Прогуливались у входа в парк культуры и отдыха, затем у гостиницы. Продефилировали и по центральной улице. Задевали молодых мужчин, то выпытывали, сколько времени, то просили сигаретку, то напрямую предлагали знакомство. Но вечер был явно неудачный.
Тогда Зинаида предложила свой план: взять такси и поехать на железнодорожный вокзал. Найти надо было такого водителя, который бы с первого пытливого взгляда понял их намерения найти «клиента». Здесь вроде бы замаячила удача. Таксист все сразу смекнул.
Но, как ни старался, найти подходящего им партнера не удавалось. Шел двенадцатый час ночи. Вот-вот надо было бы расплачиваться за такси. А денег у троих нашлось чуть больше рубля. Таксист поглядывал на «ночных бабочек» и заметно отдавал предпочтение самой молодой клиентке — Веронике.
— Через полчаса моя смена кончается, — улыбнулся многозначительно шофер. — И куда вас отвезти?
— Куда скажете, туда и поедем, — торопливо выпалила бойкая Зинаида.
Неизвестно, как бы дальше развивались события, но вдруг машина «зачихала», задергалась и со скрипом остановилась. Таксист нервно стал искать под капотом неисправность.
Пассажирки вышли из «Волги» и тут заметили запоздалого прохожего. Это был мужчина выше среднего роста, спортивной выправки. Разгоряченный, он держал в руке куртку, а в рубашке засучил рукава.
Прохожий был слегка в нетрезвом виде. У «куртизанок» в осоловевших глазах зажглись последние огоньки надежды. «Только бы этот «охламон» клюнул», — подумала Зинаида.
Но мужчина оказался и сам из тех, которые не пренебрегают случайными встречами с женщинами. У него все к тому располагало: было желание и пустующая квартира. Он игриво посмотрел на трех «куртизанок». Они были хорошенькие собой.
И пока шофер чинил машину, успел рассказать им несколько анекдотов. Девицы поняли, что с этим «клиентом» мороки не будет и можно не играть в прятки. Они выложили ему все напрямую. Он выбрал Веронику.
У мужчины, назвавшегося Виктором, Вероника потребовала задаток — двадцать пять рублей, чтобы тут же рассчитаться за такси и дать Зинаиде с Эльвирой червонец «для пропитания».
Виктор вытащил бумажник, но нашел там только семнадцать рублей. Десять из них Вера отдала таксисту, а семь подругам. Сама укатила на такси в холостяцкую квартиру — как объяснил новоявленный кавалер, он развелся с женой.
На этом рассказ Зинаиды и Эльвиры кончился. Что стало с Вероникой после, они не знают. Конечно, потрясены случившимся.
6. Розыск таксиста
Таксист, нам казалось, должен был дать ответ на загадку исчезновения Веры Молодихиной. Его нужно было найти. Впрочем, труда это не могло составить при наличии подробных примет.
Мы пришли в таксопарк, когда там проходило собрание. Дождавшись его окончания, мы объявили, что нам нужно от шоферов. Однако никто не мог вспомнить, возил ли описанную девушку с мужчиной в названное нами время.
К вечеру пригласили на собеседование тех водителей, кто отсутствовал на собрании. И вот один из них дает показания:
«Я, Голубицын Иван Дорофеевич, в конце сентября, числа не помню, примерно за час до окончания смены, был остановлен в центре города тремя девушками. Они просили подвезти их до железнодорожного вокзала. Одна из них, подруги называли ее Зиной, сказала:
— Шеф, ты не мог бы найти нам ухажеров? Появилось желание за их счет поужинать.
Наконец, одна из них, по имени Вера, нашла себе «клиента». За его счет оплатили такси. Зина и другая девица ушли. Веру я повез к ее обожателю. Примерно за полчаса мы попали в район новостроек — дорогу указывал пассажир, приголубивший Веру. Около какого-то дома на улице Вознесенского по его требованию я остановил машину».
Далее водитель описал одежду мужчины. И указал такую деталь: «клиент» в машине два раза повторил, что он художник. Для следствия это была зацепка. Таксист привез нас на то место, где он тогда высадил пассажиров. Мы стали искать по имевшимся приметам «художника», обходили дом за домом, квартиру за квартирой. Наша работа увенчалась успехом.
Некто Филимоненков Виктор Яковлевич, тридцати восьми лет, охранник ведомственной охраны одного из заводов, художник-любитель, расторгший брак с женой около месяца назад, был тем, кого мы так с нетерпением искали.
На звонки в дверь никто не открывал. На работе его не было. Он прогуливал уже неделю. Пригласили понятых, хотели взламывать дверь, но соседи посоветовали съездить к матери Виктора на улицу Загородную. Может быть, сын обитает у нее?
Филимоненкова-старшая назвала другой адрес: Степная, сто пятьдесят шесть. Она пояснила, что там ее сын живет всю неделю и боится показываться у себя в квартире на улице Вознесенского. Филимоненкова взялась за голову и надсадно запричитала: «Он там или кого-то убил, или боится, что его убьют».
И вот обрюзгший от самогонки Виктор, обросший щетиной, сидит перед нами. Угрюмо кивает головой, слушая опознавшего его таксиста.
— Где девушка, которую ты привел к себе домой? — спросили его.
— Я сбежал от нее, она могла меня прикончить, требовала от меня еще денег, я ее не убивал… — еле ворочая языком, выдавливает Филимоненков.
— Бери ключи от квартиры и садись в машину…
Обыск в квартире подозреваемого в любом случае необходимо делать, надо искать следы преступления, вещи Веры.
Подъехали к его дому, открываем дверь, пропускаем Филимоненкова вперед. И вдруг слышим девичий злой голос:
— О, кого я вижу! Ты что же, болван, издеваешься надо мной? Кто тебе, идиот, позволил держать в неволе полноправного человека…
Увидев нас, она осеклась на полуслове.
Перед нами, в чужом халате, непричесанная, дерзкая с виду, стояла Вероника. Она сразу поняла, кто мы, и пояснила, указывая на «кавалера»:

— Да он же простофиля, мерзость, оставил меня без куска хлеба, корки собираю в ящиках стола… Хочу к маме, домой.
Мы без всяких комментариев поняли, что шутку со своими вещами, обнаруженными у реки, придумала сама Вера. Решила от тоски сыграть роль утопленницы. Захотелось попугать коллектив техникума, где она погрязла в двойках, мать, чтобы та не терзала ее вопросами о чести и достоинстве девушки.
Потом она мне потрясающе откровенно скажет: «Жаль, что по правде не утопилась, если не выкарабкаюсь из трясины, то у меня впереди одно: дорога в омут в самом деле».
А сейчас я смотрел на нее и думал вот о чем. Однажды оступившись, человек не обязательно становится преступником на всю жизнь. Но однажды сказанная ложь неминуемо порождает другую. Со лжи Вероника и начинала. Она обманывала мать, преподавателей, подруг, изворачивалась, путалась, не задумываясь над тем, какой ущерб приносила капля за каплей самой себе и своим близким.
В данном случае вроде бы все обошлось благополучно: девушка жива, позади все треволнения, связанные с ее поиском, нет даже досады на затраченные силы и время. Но для того, чтобы вернуть ее к настоящей жизни, потребуются немалые усилия врачей, которые по просьбе Вероники начнут с запозданием ее лечить, чтобы вырвать из трясины наркомании, Услан и ему подобные — вот кто опасен для тех, кто с ними встретится.
1982—1984
СХВАТКА

1
Работники милиции, конечно, не в одиночку ведут борьбу с преступностью. И все-таки очень часто на долю стража порядка выпадает один на один вступать в схватку со своим злейшим противником, с врагом норм социального общежития.
Так было и на этот раз.
…Люк на чердаке был плотно закрыт. Игорь поднялся по лестнице, головой приоткрыл крышку люка. С чердака пахнуло слежавшимся сеном. Игорь включил фонарик, но разглядеть что-либо было трудно, и он его погасил. Тогда он ползком перелез через выступ и, спрятавшись за венец сруба, ждал, пока глаза не привыкнут к темноте. Фонарик младший лейтенант боялся зажигать — освещенный, он являлся великолепной мишенью для преступника.
Вдруг, в левом углу зашуршало сено. И снова тишина. Гнетущая. Напряженная.
«У преступника наган. И достаточно патронов. Стреляет он метко», — невольно вспомнил Игорь. Сжав в правой руке револьвер, младший лейтенант направил все-таки луч фонаря в ту сторону, откуда донесся шорох. И тут же грянул выстрел. Пуля взрыхлила опилки у его ног. Игорь ничком упал на стоявший рядом молочный бидон и, услышав шаги поднимающегося по лестнице сержанта Алексеева, крикнул:
— Борис, не заходи, выстрелит! Я сам.
Я сам! Медленно текли минуты, налитые свинцовой тяжестью. Игорю как-то не верилось, что вот наступил день его первого боевого крещения. Боевого в самом прямом смысле этого слова. Четыре года назад, демобилизовавшись из армии, комсомолец Игорь Усов меньше всего помышлял о работе в органах милиции. Вернувшись в родной городок, хотел устроиться на работу по старой гражданской специальности шофером. Но вызвал его секретарь райкома комсомола, окинул взглядом по-военному стройную фигуру, внимательно посмотрел на значок «Отличник Советской Армии», привинченный к гимнастерке, а потом крепко, по-мужски пожав ему руку, сказал:
— Ну вот, Игорь, поздравляю с возвращением. Только о спокойной жизни не помышляй, — и увидев недоуменный взгляд комсомольца, пояснил:
— Мы решили тебя по комсомольской путевке в органы милиции направить. Подумай, солдат, крепко подумай.
Дома отец, оперуполномоченный уголовного розыска, коротко сказал:
— Иди, Игорь, работа нужная. Сменишь меня.
…— Держись, Усов, мы окружили дом. Преступник не должен уйти! — крикнул товарищ по операции капитан Виктор Рогин, возглавлявший в эту тревожную ночь опергруппу.
В ответ грянул еще один выстрел. Ударившись о бидон, пуля рикошетом отлетела в сторону.
— Игорь, жив?
— Жив, товарищ капитан. Только сюда не поднимайтесь.
Снова выстрел. И тут Усов решил пойти на хитрость. Вскрикнув, он ударился головой о бидон. Его маневр удался. Преступник, решив, что он наконец-таки сразил работника милиции, зашевелился. Игорь выжидал.
— Ну что, шкура милицейская, жив еще?
Игорь молчал. Он знал: единственное, что может заставить преступника вылезти из укрытия, — это уверенность в том, что враг, то есть он, Игорь Усов, младший лейтенант милиции, мертв.
…Младший лейтенант. Он был сначала постовым, потом участковым инспектором. Нелегко давались ему навыки работы в милиции. Вначале бывшему солдату все казалось простым: совершилось преступление, задержал преступника, передал дело следователю. Но на поверку выходило иначе.
Был у него за годы службы случай. Задержал четверых за хулиганство. Избили они зверски парня. И вот хулиганы сидят перед ним, участковым инспектором. А в коридоре плачут сердобольные мамаши. У одного задержанного отец при смерти, второй на руках повестку в армию держит, третий поступает в университет, четвертый и без того судьбой обижен — трудноизлечимой болезнью страдает. И вызвали у Усова они больше сострадания, чем выздоровевший потерпевший. Казалось ему, что парни прочувствовали, раскаялись. Одним словом, пожалел их младший лейтенант, оставил на свободе. Прошла неделя, вторая, испуг у преступников прошел, и они весьма недвусмысленно начали намекать потерпевшему о дальнейшей расправе.
На первый раз Усову был объявлен строгий выговор.
В тот день Игорь и написал письмо своему другу по армии Николаю Немчанинову:
«Дружище, давно не отвечал на твое письмо. Ругай меня. Был все это время на распутье. Честно говоря, казалось, что милицейское дело не по мне. Но сейчас, после строгача, все сомнения позади. Представляешь, моя первая крупная ошибка не охладила мой пыл к работе. Как раз наоборот. Я понял, что кто-то должен делать эту тяжелую, но необходимую для общества работу — бороться с хулиганами, ворами, одним словом, со всей нечистью, мешающей нам жить. На днях у нас были стрельбы. Как и когда-то в части, стрелял я нормально. Все десять выстрелов «в яблочко». Видишь, не потерял, так сказать, «квалификацию».
Он вспомнил отца, работника уголовного розыска.
2
В послужном списке его, Усова-старшего, наберется очень много записей, расшифруй которые — и получится увесистый томик детективных рассказов. Игорь стремился во всем походить на отца. Как-то довелось парню читать на отца характеристику:
«За поимку особо опасного рецидивиста награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка…»
А было все так просто, что и «рассказывать нечего», со слов отца — Семена Михайловича Усова. Несколько фраз, а за ними…
Выполняя задание, отец оказался на маленькой железнодорожной станции. Подошел поезд. И тут из вагона выскочил юркий парень лет 20-ти. В руке он держал чемодан.
Люди из вагона закричали: «Держите… чемодан»… Какой-то гражданин попытался задержать вора, но получил от преступника удар в живот. Еще минута, и вор прыгнул в кабину чужой автомашины, завел ее, вырулил на большак.
Отец попросил у проезжего мотоцикл и рванулся в погоню. Через 3—4 километра стал нагонять. Сигналами и криками давал понять, чтобы преступник остановился. Тот высунул налитое злостью фиолетовое лицо из кабины. Машина продолжала набирать скорость. И вдруг — ухабистый участок дороги. Автомобиль запрыгал на большаке, сбавилась скорость, Усов-старший смог обогнать машину и развернуть свой мотоцикл поперек дороги, подвергая себя смертельной опасности.
— Уходи, — выкатил от ярости глаза преступник Костырев и поехал на мотоцикл.
Усов-старший получил тогда небольшие ушибы. Оперуполномоченный уголовного розыска доказал, что нервы у него крепче, чем у отщепенца.
Таким хотел быть и его сын.
3
…Да, стрелял Усов-младший отлично. И здесь, на чердаке, сжимая в ладони теплую рукоятку револьвера, Игорь ждал, когда преступник выйдет из укрытия. Он знал о нем все. Знал, что несколько часов назад Иван Алков (работник одного из заводов) совершил два убийства. И лежа за бидоном, внимательно вслушиваясь в тишину, Игорь вновь и вновь вспоминал, как началась эта ночь.
Как всегда вечером он ждал с работы жену: Лена работала во вторую смену. Поиграл с сынишкой, уложил его спать, засел за книги (готовился к поступлению в высшую школу МВД страны). Часов в одиннадцать кто-то сильно постучал в дверь. На пороге стоял сержант Алексеев. Из-за его спины выглядывал шофер отдела Гавриков. Вошел капитан Рогин.
— ЧП, Игорь. Убийца, по оперативным данным, в деревне Репьево. Не забудь оружие.
О том, что случилось, Усов узнал уже в машине. Из города к Зинаиде Ращенко приехал дружок Иван Алков. Он затеял с ней бурное объяснение прямо у калитки. Проходившие мимо двое парней пристыдили подвыпившего «кавалера». Не долго думая, Алков выхватил из-за пояса наган и выстрелил в одного из этих ребят. Промазал. Парни выбили из рук преступника оружие, он выхватил из кармана второй наган и уложил наповал обоих. Третьим выстрелом он тяжело ранил Зинаиду. Работникам милиции удалось выяснить, что в деревне Репьево живет у него еще одна «приятельница» — Екатерина Чарова. Не исключено, что убийца направился к ней.
…В дом к Чаровой вошли несколько членов опергруппы. Осмотрели дом, обратили внимание на стоящие под столом пустые бутылки из-под водки. Хотя Екатерина на вопрос, был ли у нее Алков, твердила: «Нет, не был», решили осмотреть чердак. Первым вызвался пойти Усов.
4
Некоторые считали рискованным Усова-старшего: в него стреляют, на него наезжают колесами, а он не трусит, идет напролом. Но Игорь понимал, что кроме риска, отец обладает мастерством и мужеством, он всегда чувствовал, что сильнее преступника морально, ловчее.
Твердость руки, верность глаза, отвага сердца пришли к отцу впервые там, на войне, солдатом которой он был.
Война… Она осталась в памяти Усова-старшего до мельчайшей подробности. Вот он, как мог, рассказывает сыну о гибели комбата. Семен Усов тогда стоял на коленях у его изголовья и, не стесняясь, плакал. Ему шел всего девятнадцатый год.
…Накануне комбат вызвал к себе рядового Усова и хриплым от вечной простуды голосом спросил:
— Попробуешь?
— Да.
— Будь осторожен. Трое не вернулись. Но «язык» вот как нужен, — комбат провел ладонью по горлу.
С трех сторон стиснутая батальоном высота оставалась неприступной. Две атаки отбиты фашистами. Откуда они питались силами?
Темным вечером Усов пошел на задание. Апрельский ветер то гнал в спину, то бросал в лицо пригоршни сухой листвы. В темноте Усов подполз вплотную к оградительному рву. Дальше — колючее заграждение. На высоте тихо. Долго всматривался вдаль Усов, пока не заметил фашиста. Часовой что-то устанавливал во рву. Семен дождался момента и прыгнул на гитлеровца. Завязалась схватка. Но она была недолгая. Вскоре доставленный в штаб батальона фашист чертил схему защиты «крепости», самые уязвимые ее места. Батальон взял высоту…
Фронтовые рассказы отца легко запомнились Игорю.
5
Один за другим на чердаке раздавались выстрелы. Только уже на крик капитана Рогина: «Жив, Игорь?» — не было ответа. Но комсомолец Усов был жив. Он выжидал. По деревне проехала машина, освещая дорогу. Свет фар на мгновение заглянул через щели крыши на чердак. У Игоря мелькнула мысль: «Лена едет с работы (рабочих комбината развозили по домам по этой дороге)». И тут же Усов, поднявшись во весь рост, выстрелил по черной, ползущей к слуховому окну фигуре.
Да, он отлично стрелял, младший лейтенант Игорь Усов.
Оперативная группа вышла из дома Чаровой.
— Вы уж простите, товарищ капитан, не смог взять живым.
В ответ Рогин крепко обнял Игоря и по-русски три раза поцеловал.
Но больше всего удивился Игорь, когда посмотрел на часы. Было два часа ночи. Оказывается, схватка заняла всего 40 минут. А ему казалось там, на чердаке, что прошло несколько часов.
— Молодец, поздравляю с успешным завершением операции, — сказал и отец.
1983—1984
ПОХИЩЕНИЕ РЕБЕНКА

1
Валентина долго стояла в скверике, напротив универмага. Все эти дни, пока она находилась в городе, знакомом по детству и юности, ее вниманием и сознанием владела одна единственная, но безумная мысль.
От затянувшегося волнения, тревожного и счастливого предчувствия сердце молодой женщины больно сжималось, а рассудок туманился, как запотевшее стекло. Она почти осязаемо ощутила в своих руках заветного похищенного ребенка. Именно сейчас, вот-вот все свершится.
Голуби, подпрыгивая, что-то клевали. Это отвлекало Валентину. И досаждало. Взмахом руки женщина попыталась их отогнать. Но они, взлетев, тотчас опустились на прежнее место.
Последние ночи, после того как Валентина беспрекословно решила именно в этом городе украсть новорожденного карапуза, преступница почти не смыкала глаз. Сон, казалось, навсегда покинул ее.
От головокружительной слабости, усталости земля скверика, где она топталась, зорко всматриваясь в выбранную точку, качалась как палуба. С каждой минутой Валентина все больше томилась. Курлычущие птицы наводили на нее скуку. Появилась бродячая кошка. Она тоже отвлекла ее сосредоточенное внимание.
Ждать и выслеживать — тошней труда не сыщешь.
Она вся покрылась испариной, намок в руках носовой платок. Корешки ее черных волос, перехваченных пластмассовым ободком, воспаленно горели. Как ненормальная, Валентина мысленно твердила, не отрывая взгляда от синей коляски, что стояла у двери «Детского мира»: «Малыш будет мой. Никто не узнает. Я его воспитаю, как никто. Родная мать ему того не даст, что — я». Всеми фибрами души она уже прониклась любовью и нежностью к малютке, которого настоящая мама плавно покачивала взад-вперед. У Валентины затекли ноги, а ребенка не оставляли одного. Его усыпляли. Он, видимо, засыпал. Вот-вот и мать уйдет в магазин. Валентине бы хватило одной минуты, только одной минуты, на которую без присмотра оставили бы коляску.
Юная роженица не торопилась расставаться с сынишкой. Она блаженно и горделиво представляла единое целое с ним. Синий цвет коляски свидетельствовал, что в ней нашел себе приют мальчишка. То, что надо Валентине. Малыш пока был под защитой молоденькой мамы.
Валентина обязана ее, неопытную, незоркую, счастливую, перехитрить. Воровка ненавидела скороспелых рожениц. Валентина заметила, как они упивались расцветающим и выстраданным материнством.
Стоя на часах, она с неусыпной бдительностью продолжала наблюдать и ждать от соперницы оплошности. Валентина тысячу раз внушала себе: только настороженность и неослабное внимание гарантируют успех предприятия. Она, готовясь к краже ребенка, мысленно тренировалась, выверяла свои действия, чтобы не «наследить». Никаких доказательств для ее поиска не должно быть оставлено.
Воровка понимала, что идет на страшно серьезный поступок. Предосудительный, постыдный, уголовный. Все бралось в расчет. Одно дело быть воришкой шмуток или там еще чего мелкого, другое — ребенка. Тут не только пугало ужесточенное в несколько раз наказание — до семи лет лишения свободы — важно другое. Сам смысл кражи. Материальные ценности похищаются в корыстных и низменных целях, чтобы обогатиться, чужого ребенка умыкают для души. А на содержание и воспитание отпрыска придется всю жизнь транжириться. В такой ненормальной краже вроде бы даже нет логики. Неразумно, расточительно, без толку мотать средства неизвестно на кого. А если он вырастет неблагодарным подлецом? Это будет мощная расплата за нынешний неосмысленный порыв. Шутка ли представить, сколько на маленького негодяя придется истратить денег, пока вырастишь, ужас сколько, а в результате — горе и страдание.
Впрочем, тут все зависит от родителей. «Мы будем чуткими, любящими и у малыша не найдется повода насолить нам. Он оценит достойно старательных отца и мать. И тогда какая ему будет разница — настоящие у него родители или нет», — успокаивала себя Валентина.
Так что не без толку потратят они на чадо деньги. Сейчас нужно думать о собственной душе. Чем ее можно больше всего усладить? Разумеется, ребенком. Другое богатство у Валентины есть, но нет у нее детей. Малыш создаст в семье и блаженство, и уют. Пропадет у мужа меланхолия, угрюмость, вспыльчивость. Ребенок играет с душой взрослого, делает ее добрей, искренней, возвышенней. Он вдохновляет. Утешение к старости.
После таких рассуждений выходит, что в краже ребенка тоже есть и корысть, и низменные побуждения? Нетрудно сделать вывод, что вор похищает маленького несмышленого человечка для собственного удовольствия и удовлетворения своих сердечных, духовных потребностей. Лечит свое настроение, хотя и берет грех на совесть.
Этими раздирающими душу противоречиями уже давно переболела Валентина и пришла к единственному выводу: лучше согрешить и покаяться, чем ждать в будущем дикого одиночества. А образцовым отношением к похищенному живому существу можно очистить совесть, снять с души грех, оправдать преступление. Она не убивает цветок, а удобряет почву, чтобы он пышнее расцвел.
2
Валентина так яростно возгордилась своей ущербной логикой, что готова была без всяких объяснений отнять у сопливой мамаши ребенка и заявить на него претензии по праву старшинства. А ей уже стукнуло тридцать.
Валентина беспощадным хищником стояла уже минут сорок на своей немилосердной вахте. Как коршун она стерегла добычу. И, кажется, наступала долгожданная минута. Взятая на мушку роженица, наконец, перестала теребить коляску, оставила ее в покое, а сама стремительно направилась к двери магазина, но, похоже, малыш заплакал, и она вернулась.
Вот любвеобильный прохожий нагнулся над малышом и полюлюкал. Молоденькая мама ответила мужчине признательной улыбкой, поправила белую кофточку на полной груди, пригладила джинсовую юбку и занялась обычным делом: покачивать коляску и усыплять сына.
Оттяжка выполнения задуманного раздражала преступницу. Внутренний голос советовал Валентине: «Ничего не выйдет. Поищи другого». Но рефлексы были готовы схватить этого малыша. Она даже пренебрегала опасностью: своим топтанием на одном месте могла вызвать подозрение.
Роженица вторично оставила коляску в покое и сделала попытку скрыться в магазине. Валентина жадно ловила эти томительные мгновения, наконец, почувствовала в груди бурную радость. Едва белая кофточка скрылась за массивной коричневой дверью универмага, как воровка, не обращая внимания на красный глазок светофора, у которого остановилась вереница автомобилей, огибая их, рванулась вперед, нагнув, как азартный и яростный футболист, голову.
Увы, вновь мелькнула полненькая молодая женщина — опасная соперница. Обладательница белой кофточки и джинсовой юбки окинула взором малыша, убедилась, что он не плачет и…
Но Валентина больше ничего не видела. С молниеносной реакцией, в отчаянном испуге она ретировалась на прежнее место. В который раз пришла мысль о дурном предвестии. Нельзя возвращаться, когда идешь на дело. Приметы очень часто сбываются. В таких случаях в пору отказываться от задуманного предприятия.
Валентину стал бить озноб. Ощущение холода усиливалось оттого, что вечернее солнце слабо грело, часто скрывалось за тучи. Все тело воровки быстро и нервно дрожало.
3
Стараясь успокоиться, Валентина прижала к ногам матерчатую сумку, набитую пеленками и бутылочками с пищей для малыша. Если все выйдет удачно, лжематери придется ехать больше суток в поезде с ребенком…
Глубоко разочарованная неудачной попыткой, Валентина болезненно-обреченно сгорбилась: не заметили ли ее странное поведение прохожие? Но люди шли мимо, не обращая особого внимания на посторонних, ничему не удивляясь, никого не выделяя. Все были поглощены своими заботами. И одинокая фигура, без перемен маячившая у синей скамейки сквера, никого не волновала.
Приехав сюда, в город своей юности, Валентина остановилась у подруги Раисы. Обе когда-то учились в одном классе, бегали к ребятам на свидания и к врачам — на аборты. С удовольствием жили для себя. Вольность для женщин не бывает без беременностей. Есть исключения, но в их число не вошли школьные подружки. Аборты — тончайшие мостики между сладкой нежностью и горьким страданием, подорвали молодое здоровье обеих. Необдуманно «играя», они навсегда лишили себя счастья материнства.
Раиса в двадцать два года вышла замуж. Супруг развелся с ней, едва узнал, что жена не может иметь детей. Второй муж тоже жаждал стать отцом. Бездетная семья его не устраивала и он покинул Раису. При третьем замужестве она твердо решила обзавестись чужим ребенком, взяв его из детдома. Выстояла длинную очередь. Этого же она советовала подруге Вале. Но та боялась отрицательных наследственных качеств, не желала тратить время на сбор справок, дающих право на материнство, на ожидание. Она решила пойти другим путем… Более благополучным, как ей казалось.
Настал день, когда Валентина сообщила мужу, что у них появится собственный ребенок. С этого радостного дня многое изменилось в жизни супругов.
Валентина искусно имитировала беременность все двести восемьдесят дней. Муж, человек от природы незлобивый, отходчивый, особенно стал внимательным к ней. Часто говорил ей в уютной двухкомнатной квартире:
— У нас все есть для воспитания ребенка. Главное, чтобы он родился здоровым. Он скрасит нашу однообразную жизнь и не даст развиться в нас эгоизму. Я достану тебе все необходимые продукты, чтобы малыш в твоем животике не голодал.
На столе не переводились фрукты, вкусные мясо, рыба, орехи.
Мучила ли Валентину совесть? Трудно сказать. Она свыклась со своим положением беременной женщины и знала, что «родит». Сколько их, беспечных мамаш, оставляют новорожденных без присмотра на улицах! Нужно иметь лишь сноровку — и малыш в твоих руках. Кое в чем должна помочь верная подруга Раиса. Все годы она переписывалась с ней.
Валентине нравилась забота окружающих о ее самочувствии — «от состояния настроения матери зависит насколько крепким появится малыш». Время от времени Валентина сообщала, что посещала женскую консультацию. Она бросила курить, заглядывать в рюмку с крепким напитком, к чему заимела пристрастие.
Валентина стала закатывать дома истерики. С чем они были связаны, муж никак не мог понять, успокаивал ее ради малыша. Все для него.
Мужу объясняли по секрету верные люди, что беременные женщины становятся капризными, упрямыми, требуют особых для себя условий. И он добросовестно вырабатывал у себя умение тонко обращаться с женой, стал уступать, не замечать задиристого тона. Тем более, понимал, что жена собралась одарить его счастьем отцовства.
Когда появилось у нее вздорное желание рожать в другом городе, за тысячи километров от дома, он, в основном, согласился с ее прихотью. Лишь однажды пылко произнес, что надуманная эта затея, «какой-то абсурд».
Валентина решила отбить охоту мужу делать ей замечания и устроила припадок истерии: рыдала, упрекала супруга в бессердечности, требовала извинений. У нее хранился весомый аргумент в пользу поездки: подруга Рая — молодая мать и она ей в первые дни поможет.
Сама Валентина думала о другом. Для нее в силу ее вранья так сложились обстоятельства, что она стала заложницей фиктивной беременности. Теперь уже противоестественно не умыкнуть ребенка на отшибе, подальше от своего городишка.
Муж стерпел несуразный поступок Валентины, собрал и проводил ее в дальнюю дорогу, хотел попутешествовать с ней сам, но жена категорически запретила.
И вот она несколько дней живет в городе, облюбованном для кражи. Ей во что бы то ни стало надо привезти домой малыша, скорее всего вот того, лежавшего в синей коляске у входа в «Детский мир». Валентина переместилась поближе к«объекту». Она находилась у цели. И когда снова увидела, что около четырехколесного детского экипажа нет молодой мамы в ярко-белой кофточке, она, убрав голову в плечи, рванулась к нему.
Наклонившись над коляской, Валентина в суматохе никак не могла справиться с тысячу раз осмысленными действиями. Бесполезно она подсовывала руку под теплое и мягкое тельце карапуза, сладко дремавшего в своей «комнатке». Мешали какие-то одеяла. Ей хотелось мгновенно вырвать сверток из синей оболочки коляски, а он не поддавался. Она лишь с яростью критиковала себя за то, что недостаточно тренировалась. Из-за отсутствия сноровки Валентина ощутила тело малыша неподатливым и каким-то вязким.
Более того, от внезапного резкого толчка чуткий ребенок проснулся и заблестел умными осмысленными карими глазками. Он понял ясно: кто-то не умеет мягко, учтиво, как мама, обращаться с ним. Вот-вот и могли испортиться его отношения с этой старой, некрасивой, холодной женщиной. Он все соображал: заплакать ему или подождать. Тетя ему не нравилась. Она носила блеклую одежду, а у мамы на груди белой кофточки сияла, как солнце, брошь. Мама имеет чудесные белокурые волосы, огромные карие глаза, тепло улыбается и очень приятным голосом смеется.
У Светланы тоже были до появления ребенка проблемы. Дружеское расположение между нею и одноклассником переросли в любовь. И родители в панике узнали, что Светлана собирается стать матерью. В страхе и малодушной стыдливости они созвали большой семейный совет. Успокоившись, решили, что если Светлана сделает операцию, то обеднит свою судьбу. Ранний брак несовершеннолетних зарегистрировали. Старших пугали последствия родов для очень молодой мамы и не напрасно. Роды наступили неожиданно и Светлана на личной автомашине свекра прибыла в больницу. Ребенок был почти мертв. Дежурная смена реанимационного отделения несколько часов не отходила от посиневшего малыша. Но вот, наконец, сердце будущего мужчины мало-помалу застучало, нормально забилось, дыхание восстановилось. Привели в сознание и Светлану, которая лишилась чувств от нелегкого своего состояния и от мысли впервые потерять сына. Кто мог предположить, что через несколько дней ей снова придется терять сына, не насовсем, но надолго. Сына — с новым перстом судьбы.
4
С первых дней малышка испытал невзгоды. Но благоразумие и выдержка победили, плоду дали созреть, потом его спасли врачи, и вот ребенок лежит в коляске. С больничных будней малыш привык к поддаваниям, хотя и в лечебных целях, но эта новая тетя ему категорически была неприятна. Лицо ребенка налилось кровью, он недовольно заворочался, закряхтел. Тут-то и подсунула под него руку Валентина, когда он еще не успел пронзительно запищать.
Дважды Валентина оглянулась, прижав к плечу головку похищенного ребенка. Погони не было. Троллейбус стоял на месте, впуская пассажиров. Выждав, когда водитель для нее с малышом откроет переднюю дверь, воровка нырнула в салон. Сердце вырывалось из груди, билось резкими толчками, отнимались ноги.
Когда обратился к ней ревизор и попросил предъявить билетик, она от страха не могла вымолвить ни слова. Колотились зубы, будто в холодной лихорадке. Ревизор с опаской отошел в сторону.
Электричка тоже, как по заказу, стояла «на парах», готовая к отбытию. Вбегали в вагоны последние запоздавшие пассажиры. Валентина вскочила с ними. Ей уступили место. Она неловко и грузно плюхнулась на скамейку и стала думать только о ребенке: когда кормить, пеленать, как не простудить.
А настоящая мать ребенка теряла рассудок. Еще в магазине, охваченная смутным беспокойством, она решила выйти и посмотреть малыша. Но его не оказалось. Глаза ее моментально стали безумны. Такое было состояние, словно ее выбросили в море и она тонет. Ее волной окатило сумасшедшее подозрение: ребенок похищен. Но оставалась маленькая надежда: а вдруг это шутка ее родителей или родителей мужа.
Пока она их обзвонила — ушло время. Милиция начала поиск, а воровка выходила из электрички в Москве. Переезд с вокзала на вокзал, и Валентина оказалась в поезде, который вез ее домой. Билет был заранее куплен.

А Светлана с родственниками ошалело бегала по городу и отчаянно выпытывала у прохожих, не видел ли кто женщину с чужим ребенком? Теперь уже опасались за молодую маму. Она лишалась здравого смысла. Ее поступки выглядели безумными: она все время шарила руками в коляске, словно искала не ребенка, а его погремушку.
«Ну вот мы и дома, — со вздохом облегчения вымолвила Валентина, — отмучились. Надо будет его быстренько зарегистрировать. Справка из роддома есть. Назовем его Максимом».
Муж от счастья готов был Валентину с малышом подхватить на руки. Радости не было границ. Супруг любил возиться с малышом и пытался докопаться, на кого он похож. Ни мать, ни отца он не напоминал. Особенно отца. Изредка, потом все чаще мужа терзала ревность. Он даже стал следить, подсматривать, не встречается ли Валентина с настоящим родителем ребенка. Муж стыдился своего шпионства и мучился. Но годам к десяти он понял всю постыдность своих подозрений. Валентина честно выполняла супружеские обязанности. Да и Максим вроде бы приобретал черты и матери и отца. В какой-то части.
5
Чем дальше уходил в прошлое тот день, когда Валентина выкрала Максима из коляски у настоящей мамы, тем все задумчивее она всматривалась в меняющийся облик «сына».
Супруги радовались тому, что их доброта, щедрость, забота находят теплый отклик в сердце Максима. Взрослые люди берегли его как зеницу ока. Видели, что Максим мыслит пока сердцем, а, значит, больше у них было возможности искать в нем для себя нравственную благодарность, опору. Чувствовали, что развитый в семье мещанский уклад жизни еще более способствует их сближению с неродным сыном.
Но не станет ли он чуть позже копаться в родословной, осознанно искать истоки своей генеалогии? А мальчишка имел впечатлительную натуру. Часто и на работе, и дома, вдруг, сожмет сердце тоска и она поймает себя на мысли, что сковывают ее душу смятение и паника перед потерей своего «чада». И тогда безумно душили слезы.
Она боялась, что когда-нибудь нечаянно прорвется долго сдерживаемая правда о Максиме. И выдаст она сокровенную тайну, ту, что прикрыта самым толстым слоем вранья. Спохватившись от дурной мысли, она бурно начинала себя упрекать в малодушии.
Увы, предчувствия не обманули Валентину. Постоянное ощущение того, что она когда-нибудь потеряет сына, оказались не напрасными. Неясным чувствам тревоги, оказывается, стоило верить. Впрочем, пока что все это были нервы…
Все эти годы родители вели поиск похищенного ребенка, а Раиса, однажды потеряв бдительность, проболталась о делах Валентины своей задушевной подруге, та — другой, другая — третьей. И все — по чрезвычайному секрету.
И вот сотрудники уголовного розыска постучали в дверь двухкомнатной, прекрасно обставленной квартиры. Максим один был дома. Он позвонил маме в мебельный магазин, где та работала…
Валентину привезли с ребенком в тот город, в котором родился Максим. Светлана подняла душераздирающий крик, обхватила сына и стала обжигающе, резко, неприличными словами обзывать воровку. Потупился, опешил, растерялся Максим. Никак не мог сообразить, что происходит. Валентина твердила свое — это мой сын. А похож он был явно на Светлану… белокурые волосы, прямой греческий нос, мягкий взгляд карих глаз, овал лица.
Суд проходил при большом скоплении публики. Три дня решался вопрос, с кем оставить мальчика. У Светланы за эти годы родилось еще двое детей. Валентина бросалась перед ней на колени: «Оставь его мне, на твоей совести будет моя смерть. Давай поделимся, ему у меня лучше. Спроси сама». Мальчишка держался, похоже, ближе к Валентине.
Утро, когда они все шли на заключительное заседание суда, просыпалось ясным, солнечным, чудесным. Природа ликовала. В бледно-розовом свете утренних лучей рождался новый день… С кем же захочет остаться ребенок?
Оставались минуты до судебного разбирательства.
Обессиленный мальчик представлялся подбитой птицей среди взрослых людей, переполненных нервной энергией, одержимых негодованием. Ребенка перетягивали, словно канат. Нескладно и тяжело.
Для парнишки кончалось счастливое детство. Там, в другом городе, остались привычные школа, книги, одежда, инструменты, велосипеды, даже «Москвич». Но какой закон ради них оправдает воровку, совершит попрание истинных прав матери, которая не отрекалась от сына, а выражает единое целое с ним, хоть и менее удачливое материально?
Детская интуиция беспомощна. Как поступить? Не разочаруется ли Максим бедностью и многодетностью новой обретенной неожиданно семьи?
Однако долговечен ли будет, допустим, его покой теперь у Валентины, если он узнал, что верные родители другие, а эти — вероломные? Не вспыхнет ли тотчас в пробудившемся разуме и сердце парня трагедия обманутого доверия?
Народному суду предстояло все взвесить, решить. Заинтересованные в исходе дела участники процесса ждали приговора с невыразимой тревогой.

Максим проснулся в полной тревоге. Еще вчера, укладываясь спать в теплую постель, нагретую через окно лучами заходящего солнца, у него появилось желание утром вообще не просыпаться. Давил подсознательный страх.
Нервозность и задерганность, которые он испытал в последние дни, перерастали в манию преследования. Сосредоточив сознание на этой грустной идее, ему хотелось сбежать от взрослых на край света. А когда Максим уснул в новой обстановке, его охватили мучительные кошмары: кто-то душил, давил, убивал.
Сейчас, проснувшись, мальчику требовалось успокоиться. Уловив стрекот пишущей машинки, исходивший из кухни, Максим сообразил, что это работает «на дому» его новая мама — Света.
Его слепо обожали. А что ждет здесь? Максим сволок с лица одеяло. Осмотрел комнату в утреннем свете. На соседней кроватке сладко похрапывал десятилетний новоявленный братишка Денис. Младшую годовалую Верочку, похоже, уже отвезли в ясли.
Его обязанностью, конечно, станет барахтаться с сестренкой. И надо готовиться к новой школе. Всколыхнулись притупленная боль и острота потери прежнего ребячьего уклада. Сознанием понимал, что надо жить с настоящими родителями, а незрячее сердце надсадно тянулось к былому, к друзьям, к собственной ухоженной, отдельной комнатке, к атрибутам состоятельного мальчишеского быта с мечтательной карьерой и надежной фортуной…
ВЕРСИИ, ВЕРСИИ…

1
Лейтенант милиции Петров последним торопливо вошел в кабинет начальника отдела транспортной милиции. Лицо молоденького оперативного уполномоченного уголовного розыска еще сохраняло ту улыбку, с которой он только что выслушал каламбур своего напарника по служебной комнате большого острослова капитана Бушуева.
Полковник милиции Сомов строго обвел собравшихся взглядом из-под мохнатых бровей, и лицо Жени Петрова стало подчеркнуто серьезным.
— Приступим к делу, — пробасил Георгий Митрофанович, — кому предоставим слово по сообщению об убийстве?
— Разрешите мне, — встал следователь Шаров, поправляя гражданский костюм. — Осмотр места происшествия произведен, считаю, тщательно. Он показал, что первые удары потерпевшему нанесены по голове металлическим прутом в районе сотого километра, у третьего пикета.
В бессознательном состоянии, в горячке, тяжелораненый молодой человек прополз метров двести, спустился с насыпи и оказался у домика дорожного мастера. Но постучать не смог: не дополз до двери. Стальной прут мы нашли в лесопосадке. К нему прилипла варежка, измазанная креозотом. Рукавичка, видно, соскочила с руки убийцы.
— Осенью в варежках! Личность потерпевшего установлена? — обратился полковник к начальнику уголовного розыска Николаю Васильевичу Спиридонову.
— Так точно. Виктор Варгалов, двадцати трех лет. Живет в селе Яшково, в двух километрах от железнодорожной будки. Работник совхоза. Как сказала его мать, — вечером ушел искать корову и не вернулся.
— Подумаем о причине убийства. Месть, грабеж или еще что? — вслух размышляя, Сомов тяжело обвел всех выразительным взглядом. Он приглашал принять участие в разгадке мотивов преступления.
— Много неясного. Если исходить опять-таки из показаний его матери, то при Викторе были часы «Полет» и двенадцать рублей. Деньги он получил от учительницы Ганичевой за продажу килограмма сливочного масла. Ганичева это подтвердила. Истратить деньги Виктор не мог. Было поздно. От нее он и ушел искать скотину. Ни часов, ни денег у погибшего не оказалось. — Начальник уголовного розыска перелистывал протоколы допросов. Потом спохватился. — Да, вот еще что.
— Ну-ну, — Сомов внимательно слушал.
— В носке убитого мы нашли валюту, доллары.
— Час от часу не легче. Это уже по части ОБХСС… Новая загадка, для очередной версии, десятой.
— Их тут можно и больше составить, — в тон начальнику отдела проговорил Спиридонов.
— Так, а что это за масло, — снова поинтересовался Сомов, — откуда оно?
— Потерпевший держал двух коров. Молочные продукты продавал, причем втридорога. Покупательницей масла всегда была Ганичева.
— Что выяснили о характере Варгалова? — Сомов помял в руке сигарету, но, вспомнив строгие указания врачей, а еще пуще — запреты жены, раскрошил ее пальцами и выбросил в пепельницу.
— Вообще-то, убитый многими характеризуется, как скрытный, прижимистый, никогда ни с кем в деревне не ссорился. Врагов не имел. Увлекался накопительством. Но пришлось слышать и другое мнение о нем односельчан. Варгалов, мол, был рачительный хозяин, не жадный. Всегда мог выручить соседа и деньгами, и участием в физическом труде. Берег каждую копейку, потому что были планы и жениться, и автомашину заиметь. Не курил, не пил. Сельхозтехникум заочно кончил. С умом был парень. Заботился о матери. Та в нем души не чаяла. У нее еще есть два сына и дочь, но те живут отдельно, своими семьями. Виктор у нее младший.
— А кем он трудился в совхозе?
— Помощником главного бухгалтера. По образованию — экономист.
— Сколько лет его матери?
— Без малого семьдесят. Имеет орден за примерную работу на ферме. Давно на пенсии, но часто подменяла заболевших доярок. Виктор был полновластным хозяином в доме.
— А дом-то большой?
— Из двух комнат, изолированных друг от друга, и кухни. Старуха рассказывала, что в молодую жизнь сына не вмешивалась. Его желание жениться на библиотекарше Зинаиде Часовниковой одобряла.
— Значит, появляется еще одно действующее лицо?
— Точно. Замешивается женщина.
— И большая любовь?
— Похоже.
— А если подробнее?
— По этой части допрошены многие в селе. Картина вырисовывается такая. Начали встречаться молодые с полгода назад. Зинаида частенько приходила к жениху в гости. Окончила три года назад культпросветучилище. Получила направление в Яшково, поселилась в хатке одинокой старушки, уборщицы сельского Совета, Марии Филипповны Морозовой. Она допрошена. Говорила, что последнее время Виктор дневал и ночевал у Зинаиды. Это естественно. Влюбленные вот-вот собирались зарегистрировать брак. Якобы, откладывали до ноябрьских праздников. Мария Филипповна отозвалась о Зинаиде вполне тепло и положительно. Но намекнула, что у Зинаиды женихи водились до Виктора. За одного даже чуть не вышла замуж. По возрасту Часовникова ровесница Варганову.
— Ну, а теперь — что с Зинаидой? Где она?
— Тут главная загвоздка. В тот день, перед гибелью Варгалова, она оформила себе отпуск и выехала, якобы в Сочи. К морю. Сделала это спешно и скрытно от Виктора. Хозяйку квартиры Морозову просила об ее отъезде никому не говорить.
— С чего бы это? — Сомов встал из-за стола и прошелся по кабинету. — Какие бы мы версии ни строили, без допроса Зинаиды не обойтись. Похоже, в ее отъезде что-то кроется.
Зазвонил телефон. Сомов поднял трубку и услышал голос своего коллеги из областного ОБХСС полковника Николаева. Оказывается, его подчиненные тоже уже побывали в Яшково на месте происшествия. Встревожила их обнаруженная у покойного валюта.
— Самое интересное вот что, — зарокотал бархатным сопрано начальник ОБХСС, — в доме, где квартировала Часовникова, найден загадочный импортный портфель. Хозяйка дома Морозова заявила, что впервые его видит. Портфель пришлось открыть. Он оказался набитым заграничными вещами. Там были трое вельветовых джинсов, разного цвета, десяток ковбоек, легкая куртка на молнии, кроссовки и парфюмерия. Все это явно готовилось к продаже. Так что, дело об убийстве Варгалова непростое. В Яшково, похоже, эти дни гулял фарцовщик. И как бы он ни приезжал к Зинаиде Часовниковой. Подозрения такие есть.
— Хозяйка ничего не скрывает?
— Она, похоже, действительно, портфель не видела. Зинаида могла остерегаться хозяйку и все делать тайно, — ответил полковник Николаев.
— Но ведь у Зинаиды был жених и очень приличный. Чего же ей не хватало?
— Зинаида, конечно, не могла приютить у себя первого встречного. Думаю, в село пожаловал ее настоящий «хозяин». Словом, если появится в вашем поле зрения Часовникова, дайте немедленно нам знать. И мы допросим беглянку.
Положив телефонную трубку, Сомов покрутил седой головой: неужели в Яшково залетела крупная птица? Но не мог же фарцовщик прикончить Варгалова? Ради чего? Впрочем… А если у Зинаиды был роман с кем-то, о чем не догадывался Виктор?.. Но ведь свадьба у нее с Варгаловым намечалась реально. И в то же время она была связана с фарцовщиками и помогала им сбывать «трофеи»? Могла ли беглянка втянуть в это дело Виктора? Отчего он впоследствии пострадал?
Вслух Сомов произнес:
— Видать, есть связь между найденной валютой у погибшего, обнаруженным портфелем импортных тряпок и исчезновением Зинаиды. В общем, запутанное дело, тут наскоком не возьмешь.
Сомов прокомментировал сотрудникам то, что услышал от начальника ОБХСС полковника Николаева, и подвел итоги:
— На помощь отдела ОБХСС мы можем рассчитывать… Нельзя исключать возможность убийства не только с целью мести или заурядного грабежа, но и по другим соображениям. Какие будут планы начала расследования?
— Разрешите мне, — смущаясь и робея, поднял руку розовощекий Женя Петров.
— Слушаем вас, Евгений Макарович, — Сомов любил всех называть по имени и отчеству и на «вы». Но молоденького оперуполномоченного это еще больше смутило.
Новая форма, тщательно отутюженная, ладно сидела на его высокой, стройной фигуре, а только что начищенные в хозяйственном уголке сапоги резко пахли ваксой.
К Петрову у Сомова была не только особая симпатия и отцовское внимание, но и строгость. Он приходился ровесником его сыну, Лешке, который часто до службы в армии заглядывал в кабинет к отцу. Сейчас Алексей выполнял интернациональный долг в Афганистане. Об этом знали все в отделе.
Петров вытянулся в струнку и произнес:
— Надо браться за варежку. Она принадлежит убийце и должна привести к нему. Это серьезная улика.
— Дельная мысль, — оживился Георгий Митрофанович. — Очень хорошо. Правильно.
Любуясь атлетической фигурой молодого лейтенанта, полковник вспомнил вчерашний разговор с секретарем отборочной комиссии подполковником Тумановским. Речь шла о поступившем заявлении от Петрова с просьбой принять его кандидатом в академию МВД: «Не рано ли? Не мешало бы проверить лейтенанта на каком-нибудь серьезном поручении». Сомов распорядился:
— Евгений Макарович, займитесь лично вы этой варежкой. Будем считать одной из версий, что она принадлежит убийце. Поиски владельца варежки начните с опроса жителей села Яшково, ближайших к нему деревень. Обязательно побеседуйте со сторожами ночной смены. В совхозе немало объектов с вечера охраняется. Разыщите нужных путейцев. Узнайте, кто в тот день из них проводил осмотр железнодорожного полотна. Словом, нужно на этот счет раздобыть побольше сведений. Попытайтесь расположить на откровенный разговор жителей сторожки, куда раненый приполз Варгалов. Может быть, он все-таки взывал о помощи, но ему побоялись открыть дверь? Жильцы могли смотреть в окно и что-то видеть. Для нас все важно. Конечно, будем отрабатывать и другие версии. Об этом побеспокоится Николай Васильевич Спиридонов. Одновременно нужно узнать, с кем в селе дружил Виктор, не было ли у него скрытых недругов, надо продолжать устанавливать адрес библиотекаря Часовниковой. Но и прочие по ходу дела.
— Есть данные, — заметил начальник уголовного розыска, — что Виктор своей невесте в последние дни подарил много золотых безделушек, таких, которых в наших магазинах не купишь: значит, приобретал или у спекулянтов, или покупал в «Березке».
— Опять валюта… Но где Варгалов мог доставать доллары? От такого щедрого жениха и вдруг укатила невеста! Сдается, валюта, невесть откуда попавшая к Виктору, и сгубила его, — подытожил Георгий Митрофанович.
2
На полустанке электричка, в которой вечером ехал Петров, сделала минутную остановку, предписанную расписанием. Евгений ловко спрыгнул с подножки вагона. Зашуршала под его ногами мелкая мазутная щебенка. А электропоезд уже понесся дальше, и вот уже мелькнул огоньками последний вагон и скрылся за поворотом, словно нырнул в лесную чащу.
Петров с детства любил грохот поездов на железной дороге, серьезных проводников пассажирских вагонов. Может быть, это и определило выбор профессии. После успешного окончания Могилевской средней специальной школы транспортной милиции он тоже стал железнодорожником — охранял порядок на стальной магистрали. Старался бдительно нести службу, обеспечивая сохранность грузов и безопасность пассажиров, которые мелькали в окнах вагонов: ехали отдыхать или трудиться. Итак, утром следующего дня Петров приступил к работе. Сотрудников милиции нередко называют математиками. Это, пожалуй, верно. Им приходится без арифмометра, в уме, решать задачи со многими неизвестными, доказывать сложные теоремы. В них есть икс, игрек и другие величины. К примеру, кто убийца, что толкнуло преступника на злодеяние, какие и где можно найти улики?..
Евгений решил сначала наведаться к матери погибшего. Хатка у Варгаловых скромная. Однако большой двор, со множеством сараев, а жилое помещение состояло из кухни да двух изолированных, чисто оклеенных обоями комнат, одну из которых занимал сам Виктор, вторую — его мать.
Старушка была дома. Она вытащила из-под фартука, одетого поверх фуфайки, платок и вытерла глаза.
— Знаю, что вас уже беспокоили. Извините, но требуется еще раз побеседовать. Да и вот эту рукавичку вам предъявить. Сами понимаете — такое дело в одночасье не решить. Раскрывают это преступление многие сотрудники милиции.
Долго беседовал с матерью потерпевшего Петров и вышел от нее убежденный, что после убийства преступник побывал в комнате Виктора. «Слышала шум, шаги, думала сын вернулся». Подтвердила мать, что сын собирал деньги на свадьбу и на машину, но где Виктор их хранил, она не знала. Требовалось установить: исчезли они или нет? Но решить эту задачу не представлялось пока возможным. Мать не знала ничего и о том, откуда у Виктора появилась валюта. Никаких незаконных сделок он с иностранцами и спекулянтами не совершал. В этом она была твердо уверена.
Распрощавшись с Варгаловой, Петров стал обходить дом за домом этого села. Он как бы между прочим, в беседе показывал людям рукавичку, изъятую с места происшествия, и спрашивал: «Не знаете чья?». Никто, как и мать Виктора, ее не опознал и о ней ничего не знал или не хотел говорить.
Ночевать лейтенант остался у директора школы. Среди ночи его разбудил стук в окно. Петров вышел на улицу. Там стояла Варгалова.
— Соколик, — обратилась она, а ведь я узнала, чья та варежка. — Кольки Голубенко…
— Не ошибаетесь?
— Зачем же? Напрасно не скажу. Дело ясное. Приходила ко мне полчаса назад соседская девушка Таня Степкина и все разъяснила. Ее подруга — Ольга — встречалась с Николаем Голубенко и сама ему связала, вышила и подарила.
Лейтенанта новость весьма взволновала.
— Спасибо, Дарья Матвеевна. Теперь идите домой. Остальным я сам займусь. А Голубенко этот сейчас где будет?
— Дома, небось, дрыхнет. Недавно вернулся: отсидел срок. Теперь скотникам на ферме помогает.
…Петрова даже залихорадило. Не дожидаясь утра, он позвонил на квартиру Сомову. Хотелось доложить начальнику важные сведения.
Георгий Митрофанович проснулся от того, что у изголовья, на столике заливисто трезвонил телефон. Не вставая с кровати, он дотянулся до телефонной трубки и услышал взбудораженный голос оперуполномоченного Петрова. Тот спрашивал, как ему теперь быть.
Сомов спросонок особенно густым басом ответил:
— Возьми двух депутатов сельсовета и поутру сделай обыск у этого Голубенко. И если найдешь улики — доставляй его в отдел. В любом случае Николая нужно тщательно допрашивать. Не только про варежку, но и про валюту, заграничные тряпки и так далее…
3
Голубенко с мутными глазами сидел на завалинке у своего дома.
— Привет, Николай, — непринужденно издали приветствовал Евгений парня и, беспечно посвистывая, стал подходить к Голубенко.
Николай, похоже, был после крепкого похмелья: лицо заплыло, волосы не причесаны, неприлично одетый. На незнакомца в чистеньком костюмчике он готов был плюнуть, но ограничился тем, что огрызнулся:
— Да пошел ты…
— Э, никуда я не пойду, — невозмутимо заметил лейтенант, — а вот ты почему угрюмый?
— Проваливай, любопытный.
— Ух, совсем дела плохи… Я из милиции, Коля!
Голубенко тряхнул кудлатой головой, весь встрепенулся и с интересом прочитал из рук лейтенанта его удостоверение. Потом в минорном тоне спросил:
— Чиво надо?
— Рукавичка твоя вот эта?
— Ну-у. — Не раздумывая, согласился Николай, потрогав ее.
К дому Голубенко подходили два депутата сельсовета.
— Придется сделать обыск, пойдем в хату.
— Шмон, стало быть, ну… шуруй.
Когда сотрудник милиции и понятые вошли в дом, то на столе увидели следы попойки. В комнате стоял спертый воздух, замешанный на крутом запахе самогонки. Под лавкой валялись пустые бутылки, половицы были устланы крошками хлеба, рассыпанной солью. Все это хрустело под ногами. Стол завалили объедки огурцов, селедки, лука, картошки.
В комнате можно было задохнуться.
На сундуке, без всякого камуфляжа, лежала, словно напоказ, рукавичка точно такая же, какую держал в руке Петров. Других улик в хате Голубенко Евгений не нашел.
— Согласен, что взятая у тебя с сундука варежка, парная вот к этой? — спросил Петров у Николая.
— Ну.
— Тогда собирайся, поедешь со мной в город.
Через час они были в отделе милиции.
— С кем вчера пьянствовал? — в присутствии Петрова допрашивал Голубенко следователь Шаров.
— А что?
— Отвечай на вопрос. Здесь с тобой не в бирюльки играют. Убит человек. Ты знал Виктора Варгалова?
— Ну! — опять «нукнул» Голубенко.
Участковый инспектор Фролов дал такую характеристику Николаю Голубенко:
— Своровать может. В этом деле он мастак. И брат его такой же — до сих пор сидит, а этот с полгода как освободился. Оба «срок» получали. Вдвоем таскали из совхозного хозяйства поросят и сбывали в соседних селах. Но прикончить человека — Николай не осмелится. Это не в его правилах. Убил Варгалова кто-то другой. Впрочем, чем черт не шутит, когда бог спит. В компании с кем-нибудь мог спьяну участвовать.
В селе люди более определенно защищали Голубенко: не он.
Однако факты говорили о другом. Главная улика — рукавичка, принадлежала Николаю, и поэтому допрос делали ему тщательный, детальный.
— Где ты был в тот вечер, когда погиб Варгалов? — спрашивал Шаров.
— Не помню.
— Уже забыл? — воскликнул темпераментно Петров.
— В клубе, кажись, кино смотрел.
— Какое, если не секрет? — Это Шаров задал вопрос.
— «Человек-амфибия» вроде. Что я помню? Башка и без того трещит.
— С кем был в клубе? — опять отрывисто и громко произнес Петров.
— Один.
— Ты оставил на месте происшествия а тот вечер свою визитную карточку — варежку. Это что, после кино или до? — спросил Шаров.
— Чиво? — неподдельно удивился Николай.
— То самое. Выходит, ты причастен к «мокрому» делу. А говорили в селе, что ты только на кражи способен. Так что, не до конца тебя знают. Придется арестовать вашу светлость, — резюмировал Петров.
* * *
От последней фразы Голубенко встрепенулся, словно проснулся. Губы затряслись, голос задрожал, глаза увлажнились.
— Зачем шьете, кто сделал мокруху, того и цепляйте. Чиво захотели?..
Николай повесил голову, зашмыгал носом, по щекам потекли ручейки слез. Видно, тяжела для него была даже мысль о лишении свободы.
Он вытер рукавом глаза, нос и снова заскулил:
— Не убивал я. Зинка Часовникова подтвердит. С ней я в тот вечер смотрел картину в клубе.
— Вот это врешь, — запротестовал Петров, — она еще днем уехала в отпуск, на автобусе.
— Чиво? Ее на следующее утро на станцию повез на мотоцикле какой-то мужик…
— Кто такой? — Шаров даже приподнялся, ожидая ответа.
— К Зинке приезжал старый ухажер. Мишкой зовут.
— Выходит, Зинка и ночь с ним была? — заметил Петров.
— Они ночевали на сеновале у меня!
— Вот как? А мотоцикл чей? — в один голос спросили следователь Шаров и оперуполномоченный Петров.
— Не знаю. Мишка на нем приехал в Яшково.
— А пьянствовал ты в тот вечер с кем?
— Пришли из клуба и похмелились немножко, Зинка и Мишка полезли ко мне на чердак спать, а я еще с одним корешком выпил. Мать моя в отъезде, я один, чиво не выпить.
— Ну, а рукавичку почему на месте убийства нашли?
— Чиво?
Николай больше нукал и чивокал. Однако утверждал, что Варгалова в тот вечер не видел, но знал, что Зинка от Виктора скрывалась с прежним кавалером у него на сеновале, а хозяйка Зинкина считала, что ее квартирантка уехала. Голубенко описал приметы заезжего.
4
— Мое мнение, товарищ полковник, — арестовывать надо Голубенко, — решительно сказал Петров. — Его нужно непременно и срочно задержать. Может быть, не он убивал в прямом смысле, но без его участия не обошлось. Разрешите выписывать протокол?..
— Так уж сразу, — Сомов сам уже дважды беседовал с Голубенко. Успел съездить и на место происшествия, и в село Яшково. Подозреваемый Голубенко вызывал у него двойственное чувство. Полной уверенности в вине Николая не было. Казалось, кто-то действовал за его спиной, прикрываясь им. Но лейтенант пытался доказать обратное.
Сомов слушал Петрова, сам анализировал и задумчиво смотрел в окно. Сентябрьский день стоял дождливый и ветреный. Тучи низко плыли над городом. Косые линии дождя хлестали по стеклу, ветер лепил к нему желтые листья.
— Евгений Макарович, вы обратили внимание на то, что Зинаида еще целую ночь, после убийства Варгалова оставалась в Яшково? А вы доложили, что она вечером за несколько часов до убийства Виктора уехала из села. Точнее надо работать. Это важная деталь. И еще вот что, Шерлок Холмс. На следующий день после убийства Варгалова Николай бегал по соседям и занимал деньги на сигареты. А ведь деньги-то у него должны были быть, если он обчистил Варгалова. Сумма крупная все-таки у Виктора из квартиры пропала. Тот, кто залез в комнату к Варгалову, наверняка знал, где деньги у Виктора хранятся. А полными сведениями об этом могла располагать Зинаида… Что это за тип Мишка? Установили досконально?
— Так точно. Фамилия Ерепанов. Три года назад шабашничал в Яшково: строил дом председателю. Тогда познакомился с Часовниковой. Это рассказала хозяйка Зинаиды. Когда же Часовникова умотала из села, до убийства Варгалова или после? Сам запутался. Морозова говорит, что Зинаида отправилась в город, якобы, автобусом. Ей нельзя не верить. А Голубенко твердит, что ее отвез на мотоцикле некий Михаил, причем уехала Зинаида на следующий день после убийства, а ночь провела со старым женишком у Николая на чердаке…
— Красивенький кроссворд. Так сколько дней жил этот Ерепанов в селе? И где ночевал? У Голубенко?
— У него только последнюю ночь. А до этого у заведующей магазином. Якобы этот Мишка отбывал наказание вместе с мужем продавщицы Сальниковой.
— Значит, Зинаида — старая подружка Ерепанова, — в задумчивости произнес полковник. — Он что, со шрамом?
— Со слов Голубенко, у Ерепанова есть рубец на правой щеке.
— С Николаем он не отбывал наказание?
— Нет. Голубенко-младший был в детской колонии, а вот со старшим братом — отбывал. Тот до сих пор в местах лишения свободы.
— Не был ли Николай посредником между Зинаидой и Ерепановым? Не организовал ли им встречи в тайне от Варгалова? Во что бы то ни стало нужно разыскать Зинаиду. Похоже, эти заграничные тряпки ей в комнату доставил Мишка. Он же и обладатель валюты. Но как Мишка «поделился» этими долларами с Виктором? За какие услуги он мог дать их Варгалову, причем перед самым убийством?
— Вряд ли мы найдем Часовникову, — усомнился Петров. — Она дикарем укатила или в Крым, или в Сочи.
Помолчав, начальник продолжал:
— Допустим такую версию: старший брат Голубенко, с которым отбывал срок Ерепанов, из переписки с Николаем узнает, что Часовникова вот-вот выйдет замуж за Варгалова. Делится этой новостью с Михаилом. Тот, скорее всего, не освобождается, а делает побег и приезжает навести справки в Яшково. Пока добирался до села, обворовал какого-то иностранца — вот тебе и тряпки, и валюта. С ними он и заявился в Яшково, по пути угнав мотоцикл. Оставил портфель с дефицитом у Зинаиды…
— Ну, а с какой стати Ерепанов мог поделиться валютой с Варгаловым? — недоумевал Петров.
— Это нам пока не ясно. Точно одно: вместе с Зинаидой уехал и Михаил. Думаю, что оба они в городе, Ерепанов может дать еще не одно происшествие…
— Я как-то сразу об этом не подумал, — сконфузился Петров. — Но вполне такое может быть…
— Значит, поступим так. Завтра на работу не выходите. Даю однодневный отпуск. Побродите по городу. А заодно думайте над раскрытием убийства Варгалова. Наша работа, кстати, такая же творческая, как и у писателя или композитора. А Николая Голубенко отпустите. Задерживать его пока нет оснований.
— А рукавичка? — удивился такому решению Петров, — путаные объяснения, разве это не улики?
— Пока косвенные. А кто такой «Меченый» — так его назовем — очень важно докопаться. Вот читаю в протоколах допросов свидетелей: «Элегантно одетый, новенький костюм, модные туфли, импортный плащ, шляпа». Сбежал из колонии и при таком наряде. Значит, воровал. И в село заявился свести счеты с Варгаловым. Причиной убийства может быть месть. Ерепанов осмелится и Зинаиду где-нибудь пристукнуть. Угроза для нее реальная от такого матерого зверя. Дорого ей могут обойтись шашни. Так что действуйте. Вы свободны. Позовите Спиридонова. Для угрозыска тоже есть задание.
5
Николай Васильевич Спиридонов доложил Сомову:
— Часовникова обманула односельчан, что ушла в отпуск. Как сообщили в областном отделе культуры, она взяла полный расчет. Сослалась на то, что выходит замуж и срочно выезжает к будущему супругу.
— Зачем ей понадобился такой финт? Догадываешься?
— Думаю, она причастна к преступлению, — ответил майор.
— К самому убийству? Вряд ли. А вот место, где хранил деньги Варгалов в своей комнате, она подсказала Ерепанову. Ее нужно разыскивать так же, как и «Меченого». Составьте ориентировки и на нее. Да побыстрее отправьте. Откуда она родом, установили?
— Ее мать живет в Бердянске Запорожской области. Культпросветучилище кончала наше. Три года назад. Тогда же приехала по направлению в Яшково.
— Так, так. Значит, хозяйке сказала, что едет отдыхать в Крым или Сочи? Заметает следы. Направляйте сегодня самолетом оперативную группу в Бердянск. Там может быть и «Меченый». Кстати, сообщение пришло из Воркуты. Ерепанов, он же Федоткин, он же Смоляной, по прозвищу «Алмаз», бежал из мест лишения свободы месяц тому назад. Как мы и предполагали.
— «Меченый», или «Алмаз», может еще находиться в городе…
— Ловушки для него поставили?
— В Яшково, в доме, где жила Зинаида, устроена засада.
— Правильно. Они могут вернуться за портфелем с импортными шмотками. И в городе тоже установите наблюдение за всеми злачными местами.
Полковник Сомов был уверен, что «Меченый» еще в областном центре. Не давала покоя найденная у убитого Варгалова валюта. Не втянул ли его в свою компанию приезжий Ерепанов? С одной стороны, это могло случиться — Виктор был жаден до денег, с другой — исключалось — он вел честный образ жизни, ни в чем предосудительном не замечался односельчанами. В быту был скромен, честно и старательно трудился.
Одна из версий все-таки была такая: Варгалов совершал противозаконные валютные сделки, это и послужило причиной его убийства компаньонами. Часовникова тоже оставалась загадочной фигурой. В убийстве Варгалова ей отводилась неприглядная роль. В одной из версий она предполагалась соучастницей нападения на Виктора. Отрабатывалось и такое предположение: в убийстве Варгалова принимал участие и Голубенко. Один он совершить преступление не мог. Это было ясно и Сомову. Что касается Петрова, то ему чудился Николай настоящим убийцей.
Словом, версий было хоть отбавляй. Имелась еще вот какая: портфель с импортными вещами «Меченый», выкрал у какого-нибудь попутчика-иностранца. Таким же образом приобрел и валюту. Следовательно, есть жертва среди гостей-иностранцев.
Георгий Митрофанович попросил Спиридонова:
— Свяжись с соседним УВД на транспорте, не было ли у них на дорогах пропажи вещей у граждан из других стран. А я проинформирую МВД.
6
Утром следующего дня Петров зашел в отдел лишь затем, чтобы передать своему товарищу капитану Бушуеву ключ от сейфа и один документ, требующий срочного исполнения.
— О, кстати, — встретил лейтенанта восклицанием коллега, — тут по коридору где-то ходит, мается твой подопечный.
В это время открылась дверь и на пороге появился Николай Голубенко. Одет он был в новенький плащ, виднелся свежий воротничок сорочки, на ногах блестели начищенные полуботинки.
— Ты так нарядился, точно собрался на собственную свадьбу, — сказал парню словоохотливый капитан.
— В чем дело, — спросил лейтенант Петров в свою очередь, — зачем приехал? Я тебя пока не вызывал.
Николай хмуро молчал, ковыряя у себя под ногтями.
За него ответил Бушуев:
— Как это зачем приехал? С повинной явился. Раскаяться решил. Угадал, Николай?
Капитан с нарочитой серьезной одобрительностью похлопал Колю по плечу, как бы говоря: «Одобряю раскаяние».
— Это так? — переспросил Петров.
— Ну… — неожиданно согласился Голубенко.
— Тогда, надеюсь, расскажешь все по порядку.
— Ну, — утвердительно кивнул Николай.
У лейтенанта аж затряслись руки от долгожданной удачи. Он быстро составил протокол явки с повинной и буквально помчался к полковнику. Мысли его были самые радужные: «Ну вот, а Сомов не верил! Я же печенкой чувствовал, Николай убил Варгалова. Что ни говори, а рукавичка — это настоящая улика».
— Все в порядке, товарищ полковник. Читайте протокол явки с повинной Голубенке Это он прикончил Виктора. Что и требовалось доказать…
Самые напряженные минуты у работника милиции те, когда он от подозреваемого с помощью улик добивается признательных показаний. Позади отработанные десятки версий, сотни допросов жителей сел, сторожек, железнодорожников, множество опознаний, очных ставок, обысков, засад и, наконец, успех — зрелые плоды опыта, знаний, профессиональных навыков.
«Преступник не только изобличен, — думал Петров, — но и добровольно пришел в милицию, чистосердечно во всем признался». Лейтенант готов был бить в литавры, празднуя заветную победу.
А Сомов, словно в пику лейтенанту, воспринял новый доклад до обидного мрачно, без эмоций и всякого энтузиазма. Бегло прочитав протокол допроса Голубенко, полковник вернул его лейтенанту и с сожалением в голосе произнес:
— Увы, Евгений Макарович, это не то, что нам нужно, — затем, пристально посмотрев в глаза оперуполномоченному, баском добавил, — мое задание остается в силе. Идите гуляйте, а заодно поищите настоящего убийцу… в городе. Загляните к Николаю Васильевичу Спиридонову, он уточнит поручение. А Голубенко отпускайте. Это мое категорическое указание. Отберите у него подписку о невыезде и не задерживайте парня ни одной минуты. Кстати, понаблюдайте, не будет ли он с кем-нибудь в городе встречаться…
— Но ведь он признался в убийстве?
— Потом во всем разберемся.
7
Петров вышел из кабинета Георгия Митрофановича подавленный, ничего не понимая. После беседы с начальником уголовного розыска настроение тоже не улучшилось: Спиридонов разделял точку зрения Сомова. Лишь посоветовал лейтенанту взять личное оружие и «потопать ножками».
Покидая отдел внутренних дел на железнодорожном транспорте, Петров раздосадованно посмотрел на удаляющегося по улице Голубенко. «Упустили убийцу», — горько хмыкнул он.
Но делать нечего, Петров, выждав несколько минут, направился за Голубенко. В городе наступил обеденный перерыв, трудовой народ из учреждений выплеснул на улицу, битком заполнив тротуары, и Петров потерял из виду своего «путеводителя».
Но Петров был уверен, что в городе встретится с Голубенко. Евгений подумал: «Не зря Голубенко приоделся. Выходит, парень не сомневался, что после признания в милиции его не задержат. Значит, приход в отдел внутренних дел с повинной — это комбинация. Но до нее сам Голубенко не мог додуматься. Следовательно, Николая кто-то опытно инструктирует. Евгений начинал догадываться кое о чем… Ему стало стыдно за ту настойчивость, с которой он требовал задержания Голубенко. «Что обо мне подумает полковник?»
…В городе совсем стемнело. И когда лейтенант крепко забеспокоился, считая, что упустил Голубенко, в эту самую минуту на освещенной центральной улице Петров увидел знакомую фигуру Николая. Тот входил в ресторан «Восток».
Теперь в сотруднике уголовного розыска вовсю заговорило профессиональное чутье. А между тем напомаженный Голубенко скрылся за дверью питейного заведения. Не раздумывая, Петров направился туда же.
Голубенко снял плащ, подошел к большому зеркалу, поправил ворот рубашки. Затем лениво, вразвалочку направился в большой зал ресторана, к угловому столику с хорошим круговым обзором. За ним уже сидел вполоборота к выходу кряжистый, сутулый мужчина лет тридцати в кожаном импортном пиджаке. Его впервые видел лейтенант.
Петров заметил, что незнакомец лишь старался подчеркнуто спокойно и независимо ковырять вилкой в тарелке. На самом деле он хищнически, заинтересованно осматривал каждого входившего в зал. В левой руке мужчина держал фужер с вином. На пальце поблескивал внушительный перстень. Из-под кожаного пиджака показывался яркий пуловер. Все по моде. Все с иголочки.
Оперуполномоченный присел за соседний столик так, чтобы не оказаться в поле зрения Голубенко, но и не скрываться от незнакомца. Тот скользнул взглядом по нему и отвернулся. Он пил мелкими глотками вино и закусывал. Кивком головы поприветствовал Николая. Время от времени посматривал на входную дверь.
Только сейчас Петров заметил, что окно перед сутулым открыто, занавеску пузырил ветерок. Незнакомец, видать, не всегда пользовался дверью, когда надо удирать.
Евгений принял беспечный вид, рассматривая меню.
Ярко накрашенная официантка поправила у зеркала высокую прическу и пошла к угловому столику. Похоже, она в сутулом клиенте угадала щедрого и богатого посетителя, поэтому обслуживала вне очереди. Незнакомец заигрывающе подмигнул красавице в роскошном фартуке.
— Что будешь пить, — спросил скрипучим голосом незнакомец у подсевшего к нему Голубенко. Тот молчал, потом отрицательно покрутил головой.
Сутулый помог официантке собрать на поднос посуду, положил ей в руку несколько купюр, сжал девушке пальцы, как бы говоря, что сдачи не надо. Та состроила ему благодарные глазки.
Получив расчет, официантка сунула деньги, не считая, в карман фартука и плавной походкой отошла от столика. Опять остановилась у зеркала.
Теперь только начался разговор между незнакомцем и Николаем. Сутулый не то простуженным, не то сиплым от природы голосом произнес речь:
— Все сделал, как говорил? Видишь — и не сунули в изолятор… Надо знать милицию. С мое повидаешь — научишься. Ну, так как все сделал?
— Ну…
— «Ну» да «но», — передразнил сутулый, — натуральное шампанзе. Как тебя только земля держит… Натурально.
Голубенко нервно заерзал на стуле:
— Меня-то держит. А вот тебя. Я-то взял все на себя…
— Тихо, тихо, попридержи нервы. Зинку видел?
— Она ж с тобой уезжала.
— Дала деру, падла. Но я ее на краю света найду.
— В деревне ее нет.
— Туда она уже не заявится…
И вдруг Голубенко осмелел:
— Ну ты, Мишка, гад. Подвел меня под сто вторую, а сам чистенький. Да, видать, еще деньжат хапанул кусков десять. А мне пулю в лоб. Хорош гусь. Рукавичку у меня спер. Подбросил ее под «мокруху».
— Заткнись, гнида. Вот твоя доля, — сутулый двинул по столу плотный сверток, — и попробуй пикнуть. То же самое с тобой будет. Кто мне не нравится, тому я сам судья и исполнитель приговора. Натурально. Сегодня же ночью из Зинкиной комнатухи стащи мой портфель. Припрячь куда-нибудь. Там шмоток на пару кусков. Продай. Да не сразу. Выжди. Это тебе будет еще добавка, и эти деньги бери…
— Не-е, — упавшим голосом ответил Голубенко и сверток отпихнул от себя. От угроз сутулого парень враз сник.
— Привередничаешь! Сказал, тебе сидеть — и посидишь. То признавайся, то отрицай все. Не расстреляют и срок дадут условно. А заживешь натурально. Но, если продашь — смотри. Последний раз предупреждаю.
— Где тебя искать, если надо будет посоветоваться?
— Я сам дам знать, — незнакомец встал, повернулся к выходу. Он был не просто сутулый, а горбатый. Петров увидел теперь и розовый шрам на бледной левой щеке. Сверток с деньгами лежал на столе. Голубенко опустил голову и всхлипывал.
«Вот он — убийца», — лейтенант выскочил из-за стола. Его теперь заметил Голубенко. Сотрудник уголовного розыска метнулся к парню:
— Он — Мишка? Быстро отвечай.
— Но-о…
— Забери со стола сверток и отнеси в отдел. Там жди меня.
— Ну-у, — еще раз хлюпнул носом Голубенко и положил в карман деньги.
Петров со всех ног бросился за горбатым. Куда он мог держать путь? Конечно, на железнодорожный вокзал.
8
Евгений выбежал из ресторана. Через дорогу, на троллейбусной остановке, неспокойно топтался в плаще и шляпе «Меченый». Не успел Петров пересечь проезжую часть улицы, как тот исчез, сев в частную автомашину.
Лейтенант остановил такси и рванулся за горбатым, в сторону железнодорожного вокзала. Как хотелось лейтенанту иметь в запасе несколько минут, чтобы дать знать о себе в отдел. Но приходилось дорожить каждой не то что минутой — секундой.
Петров не ошибся. «Меченого» манили поезда. Он заскочил в станционный буфет, но тут же выбежал из него и устремился к высокой платформе. Там, готовая к отходу, стояла электричка. Горбатый заскочил в последний вагон и прытко пробежал весь электропоезд до первого вагона. За преступником стремглав несся Петров. Наконец убийца, тяжело дыша, сел у окна. Открыл его. Он любил открытые окна. За ними была его свобода. Но, видать, подходил воле конец.
Волнуясь, лейтенант навел темный зрачок пистолета на убийцу:
— Руки за спину. Вперед на выход, — крикнул лейтенант, не замечая, что поезд тронулся.
На ходу электрички, одним натренированным прыжком «Меченый» бросился в окно, головой вперед и вылетел из вагона. Секунда и он уже покатился под насыпь, в траву, к кустам орешника. Там начиналась зеленая зона пригорода.
Петров, не раздумывая, в профессиональном азарте, последовал примеру горбатого. Он прыгнул за преступником и чудом уцелел.
— Стой, стрелять буду, — закричал лейтенант, едва встав на ноги, и выстрелил вверх.
Несколько шагов отделяли «Меченого» от зарослей, а там — ищи ветра в поле. Петрову жутко было представить, что он упустит убийцу. В это время кто-то в электричке сорвал стоп-кран. Из остановившегося, заскрипевшего тормозами электропоезда высыпали пассажиры.
Двое из них — рослые парни — бросились наперерез бандиту. Они оказались на пути «Меченого». Слева от убийцы неизвестно откуда вырос железнодорожник в форменной фуражке и ярко-оранжевой безрукавке. Справа наступал на преступника с пистолетом в руке лейтенант Петров.
Назад дороги не было «Меченому». Как все обреченные люди, он хотел жить и надеялся на чудо. В выпученных глазах его металась искра: «Что же теперь делать?» Он судорожно искал малейшую возможность продлить время своего существования.
Окруженный, горбатый еще больше ссутулился и не знал, куда пятиться. Наконец, затравленно озираясь, он заметался в кольце людей. Расплата приближалась. В руках негодяя зловеще блеснуло лезвие финского ножа. Он полоснул им себе одежду, истошно захрипел: «Ну, стреляй, легавый! Чего ж ты…»
Убийца жестоко выругался.
Крупные плечи бандита конвульсивно дергались, руки тряслись. Оскал был похож на волчий, словно «Меченый» собирался загрызть любого, кто подойдет к нему.
«Неужели не возьму живьем?» — медленно продвигаясь к бандиту, тревожно думал лейтенант и для острастки трижды пальнул у него над головой.
Испытывая нервы гада, Петров еще один за одним разом пальнул над головой «Меченого». Последние два патрона он оставил и вправду для убийцы. Но тот не выдержал и поднял руки.
9
Доставив «Меченого» с помощью двух парней-дружинников в отдел внутренних дел на железнодорожном транспорте, Петров утомленный, но счастливый доложил полковнику, что задание выполнено.
Сомов улыбнулся впервые за эти дни и сказал что-то бодрое, веселое для лейтенанта, но тот от возбуждения не расслышал.
Затем полковник сам допрашивал «Меченого». Присутствовали начальник ОБХСС из областного управления Николаев и лейтенант Петров.
— Назовите свои фамилию, имя, отчество, возраст, — попросил Сомов.
— Ерепанов Михаил Евграфович. Наполовину Салтыков-Щедрин. 30 лет от роду.
— Запираться, считаю, нет смысла. Часовникова уже у нас и дала правдивые показания, Голубенко тоже. Портфель с заграничными вещами — вот он, — Георгий Митрофанович потряс им над головой. — Кому он принадлежит — тоже известно. Их владелец, с которым вы ехали в спальном вагоне поезда «Киев — Москва», Рудольф Гаупман в больнице поправляется. Естественно, может вас опознать. Так что, пока мы вас ловили, все о вас и узнали…
— Хмы! — неприятно передернулся бандит.
— Веревочка вьется, конец будет. Сколько раз судим, Михаил Ерепанов, он же Федоткин, он же Смоляной.
— Все понял, гражданин начальник. Четыре раза выслушивал приговоры народного суда. Разрешите на этот раз самому вынести вердикт, — высокими юридическими словами изъяснялся «Меченый» — есть большое желание выпрыгнуть из окна вашего кабинета. Все-таки пятый этаж. А внизу не соломка, асфальт. Сколько раз я нырял в разные форточки и фрамуги, а вот с пятого этажа никогда. Потому что тогда хотел жить, сейчас — нет.
— Это надо было делать раньше, до задержания и не из моего кабинета. С чего ж началась ваша скользкая дорожка?
— Пили мои родители по-черному. А я с младшим братом Василием были сами по себе. Как в том мультике. Что для детей. Воровать начал в школе из карманов, портфелей. Ваську научил. Как-то погорели, натурально, на одном деле. Ему условно дали, а мне тюрягу, так как была уже вторая судимость. С Зинкой Часовниковой познакомился, можно было бы и жениться, да снова влип на три года. И вот узнаю, что она, моя зазноба, единственная и неповторимая, вздумала справить свадьбу не со мной. Я рванул когти из зоны. Решил с ней свидеться. Все бабы любят богатых женишков. Вот я на последние деньжата и купил билет в люкс-вагон, чтобы с фраером зажиточным поближе познакомиться.
— Тебе в твоем положении еще хочется балагурить, — вмешался полковник Николаев. — Ну, а у Варгалова, покойного, откуда и зачем валюта в носке оказалась?
— Это тактика, чтобы милиция подумала, что он стал жертвой валютных операций. От себя кусок оторвал, а ему мертвому заначку сделал. И вот еще что. Тут рядышком сидит и прилежно слушает разговор наш сотрудник, как вы его величаете, Евгений Макарович. Так вот моя просьба: дайте ему еще по одной звездочке на погоны. Отличился парень. Ну и Голубенко отметьте. Я понимаю: это он привел за собой «хвост» в ресторан. Сагитировал его угрозыск. Кстати, Евгений Макарович, не тешь себя мыслью, что ты отлично работал. В ресторане я тебя засек, да некогда было рассчитаться. Сейчас жалею… Зинаида о «судьбе» Варгалова ничего не знала, правда, она мне поведала, где он прятал деньжата. Ничего Виктор ей не дарил. Я ей раньше дал две тысячи. На них и покупала, а на Варгалова ссылалась. Так надо было.
— Ладно, не трепитесь, — сурово сказал Георгий Митрофанович и нажал кнопку, вмонтированную в крышку стола. Вошедшему в кабинет конвою резко приказал:
— Держать в наручниках, чтобы не прыгал больше в окна. Отправьте к следователю Шарову, а потом — в изолятор. «Натурально-о!»
После увода задержанного и минутной паузы Сомов произнес:
— Вот еще какие нелюди на белом свете водятся.
А лейтенант Петров сразу подхватил:
— Как вы были правы: Голубенко, действительно, не виноват…
Георгий Митрофанович поднял руку:
— Сочтемся славою. Не об этом речь. Молодец — вот в чем дело. Знаю, вы подали заявление с просьбой принять вас кандидатом в нашу академию. Так, имейте в виду: одну рекомендацию напишу и дам вам я. А сейчас идите отдыхайте. Завтра тоже будет трудный день. Поступило сообщение о серьезном происшествии на станции Карповка. Отправляйтесь утром туда. Придется на месте разобраться…
1977—1978
НЕПОПРАВИМАЯ ОШИБКА

1
Судили двух ловкачей из межрайонной конторы «Заготскот» — директора Петра Ткачука и главного бухгалтера Якова Коробкова. Почти неделю шел судебный процесс. В огромной комнате буквально негде было упасть яблоку от наплыва людей, пришедших послушать это нашумевшее дело. Многие, сдавая скот, соприкасались с методами работы жуликов, а потому сполна отдавали им сейчас свое презрение.
Мне был знаком Петр Иванович Ткачук. Несколько лет назад волею случая я оказался в холодную январскую ночь в доме этого человека. Еще тогда мне показалось, что Ткачук непрост. Что-то таилось за приветливой улыбкой, простецкими, свойскими разговорами. За показной веселостью, украинской разговорчивостью он скрывал даже от жены и дочери свою внутреннюю тревогу. Присутствие в его доме следователя областного управления внутренних дел его явно беспокоило. Неприятным показалось щедрое застолье с приглашением главбуха по случаю «спасения от замерзания в морозную ночь следователя». Так каламбурил Петр Иванович. Он и Коробков пили лихо и много.
— Ох, шикуешь ты, отец, — произнесла тогда дочь директора Люба. А Ткачук ставил на стол третью бутылку коньяка. От слов дочери его губы скривились в нехорошей улыбке. Оказывается, я верно предугадывал неладное.
2
…Сижу я теперь на процессе и вспоминаю то, что предшествовало встрече с директором.
Ночь была светлая от снега и луны. Мороз стоял крепкий, градусов на тридцать. Огромный тяжелый круг над головой обещал еще больший мороз. В этот час я и оказался на проселочной дороге, идущей вдоль железнодорожного полотна, между станциями Янеча и Блинцы. Может, стоило вернуться назад, в Янечу, это гораздо ближе, чем Блинцы, но я быстрым шагом шел вперед.
Желая сократить путь, свернул на проселочную тропинку. Прошел с километр и застрял в снегу: сбился с дороги. Побегал взад-вперед, покружил и опять вышел на бездорожье. Жутко стало на душе. Я присел у одинокой ели. И сразу навалилась на меня сонливость. Набегался, что называется, вдоволь. Но чем это могло кончиться, отлично понимал. Борясь с дремотой, начал растирать себе уши, щеки. Чтобы не замерзнуть, прыгал, приседал, словом, занимался физкультурой. Поругивал себя за легкомысленность — ночью, в лютый мороз пуститься в дорогу. Что же делать теперь!
Невдалеке, за лесом, раздался свист локомотива, грохот состава. По тяжелому, ясному пыхтению взбирающегося на подъем паровоза нетрудно было догадаться: железная дорога рядом. Я обрадовался. Двинулся, не разбираясь, по целинному снегу, через сосенник, на эти спасительные звуки. По шпалам, думал, пойду — не заблужусь.
Наконец, добрался до цели, ноги мои радостно ощутили шпалы. Вскоре со стороны Янечи показался новый товарняк. На подъем он шел так медленно, что когда локомотив поравнялся со мной, я крикнул машинисту: «Притормози, я сяду на подножку. Подвези следователя».
Но проскочил мимо один вагон, второй, а ухватиться за скобу тормозной площадки мне не удавалось. Поезд уже набирал скорость. Голова машиниста на секунду показалась в окошечке и тут же исчезла. Ясное дело, со мной не хотели связываться. На глухом перегоне меня можно было принять за любого пешехода, только не за работника милиции.
Напрягая остатки сил, я все же удачно прыгнул на подножку и с облегчением вздохнул. Но рано. Проехав с полчаса, на середине какого-то перегона поезд вдруг стал сбавлять скорость, а затем и вовсе замер. Дальше его не пускал красный огонек светофора. Я спрыгнул и снова оказался на бездорожье, хотя думалось, что теперь я шоссе найду.
Часа полтора петлял, пока впереди не увидел зачерневшую фигуру человека. Мне оставалось двинуться на нее, крича: «Скажите, где дорога на Блинцы?»
Человек высокого роста, в полушубке, меховой шапке-ушанке, по-медвежьи расставил ноги, склонил голову и ждал, когда я к нему подойду. Я подошел и увидел, что мужчина сам в беде. Он, ударяя кнутовищем себя по сапогам, пояснял, показывая кивком на лошадь:
— Чертяка, испугалась чего-то. Рванула в сторону — и в сугроб. А в Блинцы вы по этой дороге не попадете. Надо в обратную сторону.
Теперь я мог рассмотреть лежавшие на боку санки и застрявшего по брюхо в снегу коня.
— Ткачук Петр Иванович, директор местной конторы «Заготскот», а вас как величать? — назвался он.
Я тоже представился. Ткачук продолжал:
— Давайте вытащим из сугроба сани и поедем ко мне отогреваться, а поутру провожу вас на Блинцы. Я-то по неволе здесь. Встречал на каникулы дочь. Не приехала.
Я взял за передок, Петр Иванович — сзади, сани приподняли и поставили на полозья. Уселись. Ткачук рывком стащил с себя полушубок и накинул его на меня. Сам остался в теплом, грубой вязки, свитере. Мне одежонка оказалась кстати: я дрожал, как осиновый лист. За дорогу перемолвились двумя-тремя словами.
И вот мы въехали во двор солидного дома. Заволновался на цепи огромный пес. Ткачук взял его за ошейник, привязал покороче, чтобы я без опаски прошел к двери.
Боже, подумалось тогда, куда только не забрасывает судьба следователя. Вот так и становишься бывалым в своей профессии человеком.
Лег спать в отдельной комнате, на оттоманке. Я тут же заснул. А проснулся, когда было светло и шумно в квартире.
— Скорее, скорее к столу, а то все съедим и выпьем, — звал меня Ткачук. — Свое чадо я-таки встретил, но у порога собственного дома.
Застолье было по случаю семейного праздника — приезда на каникулы дочери Петра Ивановича — Любы. Ее-то он и встречал ночью, а добралась она попутной оказией только утром. Среди приглашенных за столом сидел и главный бухгалтер конторы Коробков. Но об этом я узнал потом. Хозяйка дома, маленькая, доброжелательная женщина лет сорока, мелькала, как челнок, между столовой и кухней. Ей помогала Любаша, проворная, ладная, с пушистой прической, лет двадцати. Карие глаза с веселым и дерзким любопытством скользнули раз-другой по мне.
После нескольких тостов мы с Любой оставили «стариков» за столом, сами удалились в свободную комнату. Приятен был мне голос девушки, полный, глубокий — чистая музыка. Я намекнул на возможность дальнейших встреч в городе. «Посмотрим», — философски ответила девушка. Я ловил каждое ее легкое, изящное движение. Когда я уезжал, Люба сунула мне в карман сверток с провизией и весело прошептала:
— Если снова заблудитесь в дороге, голодная смерть вам не грозит.
Люба училась на втором курсе педагогического института в моем городе. Вскоре я узнал, что она сильно простудилась, болела и взяла на год академический отпуск. Я все ждал ее, чтобы также весело поболтать, но тут меня самого направили учиться в столицу. Через два года, окончив академические курсы, получил длительную командировку на Новую Землю.
3
Так мы с Любой больше и не встречались. И вот сейчас сидим вместе на судебном процессе. На скамье подсудимых — ее отец с закадычным дружком Коробковым Яковом Иосифовичем.
Люба смотрит вперед напряженно, сжав руками сумочку. Короткая стрижка сделала ее незнакомой, чужой. Не скажу, чтобы ее девичья красота, осанка исчезли. Но прежняя Любаша мне нравилась гораздо больше.
Свидетели изобличали в жульничестве Ткачука и Коробкова.
Принимая живность от индивидуальных сдатчиков, Ткачук и Коробков прозрачно намекали: «Коровушка худа, хотя можно сделать ее и пожирнее…» Не договаривалось взяточниками лишь слово «за мзду».
Один за другим поднимались на трибуну свидетели. Бойко или робко, скупо или многословно, красочно или просто, без всяких бытовых деталей, они раскрывали хищную, железную хватку жуликов.
Главный свидетель Занятина Нина Федоровна, лет сорока, производившая впечатление уравновешенного, неподкупного человека, подробно отвечала на вопросы судьи, женщины молодой, строгой на вид, придирчивой к туманным ответам свидетелей.
Обмахивая себя носовым платочком и одергивая платье, Занятина отвечала:
— Ткачук Петр Иванович сказал мне, что телку не примет, она худая очень, но в виде исключения можно было бы, но за это полагается… Я спросила, сколько. Он ответил — три бутылки коньяка. Я сбегала, купила. Иначе повела бы скотину домой. Потом еще одну сдавали корову — сестрину — и опять взятка…
В таком же духе резали правду-матку и другие.
4
Как же разоблачили взяточников? Сначала поймали с поличным главного бухгалтера Коробкова. Пригласил Коробкова в контору «Заготскот» Ткачук взамен уволенного якобы за нечестность Потапова. Сейчас Потапов выступал в качестве свидетеля. Коробков, выяснилось, — старый знакомый Ткачука. И вот этот ставленник самого директора оказался нечист на руку. Тогда считали, что самому Ткачуку ничто не грозит. Просто пригрел ловкача, и тот ему напачкал в конторе, злоупотребил доверием… Именно Ткачук, будто, и схватил жулика за руку. Говорили, что с честностью и осмотрительностью директора много не наловчишь. Другие, более осведомленные, в непричастность Ткачука к махинациям не верили, и, узнав об аресте Коробкова, ждали событий.
Когда Ткачук, высокий, красивый, энергичный украинец, возглавил контору, дела пошли в гору. Он любил выступать на собраниях любого уровня, призвать к бескомпромиссной борьбе с разгильдяями, очковтирателями, нарушителями дисциплины. В районном масштабе это была колоритная фигура. Ткачук с первых дней произвел хорошее впечатление, а в таких случаях руководителю дозволяется многое. Ему верили, поэтому разрешили пересмотреть кадры. Тут-то и был уволен (не совсем законно) прежний главбух. Его бы наверняка восстановили, но Потапов не стал разжигать страсти. Устроился на менее беспокойную должность и продолжал свой трудовой стаж.
А новый главный бухгалтер Коробков, как зафиксировано в деле, судимый ранее за хищение, затем амнистированный по соответствующему Указу, оглядевшись, стал придумывать способы варварского обогащения.
Коробков в Госбанк выставлял номера квитанций, по которым сдатчикам скота выданы наличными деньги в кассе конторы, и давал поручение перечислять второй раз указанные суммы в районный узел связи, а оттуда переводил деньги в другие города на свое имя, до востребования.
У Коробкова накопилась уйма сторублевок. Он закладывал их между страницами книг, засовывал в квартире во всякие щели, и тратил без стеснения. Класть на сберкнижку деньги Коробков боялся.
Жил Коробков после развода с женой один, приглашал к себе надежных женщин, угощал их хорошим вином, подносил подарки. Бывало, едва посетительницы покидали квартиру, он не находил себе места: нервы сдавали. Белый свет был не мил. Ему хотелось пойти в ОБХСС и все рассказать. Потеряв осторожность, он и оказался пойманным с поличным. Кто-то сунул Коробкову меченые деньги, а сам заявил в милицию.
При обыске в его квартире изъяли девяносто семь сотенных купюр.
Коробков брал все на себя. Никого не впутывал: знал, что за соучастие полагается большой срок. Всяких толков плодилось вдосталь. Предсказаний и предложений — тоже. Злопыхатели вещали, что милиция постарается выпутать из дела директора конторы. Раздувать процесс против Ткачука, мол, не в интересах районного начальства. То, что он вор — это ясно. Но то, что кажется ясным для людской молвы, требует канительных процессуальных действий для милиции. ОБХСС искал соучастника главбуха.
Когда в уголовном деле зафиксировалось то обстоятельство, что Ткачук в преступных акциях Коробкова имел свою долю, когда пришли с покаянными признаниями взяткодатели, прокурор санкционировал арест директора.
Ткачук возвращался с берегов Азовского моря, и у своей личной автомашины был взят под стражу.
5
Тут и разыскала меня Люба Ткачук, вспомнившая обо мне: помоги!
— Пойдем вместе и послушаем дело в суде, — предложил я Любе, — и ты поймешь, что никто тебе помочь не сможет. — Я уже многое знал о ее отце. Итак, начался судебный процесс.
В прошлом слушалось в этом зале много мною законченных дел: простых и заковыристых, тонких, как брошюра, и многотомных, как сочинения Жюля Верна. Дело на Ткачука и Коробкова закончил не я, мой товарищ. Он немало потрудился над изобличением ловкачей.
Происшествия подобного рода звонко отзываются в людской молве. Молниеносно распространяются слухи, будто кто-то еще замешан в преступлении, чувствуется осведомленность о причастности тех или других лиц, называются баснословные денежные суммы, прикарманенные взяточниками.
Слухи растут, как снежный ком. Они подрывают авторитет местной власти. Болтуны не скупятся на эпитеты. Конечно, все это имел в виду законодатель, когда получение взятки относил к тяжким должностным преступлениям. Взяточничество, разумеется, реально подрывает престиж советского государственного аппарата и нормальную деятельность его учреждений, нарушает охраняемые законом права и интересы граждан.
Однако вернемся в зал судебного процесса.
Серьезная и наблюдательная судья профессионально точно, как говорится, в самое «яблочко», задавала вопросы участникам процесса.
Сорокапятилетние Ткачук и Коробков выглядели на десяток лет старше: серые, обросшие щетиной, с тяжелыми мешками под глазами. Весь их вид как бы печально говорил: «Совершили непоправимую ошибку».
6
…Человек, решившийся на преступление, как правило, не сознает, что значит для него честная жизнь. Он не ценит то, что имеет: спокойствие духа. Он не замечает, как легко ему было все делать в жизни: ходить, спать, принимать пищу, разговаривать с друзьями. Но едва он умышленно и корыстно переступит порог своей чистоплотности и порядочности, в жизни его образуется пустота. Он, к примеру, приобрел задарма автомашину, припрятал мешок кредиток, но жизнь потеряла для него (преступника) легкость и беззаботность, стремительность и покой. Даже смысл. Он мается, смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего ему недостает. И начинает ходить такой человек тяжело, с оглядкой, точно ноги вязнут в трясине. Он теряет вкус к самым изысканным яствам, приобретенным на нечестно заработанные деньги. От постоянных тревог его существование становится мрачным и нервным. И в один прекрасный день, если преступник не лишен здравого рассудка, он поймет, что сосущая пустота в душе образовалась от потери самого главного стержня жизни — чести, непогрешимости. Но сделать он уже ничего не может.
Прошлое не вернешь, не перечеркнешь. За нарушения закона следует расплачиваться. И боль от этой мысли внутри сердца становится нестерпимой. Ее не залечишь коньяком любой высокой марки…
Ткачук всматривался в зал. Увидел дочь, и по его волосатым щекам потекли слезы. Люба тоже заплакала. Три дня мы провели в судебном заседании. У девушки теперь не осталось сомнений в вине отца. Она смотрела неотрывно на него, такого не похожего на того, каким она привыкла гордиться, и все старалась понять, как он докатился до скамьи подсудимых.
Как могло ее постичь такое горе и позор?
…Спустя много лет, уже работая в другом городе, я случайно встретился с Любой. С ней рядом шла девочка лет пяти-шести. Люба рассказала мне, что давно вышла замуж, имеет двоих детей. Отец ее вернулся из мест лишения свободы и честно трудится. Про Коробкова ничего не знала с достоверной точностью.
Слухи ходили, что он умер. И якобы могилу его педантично-аккуратно посещает какая-то пожилая женщина. Она же поставила усопшему основательный, солидный памятник, обнеся его кованой оградкой. Ее руками могила круглогодично украшается живыми цветами.
Но это была лишь молва. А так ли на самом деле, Люба с уверенностью сказать не могла. Да и особенно не интересовалась тем, кто втянул ее отца в совершение непоправимой бесшабашности.
7
Трясина, по словарю русского языка, — зыбкое болотистое место, поросшее мхом и травой. Когда идешь по плавучей почве, видишь, что вода все больше выступает из-под ног. И вот она уже по колено, до пояса. Еще шаг — и скрылся с головой. Не так ли засасывала взяточников легкость наживы? Раз повезло, второй — и Ткачук с Коробковым уверовали в беспроигрышность доходного промысла. Гибель в таких случаях неминуема. Вопрос лишь во времени. Это доказано жизнью.
На каком-нибудь «участке процесса» случится «непоправимая ошибка» со всеми вытекающими из нее последствиями.
1978—1979
ГИБЕЛЬ ДИКА

На моем столе рядом с чернильным прибором давно заняла место гипсовая статуэтка. Она изображает породистую, красиво принявшую позу овчарку.
Передние темно-коричневые длинные лапы ее мирно вытянуты. На высокой мускулистой шее вскинута точеная голова. Пасть полуоткрыта, виден язык. Собака словно тяжело дышит. Кажется, она только что совершила стремительный бег и прилегла на минуту. Собака отдыхает. А навостренные уши вроде бы и не дремлют. Во взгляде острых глаз бдительность. Думается, что даже холодная безжизненная собака из гипса готова заметить и услышать все, что делается вокруг.
Неизменно смотрю на искусное изваяние с нежностью и грустью. Встречаясь с овчаркой на столе, всякий раз тяжело вспоминаю безвременную гибель милицейской ищейки по кличке Дик. В честь ее вылепили мне из гипса этот сувенир.
Давно собирался написать о нашей овчарке, совершившей собачий подвиг. Да в суете беспокойной следственной работы не хватало времени. А сегодня повод подтолкнул осуществить задуманное. И вот почему.
Только что вернулся с улицы. И с умилением наблюдал, с какой таинственной любовью и завистью гонялись дворовые мальчишки за мужчиной, водившим рослую лохматую собаку на поводке. Собака окончательно заворожила подростков. Псу давались хозяином степенные распоряжения: «ложись», «дай лапу», «ищи», бросалась палка, а она настигала ее. Собака умно выполняла команды. Где было знать ребятишкам, что это простые поручения для любой неглупой собаки. Где детям знать, что овчарка способна не только на это. Да и неважно им. Главное — собака… Прекрасное, достойное восхищения животное. Верное человеку. Одно из лучших творений природы. Вот что такое собака.
Что и говорить: безмерна любовь наша к этим животным. Человек поверил в дружбу собаки и приручил ее к себе. Многие держат у себя псов, но ради удовольствия и только. Для милиции дружба с овчаркой исключительно полезна. Это хорошо знакомо следователям.
Сколько полезных, смелых дел на счету у любой нашей служебно-розыскной собаки! Кажется, при современной технике, оснащенности милиции стоит ли прибегать к ее помощи, не напрасно ли мы тратим средства и время? Стоит, еще как стоит! Никогда милиция и пограничники Советской Армии не расстанутся с ищейкой, не спишут ее со своего вооружения.
Все эти мысли в который раз нахлынули волной. Смотрю на своего верного Дика из гипса и вспоминаю происшествие, которое стало для ищейки роковым. И сделало ее в наших глазах бессмертной, как любого героя.
…Сообщение о происшествии застало меня в постели: шел первый час ночи. Когда я прибыл в отдел милиции, начальник уже формировал оперативную группу для поиска заблудившейся в лесу трехлетней девочки. Полковник был не в духе, расстроен.
Все были в сборе: я — следователь, оперуполномоченный уголовного розыска, два милиционера и проводник со служебно-розыскной овчаркой Диком. Тут же стояли родители пропавшей девочки — Верзины. Отец, еще молодой мужчина, крепился. Свое волнение выдавал лишь безостановочным курением. Мать, сама почти девочка, худенькая, простоволосая, не отнимала носового платка от лица, рыдала, рекой лились по щекам слезы.
Полковник сказал мне:
— Ты поспал — тебе легче. Я еще не ложился. Дело, значит, такое. Неприятное. Видел стоят мужчина и женщина? Родители. У них пропала трехлетняя дочь Аня.
— Как пропала, где?
— Не торопись. Все узнаешь. Возглавляй оперативную группу. Возьми Верзиных, родителей девочки — и в лес. Покажут, откуда начинать поиск. С тобой поедут капитан Сличенко и милиционеры — Дарьин и Крошкин. Подключите к розыску инспектора-кинолога Гарина с Диком. Пока хватит. А утром, если потребуется, поднимем население соседней с бором деревни. Подъедет капитан Вихрев.
— Как девчонка исчезла, товарищ полковник, — повторил я вопрос.
Начальнику не нравилось, когда его перебивали.
— Выслушай до конца, а потом уже задавай вопросы.
— Но как она пропала? — промямлил еще раз я.
За долгую службу в милиции начальник научился суть любого происшествия излагать так коротко и ясно, что никаких вопросов не возникало. Сегодня он и сам, наверное, понимал, что излагает фабулу дела с длиннотами и ненужными вводными словами. Лаконичные распоряжения у него не получались, ему не удавались.
— Как? Как? — передразнил полковник. Он явно и сам был озадачен происшествием, — спроси по дороге у Верзиных.
Мы сели в машину. Дика разместили в заднем отсеке УАЗика. Собака положила морду на лапы и, видно, настраивала себя на обычную для нее работу.
Заявители залезли в свой зеленый «Запорожец», ехали впереди нас, показывая дорогу. На этой машине они приехали накануне вечером в бор подышать свежим воздухом, нарвать букет лесных цветов. Их дочь, Аня, как Верзины мне рассказывали, не отходила от них ни на шаг, они ее не теряли из виду, а едва девочка зашла за куст орешника — и как сквозь землю провалилась. Сам Верзин — продолжал хмуро молчать, через силу был спокоен. Его жена — Клавдия Ивановна обливалась слезами, рыдая.
Да и я сам был неспокоен. Тревога за судьбу девочки передалась и нам. Кстати, каждую ночь жду неожиданных вызовов на происшествия, а привыкнуть к ним не могу. Всегда они волнуют и досаждают.
Два милиционера сели в машину Верзиных. Это рослые молодые парни, недавно принятые в отдел на работу после службы в армии. Я их еще плохо знал. Со мной на втором сидении УАЗика разместились пожилой капитан Сличенко и круглолицый крепыш старший лейтенант Гарин. Они почти всегда вместе выезжают на места происшествия. Со стороны интересно за ними наблюдать. Сличенко высокий, худой и молчаливый. Большой любитель покурить. Он и здесь, в машине, вынимал одну за другой сигареты, пока не скомкал и не выбросил пустую пачку.
Гарин низкорослый, говорливый. По возрасту годится в сыновья оперуполномоченному Сличенко. Собаковод, казалось, весь был начинен философией. Все ему хочется знать, любые явления жизни расшифровать. Своими вопросами «из высокой материи» он утомлял нас. Сейчас Гарин допытывается у Сличенко, откуда берутся преступники и что они думают, когда совершают подлость. Знают ли, понимают ли они, что делают плохо?
Но его напарник как всегда был невозмутим. Когда Гарин раз десять повторил один и тот же вопрос, Сличенко притушил очередной окурок, выбросил его прочь и баском ответил:
— Про этих негодяев не хочу и говорить.
Роднило Гарина и Сличенко то, что они оба были увлечены своей профессией, профессией ловить жуликов, искоренять преступность, а значит, зло и мерзость.
Но вот мы приехали. Замигала задними огнями, притормаживая, машина Верзиных. Вышли у опушки леса, отсюда следовало начинать поиск.
Дик топтался у куста орешника. Обнюхивал ветки. Выключили фары автомашин, в лесу стало темно. Мы зажгли аккумуляторные фонари. Гарин попросил у Верзиных что-либо из вещей дочери. Овчарка долго втягивала запахи шерстяной кофточки Ани. От нее Дик повел носом по высокой траве. Умный пес искал такие же запахи на земле, понимал: нужно взять след. Похоже, что обоняние овчарки уловило что-то. Морда Дика быстро-быстро заскользила по осоке и крапиве. Поводок натянулся. Ищейка потащила за собой проводника.
Устремляюсь за кинологом, не отрываю глаз от Дика. В отделе три служебные собаки, это самая надежная. За свою службу Дик задержал более пятидесяти правонарушителей. На его счету разысканные убийцы, грабители. С его помощью мы раскрыли только за последние дни две кражи из универмага. У Дика целый набор призовых медалей — он заслужил их в соревнованиях и на выставках служебных собак. На самые сложные и тревожные происшествия начальник разрешает брать на «работу» с оперативной группой верного Дика.
Иногда высказывается недоверие служебным собакам. Авторитет Дика оставался при этом непререкаем. Усерден и опытен он был на службе.
Сейчас он тянул нас за собой. Свежий ночной ветер шелестел по невидимым листьям. Высоко над головой поскрипывали от легкого ветра вершины сосен. Сквозь ветки деревьев просматривалось темно-синее в мелких звездах небо. Обитатели бора почти все спали. Иногда что-то перепрыгнет с ветки на ветку или зашуршит крыльями по траве и стихнет, то вдруг маленькая птаха выпорхнет из-под ног. Через полчаса бега моя рубашка пропиталась влагой, майка прилипла к лопаткам. Дик лишь на минуту-вторую останавливался, впивался носом в траву, кусты, крутил яростно хвостом и снова пускался в бег. Брал след.
Отстали от нас Верзины. Путь наш за Диком продолжался. Гарин снял с головы фуражку, зажал ее в левой свободной руке. Фонарь висел у него на груди. Второй рукой он держал за поводок собаку. Тяжело бежать по бездорожью. Мы преодолевали заросли, канавы с бурьяном. Овчарка вонзалась в кусты и стремительно выныривала из них, обжигая себе морду крапивой и колючками.
Но усталость — не усталость, если знаешь, что бежишь за собакой не напрасно. Я верил в Дика так же, как и Гарин. Ночной воздух чудесен в бору. Настоян на лучших травах, черемухе, листьях молодого березняка, иголках сосен. Жаль, что приехали мы сюда не отдыхать. Вдруг собака остановилась на большом ходу, как вкопанная. Мордой заутюжила траву. Отчаянно заскулила, походила кругами и вытянулась на земле. Я посмотрел на Гарина: чтобы это значило. Он сам не понимал, дергал поводок: «Вперед, ищи след».
Как потом поняли мы, заминка у овчарки произошла обоснованная. С этого места преступник понес девочку на своих плечах. Умный Дик на минуту растерялся. Затем повел нас снова по следу. С момента пропажи Ани прошло около шести часов. Мы боялись, что Аню мог растерзать зверь, не исключали, что она, перепуганная в страшном для нее лесу, угодила в канаву или воронку, наполненную водой, и утонула. Было много версий.
Но как всегда бывает: всего не предусмотришь.
Под утро мы с Гариным изрядно вымотались. Блестела от пота и росы, снятой с травы и кустов, шерсть Дика. Путь наш измерялся уже добрым десятком километров. Осмотрев лесное небольшое озеро, мы вышли на поляну. Тусклый утренний свет колебался в сиреневой дымке. Я прислонился к стволу березки. По поляне гулял свежий ветерок. Он схватил за густую шевелюру Гарина, завихрил волосы, бросил каштановую прядь на потный, глянцевый лоб. Проводник служебной собаки сделал два-три глубоких вздоха и перешел на ровное дыхание. Красивым, легким движением руки откинул назад волосы. Приласкал, потрепал за уши Дика. В поиске прошла ночь. Забрезжил рассвет.
Лес пробуждался. Подали голос с озера кряковые утки. Над головой порхали, чирикая, пригородные грачи и скворцы.
— Дик, веди дальше, — приказал Гарин. Работа инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой — красивое зрелище. В ту минуту, на поляне, я не знал, кем больше следует восхищаться: преданным, все постигающим с полуслова Диком или хозяином Гариным, любящим свое дело больше всего на свете.
Дик снова взял след. Он по диагонали пересек поляну, подвел нас к двум хиленьким с обломанными ветками березкам. Кто-то недавно здесь бедокурил. У подножья березок валялись еще свежие зеленые листья, обломанные ветки. Все это явно было делом рук человека. Не по его ли следу мы идем? Тот ли след взял Дик? Близки ли мы к цели? А между тем преданный Дик не только найдет девочку, но и ради ее спасения примет на себя то… что мог получить любой из нас. Но об этом потом.
Пока шел поиск, мы верили Дику. Это придавало силы. Мы без устали бежали вперед. Собака от березок углубилась в ельник, а затем в густой лес. Здесь замедлила бег. Стала обнюхивать пустую бутылку и кусок кожи от сапога. В тишине леса послышалось, как долбит ветку в поисках пищи синица. А вскоре и сама птичка — крупный, яркий самец, — запорхала перед нашими глазами. Чувствовалось, что синица привыкла к людям. Значит, зимовала в городе. Дик подвел нас к штабелям, источенным жуком-усачом, круглых осиновых дров. Синичка тут же прилетела к древесине, села на полено и стала выбирать личинки жука. Щебетала утреннюю свою трехсложную песенку «ци-ци-пе».
У меня в кармане были семечки. Бросил их синичке. Она схватила пальцами одну семечку, пробила в ней дырку клювом и быстро выгребла мякоть. Подлетела ко мне за новым угощением. Но Дик заревновал. Фыркнул на птицу. Та испугалась, снова взлетела на сосновую ветку и оттуда залопотала « пе-ци-пе».
Совсем рассвело, нам уже не надо было освещать дорогу. Опять припустились за овчаркой. В уме прикидывал: если Дика постигнет неудача, чутье ищейку подведет, прибегнем к помощи населения прилегающих к бору деревень. Колхозники не откажут. Выйдут на проческу леса.
Попалась глубокая балка. В ней густой кустарник. Оставшиеся от войны траншеи завалены буреломом. Под густой зеленой травой нас ожидала вязкая предательская топь. Ноги по колено проваливались в нее.
Дик же, не в пример нам, был полон сил и энергии. Темно-коричневая его шерсть на поджарых боках блестела.
Собака красиво перекидывала длинные ноги с крупными лапами. Нельзя было налюбоваться ее мускулистой статью, силой, натренированным выносливым телом.
Порой она недовольно рычала, показывала острые точно волчьи кинжальные клыки.
Вот овчарка остановилась. Молча вытянула морду, повела ею по сторонам, прислушиваясь к утреннему лесу. Остро пахло сосной, ольхой, цветами. Это было не совсем знакомо Дику, но не пугало его. Собака навострила уши. Чуткий слух что-то уловил. Дик оскалил крупные белые зубы и плюхнулся на траву. С визгом потянулся, высоко задрал морду, призывно завыл.
Но тотчас встал, отряхнулся, побежал дальше, поросистой траве. Через минуту собака снова легла, вытянулась, вся напружинилась, в собачьем горле, как у простуженного человека, заклокотало.
Лес все деятельнее просыпался. Дик потянул воздух носом и застыл: что-то ему показалось подозрительным, потом подбежал к холодному ручью. Щелкая крупными зубами, полакал ключевую воду. Солнце все больше проникало на лесные поляны. Дику было жарко, он старался обходить места, где солнце сильно палило.
Вот он прыжками кинулся через кусты, припал на живот и пополз. Он знал, что позади за ним следуем мы, был особенно смел и активен.
Далеко мы оказались от того места, откуда вчера вечером начали поиск. Шел седьмой час утра. Гарин, всегда выдержанный и уверенный, занервничал. Собака вела нас куда-то и не было видно этому конца. Не блуждает ли овчарка по лесу?
Гарин резко дернул поводок, остановил собаку. Ему показалось, что наши поиски зашли в тупик. Уж очень нереальным, думалось, зайти девочке на такое большое расстояние от места ее исчезновения.
Дик словно понял неуверенность своего хозяина. Завизжал, из всех своих собачьих сил потянул поводок. Избоченив голову, жалобно и обидчиво косился на хозяина, как бы просил разрешения продолжать бег. Другого выхода и у нас не было. Снова мы устремились за собакой.
Дик вывел на большак, изъезженный сельскими подводами. У края дороги присел. Жалобно заскулил. Впился глазами в Гарина. Похоже, извинялся перед ним за что-то. Потом решительно встал, понюхав придорожную траву, пересек дорогу. Стал на задние лапы, подал голос. Мне показалось — победный голос. Затем снова занялся следом. Он обнюхал за это время сотни лесных и занесенных сюда человеком предметов. Все выискивал «свой» нужный запах. Без устали собака обводила носом каждый клочок травы, кустик, ручеек, банку, склянку и бежала то прямо, то в сторону, то возвращалась назад. Вдруг, обнюхивая землю, сделала петлю и подошла к хозяину. Пес лег у ног проводника, уткнув нос в сапоги Гарина. Кинолог удивился.
— Дик? Что такое? Окончательно сбился с дороги? Потерял след. Плохо! Пробежать столько — и все напрасно. Поднатужься, дружище. Я прошу тебя.
Гарин погладил Дика по спине.
Сейчас думаю, а что если в ту минуту собака близко почувствовала свою гибель и подошла попрощаться с хозяином. Она его любила. Гарин ее не обижал. Хотя порой и был строг. Он привязался к Дику, как к самому близкому и родному человеку. Он не представлял своей службы без него. Однажды сказал, что бросит работу, если останется без Дика.
— Подам рапорт, в отставку. Что за жизнь без Дика. Хорош пес. Другого такого не сыщу.
И, действительно, всем взяла овчарка: экстерьером, чутьем, преданностью своему хозяину и службе.
А Дику оставалось жить несколько минут. Через сотню метров, в кустах, Дик перешел на медленный ход, пополз, как солдат по-пластунски.
В густой чаще, под орешником мы увидели небольшой шалаш. Гарин отстегнул поводок. Дик рванулся к шалашу. Раздался истошный детский крик и предсмертный вой собаки: Дик получил удар ножа в брюхо. Но уже мертвый, он, как истинный боец, не бросил своей жертвы, мертвой хваткой вцепился в бордовую шею незнакомца. Перепуганная, зареванная Аня забилась в угол шалаша, под ветки.
Мы обезоружили преступника. Как выяснилось впоследствии, он сбежал из мест заключения, построил подлый план: прикрыться ребенком и попытаться подольше прожить в какой-нибудь глухой деревне по чужим документам.
Гарин не мог видеть издыхающего пса. Жуткая картина сразила нас, а его особенно. Он рванулся с пистолетом в руке к бандиту, полный жажды мщения, но я успел остановить его. Гарин стих и зарыдал. Впервые в жизни я видел, как горько плачут мужчины.
Преступнику надели наручники. На руки себе я посадил заплаканную, всю испачканную в грязи Аню. Глаза ее еще были в слезах, но она уже не плакала. «Вы добрые дяди, везете меня к папе и маме?» «Да, да, Аня». У меня в кармане была конфета. Я дал ее ребенку. Лицо девочки просияло.
На опушке леса нас ожидали Верзины. Я передал им Аню. Женщина кинулась целовать Гарину руки. Нелегко оказалось ее успокоить.
У въезда в город я вышел из машины. Захотелось в ранний час пройтись пешком. Меня встречали прозрачные голубые улицы родного города. В это время они кажутся особенно светлыми и просторными, как огромная комната без мебели. Первый троллейбус шуршал шинами по асфальту. Шипели метлы дворников, наводивших чистоту на тротуарах. Звенели их ведра и совки. Но картина гибели нашего верного четвероногого друга все еще стояла перед глазами, не давала покоя сердцу.
Я прошел мимо здания областной типографии, непривычно притихшей. Не слышалось монотонного гудения ее линотипов, мерного цокания скоросшивательных машин. Тревожная ночь кончилась. Был позаранок. А я уже думал о том, какое новое происшествие выпадет на мою долю, что может ждать меня и с кем поеду на очередное задание.
Гарин не ушел из милиции, приобрел новую овчарку и работает с ней. Но Дика он не забывает. На память о нем он вылепил статуэтку и подарил ее мне. Вот и стоит она у меня на столе.
Когда ко мне в гости приходит товарищ и коллега капитан Руслан Юрьевич Вихрев, мы с грустью смотрим на увековеченного Дика и вспоминаем происшествие.
1978—1980
СВАДЕБНЫЕ ПИРЫ

1
Мошенников было двое. Соловьиной трелью заливались они, околпачивая свои жертвы. Он, именовавший себя директором, звал ее экспедитором. Так даже записал в «досье» своей сообщницы. И вел его по всем правилам канцелярии. Первый лист «личного дела» — заявление Красоцкой Тамары Леонтьевны, двадцати лет, с просьбой принять на работу. На нем криво в углу нацарапано: «Удовлетворить. Табишев.» Второй документ в досье, состряпанном тоже для потехи, — анкета экспедитора. Третий лист — ведомость на выплату пособнице ежемесячного оклада в размере ста рублей. С нее удерживался, как и полагается, подоходный налог. Тамара имела годовалого ребенка, он находился где-то в Молдавии на попечении престарелой прабабушки, но об этом она предпочитала молчать. Молодой мошеннице импонировал двадцатипятилетний «директор». Ей хотелось ему нравиться, и неизвестно, как он посмотрит на то, что она уже мама?
Предусматривались экспедитору и премиальные. Выплачивались проездные по предъявленным билетам. Правда, не смог Табишев достать бланки командировочных удостоверений, но со временем надеялся это сделать. Контора должна быть солидной. Обещал платить за вредность после пережитых сложных конфликтных ситуаций, а также больничные, если напарницу настигнет в похождениях хворь.
Все эти липовые «документы» следователю потом пришлось подшивать к уголовному делу.
Красоцкая работала на совесть, добиваясь благодарности и расположения «директора». Угождала, старалась угадать каждое его желание. По ее мнению, он был вылитый Остап Бендер: такой же изворотливый в любой ситуации и неунывающий пустомеля.
Бендер был ее любимым героем: в колонии для несовершеннолетних она смотрела «Золотого теленка» пять раз. Красоцкая оказалась там за мошенничество, которое заключалось в том, что она входила в доверие к пенсионерам, изъявляла желание помогать им и… очищала кошельки умиленных старушек.
Сейчас она нашла настоящего учителя. Он самонадеянно уверял ее, что с ним она не пропадет. Табишев говорил, что дураков даже среди ученых сколько угодно и нужно уметь их обыгрывать. Первая жертва попалась на удочку мошенников почти без труда.
Все знали, что некой горожанке Степаниде для полного счастья не хватает самой малости: выдать дочь замуж. И вот через знакомую по рынку, на котором Степанида постоянно продавала овощи, она установила связь с гадалкой. Это была Красоцкая. Началось гадание. Тамара доверительно сказала пожилой женщине:
— Карты вещуют, жди, вот-вот объявится суженый для дочери. Не упусти. Второго случая такого не будет. Это я тебе говорю. Еще не ошибалась. Твоему чаду, похоже, большое счастье ожидается.
И точно. Бывают же предсказатели! На следующий день, уже под вечер, когда Степанида Петровна стояла на своем обычном рыночном месте и продавала морковку, к ней подошел молодой человек с модными черными усиками, одетый в новый кримпленовый костюм цвета морской волны. Распахнут воротничок белоснежной сорочки. На ногах импортные туфли. Это был Табишев.
— Сколько? — спросил он, подержав на весу корзину с морковью.
— За пятерку, сынок, и то по случаю.
— За десятку, — произнес покупатель и добавил: — При условии, если из нее сегодня мне приготовите ужин. Вот еще десятка. Приобретите вот у того грузина букет цветов. Приехал из Молдавии в ваш город. Хотел жениться. Да обманула неверная. Вышла за другого… И я сейчас, мать, в глубокой скорби.
— Э, твоей скорби могу помочь! — с живостью ответила женщина. — Да я познакомлю такого сокола с невиданной красавицей. — Вся Молдавия ахнет.
— Родственница?
— Могу предложить собственную родную дочь. Девушка на выданье.
— О! По такому случаю… — кавалер исчез, а через пять минут вернулся с курицей, грибами и прочей закуской.
— Бог ты мой! — всплеснула руками Степанида Петровна. — Мы такой закатим пир… — А про себя подумала: «Ну и гадалка, как в воду смотрела. Помнится, еще сказала: «Не упусти!» Да уж постараюсь. Я не я буду. Женишок люб мне.»
«Жених» оказался щедрым. Он усадил Степаниду в такси. Сопровождая ее домой, по дороге показал свои документы.
— Не сомневайся, мамаша, вот паспорт, диплом. К этому на словах добавлю, что являюсь владельцем особняка с автомобилем. Стало быть, свадьбу отгрохаем, будьте здоровы!
Потом было знакомство.
Невеста пришлась «жениху» по вкусу. Чуть-чуть выпив на радостях, Степанида хвалилась: «Сама в девках была кровь с молоком, такова и единственная, ненаглядная доченька». Еще она говорила, обнимая от избытка чувств «жениха», что только такому орлу своего отпрыска и может доверить.
Но дочь базарной торговки Степаниды с красивым именем Светлана оказалась с норовом. Заартачилась. Не желала и глядеть на жениха. С полчаса не разговаривала, надувшись, с матерью, когда та объявила свои намерения. «Что, я сама парня не найду, мама? Это вам не старые времена.» Однако вскоре гнев сменила на милость. Ее лишь смущало, что уж очень торопится кавалер начать совместную жизнь и как можно быстрее выехать к нему на родину, обрадовать отца с матерью прекрасной избранницей. «Там и подадим заявление в загс», — елейно уговаривал Табишев девушку.
— Да я же работаю, — не сдавалась красавица.
Тут не выдержала мать. Она отвела дочь в другую комнату и наставительно сказала:
— Тебе сколько лет? То-то. Чего ждешь? В девках желаешь остаться? Не раздумывай. Жених что надо. Удержи парня. Приглянись. Платье новое надень, прическу наведи. Пококетничай, помурлыкай, как кошечка, прибери его к рукам. Парень по случаю нам достался.
Что тут делать? Мать дурного не пожелает. Девушка последовала ее совету. А на следующий день, перед тем как уйти на работу, дала согласие на свадьбу. Ей передалась прыть матери. Она уже представляла себя женой богатого молодого человека. А где лучше найдешь? «Видный, денежный, должность приличная. Чем не счастливая партия. Правда, говорит, поиздержался. Ну, да у мамы для нас (в единственном числе девушка уже не могла себя представить) на этот случай пара тысчонок найдется». Теперь ее забеспокоила мысль: только бы не раздумал сам до вечера.
Что касается будущей тещи, то она пообещала чернявому зятьку сразу дать десять сотенных бумажек для свадебных покупок, ну, и на обзаведение первым необходимым это само собой…
Жених чувствовал себя увереннее и, не скромничая, начал выставлять финансовые условия.
— Пять сотенных займи, теща, сию минуту. Деньги не нужны, но тут дело принципа. А то, бывает, обещают, а сами и гроша за душой не имеют. А я обманы не обожаю. Словом, задаток гоните.
— И-и-и, — обиделась Степанида и полезла в тайничок за деньгами. — На, спрячь в карман на мелкие расходы.
Небрежно взяв три сотенных кредитки, Табишев швырнул их в коричневый «дипломат» и высокомерно изрек: «Мелочь». Он прикидывал, каким образом выманить у доверчивой женщины еще несколько хрустящих ценных бумажек перед тем, как скрыться. Сделать это он хотел до прихода невесты. Смакуя марочный коньяк, Табишев заливался соловьем и сам верил в то, что говорит:
— Эх, мать, что ты здесь, в этой дыре видишь? Какие радости получаешь? Я вот уже думаю и о тебе. Говоришь, лет десять, как своего старичка похоронила? Это плохо. Горько. Ну да живой думает о живом. И тебе молодца подыщу. Есть на примете. Лет пятьдесят ему или шестьдесят, но крепкий. Мужик отменный, полон сил.
— Да не надо мне никого, выдумал, — застеснявшись, отбивалась хозяйка. — Уж давай поначалу одно дело сделаем. Вашу свадьбу сыграем. Дай бог вам счастья и согласия. Рада буду и на этом.
— Ну, да там посмотрим, — сказал Табишев, — главное, всем нам вовремя выехать в Молдавию. Попасть на праздники надо. Национальные гуляния скоро начинаются. Кстати, надо сходить дать телеграмму, чтобы старики ждали. А ты, мать, собирайся, тоже поедешь с нами. Нечего прозябать здесь.
Пьяный «жених» нес несусветную чепуху. Но затуманенный счастьем мозг Степаниды все принимал за чистую монету.
«Зятек» собрался уходить. В это время вбежала в прихожую возбужденная, едва сдерживающая радость Светлана. Она отпросилась пораньше с работы. По такому случаю кто не отпустит?
— Ты куда?
— На почту. Жди меня. Через час пойдем на прогулку, может, зайдем в театр!..
— Приходи поскорее. Ко мне подруги придут. Отметим помолвку. Я им все рассказала.
— Да? — Табишев поперхнулся. — Фу, черт, переел. Все ждите меня здесь. Ждите. Жди-те, — на прощанье Табишев-беглец нарочито строго погрозил пальцем доверчивым «родственникам».
Через обещанный час «директор» со своим «экспедитором» были за многие километры от места происшествия.
А наутро незадачливая мамаша с дочерью-невестой сидели в кабинете следователя и давали показания. Они называли приметы липового жениха. Мать припоминала черты лица, одеяние гадалки, что напророчила суженого.
Так в милицию поступил первый сигнал о действиях группы мошенников. Операцию по их поимке мы условно назвали «Свадьба».
А через день в милицию обратился тракторист Савчук и рассказал о том, что узнал от своей жены Валентины, новой жертвы мошенницы.
2
Рано утром в селе Ополье появилась незнакомка: красивая, черноволосая, маленького роста, молодая. Она через людей узнавала, не нужно ли кому предсказать будущее, жениха. Таких желающих в селе не оказалось. Но многие колхозницы с охотой уплатили гадалке по трешке за разговор о собственных мужьях, а на языке предсказательницы — трефовых королях. Две из них, Прасковья и Раиса, на вопрос гадалки, нет ли разведенок в деревне, ответили, что близка к этому их подруга Валентина Савчук, и дали ее адрес.
Красоцкая, а это была она, лелеяла надежду пристроить на денек-другой к какой-нибудь одинокой бабенке красавца — «директора». Их фирма должна была каждые сутки приносить доход. «Экспедитор» направила свои маленькие стопы по указанному адресу, но ее опередили Раиса и Прасковья. Они прямо с порога взахлеб стали расхваливать:
— Ну, Валентина, настоящая гадалка у нас в селе объявилась. Насквозь видит, сколько юбок на тебе. Угадывает мысли. Муженек-то у тебя погуливает. Погадай на супруга, не промахнешься. Может, и впрямь он задумал, окаянный, тебя бросить.
— Даже и не знаю, — суетилась Валентина, — может, не стоит?
А между тем «пиковая дама» уже входила в дом Валентины.
— Дай руку, касатка. Всю правду расскажу. Вижу по печальным глазам твоим: околдовала суженого другая, завлекла молодыми чарами. Но не горюй. Придет к тебе твое законное счастье. И снова твои красивые очи наполнятся радостью. Вижу по линиям на ладони: вот-вот встретишь ты молодого, симпатичного и богатого…
Дальше Валя не стала слушать, перебила гадалку:
— Не нужен мне никто. Ты моего, моего можешь приворожить к дому?
План срывался. Но Красоцкая не стушевалась, сразу перестроилась:
— Могу поправить дело, касатка. Но деньги вперед.
— Много?
— Такая работа немало стоит. Поскупишься — больше потеряешь.
— Сколько?
— Скажу. Пусть уйдут подруги. Дело тайное.
Когда Прасковья и Раиса ушли, гадалка, поплотнее закрыв за ними дверь, ответила:
— Двести.
— Что вы, такую сумму? — опешила Валентина.
— Двести, — твердо повторила Красоцкая, — и только десятками, можно покрупнее, но чтобы никакой мелочи. Дело наше такое капризное. Чуть не так, и все насмарку. Судьбу изменить — работа нелегкая.
Помявшись в нерешительности, Валентина все же сняла со сберкнижки нужную сумму и вручила гадалке. Та глянула на свою доверчивую жертву пронзительными глазами, помедлила, давая понять, как трудно постигается истина, покачала головой.
— Большим колдовством заколдован твой супруг. С ним только моя мать-колдунья справится. Вот адрес. Приезжай.
Она нацарапала на листке бумаги какие-то координаты и скрылась подобно привидению.
И засомневалась, закручинилась молодая женщина. Не спалось Валентине всю ночь. Поняла, что обманула ее гадалка. Она обо всем рассказала мужу.
А тем временем Табишев допытывался у Красоцкой:
— Гадала?
— Нет, — солгала «подчиненная».
— А если обыщу?
— Ничего не найдешь.
— Ну, так и быть, — успокоился Табишев. — Где будем ночевать? Опять в лесу? Не надоело?
— Что ты! Давай опять, — обрадовалась «экспедитор».
— Губа не дура. Понравилось… Да только с теперешней деньгой жить надо по-королевски. Документы у нас в порядке. В любую гостиницу примут.
— Может, в один номер пустят? Скучать буду без тебя…
— Намотай на ус: осторожность прежде всего. Не следи, где живешь, не живи, где следишь. А нас уже ищут. Наверняка. Уразумела? А теперь — на электричку.
Мошенники пока были неуловимы. Мы их упорно искали. Во все ближайшие города направляли телефонограммы, ориентировки, но «директор» и его подручная тоже не дремали. Правда, удача долго не шла к ним в руки. Как потом они скажут: «Щипали мелочевку».
Однажды в парке Красоцкая подсела к студентке Наде Охтиной. Верная своему принципу, она сразу предложила ей хорошего жениха. Та отказалась: «Свой есть».
— Тогда давай на него погадаю. Изменников много развелось среди кавалеров. Дурят нашу сестру, — произнесла Красоцкая, состроив жалостливую мину.
Надя не устояла перед соблазном узнать правду о любимом парне. Дала руку гадалке. Красоцкая сняла с пальца студентки перстень и попыталась скрыться. Студентка подняла тревогу, закричала. Люди помогли задержать гадалку. Красоцкая вернула дорогой перстень, поцарапала лица тем, кто пытался доставить «пиковую даму» в милицию, и убежала. Мошенники снова ускользнули.
После очередного конфликта Красоцкой с публикой между «директором» и его «экспедитором» произошла нелицеприятная беседа.
— Расчет, полный расчет, — горячился Табишев. — Боже мой, — продолжал сокрушаться «липовый жених», — кого взял на ответственную работу, как мог ошибиться? И это я, с таким вкусом, с таким пониманием действительности.
Красоцкая поначалу молчала, как ученик перед учителем, даже вздыхала. Но до тех пор, пока «директор» не оскорбил ее неприятным, хотя и не совсем понятным словом «нимфоманка». Тут она просто взбесилась.
— Ишь, чистоплюй, — без всякого былого уважения выкрикнула сообщница, — брал на дело, трепался: «Оклад, премии, пайковые.» А что выходит? Ты у меня нахлебник. Кто тебя уже месяц кормит и поит?
Табишев не ожидал такого поворота. Он опешил.
— Ах, так! Расстаемся, — изрек он. — Ты забыла, что и мое тебе переходило, когда у меня был тугой кошелек.
Они пошли в разные стороны. Но отходчивая Красоцкая вернулась, догнала Табишева. Вид ее был жалким.
— Ладно, «директор», не сердись. Запиши мой адрес. Поеду к бабке. Понадоблюсь — всегда к твоим услугам. Шли корреспонденции.
Табишев небрежно сунул клочок бумаги с адресом в карман. Красоцкая как в воду смотрела, она вскоре понадобилась Табишеву, но в другом качестве.
Оставшись один, Табишев не брезговал кражами. В одном украденном чемодане оказался костюм летчика гражданской авиации. Он напялил его на себя. Кое-где жало, но носить было можно. В костюме летчика ему повезло на новое удачное знакомство.
…Прошло минут пятнадцать-двадцать после отхода электрички из Москвы. Молодой, симпатичный парень в форме летчика и юная, не менее привлекательная девушка открыто и с интересом смотрели друг на друга.
Тоня, так назовем героиню новой истории, почему-то вспомнила недавно вычитанное в словаре слово «эксцитативный», что означало «внушающий интерес, чувства». Именно таким показался ей сидящий напротив молодой человек. Он смотрел на Тоню и чуть-чуть лукаво улыбался, как бы приглашая девушку познакомиться.
Душа у бедной Тони замерла. Она не в силах была отвести взгляд от смуглого цыганского лица молодого человека. И, чего греха таить, ей очень хотелось познакомиться с улыбчивым парнем-летчиком. Она ответно улыбнулась. Не сказав друг другу ни слова, оба почувствовали, что первое знакомство состоялось. Тоня подумала: «Видно, судьба».

— Руслан, — назвал себя парень, легонько дотронувшись до руки девушки.
— Тоня, — ответила она.
— Смотрю и завидую вам. Какая милая и обаятельная девушка. С вашей красотой сниматься в кино, а вы едете в душном вагоне. За свои двадцать пять лет впервые встречаю такую писаную красавицу. Честное слово.
Тоне приятно было слышать от хорошо воспитанного человека (это она сразу отметила) комплименты.
После двухчасовой беседы молодые люди настолько прониклись взаимной симпатией, что когда Руслан предложил Тоне выйти в тамбур вагона и поговорить наедине, девушка лишь для приличия помедлила.
Теперь молодому человеку ничто не мешало горячо признаться Тоне в любви. Здесь, в тамбуре вагона, он разоткровенничался: едет на побывку в Молдавию, там ждет его девушка, к которой он когда-то был привязан. Когда-то, но не сейчас. Да, Тоня так вскружила ему голову, что он готов немедленно изменить свой маршрут и поехать вместе с ней, просить у родителей девушки согласия на брак. Он не намерен упускать своего счастья.
— Я вас люблю, Тонечка, — пропел шепотом Руслан, — на край света увезу. Ни в чем нужды знать не будешь. Все лучшее, что изготовляет отечественная и зарубежная промышленность, будет твое. Со дна морского достану жемчуг и к твоим ногам брошу…
Руслан переходил с «вы» на «ты». И в этом Тоня тоже усматривала признак интеллигентности. Но она не теряла девичьей бдительности, улыбнувшись, спросила:
— Вы всем так вот сразу в любви объясняетесь? Наверное, не одну уже в слезах оставили?
— Напрасно обижаете, — грустным голосом произнес летчик. — Душой я одинок. Мне необходим хороший друг. Преданная и верная супруга. Не радует меня мое богатство и высокая зарплата. Семьсот рублей в месяц — тьфу! Мелочь. Скоро заполярная надбавка, еще две сотни — тоже ерунда. Отец министр. Тоже непрочь незаметно подбросить мне на карманные расходы. Я отказываюсь, да где там! Заботливая мамаша все подарки посылками гонит. Воркует мне: «Что твоя нищенская зарплата?». Она у меня заслуженный врач. Защитила диссертацию на доктора наук. Старики у меня что надо.. Недавно отгрохали мне дачу на берегу Черного моря. Если согласишься, то как только отгуляем свадьбу, сразу укатим туда. Родители мои будут рады. Можно пригласить твою мать к нам в гости. Пусть понежится…
У девушки гулко забилось сердце. И все-таки Тоня нашла в себе мужество уклончиво произнести:
— Вы, однако, торопитесь.
В мыслях же Тоня была уже дома, в родном селе, с великолепным, всем на зависть женихом.
Руслан наступал по-боевому. Он чувствовал — успех обеспечен.
— А что тут плохого? Я давно искал свой идеал. И вот нашел. А любовь? Разве ее не бывает с первого взгляда? Вспомните Баха, Чайковского, Карамзина, Мамина-Сибиряка, наконец, Кропоткина-старшего.
Слова Руслана подействовали на Тоню магически, авторитет его рос как на дрожжах. Она больше не могла противостоять новоиспеченному ухажеру. Вздохнула, махнула рукой, улыбнулась легко, точно сбросила с плеч тяжелый груз, выпалила на одном дыхании:
— Так тому и быть: согласна. Наверное, и вправду судьба.
Табишев (а это опять был он) не скупился на посулы, клятвы, признания. Произносил их до самого порога Тониного дома.
Родителям Тоня представила жениха как парня, с которым давно переписывалась втайне от них. А теперь вот он сам явился и предлагает руку и сердце.
Что и говорить, обрадовались несказанно счастью дочери родители. Все в женихе было на высоте: и должность, и зарплата, и дача. Родители, не мешкая, стали готовиться к свадьбе. Молодым отвели отдельную комнату.
— Зарегистрировать брак успеем, — сказал Табишев, — в любви дело, а не в паспортной кляксе.
Он телеграммой пригласил к застолью свою «сестру». Она явилась без промедления. Это была Красоцкая. Руслан не потерял ее адрес.
3
Но свадьбу затормозила милиция. Родной дядя невесты, бывший летчик, засомневался в женихе. Хотел поговорить с ним о новых конструкциях самолетов, да Руслан не смог поддержать беседу, попал впросак. Дядя сообщил нам приметы жениха и попросил его проверить. Из его рассказа нам стало ясно, что это Табишев со своей соучастницей подбираются к новой жертве.
«Жениха» мы брали, когда по просьбе Ивана Максимовича Груздева, дяди Тони, молодые шли к нему в гости.
Следующей была Красоцкая. Она нежилась в мягкой постели, когда мы пришли в дом невесты.
— Одевайтесь, — попросил ее следователь, — и предъявите документы. Свадебные пиры завершаются.
Похождения подходили к концу. Операция «Свадьба» успешно закруглялась. Мошенники теперь имели дело с правосудием. А что касается их жертв, то они сами себя наказали и попали в смешное и грустное положение. И поделом: нечего бросаться в объятия первым встречным, они могут оказаться непорядочными людьми, а то и просто, как в нашей истории, мошенниками.
1979—1980
МИНИАТЮРЫ
ИЗ БЛОКНОТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Будни милиции… Это слаженные, а порой отважные действия уголовного розыска, ОБХСС, следователей. Работа блюстителей порядка — это допросы, обыски, погони, задержания тех, кто не в ладах с правопорядком и законами.
Служба в милиции, действительно, не шуточная, однако и в ней есть место забавным встречам — веселым и грустным. Вот таким, как эти…
Пересортица
Вы спрашиваете, что такое пересортица и почему этого слова нет в толковом словаре Владимира Даля? Сейчас я вам все сам поясню. Вот с чего начинается это мудреное понятие.
Семен Петрович Гирькин (иногда его называют просто — Сеня), придя в свою овощную палатку системы «Коопторг», тяжело вздохнул и задумался: где взять денег на опохмелку? По этому поводу перво-наперво позвонил приятелю — заведующему фруктовой базой Иосифу Адамовичу Шулеровскому. Тот, недолго думая, воскликнул:
— Пересортица. Она, родная, завсегда выручит.
Семен Петрович Гирькин попытался мягко возразить:
— Боязно. Прошлый раз народный контроль чуть не накрыл. Да опять же и ОБХСС существует…
— Сеня, — оптимистично пошутил Иосиф Адамович, — ОБХСС бояться — горилки не пить. Смелее приступай к делу. Третий сорт продавай вторым, второй — первым. Торгуй. Накладные для прикрытия я тебе выпишу, а настоящие документы здесь, на базе, припрячу. Яблоки все продашь — потом накладные липовые порвем, а настоящие — к отчету приложим. Так что, вечерком обмоем пересортицу.
«Эх, была не была», — сказал сам себе Гирькин и хриплым голосом стал зазывать покупателей:
— А ну, налетай на витамины! Мед, а не яблочки. Смотри, любуйся. Краснощекие, как девицы… Первый сорт!
К окошечку ларька пробрался без очереди неизвестный молодой человек в клетчатом пальто и шляпе. Он с любопытством переспросил:
— Первый сорт, говорите?
— Высший! — ответил Гирькин и поперхнулся. Продавец раньше уже видел этого мужчину. Тогда он был в милицейской форме, с погонами капитана.
Захлопнув окошечко, Гирькин рванулся к телефону. Пальцы у него тряслись.
— Алло! — закричал Сеня в трубку, — Иосиф Адамович, здесь обэхээсовец. Неси скорее настоящие накладные! Что? Где они? В ящике из-под макарон. Сам же туда прятал! Нашел?
— Нашел, спасибо, гражданин Гирькин. Их-то мы и ищем, — сказал кто-то совсем не голосом Иосифа Адамовича. Выходило, что на базе тоже были обэхээсовцы…
Вот и получается, что во времена Пушкина общество в слове «пересортица» не нуждалось, поэтому оно отсутствует в словаре Даля.
Не убивал же!
Неизвестный шофер самосвала сбил на шоссе парнишку. Мальчика отправили в больницу, а милиция начала искать виновника дорожного происшествия. Вскоре он был установлен: водитель городского автохозяйства Жокин. Его элегантно одетого, но растерянного, доставили на допрос. Он оправдывался:
— Не заметил я. Темно было. Что с мальчиком?
— Предварительное заключение — перелом ноги.
Жокин обрадовался, что мальчик жив.
— От этих пацанов спасу нет. Путаются на пути, а для меня каждый рейс со щебенкой — заработок. Вот и спешил. В чем моя вина. Не убил же?..
Растерянность прошла. Ее сменила злость.
— Хорошо, пойду в больницу, отнесу гостинец. Пусть выздоравливает. А вы все же установите, кто виноват: я или сорванец.
Бесполезно было доказывать, что в любом случае шофер должен остановиться на месте происшествия. Этого требуют правила движения. К тому же Жокин был действительно виновен. Наказание его зависело от степени тяжести телесных повреждений пострадавшего.
В больнице Жокин с полной сумкой продуктов разыскал врача.
— Доктор, как парнишка, которого вчера на дороге подобрали?
Рука Жокина в хозяйственной сумке легла на коробку с тортом. Доктор ответил:
— Мальчик в хорошем состоянии.
Пальцы шофера с торта сползли на банку варенья.
— Как вы говорите?
— Легкие ушибы.
— Ах, вон оно что? — рука Жокина скользнула по яблокам, ухватила одно из них. — Передайте парнишке, пусть поправляется!
А сумку с остальными гостинцами понес домой: ушибы-то легкие.
Благородный
Милый старичок по фамилии Бабушкин любил по старинке совершать прогулки к железнодорожному вокзалу. Он, почетный железнодорожник, получал удовольствие от гудков, скрежета вагонных тормозов, людского потока. Он любил смотреть, как лихие таксисты привозили и увозили пассажиров.
Наивный, добрый пенсионер особенно умилялся одним водителем, который мотался взад-вперед на личных «Жигулях». И в жару, и в холод, и в дождь, и при ветре он, похоже, не щадил себя. Да и автомашину.
Кто бы к нему ни подходил с тяжелой поклажей, куда бы ему ни сказали подвезти, автолюбитель тотчас выполнял любую просьбу.
Все это наблюдал старичок Бабушкин из привокзального сквера. Он от души восхищался бескорыстным автолюбителем. «Побольше бы, — думал пенсионер, — таких благородных людей».
Однажды в приливе нежных чувств Бабушкин, опираясь на палочку, подошел к тому владельцу «Жигулей» с тем, чтобы произнести сердечные слова в его адрес, сказать ему все, что он о нем думал.
Приложив картинно руку к груди, Бабушкин начал речь:
— Вы благородный человек, товарищ автолюбитель. Я все лето наблюдаю за вами то с одного, то с другого места. Отзывчивое у вас сердце. Никому не отказали в подвозе. Вы этим людям запомнитесь на всю жизнь.
Сначала юркий мужчина — владелец «Жигулей» — не понял в чем дело. Он думал, что старичка требуется куда-то транспортировать и по привычке ловко открыл ему дверцы своей автомашины. Но Бабушкин еще больше растрогался:
— Нет-нет, я подошел только затем, чтобы вас поблагодарить за других.
И тогда шофер-любитель все понял. Он сочным баритоном самодовольно произнес:
— Слушай, божий одуванчик, коль за подвоз нечем платить, то и не суйся. У меня твердая такса: я меньше сотни не беру, пусть хоть три шага до твоего дома.
Оптимист
Около подсудимого рыдала мать. А он ее успокаивал из-за барьера в суде:
— Не плачь, мама, вот увидишь, в тюрьме я стану бригадиром.
Старушка сразу повеселела, глаза ее просохли: она очень хотела, чтобы сын хотя бы там стал человеком, выбился, как говорится, в люди.
Исправился
Допрашиваю мошенника Редькина. Его обвиняют в том, что он корыстно обманывает граждан. Входит к ним в доверие и вымогает «взаймы», то бишь без возврата, деньги.
Вид у Редькина неприятный, неряшливый, но его жаль. Хочется убедить бездельника заняться полезным делом.
С замечаниями он с готовностью соглашается:
— Точно, подло поступаю. Уж столько назанимал десяток, что посадить меня за это не грех. Но вы не арестовывайте — исправлюсь. Клянусь! В случае чего, меня жизнь осудит.
Мне доставляет удовольствие, что Редькин быстро осознал свою вину. «Зачем человека арестовывать? — думаю. — Авось, возьмется за ум, молодой еще…»
Обо всем этом говорю самому Редькину, беру от него подписку и прошу завтра же сообщить мне, куда он устроился на работу.
Редькин вышел из кабинета, а я подошел к окну. Вижу, как Редькин идет по привокзальной площади, подходит к какой-то старушке… Прикладывает руку к сердцу. Умоляет ее о чем-то…
Оказалось, он пытался «занять» у нее пять рублей «до завтра» — ему, мол, позарез нужно заплатить штраф в милицию. Вот так исправился!..
Честно выручал
В кабинет следователя доставили молодого человека — спекулянта. Он, скупив водку по десятке за бутылку, перепродавал ее в два раза дороже. К тому же, преступную торговлю развел в вагоне поезда.
Свидетели его изобличают. Один за одним приходят в кабинет на очную ставку и добивают шкурника: «Мне продал…» «Мне продал, 20 рублей потребовал».
Спекулянт, высокий, худой, сгорбленный, в роговых очках на остром носу, мрачно насупил брови, тяжко, угрожающе дышит. Наконец, не выдерживает и возмущенно восклицает:
— Что за люди, что за люди! Склоку разводят. Я же их честно выручал, а они платят мне черной неблагодарностью. Ну уж они выпьют теперь у меня!
Беспокойный
Из семьи, ехавшей на личном автомобиле, угодившем в катастрофу, двое погибли, а третий, хозяин «Жигулей», на следующий день после аварии пришел в сознание и, едва открыв глаза, тревожно простонал:
— Она це-ла?
Следователь и врач, дежуривший у койки больного, ждали и боялись этого вопроса, потому что жена и дочь водителя лежали в морге. О ком же вспоминал владелец транспорта, едва придя в себя, едва опомнившись: о дочери или о жене?
Следователь медлит, затем осторожно переспрашивает:
— Кто, она? — и видит как оживился, возмутился пострадавший.
— Как это кто «она», как это кто «она»! Естественно, ма-ши-на!
Гадалка
На двухэтажном доме, у главного входа, вывеска: «Отдел милиции». Перед зданием — зеленый летний скверик. У клумб с цветами — синие, желтые и красные скамеечки. На некоторых из них сидят мужчины, женщины. Одеты в строгие по цвету и покрою костюмы, платья. Это свидетели. По вызову один за другим они идут к следователю. Многие впервые. С момента получения повестки в голове людей сумятица. По какому делу? И что спросит в кабинете следователь? Конечно, скажет, что гражданский долг каждого — честно отвечать на вопросы в милиции.
Люди волнуются. Томятся. Мужчины, как водится, курят, обсыпаясь в озадаченности пеплом. Женщины мнут руками дамские или хозяйственные сумки. Многие из них дома сняли с пальцев кольца и перстни, чтобы не выглядеть пустыми и праздничными.
Разговоры ведутся вполголоса, нехотя. В основном, молчат и поглядывают на входную дверь здания: кого позовут следующим.
Вдруг через открытое окно слышу бойкий молодой голос с акцентом. Привстаю из-за стола. Вижу юркую чернявую женщину в цветастой кофте и широкой юбке. Она предлагает то одному, то другому… погадать. Этого только не хватало. Под самым, как говорится, носом у милиции.
Но ко мне заходят люди и я не могу оборваться, чтобы спугнуть гадалку. Вскоре слышу, что гадалка нашла в скверике себе клиентку. Подхожу к окну поближе. Седая женщина интеллигентной наружности подставила руку «пиковой даме». До меня доносится: «Скажу, касаточка, что ждет тебя у следователя. В казенном доме узнаешь, золотая, неприятность…» Говорит, предсказывает цыганка что-то еще. Наблюдаю, как шевелятся ее губы. Нет, надо определенно принять меры. Я звоню в дежурную комнату. И тут же ко мне в кабинет входит эта седая старушка, которая доверилась «провидице».
— Кармушкина я. Сына моего вызывали, да нет его дома. В студенческом строительном отряде. Неужто беда какая? Что он натворил? Не поверите, сердце обрывается. С ума и в правду сойду…
Умоляющими глазами она смотрит на меня. Томительно ждет ответа. Теперь не могу скрыть улыбки, объясняю примолкшей женщине:
— Напрасно себя мучите. Сын ваш чудесный парень. И гадать на него не рекомендую! Вообще — пустое занятие. Надувательство. Сами можете убедиться. Ваш сын помог нам задержать злоумышленника. Подписан приказ о его поощрении. Берите подарок. Вот он — фотоаппарат. Это — сыну. И от нас еще раз вам спасибо.
Женщина на минуту лишилась дара речи. Зарделась, сконфузилась:
— Фу, с горя да в радость.
Она несколько раз сердечно поблагодарила мое начальство за большое внимание и честь, оказанные ее сыну — студенту и выбежала из кабинета. А через полминуты слышу гневные слова в адрес нерасчетливо оставшейся в сквере гадалки:
— Неприятности в казенном доме! Простаков все ищете. Я-то, дура, подставила руку. Вот фотоаппарат сыну. Заслужил у милиции. А ты мне — неприятность.
Еще долго слышу в открытое окно, как старушка и присоединившиеся к ней люди ругали гадалку. Тут же «предсказательницей» занялся сотрудник уголовного розыска.
Шпроты
Полдень. Стрелка на моих именных часах показывает без пяти час. Я собираюсь на обед. Пожилая женщина, сутулясь, робко входит в кабинет. В коридоре я заметил ее чуть ли не с утра. Она уже несколько раз приоткрывала дверь, но увидев, что я не один, отступала назад.
Теперь она застала меня одного.
— Я на малость к вам. Да вот заметила: не легкая у вас работа, — облизывая засохшие бесцветные губы, произносит посетительница. — К обеду я подгадывала. Да вижу — в самый раз, защитник вы мой.
Я ничего не могу понять. Вроде бы где-то видел старушку, да сразу не вспомню. Замечаю, что за пазухой старомодного пальто она что-то придерживает. Посетительница бочком идет к моему столу. Свободной рукой поправляет седые волосы под теплым шерстяным платком.
— Родименький, никак запамятовал? Похоже, вы ж меня, старую, от соседа защитили. Покушался на мое жилище, вспомнили? Из-за кладовой, архаровец, озорничал, дверь и стекла повредил. Ну?..
— Ну как же, как же. Теперь помню, — повеселел я, — как дела сейчас? Не обижает? Приструним! Что вы хотели?
— Не забижает, прямо шелковый. Спасибо, соколик. Вот я пришла отблагодарить. Только не прогневайся, если что не так.
— Вот это зря. Нас, мать, государство благодарит. У вас все хорошо, значит порядок. Справедливость торжествует, как говорят. Замечательно. И я рад. Ступайте. Отдыхайте на здоровье. У вас все?
— Э, нет, уж соколик, — упрямо ответила мне старуха, — не затем я путь такой проделала. Мы тоже люди и понимаем, что к чему…
Из-под пальто ее на письменный стол сползла банка шпротов в масле. Я на секунду онемел. Замахал протестующе руками. Наконец, придя в себя от изумления, стал неловко совать банку шпротов обратно старухе. Но все было напрасно и бесполезно. Она упрямо считала своим святым долгом вручить мне гостинец. Ее добрые, по-детски наивные и доверчивые глаза не понимали моего замешательства и категорического протеста. Тогда я пошел на хитрость.
— Допустим, вы меня угощаете. Но долг платежом красен. Так?
— Так, соколик, — покорно повторила старуха.
— В таком случае, я тоже имею право, даже обязан вас угостить. Согласны? Скажите?
— Согласна, — утвердительно кивнула головой долгожительница.
— Тогда сделаем так. Я принимаю ваш подарок. Теперь шпроты становятся моими. Я ими распоряжаюсь. Что я с ними делаю? Я угощаю этой баночкой вас. Возьмите, возьмите. Как договорились. Иначе обижусь. Это нечестно. Не отказывайтесь.
Старуха в раздумье почесала двумя пальцами под платком и нерешительно взяла из моих рук шпроты. Неловко и неуверенно отступила назад, пятясь к двери, приговаривая:
— Какой уважительный. Молодой, а уважительный. Дай вам бог здоровья. Возьму ваш гостинец. Не откажусь из ваших старательных рук принять подарок.
Старуха прячет банку шпрот за пазуху старого пальтишка и медленно, задумчиво покидает мой кабинет.
С повинной
Конец рабочего дня. Я опечатываю сейф. Слышу вкрадчивые шаги по коридору. В кабинет заглядывает молодой, тщедушный мужчина. Сутуля высокую фигуру, отрешенно подходит ко мне. Ломает себе руки. Хрустят длинные, узловатые пальцы. На лице, измученном и высохшем, следы бессонницы, душевных переживаний.
Он что-то невнятно мямлит, смущенно опускает глаза. Переспрашиваю его. Оказывается, это он поздоровался со мной. Я прошу его говорить поразборчивее и — весь во внимании.
Он откашлялся, отказался от стула. Наконец, членораздельно выговорил:
— Мне очень неприятно вас беспокоить. Не кривлю душой. Но и вы войдите в мое положение. С бухты-барахты не стал бы милицию тревожить. Тут все посложнее. В общем, лишился сна. Которую ночь. Хоть караул кричи. Да вот и пришел к вам, чтобы закричать. Спасайте.
— А что случилось?
— Случилось вот что. Сделайте доброе дело. Прошу и уповаю. Я, что называется, влип. В полном смысле слова. Теперь, наверное, и сам генеральный бессилен.
— Вы не волнуйтесь. Давайте разберемся. Чем я могу помочь?
— Начну по порядку. Вроде бы издалека. А фактически ссердцевины. Читаю, читаю в прессе, что при нынешней криминалистической технике и богатом опыте следователей, — вашем, стало быть, — все преступления раскрываются…
— Да, это так. Во всяком случае мы гордимся этим… Достижения!
— Не сомневаюсь. — Худосочные плечи мужчины поежились. Он совсем раскис, как квелая женщина. Но пытаюсь его понять. Он продолжает.
— Не сомневаюсь, потому и пришел. Как говорят, раньше сяду, раньше выпустят. Бухгалтер перед вами. Проверьте мою работу. Документы в ажуре ли? Стали казаться липовыми накладные. Словом, дайте из КРУ ревизоров. Отбуду наказание, если виноват, пока молод и нет детей.
Приходил он еще и еще раз. В конце концов мне пришлось заняться этим молодым человеком по фамилии Футков. Я попросил главного бухгалтера треста, в котором трудился Футков, досконально во всем покопаться.
Он так и сделал. Документы у Футкова оказались в полном порядке.
— Вот теперь, — сказал мне по телефону Футков, — совесть моя чиста. Выходит, ошибался, зря себя терзал и мучил.
В голосе бывшего просителя почувствовал облегчение и радость.
Убиенная
В дежурной комнате райотдела внутренних дел резко зазвонил телефон. Майор милиции Нилин поднял трубку.
Слушая абонента, лицо следователя все больше хмурилось и бледнело. Но на то и милиция, чтобы принимать сообщения о страшных происшествиях, затем спешно выезжать на них. И сейчас в телефонную трубку он коротко сказал:
— Все понятно. Покушение на убийство. Выезжаем, — положив трубку, он спешно приказал:
— Кинолог с овчаркой и два сотрудника уголовного розыска — со мной.
Желтого цвета УАЗик с синей полосой по бокам на предельной скорости летел по указанному адресу. «Успеть бы, — тревожно думал каждый из опергруппы, — задержать преступника, не допустить убийства».
Но вот и нужный дом, нужная квартира.
Нажата кнопка звонка, вмонтированного в дверной косяк.
Томительная минута ожидания.
— Может быть, еще придется выламывать дверь, — произнес кто-то из опергруппы — но нет, ее открывает, дружелюбно улыбаясь, крупная телом и ростом женщина лет сорока. Она чуть-чуть смущена, увидев солидный состав вызванной ею опергруппы.
— Да, да, это я звонила. Я вас вызывала. Думала, нужна будет помощь.
— А что, собственно, случилось? — настороженно спрашивает майор.
— Уже все в порядке, — опять мило улыбаясь, отвечает хозяйка, — малость повздорили с мужем. — Она нежно обнимает рядом с ней стоящего худенького, тщедушного мужчину, который на голову ниже жены.
— Нет уже проблем, жена сама со мной справилась, — соглашается щупленький супруг, растирая на своем лбу свежую фиолетовую шишку.
Разве наши умеют
Этот мужчина живет у нас во дворе. Где он работает, я не знаю. На лице у него постоянно кислая мина. Он всем недоволен: строят у нас плохо, продавцы в магазинах грубые, в школах учат детей кое-как, в троллейбусах грязно, в электричках холодно. Его любимая поговорка: «Разве наши умеют?!»
Узнав, что воры обокрали магазин, он раздраженно произнес:
— Черта лысого найдут грабителя. Разве наши умеют ловить жуликов!
Через несколько дней вор был пойман. От этой скверной новости лицо у соседа еще больше скривилось, точно он проглотил самый кислый лимон.
Сосед раздраженно, с досадой и категорически вымолвил:
— Тоже мне — преступники, тоже мне — бандиты? Уже и попались. Впрочем, что тут долго говорить: разве наши умеют воровать!
Хамелеон
(Почти по Чехову)
В обеденный перерыв продавцы и грузчики столпились в торговом зале. Выбрали президиум и начали собрание. Председатель профкома Катя Ландышева предоставила слово следователю, который доложил о том, что разнорабочий Баландин во дворе универсама в пьяном виде приставал к незнакомому мужчине, выражался нецензурными словами, толкнул того и даже ударил.
В заключение следователь сказал:
— Решайте, товарищи, как поступить с Баландиным.
— А что тут долго рассуждать, — крикнул грузчик Стопариков. — На поруки парня!
Ему вторил завсекцией Халимажников:
— Конечно, на поруки. За что человека судить? Что он — убил кого, ограбил? Баландина я знаю только с положительной стороны. Может, и потерпевший какой-нибудь склочник и забулдыга?
Катя Ландышева молниеносно отреагировала на реплику Халимажникова:
— Полегче, Халимажников, потерпевший — сам товарищ Васин. Он назначается к нам директором вместо Нины Ивановны, которая уходит на пенсию.
Халимажников от таких слов вытаращил глаза, на секунду онемел, закрутил головой и тупо обвел всех взглядом. Наконец, торопливо вымолвил:
— Вот так новость, что ж раньше об этом не сказали? Это тогда совсем другое дело. Мы Баландина спасать не станем. Каждому ясно, что он совершил злостное хулиганство. А поэтому нужно к Баландину подойти по всей строгости закона. Нечего нам брать его под защиту. Не стоит он этого. Вспомним, как работал, спустя рукава, этот разгильдяй, куда катился. Нет, не прикроет его трудовой коллектив своей широкой рабочей спиной. Пьяницам — не место среди нас!
— Васина не утвердили директором. Не бойся ребята, — крикнул кто-то в зале.
— Не утвердили? — настороженно переспросил Халимажников. — Тогда что ж вы мне голову морочите! И нечего нам тут антимонию разводить. Из-за какого-то ханыги чуть наш прекрасный товарищ не пострадал. Лучший, так сказать, производственник. Предлагаю взять Баландина на…
Он не успел договорить, потому что Катя захлопала в ладоши, призывая к тишине:
— Спокойно, спокойно. О назначении товарища Васина к нам директором уже подписан в управлении приказ. Сама читала…
Халимажников поперхнулся, тупо замолчал, словно подавился. Но через секунду обрел себя и твердо сказал:
— Всем ясно, что вновь назначенный к нам товарищ Васин, уважаемый человек, ни за что ни про что пострадал от какого-то бездельника, хулигана и алкоголика. Я категорически требую: в суд Баландина и точка. Нам таких работников не надо.
Находчивый
Лихач, некто Петр Матюшкин, на своем «Запорожце» так стукнул на переходной дорожке бедную старушку, что та еле выкарабкалась на тротуар. К ней тотчас подошел бодрой походкой владелец автомобиля. Петр Матюшкин помог встать потерпевшей, отряхнул ее одежду и добродушно сообщил:
— Так и быть, мамаша, я к вам претензий не имею, ступайте домой с богом, да впредь не лезьте под машины. Подфарник и бампер «Запорожца» я подремонтирую за свой счет. Что с вас возьмешь…
— Спасибо, — ответила благодарная старушка, — а то пенсия моя невелика, сынок.
Практичные
В дежурную комнату милиции решительно вошли модно одетые мужчина и женщина. Оказалось — супруги. Заявление их было тревожным:
— Представляете, дочь пропала, двадцати лет.
Даже в самом большом заграничном городе не часто похищают взрослых дочерей, а в нашем — никто не помнит, когда это было.
Дежурный враз сосредоточился, взялся за карандаш, чтобы записать необходимые сведения о пропавшей и отбить телефонограммы во все районы области, может, и коллегам по всей стране: «Срочно ищите девушку… приметы…» Но родительница торопливо пресекла оперативные мероприятия капитана милиции:
— Успокойтесь, пожалуйста. Мы примерно знаем, где наша Светлана. Разрешите позвонить от вас?
— Куда? — изумился сотрудник милиции.
— В Москву. У них телефон на квартире.
— У кого? — продолжал недоумевать дежурный.
— У зятя… Мы вам назовем номер их квартирного аппарата, а вы закажете за ваш счет. С автомата мы не можем дозвониться. Да и дешевле нам будет. Уже неделю от нее нет писем. Считайте, пропала дочь…
Племянник
Моя семья и друзья усаживались за праздничный стол. Не терпелось поскорее поднять бокал за уходящий год. Однако моя жена медлила с тостом и говорила: «Еще рано!» Будто ждала кого-то. И дождалась! Когда до 12 оставалось несколько минут, раздался звонок и на пороге в прихожей появился спортивного вида юноша со шкиперской бородкой.
— Это дом номер сорок?
— Точно, — вышел я навстречу нежданному гостю.
— Квартира десять?
— Десять.
— Здравствуйте, я ваш племянник.
— Кто к нам приехал, мать! — засуетился я, помогая молодому человеку снять шубу. И пояснил друзьям: — Мальцом его видел. А как вымахал! Сестры моей сын. Юрист, будущий следователь. По моим стопам пошел.
— Да нет, я только учусь… — сконфузился парень.
Но я не обращал на его скромность внимания.
— Владимир! Так, кажется, тебя зовут? Не забыл?
— Запамятовали, дядя. Валеркой меня величают.
— Извини, Валера, в нашей суматошной жизни собственное имя забудешь. Быстро — к умывальнику, в ванную. Пять минут тебе. Охладись с дороги. И к столу, к столу.
Валера отлучился принять душ, я потер ему спину и вернулся к гостям, чтобы с радостью прокомментировать:
— Пятнадцать лет с сестрой не виделся. Какого сына вырастила! И вот нежданно-негаданно он среди нас. Для меня и, надеюсь, моей супруги, это приятный сюрприз: позавчера от сестры письмо получил. И ни слова о том, что едет ко мне Валерий. Ясно, специально не предупредила.
Племянника усадили за стол. Я, наконец, взялся за бокал.
— Выпьем, дорогие друзья, за старый благословенный! За всех нас! За мою сестру, которая в сорок пять лет защитила диссертацию.
Племянник на мой тост странно отреагировал:
— Откуда вы взяли, дядя! Моя мама ничего не защищала.
— Как так, — сконфузился я, потому что хотел похвалиться. И полез в шкаф за письмом: — Вот она пишет…
— Это почерк не моей мамы, — пришел в замешательство Валерий.
— Ты что, милый, говоришь?
— Не моя мама писала, — твердил племянник.
Я положил тогда перед ним конверт с обратным адресом:
— Читай!
— Город Североморск, — поджал губы Валерий. — А мы в Житомире живем…
— Давно переехали? Разыгрываешь. Неделю назад сестра письмо написала и вдруг другое место жительства?
— В Житомире всегда мы жили!
Жена первая заподозрила неладное.
— Твоя мать Клавдия Ивановна? — спросила она.
— Нет…
— Как нет?! Ты — Долгов?
— Какой Долгов? Я — Гаврилов.
— При чем здесь Гаврилов, — закричал я. А куранты отбивали уже полночь. — Мой племянник Долгов!
У парня округлились глаза:
— Стойте! Ваш дом номер сорок, квартира десять переулка Кирова?
— Какого переулка Кирова? Улицы Кирова! Милый, ты ошибся адресом.
Милиция — она все может
Едва майор милиции Нилин вошел в переполненный билетный зал кинотеатра, как у многих появилось желание обратиться к нему с каким-нибудь вопросом.
Первым остро отреагировал на появление блюстителя порядка седой старичок. Он стоял около автомата для продажи газет и бил его по бокам.
Кивая на механизм, симпатичный дедуля озабоченно проговорил:
— Примите меры к адской машине. Возбудите против нее строгое дело. Явным образом жульничает. Обманывает честных людей. Монету проглотила, а прессу не выдает.
Можно было жалобщику ответить: «А при чем тут милиция?», но майор был совсем другого склада. Он доброжелательно заметил:
— А вот мы сейчас автомат с норовом и проверим.
Майор плавно нажал на педальку и в тот же миг, очертив дугу, высунулся угол газеты, что привело старичка в неописуемое и благодарственное волнение:
— Это ж надо! Я же говорил: милиция — она все может!
Услышав это, около Нилина тотчас выросла робкая старушка:
— А мне не поможете?
— Что случилось?
— Билет в кино на улице потеряла. И нет денег, чтобы купить новый. Объявите, если кто его нашел, чтобы вернул.
Майор милиции улыбнулся для порядка, потом нагнулся и поднял с пола билет.
— Вот он, получите… Ваш.
— Чудеса да и только, — умилялась теперь пожилая женщина. И никто не понял фокусы, которые проделал заботливый и чуткий майор. В чрево автомата для продажи газет он сам опустил трехкопеечную монету, а старушке отдал свой билет.
Но зато вслед ему благодарно неслось:
— Милиция — она все может.
Бдительный
В кабинет следователя колобком вкатился кругленький маленький старичок. Весь его вид, — живые хитрые глаза, бородка клинышком, кокетливые ужимки, — напоминали джина, выпущенного из бутылки.
— С чем пожаловали, папаша? — спросил следователь.
— С-свистогонов-с я буду. Недалеко живу — через улицу. Есть дело, милок. Мне бы сообщить кое-что нужно насчет соседа. Надо бы досконально заняться им, — доверительно изрек посетитель.
— Что он ворует, хулиганит?
— Покедова не замечал. Но уж больно заносчив. Считаю, на любое «мокрое» дело может пойти. Даже не здоровкается. Вот я и думаю: хорошо бы обыск у него сделать. Так, на всякий случай. Для бдительности.
Догадливые
В небольшой торговой точке шла смена продавцов. Один передавал материальные ценности, второй — веселый — принимал их. Веселый сказал мрачному:
— Догадываюсь, почему тебя невзлюбило начальство. Не угощал кого следует, поэтому и лишился завмаговской должности. У меня будет по-иному. Для руководства ничего не пожалею. И водка и закуска для них найдется.
Так он и действовал.
Через год, после первой ревизии, догадливого арестовали.
— Знаю, почему ты попал в тюрьму, — сказал в суде своему веселому сменщику его мрачный предшественник, — больно щедрый был для начальства. За счет государства. Это — я тоже догадался.
Предусмотрительный
Прошка Кусачев давно наблюдал за подозрительными действиями Артема Рвачева, который таскал вечерами от колхозной зерносушилки пшеницу.
— Как ворует, — сокрушался, качая головой, честный сосед, — опять поволок к себе домой мешок зерна. Ну, ничего, гражданин Рвачев, я тебе это припомню, надо будет — заявлю в милицию.
И припомнил, и заявил… через год, когда поссорился с соседом из-за межи.
Подвела теория
Водитель грузовика Рюмашкин, упитанный, краснощекий, лет сорока мужчина, не пропускал ни одной телепередачи или статьи в газете о причинах алкоголизма. В знании норм употребления спиртных напитков ему не было равных. К нему частенько обращались приятели с просьбой подсчитать, сколько им можно выпить, чтобы не захмелеть.
Рюмашкин моментально с карандашом в руке по замысловатой формуле, где исходными данными были вес, длина рук, ног, размер головы, торса, рост, походка, вычислял требуемые нормы.
Приятели были ему благодарны. Все обходилось благополучно, но как-то ГАИ задержало самого Рюмашкина. В кабине его машины прочно обосновался запах, характерный для цехов, изготовляющих винно-водочные изделия.
— Да трезвый я! — протестовал Рюмашкин.
Пришлось отправить его на экспертизу. «Водитель пьян», — заключили врачи.
А тот яростно отбивался от обвинения и требовал повторного освидетельствования. Но и новое заключение ничем не отличалось от предыдущего. Было лишь сообщено уточнение: «Опьянение средней степени».
— Ах, средней! — обрадовался Рюмашкин. — А я-то слушаю-слушаю. Против средней степени я ничего не имею. Это я не отрицаю. А то вдруг, пьян! До такой степени я никогда не напьюсь, потому что контролирую свою норму, знаю, сколько мне нужно выпить, чтобы не захмелеть. Могу продемонстрировать свою теорию, по которой я действую. Мой вес — девяносто килограммов, рост — сто семьдесят сантиметров, все это перемножим. А затем разделим на объем груди и прибавим разницу в длине ног и рук. Получится, что научно обоснованная моя норма 430 граммов водки или кило двести сухого, а я употребил и того и другого в два раза меньше, так что верните-ка мои права…
— Только через два года и при другом отношении к своей норме, — ответил госавтоинспектор.
— Подвела теория!
Душили соседи
Это случилось почти в первый день, когда лейтенанту выдали новенькую милицейскую форму. И шел он, замечая, с каким интересом и даже влюбленностью посматривают на него симпатичные девушки. Значит, холостяком не останется.
И сам он любовался собой — все на нем было новенькое: и шинель цвета маренго, и погоны с одним красным просветом и двумя блестящими новенькими звездочками, лейтенанту одного хотелось — отличиться по службе.
А между тем происшествие не заставило долго ждать. Вдруг, когда он горделивою походкой проходил мимо стайки девушек, то услышал сзади истошный женский крик. А через секунду увидел малюсенькую немощную старушку. Она, ломая руки, взывала о помощи:
— Товарищ милиционер, товарищ…
— А, — все что сумел сказать, оторопев от предчувствия тяжкого преступления. Так и было на самом деле. Старушка на одном дыхании продолжала:
— Я сбежала из дома. Защитите. Меня душили соседи.
«Вот он, мой звездный час! — подумал лейтенант — задержу убийц этой несчастной женщины. Неплохо для начала». А между тем старуха, ухватив офицера милиции за борт новенькой шинели, тащила, тащила к себе домой.
Быстро, почти молниеносно, как лейтенанта учили в средней специальной школе милиции, он вбежал в квартиру заявительницы. В комнате, действительно, стоял такой запах, что дышать было нечем. Он рванул на себя дверь соседей несчастной убиенной женщины, которую пытались задушить. Не ожидая такого гостя, хозяйка этой квартиры замерла от удивления, увидев перед собой взъерошенного лейтенанта милиции, а когда оправилась от шока, виновато и беспомощно развела руками:
— Извините. Мы не хотели. Но так вышло. Запах распространяется потому, что мы клопов уничтожаем…
Можно было смеяться, но лейтенанту хотелось заплакать, так все хорошо начиналось: душили соседи…
Я расскажу все сам
Когда Витьке Козликову пришла домой повестка из милиции, он не сомневался: его нашли, теперь — тюрьма.
Виктор трусливо и растерянно заметался по комнате. В его голове стучала мысль: надо идти быстрее к следователю и во всем самому сознаться. За чистосердечное признание меньше дадут.
И еще ему стало ясно, что выдал его милиции неверный корешок Колька Седой, у которого Козликов спрятал ворованную вещь.
Суетливо бросив в баул пару белья, горсть сухарей, две пачки сигарет, он устремился по повестке в милицию: во всем каяться, признаваться.
Вот и кабинет следователя. Дрожа всем телом, заплетающимся языком он представился:
— Козликов я, вызывали?
— Давно жду, — оживился капитан милиции, — думал — не придете…
— Отчего же, я власть уважаю, — пропищал с перепугу Козликов.
— Вот и хорошо, — отозвался следователь. — Собственно, мне только вас осталось допросить, и дело, как говорится, в шляпе. Только один вам вопрос…
— Не надо вопросов. Я все расскажу сам про эту шляпу, как вы метко заметили, имея в виду, конечно, шапку, которую я сорвал с головы девушки. Я вас отлично понял. Но только учтите, что подбил меня на преступление все тот же Колька Седой. И напрасно он все валит на меня. Как было дело? Я расскажу. Я ожидал свою жертву за углом кинотеатра, а Седой стоял на стремени. Мне быстро удалось сорвать норковую шапку. Спрятали мы ее в подвале дома Кольки Седова. Там она и сейчас находится. Так что, фактически, мы вместе с Колькой грабили ту девушку. И вы не верьте ему, если он все валит на меня.
Следователь внимательно и напряженно слушал Козликова, сдвинув брови, и быстро-быстро заносил его слова в протокол. А потом откинулся на спинку кресла, удовлетворенно хлопнул ладонью по бумагам, и подвел итоги:
— Очень хорошо. Молодец, Козликов, что во всем сам признался. Давно мы ищем грабителей, увы, тебя и твоего дружка-приятеля. А теперь расскажи про то, как столкнулись две автомашины напротив твоего дома. Ты был очевидцем происшествия. Собственно, по этому вопросу я тебя и вызывал…
ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
(Из блокнота писателя)
Детективная литература — это напряжение мысли и сил сыщиков, победа героев в единоборстве со злом, это — засады, хитроумные комбинации, бег, стрельба, допросы, аресты. Увлекательный жанр. Кто его не любит! Однако и с почитателями этого рода произведений случаются казусы. Вот такие.
«Капитал» К. Маркса
Как-то мой друг, писатель, обратился ко мне с необычной просьбой:
— Слушай, выручай. Повадилась ко мне соседка, жена большого начальника, за книгами. Обожает детективные сюжеты. Читает, что называется, запоем. Большая интеллектуалка. Любую толстенную книгу штудирует за ночь, а утром возвращает, как ни в чем не бывало. Моя домашняя библиотека иссякла. За два месяца она ее всю проглотила. Мне больше нечего ей давать, а она с претензиями, приобщи ее к своей полке детективных томов. У тебя ведь и Эдгар По, и Агата Кристи, и Жорж Сименон в большом наборе. Глядишь, все прочитает, утомится и нас оставит в покое.
Я согласился. Пришлось выручать друга. И уже на следующий день соседка уносила от меня увесистый том Г. Адамова «Тайна двух океанов».
Женщина была, действительно, величественна, каждым движением подчеркивала свою значительность, важность персоны.
Томик Адамова она вернула мне через сутки. Не задержала более 24 часов и другие его романы «Победители недр», «Изгнание владыки».
Стремительно читала всех авторов. Пришло время, когда исчерпалась для нее и моя приключенческая литература.
Я ей сказал об этом. Она обиженно провела глазами по стеллажам моей библиотеки и остановила взгляд на толстом фолианте в кожаном переплете.
— Дайте мне вон ту, — с достоинством произнесла она.
— Но это «Капитал» Маркса.
— Ну и что же, — в прежней манере ответила соседка.
А через день, как всегда, она вернула мне основной научный труд классика диалектического материализма. Я не выдержал и простодушно спросил:
— Ну как? Понравилась книга?
Она надменно ответила:
— Да! Конечно! — И самоуверенно, с апломбом добавила:
— Только жаль, что он ее в конце убивает…
Злополучный автограф
Дело было так. В большом зале проходила традиционная встреча читателей с литераторами.
После устных рассказов о своих книгах, о себе мы начали вручать автографы. Писали на титульных листах наших романов и повестей, которые заранее купили слушатели. Желали им добра, здоровья, успехов.
И вдруг ко мне робко подошла миловидная женщина и стеснительно сказала:
— Вы как-нибудь по-особенному на моей книге напишите. Мы с мужем очень любим детективную фабулу.
Мой друг Александр К. тут же нашелся и подсказал мне:
— Напиши «На память о встрече».
Я без промедления и задней мысли это сделал. Женщина осталась довольной. А на другой день, рано утром, ко мне, в рабочий кабинет, вошел высокий с сединой мужчина. В руках он держал мою книгу с автографом, который я оставил на титульном листе по просьбе его жены.
Мужчина был симпатичный, но чрезмерная бледность, трясущиеся губы, блуждающий, растерянный взгляд исказили его внешность.
Он решительно начал:
— Я все уже знаю. Нечего больше скрывать. Пусть лучше горькая правда, чем красивая ложь. Скажите честно, — при этих словах он ткнул пальцем в мой автограф, — скажите честно, где вы встречались с моей женой…
— ?!?
И тут, слава богу, на мою радость, в кабинет вошел виновник текста того автографа Александр К. Почти два часа нам понадобилось, чтобы разубедить посетителя и счастливым отправить его в обратную дорогу.
Когда не следуют своим советам
Как-то общество «Знание» попросило меня и моего коллегу поприсутствовать на ярмарке по продаже наших книг.
Мой коллега очень любит мои книги (как, впрочем, и я его). Но он умеет их сочно преподносить.
Покупали книги в основном женщины, из этого следует, что они сильнее любят детективный жанр художественной литературы.
Каждой покупательнице мой друг напутственно говорил:
— Только не давайте книгу на ночь мужу читать: всю ночь от детектива не оторвется и вас оставит без внимания.
Этот совет он, видимо, вскоре забыл и, придя вечером домой, показал детектив жене, а сам сел за стол и стал ждать ужина, но не дождался ни ужина, ни жены спать. Она увлеклась детективом, оставив мужа без внимания не только на весь вечер, но и на всю ночь.
Вот что бывает, когда люди не следуют своим же советам.
НЕКРИМИНАЛЬНАЯ МОЗАИКА

В народе говорят: хвали-хвали, да не захваливай. Думаю, никто в этих юморесках не увидит ударов по авторитетам. Сатира! И забавный случай!
БЕЗЗАБОТКИН НА СЛУЖБЕ
— Куда мне заявить? Деньги вытащили, — нерешительно обратилась к оперуполномоченному Беззаботкину пожилая женщина.
Лейтенант глухо произнес:
— Что ж это вы карманы развешиваете? На рынке что ль?
Потерпевшая вздохнула:
— Да нет, в автобусе, села у института, через минуту спохватилась, нет кошелька.
Беззаботкин перелистал справочник по городу. Так и есть. За институтом расположена территория первого отделения милиции.
— Мамаша, — сосредоточенно уточнил лейтенант, — вы институт проехали, когда спохватились?
— Проехала, сынок, — замотала утвердительно головой посетительница.
— Конечно, проехали, — словно это он сам ехал, убежденно заключил Беззаботкин и попросил потерпевшую написать заявление.
— Не забудьте точно указать, что отъехали от института, а через некоторое время — нет кошелька, — деловито наставлял лейтенант, — и несите заявление на улицу Разина. Это туда нужно.
Через полчаса, когда Беззаботкин, мурлыча под нос песенку, собирался еще раз почистить скрепкой за ногтями, потом отправиться обедать, в кабинет бочком вкатилась старая знакомая.
— Хмы, — поднял плечи лейтенант.
— Оттуда к вам послали, — оправдывалась гражданка, держа в воздухе заявление, как бы спрашивая разрешение положить его на стол Беззаботкину. Но тот быстро набрал номер.
— Кто? Перекуров? Ты что футболишь? Открой 39-ю страничку, читай сверху. За институтом ваша земля, дорогой мой. Ну, ладно, не шуми, давай выедем на место. Убедимся.
Усадив потерпевшую в «Жигули», Беззаботкин и Перекуров подъехали к Политехническому институту.
— Да не здесь совсем, — с досадой сказала замученная женщина, — около строительного института.
— Около строительного?! — присвистнули лейтенанты. — А мы-то слушаем, слушаем. Это вам нужно обратиться в третье отделение милиции.
Через пять минут друзья уже сидели в столовой.
ГАЗЕТНАЯ БАЙКА
Тот автор, который написал в одну газету сенсационную и политизированную байку, внезапно умер. В оставленной им посмертной записке говорилось: «…Если не верите мне, то поезжайте, проверьте».
Он, конечно, был уверен в том, что любой испугается туда ехать: далеко и опасно. Называлось страшное место.
А те скрупулезные газетчики взяли и отправились в путь — уж очень боялись они давать громкий материал в печать без проверки. Но там, в городе М. от обильных дождей случилось наводнение. Все жители, спасаясь, переселились неизвестно куда. Кроме одной женщины.
Она знала той сенсационной заметки автора, который внезапно умер и который написал байку. Старушка лишь не была в курсе — правда в той заметке или вымысел, и послала проверяльщиков в горы, к своему старику-пастуху. Он должен подтвердить или опровергнуть сочинение бойкого «народного» корреспондента, который, увы, скончался.
Но гонцам снова не повезло. В тех горах произошло низвержение вулкана, и старик, которого искали для подтверждения верности сведений, содержавшихся в письме-заметке, тоже не хуже того рабоче-крестьянского информатора, отдал Богу душу.
Проверяльщики собрались в обратный путь, твердо решив заметку пока не публиковать. Но им встретился журналист из другой независимой газеты, из той газеты, которая все печатала без разбору. Узнав проблему коллег, он самонадеянно произнес:
— Да какая разница, правда или нет в заметке? Важно другое — это сенсация. Без нее газета — не газета!
Молодой хваткий журналист из другой газеты тут же забрал письмо у проверяльщиков, а потом спешно опубликовал его в своей независимой от правды газете.
Но оказалось, что в байке бредовое вранье. Посыпались опровержения. Однако разве в них дело? Важнее стало то, что их газету в киосках покупают нарасхват. Из-за той байки. Повысились и тираж издания, и зарплата журналистов. Вот что значит — деловые люди.
РАСТУТ НАШИ ДЕТИ
Каждый маленький знает
После обеда ко мне на колени забралась дочь.
— Поиглай со мной, — попросила кроха и добавила, — а то все ты читаешь. Что хоть там пишут интелесного?
Не отрывая глаз от книги, спокойно и вяло промямлил:
— Ну вот, например, почему бывают плохие дети, мало кушают…
— Охота тебе об этом читать. Каждый маленький знает… Что тут интелесного, — пятилетняя дочурка разочарованно спрыгнула с колен и пошла играть с куклой.
Молодец, дедушка
— Дедушка, почему ты говолишь, что, когда выпьешь, то мозги лучше лаботают?
— Потому что, курносая, они смазываются.
— Молодец, дедушка. С тебя поллитла.
Морщинки
— Бабушка, у тебя молщинки то выплыгнут, то сплячутся.
— Ну и что же?
— А то, что они у тебя под кожей на лезинках. Думаешь, что я маленькая и не сооблажаю.
Откуда берется ветер
— Мама, ты знаешь, почему ветел бывает?
— Ну скажи, почему же?
— А-а! Мы же шевелим луками и ветел шевелится.
Ромашки на теле
— Видишь, бабушка, от холода у меня плыщички на теле?
— Вижу.
— Это ломашки.
— Не ромашки, а мурашки.
— Нет, бабуля, мулашки длугого цвета.
Дело нашивают
— Бабуля, папа говолил маме, что ему дело нашивают. Вот и холошо. А из лоскутиков я куклу наляжу. Плавда?
— Нарядишь, нарядишь, если папа тебе эти лоскутики отдаст.
— А что ж, он лодной дочке пожалеет?
Так ведь лето же
— Дедушка, мама говолит, что начальник о ней тепло отзывается.
— Ну и что же?
— А то, что сейчас ведь лето.
— Не понимаю. Какая связь.
— А такая, что зимой опять будет холодно отзываться. На улице будет снег и мороз.
Судачили подружки
Шестилетняя Галочка:
— Живых зайчиков на фабрике делают.
— Нет, они вырастают из грибов, — не согласилась крошка Таня.
На что третья подружка Вика ответила:
— Пусть так. Только не все из грибов. Зеленые появляются из травы.
Галочка сопротивлялась:
— Неправда. Их просто красят разной краской.
— Может и так, — смирилась Галочка. — А знаете, почему тети в очереди лбы морщат?
— Ну, — заинтересовалась Вика.
— Морщат, потому что шепчутся.
Тему разговора изменила Таня:
— Я не буду обижать маму, а если наши куклы подрастут и не станут нас слушаться? Разве это будет хорошо?
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
Мы решили пораньше сесть к столу, чтобы не прозевать Новый год. Гости уже разобрали ложки, вилки, как вдруг зазвонил телефон.
— Это номер 22-14? — прожурчал голос девушки с междугородной телефонной станции.
— Разумеется, — самодовольно ответил я. — Только через семерку.
Я прикрыл трубку ладонью и обрадовал жену: — «Межгород!»
— Ой, это мама!
И начался длинный, бесконечный разговор моей жены со своей мамулей: «Что у вас нового?» — «А что у вас?»
Часы показывали без четверти полночь, а конца разговору не чувствовалось.
— Мама, — кричала в трубку жена, — поговори со своим зятем.
Я замахал руками, но было уже поздно. Спустя несколько минут теща попросила к телефону внучку. Часы показывали без семи минут двенадцать. Гости явно скучали.
Но теперь уже дочь сжимала маленькой ладонью телефонную трубку, из которой сыпались вопросы бабушки.
Часы-кукушка звынкнули, напоминая, что до Нового года остается меньше пяти минут. Гости нетерпеливо заерзали на стульях.
— Прощайся с бабушкой, — крикнул я раздосадованно дочери. Тут и жена поняла, что мы вот-вот и прозеваем долгожданный Новый год. Она отняла трубку у дочери и закричала:
— До свидания, мама… Что, что? Какую посылку? Ничего мы не получали? С чем, с чем? С макулатурой? Кто просил? Я?..
Лицо жены приняло такое выражение, точно она съела целый лимон.
— Да кто это звонит? Кто вам нужен? Какая Луга? Ленинградской области? Вы не в тот город попали. Это Калуга, Калужской области.
А между тем Кремлевские куранты отбивали полночь.
ОХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!
Часа за полтора до Нового года мы с друзьями рассаживались за праздничный стол. Жена торопила меня:
— Поднимай, поднимай бокал за уходящий, а то опять не успеем, как в прошлом году.
Я встал, чтобы произнести здравицу, поздравить всех, но сосед справа поинтересовался:
— А что тогда было?
— Да за час до Нового нам позвонила мама жены из другого города. Мы ей битый час сообщали о нашем самочувствии, интересовались ее делами. А под бой курантов выяснилось, что абонентка попала вместо Луги в Калугу.
Гости посмеивались. Они явно заждались тоста. Я начал, но (о, демон!) в дверь позвонили. Правда, гость был симпатичный, вернее, гостья: в прихожей стояла наша молоденькая соседка, белокурая красавица Зиночка, пребывавшая в одиночестве, так как с месяц назад, почти сразу после свадьбы, ее славный муж уехал на год в заграничную командировку.
Тысячу раз извиняясь, она смущенно объяснила:
— Пришла с дежурства, а дверь отпереть не могу. Что-то случилось с замком. Слышу у вас веселье и решила обратиться за помощью…
Дружным взрывом голосов мы упросили скромную и очаровательную соседку сесть за наш пиршественный стол.
Зиночка, скованная, расстроенная, производила хорошее впечатление. Особенно на мужчин.
Время меж тем бежало, а мы лишь со слюнкой косились на яства. С особым вожделением посматривали на испускающее аромат заячье мясо — охотничьи мои трофеи.
— Итак, — я решительно произнес первую фразу заздравного тоста. И, о, злой дух, в дверь коротко, но настойчиво позвонили. Жена умчалась в прихожую и через полминуты ввела в комнату приятного вида замаскированного Деда Мороза с подарками. Для начала он каждой женщине вручил по гвоздике, осмотрел застолье и, конечно же, подсел поближе к самой красивой женщине нашего торжества, к Зиночке.
Мне показалось, что это кто-то с моей работы. Жене казалось иное. Она мне шепнула:
— По-моему, это Гера Красоткин из лаборатории нашего треста. Большой любитель до чужих женщин. За эти грехи супруга его оставила.
Зиночка наша раскраснелась, глазки загорелись интересом. Видать, не так уж сильно она соскучилась по мужу…
Ох, эти женщины! Хранительницы чужой нравственности!
Я опять поднял бокал и попытался допроизнести речь. Но симпатичный Дед Мороз заявил: «Сначала новогодние подарки!»
Он обошел нас с сумкой в руке. Мне досталась хлопушка, жене пищалка, другим резиновые надувные зверята, а Зиночке… коробочка. На ее атласной подкладке, свернувшись змейкой, лежала золотая цепочка с медальоном.
Гости так и ахнули, а потом на минуту потеряли речь.
Я опять поднял бокал, но кудесник, облепленный белой бородой, предложил нам принять еще по одному подарку. Кто-то крикнул, чтобы он перемешал получше в мешке сувениры.
На этот раз мне досталась соска, жене голыш и другим не лучше, а Зиночке (ну, везучая!) опять коробочка, теперь с золотыми серьгами. Женщины вытаращились и слово сказать не могут. Наконец засудачили: «Да какое она имеет право брать от постороннего мужчины дорогие подарки!»
Я поднял бокал. Но Дед Мороз сказал, что бог любит троицу, а поэтому предложил попробовать счастья в третьем подарке. Мне достался серпантин, жене — конфетти, другим такие же безделушки, а Зиночке… ну, представьте, опять коробочка, только побольше размером. В ней лежали изящный флакон духов и золотой перстень.
Тут уже гости, особенно женщины, совсем онемели. А одна из них, отобрав у меня право первого тоста, подняла бокал с вином и раздосадованно крикнула:
— За верных жен, которые преданно ждут своих мужей…
Поднялся переполох. Я думал, Зиночка смутится. А она, напротив, обняла Деда Мороза и сочно его поцеловала в самые горячие губы.
Ох, эти женщины, пойми их!
Теперь я в Деде Морозе предположил Сашку Мельникова, который раньше ухаживал за Зиночкой, но упустил невесту.
А между тем под бой кремлевских курантов Дед Мороз стаскивал с головы маску. И новое удивление ошеломило нас.
Ох, проказница Зиночка! Сейчас мы поняли, кому она подыгрывала, кого жарко целовала, кто делал ей сверхдорогие подарки! Ох, эти женщины!
Опомнившись от удивления, мы стали чокаться бокалами, желали друг другу счастья, а милую Зиночку поздравили с возвращением ее супруга.
ПОДАРКИ
Начальник отдела пригласил к себе мужчин и устало произнес:
— Завтра Восьмое марта. Всем известно? Как будем отмечать?
— Надо, как всегда, сброситься и купить женщинам подарки, — отреагировал кто-то.
— Толково сказано. Какие будут предложения?
— Раскошелимся. Внесем рублей по двадцать пять, — крикнул инженер Добряков.
— Неплохое предложение. А что купим?
— Если по четвертному, то — машину. Одну на всех, — сказал автослесарь.
— Хоро-ошее дело! — размечтался начальник, откинувшись на спинку кресла. — У Петровой есть права, пусть катает наших дорогих и любимых женщин. Еще есть идеи?
— Одной Петровой подарим, другие обидятся, — крутнул головой завхоз.
Начальник отчаянно тер себе виски:
— Давайте покупать такое, чтобы — каждой или, по крайней мере, на двоих.
— Нечего мудрить, — пробасил завгар, — сбрасываемся по десятке и покупаем каждой по сережке. А они их по очереди будут носить. От этого только укрепится нравственная атмосфера в женском коллективе.
— А денег хватит, если сложимся по десятке? — насторожился начальник.
Бухгалтер заработал на малюсенькой электронной машинке и тотчас ответил:
— Вполне.
— Давайте все-таки каждой по подарку. И соберем по пятерке. Это вернее, — заметил вахтер Галкин.
— Ну, по пятерке, так по пятерке. Каждой сувенирчик — это хорошо. И они к мужчинам теплее будут относиться. Сдавайте деньги Добрякову. И к обеду все, что нужно, купите. Фу, словно гора с плеч. Всегда думаешь-думаешь, ломаешь-ломаешь голову, как бы поинтереснее отметить женский день…
Мужчины выскребли из карманов все, что у них было, и Добряков взвился отовариваться. А к обеду сияющих и чуть-чуть сконфуженных женщин пригласили для вручения подарков. Начальник от всей души поздравил своих красавиц с праздником и торжественно преподнес каждой из них по отличной цветной открытке.
РЕПОРТАЖ СО СТАДИОНА
Что и говорить: умеют наши играть, когда захотят. «Динамо» есть «Динамо».
Вот вратарь Голубев красивым ударом выбивает мяч почти за центр поля. Ловким движением ног любимец болельщиков Иванов хотел перехватить его, но не смог. Да, маленькая оплошность. А вообще ведущий наш футболист выглядит великолепно. Он точным расчетным взмахом правой ноги пытается забрать мяч у противника, но чуть-чуть промедлил. Только чуть-чуть.
Идет пятнадцатая минута второго тайма. Счет один ноль. Пока не в нашу пользу. Но играют наши превосходно. Особенно Иванов и его закадычный друг Сидоров. Один на правом крае, второй — на левом.
Но мяч по-прежнему у противника. Они вплотную подгоняют мяч к нашим воротам и с очень близкого расстояния бьют по ним.
Наш вратарь в прекрасной форме. Для него не может быть неожиданных мячей. Он сам летает от штанги к штанге, словно птица. Но… удар!
Как замечательно прыгнул Голубев! Десятки фотографов успели щелкнуть аппаратами, поэтому снимок, дорогие болельщики, из тех, кто не попал сегодня на стадион, видимо, посмотрите в газете. Какой изгиб тела, какой умопомрачительный выброс руки! Да, на это способен только наш Голубев.
Однако, к сожалению, он не дотянулся до мяча. Нападающий «Стрелы» не очень умело, споткнувшись и чуть не упав, очень некрасиво, но все-таки забивает второй гол в наши ворота. И хотя наша «Ракета» пока не забила мячей, пропустив по ошибке в свои ворота два, она выглядит по-боевому. Настроение у наших, как всегда, приподнятое.
Итак, мяч вводят в игру с центра поля. Иванов красивым ударом, пяткой, обманув, как только он умеет, неприятеля, хотел передать мяч Сидорову, но… О, ему сегодня не везет! Из-за спешки он пропахал носком бутсы землю. Но ничего, он наверстает упущенное. А возможно, это тактика, чтобы дать фору противнику, а потом, в решающие минуты перед окончанием матча, блестяще, как это может только «Ракета», победить. Но посмотрим, что будет дальше. Пока на поле явное преимущество нашей команды. Игровое преимущество.
Мячом владеет противник. Но вряд ли это долго будет продолжаться. Чувствуется, что гости выдохлись и вот-вот буквально сядут прямо на траву.
Наши же просто орлы. Они демонстрируют поистине современную игру, чудесную взаимовыручку. Но их плотно прикрывают. Вот чем, пожалуй, объясняется и несправедливый счет в матче.
Вот опять кто-то из гостей устремился к нашим воротам. Но бежит он нескладно, ноги его заплетаются, вот уж поистине, видно, не мастак он на творчество, и ему, конечно же, трудно бороться с нашими титулованными Ивановым, Петровым, Сидоровым.
Но на этот раз каким-то чудом противнику удается пробиться к нашим воротам. Мяч неохотно, но все-таки залетает в сетку. Счет 0 : 3.
Нелепое, прямо скажем, поражение. В общем же, наши тренеры правильную линию действий избрали для своих питомцев. Они больше нацеливают наших футболистов на атакующий футбол, с короткими передачами и сильными ударами по воротам. Ясно одно, наш футбол на подъеме.
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕД И СТРОГИЙ МИЛИЦИОНЕР
Дед Матвей, блаженствуя на заслуженном отдыхе, днями смотрел из окна на регулировщика, который стоял напротив его дома. В холод, в зной, в дождь, в метель сотрудник ГАИ блестяще выполнял свою работу. От этого сердце деда Матвея переполнялось нежными чувствами к блюстителю порядка. Однажды, не выдержав, пожилой человек спустился со своего шестого этажа, чтобы, как говорят, объясниться с милиционером в любви.
Сердобольный дедуля начал так:
— Товарищ сержант, я вас отвлеку всего на одну минуту. Примите от меня благодарность за то, что вы очень многих детей, взрослых, шоферов уберегли от неприятностей.Большое вам спасибо от всех поголовно людей. Те, кто столкнулся с вами, никогда вас не забудут…
Милиционеру же все это показалось очень странным. Продолжая профессионально точно работать жезлом, он настороженно всматривался в непрошеного благодетеля и, наконец, все понял: «Во, дед, уже где-то с утра поддал», — подумал сержант, а вслух предостерегающе изрек:
— Слушай, дед. Таких доброхотов давно что-то мне не попадалось. Но я тебе дам дельный совет: если по какому-то случаю уже напился, то не скандаль, а иди-ка домой баюшки, а то не ровен час и в вытрезвитель отправлю.
Дед беспокойно стал оправдываться:
— Что вы, давно не пью. Я лишь хотел…
Деда еще более строго перебил блюститель порядка:
— А я говорю: ступай домой, а то угодишь туда, куда сказал.
Только теперь дед Матвей понял, что он не на шутку разозлил милиционера, который являл пример мастера своего дела, но был далек до сентиментальности, телячьих нежностей. Он проникся лишь суровой усердностью в работе.
МАЛЕНЬКИЙ ВИНТИК
— Ты изволил выразиться, что я работаю не в духе времени. Напомнил о перестройке. Смею тебя заверить, что суть перестройки не в количестве, а в качестве. Что ты меня подгоняешь? Ты дай мне время обдумать, оценить твои справки…
— Иван Петрович, что же тут ломать голову, документы мои в порядке. Вот они у вас на столе. Место работы, заработок, жена, дети, квартирные условия, мое здоровье — все известно. Подписывайте свое согласие, пожалуйста. Без вашей визы мне путевку не дают в дом отдыха.
— Петров, Петров! Неужели думаешь, что я не подпишу? Для того ко мне люди ходят, чтобы я отмечал да визировал. Но не могу без разбору, с закрытыми глазами подмахнуть серьезную просьбу…
— Иван Петрович, в газетах каждый день пишут, чтобы не разводили в канцеляриях антимонию.
— Правильно пишут. Я двумя руками — за. Но можно ли назвать бюрократом человека лишь за то, что он внимательно изучает документы? Скажи, ты можешь меня назвать волокитчиком, чиновником, бездушным человеком? Посмотри, сколько времени я истратил, заботясь о тебе. Другой бы в секунду отказал и — поворачивай оглобли. А я битый час с тобой вожусь.
— Иван Петрович, вот в том-то и дело. Я задерживаюсь у вас. Меня в цехе ждут. Отпустили только на пять минут. А мы толчем воду в ступе. Подпишите, пожалуйста, и я пойду оформлять путевку.
— Ах, молодо-зелено. Все бы им на скоростях делать. Да подпишу, подпишу я. Но и хочу, чтобы ты понял, не все можно помечать да визировать. Однако в любом случае ты дай мне время вникнуть в детали, так сказать, обмозговать со всех сторон ситуацию, чтобы не было промашки. Ты же сам, Петров, осудишь меня первый, если я, не читая, буду «подмахивать». Это Фамусов говаривал: «…а у меня, что дело, что не дело, обычай мой такой: подписано, так с плеч долой». Ты что, Петров, за такой принцип рассмотрения жалоб и заявлений граждан? Нет, конечно. И еще одно запомни, Петров, я маленький винтик большого механизма. Я напортачу — вся машина остановится…
— Иван Петрович, я опаздываю. Меня ждут в цехе. Станок простаивает. Решайте: да или нет.
— Присядь, Петров. В ногах правды нет. Это точно. А то ты можешь сказать, что у меня не хватает чуткости, внимания. А я тебе так скажу: у нас в стране все есть, мы только не умеем этим всем пользоваться. А насчет того, чтобы с бухты-барахты подписывать, меня никто не заставит, в том числе и перестройка. К тому же, ты у меня не один такой шустрый. Слышишь шум в коридоре? Это из-за тебя там очередь собралась.
— Почему из-за меня, Иван Петрович?
— Да потому, что, прежде, чем идти к начальству, ты должен был сам изучить свои справки, прикинуть, чего не хватает в них. В народе говорят: десять раз отмерь — один отрежь.
— Семь раз отмерь, Иван Петрович.
— Вот, видишь, как ты старшим перечишь. В крови это у вас, у молодежи.
— Иван Петрович, оформляйте, пожалуйста, просьбу. Ведь если я у вас на три часа задержусь, меня уволят за прогул. Ну, подпишите. Ведь перестройка, все должны работать оперативно.
— Добавляй, Петров, и качественно. А где быстро, там качественно не бывает. Я подпишу, подпишу.
Иван Петрович берет ручку, медлит и добавляет:
— Я подпишу, но чуток попозже, когда принесешь справки и о состоянии здоровья всех членов семьи. Ведь на курорт все-таки едешь…
ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО О ПОДРОСТКЕ

Следователь полистал уголовное дело. Потерпевших много, заявлений — тоже. Домохозяйка Ильюшенко с площади Труда на минутку оставила квартиру открытой, а вернулась — там трое «гостей». Позвала на помощь. Воров задержали. Виктор Новоселов, Юрий Лабузин и Владимир Кирьянский — ученики восьмого класса, Александр Щучков — тоже из восьмого, но в этой краже не участвовал, а в остальных — да.
Квартирных краж на совести у четверки много. Изобличают подростков потерпевшие Ильюшенко, Борискина, Манакова, Кондрак… Щучков приносил отмычки, находил ключи от квартир, не очень надежно спрятанные.
И вот встреча с работниками уголовного розыска, невеселые рассказы о своих похождениях. «Увлекались» квартирными кражами. В одном месте украли портсигар, в другом — польстились на галантерейную мелочь, а в третьем — выкрали бусы и три рубля. Ребята называют с завидной точностью, что, где украли: очки, серьги, кольца, даже… шесть апельсинов. А у гражданки Кондрак, воспользовавшись ее ключами, похитили золотые вещи.
Как им это удавалось? Взрослые дяди и тети, словно специально для них, оставляли ключи от собственных квартир у дверей, точнее, у порога под ковриками. Пожилые, опытные люди просто-напросто ротозейничали. Допускали потерпевшие и другую ошибку: не заявляли «по мелочам» в милицию, иначе путь воришек был бы куда короче.
А в отношении ключей пострадавшие разводят руками:
— Доверялись. И соседи знали, что храним…
Конечно, речь идет не о том, чтобы быть сверхбдительными. Но в подобных случаях лучше спрятать ключ как следует.
Свидетели по-разному воспринимают происшествия. Одни решительны и строги в предложениях о наказании преступников, даже если они и подростки, другие настроены либерально: подумаешь, разбойники, простить надо…

Посмотрим же на обвиняемых.
Вот сидит Александр Щучков. В восьмом классе учился плохо, его перевели в седьмой. Директор школы и классный руководитель дают письменную характеристику:
«Мать не пользуется авторитетом у сына, он страшно грубит с ней, обманывает ее, пьет вино, курит. На уроках выражается нецензурными словами… Родительская общественность посещала Щучкова на дому. Сдвигов от этого не было».
О кражах в школе, конечно, ничего неизвестно.
Мать Александра, уборщица одного из предприятий, Екатерина Тимофеевна Щучкова, сына не хвалит. Следствию и суду дает чистосердечные показания:
«Сын со мной не считался, был озлоблен, книги читать не любил. Кроме него, у меня еще трое детей. Муж умер, когда Саше было шесть лет. С тех пор я и маюсь».
О том, что сын в апреле — мае редко посещал школу (он занимался воровством), мать, разумеется, не знала.
А тем временем вожак подростков Щучков рассеянно отвечает на вопросы следователя, взгляд его ничего не выражает, к своей судьбе он безразличен.
Когда знакомишься с кривой падения Щучкова, диву даешься, как на глазах у школы, родительницы, общественности разложился парень и подбил на преступление в общем-то далеко не испорченных ребят — восьмиклассников Виктора Новоселова, Юрия Лабузина, Владимира Кирьянского.
О первом из них — Викторе Новоселове в школе говорят, что мальчик обладал организаторскими способностями, у ребят в классе пользовался авторитетом. Но далее классный руководитель констатирует, что учеба для Виктора превратилась в тягость, хотя дисциплину на уроках не нарушал. Последнее время часто пропускал занятия. В школе никто не знал истинной причины этого, домой к нему не наведывались, друзьями его не интересовались.

Анна Дмитриевна Новоселова, мать Виктора, пенсионерка. Она малограмотна, говорит, что за сыном наблюдала: он дома читал, играл в шахматы, увлекался радиоделом.
— Мы с мужем, — отмечает она, — купили ему радиоприемник, фотоаппарат. А в милицию лишь как-то один раз из-за сына вызывали…
Она готова утверждать, что просмотрела Виктора школа: «Почему бы ей не забить тревогу, что сын стал часто пропускать занятия?»
Следователь смотрит на сына и на мать и думает: «А почему бы вам почаще не наведываться в школу, время-то было?»
Формула: равнодушие родителей — преступление детей — скамья подсудимых, и тут сработала неотвратимо.
Третьим в четверке поставим Владимира Кирьянского. Учителя утверждают, что это способный шестнадцатилетний парень, но в школе был средним по успеваемости, учился ниже своих возможностей. Вспыльчив, замкнут. Участвовал в художественной самодеятельности, выпуске стенгазеты. Увлекался игрой в футбол. Последнее время стал учиться плохо, пропускал занятия. По каким причинам — школа пока не выяснила.
Анна Афанасьевна Кирьянская, прессовщица городского комбината, говорит о сыне:
— До пятого класса учился хорошо, потом хуже. Мы с мужем малограмотные и помогать ему не могли. По складу характера сын тихий, замкнутый, неразговорчивый. Здоровье хорошее. Жалоб от соседей и из школы не было. Володя состоит в юношеской футбольной команде. Выступает в соревнованиях по классу «А» на первенство страны среди юношей. Любил книги, кино. Товарищей домой не приводил, милицией никогда не задерживался. Как он мог пойти на такое?!
У него были большие мечты в отношении своего будущего, он не «отпетый», это чувствуется. Владимир и у следователя и на суде производит такое впечатление: стеснительный, даже робкий, но ершистый, смотрит исподлобья.
Замыкающим остался Юрий Лабузин. Это, что называется, правая рука лидера Щучкова. К учебе в школе относился недобросовестно, часто пропускал занятия без уважительных причин (впрочем, как и у его компаньонов, эти причины учителями тщательно не изучались). Ни одного общественного поручения Юрий в школе не выполнял.
— Отец и мать знали об этом, но не влияли на сына, — заключает классный руководитель.
Мать Юрия, бетонщица завода, Мария Кузьминична Лабузина, и ее муж, бригадир этого же предприятия, другого мнения. Они считали, что сын учился хорошо, поведение нормальное. Немножко грубоват, и только. Неужели пропускал занятия и совершал кражи?
Итак, преступления раскрыты. Группа несовершеннолетних преступников просуществовала два месяца. Подростков не уберегли. А ведь ребята совсем недавно были как все другие: веселые, любознательные. Но родители, прямо скажем, воспитанием своих детей не занимались, и это привело к беде.
Плохо, очень плохо выглядят в этой истории и школы. Не зря прокуратурой города внесено представление в орган народного образования о наказании виновных. Ребята совершали кражи в то время, когда должны были находиться на занятиях. В это же время распивали водку. Если бы существовал надлежащий контакт педагогов и родителей, то уже по тому, как ухудшилась успеваемость и посещаемость школы подростками, можно было прийти к выводу о неблагополучии, сообща усилить за ребятами контроль, а значит, и остановить их на пути к преступлениям. Уберечь. А опасений за судьбу Щучкова, Лабузина и других было достаточно. Именно почувствовав бесконтрольность со стороны родителей и педагогов, они стали на преступный путь.
…С угла центральных улиц города виден стадион. Осенний ветерок треплет спортивные стяги. Оттуда доносятся радостные голоса. Спрашиваем у дающих показания подростков:
— Слышите? Это на стадионе. Разве лучше шарить по чужим шкафам, чем быть там?
— Нет, не лучше… — потупились, шмыгают носами. Кто нервно расстегивает и застегивает пуговицы рубашки, кто подтягивает спадающие без ремня брюки.
…И вот следствие и суд позади. Над городом опускаются сумерки, первые сумерки для «четверки» после вынесения приговора народным судом. Гаснут в окнах огни. На ветру под мелким дождем глухо перешептываются деревья. Серые тяжелые облака висят над землей. Кажется, что они никогда не выпустят из плена небо. Но это кажется. Может быть, утром уже будет голубой небосвод.
Но это не радует А. Щучкова и Ю. Лабузина. Два года им смотреть на небо из колонии для несовершеннолетних. Не ушли от наказания В. Новоселов и В. Кирьяновский. Первый осужден к полутора годам, второй — к двум, но условно. Суд очень внимательно подошел к их судьбам, учел все смягчающие вину обстоятельства.
Теперь все зависит от ребят. Дорого обошлись бусы, шесть апельсинов и еще кое-что самим ребятам, родителям, их воспитателям. Есть над чем поразмыслить и нам с вами. Может быть, где-то рядом ходит чем-то напоминающий участника злополучной четверки неустойчивый подросток. Давайте обратим на него внимание. Кем он станет — зависит от нас.
Фамилии ребят здесь и дальше в книге изменены с одной целью: уверены, для будущего они сделают правильные выводы.
ЗАПОЗДАЛОЕ ПРОЗРЕНИЕ
Радик Татабуев давно торговал на подмосковном колхозном рынке. Много лет он предлагал: «Дорогая, симпатичная. Только у меня дешевые и прекрасные, как ты сама, гвоздики. Два рубля штука. Дорого? А сколько будешь брать? Иди сюда…».
Говорят, даже котенку приятно слышать добрые слова, а представительнице слабого пола тем более. К тому же, симпатичный, усатый, стройный и смуглый молодой человек одарил девушку тремя полубесплатными гвоздиками. Не случайно торговец показался Кате Четвертковой чародеем. Уже на следующий день она пришла к Радику с подругой, тоже учащейся третьего курса одного из городских училищ.
Итак, знакомство состоялось. Радик стал встречаться с горожанкой — милой, светловолосой, всегда веселой девушкой, у которой глаза, словно небо в летнюю ясную погоду…
Еще никто не мог ответить на вопрос: как приходит любовь и за что мы кого-то любим. Лишь потом, когда семнадцатилетняя Екатерина Власовна Четверткова окажется в зале судебного заседания на скамье подсудимых, к ней окончательно придет прозрение.

Стопку исписанных листков с раздумьями она передаст мне.
«Что произошло со мной за последний год? Это странная история. По характеру я однолюбка. Каждый человек, каков бы он ни был, хороший или плохой, должен влюбиться. Я же знала: если полюблю, то одного и навсегда. И вот в один прекрасный вечер, как раз в день моего рождения, познакомилась (совершенно случайно) с молодым человеком. Он был из южной республики и торговал у нас на рынке цветами, выращенными у себя, там, в саду. Так он говорил. Юноша назначил мне свидание. Встретились в парке имени Л. Толстого, долго бродили. Мне нравился его акцент. А еще мне показалось, что это тот, кого я давно ждала. Потом встретились еще. Я влюбилась в него. Каждую встречу ждала с нетерпением. Он торговал почти полгода, и если по каким-либо причинам мы не видели друг друга хотя бы день, оба сходили с ума. Вскоре, ласково обнимая, он сказал, что меня очень любит. Сказал тихо, почти шепотом и так просто, что у меня чуть не вырвалось из груди сердце».
Читаешь такое трепетное письмо и поначалу даже хочется поздравить девушку, что пришла к ней, наконец-то, большая любовь. Позавидуешь и юноше — преданная у него будет подруга.
«Для меня это была первая любовь. Еще я поняла, какое это прекрасное чувство на свете. Я берегла свою любовь как только могла. Думала, если ее потеряю, то уже навсегда, и никого никогда не полюблю.
После нескольких встреч наши отношения стали почти близкими. Но в половые отношения я с ним не вступала, хотя в мыслях сто раз была согласна, но ему все равно говорила: «Нет». Я хотела, чтобы наша любовь была чистой. Мне он клялся, что любит только меня, и никто ему больше не нужен. А я, наивная душа, верила, думала, что это действительно так. Он ко мне относился, словно к богине, почти молился на меня, говорил, что обязательно женится на мне. Я очень волновалась от таких слов».
Любовь — это всегда мечта. Кто может осудить Катю за то, что она поверила в свою судьбу? Одно его имя влекло и томило девичье сердце.
«Все полгода, которые Радик находился в нашем городе, я была словно в сказке. Сейчас уже не верится, что такое наваждение было со мной. Потом я познакомила его со своими родителями. Он им понравился. Но мама, мама! Материнское сердце — вещее! Она почувствовала, что будет что-то недоброе со мной. Проводив как-то от нас Радика, сказала, чтобы я была очень осторожна. Она делала тонкие намеки, но я и не слушала ее! Я думала только о его любви ко мне.
Близился вечер расставания. Когда я видела его в последний вечер, мелькнула мысль, что вижу его в последний раз. Он меня целовал, душил в объятиях.
О, кто бы меня видел, когда он уехал! Я еле-еле сдала последний экзамен. Меня утешало то, что он обещал приехать за мной через две недели. Но он не приезжал. А присланное его письмо было туманным, неутешительным, он намекал на какие-то преграды, которые мешают нам соединиться. Боже мой, что было тогда со мной! Я возненавидела весь белый свет, стала нервной, раздражительной, дома часто устраивала скандалы, а причина была в том, что я не смогла уберечь свою первую, единственную любовь».
Дальше целые страницы — о той, прежней, взаимной привязанности, о том, что она в нем искала свой идеал, отталкиваясь от родительского образа, образа отца, которого очень любила. И вдруг:
«Еще он мне писал, что его семья верит в бога, и это тоже непреодолимое препятствие для нашего соединения. Он говорил, чтобы я серьезно подумала, с кем я могу связать свою молодую судьбу.
А мне эти письма травили сердце. Неужели он не понимает, что я готова разделить с ним его веру, даже не пожалею жизни. Я стала собираться в дорогу.
Мама отговаривала меня, упрашивала взвесить каждый шаг. Я была неумолима, мне казалось: промедли я немного, и упущу своего ненаглядного, всепонимающего Радика. Мне было на все наплевать, лишь бы быть вместе с ним.
На станции мама вся в слезах (да и я зареванная) провожала меня в дорогу. Дали телеграмму Радику, чтобы он меня встречал. И только в поезде, когда застучали колеса на стыках рельс, мое сердце охватил страх: куда и зачем я еду, что могу найти в том неведомом, далеком мне краю, не потеряю ли все, что имела, а главное — честь, совесть, собственное достоинство?
Впрочем, поначалу все шло хорошо. Меня встретили его родители гостеприимно. От станции вез меня в свое село отец Радика на мотоцикле».
Свадьбу сыграли быстро. Но душно жилось Екатерине в особняке, обнесенном глухим высоким забором. Она даже не могла осмыслить, где находится и сколько человек живет под одной крышей.
Новые люди появлялись и исчезали, прихватив с собой множество коробок. Свекор и свекровь ходили по дому и двору молчаливо, сумрачно, как по кладбищу. Говорили немного, но и то на своем языке. Радика было не узнать. Он почти не обращал внимания на молодую жену.
И особенно затосковала Екатерина, когда узнала, что и муж, и его родители входят в какую-то странную религиозную секту. Мало того, и невестку стали водить на свои тайные собрания. Верховодил на них отец Радика — здоровенный, бородатый мужик, которого все боялись: и свекровь, и сын, и те, кто временно поселялся под этой крышей. Его звали Оюсом, а по отчеству Бертовичем. Как-то в присутствии Екатерины налетел хозяин на жену и жестоко бил ее ботинком.
Вот тогда написала Екатерина матери письмо, полное отчаяния:
«Мама, я попала в какое-то мракобесное семейство. Держатся религии, а чести нет. У меня от страха колотится сердце, даже плакать могу только тайком. Вот и сейчас, вся в слезах, пишу тебе, наверное, последнее письмо — если удастся его переправить, значит повезет. Пишу, а слезы капают на бумагу. Ты увидишь: все письмо мокрое от слез. Как мне отсюда вырваться? Но меня даже не выпускают за ворота. Мне стыдно, противно. Я Радика знала семь месяцев, а выходит, что совсем его не понимала. Какой он восхитительный был у нас! И совсем другой человек здесь. Мне кажется, что ходит рядом со мной чужой и злой человек. Вот уже прошло полгода, как я замужем, а все время одна. Он куда-то уезжает. А приедет и двух слов не скажет, разговаривают в квартире на чужом языке. Я задыхаюсь здесь! И мне кажется, что никто меня уже не спасет, никто не вернет мне той беззаботной жизни рядом с тобой, отцом, братишкой…»
В просторном и красивом доме Екатерине жилось одиноко. Екатерина подружилась с маленькой черноглазой девчонкой, которая играла в песке напротив высокого забора. Отдала ей письмо, чтобы она опустила его в почтовый ящик. А через день это письмо оказалось в руках Оюса Бертовича. Он порвал его на глазах у Екатерины и пригрозил.
Однажды Радик вдруг обходительно заговорил с женой: мол, не знает ли она кого в Киеве, где бы можно было остановиться?
— Повезу туда фрукты, — пояснил он Екатерине, — тебя возьму с собой.
— Поехали в Подмосковье, я маму с папой заодно проведаю?
— Там ОБХСС надоедает.
Екатерина повезла вместе с мужем в Киев то, что нужно было продать в столице Украины. Едва они выгрузили из вагона свою поклажу: мешки, хозяйственные сумки, ящики, как знакомый Радика, ожидавший его, панически замахал руками: «Уезжайте отсюда».
Взяли билеты в Минск. Не доезжая, километров за сто, Радик решил выгружаться. Ехали в столицу Белоруссии в такси. Перед въездом в город их буднично остановили на посту ГАИ и потребовали показать багаж. Присутствовали понятые. Поклажа состояла из маковых головок, расфасованных в килограммовых пакетах.
Дико завопил Радик:
— Это не мое! Жена подтвердит: мы нашли все это на дороге…
Радик Татабуев хорошо знал статью 224 Уголовного кодекса РСФСР: «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ». Однажды он уже привлекался. Теперь ему грозило наказание — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
…За день до суда Оксане Гавриловне Четвертковой дали с дочерью свидание. Вот они сидят друг против друга. Одной сорок пять, второй едва минуло восемнадцать. Матери показалось, что Катюша в положении.
Она с испугом вскрикивает: «Ты ждешь ребенка?» — и слышит спокойный ответ: «Нет, и слава богу. Впрочем, еще точно не знаю. А то ведь при тюрьме яслей нет».
— Как же это ты? — спрашивает мать. А в ответ: «Мамочка, я совершенно не знала, что в этих тюках».
И был суд.
Судье и народным заседателям не было оснований сомневаться в правдивости слов Екатерины. Ей в доме Татабуевых заказана была дорога даже в огород свекра и свекрови — туда, где росли конопля и мак. Она не могла знать, что везли в багаже на продажу.
Суд признал Екатерину невиновной и освободил из-под стражи в зале судебного заседания.
Отвечать за все пришлось семейству Татабуевых.
…Еще долго в пустом зале сидели, обливаясь горючими слезами, мать с дочерью. Молчаливо, угрюмо топтался рядом и отец.
— Пошли домой, — сказал он.
Домой! Какое родное слово! Домой! Пусть нельзя вернуть первые мечты и чувства, но дом — дом спасет, излечит от первой раны, оставленной на сердце грубой, безжалостной рукой.
ДИАЛОГ С ПРИШЕДШЕЙ ИЗ НОЧИ
Я смотрю на нее, поблекшую в двадцать лет, с сеткой морщинок у потухших глаз, с щемящим чувством жалости. Эта молодая, со следами былой красоты, женщина с хорошим русским именем Нина не может пожаловаться, что ей трудно найти работу, что она забита и неграмотна. Все у нее есть: и родители, и образование. Когда-то даже состояла в комсомоле.
Что же случилось? Почему сбилась с пути, начала торговать любовью?
Долго молчит в ответ на мои вопросы, потом вскидывает голые до плеч тонкие руки, ворошит скомканные волосы. Молча бесцеремонно запускает два пальца за пазуху, достает скомканную десятку.
— В-вот. Е-есть на что выпить. Не ваше дело указывать! Плевать на ваши нравоучения! Нет такого закона, чтоб меня за любовь преследовать… Да, ухажер заплатил. Ну и что?
Юбка, кофта ее не только помяты, но и в глине, траве. Храбрилась она в милиции недолго. Быстро сникла, когда напомнили об оставленной ею двухлетней дочери. А потом, когда протрезвела, залилась слезами. Заговорила о том, что, похоже, глубоко в сердце застряло и постоянно напоминает о себе:
— Деньги легкие соблазнили, будь они прокляты! Хорошо, что не докатилась до наркомании. Таблетки, правда, уже пила. Но не кололась. Общалась с «неформалами».
Глаза ее просохли. Она о чем-то задумалась, сделалась вдруг отчужденной. Замкнулась — и ни слова. Погасли огоньки в цыганских глазах.
Подкрашивая губы, неуверенно пообещала:
— Попробую начать новую жизнь.
Потом была новая встреча. Призналась, что пока у нее ничего не получается.
— Не так просто отвыкнуть от вина, — вздохнула она. И начала рассказывать о себе.
Ей не было и восемнадцати, когда после средней школы приехала из отдаленного района в город. Устроилась на завод ученицей наладчицы аппаратуры, поселили ее в общежитии. Держалась и на заводе, и в общежитии скромно, обособленно. Подружка Галя как-то посоветовала:
— Да оставь ты свой деревенский уклад! Вздохни свободно, раскрепостись. Вон сколько мальчиков вокруг. Ты что, принца ждешь? Один парень из пятого цеха на тебя глаза пялит. Не теряйся!
Нина раскрепощалась. Все свободней вела себя с ребятами. А что? Белой вороной быть, что ли?
Под влиянием подруг она стала подогревать в себе стремление к новизне. И вскоре, после обильного застолья, стала жертвой случайной связи. Хотя сама она эту связь случайной не считает.
Впрочем, тут стоит рассказать подробнее.
С Валеркой познакомились на заводском вечере отдыха во Дворце культуры. Он показался ей не таким, как все: добр, ласков, внимателен. Она часто ходила с ним в кино, кафе, на дискотеку. И привыкала к нему все сильней.
— Мне очень хотелось, когда стану совершеннолетней, пойти с ним в загс. Одно не нравилось. Он что-то темнил со своим местожительством и в отношении родителей. То говорил, что живет у брата, а мать с отцом за границей, то утверждал, что имеет место в студенческом общежитии, куда заходить посторонним, то есть мне, воспрещается. Как-то запутался и сказал, что отца у него нет, а мать живет в Москве. После нескольких вечеров, проведенных вместе, стал предлагать вступить с ним в близкие отношения. Говорил, что так сейчас делают все. Что-то объяснял насчет пробного брака — вычитал в каком-то журнале. Я отказывалась, возмущалась. Он был настойчив.
Воспитывалась я в селе, и у меня была строгая мамина школа. Я со слезами просила Валерку подождать до свадьбы. А он — неумолим. На каждом свидании возвращался к одной и той же теме. Он мне очень нравился. Причем, я действительно видела, что мои подруги более сговорчивы со своими парнями. Это заставляло сомневаться, а правильно ли я делаю? Когда он пригрозил, что уйдет навсегда, так как считает, что я его недостаточно люблю, я уступила…
При случае, побывав в деревне, я все рассказала матери. Она поохала, повздыхала, но делать нечего: что свершилось, то свершилось. Мама моя предупредила о возможных неприятных последствиях, просила привезти показать Валерия. Вскоре почувствовала, что беременна. Растерялась. Хотя была уверена в Валерии. Подруга Галя, напротив, убеждала меня ему ничего не говорить, так как Валерка может от меня отвернуться. А мне хотелось ему сказать, что у нас будет ребенок, обрадовать его.
Пригласила Валерку к себе в общежитие и, не говоря о беременности, передала просьбу мамы — повидаться с ним. Он согласился. Мы сидели в вагоне электрички, прижавшись друг к другу: тут я не вытерпела, призналась, что жду ребенка. Мне в эту минуту очень было хорошо рядом с ним. Но от моих признаний Валерия словно пчела ужалила. Со словами: «Ну и дура!» — он выскочил из вагона.
Нет слов, чтобы выразить мое состояние. В конце концов мне пришлось сделать аборт. Валерий на горизонте не показывался. Одна я бы ребенка, конечно, не воспитала. Через некоторое время узнала, что Валерка встречается с моей подругой Галей. Вечерами она прихорашивалась и как на крыльях улетала на свидание, пока однажды не повесила нос. Потом призналась, что у нее неприятности «похлеще, чем у тебя» и что «Валерка свинья, каких не знал свет».
Вскоре я снова влюбилась. В разведенца. На десять лет старше. Но дело не в возрасте. Он злоупотреблял спиртным. Думала, что отучу его от дурной привычки. Тем более, Сергей обещал бросить пить. Была свадьба. На нее приезжала моя мама.
Она замолчала, уйдя в себя. Потом заговорила снова. Рассказала, что заверения о том, что Сергей бросит заглядывать в бутылку, были пустым звуком. Сразу же в семье создалась сложная ситуация: муж беспробудно пил, поздно приходил домой, устраивал скандалы. Надо отдать должное характеру Нины: она нашла в себе силы подать на развод, пока не появились дети.
— Потом стала встречаться с одним водителем, Олегом его звали. Он платил алименты, но имел однокомнатную квартиру. Там он меня и принимал месяца три. Потом передо мной оказалась закрытой и его дверь. А я была уже беременна. Через несколько дней мне исполнилось восемнадцать. Я написала Олегу письмо. Просила не бросать меня в таком трудном положении. Постращала его, что подам заявление в прокуратуру и докажу… Он испугался, написал, чтобы приходила. Я стала жить у него, но брак он не спешил регистрировать. Сожитель мой стал неделями пропадать, а я с соседкой-алкоголичкой — понемножку выпивать от одиночества и скуки, хотя и нельзя было в моем состоянии. Ну, в общем, родила девочку, потом отсудила комнату.
Родив дочь, Нина вроде бы забыла о рюмке. Но не надолго. Нашелся еще один «жених». Он сам приносил на каждое свидание бутылку водки. И она снова оказалась в трясине, теперь уже основательно. У нее стали случаться приступы белой горячки. А было ей только двадцать лет. Работу на заводе оставила: наладчицей быть можно только с трезвой головой, у нее уже руки дрожали.
Стала менять должности. Была и дворником, и кухонной рабочей, и лифтером. Искала такую должность, которая не мешала бы пьянке. Находила, сутки дежурит, трое дома. Вот это-то свободное время стала использовать для «прогулок» на вокзалы. И находила клиентов, сдавала свою любовь напрокат: десятка и стакан водки.
Вот такой была ее исповедь. Но, как оказалось, рассказала она не все. Об этом я узнал позже уже от других людей.
В цехе, когда Нина уже жила с Олегом, ей пошли навстречу и предложили заведовать небольшим инструментальным складом. Через короткое время у нее обнаружилась недостача деталей на 500 рублей. Нина поделилась неприятностью с тетей Кланей. Та стала обдумывать, как помочь, и познакомила Нину с состоятельным пожилым мужчиной. Тот и покрыл недостачу за близкие отношения. Именно так началась торговля любовью.
Совесть Нину недолго мучила: быстро почувствовала сладкий вкус дармовых денег. Где-то в тайниках сознания даже отметила: «Вот путь для хорошего заработка».
Олегу она о недостаче ничего не говорила, так как знала, кроме оскорблений, от него ничего не дождешься. Хотя он мог бы и сам выплатить недостачу.
…Общаясь с Ниной, я пытался заглянуть ей в душу. Как-то спросил, как она понимает счастье. Скептически хмыкнула, вскинула на меня печальные глаза:
— Есть успех у мужчин — вот тебе и счастье!
— Ну, а еще?
— Жить без забот, чтобы с дочкой ничего не случилось.
— А с вином как?
— И в нем чтобы недостатка не было… А вообще-то хочу лечиться. Надо набраться смелости и обо всем написать маме. Она должна помочь. Родители мои — крестьяне. А я вот тунеядка. Слышала, что скоро будет издан закон о наказании за проституцию.
— Что, разве сейчас нет такого закона? Только называется он законом совести. И редко кто нарушает его.
— Ой ли! — тотчас оживилась собеседница. — Редко какая девчонка не польстится на модную юбку, золотую безделушку… Сколько я видела их в общежитиях иностранцев…
Чтобы проверить ее слова, я в одном женском общежитии провел обсуждении статьи «Чума любви», опубликованной как-то в журнале «Крокодил». А потом попросил письменно (анонимно, конечно) ответить на вопрос: «Что девчата думают о таком позорном явлении, как любовь напрокат?».
Подавляющее большинство (90 процентов) ответили: «Это бесчестие, лучше смерть, чем это занятие!». Однако одна девушка из десяти написала: «Допускаю возможность для женщин, находящихся в бедственных материальных условиях».
Меня такая приписка, признаться, озадачила. Какие могут быть в наше время бедственные материальные условия? Где это видано, чтобы в нашем обществе работящий человек жил в нужде? Народное хозяйство страны постоянно испытывает потребность в рабочей силе. Не хватает людей на предприятиях. Мало одной работы, бери вторую — по совместительству.
…Прошло еще некоторое время — и вот недавно снова встретил Нину.
— Пить брошу, — сказала она уже тверже. — Да и все остальное оставляю: этот балдеж, чужие постели… Вот вы о любви говорили. Мне кажется, ее вообще нет. Есть привычка. Вы мне приводили в пример Катюшу Маслову. А я свою мысль могу тоже ею подтвердить: возвышенные чувства, обожествление — сами же мы все это придумываем.
— Любви для тех нет, кто ее потерял и кто не пытается найти ее.
— Не знаю. Не верю…
Тут, вопреки словам, Нина вытащила из сумки написанное, но еще не отправленное матери письмо. Оно начиналось так:
«Милая мамочка, наберись мужества, постарайся спокойно прочитать мою исповедь. Как мне тебе объяснить, чтобы ты поняла…»
Затем Нина взяла у меня это письмо и опустила в почтовый ящик.
И пошла своей дорогой.
Мне очень хотелось ее снова встретить уже другой, настоящей женой и матерью, чтобы полюбоваться ею и вспомнить ее прошлое, как наваждение. А что, ведь обязательно такое должно произойти.
И, о невероятная история. Недаром говорят, если чего захочешь, то обязательно это исполнится. Трудно в это поверить, но я снова через год встретил Нину при очень интересных обстоятельствах.

Это случилось летним вечером. Я с женой и дочерью возвращался из леса: мы совершали «культпоход» за ягодами. Еще издали я заметил, что на краю дороги под кустом орешника сидела молодая женщина в накинутой поверх легкого платья оранжевой кофте. Рядом с ней топтался лет трех ребенок, кажется, девочка.
И вдруг я узнал женщину и отчаянно нажал на тормоза. Это была моя старая знакомая Нина. Вся она была совсем не похожей на прежнюю затасканную женщину, светилась какой-то едва уловимой тихой радостью. От этого казалась такой загадочной и такой божественно прекрасной.
Узнав меня, она оживленно закричала:
— Очень рада вас видеть. Я с мужем… за грибами…
У нее сложилось все хорошо. Она вовремя одумалась. А благополучно ли сложится судьба у других «героинь»?
КАКОЙ ОН СЕГОДНЯ, ДОН ЖУАН?
Многие, в том числе подростки, любят повторять: «Что естественно, то не безобразно!». С этим нельзя согласиться. Почему? Да потому, что человек не животное. Если разумное существо не может обуздать свои страсти, значит сознание не управляет им. Человек тем и отличается от животного, что он воспринимает и понимает окружающую действительность, способен осмыслить свои поступки и предугадать их последствия для себя и других.
Мужчина, парень ли, соблазняющий девушку, не менее заслуживает порицания, строгого осуждения, чем женщина легкого поведения.
Нет, никто не собирается защищать проституток, восклицать: «Ах, какие они бедненькие, несчастные, жертвы обмана!». Дело в другом, конечно: спрос не должен рождать в нашем случае предложений.
Спрос на женщину, особенно милую, симпатичную, красивую, всегда был и будет. Но нравственная красота, женственность, целомудренность цениться в обществе должны выше. А для некоторой части женского пола все стало дозволенным. Лучше сказать: они сами себе позволяют то, что всегда осуждалось здравым смыслом общества.
Не поэтому ли растет в городах количество детских домов, в них — сироты при живых родителях. Но при всем при этом нужно искать и второго падшего. Второго?.. А может быть первого? Ведь мужчина, как правило, и старше и опытнее своей партнерши. Да и вообще — он же мужчина! Давайте дорожить своим званием, товарищи представители сильного пола!
Но как бы мы ни рассуждали, прийти можно к единому итогу: в позорном явлении проституции (вернемся к этому явлению) повинны двое: он и она. Падшие мужчины тоже, безусловно, не могут вызвать симпатии. И в этой связи вспоминается о соблазнителе-мужчине.
В нем укоренялось год от года прямо-таки патологическое желание заполучить обманным путем девушек и молодых женщин.
Жизнь Сергея Прошина проходила у меня на глазах. Вместе учились. Разъехавшись, потом встретились снова. Мне доводилось часто бывать у него дома. Знал, потому что видел, его бытовые и нравственные устои семьи.
«Наша братия» — так мы, представители сильного пола, говорим об узком и широком круге своей компании, своих товарищей. Частенько проводил вместе с нами время и Сергей.
Он не был моим другом, не соприкасались цели и интересы, но он чем-то неосязаемым был мне привлекателен, наверное, доверием и преданностью нашему общему детству, школьным годам. Длительность наших межличностных связей тоже трудно сбросить со счетов. Но истинной дружбы, похоже, не было.
Может быть потому, что многое в нем не нравилось. Но основное, чем возмущался — его циничным, пошлым отношением к девушкам, женщинам. Честно говоря, редко встречаются парни, мужчины, которые в своих компаниях решительно отстаивают девичью честь в интимном смысле. К сожалению, в мужских кругах обычно с нескрываемым удовольствием слушается история какого-нибудь Дон Жуана о «победах» над простодушными представительницами слабого и прекрасного пола. Пошлые россказни Ловеласа не осуждаются товарищами. Напротив, приятели всегда горят желанием слушать такого «Ги де Мопассана» сколько угодно. В этом, пожалуй, тоже питательные корни для новых похождений, волокиты и обманщика девичьих сердец.
Дон Жуану бы сказать: «Ну и противный ты пошляк!», а его подталкивают рассказывать новые, хотя бы выдуманные, если их не было на самом деле, истории.
Мы часто говорим: «Времена гусаров прошли!».
Увы, выходит, что — нет.
Выходит, ответы на то, почему не переводятся, а наоборот плодятся соблазнители женщин, нужно искать, возможно, в самих мужских компаниях. А почему бы и нет? Разве это не стимул, когда вольно или невольно поощряется девичий обманщик.
Хорошо помню тот день, когда двадцатидвухлетний Сергей Прошин получил диплом об окончании техникума. Вечером он отправился на свидание к своей подруге Гале. В глаза он называл ее «голубой мечтой», за глаза говорил о ней, как о всех.
А ей, работнице ателье, хотелось быть его невестой. По ее представлениям, дело к этому давно шло. Что до Сергея, то он любил девушек и раньше. Рассказывал много о них приятелям, хвалился «победами». Были лучше Гали и хуже. Каждую он одарял одними и теми же комплиментами.
Но то, что нынешняя подруга все преданнее смотрела ему в глаза и все настойчивее ждала ответа — полного, ясного — заполняло душу Сергея беспокойством. Он признавался товарищам, что подумывает, куда бы ее «пристроить, чтобы она не имела к нему претензий»?
А между тем, их заявление уже лежало в ЗАГСе. И передать Галю приятелю, как это он сделал в прошлом году со Светланой, нельзя. С той было проще. Он не клялся ей в любви. А Гале — да. Иначе бы она не уступила. Вот и пришлось даже подать заявление в ЗАГС. Этим он окончательно завоевал доверие девушки и стал ее Первым.
Теперь томился и не знал, как от Гали избавиться, что сказать. Наконец, решил заявить своей подруге, что двадцать два года — не возраст для вступления в брак.
Однако как ни готовился к тяжелому разговору, все вышло не так, как ожидал Сергей. Галя закатила истерику, бросила в глаза ему оскорбительное слово «плут», обвинила его в том, что он обокрал ее душу, светлые мечты, честь. Пригрозила, что если он не изменит свое решение, то она покончит с собой.
В тот же вечер Галя выпила столько уксусной эссенции, что ее еле-еле спасли врачи.
Казалось бы, что этот случай будет занесен черной строкой в судьбу Сергея. Этого не произошло. Он не задумался над своим отношением к влюбленным в него девушкам.
Когда в довершение ко всему Сергей рассказал доверительному мужскому кругу, что Галя сделала от него аборт, у меня состоялся с ним нелицеприятный разговор.
— Сергей, ты поломал девушке жизнь. Это подло, непростительно.
— А ты знаешь другие способы избавиться от непрошеного дитятки?
— Она пошла на операцию, которая не улучшила ее здоровья, а ухудшила. Она может оказаться теперь на всю жизнь несчастной.
— Не преувеличивай. Это нормальное состояние женщин ходить на аборты…
— Какое ты имел право делать ее больной?
— Ах, это старая и вечно новая история о соблазнителях и соблазненных, — отмахивался он от моих слов, как от надоедливых мух.
Да, это действительно, целая тема: «Обездоленные по вине мужчин женщины». Но вряд ли на такую лекцию явятся мужчины. Сами же женщины на нее и пойдут. А легковесные лоботрясы лишь посмеются. Вот где истоки всех девичьих бед и прегрешений. Многие парни относятся к факту обесчестия девушки, как к легкому куражу.
Таким оставался и Сергей. Он скоро забыл о трагедии, случившейся с Галей, и как ни в чем не бывало, стал ухаживать за другой неопытной девушкой из статистического отдела завода Надей Павликовой.
Она тоже оказалась крепким орешком, и он опять понес заявление в ЗАГС, уверяя тем самым Надю, чтобы она не сомневалась в его дальнейших намерениях… И эту обманул.
Так случилось, что в двадцать восемь лет Сергей потерял мать, сестра вышла замуж и уехала в другой город, отец — грузчик винного магазина, совсем спился и его поместили на стационарное лечение. Сергей жил бобылем.
Бессчетноеколичество «суженых», которых вроде бы предназначала судьба ему в жены, побывали в его квартире. Они достигали лишь «потолка» невесты. Любимая поговорка Сергея была: «Обожать — не значит жениться».
Он бессовестно лгал девушкам. Называл их «голубой мечтой», «неповторимой», «сокровищем», «ангелом-хранителем» его непутевой жизни и многими другими обворожительными словами.
Но в душе Сергей их не уважал. Вежливость, тактичность, уступчивость он проявлял к девушке лишь до тех пор, пока не добивался цели.
С самого детства у него не было сформировано чувство сопереживания, благодарности, соболезнования девушке. Помню, он еще учился и я оказался у них дома. Мать варила обед и сказала, что кончилась картошка, нужно слазить за ней в подвал. Ни Сергей, ни его отец не шелохнулись. Мать сама взяла ведро и направилась в путь, за ней.
Потом я говорил с Сергеем. Он удивился моей настырности: «Ты что, женившись, собираешься по хозяйству работать за супругу? Это ее дело таскаться с авоськами. Иначе ты женушку распустишь. Помнишь древнюю пословицу: «Люби, как душу, тряси, как грушу».
— Фу ты, какой-то Домострой!
Сергей совершенно не интересовался, что было с теми, кого он бросил. Иногда кого-то встретит ненароком на улице, в магазине, или кинотеатре, и не всегда даже с ними здоровался. Но по их внешнему виду, развязности, смене партнеров понимал, что некоторые его бывшие любовницы меняют кавалеров как перчатки, кое-кто докатился до примитивной торговли любовью. Его, если судить по разговорам, никогда не мучила совесть, что именно он проложил им дорожку в «легкую» жизнь, от которой бывает пусто и тошно на душе. Знал, что одна из его бывших невест попала в психиатрическую больницу.
Любовь для него была спортом. Увлекательным, азартным. Но годы брали свое. Уходили от него молодость, привлекательная внешность, респектабельность — природные данные, за которые в него «по уши» влюблялись прекрасные особы. Рано появились морщины и мешки под глазами. Семьи не было. А девушек он стал добиваться за деньги. Он повышал свои знания, окончил институт, готовился к защите диссертации. Но по отношению к женщинам оставался на уровне полуграмотного отца.
Как-то у меня с ним состоялся очень крупный разговор. Начал я с безобидного: «Семейные люди — долгожители, а холостяки рано умирают», а закруглил тем, что он плохо кончит. Я знал о том, что он перенес уже довольно опасную болезнь на почве любви…
Он же игриво отвечал, что в отношениях с женщинами он набирается зрелости, выносливости, приобретает силу, смелость и еще черт знает что. Он, одним словом, балагурил и делал свое дело.
Как-то он мне похвалился, что «обтяпал» великолепную даму, будучи в командировке в Ленинграде. Встретился с ней в гостинице. Она приехала тоже в командировку, прервав свой медовый месяц с молодым мужем. И тут, в этом городе, у нее пропал кошелек — не то потеряла, не то где забыла. Она обратилась с просьбой о материальной помощи к Сергею, с которым познакомилась.
С лживым сочувствием он завел ее к себе в номер и выставил свои требования и пока она не удовлетворила их, он не дал беспомощной женщине денег на обратную дорогу в Новосибирск.
Как больно было мне слушать его иудовские охи и ахи, как много он тогда говорил о своих мужских достоинствах: вот взял и дал по-купечески за поцелуй денег.
И не желал он слышать возражения, что издревле мерилом мужского достоинства является рыцарское отношение к женщине, умение взять на свои плечи самые тяжелые заботы и ноши.
Да, наше общество много сделало для преодоления пережитков в отношении к женщине. Но в семье Сергея все всегда было допотопно. Он вместе с пьяницей отцом смотрел на мать как на обслуживающий персонал. И она, забитая жизнью, безмолвно соглашалась с этой ролью. И не было вроде бы в доме из-за этого конфликтов. Но метод отношения к женщинам плотно поселялся в сознании взрослеющего Сергея. В этом методе не было места ни моральной чистоте, ни ответственности, ни справедливости, ни готовности защитить слабого, ни чувства долга.
Чего греха таить, мало еще публикаций на эту тему и в газетах. Кажется, что в государстве все само собой придет: и трепетное отношение к женщине, и желание постоять за ее честь. Нет, все это нельзя пускать на самотек, нужно искоренять такие негативные черты характеров у юношей, как верхоглядство, грубость, высокомерие, лживость в отношениях к девушкам. Воспитывать настоящее рыцарство, благородство, скромность. Чаще напоминать молодому человеку, что его роль в любовном союзе — в ответственном и бережном отношении к своей подруге. Она будущая труженица, супруга, мать, воспитатель детей, заботливая хранительница домашнего очага.
Тысячелетиями смотрели на женщину, как на существо второго сорта. К сожалению, некоторые, типа Сергея, до сих пор так смотрят.
Обманывая девушек, эти молодые люди рассчитывают на то, что по своей сути девушки не заинтересованы рассказывать о своем «грехе». Поиграл щеголь в любовь с той, которая бросала на него робкие и восторженные взгляды, и считает — пусть будет этим довольна. Все равно о том, что с ней было, никому не скажет.
Мужчины не желают понять, что от того, как относится одна половина рода человеческого ко второй, слабой, зависит нравственный уровень и нового поколения. И обманывать свою подругу в самом сокровенном, в любви — тоже преступление, хотя и не предусмотренное УК РСФСР.
Торгующие собой женщины — это, в конечном счете, обманутые когда-то и кем-то в своих светлых чувствах возлюбленные. Девушки настроены на любовь, и в этих условиях очень легко безнравственному верхогляду воспользоваться ее преданностью, потребовать «доказательства» любви, а потом вильнуть в сторону.
А что же с Сергеем? История его имеет, увы, драматический конец. Как-то его командировали на Север устанавливать в далеком городе телевизионную аппаратуру. С ним поехал деликатный, воспитанный молодой человек Николай Маслов. Он нравился женщинам не как жених, а как рыцарь, выполняющий любые женские просьбы.
Перед отъездом в Сибирь Сергею и Николаю сообщили, что с ними поедет молодая сотрудница конструкторского бюро Валя Лосева. Это была общительная, веселая девушка с весьма привлекательными внешними данными. Ей едва минуло восемнадцать.
Итак, втроем они прибыли в далекий городок. За Валей стал по обыкновению ухаживать Сергей. Девушка сразу поняла, что он Дон Жуан, с ним можно приятно провести время, погулять, Николай же — надежный товарищ. Она, умная, лукавая, с хитринкой девушка, не торопясь, делала вывод.
Однажды вечером ее провожал Сергей и попросил разрешения зайти к ней в комнату. Валя, поколебавшись, разрешила. Сергей по привычке стал склонять ее к близким отношениям, сунул в руки деньги, она брезгливо их отбросила. Он неуклюже ее обнял. Валя рванулась от него, оступилась и ударилась головой об острый угол стола. Кровь залила лицо девушки. Сергей с перепугу бросил ее без сознания одну в комнате, а сам сбежал, стал отпираться, мол он не был у Вали. Но его изобличили, и первым это сделал Николай.
Валя скончалась, не приходя в сознание. Был суд, приговоривший Сергея к нескольким годам лишения свободы.
…Читая письма, поступившие на статью «Диалог с пришедшей из ночи», продолжаю думать о рассказанной истории. Как же нужно нам всем восстать против мерзких «сердцеедов», учить молодых не только галантно ухаживать за девушкой, быть вежливым и предупредительным, но защищать ее честь в самом интимном смысле. Грубость, нахальство должны уступить место порядочности, бескорыстию, умению самозабвенно любить наших прекрасных, добросердечных женщин. Только так мы сохраним милых девушек от любого порока. Но чтобы мужчина был истинным хранителем женского достоинства и чести, «сильному» полу нужно прививать соответствующие взгляды с пеленок. А потом в ПТУ, школе, техникуме, институте, трудовом коллективе продолжать воспитание.
Но вспомним о главной нашей теме. Подростки как раз в своей среде млеют от рассказов соблазнителей, пытаются им подражать. Значит, берегитесь, девушки, неверного шага. Сохраните в себе будущую жену, друга мужу, мать своим детям.
ЖАЛОСТЬ И ГУМАННОСТЬ
…Я не раз слышал, а гуманны ли наши законы по отношению к подросткам? Почаще их надо прощать. Вырастут — поумнеют. Как-то…
Рабочий день окончился.
Женщина, неотступно преследовавшая меня в последнее время, снова, как тень, вошла в кабинет. Она просит свидания с сыном.
Я объясняю, что пока этого сделать нельзя.
Женщина не думает уходить.
— Как мать прошу, отпустите сына. Что он сделал? Ударил Нинку? Врет все!
Уже не свидание ей подавай с сыном, а просит отпустить.
Минут через тридцать, смотрю, начинает нервничать Димка Черешников, мой школьный товарищ, который в тот день приехал ко мне. Думаю себе: возмущен требованием женщины.
Когда она ушла, наступила тишина. Димка первым нарушил ее. Его слова были для меня неожиданными:
— Казенные, черствые вы люди. Просто возмутительно!
— Чем же ты недоволен? — спросил я.
— Сопляка заарканили. Убил человека? Нет. Ударил кого-то. Государственные органы, видите ли, простить не могут пощечины.
— Разве дело только в пощечине? Давай разберемся. Послушай…
Но он не хотел разбираться, не хотел слушать.
— Огрубевший вы народ. Хоть сердце старухи пощадите.
Его понесло! Он гарцевал, как вздыбленный конь. Уничтожал меня, буквоеда, моих товарищей по работе, не понимающих закона, всех и вся.
— Семнадцатилетний парень, за которого пришла просить старуха, дважды за один месяц побывал в вытрезвителе. Сидел за мелкое хулиганство, штрафовался. За кражу осужден условно. И вот снова «сюрприз».
— Ну и что? Человеку надо помогать. Его надо воспитывать. А тебе — наказывать на всю катушку. Так?.. А я помогал тем, кто попадал в такое же положение.
Димка работает горным инженером. Он стал хвалиться, как он околпачивает «нашего брата», правдой и неправдой «выпутывает» попавших в милицию рабочих.
В тот день мы не сумели довести спор до конца. Он непоколебимо считал себя правым.
Но так ли это?
…Помню мое первое уголовное дело. Мне было жалко и потерпевших и обвиняемых. Так хотелось их помирить, чтобы они вышли из милиции друзьями.
Суть первого моего дела: четверо зверски избили зимой около деревенского клуба пятого, своего же товарища. После выпивки. Чистая случайность спасла этого пятого: он остался лежать на снегу, ночью на него наткнулась женщина. Не буду рассказывать, сколько сил потратили опытные сотрудники, чтобы найти преступников. И вот хулиганы сидят передо мною. Они плачут. Плачут в полном смысле этого слова. Рыдают по коридорам милиции их матери. У одного отец при смерти (известие об аресте сына окончательно убьет старика), второй на руках повестку в армию держит (там научат!), третий поступил на первый курс Московского (вон какого!) университета (можно сломать карьеру), четвертый судьбой обижен — инвалид. И, честное слово, они, эти ребята, больше вызывали сострадание, чем выздоровевший потерпевший.
Я невольно принял позицию родителей обвиняемых. Никонов (такова фамилия пострадавшего) здоров, все зажило. А парни прочувствовали. Правда, долго лгали. Так еще бы! Попали в такой переплет.
Но вот прошла неделя, вторая. Четверо гуляли на свободе. Первый испуг прошел, и они стали недвусмысленно угрожать пятому. От потерпевшего поступила жалоба. Начальник потребовал немедленно арестовать преступников, а мне, на первый раз, влепил выговор.
День за днем стало изменяться мое представление о следствии. Само собой пришло понятие о необходимости сурово спрашивать с тех, кто нарушает общественный порядок.

С Дмитрием мы поспорили, думаю, не зря. На позициях «жалости» далеко не уедешь.
Одна женщина сказала мне, что ее сын хулиганит потому, что после войны (сорок лет назад!) он ел «гнилую картошку». Она серьезно верила, что нынешнее поведение сына — следствие тех трудных послевоенных лет, и только!
В центре внимания милиции — воспитание человека, предупреждение правонарушения. А как быть с теми, на кого убеждение не действует?
Глубокий след обиды остается в сердце человека, незаконно пострадавшего. Закон защищает честных граждан. Он же предостерегает хулиганов и другого рода преступников. Пусть знают: возмездие неотвратимо.
Социалистическая гуманность — это и есть разумное сочетание суровых мер наказания в отношении совершивших опасные преступления, а также мер общественного воздействия и воспитания лиц, впервые допустивших правонарушения и способных исправиться без изоляции от общества.
Гуманность нужно проявлять к тем, кто совершил не по злому умыслу, впервые, правонарушение, не представляющее большой общественной опасности. Но не убийцы, грабители и рецидивисты должны оказываться на свободе. Повторяющий тяжелые проступки пусть пеняет только на себя. Разве всепрощением можно устранить зло?
…В сельском клубе проходит торжественное собрание. Вручаются награды. Недавно освободившемуся из мест лишения свободы сорокалетнему А. Заровнову что-то не понравилось в ораторе. Сквернословя, хулиган ударил кулаком в лицо председателя сельсовета. Почему бы ему не простить, Димка? Трое малышей останутся без отца. И сам обвиняемый тяжело болен. Но Заровнов с шестнадцати лет терроризирует односельчан.
Г. Артемцев, молодой плотник СМУ, в сельском клубе ударил секретаря комсомольской организации колхоза «Рассвет» за то, что тот не позволил ему принимать участие в репетиции хора художественной самодеятельности. Ранее хулиган был судим. Почему бы не махнуть на все это рукой, Димка?
За плечами жителя села Плавна «молодца» Никифорова три судимости за кражи. И вот этот человек с ножом в руке ворвался в кабинет главного бухгалтера колхоза «Большевик». Размахнувшись, ударил ножом в стол. Лезвие пробило книгу учета и завязло по рукоятку в дереве.
Пьяница и тунеядец В. Сидоров с юных лет не хотел знать иной прописки, как за решеткой. И всегда считал, что невинно страдает от милиции.
— За что меня арестовали? — спрашивает он. — В магазине было тесно и душно. Меня совсем развезло. Я сел на подоконник, выдавил стекло и вывалился на улицу. Чтобы не упустить очередь, через окно залез обратно. В руке у меня был кирпич, и я им ударил кого-то по голове.
Нужны комментарии, Димка?
Таких примеров немало.
Что же получается?
С одной стороны, у всех наибольшее беспокойство вызывает хулиганство, воровство, насилие, хищения, рвачество, зато в каждом конкретном случае преступника, привлеченного к суду, стараются обелить его родственники, нередко — общественные организации. Сердобольных гложет сочувствие. Выходки нарушителей законов, оскорбляющих честь и достоинство советских людей, мешающих творчески трудиться и культурно отдыхать, в какой-то момент не принимаются во внимание, забываются защитниками. Им только жалко скрученного дебошира, которого доставляют в отделение. И вот в силу либерализма очевидцев происшествия, неискренних показаний о фактах хулиганства мы порой не можем использовать все свои возможности по борьбе с нарушителями общественного порядка.
Нормы права обязаны защищать. Власть народа — это полное и безраздельное торжество законов, выражающих его волю, — так предельно однозначно сказано в любых учебниках.
Именно в силу того, чтобы законодательный комплекс соответствовал жизненной динамике, перестроечным процессам и демократическим тенденциям сегодняшнего общества, готовится новый Уголовный кодекс, который как бы встряхнет практику. Основной линией этого законодательства проводится, как отмечают участники подготовки этих правовых норм, — устранение избыточных репрессий, дифференциация и индивидуализация.
Решение о пересмотре уголовного законодательства не связано с тенденциями роста преступности. Хотя беспокоит состояние тяжких преступлений. Конечно, не скажешь, что с преступностью нет проблем. Нас беспокоит рост правонарушений среди молодежи, особенно подростков.
Преступность — это непроизводительные издержки нашего общества — демографические, экономические, идеологические.
Борьба с преступностью, в том числе несовершеннолетних, прямо работает на все элементы перестройки и на экономику. Как отмечалось в печати,
«…по расчетам специалистов, каждая насильственная смерть члена нашего общества равносильна потере в экономическом потенциале страны в сотни тысяч рублей, если исходить из среднего вклада члена общества в его развитие.
Или возьмем оценку ущерба, который в среднем приносит одна квартирная кража в крупном городе — до двух с половиной тысяч рублей! А спекуляция? По минимальным оценкам, «деловые» люди извлекают из карманов граждан около полутора миллиардов рублей ежегодно».
В связи с этим, конечно, главное в работе правоохранительных органов — воспитание, убеждение и предупреждение правонарушений. В то же время они не должны проявлять либерализма и ослаблять борьбу со злостными преступниками, а добиваться, чтобы ни один из них не ушел от заслуженного наказания.
Российское государство еще не может отказаться от мер принуждения, от применения уголовного наказания к лицам, не поддающимся общественному воздействию и злоупотребляющим гуманизмом наших законов.
Из социальных, гуманных соображений такие наказания, как ссылка, высылка и смертная казнь к лицам, не достигшим к моменту совершения преступления 18-летнего возраста, не применяются. Лишение свободы может быть назначено для взрослых — до 15 лет, а несовершеннолетним — на срок не свыше 10 лет. Это наказание отбывается ими в воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режима. Там они не только приобретают трудовые навыки, но и продолжают свое образование.
К несовершеннолетнему, впервые осужденному к лишению свободы на срок до трех лет, суд, с учетом тяжести совершенного преступления и личности виновного, может применить отсрочку исполнения приговора на срок от шести месяцев до двух лет. Если осужденный в течение установленного судом срока примерным поведением, честным отношением к труду и обучению докажет свое исправление, то суд может освободить его от наказания.
Если же в течение срока отсрочки осужденный не выполняет возложенные на него судом обязанности либо допускает нарушение общественного порядка, повлекшее применение мер административного воздействия, суд может вынести решение о направлении осужденного в колонию для отбывания назначенного приговором срока лишения свободы.
Как видим, гуманности достаточно. Государство даже в Уголовном кодексе дает много шансов преступникам — несовершеннолетним без лишения свободы осознать свою вину, одуматься, извлечь урок и доказать свое исправление, смыть со своей совести пятно.

Но всех подряд миловать подростков, лишь потому, что они «малолетки», «несмышленыши», будет неправильным и вредным для безопасности граждан.
Несовершеннолетние порой совершают очень тяжкие групповые преступления: дерзкие убийства, изнасилования, разбойные нападения.
Хочется, чтобы, прочитав эту книгу, понял и Дмитрий, и ему подобные по убеждению, что за своей жалостью они, к сожалению, не видят сути зла. Гуманности, в правильном ее понимании, в наших законах вполне достаточно. С теми, кто несет беды людям, нужно бороться. Решительно, настойчиво. Всегда. Иначе быть не может. Ведь они злы, приносят большой вред обществу, по-зверски немилосердны. Каково потерпевшим? А если представить себя на их месте?
«…Правовое государство несовместимо с беззаконием, нарушением прав, интересов и свобод граждан… демократия и гуманизация законодательства должны быть прежде всего направлены на защиту честных людей, потерпевших, а не преступников. Собственно, это и есть конечная цель борьбы с преступностью, в этом смысл законности и демократии, главный нравственный принцип правового государства» — так утверждают юристы.
ЧУЖАЯ ШАПКА
Лида Орлова после работы на заводе не торопилась на этот раз домой, в деревню. Посмотрев с подругами кинофильм, она поздно вечером ехала в троллейбусе на вокзал. Подгадывала к электричке. А там — четверть часа и дома.
Мысленно девушка все еще была поглощена интересным сюжетом киноленты и не обратила внимания, что в ее сторону бросает жуликоватые взгляды коренастый паренек в зеленой куртке на молниях.
А дальше все произошло так стремительно, что девушка оторопела. Едва на конечной остановке Лида вышла из салона и двинулась к билетным кассам, как услышала топот. Кто-то бежал с большой скоростью. На полном ходу коренастый парень — попутчик по троллейбусу, сорвал с головы девушки меховую шапку и скрылся за привокзальными строениями.

Все, что могла, Лида потом сказала на допросе у следователя, будучи потерпевшей: парня в лицо не заметила, в спину лишь мельком видела. Приметы такие: низкорослый, плечистый, лет семнадцати, был одет в поношенную темно-зеленую куртку из болоньи.
Так что в руках следствия улик и примет преступника, увы, было мало. И это, конечно, осложняло розыск грабителя.
Налетчик разгуливал на свободе, уверенный в безнаказанности и, возможно, готовился совершить новое злодеяние, а то и совершал их. Любого другого гражданина, вот так же как Орлову, подстерегала неприятность и опасность. Или уже постигла кого-то.
Но милиции следует верить в успех дела. Нет преступления, которого нельзя было бы раскрыть. Следователь всегда должен быть убежден в том, что преступник рано или поздно будет пойман. Дело лишь во времени. На то и существует, проверенная жизнью, теория о неотвратимости наказания. Преступник неминуемо попадется, как бы он ни старался изворачиваться, не «следить», избегать против себя улик.
В места наиболее вероятного появления грабителя в тот же вечер были направлены оперативные работники. Обращалось внимание дружинников при инструктажах на появление в городе грабителя, который срывает с граждан головные уборы.
Несколько дней поиска прошли безуспешно.
Самое маневренное и гибкое в милиции, у следователя — его оперативные планы. Они могут меняться по пять раз на день. Все зависит от итогов розыска преступника, от поступающей информации, от новых версий.
Для следователя закон: чем больше он проверяет, потом исключает предположений, тем быстрее придет к истине.
Когда поступило сообщение, что коренастого парня в зеленой болоньевой куртке видели дважды на остановке такси у автовокзала, следователь перебросил туда милицейские посты. Но «зеленая куртка», видать, заметила сети, выскользнув из них.
И вдруг через неделю после происшествия, в дежурную часть вбежала возбужденная Лида Орлова. Потерпевшая начала говорить прямо с порога:
— Понимаете, видела его! На улице с глазу на глаз столкнулись. Сразу его опознала. Именно с ним ехала тогда в троллейбусе. Кричу ему: «Верни шапку». А он сплюнул в мою сторону и, наглец, отвечает: «На голове у тебя вижу новую папаху. Побереги ее, а то и с ней распрощаешься. Будь здорова. Не вздумай милицию пускать по моему следу».
Итак, преступник в городе, чувствует себя неуязвимым.
Самым хитрым, обдуманным, предусмотрительным в милицейской работе было и останется — организация блокирования мест возможного появления преступников. На первый взгляд кажется, что это немудреное дело. Устраивай засады и хищник попадет в капкан. Но непойманный преступник, как затравленный зверь, бдителен, каждый его шаг предусмотрительный. Он, чувствуя погоню, очень осторожен. Он внимательно наблюдает за обстановкой вокруг себя. Поэтому расставленные ловушки злоумышленник частенько обходит, приближаясь к ним на безопасное расстояние. А милиция в таких случаях тратит время впустую.
Итак, какие злачные места в городе могут притягивать к себе грабителя? Снова ориентирована вся городская и транспортная милиция. На инструктажах членам ДНД сообщаются новые данные о грабителе. Поиски пошли с более широким охватом и территории, и мест возможных действий грабителя.
И надо же так случиться. Снова Лида Орлова села в один и тот же троллейбус с грабителем. И хотя он был в другом одеянии, потерпевшая его узнала.
Девушка теперь повела себя поразумнее и похитрее. Она не стала показываться злоумышленнику на глаза, держалась от него на расстоянии, чтобы он ее не заметил. Когда ее злой гений сошел с троллейбуса, девушка тоже выскочила из салона на улицу. Упорство потерпевшей заслуживает самой высокой оценки. Потом она скажет: «А что мне оставалось? Преступники храбры, когда встречают трусов, а я его не боялась».
Итак, Лида неприметно стала шагать за грабителем. А тот не распознал, или не замечал ее, не видел вокруг себя опасности. Он попетлял по переулкам и закоулкам и темными задворками вышел на любимый вокзал железнодорожной станции. Тут только он стал воровато осматриваться. Усилил бдительность. Тревога в душе среди множества пассажиров вновь дала о себе знать. Да и вряд ли она полностью проходила. Он готовился к любым неожиданностям.
На вокзале шустро прошмыгнул между скамейками. Глаза его забегали по пассажирам. Скорее всего, он отыскивал новую жертву с дорогим головным убором. Вот на минуту примостился, сел спиной к обладательнице отличной ондатровой шапки, незаметно скосил в ее сторону взгляд. Ждал, когда та встанет с места и направится на выход, чтобы идти вслед за ней. И тут заметил свою первую жертву, нашу Орлову. Как ни старалась Лида не показываться на глаза грабителю, да не смогла до конца быть незамеченной, допустила промашку и почти рядом оказалась с налетчиком. Глаза в глаза.
Сомнений у грабителя не оставалось, его выслеживает прежняя потерпевшая, та, у которой он с неделю назад сорвал шапку.
Не раздумывая, преступник бросился вон через боковой выход из вокзала. Выбежал на перрон, далее — по путям — и за составы поездов туда, где можно укрыться.
Но Лида Орлова уже сообщила о грабителе дежурному милиционеру. В поиск грабителя включились оперуполномоченные уголовного розыска, комсомольский оперативный отряд, дежуривший на вокзале.
Сотрудники милиции и дружинники перекрыли выходы из товарного парка, патрулировали привокзальную площадь, осматривали пригородные поезда, в которые шла посадка пассажиров, и вагоны, что стояли в тупиках. Были выставлены пикеты на грузовом дворе. Лазеек для грабителя на оставалось.
Часа через два после блокирования товарного парка сотрудник уголовного розыска увидел: за одним из составов, спрыгнув с тормозной площадки, кто-то притаился. Заметив сотрудника милиции, неизвестный дал деру. Лишь, как говорят, пятки засверкали. Поиск его осложнялся потому, что наступала темная осенняя ночь. И хотя парк освещался, затемненных уголков среди товарных вагонов оказалось немало.
А преступник пользовался ночными сумерками. В темноте он шмыгнул под высокую платформу и с другой стороны, за секунду до отправления электрички, влез в вагон поезда, открыв силой пневматическую дверь.
Но злоумышленник не знал, что этот пригородный поезд находится под контролем у работников милиции. Грабитель напрасно рассчитывал там укрыться. Он был взят за руки именно в тот момент, когда вскарабкивался с тыльной стороны в вагон.
Простое вроде бы дело: сорвана шапка с головы гражданки, а какой интересный оказался поиск. Пусть не заковыристый, но и неодносложный. Каждый следователь давно заметил: всякое уголовное расследование чем-нибудь да своеобразно.
Это дело оказалось любопытно тем, что сама потерпевшая смело и решительно взялась помогать следствию и на этом пути имела большой успех.
Преступником по документам значился Силантис Василий Панкратьевич. Тут же его доставили в дежурную часть милиции. Санкция на арест грабителя вскоре была получена у прокурора.
Обыском на квартире Силантиса были найдены вещественные доказательства преступлений, совершенных им аналогичным образом еще в прошлом году. Нам нужна была шапка Орловой, как улика, неопровержимый указатель грабежа. Сам Силантис от срыва шапки у Орловой отказывался. Он был хитер и предстал перед следователем не простаком, а опытным правонарушителем. Яростно защищали великовозрастного бездельника и родители Василия. «Наш сын сорвал шапку? Не говорите такую нелепость. Он муху не обидит. Не мог он этого сделать», — твердили отец и мать.
Работников милиции, как водится, пугали тем, что блюстители порядка ответят за произвол, необоснованное задержание их отпрыска.
— Ваш сын арестован потому, — пояснил следователь Силантисам-старшим, — что его опознала как грабителя потерпевшая. Василий был тогда в зеленой куртке. Эта куртка висит у вас на вешалке. Не верить Лиде Орловой у нас нет оснований и мы не вправе. А что касается сорванной шапки, то постараемся ее найти.
Надо было установить круг знакомых подростка. Когда это сделали, в поле зрения следствия попала некая девица, приезжавшая из другого города к Василию, на правах невесты. Узнали ее фамилию, а затем и домашний адрес. Не надо было в квартире девицы производить обыск. Шапка Орловой оказалась на голове «невесты» Василия. Жених подарил искомую улику своей подруге Эмилии Валентовой.
Вот тут-то словно ледяной водой обдали супругов Силантисов. Они вошли в кабинет следователя подавленные и растерянные. Но опять думали лишь о том, как выпутать из беды сыночка:
— Не такое уж большое злодейство совершил Вася. Напроказил. Поозорничал. И только. Шапку ведь вернули потерпевшей. Еще деньги ей заплатим. Сколько скажет Орлова. Простите сына за хулиганство.
— Хулиганство? Как бы не так. Представьте, что у вас бы сорвали с головы дорогостоящую шапку, а потом бы, сбившись с ног, работники милиции искали днем и ночью грабителя. Нашли бы его, и отпустили бы с миром. Как бы вы на это посмотрели? Нет, это не озорство, и не хулиганство, а грабеж.
А вот за сыном надо было смотреть лучше. В семнадцать лет он оказался всего лишь с восемью классами образования, бездельничал, проводил время в сомнительных развлечениях. Вот и преподнес он всем горький урок…
БЕГСТВО
Один ершистый разбитной паренек, стоящий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, как-то бросил мне с вызовом: «А я, если что сделаю противозаконное, убегу. Ищите, на то вы и милиция. Да только бесполезно. Россия большая…».
«Герой» истории, которая вспомнилась в связи с этим, тоже так считал. Совершив преступление, он скрылся, причем уехал довольно далеко от родных мест. Думал, не найдут. Со временем все забудется, дело закроют…
Рассуждения более чем наивные. Ведь на преступление, особенно подростки, идут, как правило, не в одиночку, а группой. Установив одного из соучастников, следствие постепенно, через родственников, знакомых вытягивает всю ниточку. И рано или поздно беглец отыскивается. Что и произошло в предлагаемой истории. Только слишком дорогой ценой заплатил «герой» за свое бегство.
Но не буду опережать события, расскажу все по порядку.
1
…Мартовской ночью, прогоняя сон, я вышел на улицу, на свежий воздух. Легкий мороз робкой корочкой сковал лужи. В брезжащем рассвете вспыхивали квадраты окон многоэтажных домов. Город пробуждался. Сутки дежурства заканчивались без тревог.
Но мне почему-то последние часы дежурства всегда тяжелы. Не могу заставить себя быть спокойным. Невольно жду происшествия. Каждая минута налита свинцовой тяжестью.
В это утро предчувствие меня не обмануло. Раздалась телефонная трель. Помощник дежурного рослый старшина Григорий Василенко через стеклянную дверь замахал мне трубкой:
— Взлом склада… Якась жинка. Побалакайте.
Сообщение оказалось малоприятным: украдены велосипеды с базы ОРСа.
УАЗик рванул с места. Серебристая пыль закружилась на асфальте. И вот мы уже на месте.
Старичок-сторож уверял, что никуда не отлучался, удивлялся, как можно похитить через высокий, в два человеческих роста забор, веломашины. Тем не менее, едва заметные следы от рамок с велосипедами, где зияли два пустых гнезда, по твердой корке снега вели именно к забору, одна тесина там была надломлена…
Началось расследование. Пошли беседы, допросы. Показания сторожа соседнего с базой продовольственного магазина, Филимошкиной, чуть-чуть проливали свет на происшествие. Прозябнув к утру, она решила зайти домой переодеться. Открыв калитку, отпрянула с испугом: у крыльца стоял молодой высокий человек.
— Не шуми, тетка, — сказал баритоном незнакомец, и пошел на нее. Филимошкина попятилась. Тот, не торопясь, вышел на асфальт, пересек освещенную улицу и скрылся в переулке. Под мышками он тащил два новых, обернутых бумагой велосипеда.
«Рядом база ОРСа. Днем там разгружали велосипеды, — подумала женщина. — Вор, — решила она. — Откуда позвонить в милицию?».
В эту минуту мимо Филимошкиной проскочил второй парень, поменьше ростом. Потом оказалось, что в сарае взломана дверь. С верстака пропали плоскогубцы, отвертка и тиски, принадлежащие Филимошкиным.
— Инструмент приметный, — замечает Ирина Александровна, — на каждой вещи фамильное клеймо «Ф».
— Опознать сможете парней?
— Только высокого. Второго видела в спину.
На моем столе появляется уголовное дело под номером двадцать два. Оно обрастает все новыми протоколами, постановлениями… И вдруг новость. Новенький велосипед марки «Прогресс» № 49963 обнаружен на чердаке дома Василия Патина. «Купили у незнакомца», — заявили муж и жена. Сам Патин горячится: «Был судим — значит подозревать?».
Жуковский велосипедный завод на наш запрос сообщил:
«Велосипед выпущен в марте, отгружен базе ОРСа».
С базы велосипеды этой партии в магазины еще не отправлялись. Значит, это один из ворованных.
2
Сотрудница уголовного розыска Мария Андреевна Зайцева перебирала в памяти фамилии своих питомцев, бывших нарушителей, факты из их трудного подросткового возраста. Виктора Усова, например, когда-то чуть ли не лишили свободы, приговорили к условной мере наказания. Зайцева помнила, сколько она «повозилась» когда-то с этим трудным парнем. Благодаря ее стараниям он успешно закончил десятилетку, СПТУ и получил специальность электромонтера. Потом познакомился с красивой девушкой Людой. И без памяти влюбился. Но девушка вела себя настороженно. «Судим, — говорила ему, — родители мои против нашей дружбы». Усова до слез доводила обида. Ведь условно-то был судим. Совершил преступление по детской глупости. Что ж сыпать соль на заживающую рану? И опять пришла на выручку капитан милиции Зайцева. Она сказала Люде:
— За Виктора ручаюсь. Но и от тебя будет многое зависеть, — предупреждала она девушку в то же время.
Потом была свадьба. Пригласили на нее и Марию Андреевну Зайцеву. Она, как мать, радовалась за молодых.
«А ведь Усова судили именно за кражу с базы ОРСа», — появилась мысль у сотрудника уголовного розыска по борьбе с преступностью несовершеннолетних капитана милиции Зайцевой.
…Филимошкина напряженно всматривается в фотокарточку Усова. Сердце у Марии Андреевны замирает: «Неужели он? Как хочется, чтобы нет. А если — да? Какая балда. Перестала интересоваться молодым человеком. Впрочем, не так давно встречала Людмилу. Не нарадуется Виктором, всюду только с ней.»
Наконец, Филимошкина объявила:
— Этот, кажется.
Зайцева нервно заерзала на стуле, начала комкать в руке носовой платок, села поближе к Филимошкиной, мягко попросила:
— Не спешите, посмотрите внимательно.
Робкая Филимошкина раздраженно разом выпалила:
— Говорю он, что смотреть?
А нам просто не верилось. Я тоже хорошо знал Усова. Часто встречал его в кабинете Зайцевой. Как он мог затоптать святое из святых — любовь, честь стариков, дружбу товарищей по цеху, наконец, доверие капитана милиции Зайцевой, крестной матери, как он ее называл. Но может быть, все-таки не он? Нетрудно и ошибиться, глядя на фотографию.
3
Усова дома не было. Не пришел ночевать, едва узнал, что к нему заглянула домой милиция. Не вышел на работу. Пропал. Как сквозь землю провалился. Ударился в бегство.
Узнав об обыске в доме Усова, своего товарища по работе, Патин пришел сам в милицию с интересным сообщением:
— Признаюсь, у Виктора купил. Гаумович-младший, с ним вместе срок отбывали, приказал мне: «Усов грабанул велосипеды. Купи один у него. Дай двадцатку. На пропой». А тут мы с Виктором возвращались с завода вместе. Сказал ему, мол, Гаумович велел один велик отдать мне. Усов в тот же вечер прикатил его ко мне. Я спрятал на чердаке. Дал ему два червонца. Меня посадят? Ведь двое детей. Конь и тот спотыкается. Потом, вы знаете Гаумовича. С ним лучше не связываться: делай, что он сказал.
Мы попросили Патина никому, тем более Гаумовичу, не говорить о его признании в милиции. А сами пригласили в милицию Людмилу Усову.
…Словно у подростка, худенькие плечи Людмилы конвульсивно подергиваются. Опустив голову, она плачет: «Дура, связалась с вором. Поддалась уговорам. Как меня просила мама… Растоптала молодость. Кому я теперь нужна?»
Успокоившись немного, Людмила рассказала, что в последнее время Виктор был какой-то хмурый, неразговорчивый. Однажды, не выдержав настойчивых расспросов жены, признался: «Плохо мне. Вернулся из колонии приятель, которому сам черт не рад. Не знаю, как от него отвязаться. Тянет не в ту степь. Недоволен, что у меня все в жизни сложилось. Угрожает, что если не буду выполнять его поручения, убьет».
Но о каких поручениях шла речь, Виктор не говорил.
Людмила то жалела мужа, то возмущалась: «Бессовестный Виктор человек».
— Я знаю, он неисправим. Да, да, — утверждала она, — если явится ко мне, честное слово, заявлю. Куда позвонить?
Она взяла номера телефонов: дежурного, мой и Зайцевой.
4
В руках сотрудников милиции мелькали синие, розовые квитанции багажных отправлений с двух железнодорожных станций города. Нудное перелистывание корешков утомляло, приводило в изнеможение. Кому не наскучит целый день сидеть над этим! Но были оперативные данные о том, что велосипед марки «Прогресс» несколько дней назад отправлялся багажом. Надо было найти квитанцию, узнать номер отправленного велосипеда и адрес назначения. Поэтому искать нужно было несмотря ни на что.
Только под вечер неожиданно пришла как будто удача. Велосипед марки «Прогресс» без указания номера был недавно отправлен в соседнюю область, в село Крохино, на имя Ивана Валентиновича Черкасова.
В ту же ночь я выехал туда. Получатель велосипеда «Прогресс» дал такие показания:
— Гостил в вашем городе, у свояка Станислава Кузнецова. У него и купил.
Отыскали Кузнецова. Тот пояснил:
— Купил у товарища по работе Владимира Гаумовича.
Похоже, мы выходили к цели.
Гаумович на допросе признался, что подарил ему велосипед младший брат Сашка, вернувшийся месяц назад из мест лишения свободы. А через минуту уточнил:
— Александр велел продать велосипед. Где взял его — не знаю. Часто брата видел в обществе Виктора Усова.
5
Пришло время браться за главного виновника. Мы не сомневались: Александр Гаумович организатор преступления. Он сделал зло руками сговорчивого, податливого Усова, которого держал в страхе перед расправой, ненавидел за то, что тот «переметнулся в счастливчики, откололся от компании, стал милицейским выкормышем».
При обыске у Александра мы нашли тиски, отвертку, плоскогубцы с клеймом «Ф», похищенные в ту памятную ночь из сарая Филимошкиных. Значит, тот второй, поменьше ростом, которого у себя во дворе видела сторожиха, был Сашка Гаумович.
В сопровождении конвоя в кабинет ко мне вводят низкорослого коренастого парня. Он входит не спеша, переваливаясь с ноги на ногу.
— Чем обязан? Если по поводу велосипеда и ржавых тисков с отверткой, то могли бы без ареста обойтись. Спросите — расскажу. Купил у неизвестного. Говорил, увольняется с завода. Предложил товар. Я за двадцатку все взял.
Ушлый, не раз побывавший в местах лишения свободы, Гаумович твердо стоял на этом. И тогда мы делаем ему очную ставку с Патиным. Он изобличает Гаумовича. Смело, напористо смотрит на грозного бандита. Ошалелый Шурик (так зовут Гаумовича в узком своем кругу) в ответ не находит слов, заикается: «Вер-роломство. Я тебя… Ты у меня…».
Из Жуковки поступило сообщение относительно второго велосипеда:
«С таким номером в марте отгружен базе ОРСа».
Не стал больше выкручиваться Гаумович. Да только раскаяния от него не дождешься.
— Всю мою братию на свою сторону милиция переманила: но, если захочу, любого поверну, — цинично заявил он. — Вот Усова сагитировали на безоблачную житуху. Стал вроде бы «вашим», да слово мое покрепче оказалось. Чхал он на запреты. Где он сейчас? Не в курсе. И не спрашивайте. Ищите. А вообще-то, беритесь за Людмилу. «Потоплю» я ее. Так, для собственного развлечения. Она знает, где муженек. На днях ко мне домой приходила. Просила денег. Дал ей два червонца Витеньке на передачу…
6
На нас словно вылили ушат холодной воды. Приглашаем Люду. На очной ставке она категорически опровергает показания «Шурика».
— Совести у тебя, Сашка, нет. Не знаю, где ты и живешь. Всего раз видела тебя около нашего дома с Виктором.
Сразу не понять, кто из них прав. Но Гаумовича на мякине не проведешь. Все предусмотрел. Спокойно парирует:
— Мать подтвердит. При ней отдавал. Не вывернешься.
Звоню в дежурную часть. Прошу привезти мать Гаумовича. Но тут сдается Людмила. Она просит:
— Не дергайте старушку. Расскажу…
В милиции Люда заверяла, что с Виктором покончено, если узнает его адрес — сообщит нам. На самом деле вышло не так. На следующий день на работу Люде откуда-то позвонил Виктор. Назначил встречу. Попросил принести чемодан, белье, деньги. Людмила, очертя голову, понеслась к месту свидания. Увидела мужа и не узнала его. Изменился. Осунулся, под глазами мешки, синяки, щеки исцарапаны. Взгляд волчий. Он былрастерян, затравлен, как заяц. Люда просила, умоляла Виктора вернуться домой.
— Ответишь по закону. Буду тебя ждать, если осудят. Дадут-то год или два.
— Ты с ума сошла. Мне вилы в бок. Шурик говорит: за кражу великов червонец отвалят. Он-то статьи знает лучше прокурора. Советует бежать из города. Надо так и делать, — прошипел, затравленно косясь, Усов и оттолкнул от себя прильнувшую жену. — Что говорила следователю? Сходи к Шурику на Первомайскую сто шестнадцать, возьми деньги за проданный велик. Потом мне их перешлешь. Я дам о себе знать.
Люда пошла к Гаумовичу. Ворованные деньги жгли руки, но Людмила их взяла и пихнула в карман пальто.
Сейчас, в кабинете следователя, она положила купюры на стол.
— Вот эти деньги. Три десятки. Простите, что солгала сразу. Но на этот раз твердо обещаю: адрес Виктора, как только узнаю, сообщу.
7
Вскоре от Виктора пришла записка. Он ее передал через случайного человека. Виктор звал жену к себе в Омск. Он поселился у брата. Людмила, не колеблясь, безрассудно тронулась в путь. Усов требовал от Людмилы разделить его участь, и она согласилась.
Проходили месяцы. Виктор и Людмила жили нахлебниками. Брат осторожно намекнул: «Все у тебя в порядке?». «Конечно», — ответил Виктор. «Тогда надо прописаться, устроиться на работу». «Успеется».
Нужны были деньги. Люда написала письмо сестре. Та выслала на имя брата Виктора подкрепление. Но его хватило не надолго. Виктор за городом нанялся рубить сруб. Но скоро хозяйка напугала расспросами: кто он, откуда, почему не устраивается на завод? Виктор туда больше не поехал. Людмиле сказал:
— Бабка звякнула в милицию.
С Людмилой днями пропадали на речке. Она загорала, он не раздевался, не купался, был готов в любую минуту удрать.
Подходило к концу лето. Усов решил бежать из Омска. Проверил вещи квартиранта брата. Выкрал сберкнижку, документы и — в сберкассу.
В сберкассе девушка-кассир заколебалась: подпись в расходном ордере была чуточку иной. Она попросила:
— Распишитесь как следует. Здесь не так.
Через силу выдавил улыбку Усов. Чуть не захлебнулся от страха и подлой трусости. Произнес.
— Вот паспорт, военный билет. Что за сомнения?
С крупной суммой денег Усовы взяли курс на Череповец. Виктор хвалился Людмиле:
— Видишь паспорт? Теперь я Иван Михалев.
Покоробило, бросило в дрожь Людмилу. А муж обстоятельно поучал жену:
— В случае чего запомни: мы познакомились в вагоне. Друг друга не знаем.
От переживаний, нервного напряжения Людмила ночами почти не спала. Вставала с тяжелой больной головой. Виктор на ее жалобы отвечал с раздражением, а порой и дикой злостью. Он становился все более несносным, вспыльчивым, грубым. Поминутно одергивал Людмилу: не то сделала, не так сказала. Ему трудно было угодить. Людмила проклинала тот день, когда решилась ехать к Виктору. Проклинала все: встречи с ним, свадьбу, свою жизнь.
До Череповца не доехали. Повернули на Воркуту. Услышали, что там легко можно устроиться без прописки. На вокзале заполярного города познакомились с неким Ретуном, вором-рецидивистом, который был полон воровских планов. Он обрадовался появлению новых «друзей». «Вместе работать безопаснее». Привел Усовых к себе.
Жена Ретуна встретила гостей бесцеремонно.
— Кто будете? Доходчиво поясните.
Виктор торопливо полез в карман. В спешке вытащил сразу два паспорта.
— Не суй ксивы, на слово верю, я не из УВД, — заметил Ретун.
Усову «повезло»: он прописался по чужому паспорту, устроился на работу. Людмила устроилась ученицей продавца. С документами у нее был порядок. Вечерами она оставалась в обществе сожительницы Ретуна, тоже судимой. А тем временем, Виктор и Ретун промышляли. Усову больше везло. Это злило рецидивиста.
8
Тишина в полупустом доме связи. Стучит одиноко пишущая машинка. Виктор заглянул в одну, вторую комнату. Заметил на вешалке добротную меховую шубу. «Трофей» в охапку и к Ретунам.
Почти каждый вечер Виктор что-нибудь приносил. Такая была воровская удача. Однажды принес телевизор. Захмелевшим голосом плел:
— Не дам скучать слабому полу.
Но недолго длились «светлые» дни. Как-то хозяин «малины» заявил:
— Кореш, сматывай удочки. Засекли. Прихвати и девку. В момент.
На дворе установилась непогода: повалил снег, залютовал ветер Заполярья. Усовы поселились в полуразрушенном бараке на окраине города, среди мокрых стен. Людмила простудилась. Ее знобило. У нее было одно желание — умереть, покончить с постыдной жизнью. Не под силу стало переносить обиды, унижения, хворь.
— Не скули, не досаждай, без тебя тошно, — то и дело одергивал ее Виктор. — Скоро устроимся хорошо.
Но в это трудно было поверить. Люда скупо лила слезы. Виктор слышал причитания жены о загубленной жизни, издевался:
— Хотела иметь мешок кредиток, потому и поехала со мной? А вместо этого голый барак и сухари. Без тебя и мне было бы легче. Зачем вцепилась?
Он язвил, а у самого было тоскливо на душе, не давало покоя чувство страха перед возмездием. Всюду мерещились переодетые милиционеры.
Людмила в ответ на слова мужа болезненно морщилась. Ежилась от холода в сердце. Судорожно вздрагивала. В голову приходили мысли: «Стоит ли жить? Кому я нужна? Покончу разом…». Она стала безразлична ко всему, небрежна. Не замечала утра, ночи. А тут еще простуда перешла в воспаление легких. Она захлебывалась в приступах кашля. Ей нужна была безотлагательная медицинская помощь.
9
Под стук колес поезда в голове Виктора лихорадочно бились тревожные мысли. Он торопливо перебирал варианты: где остановиться в родном городе? Решил: у сестры Люды — Клавы. Не выдаст, поддерживала с ними связь, тайно высылала деньги.
Покидали Усовы город весной. Бежали к вокзалу по робкому утреннему морозу. А вернулись грозовой августовской ночью. Гремели раскаты грома, ветер гнал над рекой свинцовые тучи, сверкала молния, как из ведра лил дождь.
Говорят, есть примета: попадешь в дождь — сбудутся желания. Усовым дождь благополучия не сулил.
Вот и частный домик Клавы. Крупные капли дождя обильно поливают цветы и деревья палисадника. Шумит сад. Люда не может откашляться. Руками закрывает рот: боится переполошить сестру. К счастью, ее нет дома: ушла на работу в ночную смену.
Через форточку залезли трусливо в квартиру. От напряженной, налитой тревожной тяжестью тишины звенело в ушах. Люда, не раздеваясь, плюхнулась в постель.
— Врача бы… и воды… — прошептала она пересохшими губами и потеряла сознание.
Невзирая на опасность, Виктор вызвал скорую помощь. Но она ничем не могла помочь…
Виктор и Людмила, как затравленные звери, боялись всех, прятались от людей. Почти полгода у них был один способ бытия — подпольный. Страшное, нелепое существование. А ведь им было всего по восемнадцать лет. Прекрасная пора юности, время расцвета человеческих способностей! Как же бездумно они ее растоптали…
Прошло много лет. Усов отбыл наказание. Вернулся домой. Окреп. Возмужал. Стал солидным. На лице сосредоточенность, деловитость. Только в глазах и с годами не померкла печаль.
Как прежде, в его судьбе большое участие приняла капитан милиции Зайцева. «По старой памяти», — сказала она мне. Скорее всего, по долгу профессии. Мария Андреевна помогла подготовиться Усову в институт, стать инженером. Теперь у него свои питомцы, подшефные ребята из СПТУ. Думается, сейчас он знает, каким словом уберечь подростков от беды. Но за это знание заплачена слишком горькая цена.

НАПАДЕНИЕ В ЛЕСУ
Воскресенье. На лыжную прогулку мы собрались у опушки леса. В эту зиму как-то не везло: все что-нибудь мешало посвятить выходной день лыжному кроссу. Нынче неотложные дела выполнены. Забыта на несколько часов служба. Не только о ней думать!
Мы начинаем разминку. Еще не нагрелись. Легкий морозец пощипывает уши. Впереди начальник — полковник милиции Виктор Викторович Белов. Из всех нас, работников следственного отдела — он самый, пожалуй, заядлый лыжник.
Снег искрился в лучах февральского солнца. Белесый с голубой дымкой иней кристалликами горит на ветках деревьев. Тишина лесная. Как о ней мечтаешь в рабочих кабинетах! Над головой неторопливое карканье крупных птиц и заливистое щебетанье маленьких пичужек.
Набираем скорость. Все натруженнее и голосистее издают скрип лыжные крепления. Снег глубокий, не совсем мягкий. И хотя мало-помалу начинаем уставать, легко дышится в сосновом бору. Лес кажется большим и бескрайним. На проселках веет колючим холодком.
— Не отставать! Заблудитесь! — Подтягивает нас Виктор Викторович.
Но что такое? Петляет между соснами в расстегнутой куртке женщина. Желтую шапочку сдернула с головы. Машет ею. Под мышкой лыжи и палки. Ее ноги до колен проваливаются в снег. Чем-то перепугана. Надрывно зовет нас. Морозный лес эхом разносит ее истошный голос. Что могло произойти? Что случилось? Звери, волки? Что может ее так переполошить?
На полном ходу тормозим. Палками упираемся в снег. В недоумении.
Это была совсем молодая гражданка. Подбежала к нам. Тяжело дышит. Она и точно заблудилась. Пытается нам что-то сказать, а вместо слов — клокотание в горле. Чуть-чуть, наконец, успокоилась.
— Ну и денек. Никогда одна не пойду на такие моционы. Слава богу, вы показались. Помогите. Господи, как хорошо. Вас встретила. Мне нужны люди.
— Ну-ну, — торопим ее. — Что стряслось?
— Что? Во-первых, запуталась, как говорят, в трех соснах. Во-вторых, только что была свидетельницей жуткой картины. Могли бы так и меня. В охапку — и туда.
— Куда? Да вы толком! — Полковник просит ее взять себя в руки.
— Куда? В машину. Силком. Вот такую, как я, дуру. Одной в лес — ни за что. Сообразила же я. Бестолково все говорю. Постараюсь. Значит, вижу метрах в ста впереди меня в свитере девушку. Иду по ее лыжне. Спокойна. Оказалось, невдалеке большак. Машина заурчала. И как раз напротив той девушки остановилась. Двое мужчин выскочили и напали на нее. Она кричала, ее — в комок и в кабину. Лыжи и палки бросили в кузов. У меня руки-ноги отнялись. Развернулась и что есть духу в обратную сторону. Вот уже и не знаю, сколько времени колесить пришлось.
Большак был километрах в пяти от того места, где встретила нас лыжница. Полковник взял с собой меня и еще двоих сотрудников, тех, кто получше ходил на лыжах. Мы устремились к месту нападения. Женщина и другие сотрудники следовали менее быстро за нами. Виктор Викторович вел кратчайшим путем. Пересекли лощину, поднялись на гору, спустились с нее. По опушке леса, через кустарник, обогнули старую вышку, подъехали к дому лесника. Постучали в окно. Никто не вышел.
— Видно, на обходе. Хорошо бы поговорить. Ладно. За мной!
Еще отрезок пути и мы на большаке. Он разрезал сосновый массив на две части. Невдалеке угадывалась за деревьями река. Оттуда поднимался молочный туман. На дороге один на одном следы протекторов автомашин. В каком это месте могло быть? Подождали. Подъехала женщина с остальными нашими следователями.
— Идемте. Вот тут.
Подошел лесник. Дмитрий Захарович Миронов. Он о нападении ничего не знал. Назвала свою фамилию и женщина — Голубь Тамара. Стали осматривать дорогу.
— Вот здесь. Примерно. — Показывает Тамара Голубь участок большака, где произошло нападение на девушку. — Метрах в пятидесяти я от машины была.
— Опознать мужчин можете, — спрашиваем очевидицу.
— Пожалуй, нет. Все так молниеносно. И далековато. В фуфайках были или в полупальто. В меховых черных шапках.
Видно место, где неизвестная машина сильно затормозила. Шла «юзом». Да, место именно это. В снегу нашли белую пуговицу с копеечную монету. Осматриваем каждый сантиметр дороги. Попадаются клочки черного меха. Похоже, из шапки. Собираем их в бумагу. Не так уж и много вещественных, доказательств. И все-таки…
Сколько прошло времени? Где искать машину? Часа три-четыре? За это время можно далеко уехать.
Виктор Викторович принимает решение: часть из нас вместе с лесником оставляет в бору, трое и Тамара Голубь едут с нами в отдел.
Нас интересует, поступило ли по «02» сообщение от кого-либо об исчезновении лыжницы? И кто может заявить? Родители? Вряд ли они еще знают. В такие походы не ходят подростки по одному. А девушка, видно, отстала. Тогда стоит ждать тревоги от ее друзей по прогулке.
И точно. Вот что мы узнали в городе. Три десятиклассницы утром выехали на лыжах в бор. Легкий для лыж снег, хорошее скольжение, пьянящий аромат сосен для пробежки было то, что нужно. Подруги углублялись в лес. Часа через два они оказались далеко от начала пути. Но среди них одна школьница на поверку вышла неопытной лыжницей. Все время отставала. Ее криками поторапливали. Она слышала голоса и не волновалась. Звали ее Валентина Ивакина. Подруги уверяли себя, что Валя где-то рядом, нагоняет, а та сбилась с лыжни и направлялась в другую сторону. Вскоре она совсем заблудилась и растерялась. Кричала, но ее никто не слышал. Валя обессиленно двигала лыжами. Надеялась, что сама выйдет из тупика. Подруги теперь и сами спохватились. Начали возвращаться. Вали нигде не было. Аукали, звали. Бесполезно. Срочно вернулись домой. Обо всем рассказали родителям Ивакиной Вали. Поднялся переполох.
Валя в это время окончательно поняла, что заблудилась. Она в паническом страхе бросалась из стороны в сторону. Следами от лыж был исписан весь бор. Она перескакивала с одной лыжни на другую. Меняя ее, думала найти ту, которая приведет ее к подругам.
Школьница пробежала на лыжах километров десять. Совсем обессилела. Вот-вот и ранние февральские сумерки. И вдруг наткнулась на лесную тропинку. Поехала по ней. Вскоре увидела идущую по дорожке женщину. За плечами та несла две большие и тяжелые сумки. О, счастье! Валя — к ней. Рассказала, что заблудилась. Попросила указать выход из леса в город. Женщина была не в духе. Недовольно махнула рукой:
— Поезжай так. Километра четыре. — И забурчала. — Женихов ищешь.
Встречаются еще и такие бессердечные люди. А Валя хотела признаться, что нет больше сил стоять на ногах, готова была просить приюта, да слишком неприступной выглядела встретившаяся женщина.
— Назначила, небось, свидание с кавалером на природе? Знаем нынешних девочек. Будешь помнить, как лазить по лесу без дела…
Валя заплакала. Превозмогая усталость, поехала туда, куда указала незнакомка. По вине этой женщины несчастен еще больше оказался путь Вали Ивакиной. Скоро Валя снова стала крутиться почти на одном месте. Она сняла лыжи. Утопая в снегу, шла куда глаза смотрят.
Виктор Викторович разложил на письменном столе собранные вещественные доказательства происшествия — пуговицу, булавку, клочки меха. Стал вслух выдвигать версии. Вошел сотрудник отдела Конов. Полковник Белов ждал его. Это был один из самых опытных работников. Да и, пожалуй, более других удачливый. Ему везло на сбор доказательств. Коллеги без черной зависти между собой судачили: «Конову можно поручать любое самое сложное и запутанное дело. Он и по нему разыщет нужные улики».
Вот и сейчас, представ перед начальником, он всем своим серьезным и деловым видом заявлял, что пришел к руководителю следственного отдела не с пустыми руками.
Виктор Викторович спросил:
— Что нового?
— Вот кусок оберточной бумаги. Нашел лесник Миронов. Тамара Голубь говорит, что бумага слетела с кузова той машины. Может пригодиться. Значит…
Однако на самом деле это давало новое направление в поисках виновных. Оберточная бумага могла быть на машине, работавшей на мебельной фабрике, складе, в магазине.
В это время позвонили из детского приемника-распределителя. Туда доставляют безнадзорных детей и затем возвращают родителям.
— Забавный малец у меня, — сказал майор Степанов. — Рассказывает о брате-шофере, который любит «подвозить» женщин. Может пригодиться?
Белов послал меня в приемник. Пацан по имени Миша Хомяк смотрел исподлобья. Его рот кривила нагловатая ухмылка. В зубах торчала сигарета.
— Сколько тебе от роду? — спросил у него.
— Пятнадцать.
— Мы ищем девушку. Ей столько же. Ничего об этом не знаешь?
— Ну? — еще больше помрачнел.
Я начал расспрашивать парня… Выяснил: рано лишился отца, матери, воспитывался в детском доме. Попал под чье-то влияние. Отбили парнишку от школы. Научили праздно шататься, пить вино, курить табак, бродяжничать.
На вокзале Мишу Хомяка задержали. Так он попал в детский приемник. И встретился с майором Степановым.
Состоялась первая беседа. Поджав ноги и спрятав голову с кудлатой шевелюрой в борта пиджака, он мрачно наблюдал и ждал, что произойдет дальше. От этого майора он не ждал ничего хорошего.
— Начнете наставлять!
Но Хомяк ошибся. Майор не стал напоминать ему о прошлом, а пригласил Мишу к себе в кабинет и рассказал о воспитанниках детского приемника.
Задумчиво уставив взгляд умных бирюзовых глаз в разукрашенный подстаканник с карандашами, Миша молча слушал.
— Нравится подстаканник? Подарок. Алексеенко прислал. Сам сделал. А был такой, как и ты, бродяжничал. Сейчас трудится, как положено. Учиться хочешь?
Миша вздохнул. Продолжал молчать. Обсасывал лацкан пиджака. Никому он не верил.
— Почитать что-нибудь дать? — Майор повернулся к этажерке, взял книгу и подал пареньку.
— Я люблю «Детство» Толстого.
— У нас ее нет. Принесу из библиотеки.
На следующее утро книга была в руках Михаила. Он жадно набросился на нее.
К вечеру снова беседа с подростком. Лед недоверия растаял. Хомяк поведал о том, как он оказался на улице беспризорным, о двоюродном брате-шофере. Он склонял его к выпивкам. Миша перестал с ним встречаться. И занялся бродяжничеством. У брата много женщин. Он их катает на машине, заманивает домой, издевается.
В беседе со мной этого Михаил не сказал. Был недоволен тем, что майор передал его слова. Тогда я не мог себе представить, что через много лет еще встречусь с Мишей Хомяком. Но об этом потом. Сейчас же наши усилия направлялись на поиски шофера-преступника, пропавшей десятиклассницы.
Для проверки установили — двоюродный брат Миши — Трофим Киселев. Он оказался в командировке. Выехал на машине в день исчезновения Вали Ивакиной.
Мы не ограничились одной версией. Проверку проводили всего автотранспорта города. Изъяли журналы, в которых регистрировалось время прибытия заинтересовавших нас автомашин. Более трех десятков автомашин в тот вечер поздно прибыло в гараж. Осмотрели их. Осматриваем автомашину Бориса Н. Он нервничает, отвечает на вопросы запальчиво. Озирается по сторонам. Чего-то боится.
— Как значится в журнале, вы вернулись в гараж в 21 час. Рабочий день до 18. Где были?
Шофер мнется. Его вполне можно заподозрить в преступлении. Осмотрели кабину. Она в полном порядке. А шофер дает путанные показания. Наконец, все выясняется. Он подрабатывал «налево», боялся за это наказания.
Снова поиски. Выезжаю вслед за братом Миши Хомяка, Киселевым, к месту его командировки. Нашел в гостинице. Осматриваю кабину автомашины. В кузове много серой оберточной бумаги. Машина принадлежит автобазе. Допрашиваю. Он поясняет, что никогда не подвозил. Нашел волосы в кабине машины. Поясняет:
— В кабине ездят женщины, грузчики. Причесываются.
По другому заговорил брат Миши Хомяка, когда под его сиденьем нашлась точно такая же беленькая пуговица, как на месте происшествия. Теперь, казалось, нагловатому, отбывавшему наказание за хулиганство шоферу райпотребсоюза остается рассказать правду. Он продолжает лгать. Тогда с головы Киселева снимается меховая шапка черного цвета. Он уведомляется, что найденные клочки меха и сама шапка направляются на исследование, а с заключением эксперта он будет ознакомлен.
— Говорите, где девчонка? Что с ней? Жива?
Дрожащими пальцами он вытащил из кармана пачку сигарет. Закурил.
— Не надо экспертиз. Она жива. Мы ее отпустили. С кем был? С Валеркой Шелковым.
Ночью, прямо с постели брали соучастника Шелкова. Под утро выехали с Киселевым на то место, где они вытолкнули побившую в кабине стекла Валю.
Валя яростным криком и сопротивлением обезоружила налетчиков. Заставила их отделаться от нее. Они вытолкнули девушку из кабины и уехали прочь.
Надвигается ночь. Что делать? Ей бы идти по одной лыжне. Добралась бы до какой-нибудь деревни. Но Валя не верила ни во что. Она бежала, как ей казалось, напрямую, туда, где светлее казался лес. Между соснами ей виделась опушка леса. Но за одной поляной появлялась вторая, а конца и края бору не было видно.
Но надо отдать должное мужеству девушки. Она, хотя и растерялась, но пока не падала духом. Упорно шла вперед. Надеялась засветло добраться домой. Скоро самообладание оставило ее. Она металась по лесу, бросалась туда-сюда и вконец потеряла ориентир.
Еще в пятом классе Валя однажды провалилась под лед на реке. Сейчас было такое же ощущение, как тогда: панический ужас, безысходность положения. Конец жизни.
Она боялась и того, что снова натолкнется на каких-нибудь бандитов, негодяев.
Теперь ей хотелось рыдать, кричать, звать на помощь людей. Да боялась. К тому же совсем не было сил. Начало темнеть. Улеглись спать на ветках лесные птицы. При каждом шорохе кустов Валя пугливо прижималась к земле. Мороз крепчал. Забирался под одежду. Оставалось одно — двигаться, идти вперед, наугад.
В это время ее искали. Почти всю ночь. Вышли три трактора. Утром обещали выделить вертолет.
Нашли ее на рассвете, в куче валежника, в глубоком овраге. Одежда Вали замерзла и обледенела. Лицо оцарапанное, в крови. Еще немного и случилось бы непоправимое.
Прошло несколько лет. Я сидел за своим письменным столом. То и дело звонил телефон. Заходили сотрудники по разным вопросам. Наконец, появилась минута затишья.
Ко мне постучали в дверь.
— Входите.
Улыбаясь, вошел молодой человек в замшевой тужурке и пыжиковой шапке.
— Не узнаете? — спросил он.
— Присаживайтесь. Нет.
— Мишу Хомяка помните? Детский приемник? Приехал повидать майора Степанова Петра Николаевича. Заглянул к вам. С женой в отпуске.
— Ого! Рад. Не узнать, какими судьбами? Рассказывай. Где сейчас?
— У родителей жены гостим.
— Докладывай, как сложилась жизнь?
— Работаю на стройке. Закончил десять классов, техникум. Валя настояла. Она у меня врач.
— Это кто?
— Разве не знаете? Жена моя. Та, которую вы в бору разыскали. Петр Николаевич с ее семьей познакомил. Поначалу они приютили. Потом уехал на стройку. С Валей переписывались. Она в институт подалась. Год как поженились.
— Бывает, выходит и так. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
— Это точно. — Весело отвечает Миша Хомяк.
СЧАСТЬЕ — КАКОЕ ОНО?
Когда заглядываем в словарь В. Даля, чтобы узнать, что это такое — чувствовать любовь, то находим:
«Испытывать сильную к кому-то привязанность».
Начинается от склонности, завершается страстью.
Любовь облагораживает людей, вдохновляет их на великие и скромные подвиги и поступки во имя предмета своей благородной страсти.
Передо мной стопка сокровенных писем девушек и юношей. В каждом — человеческая исповедь, буквально крик души.
«Что же мне делать? — пишет Наташа К. — Провожала Игоря в армию, опасалась, что он найдет там другую, а вышло наоборот: перед самым возвращением Игоря я безумно влюбилась в Николая. Как объяснить Игорю, что другой мне по душе?
Неприятность и в том, что Николая отбила у лучшей подруги. Выходит, на моей совести две разбитые судьбы. Неужели я в свои 18 лет не имею права на выбор?».
Какой совет дать Наталье? Конечно, она имеет право выбирать себе «по душе» суженого. Мы знаем, какова была в старое время жизнь девушек без такого права. Но далее автор пишет:
«Перестала здороваться со мной моя лучшая подруга!»
И по делу! Есть нравственное правило: нельзя строить свое счастье на несчастье других.
Что и говорить, поступок Наташи нельзя оправдать даже самой большой любовью. Поступила она нечестно и по отношению к подруге, и по отношению к Игорю, которому до самого последнего дня его службы в рядах Советской Армии клялась в любви. Нет ли тут легкости, измены не только Игорю, но и высоким моральным правилам? Да и сама Наташа, видно из письма, не считает свою совесть чистой, хоть и пришла к ней новая большая любовь. Ей есть в чем себя упрекнуть.
А вот второе послание:
«Мне 23 года. Была замужем. Имею маленькую дочку. Муж оказался недостойным человеком, и я порвала с ним. Развелась официально. Думала, что никогда не полюблю второй раз. Однако ошиблась. Ко мне пришло большое чувство. Я понравилась замечательному парню, который и стал для меня ненаглядным. Но вся беда в том, что ему только 17 лет. Хотя выглядит значительно старше. Его родители категорически против наших встреч. Они устраивают при встречах мне «сцены». Их требования — оставить сына. А для меня это равносильно смерти. У нас уже давно с ним все общее. Я ему также хочу счастья. Мы уже стали друг для друга родными. Что же нам делать? Стоит ли ему идти наперекор отцу и матери?
Зинаида Щ.».
Читаешь письмо и словно слышишь голос отчаяния. Положение не из приятных. Разность в возрасте Зина понимает, но готова пренебречь этим. Впрочем, поздно отступать, как вытекает из письма. Уже некуда.
Любовь на все готова. Но значит ли это, что, коль пришла любовь, то надо все ломать и крушить? Конечно, нет. Заглянем снова в письмо Зинаиды Щ. Итак, разница в возрасте. Так ли уж важна эта деталь? Увы, да. Похоже, что и родители парня в большей части из-за этого противятся связи своего «единственного сына» с довольно взрослой невестой.
Обратимся к теории и опыту. Установлено, что наиболее идеальное начало супружества, когда нареченной 18—22, а ему — на 5—7 лет больше. Психологи доказывают, что такая разница в возрасте выравнивается одинаковой душевной зрелостью супругов. Женщина, даже ровесница мужа, психологически, эмоционально старше его. Она больше понимает в области человеческих отношений. Поэтому исстари ведется, что нет ничего зазорного в том, что муж старше жены, но с предубеждением люди относятся, когда наоборот.
Однако в последнее время участились браки ровесников, а бывает, что юнцы женятся на женщинах значительно старше себя. Нормально ли это явление? Многие психологи считают, что нет.
Следующее письмо в стопке конвертов — от парня по имени Виктор Т. Его беспокоит другое:
«Дружу с замечательной девушкой Лерой. Но все мои объяснения в любви она воспринимает молчаливо, со скучным выражением лица. И как она преображается, когда заслышит голос своего кумира Валерия Леонтьева. По ее щекам текут слезы, а губы сами шепчут: «Боже, какой бесподобный мужчина. Я вечная его раба». Может быть, пока не поздно, мне лучше расстаться с этой экзальтированной девушкой?».
Советуем не торопиться этого делать. Узнай получше характер своей подруги, Виктор. Приглядись, какие у нее интересы, интеллект. Помоги ей увлечься еще чем-нибудь, кроме музыки. Найди с ней общие занятия, заинтересуй ее собой. Надо знать, что у женщин очень большая психоэмоциональная сила переживаний. И то, что ей сейчас доставляет столько радости певец, со временем пройдет. Добивайся, чтобы ваши вкусы сближались.
И снова конверт от девушки:
«Познакомились с Дмитрием днем в электричке, вечером встретились. Объяснился мне в любви. Я ответила, что он мне тоже нравится. Он тут же стал требовать «доказательства» моей любви к нему. Парень действительно хорош собой. Но его разговоры мне противны. Что же мне делать?
Люся В.».
Ответить можно очень коротко не только Люсе, но и другим. Уступив притязаниям парней, девушки дружбу и любовь не укрепляют, а губят. Требование юношей — невежество, отсутствие заботы о своей подруге. Молодой человек должен увлекать свою избранницу эрудицией, широтой взглядов, красивыми манерами, интеллигентностью, а не ставить девушку в двусмысленное положение.
Письма, письма. Самые разные, но в чем-то и одинаковые…
«В 14 лет меня стало волновать: почему одни девчонки нравятся парням, а другие нет? Одни умеют долго дружить с мальчиками, а у меня не получается? А через год и посерьезнее задачки стали на моем пути: что такое большая любовь? Когда девушке можно «заглянуть» в интимную жизнь? Обратись я с такими вопросами к родителям, то, кроме окрика, ничего бы от них не услышала. Боялись этой темы и учителя: задашь такой «вопросик» и попадешь в разряд распущенных. А в полезной книге есть все разъяснения. Не надо в поисках ответа идти в подворотню, не надо кокетничать со взрослыми, стыдливо опуская глаза… Все ответы можно найти в печати. Но книг на эту тему все еще мало».
А вот что пишет Катя Л.:
«Чего скрывать, сейчас нас беспокоят отношения с ребятами. Вот я, например, едва начинаю дружить, так сразу настраиваюсь на большую любовь и быстро остужаюсь, так как вижу не то, что мне нужно».
Конечно, не будь книг, ребята все равно нашли бы ответы на мои вопросы. Где-нибудь в компании сверстников в неграмотном, пошлом виде. Как правило!
Вспоминается, как мать девятиклассницы Люси Д. поведала, что застала в интимной обстановке дочь с соседским парнем. Не виновата ли пресса? Растревожила, мол.
Но вскоре в руки матери попал Люсин дневник. В нем девушка описывала факты и события своей интимной жизни с 14 лет. И судя по записям, именно толковые статьи в газетах заставили задуматься о потребительском отношении к своим чувствам.
Не надо идеализировать: автоматически книги нравственности не научат. И, главное, учащиеся должны почувствовать, что у них с преподавателями и родителями общие интересы, заботы и стремления.
Как-то в «Литературной газете» возмущенные авторы-родители, отдавая приоритет в подготовке ребят к семейной жизни литературе, эстетике, домоводству, предлагали не тревожить в школе юношей и девушек разговорами о «серьезных» отношениях.
Где выход? Держать дочерей в ежовых рукавицах? Избегать «запретной» темы? Увы, нет. Социологические данные говорят о том, что ранняя половая связь нередко случается и у тех подростков, которых, что называется, родители держали «под каблуком».
Счастливая жизнь 16—17-летних является производным многих воспитательных воздействий, и главное из них — умелое общение с подростками как в семье, так и в учебном заведении.
Нет слов, нужно принять все меры к тому, чтобы решать основной вопрос: как уберечь ребят от ранних половых связей. Понятно, что освещению этой проблемы нужно отводить достойное место в беседах на соответствующих уроках и дома. Одна родительница в отчаянии как-то сказала:
— Что делать с дочерью, не представляю. Аня влюбилась в оболтуса и, по-моему, живет с ним, а ей только семнадцать. Заявляет: «У нас любовь». Жаль, что поздно ввели новый предмет «Этика и психология семейной жизни».
На вопрос «Что такое любовь в ребячьем понимании?», мой знакомый десятиклассник Николай В. Ответил:
«Это полная свобода действий. Свидания, прогулки, и встречи, где хочу и когда хочу. Отстаивание любимой перед собственными родителями, каким бы плохим ни было о ней общественное мнение».
Или мнение девушки:
«Это чувство, которое происходит раз в жизни, ему нельзя противиться. Одного теплого воспоминания потом будет достаточно, чтобы оправдать все».
Такие вот непростые, а порой и наивные ответы.
Как-то продиктовал ребятам-десятиклассникам задачу:
«Семнадцатилетняя Аня отдыхала на море и там познакомилась с парнем, влюбилась в него. Он ответил взаимностью, но потребовал близких отношений, сказал, что так сейчас делают все. Аня долго колебалась, наконец, согласилась. Какие последствия ждут девушку?».
Характерно, что из двухсот письменных анонимных ответов лишь двое ответили, что у Ани, если парень был хороший, останутся о нем теплые воспоминания. Остальные писали, что
«Аню ждет одиночество, возможно, с ребенком на руках. Всю жизнь будет проклинать себя за слабость, необдуманный поступок».
Идущие в ЗАГС, опьяненные чувствами, часто забывают, что нет универсальной формулы счастья. Каждый человек счастлив по-своему. Но и несчастлив — тоже. Из десяти пар три в течение двух первых лет супружества расходятся. Почему? Поспешили жениться. Поспешили выйти замуж. Не разобрались, кто есть кто. А главное, не подумали о том, что семейная жизнь — это не прогулка налегке. Это — ноша.
Надо привить ребятам понятие о любви, браке, семье. От этого зависит их счастье.
…И ВОЗНИКЛА РЕВНОСТЬ
О ней пишут в стихах столько же, сколько и о любви. Хотя мрачная ревность — тиранящая душу проза жизни. Как часто она разрушает семейное благополучие. Ревность таит в себе ненависть.
Марина Никитична вымученной улыбкой старается скрыть то, что она, молодая симпатичная женщина, находится в плачевной ситуации. Попросту говоря, ее постигла беда. Она осталась без мужа, дети лишились отца. Почему? Вскоре узнаем.
Когда Марина только начинала взрослую жизнь, ей казалось, что любви не бывает без ревности. Более того, ей самой хотелось, чтобы парень, с которым она начала встречаться в десятом классе, сгорал от ревности и любви одновременно.
А как же, мол, иначе, ревность ведь тенью следует за влюбленными.
Кто из нас в школьные годы не испытывал сердечных потрясений? Но Марине казалось, что ее любовь — самая прекрасная и таинственная. Она боготворила своего Павлика и он от нее был без ума. На свидание прибегал со стихами и поэтическими рассказами, посвященными ей, романтической и неповторимой девушке.
Первое большое чувство захватило Марину. Ей хотелось все время видеть, слышать, дышать одним воздухом с любимым существом. А еще Марина обожала, чтобы Павлушка восхищенно смотрел на нее и ни на кого больше.
Малейшее отступление Павла от этого правила Марина расценивала, как невнимание к себе. За это могла долго дуться и упрекать парня. А Павел к упрекам любимой девушки сначала относился легко, весело, готов был весь вечер разубеждать ее в противном. Но вскоре несправедливые обвинения стали досаждать парню, быть ему в тягость.
Кончилось тем, что молодой человек расстался со своей подругой.
Трудно передать, как извелась, измучилась Марина в поиске примирения с любимым человеком. А когда ничего не вышло, к ней приходила мысль: незачем больше жить. Однако все раны залечиваются временем.
После школы Марина стала работать на фабрике. Как-то приятно познакомилась с одним инженером, только что окончившим институт. Влюбилась без памяти. Вторая любовь отличалась от первой, казалось, еще большим сердечным влечением и томлением души. И Константин считал Марину своей голубой мечтой. Сам себя называл счастливчиком. Но недолго.
Марина ничего не могла поделать со своей ревностью. Она надоедала Косте с вопросом: не изменит ли он ей, вечна ли его любовь? Он уверял Марину, что она его идеал. Но чувства его убивало Маринино требование постоянных клятв и заверений. От этого он всего больше томился на свиданиях.
Девушка почувствовала охлаждение, усилила за ним «контроль». И не напрасно. Однажды вечером, когда, сославшись на усталость, Костя отложил свидание с Мариной, та увидела его у магазина с какой-то девушкой.
Нетрудно себе представить, какую громкую сцену устроила Марина обоим. Оправданиям не поверила и начала за Константином ежеминутно следить. Она встречала его около проходной, томилась у подъезда, ожидая возвращения его со второй смены. Бывало, она не спала ночами, караулила каждый шаг запоздавшего с работы домой возлюбленного. Поэт Э. Асадов сказал: «Ревнуют там, где потерять боятся». Но этим не удержишь любимого.
Костя разочаровался в девушке, оставил ее, чтобы не иметь скандала, перевелся работать в другой город. Выходило, Марина сама добивалась помимо своей воли разрыва отношений с Костей, хотя дело шло к браку.
Переживая вторую неудачную любовь, Марина почти месяц проболела, оказавшись с психическим расстройством в больнице.
Мы часто ищем ответа в литературе: сколько раз можно любить? Марина полюбила третий раз и так же горячо и преданно. Спроси у нее, какая из любовной страсти у нее сильнее, она бы назвала последнюю.
Новый суженый не был красавцем: неуклюж, молчалив, худой, тщедушен. Но Марина присмотрелась к нему и поняла главное: он самостоятельный, деловой, надежный. И любил ее так, как никто. Слепо обожал свою милую девушку. Впрочем, она стоила этого: девчонка была писаная красавица. Но продолжала иметь все тот же недостаток: болезненную ревность.
Марине все больше нравился Олег. Ее покоряли его начитанность и образованность. А еще она рассуждала так: «Красивые мужья — чужие мужья. А Олег будет моим верным супругом, на всю жизнь. Его ревновать не придется. К тому же не сомневаюсь в его большой любви ко мне. Я буквально купаюсь в ласке».
За три года семейной жизни Марина родила двух сыновей. Отношения с Олегом складывались как нельзя лучше, без сучка и задоринки.
Правда, однажды мужу показалось, что Марина симпатизирует его бойкому холостому приятелю. Но Олег все перевел в шутку и весело потребовал от Марины клятвы, что она не покинет его.
«Не предам тебя, не беспокойся» — в искренности слов Марины трудно было сомневаться. Так все мирно и кончилось в тот ненастный вечер взаимных объяснений.
А потом произошло более серьезное недоразумение. Как-то они побывали в гостях у того же друга на дне рождения. Олегу показалось, что его шустрый холостой красавчик фамильярно во время застолья обращался с Мариной, усердно ухаживал за ней.
Невозможно было даже представить, что Олег может так безрассудно ревновать. Он ни минуты не давал Марине покоя, требовал признаний в несуществующей ее связи с посторонним мужчиной.
Теперь на себе Марина поняла, как невыносима становится семейная жизнь, когда между близкими людьми царят недоверие, смута, укоры, капризные подозрения.
Но вскоре Олег успокоился, только стал больше внимания уделять своей внешности, одежде. Тут заволновалась Марина. Как водится, посвятила в свою семейную ситуацию маму. Та не успокоила дочь, а, напротив разожгла страсти. Воспалила еще больше огонь ревности. Она посоветовала проследить за мужем и уличить его.
После того, как подруга Марины увидела Олега в троллейбусе с миловидной особой (это была его сокурсница), теперь Марина закатила сцену ревности Олегу.
А тот испугался не на шутку ярости жены, и шел на все, чтобы успокоить, развеять подозрения супруги. Он как мог ободрял ее и уверил, что по-прежнему любит только ее и никогда не предаст свое чувство. Более того, Олег посоветовал Марине от чистого сердца съездить на курорт и подлечить нервы. А когда она согласилась, достал ей путевку в Кисловодск.
По дороге на Кавказ Марине, вдруг, до слез стало жалко мужа. Она ругала себя самыми последними словами. Супруг без пяти минут кандидат наук, окунулся по ее вине в такую несуразную жизнь. Она, неврастеник, измучила его придирками и ревностью. Угораздило Олега взять ее себе в жены… «Нет, все, — думала она, — надо менять свой характер…».
Марина решила: будет писать Олегу каждый день письма все четыре недели. И на курорте не позволит мужчинам за собой ухаживать.
Прошли первые две недели. Олег старался по дому, управлялся с детьми, считал дни возвращения Марины. И вдруг, как-то под вечер в дверь позвонили. Олег открыл ее. Перед ним на пороге стоял моложавый высокий мужчина. Уточнив, туда ли он попал, незнакомец доверительно сообщил:
— Прямо из Кисловодска. Отдыхал в одном санатории с вашей женой. Не поленился к вам заехать. Считаю своим долгом известить о поведении вашей супруги. Загуляла. Ведет себя непорядочно. Вам изменяет. Поверьте, не хотел вас тревожить, но прощать такое нельзя. Говорю, как мужчина мужчине. А вы поступайте как знаете.
Не дав ошеломленному Олегу опомниться, выпустив обличительную тираду, непрошеный гость исчез. Промучившись всю ночь без сна, муж чуть свет дал жене телеграмму, чтобы она немедленно выезжала домой. Обманутому супругу казалось невыносимым оставаться наедине со сразившей его новостью.
Олег мысленно, словно киноленту, прокрутил свою короткую семейную жизнь. Вспомнил вертлявого коллегу-приятеля, который, наверное, тайком захаживал к Марине. Под особым углом истолковал теперь кокетливые разговоры жены на пикантные темы. Вспомнил «смелость» Марины до свадьбы и пришел к твердому выводу: она ему с первых дней супружеской жизни неверна.
А та, получив телеграмму, чуть не лишилась разума из-за страшных догадок. Ей казалось, что-то случилось с детьми. Но, когда она приехала, Олег встретил жену оскорбительными, неприличными словами, забыв выдержку и такт. Рядом с ним стояли собранные чемоданы для выезда из дома.
Марина сначала онемела от обвинений, потом растерянно пыталась оправдаться. А когда Олег не стал и слушать, слезы и мольбу ее назвал «игрой», Марина сама воспламенилась яростью и презрением к мужу. В ответ и она стала кричать, заявила, что он специально отправил ее на курорт, чтобы тут поразвлечься, нашел повод, чтобы совсем покинуть семью. Жена ему, мол, больше не нужна. Он нашел помоложе… Словом, в таких случаях известно, как бывает.
Олег оставался неумолим. В мстительной спешке подал заявление в народный суд на расторжение брака. Оскорбленная Марина почти не колебалась тоже и дала согласие на развод. Все произошло молниеносно. Они не стали мужем и женой. Каждому казалось, что отомстил другому, покончил с дрязгами.
Прошел год в ненависти друг к другу. И тут Олег случайно узнает, что он стал жертвой гнусного обмана, разыгранного от нечего делать и в отместку Марине двумя донжуанами, получившими от нее на курорте отпор.
Обзывая мерзавцев последними словами, Олег кинулся улаживать свои отношения с Мариной. Не тут-то было. Этот тяжелый год многому научил Марину. Хотя и ей было несладко, но она отказалась от примирения. А Олег, стараясь загладитьсвою вину перед Мариной, клялся, извинялся, умолял простить его, готов был стать на колени.
Но Марина на все заверения отвечала Олегу жесткой фразой: «Если поверил подлецам раз, то наверняка поверишь любому навету на жену и еще. Мне такой муж не нужен».
Олег, страдая куда больше, чем Марина, за свою непоправимую ошибку, не получив прощения, сгоряча женился второй раз. А обожает он по-прежнему только одну свою ненаглядную Мариночку.
Вот уже два года Олег приходит к Марине как гость. Поможет старшему сыну первокласснику сделать уроки, уставит на свою мадонну ласково-вопросительный взгляд и, не получив нужного ответа, удаляется, как говорится, восвояси, до следующего гостевого визита.
Ситуация к тому же становится все сложнее: вторая жена Олега ждет ребенка. Конечно же, Марине нелегко воспитывать двух сыновей, да и любит она тоже Олега. Но посоветовать им, пожалуй, никто ничего не может. Ревность расшатала счастливый брак. Как же помочь теперь им?

ПИКОВАЯ ДАМА
Увы, возрождается ныне вера в приметы, гадания, вещие сны. Иначе чем объяснить, что толпы цыганок на улицах городов и сел не остаются без «работы». Даже модной становится «кухонная мистика».
Как-то мои друзья со мной заспорили: «Пушкин был суеверным и не без оснований. Все, что гадалка ему предсказывала, сбылось».
Действительно, это описано в литературе. Да и житейский опыт говорит о том, что «чарами» и «гипнозом» некоторые обладают.
«Совсем недавно, — рассказывала мне очень серьезная, образованная женщина, — в электропоезде ко мне подсела чернявая женщина и точно назвала купюры, которые лежали у меня в кармане, затем попросила, чтобы я сжала их в кулаке. Из любопытства выполнила ее просьбу. А когда я разжала кулак, он был пуст. Пятерка, трешка и рубль словно испарились. Муж дома мне не поверил, а я до сих пор не могу придти в себя».
Вспомним Вольфа Мессинга. На своих «сеансах» в огромном зале Дворца культуры он выделывал буквально чудеса: угадывал прошлое, настоящее и будущее желающих этого.
В своей книге Вольф Мессинг вспоминает, как он подростком ехал «зайцем» в вагоне, а заявившемуся ревизору вместо билета подал кусочек бумаги. Тот прокомпостировал ее и пошел дальше.
С тех пор Мессинг и понял, что он обладает «чарами».
Что тут удивительного: люди с феноменальными способностями внушения, гипноза, психотерапии часто выступают со сцены. Много интересного и правдоподобного написано об этом в литературе.
В рассказе Агаты Кристи «Домик в сельской местности» молодая жена Элис случайно постигает страшную истину: ее новоиспеченный супруг уже был неоднократно женат, тех женщин он умертвлял. За это сейчас разыскивается. Более того, Элис стало известно, что после ужина Мартин покончит и с ней. Она в руках убийцы и сбежать невозможно. Ей остается жить несколько минут. Все приготовлено к ее убийству.
В душевном смятении, в поиске выхода из беды, она начинает рискованно фантазировать, «доверительно» признаваться мужу, что она уже дважды была замужем. Благоверных убивала.
«В госпитале я научилась обращаться с ядами. Ты, конечно, слышал о хайосине? Он убивает мгновенно… Да, я сейчас отравила и тебя. Ты выпил кофе, в чашке был яд…».
«Боже мой, — прошептал Мартин, — так вот почему у кофе был такой вкус! Ты отравила меня, подлая!».
«Да, я отравила тебя… Яд уже действует. И через пять минут ты умрешь…».
Мартин, действительно, через это время умер, хотя в кофе не было яда. Выдумала ли историю А. Кристи? Думается, нет. В чем тут дело? Элис могла и не подозревать, как в свое время Вольф Мессинг, что обладает огромной силой гипноза и внушения. Но жизнь ее поставила в экстремальные условия и она проявила себя.
В повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» Пульхерия Ивановна умирает оттого, что вернувшуюся кошку посчитала своей смертью.
И, наконец, видение Германна из «Пиковой дамы» А. Пушкина. Переутомленный мозг героя повести, его воспаленная психика, сверхвосприимчивая натура, самовнушение привели к тому, что убиенная явилась перед Германном.
Я не психолог, не психиатр, но неисправимый материалист. Загадочные истории объясняю здравым смыслом. Конечно же, есть очень опытные гадалки. Мастерство им передавалось из поколения в поколение. Много веков у цыганок это было основной профессией, их смыслом жизни, вопросом их бытия. Все, что умела и знала прабабушка, бабушка, мать, передавалось ребенку, едва он начинал ходить. А если это было, к тому же, очень «талантливое» в своем роде дитя? Можно себе представить, как оно преуспевало в гадании.
Для опытного, вышколенного глаза сам человек — объект гадания — несет столько информации, что только успевай ее материализовывать.
Вспомним наблюдательность Шерлока Холмса. А ведь все это воспринимается как чудо, сверхъестественность.
Французский философ Дидро писал:
«Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются».
Как цыганка угадала у пассажирки купюры, лежащие в кармане и в каком месте? Да очень просто. Она сначала пронаблюдала за своей «жертвой», а потом обратилась с фокусом. Ну и, конечно же, обладала гипнозом. Видимо, на мгновение цыганка усыпила «клиентку» и та, разжав кулак, выронила деньги в руки мошенницы. А когда гипноз прошел, кулак по-прежнему был сжат.
Работая следователем, я обратил внимание на такую особенность: мне не удавалось так быстро находить в результате обыска у преступника нажитые нечестным путем ценности, как цыганкам деньги в квартирах своих жертв.
В небольших населенных пунктах в свое время было много случаев, когда гадалка всего на две-три минуты выпроваживала одинокую хозяйку во двор — «так надо для предвидения» и за это время успевала находить глубоко, потаенно запрятанные сбережения доверчивой «клиентки».
Да, некоторые люди, верно, обладают удивительными природными данными (помноженными на упорные тренировки) внушать другим то, что им нужно, а то и выгодно.
Это поднимает «авторитет» всех без исключения гадалок. Человек обладает уникальной способностью сознательно и бессознательно в особый ряд ставить все события, которые случаются не только с ним, но почерпнутые из устных рассказов других, литературы. И вот уже идея предсказаний в выгодном свете! И если кто-то неустойчивый материалист, то и в век атома, кибернетики, лазера, имея среднее образование, в его сознании живет необъяснимое чувство, что все неизбежно должно случиться, коль так написано на роду.
Это на руку проходимкам. Студентка К. по просьбе гадалки отдала той перстень, и мошенница с ним скрылась. Пришлось подключаться милиции. С гадалками шутки плохи. Тому много примеров. Вот свежие…
Появление в небольшой деревне нового человека — всегда событие. Особенно, если этот человек — чернявая женщина, индийского, так сказать, происхождения.
Поймите меня правильно: не из Бомбея или Калькутты прибыла эта особа, чтобы сопоставить их сельскую жизнь с нашенской. Нет, она была из тех людей, которые постоянно проживают в нашей стране, но свободно перемещаются по ней. Не любят засиживаться на одном месте.
И что удивительно, всегда находят гостеприимство у кого-нибудь. Хотя потом дорого расплачиваются хлебосольные семьи за свою готовность принять у себя в доме и угостить «Пиковых дам».
Радушно впустили в свои дома цыганку Прасковья Семенова и Раиса Тороткова. Щедро ради гостьи накрыли столы. Чернявая женщина в цветастой широкой юбке стала для сельских крестьянок самым нужным человеком.
Дело в том, что незнакомка объявила себя гадалкой. Да не простой предсказательницей, угадывающей судьбы, что называется, на кофейной гуще, а провидицей от бога. Ей ничего не стоит, разбросав карты, заглянуть с будущее любого живого существа.
И в школе, и в училище Прасковью и Раису учили, что гадание — это вздор, несерьезное дело, чернявые особы, конечно же, сочиняют складную ерунду. Не надо и время тратить, чтобы слушать чепуху.
Но то там, то тут кто-то таинственно скажет: «А у меня после гадания все сбылось. Я верю цыганкам!» И этих слов бывает достаточно, чтобы они перечеркнули школьные уроки атеизма. Мистика побеждает.
«А я верю в существование сверхъестественных сил» — говорит иногда даже комсомолка, протягивая какой-нибудь шарлатанке руку для гадания.
Ну, как было не признать Семеновой и Торотковой в незнакомке, посетившей их деревню, чудодейственность, если она по линиям на их руках отгадала имена молодых женщин и даже годы рождения?
И невдомек крестьянкам было, что цыганка все это накануне разузнала в сельском магазине. Разузнала ловко, как только умеют искусные разведчики.
Гадалке нужны были клиентки, у которых не ладятся отношения со своими мужьями. У таких без всяких проблем можно выудить по два-три червонца за разговор о трефовых королях.
Семенова и Тороткова почти час убаюкивались гадалкой, которая рисовала самые радужные перспективы примирения женщин со своими мужчинами, при условии, конечно, если не пожалеют к четвертным еще и по битой курице.
Боже мой, да могла ли идти речь о такой мелкой живности. Раиса с подругой пошла к себе в сарай и выловила нужное количество домашней птицы.
Что не сделает любящая женщина ради того, чтобы ее благоверный не упорхнул к другой. А, судя по картам, это могло случиться.
Впрочем, Семенова и Тороткова не желали быть околпаченными в одиночку. Раиса, запыхавшись прибежала к соседке, которая и года нет, как вышла замуж:
— Валентина! Ну, нам привалило счастье! Настоящая предсказательница в селе объявилась. Сергей-то, говорят, у тебя подгуливает. Прошу, подруга, брось карту на муженька. Готовься, сейчас пришлю,ее к тебе.
И «пиковая» дама вошла в дом новой клиентки — Вали Прошиной. И буквально прямо с порога, внимательно посмотрев юной женщине сначала в голубые глаза, потом на нежную, гладкую руку, со страхом в голосе произнесла:
— Милая! Околдовала твоего супруга другая… Хорошо, что случилось это недавно. Легко помочь. Хочешь поправлю дело? Это будет стоить двадцать рублей, но только пятерками…
И побежала Валентина во имя любви менять червонцы на пятерки и вручила их «пиковой даме».
После этого «провидица» глянула еще раз в ясные очи молоденькой замужней комсомолки своими пронзительными черными глазищами и без лишней сумятицы объявила:
— Ошиблась я, считая, что тебе легко помочь. Разглядела я другие линии на твоей ладони. Большим колдовством заколдован твой супруг. Моих волшебных сил тут недостаточно. Только моя мать-колдунья может справиться с таким злом. Дам тебе адресок. Завтра чуть свет приезжай в райцентр. На вокзале я тебя с матерью буду ждать. Прихвати с собой тридцатку. Только трешками. Так надо для гадания…
…Не спится ночью Валентине. Посмотрит на сладко спящего мужа и душит ее ревность: «Другую завел! Разбужу сейчас и выясню отношения».
А честный супруг спросонок понять ничего не может: «Какая другая женщина!? Одну тебя я люблю», — убеждает он ее и крепко целует.
Тогда несмышленая жена признается мужу в гадании. А супруг легко доказал Валентине, что обманула ее незнакомка индийского происхождения, и что к этому делу нужно подключить уголовный розыск…
А малограмотной, но психологически подкованной чернявой проходимке не впервой облапошивать доверчивых, верящих в заклинание и прочую ерунду, наукой необъяснимую, одним словом, в мистику.
Невежество всегда сопряжено с духовной пустотой. Этот вакуум нужно заполнять чтением, постижением искусств, образованием. Во всем том, что делают самые опытные цыганки, лежат не чудеса, не черная магия, а наблюдательность человека и опыт, накопленный тысячелетиями. Фатальной неизбежности в судьбе людей нет, есть лишь закономерность, которая зависит от множества причин, в число которых на первое место я бы поставил логический, основанный на правильном мировоззрении расчет, точно выбранное поведение в обществе.

ДНЕВНИК МЛАДШЕЙ ДОЧЕРИ, ИЛИ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Статья «Каков он сегодня, донжуан?», увидев в прессе свет, вызвала живой резонанс у читателей. Павел К. с горечью размышляет о том времени, когда он со своей компанией занимался тем же, чем и «герой» статьи «Какой он сегодня, донжуан?» Сергей Прошин. Павел только сетует:
«Почему же так легко верили нам девушки, не прав ли Горький, который говорил, что женщина знает, что ее обманывает мужчина и хочет этого?».
Но корреспондент не оправдывает себя, а сожалеет о том, что испортил судьбы многим прекрасным «мадоннам». В конце письма он спрашивает:
«Как бы научить представительниц слабого пола понимать, где настоящая, а где мнимая любовь, и чтобы они своими чувствами не потакали парням, а воспитывали, удерживали от дурных поступков своих друзей».
Ему вторит в своем письме Люба Р.
«Привить бы нам элементарные знания о любви фальшивой и единственной. А то ведь даже родители ошибаются, какая у их дочери любовь: настоящая или «проходная». Моей подруге мать запретила встречаться с парнем. Юноша показался ей недостойным, а он сейчас женился. Его молодая жена, кстати, наша подруга, не нарадуется муженьком: заботится, помогает по дому, до копейки приличное жалованье приносит. Как в той песне, и не курит и тещу любит».
Из множества посланий, поступивших на указанную статью, большинство на тему о мнимой и настоящей любви. Ибо и она может оказаться источником горя, причиной правонарушений.
Здесь, действительно, надо не ошибиться. И если даже родная мать восстает против охвативших подростка высоких чувств, то нужно, не горячась, разобраться: почему? Если ей не нравятся лишь глаза, походка «кавалера» дочери, тогда нужно отстаивать и перед родителями свою любовь. А когда «суженый» бездельник, заглядывает в рюмку, не способен на чуткость, то родители волнуются вполне обоснованно.
Но я расскажу историю, где мама яро препятствовала встречи дочери с любимым человеком по личным произволу и прихоти.
Почему же восстала Матрена Ефимовна против любви младшей дочери Веры к Денису. Еще год назад она души не чаяла в нем. Тогда он был женихом старшей дочери. Но сейчас она рассудила так: коль он расстался с Клавой, то не бывать ему зятем в ее доме.
Она упорно и озлобленно потребовала от Веры послушания, иначе… иначе она грозила самым страшным материнским судом.
А любовь у Веры с Денисом разгоралась, и, казалось, не было сил, которые могли бы ее затушить.
Но мать продолжала мешать яростно, решительно, точно давила на стене насекомое.
Матрена Ефимовна думала, что поступает во благо дочери не только младшей, но и старшей. И опомнилась лишь тогда, когда дочь оказалась на больничной койке.
…Три года назад, когда Вере исполнилось всего лишь пятнадцать лет, ее старшая сестра Клава, казалось, горячо любила молодого человека по имени Денис. Один недостаток водился за женихом: он был разведенцем. То ли это, то ли другое обстоятельство сыграло роль, но когда Денис сделал Клаве предложение, она ему отказала.
Уже тогда Вера завороженно смотрела на Дениса. Ах, если бы он чуток подождал и потом стал ее мужем! Другого счастья она бы не желала.
Денис продолжал встречаться с Клавой, но между ними не царил теперь мир. Были одни ссоры и упреки.
Однажды Денис и Клава поссорились навсегда. Сестра встретила другого парня и у нее возникло что-то наподобие новой любви.
Вера, приезжая домой в поселок из города, где училась, часто встречала Дениса. Он работал киномехаником в Доме культуры. Они здоровались. Он оставался любезным, добрым по отношению к Вере и не догадывался, что та его давно любит. Денис даже в мыслях не мог себе представить, что безумно нравится Вере. Он был на шесть лет ее старше.
Из дневника Веры: Тогда я училась в техникуме в городе, нас послали в сентябре в колхоз на картошку. Два месяца в селе я проводила весело, но не было дня, чтобы я не вспомнила о нем. И тогда мне становилось грустно. В мыслях я влюблялась в него все больше. Я писала домой письма и через маму передавала ему привет. Она работала с ним в клубе. Была билетным кассиром. Но ни мама, ни он не догадывались ни о чем.
От автора: Колхозные дни приближались к завершению и студентов перед возобновлением учебы отпустили на два дня домой. Но Вере казалось, что она едет к нему на долгих сорок восемь часов.
В автобусе Вера подбадривала себя, запасалась смелостью признаться Денису в любви. Сказать ему все прямо в глаза. От этих мыслей она пьянела без вина, сердце ее трепетало, словно в руке птица.
Из дневника: «Надо его во что бы то ни стало увидеть», — говорила я без конца себе, когда вечером стала собираться в Дом культуры. За мной зашла подруга Варя и мы вместе, направляясь в кино, решали, как мне поступить, чтобы осуществить намеченный план признания Денису в любви. Решили: время покажет, все будет зависеть от обстановки. Пришли мы в Дом культуры, но его там еще не было. Ко мне подбежали знакомые девчонки, стали спрашивать, как я устроилась в городе. Отвечаю: все хорошо, всем довольна, а сама между слов намекаю, мол, что-то не видно киномеханика?
От автора: Подруги ответили Вере, что Денис, после того, как прокрутит кино, придет на дискотеку. Вера смотрела фильм, но ничего не видела. Туман застилал глаза. Ей хотелось встать и бежать в кинобудку, она боялась, что не увидит сегодня его. Она не знала, куда себя деть от тоски, не могла усидеть на месте и все думала, когда же кончится кино.
Из дневника: Наконец-то мы пошли в танцевальный зал. Дениса там не было. И снова мне стало скучно. Но вот ко мне подбегает Варя и шепчет: «Он пришел!». Я не успела еще ничего ответить, смотрю — он через весь зал идет ко мне. У меня подкосились ноги и отнялась речь. Я притулилась к стене, глаза заволокла пленка слез, словно иглой кольнуло в самое сердце.
От автора: Денис, конечно, не догадывался ни о чем. Он подошел к Вере, поздоровался и стал расспрашивать о ее делах. На танцы он ее не приглашал и они весь вечер простояли у стены.
— Как твои-то дела, — многозначительно Вера посмотрела на молодого человека.
— Плохо, — со вздохом ответил Денис, — никто меня не любит. — Эта фраза перевернула душу Вере.
— Ты уверен, что никто?
— А разве не так? Откуда взяться девушке, которая бы полюбила такого, как я, непутевого и неудачника.
— Есть такая девушка. Она здесь, в этом зале. — Слова застряли в горле у Веры. Она выбежала вон из танцевального зала.
Из дневника: На следующий день, ругая себя за нерешительность, называя себя размазней, я досрочно уехала в город и появилась в своем поселке лишь через три недели. И точно также пришла в Дом культуры, как прошлый раз. На дискотеке ко мне стал приставать незнакомый парень, сказал, чтобы я сегодня вечером пошла с ним туда, куда он скажет, а иначе его дружки и он из меня сделают «отбивную котлету». Я очень испугалась, но тут ко мне на мое счастье подошел Денис и я все рассказала ему. «Не бойся, я тебя провожу», — ответил он. Для меня эти слова были солнечным светом. Я даже стала благодарна тому хулигану, который угрожал мне.
От автора: Вера с нетерпением стала ждать окончания дискотеки. Настроение ее достигло самой высокой отметки. Они вышли из Дома культуры. Денис проводил ее до дома и спросил, когда она приедет еще?
— А тебе этого хочется? — с замиранием сердца ждала ответа.
— Очень. Тебе тяжело учиться?
— Нет. Почти все пятерки…
— Какая ты умница. Счастлив будет тот, кого ты полюбишь…
Вере хотелось крикнуть: «Безумно страдаю я только оттого, что не вижу в городе тебя!». Она в какую-то секунду порывалась обвить руками его шею и горячо поцеловать в губы. Но вместо этого, чтобы не выдать своего порыва, убежала домой.
Неделя, которую она училась в техникуме, была для нее пыткой. Вера страдала, терзалась от того, что не видит, не может обмолвиться добрым словом с Денисом. Она думала и думала о нем.
Вечерами студентки-подруги куда-то убегали из общежития, звали Веру с собой. Но она мотала отрицательно головой, оставалась в комнате одна, учила уроки, вышивала, томилась.
— Что с тобой? — спросила ее лучшая подруга однокурсница Юля.
— Влюбилась, — честно призналась Вера.
Из дневника: В родной поселок я приехала через неделю и сразу пошла к Варе. Она работала инструктором в райисполкоме и знала все новости. Варя сказала, что видела много раз Дениса и он всегда спрашивал обо мне, В первый же вечер, в субботу, мы встретились с Денисом. На дискотеке мы не отходили друг от друга. Наши слова, как будто бы не имеющие отношения к объяснению в любви, наши теплые взгляды раскрывали нам наши чувства друг к другу. Денис мне вдруг, по дороге ко мне домой, признался:
«Что-то со мной происходит, но я никак не могу понять что?».
От автора: Вера приезжала и уезжала. Теперь она каждый вечер выходного дня проводила с Денисом. И все больше влюблялась в него до безумия, но в то же время боялась, что узнает об этом сестра Клава или мать. Вера считала, что ей будет стыдно перед ними.
Из дневника: Новый год мы провели вместе. К тому времени он уже стал и киномехаником и заместителем директора Дома культуры, по совместительству, так как не было пока замены. Все девчонки уже догадывались, а некоторые и точно знали, что у нас с Денисом любовь. Они таинственно шептали: «Вер, неужели он ничего от тебя не требует?». Я отвечала, что нет. Он действительно свято берег меня. Я поняла, что я дорога ему больше жизни. В Новом году скоро подошел мой день рождения. Было воскресенье. Он приехал ко мне домой и привез мне цветы. Дома была сестра Клава. Принимать подарок мне очень было неудобно перед ней. Мне казалось, что она догадывалась, откуда такая трогательная забота о моем настроении у Дениса. Но она тактично ничего не спросила.
От автора: Вечером в тот счастливый день Вера пришла в Дом культуры. Она, плохо скрывая радость от принесенных цветов, все же спросила, зачем он это сделал? Он просто, очень искренне ответил, что раз они дружат, то и нечего ни от кого это скрывать.
После дискотеки Денис повез Веру на своем мотоцикле к себе домой. У его мамы были гости, но он все равно всем представил Веру, как девушку, с «которой встречается и которой гордится». Так и сказал. А Вера чуть не сгорела со стыда. Их пригласили к столу. Вера, по натуре очень скромная, стеснительная, долго отказывалась. Но и нужно было быть тактичной, благородной, так как ее долго упрашивали и она приняла участие в ужине. Тут же Денис объявил, что Вере сегодня исполнилось восемнадцать лет.
Все стали ее поздравлять, а мама Дениса поцеловала в щеку.
Из дневника: После этого вечера у меня дома все узнали, что я стала ходить с Денисом. Я никогда не видела в такой ярости маму. Она кричала, что я позорю всю нашу семью: «Тебе не стыдно тайком встречаться с парнем, с которым дружила твоя старшая сестра?». Она была категорически против моей привязанности к Денису. Мне было очень тяжело находиться в такой обстановке дома. Мама, не переставая, изводила меня упреками, доводила меня до слез. Она утверждала, что Денис меня бросит, как оставил свою жену. Ему, якобы, я нужна лишь для «одного вечера». Но сестра не разделяла пыл мамы. Ей было все равно. Она даже успокаивала маму. Но мама поставила такое условие: «Или я или он». «Вера, делай, как считаешь нужным, — шептала сестра. — Ведь не он меня оставил, а я его. Но нашей маме не доказать. Она считает, что он меня бросил».
От автора: К Дому культуры вечерами Вера подходила обычно заплаканная. Денис участливо спрашивал, что случилось, а она не решалась ему все рассказать. Но потом как-то не выдержала и рассказала ему печальную историю взаимоотношений с матерью. Денис кусал губы, хрустел, ломая, пальцами. А потом вдруг предложил: «Давай уедем отсюда. Меня зовет брат в Казахстан?». В этот же вечер Вера горячо призналась Денису в любви.
Из дневника: Он просто не знал, что со мной делать, как благодарить. Денис целовал мне руки, лицо, волосы. Он признавался, что ни одна девушка не говорила так просто и сладко о любви.
От автора: Прошла зима и весна. Подходило лето. Вера на отлично заканчивала третий курс техникума. И, не обращая внимания на запреты матери, которые становились все злее, все ультимативнее, продолжала тайком встречаться с Денисом.
Наконец, она дождалась каникул. Приехала в поселок с одной мыслью: «Как тут поживает любимый Денис?». Писем он ей писал много, их не заменишь свиданием, живым теплым, смыкающим души объятием и поцелуем. Но мама сразу огорошила, прямо у порога: «Если будешь встречаться с ним, то считай, что у тебя нет матери. Он должен быть мужем твоей сестры. В противном случае он нам не нужен».
Верочка старалась объяснить матери, смягчить, разубедить, но та пошла на принцип. Она стала следить за каждым шагом на каникулах младшей дочери и никуда не отпускала ее вечерами.
Вера убегала через окно. А, встречаясь с Денисом, забывала, обо всех своих горестных домашних делах.
Из дневника: Я гуляла с ним по окраинам поселка, там, где к последним улицам и переулкам примыкает грозный сосновый лес, насупивший вечерами брови, точно моя мама. Нас видели одни звезды и луна. Мне было до самозабвения хорошо с моим бесценным существом, таким ласковым, все понимающим с полуслова, с полудвижения губ, мимики, взгляда. Крутну головой и он «усек», что это мне не нравится и дальше в этом плане продолжать не стоит, так как это обидит меня.
От автора: Но придя домой, Вера погружалась в прежнюю ненавистную обстановку, полную скандала, ссор, недовольства, тяжкого обвинения в посягательстве на честь семьи. Укоризну матери она не могла больше переносить. Мать не желала понять, что младшая дочь тоже стала взрослой и к ней пришла первая страстная любовь. И стали вкрадываться в голову Веры мысли: «Если он мне, по словам мамы, не пара, то я покончу с собой. Другого мне не надо. Да и никогда я не встречу такого, так зачем жить!».
У нее, действительно, мама, родная мама, отнимала любовь. Ну был бы Денис пьяница, хулиган, бездельник, развратник, тогда можно было бы понять предупреждения родительницы и прислушаться к ним, последовать совету. Но ведь он сущий ангел, сам как ребенок, на свиданиях словно ангел-хранитель распростирает свои руки-крылья, оберегая ее даже от колючего ветра. Работящий, из порядочной семьи. Но а то, что не сложилась первая семейная жизнь, то не всегда в этом виноват лишь мужчина. Но мать, Матрена Ефимовна, не хотела этого понять. «Раз не стал мужем Клавы, ему не должно быть причала в нашем доме» — твердила Верина мать.
Из дневника: И однажды, утомленная придирками, уговорами, упреками мамы, я пообещала ей, что больше не пойду к Денису. И себя я также уверяла. Мне было жалко маму, я решила: сделаю это ради нее. Пусть спит спокойно, а то она стала вскрикивать по ночам, страдать бессонницей. Я шла в Дом культуры только с одной целью: найти причину и поругаться с Денисом. Но как только я увидела его, то не нашла в себе сил поссориться, а лишь горько заплакала и уткнулась ему в полу пиджака. Он спросил, что случилось. Я все ему рассказала.
От автора: И в этот вечер Вера не пошла домой ночевать. А направилась с ним на квартиру к подруге, у которой родителей не было дома. Денис среди ночи ушел, а Вера с Варей проговорили до утра, до той поры, пока не разыскала ее сестра Клава.
— Ты в своем рассудке, — перепуганно произнесла Клава, — как ты могла не придти домой ночевать? Мама сходит с ума.
Вера в то утро сказала матери, что не была с Денисом, встретила другого парня и будет с ним дружить. Вера так искренне сказала об этом, так ловко соврала, что удивилась сама себе. Она начинала лгать матери, ее заставляла это делать жизнь. Ей хотелось, чтобы и мама не волновалась и не расстаться с любимым человеком.
Мать верила дочери, а та изо дня в день обманывала ее все лето. Матрена Ефимовна долго не догадывалась, что Вера водит ее за нос.
Но однажды мать обо всем случайно узнала.
Из дневника: Я думала, ну это теперь все. Будет мне такой нагоняй, которого еще никогда не было. Но мама мне спокойно говорит: «Больше никуда я тебя не отпущу». Я просидела дома две недели. Но вдруг ее пригласили в гости, в деревню за сорок километров, к родственникам, и я появилась в Доме культуры. Денис обрадовался мне. Он все знал через мою подругу Варю. Мы сразу пошли ко мне домой.
От автора: В этот вечер Денис преподнес Вере шикарный флакончик французских духов. Она несказанно обрадовалась, но и боялась принять дорогой подарок: могла узнать мать. Денис пообещал поговорить с Вериной мамой, постараться все ей объяснить, попросить у нее руки и сердца младшей дочери. Но Вера, трепеща от страха, просила этого не делать. Он стоял на своем: «Сколько можно… Мы взрослые люди!».
Из дневника: И вот однажды Денис пришел ко мне, когда мама была дома. Он этого и хотел. Не знаю, о чем они долго говорили, но догадывалась, что мама отговаривала Дениса от меня. Но он был неумолим, твердил: «Мы любим друг друга, это главное». И тут мама колюче напомнила ему о Клаве, «загубленной ее жизни», что, мол, не стыдно ли ему будет перед ней. Он почему-то не стал объясняться по этому вопросу, а молча встал и ушел от нас. Он не ожидал такого вопроса.
От автора: Подходило к концу лето. Вере нужно было уезжать в город. Она решила с Денисом отметить это событие. 29 августа они пришли в Дом культуры. Этот вечер никогда не забудет Вера. Среди друзей они были как жених и невеста. После дискотеки все разошлись по домам, а Вера с любимым остались в запертом Доме культуры, в его кабинете, вдвоем. И мечтали о своих счастливых, обязательно счастливых днях совместной супружеской жизни.
Из дневника: Если говорить честно, то я боялась с ним оставаться наедине в пустынном Доме культуры. Тем более на всю ночь. Дала ему понять, что я вся трепещу от неизвестности и дурных мыслей. Но он мне, взяв руки, ответил: «Если бы мне это было нужно, то давно бы это сделал. И в лесу, и в доме Вари…».
От автора: Вернулась Вера домой опять утром. Ее мамы уже не было: она ушла на работу. И в этот же день, не дождавшись родительницы, Вера села в автобус и отправилась на учебу. Она переписывалась с Денисом. Получала от него письма почти каждый день. Да и сама Вера не писала домой столько писем, сколько отправляла ему.
Однажды Вера от мамы получила письмо и очень откровенное в том смысле, что она как бы изнутри давала Денису пронзительную характеристику. Она доказала, что он Вере не пара, что их дружба кончится для обоих непоправимой бедой.
Под сильным впечатлением материнского послания Вера решила, что ей надо во что бы то ни стало отойти от Дениса. Для этого нужно было в ближайшее время поговорить с ним. Но не знала, как это лучше сделать.
Из дневника: И вот я приехала домой, окончательно, как мне казалось, прозревшая, но и убитая горем, с кошмарным настроением. Рядом с ним, в его объятиях, я боялась начать тяжелый разговор. Мне хотелось продлить минуты его радости в связи с моим приездом. Да и сама понимала: перед вечным расставанием стоит замедлить роковую разлуку. Но время шло и я начала разговор. Он широко открыл глаза и онемел от моих бессмысленных для него слов. Он не верил мне. Думал, что я шучу. А потом истолковал мою исповедь так: я люблю его, продолжаю любить, но из-за семейных неурядиц не имею права с ним встречаться. Еще через минуту Денис заподозрил, что я нашла в городе другого парня и даю ему отставку. Нахожу повод, чтобы поругаться с ним.
От автора: И тогда Вера решила воспользоваться нереальной догадкой Дениса. Она ухватилась за эту идею. И чтобы раз и навсегда покончить с затянувшимся выяснением отношений, она вгорячах, стараясь как можно искреннее играть роль, «призналась» ему, что встретила другого молодого человека. И очень полюбила его. И даже, что от него у нее будет ребенок.
Денис, всегда спокойный, покладистый, сносивший все причуды и капризы своей возлюбленной, вышел из себя от такого сообщения.
Итак, они поругались. Это была первая их ссора.
Из дневника: После этого я больше не приезжала домой. Здесь, в городе, целиком посвящала себя учебе, с подругами ходила в кино, библиотеку. И, так как Денис знал мое общежитие, то избегая возможного его приезда ко мне, я стала жить на квартире у одной старушки. Адрес сказала лишь самой близкой подруге в общежитии.
От автора: И вот однажды, это было крайне неожиданно для Веры, Денис нашел ее. Случайно друг Дениса — Анатолий жил в доме напротив дома Вериной хозяйки. И надо же так случиться: приехав к Анатолию, чтобы все разузнать о Вере, Денис в окно увидел ее. Она шла по улице из техникума. Он опешил. Замешательство продолжалось недолго. Денис проследил, куда пойдет Вера. Едва за Верой закрылась калитка, как в дом, куда вошла Вера, влетел Денис. Он сказал ей два слова: «Приду вечером». И удалился.
Из дневника: Я очень истосковалась по Денису. Появление его для меня тоже было счастьем. С нетерпением ждала вечера и боялась, что он не состоится. Но Денис пришел и пригласил меня пойти к его другу.
Там, в двухкомнатной квартире, был щедро накрыт стол. Потом в одной комнате остались мы, в другой — хозяин со своей девушкой. Денис душил меня в объятиях, говорил такие слова, каких я никогда не слышала в кино. Он извинялся передо мной, что поверил ерунде, будто бы я нашла другого.
И тут я вошла с ним в близкие отношения. Мне было очень страшно после этого, но он утешал меня, как мог.
От автора: Вере было стыдно. Она жалела о том, что произошло. И хотя Денис стал ей еще роднее, она старалась не показываться ему на глаза. А любовь кипела в сердцах обоих. Они могли выполнить любую просьбу друг друга.
Из дневника: Денис сам начал приезжать ко мне. И однажды остался у меня ночевать. И в этот вечер заявилась в город мама. Она как чувствовала, что Денис у меня. А возможно, ей кто-нибудь сказал, что навещает меня. Я рыдала, стояла перед матерью на коленях, умоляла не делать ссоры. Но она жестоко хлопнула дверью и выскочила вон из дома. Вслед за ней побежал Денис. А когда он вернулся ко мне, я не пустила его.
От автора: Утром Вера выждала, чтобы все ушли на работу. Оставшись одна, нервно разыскала трехгранную бутылочку с уксусной эссенцией, дрожащими руками выдернула пробку, плеснула жидкости в стакан, жадно сделала несколько обжигающих глотков. И тотчас стала задыхаться, ноги подкосились, она опустилась на пол. Ей хотелось звать на помощь, кричать, но звуки не выходили из горла. Она быстро теряла сознание.
Дверь с крючка сорвал Денис, дежуривший у дома всю ночь. Скорая помощь увезла Веру в больницу. На следующий день она пришла в себя и увидела мать.
— Что же ты наделала, доченька, — с отчаянием трясла головой Матрена Ефимовна.
— Мама, я люблю его… по-настоящему, — прошептала Вера. — Не сердись.
* * *
После всей этой истории хочется поразмыслить. Если к сыну или дочери пришла первая большая любовь — от этого события не отмахнуться родителям.
Нужно лишь рассчитать, как направить юношескую или девичью страсть в разумное русло.
А запреты, окрики не дадут желаемого результата, более того, это может привести к печальным последствиям.
Любовь должна стать для родителей искусным средством воспитания своих взрослеющих детей.
А как часто, наподобие Вериной истории, родители куражатся над любовью сына или дочери.
Взрослые не дают себе труда задуматься, что к их детям пришло неизбежное чувство, без которого не бывает человека.
Любовь — это духовная сила. Ее нужно и можно направить на добрые дела, использовать в воспитательных целях. Только любовь делает общество мягче, человечнее. Она удерживает людей от злых поступков. Следовательно, любовь заслуживает глубокого уважения.

ОТЕЦ И СЫН
Похороны завершались тихо. Все словно онемели и находились в состоянии шока. Рыдала лишь невеста погибшего — Светлана, да беззвучно вытирали слезы две пожилые женщины. Отец покойного Игорь Леонидович Лавренко стоял у могилы потерянный, отрешенный. Весь его вид говорил о сильном потрясении. В его маленькой семье случилась жестокая нелепость, от которой можно лишиться рассудка.
Безутешно было горе.
А вот мать не приехала хоронить сына, хотя ей дважды посылали телеграммы. Видать, ее не тронула за душу трагедия. А на кладбище в эти траурные минуты все думали о ней, женщине, хотя и давно, но легко бросившей мужа и трехлетнего Олежку. С собой, на Украину, к новому супругу, она взяла внебрачную пятилетнюю дочь.
Так мать поделила детей между собой и бывшим мужем.
Сейчас, у могилы любимого парня, Светлане казалось, что больше всех ее коснулось несчастье. Она мечтала увидеть себя в белом свадебном платье рядом с Олегом, а пришлось стоять во всем черном у его гроба.
Впрочем, те, кто так же как Светлана близко знали семнадцатилетнего парня, понимали, что Олег обдуманно свел счеты с жизнью. Кто-то даже, переминаясь с ноги на ногу у могилы, шепнул: «Это его судьба. На роду у него было написано умереть такой смертью». Но так ли это? Не от отца ли с матерью, да и Светланы зависело, как сложится жизнь Олега, пойдет ли парень по кривой дорожке или прямой.
Вернемся на несколько лет назад. Покинутый молодой женой Игорь Леонидович в первые дни растерялся, ходил в каком-то исступлении. Мрачная бездна отчаяния виделась ему впереди. Он не верил, что один может воспитать сына. Сразу же ему крепко стали помогать соседские женщины.
Вскоре Игорь Леонидович осмотрелся, обрел прежний ритм жизни, сосредоточился, весь отдался работе, вернулось к нему жадное стремление сделать карьеру. Так и вышло: за шесть лет из инженера он вырос в крупного начальника. Естественно, времени для сына не оставалось. Он допоздна задерживался в своем учреждении, в котором вход на работу и выход осуществляется по строгим пропускам.
Рос Олежка. К нему всем сердцем привязалась незамужняя молодая и добрая женщина Маргарита Викторовна. Она преподавала музыку и, живя рядом, находила время покормить, обстирать, а затем встретить из школы сиротливого парня. Рите давно нравился Игорь Леонидович. Втайне она мечтала соединить свою судьбу с ним. Казалось, препятствий к этому не должно быть.
Но одинокий мужчина пока не замечал соседку как возможную жену. Зато Олег полюбил тетю Риту словно мать. На ее ласку мальчуган отвечал взаимностью, преданностью, уважением. В отце все меньше нуждался. С родителем у парня мало-помалу возникало отчуждение, устанавливалась эмоциональная глухота.
То, что отцу некогда было с ним позаниматься, сходить в кино, парк, на экскурсию, отправиться в турпоход, вызывало у парня сначала тоскливое раздражение, потом безмолвную досаду, затем — безразличие и даже удовлетворение от того, что тот не лезет в мальчиковые дела, предоставил его самому себе.
И если отец теперь, поздно возвращаясь с завода, бесцветным, усталым голосом спрашивал, как сын занимается в школе, с кем дружит, чем увлекается, то отвечать Олегу не хотелось, разговаривал он с отцом по большому принуждению, занозисто, дерзил.
А между тем отец любил сына своей мужской скупой на умиление любовью. Олег же был от природы чувствительный. Он тянулся к излишне сентиментальной, сердечной тете Рите. Общение с ней Олегу доставляло удовольствие. Она умело завладела душой парня.
Игорю Леонидовичу казалось, что сын благодарен ему, любит отца за то, что щедр, ни в чем не отказывает, дает карманные деньги, разрешил ключи от гаража, учит водить «Москвич». Чего же еще надо? Где найдешь такого богатого, без предрассудков родителя?
С пятнадцатилетним Олегом как-то отец приехал отдыхать в Краснодарский край, там встретил и полюбил женщину, привез ее в свой город и, не раздумывая, зарегистрировал с ней брак. Олегу она не понравилась. Он ей тоже. Мальчик почти сразу разобрался в ее отношении к нему, почувствовал наигранность, громкие слова, расчетливое и холодное сердце мачехи. Олег возненавидел ее. Мачеха ни в какое сравнение не шла с искренней, сердечной, заботливой и бескорыстной тетей Ритой. Не о чем тут было и раздумывать.
Сама Маргарита Викторовна оказалась в таком положении, когда хочется провалиться сквозь землю. Ей так стало неловко, что она обменяла квартиру и переехала в другой город. Это тяжелым ударом сразило сердце паренька. Он понимал, что во всем виноват отец, обидевший тетю Риту, растоптавший ее самолюбие. И внешне, и душой, действительно, Маргарита Викторовна была неизмеримо привлекательнее чужой и кичливой Аделии Власовны. Ленивая, беспечная, она запустила квартиру, превратив ее в хлев. Олег тоже не зевал. Он ложился спать в ботинках, вытирал после обеда руки о рубашку, демонстративно не замечал ее, относился к мачехе как к постороннему человеку. Кончилось тем, что взбешенная «гостья» сбежала от Игоря Леонидовича и его отпрыска. Она была на самом деле временной.
Мужчины снова стали жить вдвоем. Отец по-прежнему не имел времени интересоваться жизнью сына. Игорь Леонидович работал над диссертацией. Доверял Олегу, по мере возможности в общем-то скупо, интересовался его успехами в школе, обеспечивал деньгами. Теперь парень сам обслуживал себя. Отец не мог и подозревать, что сын учится кое-как, бездельничает, имеет свою ребячью компанию, в которой курит, выпивает, пробует наркотики; он хандрил, очень тосковал по матери, хотел бы встретиться и жить с ней.
Олег чуть-чуть воспрянул духом, оживился, взялся за ум, когда пришла к нему любовь.
— Первый раз я увидела Олега на дискотеке, — рассказывает Светлана. — Он играл на ударнике в ансамбле. Потом меня познакомила с ним подруга. Внешне Олежка не мог не броситься в глаза: стройный, развитый и загадочный. Когда стала с ним встречаться, поняла, что он очень умный и не такой боевой, как хотел казаться. Хотя хватало в нем бесшабашности и дерзости. Все мне в нем нравилось. Я не думала его перевоспитывать, напротив, кое-что ребячье сама перенимала от него. Оба мы перешли тогда в десятый класс, но учились в разных школах. У нас образовались общие интересы.
Как-то я познакомилась с его отцом: он застал нас вдвоем, возвратившись поздно с работы. Игорь Леонидович сразу же продемонстрировал широкие взгляды на жизнь молодежи и это меня расположило к нему, мы подружились с ним. Он величал меня гордо «невесткой».
С Олегом мы продолжали ходить в кино, на речку. Бывала с ним в отцовском гараже, тайком катались на«Москвиче». Я давно мечтала научиться водить машину, хотела иметь свой мотоцикл. После занятий в школе я бежала к Олегу на свидание. К сожалению, многое отрицательное Олега копировалось во мне. Он научил меня курить, дегустировать вино, признавшись, что употребляет наркотики, уговорил меня уколоться, чтобы «слаще жилось».
А на следующий день у Светланы вздулась рука, началось заражение. Ей пришлось дома во всем признаться. Мать привела дочь к Игорю Леонидовичу и устроила громкий скандал. Светлану родители держали под арестом почти два месяца, не давали возможности встречаться с Олегом.
Однако вскоре молодые люди все-таки нашли лазейки, чтобы встречаться в укромных местах. Олег жаловался девушке, что невыносимо скучает без матери и готов бросить отца, лишь бы разыскать ее. Много раз в странном возбуждении признавался, что вообще не хочет жить и когда-нибудь покончит с собой. И даже продемонстрировал это. Однажды он включил в гараже двигатель автомашины и пытался задохнуться газом, но его спасли, второй раз порезал себе вены рук, истекал в гараже кровью, но опять вовремя подоспела помощь.
Светлана вспомнила:
— Когда мне исполнилось семнадцать лет, я от родителей удостоилась подарка — мотоцикла «Ява». А через неделю окончила среднюю школу. Получила аттестат зрелости. В честь этого события мы уехали с Олегом в поле. Хотелось весь день побыть вдвоем. Я задавала себе вопрос: кто для меня Олег? И понимала, что наши отношения — это, разумеется, больше чем дружба. Без него не могла прожить уже и мгновения. Прекратил ли он употреблять наркотики? Над этим я никогда не задумывалась. Сейчас понимаю, что напрасно. Мне было достаточно того, что он уколов и таблеток никогда не предлагает больше мне.
Олег часто управлял моим мотоциклом. И на этот раз я отдала ему руль, он носился, как угорелый. В поле, у самой реки, он заглушил мотор, нежно обнял меня и стал как-то по особому страстно целовать мои глаза, губы, щеки, грудь. Я дрожала. Он тоже. При этом говорил и говорил, что преклоняется передо мной, обожает меня. Никого никогда так не боготворил, но должен расстаться со мной именно сегодня, сейчас. Иначе судьбы его и моя будут горькими, несчастными, искалеченными. Но больше всего он жалел меня. Мы были немножко выпившими. С нами находилась еще бутылка шампанского, раскупорили ее… Я смеялась над его нелепыми словами, не верила им, знала, что я счастлива. А взбудораженность Олега относила к страсти, которую выказывал он мне.
Спиртное, употребленное Светланой, не давало ей возможности серьезно оценить ситуацию, внимательно отнестись к словам Олега. Девушка воспринимала их, как дань любви. А что касается хандры, то она была присуща Олегу. Тоска, уныние вперемежку со страстью на него находили часто. И сейчас Светлана продолжала лишь посмеиваться над парнем, мечтая вслух о том, как чудесно они заживут, когда поженятся, строила планы на будущее.
Олега раздражало то, что Светлана не хочет его понять.
— И тут Олег в каком-то припадке злости за то, что я не чутка к нему, вскочил на мой мотоцикл и на предельной скорости понесся по дороге. Это случилось так неожиданно, что я оторопела, замерла от страха. Затем случилось невообразимое. Я до сих пор не могу поверить в тот кошмар. Олег у меня на глазах, на большой скорости врезался в железобетонный столб. О ужас! Думала, что сойду с ума, не переживу горя. Почти год ходила, как помешанная, не хотела жить. Моя мама убедила меня, что я молодая и у меня все впереди.
Светлана и сейчас не отошла от беды. А несчастье никого не красит. Девушка продолжает глубоко переживать личную драму. На ее сердце тяжело от того, что она ясно стала осознавать: спасти можно было любимого человека. Употреблением вина, наркотиков он, похоже, увлекался от тоски по матери. В гибели Олега, конечно, виноваты родные люди. Хотя у каждого человека есть еще один прекрасный воспитатель — он сам.

СОХРАНИ, УЛИЦА!
Мне как-то довелось быть очевидцем такой ситуации: у гастронома «Центральный» парень лет семнадцати — плечистый, рослый акселерат — стал назойливо добиваться от девушки знакомства.
— Да отстань, — говорила ему раздраженно та.
Парень и не думал от нее отставать.
Громкий издевательский смех верзилы слышался далеко по улице. Он был явно «навеселе». Стоявшие тут же мужчины и женщины отвернулись от «инцидента». Молча ждали троллейбуса. Здоровенный дядя спортивного вида с кожаным дипломатом в руке ближе всех стоял к девушке, которую обижал навязчивый кавалер. Он и не думал вмешиваться, становиться на защиту представительницы слабого пола. Напротив, со словами «от греха подальше» направился к толпе, стоявшей у троллейбусной остановки.

Несколько девчонок попытались заступиться за подругу, но обидчик не церемонился и с ними. В их адрес были брошены оскорбительные словечки. Услышав такое, девчата сникли и стали озираться по сторонам, ожидая от кого-нибудь помощи.
И тогда вдвоем с молодым человеком мы двинулись на хулигана.
— Прекрати сейчас же! — крикнул мой напарник.
— Что, что?
— Замолчи немедленно и отойди от этой девушки.
— Ну-ну, папаша, — это уже в мой адрес. Уличный дебошир уставился на нас. Если бы спросили у людей, которые все сразу повернулись в нашу сторону, что они увидели в глазах хулигана, то они бы сказали одно слово: испуг.
Но не менее удивительное происходило и дальше.
Парень-обидчик понял, что мы его хотим «пропесочить». К тому же от перекрестка к нам шел милиционер. И хулиган кинулся прямо через проезжую часть улицы к кинотеатру. Тут он и был остановлен блюстителем порядка.
— Пройдемте со мной, — попросил его милиционер. Он, по-видимому, хотел на подвыпившего парня составить необходимые документы. Но несовершеннолетний нарушитель упирался, вокруг моментально собралась толпа. Подошли и те, кто стоял прежде на троллейбусной остановке и не вмешивался в инцидент, хотя им-то надо было вмешаться. Теперь из любопытства все они были здесь, ждали, чем кончатся пререкания дебошира с блюстителем порядка.
— За что паренька-то милиционер задерживает? — обратился к толпе дедуля преклонного возраста. Старику сразу несколько зевак стали объяснять, искажая факты:
— Да ни за что пострадал: видите ли, не в том месте улицу перешел, и сразу тащит в отделение!
— Ну и дела, — удивленно произнес еще один подошедший мужчина и добавил, видимо, своей жене: — Пойдем, Маша, ни за что сейчас посадят мальчишку.
— Вот они, наши порядки! — теперь крикнула женщина, названная Машей.
И самым неприятным оказалось то, что непрошеных защитников, потребовавших отпустить хмельного юнца-бузотера, было больше, чем нас, двоих очевидцев неприятной истории.
И милиционер извиняюще развел руками и отпустил разгильдяя. Мы так и не узнали его имени. Значит, он еще больше уверовал в безнаказанность, значит, он и дальше будет по-купечески разгульно вести себя на улице.
Вот и роль общественности в конкретной ситуации. Такие сторонние наблюдатели чувствуют и понимают несправедливость только в отношении себя. Вместо того, чтобы «тушить пожар», они, что называется, подливают масла в огонь, оказавшись у места происшествия.
И неудивительно, что потом из таких задиристых юнцов вырастают отпетые хулиганы. И все оттого, что сейчас их опекают «сердобольные» граждане.
Вспоминается еще один, что называется «свежий» случай. Он происходил в автобусе. Высокий брюнет лет шестнадцати-семнадцати, растолкав локтями пассажиров в переполненном автобусе, плюхнулся на освободившееся место, не уступив его пожилой женщине. Многие были возмущены бесцеремонностью нахала. Но лишь тщедушная старушка упрекнула парня в отсутствии культуры. Он тотчас огрызнулся:
— Помолчала бы, одной ногой уж туда смотришь…
В это время появился контролер. На этой же остановке в автобус вошел и мужчина в форме работника железной дороги. Началась проверка билетов. Его не оказалось именно у того нахального парня. Женщина-контролер обратилась к железнодорожнику, попросив помощи, — требовалось записать данные на нарушителя проезда. Но тут же оказалось, что с этим нашим «героем» ехали еще двое приятелей. Они были также без билетов. И не захотели платить не только штраф, но и обычный пятак за проезд.
Когда мужчина в железнодорожной форме решил помочь контролеру, то на добровольного блюстителя порядка посыпались гневные упреки непрошеных заступников: «Нашел, где права свои показывать! На вокзале, да и в поездах лучше порядок наводи!»
В автобусе назревал скандал. Работник железнодорожного транспорта, который к тому же показал удостоверение члена ДНД, оказался в двусмысленном положении, просто не знал, как поступить, и, в конце концов, попросил водителя остановить машину и открыть ему дверь. Затем демонстративно вышел из автобуса. Он, конечно, был обижен несознательными пассажирами и рассказал об этом нам, в милиции.
Как видим, факты свидетельствуют о том, что, к сожалению, очень многие граждане, ратуя за обуздание юнцов-нарушителей, требуя применения к ним «ежовых рукавиц», сами остаются в стороне, когда необходимо проявление их гражданской позиции и вмешательства…

ПИКАНТНЫЙ СЮЖЕТ
Новелла
1. Из ориентировки:
«…Не вернулась домой Цурюкина Альбина Германовна, 27 лет, роста 168 см, стройная, с видной осанкой, круглолицая, улыбчивая, жизнерадостная, на двух дальних зубах надеты золотые коронки. Волосы — густые, пышные, окрашены в золотистый цвет, по профессии — секретарь-референт, владеет английским…»
Не только исчезновение молодой женщины, приехавшей погостить с пятилетним ребенком к матери, было ребусом. Из квартиры испарились и драгоценности красавицы: перстень с алмазом, золотая звезда, ожерелье, две цепочки, крестик, восемь крупных жемчужин, пачка стодолларовых бумажек. Все на общую сумму более 20 миллионов рублей. По заочным подсчетам специалистов.
2. Милиция
В просторном служебном кабинете, после рабочего дня, двое сотрудников наслаждались чаем с лимоном и вели вроде будничный разговор. Хозяин кабинета в игровой манере отстукивал по столу словно морзянку своими узловатыми пальцами. От них исходил запах дорогого табака.
Но гораздо больше комнату заполнял аромат душистого индийского чая. Употребляемый со вкусом, напиток уменьшался в стаканах.
Барабанивший по столу полковник Карпов между глотками сладкого чаепития, снимавшего усталость, неторопливо проронил:
— Выходит, по существу, ничего обнадеживающего?
— Как сказать? Картина-то ясная. Мы всерьез потрудились ночь и день. Сутки не сомкнули глаз. Вы понимаете, что я имею в виду?
Вот эту последнюю фразу, очень бездарную, капитан Блинчиков вставлял к месту и не очень. Возмущение товарищей и критика начальства на него плохо влияли. Он, как говорят «втянулся». Еще Пушкин не то с грустью, не то с радостью писал:
«Привычка свыше нам дана, замена счастию она».
Но это к слову.
Оперативники отхлебнули по большому глотку крепкого, почти черного напитка. Полковник спросил:
— Что из себя представляет мать пропавшей Альбины?
— Вдова погибшего офицера. Злая, как пес, на зятя, кстати, нашего коллегу, майора милиции. По телефону он изъявил желание включиться вместе с нами в поиски собственной жены. Любит. А теща требует, чтобы дочь развелась с ним.
— Из-за чего?
— Чужие дела потемки. Вы знаете, что я имею в виду…
— Прекрати! Когда научишься лаконичности? Не засоряй речь!
— Прошу прощения. Итак, месяц назад Альбина, по свидетельству всех — красавица, перебралась с пятилетней дочерью в наш город. Что я имею в виду?
— Уймись с побасенками, — строго напомнил полковник. — Альбина полностью порвала с мужем, уезжая к матери?
— Дело осталось за разводом. Он ее не устраивал скорее всего материально. Майор чуть ума не лишился, когда мы ему сообщили, в какую историю, похоже, влипла его благоверная. Завтра к нам прилетает. Вы понимаете… — капитан сконфузился и осекся.
— Откуда же у его супруги несметные богатства? Если ему с женой принадлежали, да еще похищены — это удар.
— Имя мужа Альбины — Сергей Цурюкин. У него вообще «крыша» поехала, когда я перечислил ценности. Жена, с его слов, уезжая, имела при себе перстень, кольцо и сережки. Никаких алмазов и золотых звездочек. Вы понимаете… — И предупредительно прервал фразу.
А полковник подумал: «Слава Богу, Блинчиков следит сам за своей речью», — а вслух резюмировал:
— Думаю, лихие «безделушки» — презенты заморского «покупателя».
— Так же и я считаю. Но матери о происхождении драгоценностей соврала. Старушка более щепетильная, чем дочь с подругой Сизовой. Вот и была придумана версия о наследстве Сизовой, отданном на хранение.
— Эх, капитан, — потянулся в кресле полковник, допив чай, — похоже, этот пикантный и фантастический сюжет не только нашей компетенции, но и «соседей». Утром зайду к ним. Обговорю, что к чему. Скорее всего, составим общий план поимки преступников.
Вдруг капитан встрепенулся:
— Товарищ полковник, забыл об одной находке доложить. У Екатерины Сизовой, или, как там она сейчас себя величает, Катрин Сизовой, этой прожженной своднице, в квартире которой и происходила случка Альбины с иностранцем, обнаружен ключ от неизвестной двери. Катька Сизова предположила, что, может быть, выронил «Абориген» — так она иностранца африканского называла — а, возможно, Альбина.
— Передайте трофеи мужу Альбины. Разберемся. Может быть, в нем — свой, квартирный, признает.
3. Из допроса матери Альбины
— Зять, Сергей — неудачник, во всем виноват. Такую деваху в жены заполучил, а что с ней сделал? Она добрая, чуткая, а он? Изверг. Все делает дочери моей наперекор. Бедная моя Альбиночка! Она так хотела купить автомобиль инмарки, так желала куда-нибудь за границу съездить. Или в Карловы Вары, или на Золотые пески, или на какие-нибудь диковинные острова. Она такая способная, так хорошо училась, так мы ею гордились.
— Альбина вас знакомила с этим, как его, «Аборигеном»? Вы понимаете, что я имею в виду?
— Раза три приходил к нам черномазый вздыхатель. Но я сказала дочери, чтобы она с ним ни-ни-ии. Там, в Африке, чума века. Дочь уверяла меня — никаких с ним контактов. К тому же, Альбиночка могла потерпеть: она еще с законным супругом не развелась. Разговаривала дочь с ним то по-русски, то по-английски.
За полчаса допроса лицо женщины еще больше осунулось. Но, вымучено и натужно улыбнувшись, обрисовала «Аборигена»:
Маленький, кривые ножки. Губы толстые, глазки каренькие. Волосатый, обросший. Саквояжик носил. Угощал икрой. — Светло-серые брови женщины разом опустились. — Что же я скажу внучке, где ее мать? Найдите ее, ради Господа…
4. Допрос Катрин Сизовой (подруги Альбины)
— Альбина не развелась с мужем, но поссорилась капитально. Возмущалась: «С его финансовым положением только в берлоге вместе с медведем лапу сосать». Разговор у нас не раз заходил о богатом спонсоре. Я сказала, что при ее внешних данных — труда не составит. И свела с африканским «Аборигеном». Сама давно познакомилась с ним, имела его телефончик. В первую ночь еле-еле мать отпустила Альбину с ночевкой ко мне. Зато «Абориген» подарил ей утром стодолларовую бумажку и ожерелье из драгоценных камней. Потом он приехал через день в «Вольво», и утром на симпатичный пальчик Альбины надел перстенек с алмазом. Ну и так пошло. Роскоши не было границ. Мне ничего не перепадало. Я не сводница, а подружка. Кстати, было и оружие при нем.
5. От автора
Любовная связь лишь со стороны кажется забавной игрушкой, ни к чему серьезному не обязывающей: поиграл и когда захотел выбросил игрушку.
Не тут-то было. На самом деле, этот сексуальный альянс требует большого самоотречения, семейных жертв, высоких обязательств, душевных сил и страданий. В плане личного независимого комфорта муж, в сравнении с любовником, — очаровательное создание. Ему можно даже щелкнуть по носу, чтобы он не лез не в свое дело. Этого не позволишь мужчине, с которым состоишь в небрачной связи. То, что не «перечеркнешь» мужу, прощаешь любовнику.
6. Продолжение показаний Катрин Сизовой
— «Абориген» скоро показал зубки. Куда делась его слащавость, интеллигентность. Через две недели он запустил свою руку в пышную шевелюру Альбины, намотал ее волосы себе на пальцы и тащил ее в постель, как в наручниках. Альбина даже не пикнула. Я случайно вошла в это время в комнату и обомлела. Выскочила вон. Потом Альбина мне сказала без всякого смущения, что она хотела попривередничать с африканцем, набить себе цену. Так делала раньше, а теперь не получилось. Я поняла, что Альбина крепко от Аборигена зависит, полностью продалась ему. Она влипла. Мне стало ее жаль. Я почуяла беду. А утром, на следующий день после этого, Альбина пропала. Может быть, она укатила с пашой, или султаном, как его там называют, в Африку?
Вы спрашиваете о характере, темпераменте, наклонностях Альбины? Внешне чрезмерно обольстительна, ладная, со спортивной фигуркой, грудь пышная — заглядение. Эмоциональна, неуравновешена. Рано вышла замуж. Если интересуетесь сексуальностью, то больше ею наслаждались, чем она.
Так мне рассказывала. Я ей верила. К мужу, Сергею, совсем остыла. Ей, конечно, нужен не полицейский, а лобби, супербэби.
Курила мало. В основном тогда, когда дело доходило до бесшабашного застолья или просто выпивона. У подруги имелись все данные налицо, кроме финансов, но и они подвернулись. На будущее ставила такие цели: пятилетнюю дочь подбросить матушке, а самой укатить за границу, по контракту. Поскитаться по злачным местам-ресторанам, ночным клубам, морским местам отдыха, накопить капиталишко, вернуться через пару лет сюда, к дочери и матери, миллионершей. И остатки дней жить-не тужить.
Досужие подружки нашептывали «утки» о сексуальных сверхприбылях. Мол, стоит молоденькой, красивенькой даме оказаться «за бугром», так капитал себе быстренько сколотит раздеванием в ночных барах.
Нужно лишь быть без комплексов и раскованно повертеться перед супермальчиками нагишом. И валюта не заставит себя ждать. Сама посыпется. Хоть стены оклеивай.
Начиталась и наслышалась этих сенсационных слухов Альбина. Прямо зациклилась на мысли о такой коммерции. Торговать захотела своими прелестями.
И то ведь надо учесть: образования у Альбины — никакого, хилая средняя школа, специальностей, естественно, кот наплакал, зато восхитительна собой. Эротична. Влачить жалкое существование ей опротивело. Мечтать о красивой жизни никому не запретишь.
Она уже обращалась кое в какие фирмы. Ей обещали, к ней приглядывались. Английский она знала, что еще надо для старта? Виной своего падения Альбиночка считает мужа, который не смог обеспечить ее «бабками». Вот ей и пришлось искать щедрых покровителей.
7. Сергей Цурюкин, муж Альбины
— Сначала я не совсем ясно представлял, где надо искать взбалмошную супружницу свет Германовну. Причуд у нее было много, а свободного времени, чтобы их претворять в жизнь, — еще больше. Запросы женушки знал, не раз от нее слыхал, бредила заграничными барами, хотела в них стать поп-звездой. По интуиции понял: надо посоветовать полковнику Карпову, одному из руководителей группы расследования, обратиться к коллегам, в Центральный аппарат. Но они и сами не лыком шиты. Уже навели не только справки, но и установки. Меня включили в отряд захвата насильников и освобождения заложницы, стало быть, моей дурочки — Альбиночки, размечтавшейся о красивой жизни. Да, действительно, на таких, как она, делается неплохой бизнес. Ими торгуют за кордоном, как мороженым.
8. Полковник Карпов
— Кое-какие данные накапливались на некоего Пандера Нураса, торговца живым товаром. Переговоры с ним положительных результатов не дали. Он подло твердил, что Альбина, по ее просьбе, отправлена в Египет. В безопасности. Врал, конечно. Мы дело обтяпали в течение нескольких дней. Перекрыли пути отъезда и побега. Организовали обыск сразу во многих квартирах его соучастников. Сначала распустили, где надо, слух о том, что по таким-то и таким-то адресочкам будем брать контрабандистов, а сами — через черную лестницу, и ключиком, найденным у Сизовой, всколупнули запасной выход квартиры Пандера Нураса. Нас, как говорится, ждали с моря на кораблях, а мы с суши на верблюдах. Бандиты ждут нас у парадной двери, с пистолетами наизготове, а мы им в спину стволики наставили. Будь здоров!
9. Майор Сергей Цурюкин
— После перестрелки, я первый обратил внимание: бьется пленник в бездонном бауле. Распорол его и увидел в нем скрюченную свою милую и ненаглядную принцессу Альбину. С кляпом во рту, связанную по рукам и ногам. Она, освободившись от пут, бросилась ко мне на шею. Никогда не видел ее такой ласковой и благодарной. Обливалась горючими слезами и восклицала: «Прости меня, непутевая я, легкомысленная. Ложью меня опутали.»
Я ей ответил сухо, со скрытой нежностью: «Все забудь, и погоди, мы еще не всех выкурили из потайных уголков многокомнатной обители».
10. От автора
Сорвалась контрабандная переправка через границу самого ценного национального достояния — русских красавиц, истосковавшихся по собственной роскошной жизни, и лезущих в ловушки. Сошла пелена с глаз еще одной красавицы.
От изуверских многодневных пыток и насилий упитанность Альбины, конечно, пропала. Остались кости и кожа. Но и сейчас ею можно любоваться. Каждая частица ее существа были идеальны от природы-матушки.
Альбина с изящной тонкостью положила на плечо мужа свою руку с длинными пальцами, молочного цвета. Сквозь просвечивающуюся кожу в узоре проступили синие прожилки. Там, где кончались ее филигранно отточенные даже в неволе ноготки, рука чуть-чуть изгибалась, напоминая узенькую и легкую пирогу… умиротворенно плывущую по голубой тенниске обожаемого супруга.
P. S. Что касается «драгоценностей» — дешевые подделки. Фальшивки. Суррогаты, хотя и не бездарные. Автору этого рассказа представилась возможность видеть то, потускневшие: жемчуг, перстень, колье, прочие копеечные презенты.
11. Окончание «Пикантной истории»
На поверку оказалось, Альбина не отличалась мужеством и поумнела от страха. Изнуренный, растерзанный, трусливый вид красивой женщины говорил о многом.
Муж с коллегами отважно защитил ее. Супруга чудом выскользнула из лап истязателей. Зато Сергей снискал милость своей «госпожи», которая в прежние времена разговаривала со своим благоверным ворчливым и задиристым тоном. Держала первенство в семье.
Сейчас красивая женщина стыдливо и кротко прятала блестящие глаза. Лицо выражало только доверчивость. Это трогало Сергея, привлекало. Он бережно обогревал жену мускулистыми руками. Тихую, ласковую, продрогшую.
Потом они вдвоем ехали за своей дочуркой. Этого хотела Альбина. Она твердо и быстро, словно боясь, что ей будут прекословить, сказала Сергею, что ей с ребенком незачем больше оставаться на «чужбине». Она — не мамина, а мужняя жена. Ее молодость, красота и все будущее вместе с любовью принадлежит только ему, законному супругу.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСАВИЦЫ АВГУСТИНЫ
Романтическая повесть

1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АВГУСТИНЫ
Когда поступило сообщение об исчезновении студентки-третьекурсницы Адажевой, многие подумали: «Ничего страшного, найдется». Эксцентричная красавица Августина не раз удивляла своими выходками. Родители же надеялись на то, что в субботний вечер их дочь могла иметь немало причин, чтобы задержаться у приятелей, и по другим своим личным делам.
Однако вот и ужин остыл, закончилась программа «Новости», утро наступило, увы, Августина все не давала о себе знать.
Случалось, что дочь и раньше задерживалась, «ночевала у подруги», но об этом обычно заранее предупреждала родителей, старалась реже их волновать. Она их по-своему любила.
Мать Августины — Виктория Робертовна, окончив финансово-экономический институт, обладая обворожительными чертами лица, пленительной статью, вышла замуж за плечистого, рослого и весьма привлекательного лейтенанта Адажева Арсентия Георгиевича. А когда родилась дочь, полностью отдала ей материнскую страсть, все свое время. Виктория Робертовна не сводила с дочери глаз, боялась дышать на свою красавицу.
Арсентий Георгиевич тем временем уверенно шел вверх по служебной лестнице, сердечно опекал, берег жену и дочь, вознося ослепительную, неотразимую красоту обеих.
На исчезновение дочери, которую боготворил безмерно, полковник Адажев отреагировал решительным образом: поднял в «ружье» отдельный саперный батальон, коим командовал. И воинская часть оперативно прочесала улицы и окрестности города.
Августина вела самостоятельный образ жизни. Круг ее интимных знакомых не ограничивался студентами. Девушка была связана своими интересами, свойствами характера и привычками с образом жизни той среды, которую уже не в шутку называли «богемой».
Зналась студентка-третьекурсница вне института преимущественно с актерами, музыкантами, художниками и поэтами, так как сама в сочинительстве стихов была не безгрешна. Родители давно опасались, что дочь позаимствует у некоторых своих «кумиров» своеобразный беспечный и беспорядочный образ жизни. Станет женщиной легкого поведения, кокоткой.
Теперь, если все эти факты вместе взять, нетрудно понять, почему не на шутку всполошились на этот раз мать и отец Адажевы.
Дочь собиралась замуж за своего однокурсника Максима Верстакова. Жених в любую минуту мог наведаться. Что ему говорить? Где Августина? С кем?
И мать, и отец хорошо знали, что время «летучих» поцелуев у дочери прошло. Если их чадо вздумало последнюю ночь «подарить» кому-то из своих прежних дружков, то это полбеды. Хотя такая мысль была противна Виктории и Арсентию Адажевым.
Однако более неприятным представлялось то, что кое-кто из прежних близких приятелей, оставшихся, как говорится, с носом, мог из мести жестоко и коварно отомстить ей. Эта мысль туманила рассудок и жгла сердце. В порядочность дочери они все-таки верили.
Поиски девушки продолжались, и они не представлялись напрасными: у парапета набережной, почти у самой воды, солдат саперного батальона Джемал Далайламов обнаружил косынку и правую туфлю Августины.
Воин не сомневался, что вещи принадлежат именно ей, так как девушка частенько приходила в клуб саперного батальона на танцы. Несмотря на присущий ей снобизм, она обожала танцевать с солдатами. И вообще вела себя с ними запросто. Допускала поблажки настоящим мужчинам. Однажды Джемал, вместе с дружком, сержантом Юракеляном провожал ее, даже имел удовольствие поцеловать в щечку красавицу. Это приятное для сапера событие случилось у порога ее дома.
Августина принадлежала к числу особо привлекательных «мисс», с изысканно-утонченным вкусом, манерами, кругом занятий, друзьями. Этого в части никто не оспаривал. Многие солдаты напропалую, хотя и тайно, влюблялись в дочь своего командира. Их восхищали точеная фигурка, веселые голубые глазищи, игривые кудряшки темно-русых волос, изумительной белизны лебединая шея, безупречные черты лица.
Отпугивал лишь ее искрометный, парадоксальный юмор. Казалось, ей чужды общепринятая логика и здравый смысл в суждениях. Своими насмешками она доводила кавалеров до шокового состояния.
В институте у Августины не было отбоя от претендентов на ее руку и сердце.
Известно, что студенты — отчаянные ловеласы, но даже самые разборчивые из них замирали, когда проходила мимо эта девушка. Некоторые пытались объясниться в любви, но не многие удостаивались чести быть ее избранником хотя бы на вечер.
Обиженные были готовы растерзать Августину за пренебрежение к ним и высокомерие. А девушка в ответ лишь презрительно и насмешливо бросала таким женихам вслед: «Чего захотели: чтобы я любила всех!». Говорила это и подругам, иронически ухмыляясь.
И вот теперь ломай голову: не с местью ли связано исчезновение «форсливой» девушки. Жажда мщения беспощадна особенно у элитных мальчиков, Они могут намеренно причинить зло Августине, чтобы отплатить ей за обиды, причиненные их уязвимому самолюбию.
Это, пожалуй, одна из версий милиции. С такими предположениями соглашались и сами родители.
Теперь о косынке и туфле. Они мало о чем говорили: ни помятостей, ни повреждений, ни пятен крови. Никаких следов борьбы, насилий. Лишь туфля имела небольшой ожог. Впрочем, это могло произойти еще до происшествия. В любом случае это были вещественные доказательства для следователя.
Но витала, как говорится, другая версия в воздухе, невольно заставлявшая задумываться, настораживаться и даже недоумевать. Такое состояние вызывала удивительная и поразительная информация, которая стала методично и упорно смаковаться в средствах массовой информации.
В последние недели газеты города заполонили статьи об инопланетянах. Кто-то вроде бы их видел, а то даже и общался с ними, кого-то они, якобы, пытались водворить в свои летающие корабли. Но самое большое впечатление производили рассказы «очевидцев» о том, что живые существа других миров охотятся за красивыми молодыми женщинами и решительно-категорически похищают их. Назывались даже имена двух не то трех чересчур прекрасных девушек, которых уже отправили на другие планеты.
И все же, что случилось с Августиной на самом деле?
2. ВИНОВАТ ЛИ НЛО?
На последней лекции Августине поступила записка. Писала подружка Эмма Бабкина. На кусочке бумаги передавалась просьба прежнего ухажера, который желал видеть «несравненную Дульсинею» в каком-нибудь укромном уголке города. Погулять и посудачить. Последний разок. На прощание. Тот якобы уезжал и навсегда покидал благословенный город. Чего проще было отказать притязаниям того, кто ей и прежде порядком надоел! Но то ли от скуки, то ли из интереса услышать нежные слова от кого бы то они ни исходили, Августина соблаговолила пожертвовать часом-другим для встречи с одним из самых горячих своих поклонников. Хотя была уверена, что кроме заверений в пылкой любви, умоляющей просьбы не выходить замуж за Максима, а взять в мужья его, итальянца, сына миллионера Джованни Шпагетти, она ничего не услышит.
Августина побрела после занятий за город, к месту назначенного свидания. Осенний холодок быстро сковывал сумерки. Девушка зябко поеживалась, проходя мост на правый берег широкой реки.
И тут произошло то, чего она никак не ожидала. Над ее головой стремительно спускался летательный аппарат. С первого взгляда он напоминал огромную воздухоплавательную бочку, которая осторожно приземлялась, двигаясь наискось. А потом этот удивительный предмет, окруженный гирляндами огней, завис метрах в пяти от девушки.
Если бы тогда спросили девушку о ее состоянии, то она, пожалуй, выразилась бы только двумя словами: «Почти шок». Августина не могла пошевелиться, стояла ни жива, ни мертва, будучи загипнотизирована неожиданным и выдающимся видением.
Далее все происходило в считанные секунды, когда не остается времени на обдумывание своего положения. Из светящейся бочки выплеснулось что-то наподобие руки и схватило Августину, впрочем довольно мягко, и втянуло внутрь «объекта».
Августина в замешательстве даже не ощутила, что потеряла косынку и туфлю. Затем сознание ее отключилось. Больше она ничего не помнит. Только как в тумане заметила, что ей давали что-то понюхать, отчего голова ее отяжелела еще больше, тело стало вялым, расслабленным, почти безжизненным. Она погружалась в летаргический сон.
Видел ли все это Джованни Шпагетти? Ведь на свидание с опозданием приходят только девушки. Итальянец, возможно, перепугался небесных пришельцев, бросив любимую девушку на произвол судьбы. Да и что он мог сделать, если от летательного аппарата исходил сильный ветер, который сдувал все на своем пути? Был ли кто-нибудь очевидцем происшествия?
Отца Августины в тот злополучный вечер беспокоил еще один случай. Надо же было такому произойти, что из его воинской части сбежал в самоволку сержант Юракелян и до сих пор не вернулся. Такое в ту пору редко случалось. Известно стало, что самовольщик позвонил дежурившему на КПП Далайламову. Словно задыхаясь от обилия впечатлений, перемешанных с испугом, сержант успел выкрикнуть в телефонную трубку всего две фразы: «Я тут такое видел, такое… Доигралась красавица Августина, дочь нашего полковника!». Значит, воин кое-что заметил?
А в то самое время, когда родители Адажевы не находили себе места и милиция строила да проверяла свои версии, а солдаты-саперы рыскали по городским закоулкам и окраинам, выполняя указания комбата, Августина, доставленная летательным аппаратом на тихую, зеленую лужайку, просыпалась от принудительного сна.
Возбужденная пережитым, всплывшим сразу же в сознании, она стала озираться по сторонам. И все больше холодела от испуга. Где она? Неужели на другой планете? Или на Земле? Вокруг та же мягкая трава, зеленые кипарисы и пальмы, слышен невдалеке шум морского прибоя.
Пока она думала-гадала, на какую планету забросила ее судьба, почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. А через секунду Августина была буквально ошеломлена новым видением. Крайне удивило, поразило и даже озадачило ее то, что в двух шагах от нее стоял незабвенный, набивший, как говорится, в зубах оскомину Джованни. Он нежно и самодовольно ухмылялся.
«Не дьявольское ли это наваждение, — в сердцах заскрипела хорошенькими зубами Августина, — не продолжение ли это сна, не обман ли чувств, не призрак ли? Ох, как я ненавижу этого пижона».
Однако надо отдать должное и другому. На фоне солнечного морского берега эта улыбка производила приятное впечатление, впрочем, до тех пор, пока кавалер не начал говорить тоном, не терпящим возражений. Мотивы были все те же — сближение:
— Наберись терпения, выслушай меня, золотце. Теперь-то ты должна стать моей благоверной, женушкой. Довольно славиться красотой там, в России, прославься здесь, на берегу Адриатического моря. Надеюсь, понимаешь ситуацию или прояснить. Ты похищена. Так поступал верховный Бог Зевс. Уж, разумеется, ты сильна в греческой мифологии. Совсем недалеко то место, где пребывал он — Олимп. Когда Богу Богов кто-либо нравился, Зевс похищал того. Итак, сударыня, вы прекрасная моя пленница. Но ни у кого никакого выкупа за тебя я не потребую. Сам готов дать любой. Ну, как? До твоего сознания дошла ситуация? Милая, ты моя, только моя!
И хотя Августина все это слушала почти с открытым ртом, не переставая надеяться на кошмарный сон, однако вскоре сообразила, что ей не до шуток и расслаблений. Нотки великовозрастного юнца устрашали.
Что надо делать? Ну хороша же и родная подружка Эммочка Бабкина. Растерянность и замешательство уступали место здравой логике, рассудительности:
— Где моя косынка и туфля? Немедленно верни меня к маме и отцу. Неужели ты не соображаешь, что там сбились с ног в поисках пропавшего человека? Тебе несдобровать. Ах, какая круглая дура. Расщедрилась, пошла к нему на последнее свидание, попрощаться, он, видите ли, уезжает. На чем ты меня сюда доставил? Говори немедленно… А я-то здесь вожу глазами, поражаюсь и умиляюсь, думаю, что НЛО домчал меня на другую планету. Где я? И что это за «неопознанный летающий объект», которым ты привез меня сюда? Гусар несчастный!
— Обычный вертолет, моя прекрасная госпожа. Он вполне сошел за НЛО. Могу, как будущей обожаемой супруге, поведать маленькую деталь. Этот вертолет стоил мне большой валюты. Так что не советую выпендриваться и быть слишком высокого мнения о своей персоне. Не форси. Тебе суждено стать моей женой. И тут ничего не поделаешь. Чем раньше сговоримся, тем лучше для тебя. Поддержи мое желание. И не зли меня. Давай сменим тему беседы.
— Негодяй, как ты смеешь такое себе позволять, — выкрикнула в сердцах прекрасная девушка, переполненная негодованием. Хотела подыскать еще посильнее слова, чтобы оскорбить бранью похитителя, да призадумалась.
Августина решила пустить в ход хитрость. Самым уместным в такой ситуации было притворство с многозначительными намеками. Наблюдая за самодовольной, ухмыляющейся физиономией «разбойника с большой дороги», она перешла на мирный разговор:
— Ты думаешь, что все на свете можно купить за валюту? Ошибаешься!
— Спокойно, детка, не надо лишних эмоций. Когда ты осмотришься, то сообразишь, что потеряла, а что нашла.
— Кроме горя и страданий — ничего не приобрету с тобой. К тому же мне нравится жить на родине.
— Преждевременны отчаяния, крошка. Давай я поцелую тебя в изумительную щечку, в алые губки, как делал с удовольствием раньше, и все твои переживания, ужасное настроение улетучатся…
— Нахал, идиот, — не сдержалась Августина. — Тебе придется отвечать за хулиганство, грабеж…
— Опять ненужные эмоции. А выглядишь потрясающе. Такую люблю еще больше. Горящий взор…
— Чем ты меня одурманил? У меня болит голова.
— Обычный эфир… Но не в этом дело.
— А в чем? Я хочу все знать. Слушаю внимательно. Постарайся, просвети. В чем же соль?
— В спектакле. В том, как я виртуозно с помощью Бабкиной разыграл сценарий твоего похищения. И всего-то эта акция мне обошлась в какие-то несчастные сто тысяч долларов. Да я готов за такую обворожительную супругу миллион выбросить на ветер. Можешь назвать адрес и я перешлю, кому скажешь, еще девятьсот тысяч зелененьких. Кстати, признайся, остроумная идея пришла мне в голову с этим НЛО. Вспомни, сколько было статей в местной прессе о том, что похищаются красивые молодые леди опускающимися на землю неопознанными летающими объектами. Автором статей является сей господин. — Шпагетти гордо ткнул пальцем себя в грудь. — Пресса с моей легкой руки сделала свое дело. Уверен, что сейчас у тебя на родине идет молва о том, как инопланетяне похитили великолепную студентку-третьекурсницу Августину Адажеву. Наверняка уже объявились и очевидцы этого события. Так что вряд ли тебя долго будут искать. Для всех ты — в космической дали.
— «Негодяй», — хотела еще раз выкрикнуть со злостью и ненавистью к презренному похитителю Августина, да прикусила язык: надо найти силы и попытаться дальше притворяться миролюбивой, хотя и подавленной нежелательным событием. С коварным похитителем стоит держать себя поушлее и посообразительнее. Но что делать? Как переиграть Джованни?
В институте Августина училась легко, хорошо усваивала без особой зубрежки все предметы. Преподаватели ее любили не только за красоту, но и за способности. Особое предпочтение девушка отдавала двум предметам: иностранным языкам — испанскому, английскому, немецкому — и географии. Плещущееся рядом голубое и, наверное, теплое море, распростертое над головой солнечное ясное безоблачное небо, окружающее кипарисы, виноградники, пальмы — все говорило о том, что богатый и шустрый однокурсник Августины Джованни Шпагетти доставил ее в одну из южных стран, скорее всего к себе на родину. А там, в далеком русском городе не находят себе места отец, мама, ее любимый Максим. А уж, если быть точнее, то немножко эгоистичная, при всех обстоятельствах жизни больше думающая о своих интересах, Августина о родителях вспоминала во вторую очередь. «Боже, Боже, — точно с электрическим током проносились мысли в голове загнанной в тупик девушки, — неужели Шпагетти принудит меня стать его женой, женой этого противного жирногубого самодовольного иностранца?». Ей неприятно было даже вспоминать о том, что она, польстившись на сверхдорогие подарки, когда-то с ним целовалась, и обещала быть ему верной. «Ну уж нет, — решительно тряхнула своими кудряшками Августина. — Черта с два удастся миллионеру меня купить. Еще Есенин писал: «Мы в России девушек весенних на цепи не держим, как собак». А от этой экзотики меня тошнит».
Между тем Джованни, весьма довольный своей изобретательностью, не сомневался: русская голубоглазая и душевная, когда надо, девушка в его апартаментах, в его роскошной обители будет через час. И тогда заговорит по-другому. Лимузин с шофером расположились под зеленым откосом. Требовалось лишь дать сигнал водителю и невеста будет силой перенесена в машину, как птичка в клетку.
Августина смотрела во все свои изумительные глаза на похитителя, искала выход, а еще пыталась побороть в себе отвращение и прочие неприязненные чувства к самоуверенному «макароннику». В сознании ее проносились возможные варианты бегства. Надо драпануть, но как? Не обратиться ли в полицию? А стоит ли? Если все здесь покупается и продается, то и полиция давно такими миллионерами, как Шпагетти, куплена. Значит, заявлять туда бесполезно. Студентка находилась в полной растерянности.
Случайно повернув лицо к морю, девушка увидела причаливающий к берегу небольшой катер. Моряки шумно перекликались друг с другом. К сожалению, язык, на котором бормотали на катере, Августине был не известен. Однако по говору можно было определить, что язык итальянский, в котором она почти ничего не разбирала, кроме «чао», «си», «парлете итальяно» и некоторых других ходячих выражений.
3. ВПЕРЕД, К МОРЮ
Она приподнялась. Любопытно было бы узнать, на чем собирается Джованни отвезти к родителям умыкнувшую невесту? Может быть, те ничего не знают?
Под горкой стоял, сверкая никелем, отличный автомобиль. Девушка придвинулась к ликующему от успеха Шпагетти. Она старалась оттянуть время поездки во дворец богачей. Августина давно уже нащупала у себя в кармашке кофты флакончик, успела осмотреть его и поняла, что ей второпях сунули снотворную жидкость, — ту, которой усыпили в вертолете.
Появлялась маленькая надежда на успешные ответные действия. А что, если пустить ее в ход тем же, путем, по тому же сценарию? Надо только притупить бдительность кавалера, «кандидата в мужья» и обуздать пылкое воображение южанина.
Августина стала энергично и горячо обдумывать, как все это половчее сделать, а в отношении Джованни притворно сменила гнев намилость. Молодой человек понял ее покладистость по-своему. Шпагетти радовался тому, что любимая девушка одумалась и зачарованно слушает его о перспективах будущей счастливой жизни. Казалось, в сердце девушки таилась к нему любовь.
Воодушевленный, парень заливался соловьем:
— Августина, мы всегда будем друзьями. Разве душе плохо в таком райском уголке нашей планеты? Осмотрись: ты стоишь на благодатном Апеннинском полуострове. Признайся, разве ты не мечтала побывать здесь! Представь, там, чуть дальше, — итальянец сделал взмах в сторону причаливших один за другим к жемчужному берегу рыбацких баркасов, — там, за горизонтом, воды Средиземноморья. Разве не бредила ты со школьной скамьи этими краями?! Не забывай, что имя у тебя итальянское. Королевское величие у тебя заложено с пеленок. Уверен, станешь королевой, если будешь рядом со мной. Ты готова путешествовать? В семи милях отсюда вечный и лучший город мира — Рим. Если захотим, мы, немедля, с тобой взберемся на самую высокую точку Европы — Монблан. Увидишь собственными глазами Везувий. Разве ты не желаешь посмотреть обитель Богов?
Шпагетти прервал свою горячую речь, чтобы дать возможность высказаться очаровательной пленнице, которая находится в нескольких минутах езды от его великолепного стокомнатного особняка, окруженного оливковыми деревьями, маслинами, абрикосами, роскошными цветами.
Однако девушка молчала, делая вид, что поглощена его рассказом.
Шпагетти так и понял: невеста оценивает свои перспективы. С душевным подъемом он продолжал:
— Отдыхать мы будем на острове Сицилия. Там у моих стариков великолепная вилла. Впрочем, Сардиния тоже годится. Мне обещал папа купить там особнячок, как только я обзаведусь семьей. Чувствуешь? Клянусь честью, ты станешь достойнейшей супругой миллионера, а значит, будешь купаться в роскоши. Это в переносном смысле. А в прямом — будем плавать в реках По, Тибре, озерах Гарда, Комо, Лага-Маджоре. Ответь, что, этого для счастья мало? Ты любила меня. Начнем все с начала. Сравни — может ли это дать тебе Максим, несчастный футболист? Все, чего он добился, — это стал капитаном институтской футбольной команды. Потом — простой учитель.
При напоминании о любимом друге тоскливо сжалось ее сердце. Чтобы не вскрикнуть от отчаяния, она низко наклонила лицо и закусила губу. За нелестный отзыв о ее самом дорогом человеке, ее солнышке, девушке хотелось залепить пощечину этому бессовестному итальянцу. Августина еле терпела краснобайство наглого обманщика. С кончика ее языка вот-вот мог сорваться дерзкий ответ. Грубость.
Но она снова сдержалась. Игра требовала выдержки. Пусть упивается снобистскими рассуждениями выродок. Блеф — его слабость.
Она взглянула на автомобиль, стоявший под откосом. Машины Августина водила первоклассно. Отец научил ее этому ремеслу: у нее был собственный «Жигуленок». Шестое чувство подсказало ей, что этот лимузин может сыграть роль ее освободителя из плена. Она пока не знала, как все произойдет. В мыслях лишь появлялось намерение. Замысел против ухажера.
Что же касается жирногубого миллионера, то он своим бахвальством ей надоел. Хотелось наброситься с кулаками на него и закричать: «Дорогой мой подлец, да иди-ка ты к черту со своими радужными планами! Никто тебе не давал права распоряжаться чужой жизнью. Проклятие заслужил от меня».
В поисках подходящего момента она легла на траву близ шалаша, закрыла глаза. Джованни тотчас присоединился к ней, лег навзничь. Несколько мгновений он смотрел в лазурное небо и, наконец, блаженно закрыл глаза, наслаждаясь верой в успешную акцию. Цель достигнута. Оставался пустячок.
Еще не отдавая себе отчета в своих действиях, Августина осторожно поднесла флакончик с эфиром к мясистому носу Джованни. Он не понял, в чем дело, глубоко вдохнул аромат леса, перемешанный со снотворным эликсиром. Несколько секунд оказалось достаточно для того, чтобы Шпагетти сладко захрапел. Звуки известили девушку, что ее вероломный «хозяин» спит богатырским сном. Злоумышленник посрамлен.
Затащив его в шалаш и переодевшись в его одежду, Августина теперь не теряла времени, действовала быстро и ловко. Нельзя упустить и секунды.
В карманах куртки она обнаружила несколько монет, цепочку, ключи, маленькое зеркальце, разные безделушки, к которым имел пристрастие сын миллионера. Но главное, нашла студенческий билет Белужского пединститута на имя третьекурсника Джованни Шпагетти. Пригодится.
Им стоило воспользоваться, тем более, что разница лишь в фамилии, остальное все относилось и к ней.
Августина отползла метров на сто от шалаша, встала на пригорок, чтобы ее заметил шофер, и взмахом руки пригласила водителя к себе. Тот хлопнул дверцей кабины, начал подниматься вверх, к кустарнику, а девушка, наоборот, оврагом, шустро спустилась к дороге, плюхнулась на водительское сидение лимузина и стремительно стала действовать.
Мотор работал, нужно было только выжать сцепления, включить скорость и рвануться вперед, к лазурному берегу. Авось боевая удача ждет ее?
Шофер в растерянности поднял руки, увидев мчавшуюся к морю свою машину. Впрочем, он привык к идиотским штучкам «птенца голубой крови» и, присвистнув, сел на бугорок, ожидая, чем все это кончится. Про себя назвал юнца ублюдком.
Сидел он долго, пока не понял, что оскандалился и не получил крепкую затрещину от воспрянувшего ото сна хозяина, которого не раз величал неласковыми словами. За глаза.
4. ПОБЕГ С ПОЛУОСТРОВА
Рыбаки знали, что недалеко от берега, в уютном местечке, располагается сверхкомфортабельная загородная резиденция миллионера Шпагетти. Но многие вообще не видели богача в лицо. И когда к причалу на сверкающем автомобиле подкатил отпрыск миллионера, они от удивления даже выронили из своих мозолистых рук весла, а кое-кто умолк на полуслове от замешательства, присел, на чем стоял.
— Эй, на шлюпках, или на лодках, как вам там!.. — подделываясь под родовитого Шпагетти, развязно прокричала по-английски Августина в мужском одеянии. Она не церемонилась. — Кто прокатит меня с ветерком и свистом, тот может завтра прийти к моему родителю на виллу за благодарственным чеком, отец не обидит. Вознаграждение будет что надо и гарантировано.
Сердце девушки бешено колотилось. Показалась ли она естественным отпрыском миллионера? Для нее сейчас не могло быть большего счастья, чем вырваться с чертова полуострова. Обрести независимость от изверга, так бессовестно умыкнувшего ее.
Ей казалось, что Джованни уже сообщил в полицию и ее ищут, чтобы арестовать. Она все еще не могла вдохнуть свободно, не чувствовала облегчения.
Однако новое испытание ждало девушку. Ее речь не произвела на рыбаков нужного впечатления. Они попросту ее не поняли, хоть и поперхнулись от увиденного. Тупо уставились на «молодого человека».
Для Августины же медлить было противопоказано. Она резво, излишне непринужденно прыгнула в огромный баркас, проворно сунула рыбаку золотую монету и указала рукой в открытое море.
— О-о-о! — только и мог произнести не такой уж твердолобый итальянец и с живостью завел мотор. Ветерок ударил в лицо. Чтобы не растрепались волосы, беглянка плотнее заправила их в шпагеттовскую шапочку-кепочку. Незаметно перекрестилась.
«Подальше, подальше отсюда! — твердила, как заклятие, Августина. — Аллюром от низкого коварства».
Увидев мало-мальски безлюдный берег и причалившую к нему солидную шхуну, девушка знаками дала понять рыбаку, чтобы он ее здесь высадил. Сердце ее дрожало, когда она представляла, что же будет с ней дальше. С кем ждет знакомство и кто ей поможет?
Предательски подкашивались ноги. Кружилась голова. За истекший день она переполнилась столькими впечатлениями, что не всякий выдержал бы эти испытания. А теперь и новые тяжелые мысли словно кипятком ошпаривали душу: повлияет ли побег на желанное избавление? Где найдет себе пищу?
Снова вспоминала родителей, свои мечты стать первоклассной переводчицей. В который раз подумала о Максиме. Пыталась представить, что делает он без нее? Верен ли ей? Принимает ли шаги к ее поиску?
В совершенном изнеможении вышла русская студентка-третьекурсница на новый неизведанный иностранный берег. Первое, что она решила — обследовать привлекший ее внимание корабль. Он оказался пустым. Она и хотела этого и боялась. Вскоре девушка услышала храп, а затем набрела на спавшего мертвецким сном пьяного вахтенного матроса.
Одна рука мореплавателя повисла на штурвале, вторая протянулась к палубе. Откуда-то доносилось до слуха бульканье кипящей воды. А когда Августина открыла дверцу камбуза, обдало запахом вареного мяса. Из кастрюли, стоящей на газовом горящем примусе, валил пар. Вода выкипала. Августина по-хозяйски, спасая от пожара команду и шхуну, выключила горелку. Что за команда обитает на подозрительном плавсредстве, небрежно стоявшем у ветхого пирса?
В здоровом организме девушки проснулся звериный аппетит. Она еще раз посмотрела, надежно ли перекрыла газ, и проворно вытащила ножом кусок варева, прикинув, можно ли его съесть?
Держа мясо на ноже, как на вертеле, она спустилась в смежную маленькую каюту. Ей нравилась не только пища, хорош был для самообороны и перочинный с длинными лезвиями нож. И еда связана с ним.
Доев баранину, сложив нож и автоматически опустив его в карман брюк, на всякий случай измазала себе лицо и униформу сажей, морским илом, Августина побродила по каютам, прикорнула к чему-то теплому и задремала. Она понимала, что ее ждут бессонные ночи.
5. НА СУДНЕ ПИРАТОВ
Проснулась от шума. Горланила возвратившаяся с гулянки команда, которая, похоже, отменно попраздновала на берегу. В иллюминатор заметила поднимающихся на корабль по трапу несколько подвыпивших матросов. Среди них выделялись чубастый и верзила в разорванной тельняшке.
Переговаривались по-английски.
— Поль, — обратился верзила к чубатому моряку средних лет, — я пообещал Марии завтра прийти к ней на свидание. Мне совсем не нравится твоя затея. Куда ты торопишься? Нам что, мало взятых на абордаж трех посудин? И это за неделю. Давай порезвимся. Красотки обожают лично меня. Иначе к дьяволу пиратство, если нельзя пожить пару дней, после крутых неприятностей, в свое удовольствие.
— Джо, не нарывайся на резкость, — строго гаркнул чубастый моряк, видимо, капитан. — Ты давно торчишь у меня костью в горле. Можешь катиться ко всем чертям! Без тебя управимся. Я только что вас всех вытащил из дерьма. На берегу — постоянные конфликты.
За моряка по имени Джо заступился низкорослый крепыш. Засучивая рукава серебристой рубашки, он миролюбиво произнес:
— Не рви нервы, Поль. Зачем серчать? Счастье изменчиво. Что нас ждет этой же ночью? Мы можем напороться на каравеллу, которая окажется нам не по зубам. И нас отправят либо в пучину, в царство Нептуна, либо на электростул. Не резонней ли прокутить сначала то, что звенит в карманах, а потом рисковать? У меня уже есть две дырки в брюхе. Не желаю третью. Чует сердце — близка моя смерть. Ох, матушки.
Чубастый требовал подчинения. Доводы подельников не принимал во внимание. Еще человека два увлеклись спором. Высказывали свои точки зрения.
Препирательство закончилось в пользу упорного капитана. «Базар» не перерос в скандал. Капитана, ясное дело, побаивались. Он не давал шустрой братве своевольничать, производил впечатление более рассудительного и целенаправленного пирата — главаря шайки морских грабителей. Вид его был трезвый. У единственного. Похоже, он знал меру гулянкам. Водка и женщины его привлекали в меру. Он лишь мечтал о накоплении награбленного богатства. Очень мало времени отводил стоянкам у берега.
Загремела на корме цепь. Сумерки сгущались. На несколько секунд, чтобы осмотреться, зажгли кормовые огни и тут же их погасили.
Корабль медленно, точно на ощупь, выплывал в открытое морское пространство. На верхней палубе послышалась возня. Пиратское судно чуть не подмяло какую-то рыбацкую лодку. Ловки и лихи бандиты.
Все существо девушки затрепетало снова. Августина поняла, что опять влипла в неприятность. Незнакомый корабль оказался для нее мерзким капканом. Теперь прежние похождения показались ей пустячными. В отчаянии она даже подумала, что лучше быть рядом с Джованни Шпагетти, чем отдать себя на растерзание бандитам.
Очень быстро те заметили в каюте незнакомца. Молча, по-пьянке не отдавая себе отчета в том, как к ним на шхуну пожаловал непрошеный гость, они уставились налитыми кровью глазищами на нового пассажира. Кто-то ехидно произнес: «К нам пожаловал принц Датский».
Августина искала выход. Не выдавая, что она женщина, и то, что знает английский, она панически залопотала:
— Шпрехен зи дойч?
Верзила в порванной тельняшке (следы потасовки на берегу в составе удалой пьяной команды) схватил незнакомца за подбородок и яростно завопил, обуреваемый самыми разными подозрениями:
— Какого дьявола ты здесь притаился? Кем подослан? Чумазый призрак!
— Это от однорукого Билли Скота! — крикнул догадливый крепыш в серебристой рубашке. — Я его уже где-то видел. Этот гаденыш оттуда…
Капитан изучающе всматривался в незнакомца и отвратительно скрипел зубами. И вдруг сменил гнев на милость. С упреком сказал окружавшим подельникам:
— Это жалкое существо от Билли Скота? Вы все перехватили лишнего в кабаке. Птенца приняли за шпиона. Грязнуля просто перепутал посудины. Нам это дерьмо не помешает. Мы ему поручим самую черную работу, а когда надоест — выбросим акулам. Им тоже надо чем-то питаться. Мы его отправим к тем несчастным, которых стукнули у Гибралтара. Царь морского пространства ждет от нас еще жертву, иначе не сулит хорошего промысла.
Капитан снисходительно наклонился над Августиной и бессердечно пообещал «подаянию»:
— Поживешь до утра. А потом высадим там, где похоронили своих верных приятелей Кленда и Франсиса. Отпевать их будешь, пока с тобой не расправятся гюрзы. А если не они, то будешь лакомым кусочком для дикарей из племени Яро Черный Коготь. Ведь мы обещали им время от времени доставлять говядину. Из милости и сострадания.
Ах, этот злодейский корабль! Надо бы хитрить с капитаном, усыпить его лестью, угодничеством. Но где взять запуганной студентке сил?
Августину обступили разъяренные пьяные пираты. Одни с удовольствием загоготали, как на пруду гуси, другие начали ругаться нецензурными словами и говорить, что этот «сосунец» подослан Клипсоном, чтобы навредить». Кто-то, более трезвый сказал, что нечего вспоминать старого Клипсона, прежнего капитана судна, так как он уже покоится на римском кладбище.
Главарю команды появление на корабле постороннего было совершенно невероятным, и он снова стал остолбенело впиваться глазами в Августину-юношу.
— Вахтенный, — крикнул в сильном потрясении капитан. — Кто на вахте? Где Гайд? Пьянствует? Долго я остолопа терплю, но с сегодняшнего дня пусть убирается вон. Колли, рассчитай Гайда, выгони его со шмутками на берег. Он нам всем осточертел. А ты, козлик, подойди-ка ко мне, — обратился к Августине нарочито елейным голоском капитан, — не бойся скользкой палубы. Да, у нас ее хорошо драят. В любом кубрике все блестит. Вижу, мясо дожевываешь? Значит, побывал на камбузе. Отравы не насыпал в котел? Нет! Хорошо. А видел, какой чистюля, аккуратист наш кок? Чумички, котелки, вилки, ложки, миски, медные ручки — все надраено, горит. И вкусно готовит. Сегодня мы налопались на берегу, в ресторане, ты можешь подчищать кастрюли. Ешь мясо, макароны, пей компот. Ну, а теперь иди ко мне, расскажи о себе, кто ты, зачем пожаловал? Если будешь послушным, глумиться над тобой не собираемся.
У Августины перехватило дыхание: что, если они распознают в ней женщину? Она обомлела, прислонилась к стене кубрика. Все старалась забиться в угол.
От страха, что ее растерзают пираты (фактически бандиты), поплыло перед глазами. С мучительным напряжением она думала, как ей сопротивляться в случае чего?
Оттого, что неудобной была поза и затекли ноги, она неестественно покачнулась и сползла почти в шоке на пол. Да так и осталась сидеть.
Матросы взяли непрошеного гостя за шиворот куртки, выволокли на верхнюю палубу, привязали к стойке фальшборта. Кто-то Августину окатил водой из парусинового ведра, потом стал промывать шваброй. Моряки звонко гоготали. Резкие отрывистые крики заполнили палубу корабля.
После того, как ее по приказу капитана отвязали, веселье и смех утихли. Корабль стал выбираться из маленькой бухты. Августину загнали на ют.
Острым форштевнем судно, без отвлечений и помех, шустро, расторопно резало спокойную поверхность воды, устремившись вперед, чтобы разъяренно взять очередную жертву на абордаж, осуществить схватку старинным способом: подойти вплотную, перепрыгнуть через борта, оккупировать приглянувшийся встречный корабль, ограбить его, прикончить тех, кто сопротивлялся.
Словно призрачный, корабль напоминал сказочного «летучего голландца», с той разницей, что по легенде тот не приставал к берегам, а этот время от времени причаливал к ним, но встреча, как и с «летучим голландцем», в открытом водном просторе предвещала морякам большое горе, если они не соблюдали предосторожность. Августина стала понимать это и в который раз оборвалась ее нежная, но уже не доверчивая душа.
Все дальше за кормой оставался калейдоскоп береговых огней, изумительно красиво и очень тревожно отражавшихся в воде.
Пираты прильнули к фальшборту и всматривались в густые сумерки. Их интересовали встречные суда, особенно частных кампаний.
Работа у пиратов шла на удивление споро. На глазах у Августины они так ловко взяли на абордаж какое-то встречное судно и устроили там погром, что Августина и глазом не моргнула. Несколько минут дела — и все ценности с того корабля пираты перетащили в свои трюмы.
Быстрота и дерзость, с которыми бандиты орудовали, ее потрясали. Боясь стать соучастницей пиратства, она уже была рада любому избавлению, даже высадке на необитаемом острове.
В этой части ее желание совпадало с планами разбойников и с прихотью капитана. Они дождались нужного момента. Едва рассвело, верзила взял Августину под мышку, и, как котенка, выбросил у неизвестного берега. Не умей она плавать, тут бы ей пришел конец. С кормовой части палубы пираты наблюдали…
Когда Августина ступала на песчаный берег, судно скрывалось вдали, чтобы там, в бушующем море, молчаливо настигнуть новое мирное судно, разгромить и ограбить его. Убить каждого, кто окажет сопротивление или заявит о Международном праве. Сцепление с «неприятельским» кораблем и рукопашный бой проходили по высокому классу.
А русская девушка стала осторожно пробираться по крутому склону, заросшему высоченной травой, кустарником, в поисках жилья, еды, добрых людей.
Где она, какое новое местонахождение? Как выбраться в любую цивилизованную страну, чтобы договориться о возвращении домой? Ответы на эти вопросы были для нее существенными. Надо понять!
Слава Богу, географию она знала и любила. Неужели она на берегу Гибралтарского пролива? Если так, то это территория Марокко, а противоположный берег — испанский. Августина вспомнила характеристику пролива. Длина шестьдесят пять километров, ширина в самом узком месте не более четырнадцати.
Если стать повыше, то в ясный день можно увидеть Испанию.
Забыв на секунду о своем отчаянном положении, девушка даже смогла на несколько секунд приятно удивиться и ущипнуть себя за ухо. Не во сие ли это все происходит? Впрочем, ей никогда еще не было так страшно. Вполне дойдешь до галлюцинаций.
Эх, надо перебраться на противоположный берег. В Испании с ее знанием языка она чувствовала бы себя, как рыба в воде, в своей стихии. Только этот путь приведет, казалось, к спасению.
* * *
Искать долго причины Августининой беды не приходилось. У всякого свои напасти. Настроение девушки портили женихи. В них была вся загвоздка. Они приносили ей сначала радость, потом — неприятности. Каждый ею покинутый создавал девушке препятствия, помехи, затруднения и что угодно другое. Не признавал ее свободной любви. А девушка всего лишь перекочевывала от него, мирно, без вражды, не желая ссор, к другому.
Выходило так, что она не могла вольно распоряжаться собой. Сразу же начиналась вокруг нее суета. Отвергнутый парень строил каверзы, плел злые интриги, пытался выставить Августину не в лучшем свете, затевал подвохи.

Если она больше не желала сближения, перестала отвечать кому-то взаимностью, разве сердцу прикажешь? Зачем с мольбой или с угрозами искать ее расположения?
Один идиот разлегся под дверью аудитории института и не выпускал всю группу студентов, пока Августина не разрешила ему ее проводить с лекций домой, второй тупица во время поездки в село на уборку картошки преследовал ее, бренча под ухом на гитаре и все выпрашивал свидания.
Третий болван каждый день ей на домашний адрес присылал клятвенные письма, звонил по телефону и обещал застрелиться (заявляя, что у него есть оружие), если Августина не станет его женой. Четвертый дурак каждое утро ждал ее у крыльца дома и сопровождал, как собачка, до самого института.
Но самые страшные были те, кто запугивали и угрожали и с этой целью подкарауливали ее. Один глупец подстерег ее у Каменного моста и стал кричать с пеной у рта, что она «тварь подзаборная», не знает законов близких отношений, но скоро узнает. И обещал подзудить своих ребят, которые опозорят, дадут Августине выволочку.
Полно было тех, кто обещал ее избить, убить или задушить. Шпагетти оказался среди тех, кто вынашивал планы ее похитить, и осуществил свою мечту.
Мятежно, полная тревожных предчувствий, бежала ее студенческая жизнь. Возмущение кипело в сердце на парней. Потому что, если были осложнения, то из-за них. Хотя считалась большим баловнем судьбы.
Неужели это только в нашей стране такой уровень развития у мужчин? Когда же они приобщатся к современной мировой культуре, избавятся от устарелых понятий — дикости и варварства? Когда цивилизуется их мозг и достигнет нужного уровня развития?
Только дураки могут рассуждать так, как они: «Ты не имеешь права разлюбить!». Увы, они сотворили коварство. Августина из-за своих принципов любви, нарушая колорит близких отношений, которым упивались ее партнеры, капитально пострадала, а, возможно, все это будет стоить ей жизни.
6. НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕРЕГ, ИЛИ ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Совсем рассвело. Августина осмотрелась. Такое было впечатление, что к узкой полоске песчаного берега примыкал кусочек саванны. Далеко, у горизонта, виднелся темно-зеленый лес, словно стена, поднимающийся до небес. Рядом простиралась густая труднопроходимая слоновая трава, в которой росли одинокие деревья и почти среднерусские орешники.
Показалось огромное дерево — баобаб. Августина обошла вокруг широченного ствола: «Ничего себе!».
Вспомнив, что плоды его питательны, она стала сбивать их и лакомиться, утоляя голод. Но она сама была настолько беззащитна, что могла стать жертвой любого хищника. Аппетит какого-нибудь тигра неуемен. У самой же сильного желания есть не было.
Что ей делать дальше? Чего ждать? На какую милость надеяться? Разве спрячешься в джунглях за баобаб? В какую сторону податься?
Полная безысходной тоски, она весь душный день провела у пролива. Вдали проходили корабли. Одни внушали ей доверие, в других — чудились пиратские судна.
Единственное, что мало-мальски утешало, так это то, что она неожиданно нашла в кармане перочинный нож, который удачно умыкнула у разбойников.
Прежде всего вырезала себе тонкую, но прочную остроконечную палку и пошла с ней, как со шпагой. По траве бойко шастали низкорослые дикобразы длиной с полметра. Спинка и бока их, покрытые иглами, сверкали от водяных капель.
Они близко подбегали к Августине и с любопытством изучали новую «соседку». Греющиеся на песке змеи вытягивали головы и угрожающе шипели. Орлы парили в безоблачном небе, наблюдали за девушкой с высоты, высматривали наживу. И ожидали ее.
За знойным днем наступал прохладный вечер. На маленьком пятачке суши, куда забросила ее судьба, она не увидела за прошедшее время ни одной человеческой души. Это ее некоторым образом огорчало, все больше терялась надежда на спасение. Но радовало другое: тигры и леопарды тоже пока не встречались на ее пути. Вечерело. Близилась ночь.
Тени деревьев быстро густели, сумерки все плотнее сковывали влажнеющий ночной воздух. От жары и духоты не осталось и следа. Набирал силу ветер. Потом побережье застонало от урагана. Прикидывая, как бы укрыться от грозной стихии, Августина прошла довольно приличное расстояние и очутилась у горы, каменисто и отвесно сбегающей к морю.
Скорее всего она проделала путь от берега пролива к берегу Атлантического океана. Гибралтарские воды оставались справа. Злобная и коварная масса воды с грохотом разбивалась о скалы и шипящей пеной обратно сползала в необъятное клокочущее пространство. Секущие брызги взлетали занавесью.
Короткая южная ночь быстро проходила, а океан продолжал стонать, словно раненый зверь. Огромные черно-белые птицы с мясистыми наростами на голове, как у петухов гребни, панически горланили, точно прощались с жизнью. Сбивались в кучу.
В какой раз девушка ощутила себя гибнущей. Теперь на маленьком пятачке Северной Африки, казавшейся такой притягательной, романтической за школьной и студенческой партой, и сиротливой, бесприютной здесь. Так хотелось домой!
Ее била нервная дрожь. Вот-вот — и с ней мог случиться обморок. А шторм перерастал в шквал. Августина не могла устоять: ветер сбивал ее с ног. Она буквально стала ползать в поисках укромного уголка, затишья. Перемещалась с трудом, наугад.
В это время раздался громоподобный треск, повергший девушку, и без того перепуганную, в оцепенение. Она приподняла от земли голову и с ужасом увидела, как шквал ветра вдребезги разбил о скалы какой-то корабль.
Погибающих и спасающихся людей не виднелось. Скорее всего, команда заблаговременно оставила судно. С пустым кораблем жестоко расправлялась стихия. Занавес воды походил на густой дождь.
Прошло не более получаса. Точно насладившись побоищем, немилосердный шквал так же быстро утих, как и поднялся. Когда Августина ясным днем осмотрела останки корабля, то догадалась: это была та шхуна, с которой ее пираты выбросили на безлюдный берег. Неказистое плавсредство получило свое.
Природа сама расправилась с разбойниками, но Августине не стало легче. Оставшиеся в живых пираты с часу на час могут появиться рядом с Августиной.
На глаза попалась довольно широкая сцепка из корабельных бортовых шпангоутов. Девушку осенила изобретательская мысль: эти прочно скрепленные доски можно вполне использовать в качестве лодки или плота. И перебраться куда-нибудь морем.
Полдня она провозилась с находкой. Кусок борта, разгромленного безжалостной стихией корабля, был что надо. Сооруженный плот Августина перегнала к самому узкому месту пролива и подготовилась пуститься хотя и не в кругосветное, но близкое к этому путешествие. Вроде бы четко начинала мыслить.
Ей надо было во что бы то ни стало, спасая свою жизнь, преодолеть Гибралтарский пролив и ступить на берег Испании. А там через дипломатов — и на родине.
Вопреки здравому смыслу, она осмелилась после недолгих колебаний на штурм пролива. В нем она уже плавала по злой воле пиратов, почему бы не попробовать снова, теперь уже по своей?
Сердце бедной девушки переполнилось показной храбростью. Она подналегла на самодельные весла и, как истинный моряк, взяла нужное направление с поправкой на ветер и течение.
Увы, из этой затеи ничего путного не вышло. Наоборот, сомнительный вояж: еще больше осложнил путешествие и приближал бедствие. На середине пролива хозяйничал такой ветер, что он без труда изменил курс самодельного суденышка и за короткое время вынес к устью пролива и — в океан.
Превратности судьбы! Невозможно было и представить, что жизнь Августины можно изменить еще к более худшему того, что она испытывала. Неожиданных неприятностей вроде бы и неоткуда было больше ждать. Что могло быть хуже того, что с ней уже случилось? Просчет больше не случится.
Еще утром она так думала, а теперь вот, увы, неслась на своем утлом, непрочном, убогом суденышке в открытом океане не то на юг, не то на север, вдоль африканского или европейского побережья, или ее уже направляло к берегам Америки?
Никаких расчетов она применить не могла: всюду, куда хватало взгляда, сверкали на закате солнца бескрайние просторы пока что тихой воды.
А что с ней будет, если поднимется шторм, свирепый ураган, циклон? Впрочем, ее плот не сможет вынести даже легкого морского ветра баллов на пять-шесть. Как вышло все несуразно.
Она утонет бездарно и никто никогда не узнает про ее одиссею — богатое событиями странствие.
Несколько раз ей казалось, что на горизонте показался корабль. Но то ли это были мнимые точки, мираж, желаемое принималось за действительность, то ли морские суда шли другими курсами, пути их не пересекались. Не расстройство ли переутомленного мозга? Не кажутся ли ей спасительные суда?
Все, что у нее было из острого оружия, — это перочинный нож. Иногда бедной страннице удавалось нанизать на него проплывающую беспечную океанскую рыбешку и съесть ее сырой. А была гурманкой!
7. ДЖУНГЛИ
Среди ночи Августина задремала. А когда открыла глаза от толчка, то нимало удивилась: ее импровизированный «корабль» застрял на мели. Присмотревшись, она увидела невдалеке темнеющий берег. Веслом достала дно. Глубина была до колена. Спустилась ногами с плота и осторожно, находя ощупью твердый грунт дна, потащила за собой плот к берегу.
«Куда ее занесли океанское течение и горькая судьбина?» — думала огорченно и подавленно невольная путешественница. Новая земля, как и прежняя, встретила ее напряженным безмолвием. Судя по массивным зеленым зарослям, начинавшимся сразу за узким песчаным берегом, кружащимся над головой диковинным птицам, несносной жаре в раннее утро, она опять сошла на забытый Богом и людьми клочок земли какой-нибудь экваториальной страны. Цивилизацией здесь и не пахло.
Сделав несколько робких шагов в направлении к деревьям, Августина поняла, что попала в джунгли. Вот уж где встреч с леопардами, тиграми, пантерами не миновать.
И снова каждая минута несла смертельную опасность, таила гибельный риск. Жизнь человека в джунглях ничего не стоит: пустячная добыча для свирепых диких чудовищ.
Когда подошла к ближайшему дереву, чтобы взобраться на него и обдумать свое положение, то перепуганно поняла, что она не этом экзотическом месте не одна. Однако всмотревшись в живое шустрое существо, скачущее по веткам, как обезьяна, она увидела на самой верхушке баобаба нагую девочку лет десяти, которая не только ловко срывала плоды дерева, но и выполняла роль впередсмотрящего сторожа.
Как моряк на мостике, она вглядывалась в даль водной глади — шторм утих, океан замер, превратившись в блестящее и гигантское полированное пространство, — и, похоже, либо ждала своих сородичей с морского промысла, таких же как она черномазых дикарей, либо несла вахту на случай появления белых разбойников, о которых немедленно следовало предупреждать родное племя типа «Мумба-Юмба».
Зоркие глаза дикарки давно следили за появившимся неаборигеном. Малышка спряталась за кроны деревьев, затем точным, быстрым прыжком оказалась на соседнем баобабе. Обладая завидной физической сноровкой, девочка, точно белка, соскользнула на землю и стремглав бросилась, без оглядки, наутек. В чащу леса. Только пятки сверкали.
Нетрудно было предположить, что чернокожая девочка припустилась оповестить взрослых сородичей. Дозорная малышка четко вела наблюдение за берегом, откуда местное племя всегда ждало опасность. Теперь гонец принесет им замысловатое известие.
За дни приключений Августина набралась не только страху, но и сил, ума, духу, что как-то от невзгод окрепла. Это была ее новая жизнь, а разумный человек быстро приспосабливается. Все старое, беспечное, когда можно не задумываться о последствиях своих действий, быть необремененной заботами о хлебе насущном и своей безопасности, словно не существовало и даже стало стираться в памяти.
Ниспосланные ей страдания — не господом Богом, а бестолковым, спесивым сокурсником Джованни делали ее выносливой, готовой преодолевать трудности, закалили тело и душу. И все-таки иногда казалось, что сердце не вынесет новых испытаний. Сознание окутывала темень. Искажалось течение мыслей.
Полностью заглушить ощущение беды было делом невозможным. Как бы мужественно ни сносились невзгоды. Августина жила только тем, что ждала их конца. Тягостно текло время. Неужели здесь, где-то у самого экватора, не лучшим образом наступит финал ее злоключениям, неужели бедствие ее молодой, красивой жизни неминуемо и нельзя ничего предпринять для своего спасения?
Иногда нарастающая безысходность положения заставляла отчаянно думать: какой смысл дальше жить? Что толку лишний день-другой изводить себя мучениями? Зачем поминутно взбадриваться эфемерной надеждой? Много ли радости дадут ей лишние часы биения сердца перед верной гибелью? Жуткие странствия не предвещали благополучного исхода. А в пустынной душе, казалось, не оставалось ни капли свежих сил.
Тогда Августина с перехватившим дыхание испугом ощущала такое свое состояние, словно попала в беспросветное, темное подземелье, которому нет конца.
* * *
От безоблачной прошлой жизни в душе оставалось только тяжелое, мрачное уныние. Она теряла последние капли самообладания. Чахла в томлении.
Предметы, явления — все сушило, стесняло дыхание. Августина, влюбленная в жизнь, раньше знала, что всякая ее заветная мечта осуществится. И нет печали! От этого была счастлива, беспечна. А еще и тем, что она милая, юная, благополучная. Вольное, удачливое, цветущее создание. Эпитеты самого лучшего свойства.
Теперь ее будущее жестоко разрушил и уничтожил безумно-чванливый Шпагетти. Как нужно было подвергнуть его самого суровому наказанию! Августине хотелось сгноить подлеца по суду. Расправиться с негодяем. Притянуть его даже к трибуналу.
О предательской роли Эммы в этом спектакле предстояло выяснить, если удастся выбрести отсюда.
Сердце ее, бесполезно ожесточенное, еще могло помышлять о мщении, хотя у самой жизнь висела на волоске. Впрочем, чаще она всем прощала. В мыслях.
Каждым обостренным нервом девушка чувствовала дыхание последних дней своего существования.
Отец шутливо, охотно и уверенно любил повторять: «Если нет надежды, то ничего не добьешься». Но вера в спасение сейчас, в окружении кровожадных тропических тигров, львов, удавов, буквально кишащих в траве, на деревьях, жить среди дикарей и бандитов представлялась заурядной химерой. Она оставалась без привычных пищи, одежды, жилья, гигиенических удобств, близких людей, мирного сна, на краю света.
В этой глуши быть растерзанной — нет ничего проще. А между тем события следовали своей чередой.
Вскоре из густой чащи низкорослых почти непроходимых тропических лесных зарослей вышла группа взрослых людей — загорелых до угольной черноты. Каждый абориген — с незатейливой повязкой из сухого тростника у пояса, с копьем наперевес. Не оставалось сомнений, что это люди из какого-то дикого местного племени.
Августина с любопытством и совсем без страха наблюдала за коренными жителями этого кусочка земли, находящего где-то в тропиках. Может быть, они не варвары, а ее спасители? Не с жестокостью, а с сочувствием отнесутся к ней.
А те в свою очередь с интересом изучали незнакомца, выплывшего из океана. Подобные «образцы» людей им попадались, но всякий раз вызывали неприязненное отношение. Чужаки для них являлись и любопытными и враждебными лицами. Местное племя не раз страдало от них.
Расстояние между дикарями и Августиной было не более сотни метров. Какие они устроят сюрпризы девушке, переодетой в мужчину? Августина, обратив внимание на то, что аборигены миролюбиво смотрят на нее, стала подавать им знаки, чтобы они подошли к ней: тихому, кроткому существу.
Дикари не шелохнулись, застыли у опушки. Выжидали. Осторожничали. Стояли смирно и боязливо, привыкали к ниспосланному океаном человеку. Августина упорно продолжала давать им понять, что она расположена к ним, готова сама им помочь, заодно просит у них доброты и сочувствия.
Те неотступно держались опушки джунглей, остерегались белолицего пришельца. Двое чернокожих отделились от группы сородичей и скрылись в зарослях. Вскоре прибыло пополнение — еще с десяток дикарей с повязками у пояса и копьями наперевес.
Но воинственного духа не выказывали. Напротив, чтобы показать незнакомцу, что у них нет дурных намерений, чернокожие положили копья на траву. Один из них, рослый, мускулистый, статный, сделал шаг вперед и властным, энергичным жестом приказал Августине подойти к ним. Это, похоже, был их вождь, предводитель. Дело продвигалось к знакомству.
8. В ГОСТЯХ У ДИКАРЕЙ
Когда Августина упивалась романами приключенческо-географического жанра Жюль Верна, Роберта Стивенсона, повестью «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, то перед глазами убедительно рисовались дикари — люди с первобытной культурой, полные невежества, живущие в непролазных дебрях. Однако эти лишь на первый взгляд предстали стеснительными и нелюдимыми. Они не от всех прятались.
Августина медленно, преодолевая высокую траву, пошла к дикарям, те двинулись к ней навстречу. Соединились. Вместе расселись на ровной лужайке, недалеко от опушки леса. Хмурость сошла с лиц.
Вождь произнес несколько фраз. Августина ничего не поняла и стала сама предлагать несколько языков для общения. Сначала произнесла по-немецки «Шпрехен зи дойч?». Ноль внимания. Затем по-английски «Дю ю спик инглиш?». Та же реакция. По-французски «By парле франс?» — и на это выражение не отреагировали люди из племени. Пожимали плечами. Чувствовалась неловкость.
Наконец, вождь, похоже, нашел какой-то вариант. Он послал ту самую девчонку, что недавно на баобабе сидела в карауле, в чащу леса. Оттуда она вернулась с пожилым, удивившим худобой, аборигеном. Он знал много языков и сошелся с Августиной на испанском. «Тощий» стал переводчиком для вождя племени.
Выяснив все, предводитель пригласил незнакомца, «потерпевшего крушение», отобедать. Гористой тайной тропой ее повели аборигены на стоянку своего племени. В гости. По ласковому обычаю.
Полянка посреди леса представлялась уютным временным местожительством чернокожих, у которых судьба была под стать Августининой. Затравленные преследованиями, гонениями, они опасались любого белого человека. И такой же стал их смысл жизни: в душевной тревоге, беспокойстве, преодолении опасностей. Глухо и пусто скитались в одиночестве.
Несколько бамбуковых шалашей образовывали поселок. У дикарей было слабое укрытие от ветра, дождя, зверей. Вождя звали Оло. По его приказу женщины разожгли костер. На металлические прутья — вертела — нанизали куски мяса и приспособили его над огнем. Невдалеке протекал ручей, из которого кухарки племени зачерпнули в глиняные кувшины прозрачной, словно хрустальной, родниковой воды.
Работу выполняли молча, с интересом поглядывая на приятного с виду незнакомца. Похоже, чувства у них были развиты, как у всех людей на земле. Жарили мясо недолго и почти сырое подали к столу.
Начало еды сопровождалось специальным ритуалом торжественности, возвеличивания Богов. Дикари оказались слишком религиозными. Оло распорядился, чтобы все присутствующие отвесили поклон гостю. У вождя было очень много жен. Августина насчитала тринадцать. После скудной трапезы каждая из них по приказу вождя поцеловала «незнакомцу» ноги.
Августина попыталась запротестовать и через переводчика объяснила, что для нее это нежелательная процедура, не принятая в цивилизованном обществе, но Оло энергично покачал головой, не соглашаясь с доводами гостя. Сухо сказал: «Халла!». Надо.
Самая большая несуразность ждала Августину тогда, когда предводитель через переводчика передал, чтобы незнакомец выбрал себе на ночь одну из жен вождя, которая немедленно пересядет к нему.
Во избежание новых осложнений и гнева Оло, Августина указала на самую молоденькую из его жен — девушку лет пятнадцати. Оло уступил гостю свой шатер, сделанный из кожи зверей. Шкуру леопарда расстелили на пол. Ревниво следил за уединением «парочки». Блюсти традиции — первое дело племени.
Что было делать несчастной путешественнице в комической ситуации? Она обняла красивую юную дикарку по имени Зилио, словно сестренку, ощущая, как нервно бьется в щупленькой груди сердечко и, уставшая за трудный день, тотчас заснула. Шкура была мягкой, пьянил свежий лесной воздух, успокаивал.
Рано утром племя ушло на промысел, Августина перепугалась оттого, что рядом с шатром громоподобно ревело. Ломались, трещали ветки и стволы деревьев. Из чащи, бодая хоботом насекомых, выходил слон. Слепни и оводы гнались за ним кучей, а слон брыкался и мотал головой, отбиваясь от паразитов.
У ног здоровенного «царя джунглей» путался игривый детеныш. Джунгли были набиты животными. Там каркало, ухало, стонало, визжало. Сильные не давали пощады слабым — заглатывали несчастных. Над непроходимой чащей стоял словно плач несчастных животных и растений.
Все это вызывало отвращение, дрожь, оторопь.
Едва слон исчез, вслед за ним, разгребая сильными лапами заросли, пробирался тигр. Он, рыча и фыркая, яростно разрывал мощными клыками куски мяса, вынюханные у затухшего костра. Через минуту направился к шатру, в котором ни мертва, ни жива находилась Августина, готовая покинуть гостеприимное случайное пристанище.
Оскал тигра был страшен. Приоткрыв пасть, выпятив клыки, зверь, мотая головой, устремился к своей жертве. Девушка вытащила из кармана нож, готовая вонзить его в немилосердного зверя, но тот, потоптавшись на месте, попятился и скрылся в лесу. Передумал или испугался? А что делать студентке?
Будучи бывалым путешественником, девушка ловко выскочила из шатра. Знакомая тайная тропинка вела ее опять к океану, туда, где осталсявытащенный на песчаный берег ее бесхитростный плот.
Благополучно пройдя опасный путь через джунгли, Августина увидела причалившее к берегу небольшое судно. По трапу сходило десятка два матросов. Они браво распевали на английском языке удалую песню про атамана. На шатком эрзац-пирсе остался один матрос, похоже, дежурный. И ненадежный. Тоже исчез.
9. ОПЯТЬ МОРСКИЕ ГРАБИТЕЛИ
Августина уже имела опыт укрываться в пиратских судах. Едва ли испытанные ею в жизни минуты общения с морскими грабителями она когда-нибудь забудет. Но у девушки не было другого выхода, как только снова столкнуться с ними. Рисковать? Подвергать себя опасности? Да, а как иначе?
Как только опустели палуба корабля и пирс, она тем же путем, по трапу, нырнула в судно и стала искать такой надежный, заброшенный отсек, где можно уверенно на время спрятаться. Затем в любом цивилизованном порту можно сбежать от головорезов. Как это сделать — теперь учить ее не надо.
Отчаянные пираты, конечно же, время от времени причаливали к берегам Испании, Италии (Августина теперь была и ей рада), Аргентины или Бразилии. Да, где угодно. На любую страну соглашалась девушка, лишь бы благополучно вернуться домой. А сейчас — подальше от дикарей. Веру к ним она не испытывала. Вождь, уложивший вечером Августину спать со своей самой красивой женой, мог на утро пооригинальничать, ради своей причуды, и разрешить соплеменникам полакомиться белокожим пришельцем.
Лучше не продлевать знакомства с аборигенами и не стать жертвой их своевольности и капризов. Пока при каждом новом зигзаге странствий Августине везло. Будет ли благосклонна и дальше судьба?
Девушка разыскала на судне, в грузовом трюме укромно спрятанные мешки и ящики с, похоже, награбленными вещами и скрытно разместилась среди них. Место было настолько уединенное, что вряд ли достал бы ее случайный взгляд какого-нибудь члена пиратской команды.
Августина замаскировалась и сидела тише воды, ниже травы, готовая ко всему: и к пререканию с хозяевами судна, и к сотрудничеству в рамках закона, и к гибели в океанской пучине, и к новой принудительной высадке на незнакомом гористом или топком берегу.
Растревоженное сердце горькой путешественницы болело. По-прежнему беспомощная, она вынуждена отдаваться воле обстоятельств. Августина прижала руки к груди и взмолилась Богу: «Господи, Боже, у меня стынет кровь, как представляю, что меня может ждать. Отведи от меня напасти. Дай, Господи, чтобы я на этот раз не сбилась с дороги, не приведи Боже, к новым злоключениям, испытаниям. Ты все знаешь и все можешь. Упаси, Господи, сделай так, чтобы не оборвались мои лучшие годы…»
В трудную минуту люди всегда вспоминают Всевышнего спасителя. Было отчего и Августине обратиться к нему. Мыши и крысы забегали по ее ногам. Она с гадливым чувством взгромоздилась на ящик и сидела не шелохнувшись, пока не услышала частые оружейные выстрелы, и снова содрогнулась.
На берегу пираты развлекались. Они охотились не только на тигров, леопардов и прочих животных, шкуры которых дорого ценятся, но и гонялись ради потехи за дикарями из племени Оло.
После нескольких часов, проведенных на берегу, пираты, довольные тем, что отменно попотешились, возвращались на родное судно. Приближалось время отлива. Его нельзя было упустить, чтобы не застрять здесь. На палубе раздались грохот и охрипшие голоса. А у Августины от страха выступили и задрожали слезы. Сверху доносились дикие, свирепые возгласы. Пираты дерзко спорили между собой. Корабль — блеклый, неказистый — отвалил от суррогатного причала и бросил якорь в кабельтове от берега.
Как и на первом пиратском судне, здесь тоже не присутствовало единодушие команды с капитаном, который, кстати, в противовес тому, рассудительному, менее взрывному главарю морских разбойников, был резок, вульгарен, болезненно самолюбив, упивался властью, подчеркивал свое «я».
По каждому случаю промашки подчиненного он бесновался, впадал в зловещую ярость, цинично ругался:
— О, дьявол, кому я доверил дело! Эти беспардонные сопляки сведут меня с орбиты. Денис, Кит, какого черта вы отлыниваете? При первом же удобном случае я дам вам по заду коленом. Ватага, дерьмо…
К судну то и дело подходила шлюпка. Августина заняла у кормового иллюминатора с правой стороны удобный наблюдательный пост. Ей отчетливо были видны песчаная коса берега и маршрут движения лодки, в то же время хорошо слышен крик на верхней палубе. В шлюпке перевозили туши мяса.
Пальба на берегу легко могла быть объяснена тем, что пираты запасались экзотической дичью, а теперь транспортировали трофеи на корабль.
То и дело разносился над акваторией маленького рейда громоподобный голос капитана:
— Вы что медлите, проклятые недоноски? Олухи царя небесного, откуда вам знать законы экваториального климата. А я был в тех странах, которые вам, подлецам, и не снились. Запомните, прощелыги, океанские токи и ветры здесь постоянно меняются. И я не могу поручиться за то, что через полчаса мы не станем плавать вместе вон с теми животными, которые снуют под килем нашего «Эдема».
Капитану не откажешь в остроумии. В библейских сказаниях Эдем — это земной рай, где жили Адам и Ева до своего «грехопадения». Хорошенькое же эзоповское сравнение пришло на ум главарю банды. Свое судно он считал счастливым и безмятежным уголком, где можно прекрасно проводить время. Ну, просто райские кущи!
В команде были в основном послушники. Один матрос позволял допускать пререкание с главарем. Подчиненный гнусавым голосом тявкнул:
— Мы — не дети, капитан. И тоже много повидали. Не бросайся упреками. Бугров не боимся.
Сразу же тяжелые шаги главаря загремели по железной сварной палубе. Это капитан рванулся к ослушнику. Грохнул пистолетный выстрел, видать, для острастки. Над головой вольнодумца-пирата просвистела пуля, а словами предводитель разбойников, в припадке злости, добавил, как рыгнул:
— Ты мне, профура, еще пикни… Кнехт ржавый, скрипучая включина… И оно же пускается в рассуждения. Еще услышу — за ноги на мачту сушиться повешу. Чурки парусиновые.
Капитан ревел, тяжело и быстро дыша, словно взбирался на гору.
— А что я такого сказал? — заискивающе пропищал виновный матрос. — Тоже пропитаны морем, криминалом. Как и ты, мы — уголовники.
— Каналья. Попробуй мне еще кто подерзить. Бредовые ваши мозжечки. Чертовы хронические алкоголики. Ваш одурманенный мозг только и способен, что принимать очередную дозу виски. — Снова взорвался главарь. — Скоты. Прохиндеи.
Но матрос с гнусавым голосом, видимо, позволял себе вести диалог с капитаном. Похоже, их что-то связывало личное. Он парировал ему с носовым призвуком:
— Не ершись, Билли, ты же сам приказал заглянуть в ложбинку, где притаилось племя Оло, и прихватить пару дикарок. Клянусь, я за ними гонялся, но они улизнули.
— Цыц, репейник! Я тебе что велел сделать? И не трепись об этом. Если не умеешь держать язык за зубами, то тебе гнить среди кораллов. Билли слов на ветер не бросает. Обалдуи вы несусветные.
— Да мне-то что? Я хлопочу ради твоего барыша. За туземок отвалили бы еще тот куш! А чтобы их заарканить, одного часа, который ты мне дал, мало. Охладись, Билли.
— Умолкни, остолоп. И спроси у Моргана, как надо обтяпывать такие дела. Как я оправдаюсь перед Уэльтоном? Он мне дал уже задаток. Мы обещали привезти ему самых красивых аборигенок. — Бесновался атаман головорезов. — И сами не полетим стрелой, а будем болтаться на волнах, как дерьмо в проруби. Впрочем, можем проворно опуститься только на дно. Добычей акулам. Прекрасная перспектива.
Чувствовалось, что на корабле собрался отчаянный и дерзкий молодой народ, закаленный полезным для здоровья соленым морским воздухом. Эти ребята в сознании Августины сразу же стали ассоциироваться с футболистами. Краснощекие, мускулистые, длинноногие пираты, пожалуй, украсили бы любое спортивное поле. Но это так, между прочим, пришло ей на ум. Праздные мысли почти не посещали ее в тяжелые дни. Она больше думала об опасных приключениях, которые ожидались впереди. В пиратах она видела своих отъявленных злодеев, которые зверски расправятся с нею, как только ее увидят.
От крика на верхней палубе сжималось в страхе сердце девушки — невольной пленницы пиратского судна. Свирепая брань и гулкие шаги на верхней палубе, казалось, грохотали у самого уха Августины. И отдавались острой чудовищной болью во всем ее существе. Ругань могли слышать дикари, но похоже, боялись, что белые изуверы вернутся, и не показывались на берегу. Августина поняла: вместо непойманных дикарок ее судьбу могут вручить «Уэльтону». Если найдут в трюме. Капитан швырнул в воду какой-то предмет и на морской поверхности забулькало и погрузилось что-то в пучину.
И он опять разразился ругательством:
— Вот так же будет с каждым мерзавцем. Если не дураки, выбирайте: или станете на суше влачить жалкое существование, трижды проклятыми, или будете служить мне. и после навигации, абордажной джентельменской жизни предадитесь гулянке в свое удовольствие! — И через минуту опять:
— А хрена всем вам! Швали! Оболтусы, хлыщи! Дряни паршивые. Холера б вас взяла. Я вас, хмырей, сотру в порошок… Швыбры дерьмовые, собачьи.
Главарь являл собой пример отъявленного матерщинника. Обладал в высшей степени мастерством отрицательного свойства. Даже поговаривали, что в бытность его службы на каботажных судах, где-то вблизи острова Новая Гвинея, у берегов Кораллового моря, он участвовал в своеобразном состязании вульгарных на язык боцманов. Проводили такой турнир.
Нынешний атаман разбойников тогда завоевал звание «Непревзойденного матерщинника» и премию в кругленькую сумму. А приоритет его заключался в том, что нынешний главарь пиратского судна за несколько часов непрерывной ругани и мата больше других боцманов сумел послать «в мать» всех известных и неизвестных артистов, ученых, писателей и мореплавателей, включая Джеймса Кука и Васко да Гама. И, если его ту ругань опубликовать, то испепелится без огня бумага. Капитан отборно «стругал» и подельников.
Судно последние минуты стояло на якоре, готовясь отчалить в открытый океан. Корабль покачивало на образовавшейся легкой зыби.
Матрос по имени Том все гнусавил:
— Билли, нас не надо пугать и надувать. Если бы мы отсюда попозже ушли, то и сами были бы с большим наваром. Племя Оло где-то спряталось в прибрежных джунглях. Их найти — плевое дело. Нужно только время. К тому же ты обещал, что только завтра снимемся с рейда. Как верить тебе?
Капитан напористо, с раздражением, хотя более миролюбиво, ответил:
— Что ты смыслишь в экваториальной стихии? Я печенкой чувствую — вот-вот поднимется шторм. К тому же, я ли не забочусь о вас, свиньи вы поганые. Ты ползал на коленях, упрашивая меня взять тебя в команду на полнавигации. Единственный медный грош звенел в твоей рваной куртке. А сейчас?
— И сейчас я пуст, как турецкий барабан.
— Ну и дурак. Вместо того, чтобы спать с дикарками, ты бы лучше отбирал у них шкуры леопардов и слоновую кость. Спроси у Моргана, Липпи, Шварца, что они делают на берегу? Вкладывают деньги в разные банки, а не пьянствуют и не спускают валюту по кабакам. Все делают с толком, в меру. С расстановкой.
Главарь обратился к кому-то:
— Ты что жуешь? Резинку? Табак? Дай щепотку.
Вдруг все тот же гнусавый голос расторопно оповестил о ситуации на море:
— Капитан, на траверзе посудина! Чужая!
— Пускай шкандыляет, нам не до нее. Боцман, поднять якоря! Штурман, лечь на правый галс!
Раздался пронзительный свист в дудку. И сразу началась суматоха. Затопали матросы, занимая свои походные расчетные места на корабле. Зазвенели цепи, заскрипела лебедка. И хотя каждый занимался своим нелегким делом, они вместе слаженно вполголоса, для рабочего ритма, пели свою пиратскую песню:
Не моты мы, не лодыри,
Нам хочется нажить
Динары, лиры, доллары,
Чтоб в старость не тужить.
А в битве за богатство
Напомним мы чертей,
Да нам не испугаться
И тысячи смертей.
После каждого куплета сильные, резкие, молодые матросы одним тренированным выдохом подхватывали: «Ой-ей, ой-ей, ой-ей, е-е-е-еей». Но все это напоминало тоскливый лай собак.
Капитан оказался прав в отношении экваториальных подвохов стихии и всяких там океанских течений в этих местах. Быстро усиливался ветер. Главарь торопился выйти в открытый океан, так как у берега свирепый ураган куда опаснее для корабля с хорошей плавучестью, чем на просторе. Становилось прохладно, и пираты на тельняшки с лиловыми полосками надели бушлаты.
Опытным мореплавателям по надвигающимся признакам и всяким там атрибутам было понятно, что приход жестокого шторма лишь дело ближайшего времени. Вода вокруг судна пузырилась. От грозового облака к океану тянулась темная вихреносная полоса. И точно. Скоро все закипело. Океан ощетинился.
Пока шла погрузка трофеев, подготовка к выходу на океанский разлив, ветер перерос в ураган. Бедной Августине теперь предстояло ощутить его не на берегу, а на судне, куда в более страшном положении. И сердце наполнилось раскаянием. Не лучше ли было с помощью дикарей искать выход? Новый перст судьбы в ее самоотверженном скитании! Не будет ли он в самом деле роковым? Слишком плохенькое суденышко.
Буквально через полчаса после поднятия якорей и начала рейса (для Августины совершенно в неизвестном направлении) свирепые вихри уже носились над водным пространством и гнали впереди себя валуны соленой пенистой воды. Шторм нарастал с каждой минутой. Волны, большие, как горы, напирали друг на друга, клокотали, бурлили, с неимоверной силой низвергали потоки вскипающих брызг.
Их высота достигала размеров многоэтажного дома. Они своей могучей силой, словно щепку, ставили корабль буквально в вертикальное положение, как говорят в народе, на попа, фортшевнем то вверх, то вниз. Многое пережила Августина, теперь ей предстояло испытать морской смерч. Как жаль бедняжку: сколько несчастья свалилось на ее голову!
Всякий раз с замиранием сердца казалось: разломится, раздавится судно и вода хлынет из всех щелей и пробоин, заполняя отсеки, трюмы и кубрики. А там, в недрах, океанской глыбы может ждать лишь вечное царство Нептуна и Посейдона.
И выйдет, что отмучилась Августина на этом свете. И смахнула она с глаз набежавшие слезы.
А между тем, команда о ее присутствии у себя на корабле не подозревала. Девушка не без основания была уверена, что забралась в самый потаенный уголок судна. Но если ее обнаружат, то разговор с головорезами вполне может состояться: они говорили на языках, понятных студентке инфака Белужского пединститута, вперемежку то на английском, то на испанском, с хорошим произношением.
Усталость брала свое. Пригретую на тюках Августину сковывал сон. Она ему не в силах была сопротивляться, хотя и опасалась бегающих, снующих рядом крыс, мышей и тараканов. Укачивало.
Дремоту девушки прервал очень сильный удар острым углом ящика в бок, потом — в грудь. Корабль так развихляло, что он почти ложился бортами на воду. Августина, превозмогая резкую до тошноты и неприятную боль, попыталась приподняться, но трюм так наклонило, что вызвало еще большую дурноту. Было то состояние, которое предшествует рвоте.
От холода и волнения ее еще больше привело в положение бессилия, изнеможения. Голова кружилась так, как это было, когда она в компании друзей перепивала спиртного. Полакомиться одним-другим стаканчиком вина она в кругу студентов обожала. И помнила, как однажды «перебрала» какой-то заграничной дряни так, что два дня не могла встать с постели. До предела ее расслабило. Подобное головокружение испытывала сейчас.
Она сожалела, что слишком плотно позавтракала у дикарей. Тошнота не так страшна на голодный желудок. И все же ее потянуло на рвоту, горькую, противную, с резью в животе.
В эту минуту судно сильно накренилось, Августина, не успев за что-нибудь ухватиться, скатилась с холщовых мешков и тюков в какую-то яму, люк которой оказался открытым. Была в холодном поту.
Она, вся измазанная в вонючую солярку, после неимоверных усилий, выбралась оттуда. От ее, пропитанной моторным маслом, одежды исходил такой запах, что даже разбежались крысы, и перестали ползать за шиворотом тараканы. Перепуганное сердце колотилось.
Бедная Августина не ведала, не представляла того, что она — обездоленная пассажирка варварского судна, оказавшаяся попутчицей морских грабителей, — направлялась через весь Атлантический океан к побережью Южной Америки. Знай она это, то, пожалуй, и горько улыбнулась бы немаловажному для нее совпадению. Она проделывала свой дальний вояж, почти как Христофор Колумб пять веков назад. С той разницей, что великий мореплаватель был тогда главой экспедиции на высокобортной каравелле «Санта-Мария», а русская студентка исстрадалась незримой пленницей на пиратском моторном, небольшого размера плавсредстве «Эдем».
10. ЭММА БАБКИНА
В институте, пожалуй, одна Бабкина знала, где следует искать Августину. Но она по этому поводу хранила молчание. Была неразговорчивой и мрачной, чувствуя себя сообщницей неблаговидного дела, преступления. Неотступная мысль, что она предала подругу, точила и скребла душу. Стыдно было подумать о том, что случилось.
Эмма Бабкина приходила на лекции угнетенная. Она трепетала от гнетущего страха, словно осиновый лист на ветру. Приниженность стала обычным состоянием ее души.
Она тревожно ожидала, что ее тайна скоро раскроется, тем более, что сотрудники уголовного розыска как на службу в свое подразделение ходили в пединститут. Они с профессиональным опытом и навыками докапывались до истины. Искали зацепочку, которая привела бы к месту нахождения исчезнувшей.
Сыщики не пренебрегали даже слухами. Сами дали сообщение о вознаграждении крупной суммой рублей или валюты за полезную информацию. Допрашивали всех без исключения приятелей, друзей Августины. С любым из них пропавшая девушка могла делиться своими планами.
Краснея из-за трусости, колеблясь от нерешительности, Эмма Бабкина не шла к следователю. Чтобы дать признательные показания, нужны были мужество и неиспорченная нравственность, высокая внутренняя духовность. А где их взять?
Увы, с моральными качествами у современной девушки Эммы Бабкиной не все обстояло благополучно. А следователи все доискивались: не запугал ли кто Августину, не держала ли ее под колпаком, как сейчас принято говорить, какая-нибудь мафия?
Впрочем, по институту прополз темный слушок, который уловили настороженные следователи, что ее мог похитить один из прежних пылких ухажеров.
После этого в поле зрения угрозыска попала ловкая плутовка, знаменитая в институте хитростью Эмма Бабкина, лучшая подруга Августины, задушевная собеседница по амурным делам. В этой области она была авторитетом, потому что на глазах у всех ее любовные занятия всегда находились в ажуре.
Кстати упомянуть, что внешняя привлекательность Эммы разве что на йоту, самую малую толику уступала Августининой. Была чуть ниже ростом своей сердечной подруги, но так же легко, игриво и остроумно общалась со своими возлюбленными и лишь теперь утратила былую гордость и на лице отражались обреченность и страдание. Она поникла, но на время.
И еще одна подробность не могла быть незамеченной. Вызывала даже критику. У Эммы Бабкиной пропала гармония во взаимоотношениях с однокурсниками. По любому поводу она вспыхивала, как спичка, не считая нужным себя сдерживать даже в разговорах с преподавателями. При всех своих недостатках умная и добродетельная Эмма Бабкина превратилась за несколько дней в сварливую, вспыльчивую особу.
На это обратили внимание, и Бабкину вызвали на допрос. Сама Эмма словно сжалась в комок, съежилась от испуга. Но у нее теплилась надежда, что разговор со следователем будет общим. Угрозыску не под силу довести ее до откровения. Она не сделает опасного признания.
Идя на допрос, она одела новую кофту, которая особенно подчеркивала ее пышную грудь, и оголила полные, с ямочками у локтей руки, украсила белозубой привлекательной улыбкой опрысканное французскими духами лицо.
В таком виде предстала перед детективом.
11. ДОПРОС
В институте к этому моменту опросили многих студентов и преподавателей, даже вахтеров. И так как они ничего не ведали об исчезновении Адажевой, то им и нечего было умалчивать.
А Бабкина не знала методы ведения следствия. Нельзя подменить полные ответы на вопросы кокетливыми взглядами, улыбками. Нужны определенные слова. И, если их не хватает, то видны недомолвки, недоговоренности. Их на лету узрит опытный следователь, первое знакомство с которым повергло красавицу номер два в уныние.
Лет сорока мужчина в форменной рубашке с погонами майора встретил Эмму серьезно и не выказывал своего дружелюбия к симпатичной свидетельнице. Строгий вид кабинета вконец испарил храбрость Бабкиной. Пока Эмма садилась на краешек предложенного стула, плечистый, темнолицый детектив энергично перелистывал бумаги в папке. Затем от них перевел глаза, полные тоски и молодцеватости, на прекрасную надушенную, разнаряженную, пикантную Эммочку.
Он смотрел на девушку неторопливо, пристально, изучающе, характерно, как в разоблачительном кинофильме. Бабкину взяла оторопь. Прикидываться простачком бесполезно, себе дороже станет.
— Николай Спиридонович Акуличев. А вас как величать? — издевательски-спокойно проговорил детектив. — Давайте знакомиться.
И хотя Бабкина Эмма Львовна быстро выпалила о себе все родовые подробности, с этого одного вопроса она прониклась не только страхом, но и антипатией к черноголовому, скуластому и плечистому субъекту.
Утаивать что-то не имело смысла.
Эмма говорила, и слезы застилали глаза, а потом даже брызнули и отчаянно покатились по напудренным и раскрашенным щекам. А идя на встречу сюда, она долго тренировалась перед зеркалом: как будет строить глазки, с намеком улыбаться, весело вести любовный разговор.
В последнем она не ошиблась. Серьезно и дотошно следил за ответами Эммы придирчивый детектив. Следователя интересовало все: кто и когда числился любовником у Августины, с кем просто дружила, куда ходила и зачем, кого считала закадычными приятелями, и кто к ней питал вражду. Какие имела склонности, интересы, пристрастия.
А когда вышли на Джованни Шпагетти, посыпалось очень много новых вопросов, потому что следователь «захотел находиться в курсе самых тончайших черт и деталей».
* * *
В связи с поиском Августины будет уместным дать развернутую характеристику ее задушевной подруге однокурснице Эмме Бабкиной, а заодно коснуться и самой пропавшей.
Двадцатилетняя девушка была из тех, кого в пикантных изданиях неприлично, развязно называют сексуально-озабоченными представительницами слабого пола, вместо подробного, уважительного описания характеристики. Бесцеремонно клеймят их двумя-тремя некорректными словами, которые заставляют читателя лишь криво и противно ухмыльнуться.
Постараемся отойти от грубых намеков. Когда-то Сергей Есенин писал: «По-смешному я сердцем влип, я по-глупому мысли занял». Это об Эмме Бабкиной и ее подруге Августине, хотя и метафорически, в переносном значении этих слов.
Сердце Эммы никогда не пустовало от увлечения парнями, начиная со старших классов средней школы. Одну любовь она еще не могла из него выгнать, а вторая уже захватывала там позиции.
Такая же картина наблюдалась с мыслями. Все лекции напролет она «по-глупому» обмозговывала, какого ухажера оставить «с носом» на сегодняшний вечер, а к кому бежать на встречу? И знания могли бы оказаться в стороне, да выручали способности. Такого лозунга, как «Учеба побоку», к счастью, у подружек не было.
Все происходило, как стихийное бедствие. Вероятно потому, что девушки были очень влюбчивыми. Заметим о параметрах предметов их увлечений. Они четкие. У Бабкиной особенно.
Если сказать, что Эмма любила высоких парней, значит, ничего не сказать. Как раз все наоборот. Ей нравился средний рост. Она считала, что среди рослых больше глупых, а о своих избранниках она говорила «мал золотник, а дорог».
Руки имели тоже решающее значение. На мужчин в майке или тенниске она непроизвольно обращала внимание. А если кожа рук гладкая, покрытая пушком и загаром, бархатистая, мускулистая, с шевелящимися бицепсами, руки согнуты в локтевом суставе так, что выступают плечевые мышцы, придавая им изумительно красивое очертание, то Эмма буквально впивалась в атлета глазами. Воспринимала его с интересом и жадностью, чуть-чуть стесняясь того, что сама может показаться пошлой, нескромной.
И все же, с трудом управляя рассудком, она притрагивалась «случайно» к парням и замирала, испытывая сильное волнение. Чувствовала себя на седьмом небе. Вот что делали с ней мужские руки.
«Без них я не могу» — говорила подругам Эмма, вкладывая в произнесенные слова ей одной известный смысл. Впрочем, о нем догадывались.
Относится ли это к разврату? Как сказать. Повышенная возбудимость исходила от ее холерического темперамента. А если это умножить на современный вертеп вседозволенности, что и будет то, что есть.
Эммой, как и Августиной, нельзя было не обольститься, хотя Бабкина кое в чем уступала Адажевой. Но от обеих исходили покоряющие мужскую часть института притягательные силы, очарование, обаяние. А уж перед симпатичными парнями они становились воплощением, олицетворением в словах — женственности, в движениях — беспредельной грации.
Если Августину звали Софией Лорен («Развод по-итальянски»), то Эмму — Брижит Бардо («Бабетта идет на войну»). Иногда имена киноактрис путали, не зная кто есть кто.
Августина, как мы упоминали, сделала Эмму своим конфидентом, человеком, которому, ведя интимные беседы в укромных местах, доверяют секреты и тайны. Красавицы выбирают подруг себе подобных. И статью, и лицом, и благополучием, и манерой поведения. Живут душа в душу. С небольшой разницей.
Еще Эмме был нужен в мужчине соответствующий голос без гнусавости, присвиста, скороговорки, пищания, путания букв «р» и «л» типа «свобода, лавенство, блатство», не высокий, трескучий дискант, как у Трындычихи, не густой, рвущий уши бас Штоколова, или как у рычащего зверя, не крикливый тенор, не слоновый утробный рев.
Вкусы Эммы и Августины совпадали и в этом. Они положительно воспринимали голос средний по высоте, в меру раскатистый, с теплой баритоновской нотой. Мягкий, сладкий, веселый, зазывной.
От таких альтовых звуков глаза у девушек помимо рассудка наполнялись растроганными слезами. Мужской бархатистый тембр перехватывал подругам дыхание. Ласкал слуховой нерв.
Возраст мало играл роли, лишь бы мужчина носил чистые сорочки, отутюженные брюки, расписной пуловер. Был состоятелен, не связан семейно-супружескими узами. Имел достаточно свободного времени.
Однажды в институт приехал с лекцией моложавый полковник — среднего роста, поджарый, на широкой груди мундира обилие орденских планок. Эмма задала ему столько вопросов, что на все полковник смог ответить лишь в гостинице. Она даже говорила, что за солидного офицера могла бы выйти замуж, но это будет похоже на заговор против остальных мужчин. Не хотелось обижать других красавцев.
Кстати, полковник рассказал Эмме после выпитой вдвоем бутылочки вина, что однажды лекции пришлось читать в каком-то островном государстве Индийского океана, и король устроил полковнику с генералом (они были вдвоем) с дороги экзотическую парную: две молодые туземки, в одних фартучках отмывали с русских офицеров пыль мочалками.
Да, в характере и привычка девушек-красавиц существовало много общего. Они курили редко и только в своих компаниях. Преимущественно болгарские сигареты. И всегда свои. Носили в сумочках.
Духи предпочитали «Фиджи», «Ревиллона», «Ноктюрн», особенно «Сальвадор Дали». Подарочные. Тут дело принципа. Обожаемых девушек надо уважать и баловать презентами. Парням дарили одеколон «Ожен».
Обе любили смотреть эротические фильмы, порнографию — эпизодически. В видеозал входили только со своими кавалерами перед началом, при потухшем свете. Удалялись тоже в темноте, после окончания, когда еще не успевали включить свет.
Учились без троек. Достаточно способные. Надежда института. Из таких выпускниц получаются толковые, бойкие, веселые, ловкие, грамотные педагоги. Разбитные. Легко находят общий язык с учениками. Знакомые и со спортом, и с «капустниками», всегда в центре остроумного, изобретательного, сверкающего веселья. Природа одарила их и памятью, и общительностью. Интеллигентные родители Адажевы и Бабкины дружно живут с единственными дочерьми (у Эммы отец, мать, бабушка — учителя). Понимают своих отпрысков. Они — их собственное отражение.
Адажевы и Бабкины-старшие в вопросах интима пикировались с дочерьми разве что в шутливой форме. Любовный репертуар своих девочек воспринимали как должное, если не считать мелких формальностей. На этой основе были кое-какие разногласия.
Таковы скромные и тактичные портреты двух девушек с повышенной чувствительностью. Давать им характеристики уместно без всякой грубости, тем более вульгарности, незачем сгущать краски.
И вот сейчас Эмма при всем своем богатом опыте общения с сильным полом совсем растерялась перед этим властным, огромным мужланом — следователем. Со всеми признаками стандартного детектива, хорошо изученного по романам и фильмам.
На него не действовали чары красавицы номер два, он держал дистанцию, относился к ней свысока. В тоне его слов постоянно слышалась занозистая пренебрежительность.
Эмме тяжело было это ощущать. В другом случае она бы никогда не позволила мужчине задавать ей вопросы, комментировать ответы с неуважительной иронической ноткой.
Напрасно желала она кое-что стыдливо скрыть от «знаменитого» сыщика. Он своим острым всепонимающим взглядом как электрошоком до озноба пронзал бедную свидетельницу. Когда Эмма, решившись на последний шаг, как бы случайно расстегнула лишнюю пуговичку на ажурной кофточке, то следователь покрылся от возмущения испариной, запыхтел, словно паровоз, насупился, и нетактично рявкнул:
— Приведите себя в порядок, спрячьте свои прелести. Слишком отчаянно и рискованно вы поступаете.
После этого обреченная на позор Эмма все выложила детективу о том, как похищалась ее подруга Августина. Красавица Эмма Бабкина предварительно, конечно, застегнула на все пуговицы блузку.
Эмма призналась во всем, а следователь лишь пытливо и язвительно допустил уничтожающее изречение, которое вряд ли забудет Эммочка:
— Вы предали подругу, как посторонний чужеземец. Родители Августины на грани помешательства, а Виктория Робертовна в предынфарктном состоянии госпитализирована. Знаете об этом? Нет! То-то и оно-то. Вам знакомы эти вещи? — Майор вытащил из письменного стола туфлю и косынку, утерянные Августиной, когда ее затягивали в вертолет.

Это была последняя капля, переполнившая чашу страданий и раскаяния виновницы происшествия. Она нервно протянула руки, выпросила косынку, прижала ее к своему лицу и стала охать и причитать, обливая горючими слезами особо чтимую вещь. Реликвию.
— Отдайте мне ее. Господи, я сохраню косынку, как память о моей дорогой подруге. Если бы вы могли взглянуть в мою душу, то увидели бы, что за эти несколько мучительных дней она стала, как уголь.
Но мог ли отдать следователь вещественное доказательство, приобщенное к уголовному делу? Увы, нет. И он оживленно об этом ей сказал, растолковывая процессуальные законы.
— Увижу ли я когда-нибудь мою лапочку, — плаксивым голосом выражала Бабкина позднюю нежность к пропавшей Августине.
А следователь ей сухо сообщил:
— Идите. Вопросов пока нет… — И с чувством выполненного долга стал готовить дело для передачи в новые инстанции. Августину Адажеву похитил иностранец бывший студент Белужского пединститута. Картина прояснилась. И на промах Бабкиной тут все не свалишь. Опростоволосилась не столько красавица номер два, сколько номер один. Оплошность допустила, конечно, Августина, что пошла на свидание к подлому, низкому человеку. Хотя это ни в коей мере не снимает тяжкого обвинения с негодяя Шпагетти.
Истребовать, вернуть из Италии Августину можно было только через московское посольство той страны.
12. МАКСИМ ДЕЙСТВУЕТ
Становление человеческой личности связано с развитием его потребностей. Каждого человека характеризует неповторимое сочетание того, чего он желает. Люди друг от друга отличаются тем, у кого какие интересы преобладают и есть ли они у кого-то вообще. У одних их навалом, у других — сплошная инфантильность и меланхолия, никакой цели.
Чертой характера Максима было то, что он не позволял своему мозгу прохлаждаться, пребывать в тоскующей лени, а душе — в пустом времяпровождении.
Его родители, работники механического завода, пролетарии, так ему сказали: «Хочешь хорошо жить — учись. Имей побольше профессий, не там, так в другом месте найдешь свое везение и высокий заработок, достаток. Все добывай своим горбом. Тебе ждать протекций неоткуда». Кроме Максима в семье воспитывалось еще двое ребят.
Все взвесив, Максим выбрал не очень популярный среди ребят пединститут. Но сразу стал заниматься на трех факультетах: иностранных языков, физмате и спортивно-гимнастическом.
Стимулов к дружбе с девушками у него не было. Он их в интимном плане не знал. Поэтому был спокоен. Однако до поры до времени девушки его не отвлекали. Кроме одной. С первого курса ему нравилась Августина, но он не питал никаких надежд. Слишком дефицитен товар.
От самой же Августины не ускользнул незамеченным настрой однокурсника — скромного, увлеченного, спокойного капитана институтской сборной футбольной команды. Эмма называла Максима пренебрежительно-ласково «теленком».
— Что ты в нем нашла, — сокрушалась Эмма в беседе с Августиной, — зачем развращаешь ребенка? Этого несмышленыша? Держи курс на Фрэда.
Чуть позже Эмма придет в восторг от Максима, с запоздалым извинением скажет: «Не теленок — герой. Мне такой нужен. Фрэд перед ним — ерунда».
Августину все больше и больше тянуло к нему. Девушку восхищало и умиляло то, что она у Максима — первая любовь. Сначала ради причуды она забавлялась с ним, имея одновременно «настоящего парня», как бы экспериментировала, а потом и сама втюрилась, разобралась, что Максим, увы, далеко не теленок. А «настоящий парень» — туфта.
К тому же, ей надоели конфликтные расставания с элитными ухажерами, у которых постоянно возникали к ней претензии, едва она начинала увиливать от свиданий. Ее потянуло к спокойной, надежной, устойчивой дружбе, к той, что заканчивается бракосочетанием, скрепленным большой родственностью душ.
Августина была уверена и в другом: если даже она бросит Максима, тот молча, без обиды проглотит горькую пилюлю. У Максима Верстакова было развито глубокое чувство самоуважения. Он стремился к другой цели, боялся лжи, как огня. Презирал насилие над личностью. Мог защитить от болванов.
Его удар правой руки равнялся двумстам килограммам, левой — ста восьмидесяти, ног — по двести пятьдесят каждой. Спорт!
Он скрупулезно вел личный дневник, куда записывал все — для самоконтроля. Почти три года ходил он вокруг да около неприступной Августины. Мог бы, конечно, поспешно признаться в бурной страсти, как это делали другие. И он знал, кто. Для Верстакова Адажева представлялась недоступной красавицей, личная судьба которой никогда не переплетется и не совпадет с его. Он прикидывал и так и сяк.
И все-таки в сердце теплилась зыбкая надежда. Он знал себе цену и был уверен, что его заметит очаровательная сокурсница. И станет его женой.
В один из вечеров Максим после футбольного матча оказался по стечению обстоятельств около Августины. Ее постоянных кавалеров рядом не было. Они ее проглядели. Это был звездный час Максима. Он его давно ждал и взялся проводить Августину, мадонну своего сердца, до ее дома.
Боялся, что откажет, не согласится, посмеется над ним. А она весело произнесла: «Проводить? Умница. С удовольствием!».
У крыльца ее дачи (летом она всегда проводила время там) Максим, целуя руки Августине, робко вымолвил:
— Мне хочется сказать тебе три слова. Давно есть такое желание, но я трушу… Вдруг ты подшутишь надо мной? Возможно, я в заблуждении…
— Говори, разрешаю. — Августина тоже волновалась. Предчувствовала объяснение.
— Я люблю тебя.
— Спасибо. Мне радостно слышать твое признание. Я отвечу тебе чуть позже. Ладно?
Потом стиль их отношений обусловливался чистотой, целомудрием, бережностью, не понятными Эмме, но пришедшими по вкусу Августине.
Влюбленные искренне привязались друг к другу. Бурные чувства с сигаретами и вином Эмме тоже начали претить. Она пресытилась ими. Но боялась признаться себе в этом и пытливо наблюдала за Адажевой, которая головокружительно менялась к лучшему.
Августина продолжала открывать верной подруге свои тайны, хвалиться, что по Божьему велению она встретила ценного парня, испытывает к нему глубокую привязанность, дело идет к свадьбе.
Поначалу Эмма равнодушно встречала эти доклады, по-прежнему храня приверженность к преданной однокурснице. Потом в сердце Бабкиной стало неспокойно, там поселился червячок зависти.
Исподволь, постепенно в душе Эммы накапливалась злость, скверное чувство досады на то, что подруга остепенилась в смене партнеров.
Максим хорошо влиял на Августину. Та вела себя благоразумнее в интимной жизни. Но главное, Бабкина почувствовала, что этим Адажева накапливала духовный капитал, по сравнению с которым внутренний мир Эммы превращался ни во что.
Поразительно, но факт. Когда институт узнал, что Августина сделала свой окончательный выбор и стала неизменной спутницей только Максима, ее авторитет у поклонников еще больше поднялся. На нее смотрели другими глазами, не как на корчащую из себя законодательницу мод, с которой можно вести фривольные разговоры, а как на порядочно воспитанную девушку.
Это стало подтверждаться и тем, что теперь она разговаривала с нескромными парнями сухо, сдержанно, а если надо, с перцем давала им отпор.
Все это происходило перед очами «слегка» распущенной Эммы. И совсем недавно такая же была Августина. Теперь Адажева подчеркивала свою гордость и недоступность, тем самым оттеняла Эмму. Бабкина не готова была к такой неприступной строгости подруги. Эмму сначала это раздражало, а чуть позже привело в состояние полного недовольства.
Общественное мнение поднимало на высокий нравственный уровень подругу, а Эмма как бы оставалась у подножия горы. Подруга отвергла богатого Фрэда.
Это превосходство Августины представлялось как бельмо на глазу, мешало Эмме буднично делать с ребятами то, что продолжала делать, но сейчас в полной скрытности от Августины. Без напарницы жалким стало безудержно буйное времяпровождение.
Когда к ней обратился Шпагетти, она, чтобы отомстить подруге, с легким сердцем стала сводницей между итальянцем и Августиной. Помогала Джованни в его безумном деле.
* * *
Первым, кто ринулся в Москву, в итальянское посольство, был, разумеется Максим Верстаков. Казалось, он страдал больше всех. Не находил себе места ни дома, ни в институте. Но и Адажевы-старшие жили одними толками и догадками: где дочь, что с ней? Тяжелые мысли и предположения сводили их с ума, обоих свалили на больничные койки.
Даже крепкого здоровьем, сообразительного полковника подкашивала душевная травма. Все терялись в догадках. Но теперь, после допроса Бабкиной, можно было остановиться на единственном предположении.
Узнав адрес итальянского посольства, Максим двинулся к нему. У чугунной ограды милиционер не преградил дорогу Верстакову. Блюстителя порядка попросту не оказалось на месте, и влюбленный Ромео в свою Джульетту, потоптавшись на тротуаре, решительно направился в здание посольства.
Он беспрепятственно открывал дверь за дверью, проходил комнату за комнатой, роскошно обставленные и устеленные коврами. Никто его не встречал, словно дом был пуст.
Семья посла и обслуживающий персонал отдыхали после обеда. Расхрабрившийся юноша не замечал, что переступает дозволенное. Поиски невесты еще не дают ему права разгуливать по апартаментам дипломатического представительства.
Ослепленный негодованием, Максим меньше всего заботился сейчас о соблюдении Венской конвенции. А между тем жилье дипломатов неприкосновенно, и он не имел права попирать международные договоры и обычаи. Дипломатический иммунитет священен. Ревниво смотрят за этим.
Жужжали кондиционеры, словно шмели, а в остальном комнаты заполнялись блаженным безмолвием, и этот покой сбивал с толку. Максим стал рыскать по уютной безлюдной квартире. Но обратиться было не к кому. Он разгуливал как по музею.
Максим прервал свое вольное шастанье по фойе, залам и столовым тогда, когда попал в спальню жены посла. Крупного телосложения женщина сидела на низком мягком пуфе в кружевной сорочке перед трельяжем и приводила в порядок свои жгуче-черные, вьющиеся волосы. Напоминала она эфиопку или что-то в этом роде. Словом, африканку.
Женщина явно скучала. И тут словно из-под земли вырос чужой человек, молодой, пусть даже симпатичный, но мужчина, которых, в общем-то, она не дичилась, не уклонялась с такими от знакомства с учетом не только ее дипломатической миссии. Но в данном случае посторонний взгляд на ее спальное одеяние привел ее в судорожный трепет. Содрогаясь всем телом, живо подняв к шее сползающую белоснежную сорочку, с невообразимым криком она нырнула с головой под одеяло в свою постель. Остался голос арапки.
Преследуемый этим воплем, растерянный Максим вынужден был спешно ретироваться за порог спальни госпожи самого высокого дипломатического ранга. Нарушенным оказался правовой статус жены посла. Государству, которое не обеспечило иммунитет, неприкосновенность жилья дипломатов, грозили самые жестокие преследования. А чернокожие — обидчивые.
Исступленный крик о помощи взбудоражил весь казавшийсявымершим дом. С выражением ужаса на лице перед Максимом предстал сам посол: маленький, толстогубый, с не совсем ровными ногами. Вокруг мелькали тени прислуги, которых раздирающий душу крик их повелительницы поверг в отчаяние.
Посол с налитыми кровью круглыми щеками дико, безумно таращился на дерзкого пришельца, посягателя на дипломатический высокоохраняемый покой. Хозяин дипломатической обители так же, как его супруга, обладал кожей черного цвета и кудрявыми от природы волосами. Сверхчтимый его покой был беспрецедентно даже не нарушен, а растоптан.
Наконец он пришел в себя и стал что-то торопливо говорить на повышенных нотах. При этом он размахивал довольно энергично пухленькими руками, на которых в изобилии красовались перстни с камнями разных цветов и оттенков. Речь — семито-хамитская.
Максим сносно знал итальянский язык (в противовес Августине). Но здесь явно говорили по-другому и его не понимали, как и он их. Заявился переводчик и пришлось обращаться через него на русском языке. Студент Белужского пединститута с досадой и отчаянием сообразил, что попал в необычную, а возможно и сенсационную скандальную ситуацию.
Вышла из визита Максима любопытная история. Он нарушил суверенитет одного из африканских дипломатических представительств, приняв его за итальянское посольство.
Посол приказал Максиму оставаться на месте до прибытия сотрудника Министерства иностранных дел. Как ни пытался оправдать Максим пикантную ситуацию своим невежеством, незнанием правил посещения учреждения такого ранга, ему не верили. Бесполезно было извиняться и доказывать, что он не имел никакого злого умысла.
Из своей спальни вышла жена посла. Строгий черно-синий костюм подчеркивал официальность ее особы и что с ней следует общаться с соблюдением всех правил и формальностей.
Но едва она узнала, что причина вторжения Максима в посольство — его любовь к самой красивой девушке, которая «романтически» похищена, как послиха (в самом лучшем понимании этого неблагозвучного слова) приказала не только немедленно освободить юношу и считать, что он перед всеми оправдался, но и отвезти его на собственном «Мерседесе» в итальянское посольство, чтобы Максим больше не заблудился.
Жена африканского посла оказалась лидером движения в своей стране за обходительное, учтивое отношение к влюбленным. За оказание им всяческой любезности и гостеприимства. Их партия «За любовь» главным своим принципом провозглашала очень заботливое и очень ласковое покровительство сердечным тайнам женщин и мужчин.
Так Максим и наше государство ловко, удачно выпутались из самого неприглядного обстоятельства. Изнанка этого скверного визита не показалась наружу. В посольстве сами разобрались в простительной неосведомленности провинциального юноши.
Посол порвал составленный протокол о грубом нарушении дипломатического иммунитета, извинился перед вызванным из международного ведомства сотрудником и инцидент на этом посчитал завершенным.
Максим тем временем катил по московским проспектам на блистательной машине с дипломатическими номерами африканской страны в расположение итальянского посольства.
13. ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ
Теперь студент не ошибся адресом, и господин посол из солнечного государства Апеннинского полуострова принял юношу и участливо, с тревогой в голосе, выяснял подробности похищения Августины. Дипломатический представитель высшего ранга проникся сочувствием к возбужденному состоянию юноши. Он все внимательно записывал в блокнот.
С любопытством и отзывчивостью смотрел пожилой седовласый итальянец на красивого, рослого, подтянутого по-спортивному, молодого русского парня.
Почувствовав восхищенный взгляд солидного дипломата, Максим приободрился и все раскованнее докладывал суть дела.
— Ваш рассказ, — господин Максим Верстаков, — меня потряс. Мне доставляет честь не только благоговеть перед вашими высокими чувствами и смелостью, но и содействовать успеху поиска невесты, — посол говорил высокопарно, но искренне, проникновенно.
Дипломат высшего ранга тут же распорядился, чтобы сотрудник посольства, атташе, улетавший по срочному делу на родину, взял с собой, после оформления соответствующих документов, русского прекрасного, волнуемого любовью парня.
В Рим вылетели многомоторным самолетом. Через семь часов они низко пролетели над голубой водной гладью и приземлились в просторном аэропорту столицы Италии. Было раннее утро. Солнце только начинало всходить. И обещало жаркий ясный день.
Максима поселили в двухкомнатном номере частной гостиницы, расположенной у каменистого берега моря. В часе езды до делового центра столицы. Финансовых затруднений студент Верстаков не испытывал. Решение его денежных проблем любезно согласилось взять на себя итальянское посольство. Оно же изъявило желание всю поездку Максима обеспечить сопровождающим. Гидом и телохранителем на время поездки по Италии остался тот же сотрудник посольства, атташе Якоб Паньони, молодой, энергичный итальянец.
Когда Максим отправлялся в Италию, он стеснительно представлял неудобство, которое доставляет посольству, но ему были рады, казалось, все. Он никому не причинял затруднений. Ему горячо и желанно помогали разыскивать Августину.
Итальянский друг атташе Якоб Паньони оставлял скучать только на ночь. В остальные часы неотлучно был проводником Максима, неутомимо между делом показывал достопримечательности столицы своего государства и местности вокруг нее.
Очаровательная горничная была исполнительна до чрезвычайности. Она все время твердила, что в ее обязанности входит делать все возможное для съемщиков жилых помещений гостиницы, лишь бы не прогневить их. Она боялась, что хозяин ее уволит за какую-нибудь промашку, а найти «тепленькое» место в Риме очень трудно. Хотя девушка окончила престижные курсы домохозяек. И была, как говорится, не лыком шита.
Можно было понять Луизу — так звали работницу комнат, — если учесть, что на всем этаже высокой гостиницы Максим был, похоже, единственным постояльцем. Горничная предлагала то чашку шоколада на серебряном подносе, то мороженое. При этом рассказывала, что у них Данте, как в России Пушкин. И все спрашивала: что надо постояльцу?
Максим ни в чем не нуждался, а если что приобретал у Луизы, то щедро оплачивал покупки. Щедрость русского гостя приводила девушку в умиление. Она с живым восторгом любовалась Максимом и говорила, что у нее тоже есть жених, но не такой богатый, как путешественник из России. Ее парня зовут Роман, и он не имеет охоты тратить на нее лишние деньги. Он их собирает для покупки квартиры, и когда они поженятся, то будут обеспечены собственным жильем.
— Я ужасная болтушка, — признавалась с забавной чистосердечностью Луиза, — все говорю и говорю. Я вам надоела? Своими историями. Почитать Данте?
Максим искренне признавался, что от разговора с горничной имеет большую пользу, так как пополняет свой словарь итальянского языка и узнает очень много интересного об ее стране. Любит гениальные стихи.
Словоохотливым оказался и гид Якоб Паньони.
В Италии Максима поражали чистота и глубина голубого неба, а еще благоухающий морской свежестью воздух. Казалось, что он настолько прозрачен, что сияет. Максим его жадно вдыхал, запасаясь на всю жизнь, если возможно.
Каждое утро у подъезда гостиницы Максима поджидал Якоб на превосходном лимузине. Они вдвоем уже побывали и в полиции, и в прокуратуре, и во многих других местах, где могли пролить свет хоть в самой незначительной доле на адрес нахождения Августины.
14. ОБЕД У МИЛЛИОНЕРА
Солнечным, тихим днем Максим и Паньони, выбравшись в автомобиле на ровное загородное шоссе, направились на розыск отца Джованни, фермера-миллионера Шпагетти-старшего. Пока искали частное, знаменитое на всю округу хозяйство, гид с увлечением занимал гостя.
Со знанием истории Якоб повествовал о разных фактах и событиях. Он красочно рассказал о древнейших племенах, заселявших еще до нашей эры Апеннинский полуостров, о возникновении шести веков назад культуры Возрождения, о революции в Италии, народных героях Джузеппе Мадзини и Джузеппе Гарибальди.
Кстати, тут же вспомнили роман Войнич «Овод».
Автострада бежала среди кукурузных полей, цитрусовых плантаций, виноградников, светло-коричневых оливковых рощ. После нескольких часов езды машина замерла у декоративной арки, увитой дикой виноградной лозой. Она ознаменовала собой въезд в достопримечательное крупное капиталистическое земледельческое поместье.
Якоб не преминул возможности проинформировать Максима, что когда-то на этой плантации применялся труд рабов, но теперь это очень цивилизованное, высокомеханизированное имение, дающее ежегодный доход ее владельцу Шпагетти-старшему до пяти миллионов прибыли. Впрочем, до этого ли было рядовому студенту обычного русского института. Жадности не имелось.
Он и не думал примерять эту роскошь на себя. Уживчивый, спокойный юноша, без претензий элитности в своем студенческом коллективе, вполне обходился мизерной стипендией. Главное для него оставалось — разыскать Джованни Шпагетти, а через него узнать о судьбе любимой девушки. Впрочем, Августину он считал лучшей представительницей не только своего учебного заведения, не только города, но и всей России, своего Отечества. Да и всего Света.
Хозяин огромного участка земли был замечен издалека. В синем комбинезоне, крупного телосложения он вышагивал по дорожке среди рабочих, распоряжался у самоходных тележек, на которые грузили в корзинах виноград. Озабоченный, деловой, предприимчивый, общительный.
Предупрежденный о приезде необычных визитеров, Шпагетти-старший, бросив на траву рукавицы, снял солнцезащитные очки и торопливо направился встречать официальных посетителей.
Визитеров ожидало вкусное угощение, от которого невозможно было отказаться, тем более, что оба путешественника проголодались, а Максиму к тому же было интересно меню у миллионера. И он не ошибся: набор кушаний, блюд был по вкусу самого взыскательного гурмана. Впрочем, Верстаков, будучи выходцем из семьи очень среднего достатка, не мог заявить о себе, как об отменном ценителе изысканных блюд. Он ел свежую икру, фрукты, пил с тортом кофе спокойно, хотя и с наслаждением. Но его и за столом не покидала вдумчивость: что же предпримет миллионер в ответ на «проказы» сыночка.
Тот сразу же запальчиво выразил несогласие с аморальными действиями Джованни. Отмежевываясь от него, Шпагетти-старший заявил, что поможет всеми доступными ему средствами выявить место нахождения Августины. Что же касается Джованни, то, зная горячий характер отца, он вообще не попадался ему на глаза.
Миллионер обещал прекратить общение с сыном до тех пор, пока не выложит все о похищенной в России девушке. Солидный фермер занял особую деликатную позицию в отношении того, можно ли силой заставить девушку любить. И был полностью на стороне Максима. Обещал отлучить сына в будущем от учебы в России и заставить «вкалывать» на собственной ферме так, как делает он, его отец. Потакать отпрыску, значит, разрешить ему не трудиться, а сибаритничать. Нежиться за чужой счет он сынуле больше не позволит. Заверил симпатичный миллионер.
15. ОБОЖАЕМЫЕ ФУТБОЛИСТЫ И ЗЛОСЧАСТНАЯ АВГУСТИНА
Студентке Адажевой, похоже, покровительствовали святые ангелы. Иначе как объяснить то, что она была еще жива. Каких только тяжких мучений не выносила бедная девушка. Казалось, что ее обожгли языки огня самой преисподни. Она продолжала теряться в тоске неведения, как ей выбраться из кромешного ада. Каждая минута ее жизни стала невыносимой. Иногда она жадно хотела покончить со страшной маятой, уйти в иной мир, где она спокойно погрузится в вечный сон. И снова повисла слезинка на реснице. От горя.
Больше суток, притаившись в грузовом трюме, Августина общалась с мышами и крысами. Ей было крайне неловко сидеть на ящиках и мешках. Все это время она почти не спала. И все-таки, наконец-то, пиратское судно причалило к какому-то обрывистому берегу.
Наблюдая в иллюминатор за движением и тенями пиратов, она улучила мгновение и стремительно покинула опасный корабль. Берег, куда она высадилась, принадлежал далекой Бразилии.
Больше не стало у Августины необходимости скрывать свою девичью внешность. Бессмысленно маскировать сущность. Напротив, резон был теперь в другом: надо срочно преобразиться.
Русская студентка торопливо начала приводить себя, как говорится, в божеский вид. Она отмыла щеки, подбородок, причесалась, распушила волосы, а шпагеттовскую кепочку пока спрятала до лучших времен. И вновь засияло ее симпатичное личико. Привлекательно выглядели кудряшки, свисавшие над смуглым от тропического загара лбом.
Задачей номер один оставалось изыскать возможность и мгновенно заменить компрометировавшие милую девушку сандалии, брюки, куртку с рубашкой неприглядного вида.
Ей пошло во вред то, что своей потрепанной, измочаленной одеждой она выставляла себя в неблаговидном свете. Отыскивая выход из трудного материального положения, девушка старалась, чтобы на нее обратили доброжелательное внимание состоятельные люди. Она нетерпеливо хотела встретить богатых покровителей, которые бы бескорыстно и честно помогли. Сочувственно вникли в ее злосчастье.
Все, что у нее находилось в карманах, так это пиратский перочинный складной нож, несколько побрякушек (часть из них Августина раздала дикарям) и студенческий билет Джованни. И все же…
Дела у русской студентки, владеющей несколькими иностранными языками, должны были уладиться, определиться. Сердце — вещун.
Одной склонностью, прямо-таки пристрастием жизни Августины были футбольные матчи. Влекло ее к футболистам. Встречи с ними походили на свидания с друзьями. И в этом, похоже, небесные силы способствовали ей, оказывали заступничество.
Добравшись из заброшенного уголка побережья Бразилии в большой порт, она, словно с корабля на бал, попала в орбиту футбольной команды «Фламенго».
Спортивные азартные парни как раз прибыли домой с какого-то дальнего континента, где с триумфом провели серию матчей. Видно, футболисты со своим кумиром Пеле отменно поработали ногами и находились в приподнятом настроении. Под воздействием опьяняющего успеха.
Они шумно обменивались впечатлениями, весело смеялись, забавно вспоминая случаи, которыми изобиловало их турне. Для них уже стояли наготове автомашины. Они с видом уставших, но достойно исполнивших свою миссию, рассаживались в них.
И, вдруг, обратили внимание на смешную красавицу, облаченную в крайне ветхую, изорванную одежду. Куртка, брюки висели на ней лохмотьями.
Тут и произошло знакомство девушки с мастерами кожаного мяча, разнаряженными во все фирменное.
«Фламенговцы», признаться, сначала приняли ее за женщину, живущую подаяниями. Не просит ли она и сейчас у богатых спортсменов милостыню?
— Эта милашка — забавная нищенка. Прямо-таки куколка-карамелька, — с нескрываемым любопытством осмотрел Августину с ног до головы (от истерзанных сандалий до прелестных кудряшек) один из футболистов.
Второй спортсмен деловито резюмировал, держа в руке футбольный мяч:
— Никак, бестия, из труппы бродячих циркачей. Ждите, сейчас покажет ловкие акробатические трюки. Может, ее взять в команду и поставить на ворота.
Знаменитости сдержанно хихикнули. Кто-то из них предложил:
— Похоже, плутовка вырядилась на карнавал. Жаль, что она одна принимает участие в уличном шествии. А что, если мы поговорим с ряженой?
И только стала определяться, как поется в песне, картина ее счастья, потому что она жадно желала познакомиться с богатыми асами футбола (в отличных спортивных костюмах, с туго набитыми бумажниками в карманах и чемоданами в руках, усаживающихся в шикарные лимузины), как один из них стал подгонять своих коллег, и ехидно комментировать:
— Пусть трюкачка другим показывает, на что она способна. Не теряйте времени. Увидели смазливую мордашку и растаяли! Пусть идет своей дорогой.
Однако вид Августины, при всей шутливости ее обряда, взывал к милосердию. Иностранные футболисты тонко почувствовали что-то неладное в судьбе незнакомки. Августина быстро нашла у знаменитостей отзывчивость, чуткость, порядочность.
Ребята предложили ей трикотажную спортивную рубашку, новые брюки, щегольские кеды. Создали условия для переодевания: нашли укромное местечко, где девушка в полной свободе, не стесняясь ничьим посторонним присутствием, смогла надеть на себя новое одеяние. Образовалась неплохая униформа.
Скоро все выяснилось. Русская студентка, не лишенная юмора, с искрометной находчивостью поведала богам спорта свою одиссею. История футболистов развлекла. Все они хорошо говорили на английском, испанском языках. Августина расположила к себе футболистов. Голубоглазая девушка понравилась им. А Пеле, гостеприимный, эмоциональный, пригласил «матросиху» в свой городской особняк. Обещал содействовать ее возвращению на родину.
Лала — так звала Августина южноафриканскую возлюбленную Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя многократного чемпиона мира) — тоже полюбила иностранку. А когда на следующий день команда направилась на матч в Лондон, взяла ее с собой, предварительно нарядив в лучшие свои платья: модные, престижные.
Августина трепетала от счастья: из Англии с помощью дипломатов она прямехонько умчится в родную Москву. Близок был конец мытарствам.
Августина охотно садилась в самолет, чтобы отправиться в Лондон. Ей, хорошо знавшей английский язык, открывались заманчивые перспективы в самом скором времени вернуться домой. Русские дипломаты в столице Англии безусловно станут содействовать этому.
Но, видимо, Августине снова была назначена роковая случайность. Самолет не был принят в Лондоне из-за метеоусловий. После долгого петляния в воздухе, когда и родной аэропорт все по тем же причинам не разрешил самолету приземляться, летчик совершил посадку в Буэнос-Айресе.
О, судьба-волшебница! Она, выходит, не дремала. Местная ассоциация «игры ногами», узнав о проблемах русской студентки, обещала помочь ей. И в свою очередь попросили белолицую красавицу посодействовать им. Объяснили свои проблемы.
Августине предстояло вылететь снова в Италию, теперь в Неаполь для переговоров с легендарным нападающим Марадоной. Звезда футбола отказывался выступать за сборную Аргентины. Знаменитости, как известно, капризны, и сердце его сможет растопить лишь красивая, полная шарма девушка. Такой была русская студентка. Ее взялся сопровождать один из аргентинских тренеров.
16. ВСТРЕЧИ С МАРАДОНОЙ
Адажевой, знакомой с Марадоной по Москве, куда он однажды прилетел на матч вместе с командой, и самой хотелось еще раз встретиться с богом футбола, по которому с ума сходила слабая половина человечества всей планеты, включая Анне Веске, однажды заклинавшая игрока приостановить свой футбол и позвонить ей в Москву.
Но увы, Августина вернулась в Буэнос-Айрес ни с чем. И не потому, что не смогла повлиять на Марадону, уговорить его прилететь на матч и сыграть в пользу сборной Аргентины. Причины оказались более вескими. Марадона сказал: «Я решил повесить бутсы на гвоздь после нашумевшего дела о наркоманах, но сейчас допускаю возможность возвращения в большой футбол. Мой представитель Маркос Франчи уже начал переговоры с руководством итальянского клуба «Наполи» о расторжении контракта».
Тридцатилетний «экс-звезда» футбола просил Августину передать тренеру сборной Аргентины Альфио Басиле большой привет. И всем друзьям — тоже.
Августина пребывала в жестоком ударе. Она не смогла выполнить поручение. Но не все потеряно.
Природа, наградив девушку умом, привлекательными чертами лица, продолжала с обычной щедростью и благосклонностью хранить ее на безмерно опасном пути. Как ни странно, но от страданий, неудач, рискованных путешествий, выпавших на ее долю, душа ее очищалась, становилась правдивее, добрее.
Проделав тысячи миль морем, сушей, воздухом, посмотрев десятки раз смерти в глаза, она по-иному стала представлять и свою будущую жизнь. Многое наносное, фальшивое она уже не принимала сердцем. Для нее появилось слово «нельзя». Нельзя лгать, лукавить. Нельзя играть в любовь. Нельзя идти на сделку с совестью. Надо знать, что можно делать.
Каждый шаг прошлой жизни приобретал для девушки новый смысл и содержание. Произошла переоценка ценностей, когда отвергается скверна.
Она поняла, что теперь никогда и ни с кем не будет так бездарно и рискованно флиртовать. Сама себе удивлялась: стоило ли тратить столько сил ради того, чтобы понравиться сразу нескольким парням? Стоило ли заставлять их ревновать, ждать у подъездов домов, кинотеатров, института? Зачем надо было давать им зыбкую надежду на встречи, побуждать писать красивые письма в стихах и прозе? Разбивая их сердца, она разменивала себя на мелочи.
Любовная игра и кокетство чуть не обошлись ей жизнью, да еще не известно, чем кончится эта странная одиссея. Сейчас ей хотелось одного: увидеть родителей. А еще — Максима и дать ему клятву, что никогда не изменит ему.
Августина нисколько не сомневалась, что Максим ищет ее и готов пожертвовать жизнью ради ее благополучия. Верстаков — это именно тот жених, который заслуживает девичьих грез и трепетных мечтаний со слезами. И не подозревала, что Максим всего лишь двумя днями позже нее нанес визит в Неаполе прославленному форварду.
* * *
…Диего Марадона в шортах и спортивной майке с эмблемой люкс-футболиста сидел на лавочке и занимался своей младшей дочерью. Максим приехал к чемпиону со Шпагетти-старшим. Капитан студенческой сборной во все глаза смотрел на знаменитого нападающего, футболиста мирового класса. Ас был жилист, скуласт, загорелый до черноты. Сколько раз футболист Максим грезил им, подражая во всем прославленному аргентинскому форварду.
Как раз была в ходу крылатая фраза Марадоны «О, рука Бога!» после скандального гола в ворота английской сборной на мексиканском чемпионате мира по футболу. Верстаков был у цели.
Первым взял слово Шпагетти-старший. Он спросил у богопослушника Диего Армандо, не в его ли руках ниточка, по которой вполне можно разыскать невесту присутствующего здесь парня по имени Максим. Зовут девушку Августиной.
— Иисус Христос! — темпераментно воскликнул Марадона. — Судьбе угодно было сподобить встречу этой русской красавицы со мной. Она улетела позавчера.
Дело в том, что «падшему ангелу» аргентинского футбола Диего Армандо Марадоне запрещено было покидать пределы Италии — в наказание за использование и хранение кокаина. Приговор ему вынесли в Неаполе. Но в Аргентине суда еще к тому времени не было. Диего находился в неопределенном виде.
Желая помочь Августине, которая жила в Неаполе, ожидая выполнения футболистом ее просьбы о вылете в Аргентину, Марадона обратился к судье Амелии Беррас, ведшей его дело, с требованием переселиться в Уругвай. На самом деле он намечал другую страну. Марадона сказал судье, почти плача: «Я более не в силах терпеть вакханалию, которая вокруг меня творится, особенно то, что совершенно необоснованно распускаются слухи о моем конфликте с женой. А полиция то и дело вламывается ко мне домой и обращается со мной, как с уголовником».
— Все же, — как сказал в заключение Марадона, — моя речь не возымела действия на судью, и я ничем не смог услужить прекрасной Августине. В какой стране она сейчас, могу лишь предположить. Она, как истинная болельщица футбола, может находиться либо в Аргентине, куда она полетела из Неаполя, или в Бразилии, на фазенде «короля футбола» Эдсона Арантиса ду Насименту, а попросту Пеле, в орбите футболистов и фанатов команды «Фламенго», которые этими днями должны вылететь на второй матч с английской сборной в Лондон.
Шпагетти-старший немедленно отправил самолеты по этим адресам. Особым самолетом вылетел Максим в Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. В Аргентине находит сокровище. Возвращается в Рим с невестой.
В Риме, у трапа самолета, Шпагетти-старший, не стесняясь, стал на колени перед зардевшейся как маков цвет изумленной таким приемом Августиной. Миллионер покрывал поцелуями ее руки. Он извинялся за своего непутевого сына, искал в глазах прекрасной русской красавицы великодушие, милосердие.
Радостная и счастливая Августина заверила Шпагетти-старшего, что прощает грехи своим обидчикам, в том числе и Джованни. А что касается путешествия, то оно ей пошло на пользу. Затем Шпагетти передал письмо родителям путешественницы. Оно начиналось так:
«Дорогие Виктория Робертовна и Арсентий Георгиевич! Я беспредельно счастлив, что ваша дочь жива, здорова и невредима, в хорошем расположении духа. Но мне одновременно грустно от того, что виною столь опасного ее странствия явился мой беспечный сынок. Пусть для вас и меня будет утешением то, что Джованни наказан и больше никогда не появится в вашем городе.
Разрешите выразить вам глубочайшую признательность за ваше благородство и воспитание милой и мужественной дочери. Рад был бы породниться с вами, но Богу неугодно это. Как друзей приглашаю вас в удобное время посетить мое поместье в пригороде Рима. Хочу надеяться, что вы примете приглашение и с пользой отдохнете у нас».
Самолет набирал высоту. Августина и Максим отрывали друг от друга взгляды только затем, чтобы через стекло иллюминатора проститься с древнейшей Италией. Торжественность минуты трогала и переполняла их сердца. Хорошо им стало вдвоем.
Атташе Якоб Паньони с приятным любопытством наблюдал за прекрасной влюбленной парочкой. Гид и телохранитель выполнил задание итальянского посла в России. Он доставлял окрыленных Максима и его очаровательную Дульсинею в Москву.
Воодушевленный Верстаков обнял такую же восторженную и вдобавок прекрасную Адажеву и вдруг нащупал в кармане ее куртки что-то твердое.
— Зачем это у тебя? — преувеличенно удивился юноша.
Августина достала нож и важно раскрыла кривое лезвие.
— Ого! С этой штучкой можно ходить и на крупного зверя, — продолжал иронизировать жених. — Откуда столь великолепные трофеи?
— Сувениром впредь останется. Я объехала с ним полсвета. Он спасал меня действительно от крупного и мелкого зверя. И не только от них…
— Значит, вооружена и очень опасно? — подтрунивал над невестой Максим.
— Увы, теперь — нет. Сейчас я под надежной защитой своего спасителя, — Августина теснее прижалась к плечу Максима. — А это — вещественная память о моем подвиге. Ты не засмеешь меня? Нет?
В Шереметьевском аэропорту обаятельную путешественницу ожидали родители и друзья. Среди них, можно было увидеть Эмму Бабкину, поминутно вытиравшую слезы раскаяния.

Первой спускалась по трапу самолета голубоглазая Августина с умиротворенным, чуть-чуть виноватым выражением лица: столько хлопот доставила близким. Ее возвышало и прощало то, что она прилично сыграла (словно во сне, а не наяву) заглавную роль в приключенческом фильме, сюжет которого взяла из собственной одиссеи.
Утешало и то, что девушка возвращалась с повзрослевшей душой, без напускного пренебрежения всем и вся, обычного хвастливого шика. Теперь она знала цену жизни. Все нужно делать спокойно, осторожно, без авантюризма.
За ней так же размеренно шел ее спаситель. Спортивная осанка Максима подчеркивала его довольную, плавную поступь. Сдерживая ликование, он чувствовал свою маленькую причастность к тому, что его невеста выиграла сражение, уверенный: ее суматошное студенчество теперь изменится. Будут оставлены в покое бездумное щегольство и снобизм.
Думала об этом и его невеста.
Не зря говорят в народе: нет худа без добра. Господь сподобил Августину увидеть древнейшие страны с самыми красивыми морями, женщинами, футболистами, архитектурными ансамблями, вечными городами.
Всевышний оказал честь созерцать таинственных дикарей, удивительные африканские джунгли.
Конечно, душа ее содрогалась от страха, а сердце сохло по любимой Родине. Беспредельно опасными выдались повороты судьбы. Но милостью Божией она жива и здорова, несмотря на каверзные перипетии. И полна впечатлений.
Как ни парадоксально, талисманом у бедной Августины были побрякушки и студенческий билет злого Джованни. Вид у нее был не шикарный во время путешествия.
Былая ухоженность и презентабельность к ней вернутся. Всегда будут ярко-красными коралловые губы, наведенные импортной тушью голубые глаза, неотразимая внешность.
Впрочем, респектабельной, благодаря своим иностранным друзьям, она снова себя почувствовала.
Что касается жизненных потрясений, то думающий человек извлечет из них урок. Полезный для себя. Если, как водится, вразумят Небеса. Бездельника Шпагетти пусть осудит Бог. Впрочем, она сохранила и весомые доказательства его вины перед ней: одежду Джованни. Как сувенир, полный горьких воспоминаний.
Позади оставались хлопоты и страдания. Исчезла и злость к Эмме. Августина решила не поддаваться искушению, не допытываться признаний и извинений от Бабкиной. Не выяснять отношений. С трапа самолета нельзя было не заметить, что Эммочка встречает свою лучшую подругу с душевным раскаянием, немилосердно упрекая себя в низком предательстве, поминутно промокая влажные глаза носовым платочком.
Возродится ли между ними чувство близости — покажет время.
* * *
В этот день особое оживление царило в аудиториях Белужского пединститута. Студентам и профессорско-преподавательскому составу объявили, что после лекций состоится встреча с третьекурсницей Августиной Адажевой — девушкой, ставшей российским Робинзоном Крузо.
В первом ряду переполненного актового зала разместились Виктория Робертовна, Арсентий Георгиевич Адажевы, Максим, Эммочка со слезами вины на глазах. С невыразимым вниманием все слушали рассказ Августины о ее злоключениях и победах. Вопросам не было счета. Всем хотелось знать подробности того, как выжила студентка в самых экстремальных, чрезвычайных условиях.
Покорив слушателей удивительностью рассказа. Августина надела на себя выстиранные и отутюженные лохмотья, — все, что осталось от одежды итальянца Шпагетти, — взяла в руки раскладной пиратский нож и продемонстрировала, как она сражалась с неприятелями, путешествовала по далеким небезопасным уголкам земного шара.
Хотя рассказывала и показывала Августина весело, родителям Августины было не до смеха. Они плакали, представляя мучения своей бедной девочки.
17. ЭПИЛОГ, ИЛИ ПОД МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА
К свадьбе готовились в семьях Адажевых и Верстаковых возбужденно, восторженно, с определенным ожиданием радости. Максим больше других не мог осознать чудо. И неудивительно: до самых последних дней молодой человек и верил и не верил в то, что Августина принадлежит только ему. Для него любимая оставалась сказочным необыкновенным существом. В сильном увлечении он бредил только Августиной. Теперь они и в аудиториях, на лекциях стали неразлучны: либо сидели вместе, либо бесконечно обменивались записками.
Что притягивало блистательную девушку к простому парню — для многих оставалось неразгаданным ребусом. Разве постигнешь загадочную натуру?
Но Адажевы-старшие были рады выбору дочери. Им пришелся по вкусу Максим, и они решили сыграть мировую свадьбу. На обряд бракосочетания не пожалеть средств, не поскупиться. Сделать все с комфортом, роскошью, великолепно, что бы это ни стоило, «Мы не хуже других», — говорила с достоинством Виктория Робертовна. Ее поддерживал в идее устройства искрометной свадьбы и Арсентий Георгиевич Адажев. Они ждали почти год осуществления своего замысла. С приподнятыми чувствами, надеждой.
И вот подходили те дни. В оформлении пышного убранства зала ресторана «Колос», выбранного для празднества, принимал участие почти весь четвертый курс пединститута — сокурсники Августины и Максима. И все, кто пожелал.
Руководила хлопотами неугомонная Эмма Бабкина, с ярко накрашенными губами, в плиссированной розовой кофточке и голубой юбке с множеством складок и оборочек. Красавица номер два напоминала вихрь.
Она подгоняла медлительных подруг по институту, а в голове складывала спич, который обязательно намеревалась произнести за праздничным столом.
Бабкина искренне ждала той минуты, когда безудержно и возвышенно расхвалит жениха и невесту. Эмма действительно их знала с лучшей стороны.
Ей казалось, что начнет она речь так: «Разрешите поднять тост за новобрачных… Они, как никто другие, заслужили счастья… Природа одарила их неземной красотой, но еще больше добрыми сердцами, умом, трудолюбием… Нынешняя свадьба — это венец подвига их молодости…». Высокопарно, но проникновенно будут произнесены слова.
Впрочем, боялась, что в нужную минуту от волнения, нахлынувших чувств, слез она все перепутает. А со слезами у нее, похоже, стало не все в порядке. То и дело по причине или без причины сентиментальная девушка плакала. И улыбалась сквозь слезы, поминутно обнимая и целуя Августину. А весь облик невесты приобрел еще большую пышность.
— После твоего замужества я сразу же сделаю то же самое. Иначе начну увядать, глядя на то, как блестят твои глаза от счастья. Ты красивая до уникальности. Другой такой нет на всем белом свете, — искренне признавалась в любви к подруге Эмма. — Ты не волнуйся, на моем лице всегда будет отражаться удовлетворенность жизнью и чувство глубокого довольства твоим благополучием.
Снова получалось все высокопарно, напыщенно. Эмма опять обнимала и целовала подругу, а как-то попался под руку Максим — Эмма облобызала и его.
Счастливый Верстаков словно на крыльях летал. Осуществлялась его заветная мечта. Еще совсем немного пройдет времени — и лучшая девушка в мире, яркое сокровище, станет его милой, драгоценной женой.
Он ходил рядом с Августиной хмельным без вина, лишь от сознания того, что добился руки и сердца любимой женщины.
* * *
Но вот отшумела веселая свадьба с наивной игривостью и удивительно легким остроумием, на какое только способны студенты, без видимых усилий, от чистого сердца. Отзвучал марш Мендельсона, застольное выкрикивание с буйной удалью «горько!». Кончились пляски и танцы.
Замерли пустые бутылки из-под шампанского в разбросанных ящиках. Расходились-разъезжались, прощаясь с молодоженами, приглашенные, затихал свадебный пир.
Уже удалились последние гости. Остались лишь молодые супруги, их родители. Всем пора направляться по домам.
Сели в «Жигули» утомленные, но счастливые Августина и Максим. Наконец-то они могли наглядеться друг на друга, отгоняя усталость, возбуждаясь лишь от прикосновений.
Ехали домой и чувствовали каждым утомленным и напряженным нервом, что вот-вот и будут находиться одни, вдвоем, в своей комнате, старательно подготовленной для новобрачных Викторией Робертовной.
Все меньше оставалось времени, когда молодые люди, без пяти минут учителя, откроют дверь заветного жилища — первого в их совместной жизни.
Вот они и дома. Адажевы-старшие заботливо, мило еще раз поздравили дочь и зятя с огромным событием в их личной жизни и многозначительно пожелали им спокойной ночи. Молодожены с подчеркнутой нерешительностью, с нарочитой медлительностью открыли дверь. И вошли в опрятную родную обитель.
Все волнения, беспокойства, тревоги брачного шумного обряда остались за порогом. А души заполняла лишь уверенность в том, что каждый из них выбор сделал правильно. У каждого своя «половинка», которая воплощает предел мечтаний. Максиму хотелось всегда видеть рядом Августину, а юной жене — молодого мужа ощущать только вблизи себя.
Им казалось, да они были сто крат убеждены в том, что их счастье возможно лишь вместе.
Первая брачная ночь…
Чехов говорил, что любовь дает гораздо меньше, чем ждешь. Но Максим и Августина не могли согласиться с таким утверждением.
Молодой Верстаков всегда будет восторгаться своей прекрасной Августиной, а юная Верстакова станет верной ему женой.
Они оба поклялись вечности и страсти только друг к другу, преданности на всю жизнь.
Местный писатель, пронаблюдав эту историю, пообещал написать о двух страстно влюбленных повесть. И сдержал слово. А вторую книгу подготовился издать о том, как прожили в супружестве Августина и Максим первые, ну, скажем, десять лет. Это еще впереди.
Кстати, гадалка напророчила молодым Верстаковым иметь троих детей, таких же красивых и талантливых, как родители. Хорошо бы проверить, сбудутся ли эти предсказания?
Еще провидица наобещала, что, как бы ни сложились обстоятельства у Августины и Максима, они всегда будут презирать бездушность и черствость, зависть и холодный расчет. Бессердечность не поселится в их душах и не приглушит яркость чувств.
Молодые люди действительно были убеждены в том, что Пушкин верно высказал свой взгляд на мертвый рациональный расчет в любви такими строками в «Евгении Онегине»:
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на телеге…
Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!
Впереди у молодоженов намечалось неразлучное общение и сердечная дружба. Теперь они, не таясь, отдадут друг другу половодье своих эмоций. И не нужно будет, как до свадьбы, с намеками, хотя и обостренно выразительно, проявлять свои чувства. Уцелевшие привычки той поры разве что останутся по инерции. На какое-то время. Испарится и все институтское. Проказы ранней юности останутся лишь в памяти. Это уж до конца лет. До последнего момента… Что делать, если жизнь — это книга. А беспечная молодость ее предисловие, ее первые страницы.
ОТ АВТОРА
Этот небольшой роман имеет своеобразную историю. Еще в школе, девятиклассником, я, начитавшись Жюль Верна, Даниэля Дефо, Стивенсона, Майн Рида, будучи автором уже нескольких публикаций в печати, страстно желая стать писателем, уверенно взялся за приключенческую повесть. База была для нее лишь в одном — увлекался географией с иностранными языками. Любил эти предметы. Конечно, была страсть и к литературе.
Рукописи создавал скоропалительно, в течение месяца и направлял их в «Огонек». А оттуда они также быстро возвращались с критическими замечаниями. Естественно, повесть никуда не годилась. Она была детским лепетом. Как говорится, маранием бумаги.
Еще в школе, как член Пушкинского общества, страстно увлекался фактами из жизни великого поэта. И тоже мечтал что-то написать о Пушкине.
Вот с этим багажом и аттестатом зрелости попал служить в Военно-Морской Флот, на корабль. Меня покорила морская стихия, дружба восемнадцатилетних ребят в тельняшках. Я с жаром развернул публицистическую деятельность в прессе.
Печатался в газетах Балтийского, а потом Северного флотов. Сочинял произведения о товарищах, морской службе. Моей мечтой тогда стало: издать томик морских рассказов, как у Станюковича или Соболева. Но за пять лет не успел этого сделать. Не дано было, видно, преуспеть в этом деле.
Окончив юридический институт, уже имея красную внушительную книжечку члена Союза журналистов бывшего СССР, я принял должность следователя. Это был сложный, обременительный труд.
Мне сразу понравился детективный жанр. Главное, хотелось передать читателям подробный рассказ о людях, которые посвятили себя хлопотливой и крайне рискованной профессии.
А необходимые атрибуты детективного произведения — загадки, тайны, сверхнаблюдательность сыщиков, их мужество, смелость, благородство — у меня были перед глазами.
К первой своей книжке шел издалека — начал с рассказа, напечатанного в молодежной прессе. Затем выходит из печати цикл рассказов, новелл. Один за другим — небольшие сборники.
Во многом в моем становлении как литератора помогали столичные и областные журналы, газеты. И прежде всего милицейские периодические издания. В них довелось быть внештатным корреспондентом.
Свои повести, рассказы стремился писать на основе реальных событий. В самом деле, зачем что-то выдумывать, если богатейшая наша история постепенно уходит в прошлое, забывается. Это тем более досадно, что сейчас, подвергая критике все прошлые времена, мы как бы у себя из памяти вычеркиваем и то главное, во имя чего строилось будущее. Обделяем судьбу замечательных своих предков. За народ разве стыдно?
Словом, с водой из ванны выплескивается и ребенок. Осмотрительно так поступать в отношении истории?
Первые мои книги издавались в такой последовательности: «Поиск ведет милиция», «Дело № 14», «Задержать!», «И вечный бой», «Слушается дело о подростке» — это те произведения, которые привели меня к основной работе, — роману «Агент № 2, или Операция «Дипломат». О нем хочется сказать несколько слов в дополнение.
Книга сначала издавалась небольшим тиражом, была отмечена литературной премией. Это, видимо, повлияло на то, что выбор столичного издательства «Юридическая литература» пал на роман. Повторно он вышел в свет огромным тиражом.
Здесь следует сразу отметить — моя цель была не в создании остросюжетного произведения значительного масштаба, а в раскрытии образов первых сотрудников уголовного розыска, которые с большим напряжением ликвидировали банду Бьяковского.
Есть объяснения и тому, почему я взялся за исторический роман: хотел показать преемственность поколений блюстителей порядка. Известно, что без прошлого нет настоящего. Пренебречь мужеством, благородством родителей, традициями — кощунство. Старшее поколение нас выводило в люди.
Наш мудрый соплеменник А. Пушкин сказал:
«Простительно выходцу не любить русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы нашихлетописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцов».
Итак, вспомнился Александр Сергеевич…
Вот тут-то, уйдя в отставку, я решил вернуться к школьной юности и осуществить издание двух «гражданских» книг. О великом поэте и приключенческое произведение. Повесть «Любовь Пушкина» вышла из печати, а за приключенческую новеллу взялся только сейчас. И читатель держит ее в руках. Рукопись, как видите, давно лежала на моем рабочем столе, ожидала очереди, и вот время позволило закончить произведение. Как оно получилось — судить читателю. Но выражу и свое мнение.
Если в школе я взялся писать приключенческую повесть, не имея никакого жизненного опыта, не говоря уже о литературном, то сейчас в ней дал почти иносказательное отображение моряцкой жизни.
Мне довелось плавать на кораблях по морям и океанам, были экспедиции со штормами, снежными зарядами. Тонул, замерзал, имел ранения. Хотя это, конечно, не одно и то же.
Одним словом, многое из того, что испытала Августина, выпадало на мою долю. Впрочем, естественно, в приблизительном смысле, отдаленная тождественность. Мне не приходилось попадать в лоно дикарей, плавать на пиратских баркасах, не было встреч с леопардами. Лишь представлял это, когда на кораблях проплывал невдалеке от берегов экзотических широт, наблюдая южную природу через двадцатикратную стереотрубу. И мечтал об экзотических происшествиях.
Нынешняя приключенческая повесть насыщена новыми знаниями, современностью. Вычитал из газет, что и сейчас по морям шастают пиратские быстроходные суда и безнаказанно угрожают бравым мореплавателям. Это ли не тема для детективной книги.
Воображение мое подпитывал и многолетний литературный опыт. Хотя герои, естественно, вымышленные, но в их уста вкладывал свои взгляды на дружбу, этику, мораль, осознанные за долгие годы. К тому же, эти предметы доводилось преподавать в учебном заведении.
Августина не провела, как Робинзон Крузо, много лет на необитаемом острове. Но за несколько недель ей выпало очень предостаточно лиха. И так вполне могло быть. Вряд ли намного отступил от жизненной правды. Жизнь многообразна и в ней все случается, говорил великий ученый, наш земляк.
Главная мысль в книжке такая: прежде чем что-то сделать, надо предвидеть последствия. Избалованность, капризность, чувство вседозволенности — до добра не доводят. Они опасны для благополучия изначально.
На первых страницах книги Августину с Эммой мы видим привычными к исполнению своих желаний и прихотей, заносчивыми, эгоистичными, пустоватыми, избалованными лаской и вниманием. Но со временем они предстают перед нами серьезными, предупредительными людьми. Без пренебрежения и снобизма. Они задумались над своими поступками. Исправить черты своего характера человек может сам, с помощью окружения, естественно.
Как всякому автору, будет приятно, если многое понравится моему давнишнему читателю. С благодарностью к нему думаю об этом. И прерываю авторские размышления.
Этим произведением завершаю второй, последний том своих сочинений.
1963—1993

Переступить себя

Переступить себя
1
Год восемнадцатый прожили.
Последний его день тек на диво тихо и светло. А в окраинной городской слободе и совсем весенняя благодать: бьет с крыш обильная капель, плавится на припеке снег. Домовладельцы, словно коты, вылезли на солнышко, размеренно греются на лавочках и, в ожидании заветного часа, когда можно сесть за новогодний стол, толкуют про мировую революцию. Слобода заселена перекупщиками калмыцких лошадей, живет крепко, по единственной ее улице плывут запахи мясных пирогов, свежевыпеченного хлеба, а то шибанет в нос самогонкой. Смелеют языки, примеривают мировую революцию к слободской жизни и так и этак, как примеривают насильно всученную обнову. Но как ты ее ни крути, как ты ее ни примеривай, жмет она слободскую жизнь до невозможности, а у горла намертво перехватывает. И висят над лавочками вздохи:
— Хороша Советска власть…
— Ох и хороша!
— Хороша-то хороша…
— Да чтой-то долго, граждани-и, протянулась!
— Нонешний год — чирк! — и на тринадцать дней подсократила. Лег спать первого февраля, проснулся четырнадцатого. Вот анчихристи! Не знаешь теперя, по-каковски и времю считать.
— То ли будет! Нашел об чем тужить…
Слободская улица выбегает на солончак, а солончак пылает под солнцем бело, нестерпимо — нельзя смотреть, И в ту сторону не смотрят, глаза берегут: глаз перекупщику нужен острый, цыганский. А глянули — обомлели: мировая революция — вот она, стоит перед ними босая, в растерзанных малиновых галифе, в ватнике, перехваченном крест-накрест патронными лентами с пустыми гнездами, в островерхом, невиданном доселе шлеме. Из-под шлема бездонно и жутко чернеют провалы глазниц, только их и можно заметить на объеденном голодом лице.
— Что это? — спросил странный человек, всасывая глазами сытых. — Плохо я вижу.
Из белого пламени солончака выползал, вытягивая за собой повозку, мосластый верблюд. За ним шли люди. Люди шли? Тени шли… Брело, спотыкаясь и падая, человеческое страдание.
— Что это? — нетерпеливо поднял голос вышедший первым. — Что?
— Форпост, — сказали ему. — Астрахань, мил человек.
— Астрахань, — повторил он, мгновенно слабея голосом. — Дошли.
И упал.
Самый зоркий разглядел, предупредил шепотом:
— Беда, граждани… Вши на ем… Массыя!
И попятились от него, как от прокаженного. Слобода затворилась и в ужасе смотрела, как из солончака, словно из преисподней, выползала Одиннадцатая армия. И не знали сытые, что им придется месяцами смотреть на это шествие, потому что оно растянулось на все необозримое пространство ногайских степей. А там, у далеких предгорий Кавказа, эта армия, отступая, еще дралась. Дралась, преданная командармом Сорокиным. Дралась, иссушенная голодом, раздетая, безоружная, сжираемая тифозными вшами. За мировую революцию дралась. Страдала за нее, как никто, нигде, никогда не страдал.
Рабочая Астрахань открыла перед ней двери. Затянув туже пояс на тощем животе, Астрахань вместе с армией заметалась в тифозном бреду на двадцати тысячах лазаретных койках. И на этих же койках, чуть пересилив тиф, Астрахань вместе с армией стала умирать от соленого селедочного супа. Лазареты уже не требовали медикаментов, ибо что медикаменты без хлеба? Хлеб… Хлеб… Без него не отстоять город от деникинцев, без него не поднять на ноги армию, начавшую выбредать из солончаков.
Год восемнадцатый прожили.
Последний тихий денек его был смят на исходе свирепым бураном. С лютой улыбкой входил в город гибельный девятнадцатый год.

2
Из степи Иван Елдышев вышел на своих ногах вместе с побратимом, лихим рубакой Васькой Талгаевым. На калмыцкой арбе, впрягшись в нее вместо лошади, вывезли они пятерых беспамятных товарищей — все, что осталось от их эскадрона. Тянули арбу не силой — ее не было! — тянули надеждой, что там, в Астрахани, все готово для встречи: госпитали и медикаменты, еда и обмундирование. Но затворился Форпост, степной сторож города, никто здесь не встретил, не сказал, куда поместить тифозных и раненых, где притулиться ходячим. И тогда слово «измена!» разодрало мерзлые губы Ваське Талгаеву, выхаркнулось с кровью, с матом, клацнуло затвором винтовки… И несдобровать бы сытым, сидевшим на скамеечках, потому что из солончака уже бежали к Ваське тени, которые еще могли бежать. Иван встал перед Васькиным штыком, уперся в него грудью, и так они стояли, покачиваясь, сминая в себе гнев. Подбежали трое или четверо, и один из них, молча, в боевом выпаде взял бы Ивана на штык, но Васька отбил удар. Грохнула Васькина винтовка, и ушла в небо пуля, за которую из тощей полковой казны было заплачено пять рублей золотом своему же армейскому интенданту, сорокинскому выкормышу. Измена, измена… Эх и горька же ты, неутоленная месть! От неожиданности выстрела и слабости в теле упал тот, кто хотел заколоть Ивана, но снова тянулся к выроненной винтовке, исступленно шепча: «Порешу, гада!» Чья-то босая нога наступила на ствол, чей-то голос прорыдал:
— Что же делать, товарищ?
— Больных и раненых, — сказал Иван, — по двое в дома. Ходячим быть при них. Ждать меня.
— Не пустят, товарищ… Добром не пустят.
Иван глянул туда, откуда пришел, и заледенел сердцем. Сказал:
— К женскому полу оружия не применять.
С тем же холодом под сердцем он ждал выстрела, пока вместе с Васькой сгружал с арбы своих эскадронцев и вносил их в дом к испуганным хозяевам. Но обошлось… Васька Талгаев притянул его к себе за отворот шинели, покачнулся, сказал: «Ваня…» — и больше ничего не смог сказать внятно, сполз на пол и понес околесицу, полыхая жаром. Может быть, поэтому и сорвался Иван в кабинете военного инструктора губкома партии товарища Непочатых, а еще потому, что на столе у товарища Непочатых дымился стакан чая, лежал ломоть хлеба с кусочком сахара на нем. Тепло, чай, сахарок… Грохнул Иван кулаком по столу, по каким-то бумагам, и на верхний лист от удара сыпанули мелкие синие вши. Товарищ Непочатых, совершенно не слушая Ивановых гневных слов, скоренько скомкал лист, положил его в пепельницу и поджег. И тут только Иван увидел, что плох, очень плох товарищ Непочатых, увидел крупный пот в ямках-височках, впалую грудь, сиреневые чахоточные подглазья, — увидел все это Иван и затих. Товарищ Непочатых крутил телефонную ручку, поднимал по тревоге какой-то санитарный отряд, изредка прикрывая ладонью трубку и спрашивая Ивана: кто, где, сколько? Иван отвечал, но отвечал как в тумане, погружаясь в него все глубже и глубже. Усталый мозг лишь временами отмечал: они с товарищем Непочатых едут в пролетке на Форпост, санитары выносят Ваську Талгаева на носилках из дома, и его, Ивана, тоже кладут почему-то рядом на подводу, его моют в ванне, а вот он просыпается и ест, и снова просыпается и ест… И наконец он проснулся и спросил у медсестры, а где же товарищ Непочатых, и с этого мгновения, поймав ее удивленный, непонимающий взгляд, Иван снова вошел в обыденное время, которое потекло так, как и положено ему течь от века.
Где подводой, а где пешком добрался Иван до родного Каралата. Во внутреннем кармане шинели лежали у него два документа. Первый — отпуск на три дня, второй — приказ начальника губмилиции Багаева о назначении его, Ивана Елдышева, начальником Каралатской волостной милиции. А еще был устный приказ того же Багаева: сразу же после отпуска Ивану надлежало явиться в Астрахань для участия в секретной операции. А в какой именно — этого Багаев не сказал.
Что ж, явимся… Явимся!
В родном Каралате Иван Елдышев не был почти пять лет.
3
До землянки своего родного дяди по матери Иван дотопал поздним вечером. Дядю тоже звали Иваном, а фамилия у него была Вержбицкий, польская фамилия. Когда-то в Каралат был сослан на вечное поселение польский шляхтич, и растворил он свою голубую кровь в красной мужичьей… Дядька сидел за столом, раздирая руками вяленого леща. Хлеба на столе Иван не приметил… Сотни раз мечтал он, как вернется домой, как встретит дядю, — и вот встретил его, встретил не так, как мечталось, не было праздника в этой встрече, а сердце все равно сжалось, повлажнели глаза. Дома он, дома, и дядька жив, только усох маленько…
— Чего стоишь, служивый? — спросил Вержбицкий. — Раздевайся и садись к столу. Да поздоровкайся, коли добрый человек. Аль немой?
Иван прислонил винтовку к стене, снял шинель, стал стягивать сапоги. На столе тоненько светил каганец. Иван разувался в полутьме, присев на высокий порог.
— Ваня, — растерянно сказал дядя. — Это ты, што ли? Ты ж помер, Ваня… Еще при царе…
— То при царе, — сказал Иван, — а теперь иная стать. Всех, кто при царе отдал богу душу, революционная власть назад отзывает… Старый ты хрен, родню не признаешь…
— Ванек, милый ты мой, — кинулся к нему дядя. Не умея ласкать, ворошил волосы, лапал лицо. — Живой, мать твою! Вот радость так радость… Ну, держись теперя…
— А кому надо — держаться-то?
— Это я тебе растолкую. У нас тут, брат, такие дела! Я, знамо дело, в большаки записался и в коммуну взошел. Осенью отпер туда всю снасть, бударку сдал. Я без тебя малость разжился было…
— Жалко небось? — спросил Иван, поглаживая его костлявые плечи.
— А чего жалеть, Ваня, — всхлипнул дядя. — Али ты меня не знаешь? Об тебе вот я жалел, когда ты помер. Бумага в волостное правление приходила. Ну, думаю, один как перст остался. Борову нашему молебен заказал, прости ты меня, недотепу… После молебна выпили с ним крепко, сказать проще, напились в стельку и разодрались под конец через тебя же, через твою светлую память.
Вержбицкий отстранился и, светло глядя племяннику в лицо, улыбнулся виновато:
— Об чем балабоню, дурак старый? Весь ум от радости незнамо куда делся. Проходи, садись. А я попытаюсь жратвишки какой-никакой достать.
— Ничего не надо. Хлеба мне дали, консервов, бутылку водки. Давай истопим баню.
— И то, — легко согласился дядя, и за этой затаенной радостью, что не надо бегать по селу, выпрашивать у кого-то хлеба и продуктов, чтобы накормить служивого, почудилось Ивану грозное дыхание голода.
Вержбицкий оделся и, собираясь выходить, вдруг строговато спросил:
— Вань, а ты чей будешь? Кому баню стану топить?
— Не пойму тебя…
— Ты в какую партию взошел?
— А без этого тут нельзя? — Ивана забавляла серьезность дяди.
— Ни в коем разе, — убежденно сказал Вержбицкий. Маленький он был, встопорщенный, как воробей, и лицо еще от слез не отвердело. Но слова были тверды. — У нас тут так, Ваня. Али мы, большаки, тебя захомутаем, али исеры тебя заарканят. Меньшаки, исдеки, анархисты тоже, знаешь, дремать не станут. И пять штук толстовцев есть, твоих разлюбезных братцев.
— Хватит, хватит, старый хрен, — миролюбиво сказал Иван. — Ты мне еще то в вину поставь, что я материну титьку сосал. Ишь политики… Был Каралат — стал маленький Питер.
— А все ж таки? — стоял на своем дядя. — Давай определяйся зараз. А то я такой: с чужаком, хоть он мне и кровная родня, не то что водку пить, а и… рядом не сяду. Баню, конечно, истоплю, так и быть. Мы, большаки, тифозную вшу не любим, мы противу нее боремся телесной чистотой и душевной сознательностью. Вша для нас ярая контрреволюционерка, чью бы кровь она ни сосала. Так что баню я тебе истоплю.
— Топи жарче, Иван Прокофьич, — улыбаясь, сказал Иван. — Не ошибешься.
— То-то! — повеселел Вержбицкий. — Сердце чуяло: наш ты человек. Не мог, думаю, Ванька забыть, как с дядькой бедовал, и откачнуться от мировой революции. А вспомнил про твой Егорий — и он меня смутил. Ты, видать, царю служил на совесть.
— Отечеству служил. Отечеству, дядя.
— Какому такому отечеству, дурья башка? — грозно вопросил Вержбицкий и двинулся от двери на племянника. — Мне царское отечество — тьфу! — а не отечество. Товарищ Непочатых, который приезжал к нам от губернской партии большаков и в ячейку нас записывал, всех предупреждал: мол, на вопросе о войне и мире, мужики, не скурвитеся, а держитеся стойко.
— Стоп! — сказал Иван. — Этому царствию не будет конца… Ты мне баню истопишь, дядька?
— Эх, племяш, — вздохнул Вержбицкий, — жестокий ты стал человек. Когда ты помер, я, бывало, по всем ночам с тобой беседую задушевно, что и как объясню, глядишь — и самому вроде понятно. Во мне слова открылись, так и прут… А теперь ты мне вживе рот затыкаешь. Обидно.
Иван подошел, приобнял его костлявые плечи, сказал ласково:
— У нас с тобой теперь на все время будет. Очень я рад, что жив ты и здрав.
— Это уж так… Кровь — она свое скажет. Пойду топить баньку.
Иван сел за стол, огляделся. Взял разодранного леща, понюхал — пахну́ло рапой, мертвыми запахами высохшего ильменя. «Дома, — подумал Иван, — я наконец дома. А дядька-то… Заговорил-то как… Старая жизнь и тут покачнулась, язви ее…» Он уронил голову на руки и уснул.
4
Восьми лет Ванька Елдышев остался круглым сиротой. Вержбицкий, бобыль и самый последний в Каралате бедняк, взял его к себе. Прокуковали дядя с племянником до зимы, а зимой Ивану Вержбицкому приспела пора идти в море на подледный промысел рыбы. С кем оставить парнишку? Хоть женись… Тут-то и подвернулся каралатский поп Анатолий Васильковский: пожелал он взять Ваньку к себе на прокормление и воспитание. Хочешь не хочешь, а отдавать надо. Отдал Вержбицкий попу племянника.
Отец Анатолий был личностью в селе примечательной. Хотя бы потому, что при невеликом росточке имел девять пудов весу. Мосластому каралатскому люду это было в диковинку и гордость: вот, мол, как попа своего содержим. Из других качеств батюшки следует отметить, что жил он широко, весело и небезгрешно. И великий политик был: умел потрафлять как богатому Каралату, так и нищим его окраинам — Бесштановке и Заголяевке. С бесштановцев и заголяевцев денег поп за требы не брал, что среди духовенства являлось делом непоощряемым. Так что поп был своего рода либерал… Деньги для храма, причта и веселой своей жизни отец Анатолий сдирал с богатых прихожан — с дерзкой ухмылкой, с подобающей к случаю пословицей, а то и с текстом из Священного писания. Но в накладе каралатские кулаки, перекупщики рыбы, прасолы, торговые воротилы не оставались. Им, корявым и сивым, льстило, что собственный их поп умен, учен по-божественному, начитан по-мирски: у него в доме была хорошая светская библиотека. А главное, отец Анатолий был тонким советчиком в делах земных, особенно в рыбных и торговых, имел в городе среди чиновной братии друзей, так что советы его превращались, как правило, в деньги. И не последнее дело — октава: великолепная была у батюшки октава! После затяжных оргий, безумных скачек, во время одной из которых, выпав из тарантаса, насмерть убился рыбный торговец и промышленник Земсков, — после всех искушений дьявола октава эта приобретала убойную силу. Служил тогда отец Анатолий истово, ревностно, не комкая церковного чина, как это обычно бывало, и октава его, насыщенная скорбью о несовершенстве человеческого рода, гремела, просила, грозила, обещала… Для причта тяжелы были службы в такие дни, потому что поп за малейшую неточность взыскивал жестоко. А прихожане в такие дни валом валили в церковь.
Таков был человек каралатский поп Анатолий Васильковский, если говорить о нем кратко. Говорить же о нем надо потому, что Ванька Елдышев жил у бездетного попа до пятнадцати лет. И жил на неопределенном положении: то ли воспитанник, то ли работник без платы — исполнял работы на хозяйском дворе, но вхож был и на чистую половину дома. К тринадцати Ванькиным годам стал поп кое-что примечать… Но как это выразить — то, что примечалось, — отец Анатолий не знал и не раз говорил в сомнении:
— Ванька, нехорошо смотришь… Дерзко, непослушливо.
Иван молчал, глядя на него сонно… «Придумал я, — успокаивал себя поп и вздыхал: — Пью много, оттого и мню». Однако мнил… Мнилось ему, будто этот тихий, сонный, послушливый паренек однажды ночью подожжет дом с четырех углов и никому из дома не выбраться. Или же возьмет нож и всунет попу в горло. Еще мнилось, что за сонной пеленой таится у Ваньки в глазах какая-то грозная дума, которую он еще не осознал, но которая зреет тихо, далекая и нескорая, как плод в нерасцветшем бутоне. От таких догадок отдавало чертовщиной, отец Анатолий встряхивал гривастой головой и предлагал непоследовательно:
— А хочешь, я тебя в духовное училище помещу?
Ванька молчал, но молчал строптиво.
— А еще Толстого читаешь, — укорял поп. — Тому ли граф учит?
И еще два года молчал Иван Елдышев таким манером, не желая разговаривать с попом. Зато в свободное от работы время он не вылезал из поповской библиотеки, благо хозяин не препятствовал. Надо заметить, что тут отец Анатолий дал большую промашку — с библиотекой. Пришел день, жаркий, летний, когда поп проспался после очередного кутежа и в бороде обнаружил записку, схваченную прядью волос. Развернул — прочел:
«Поп, ты мне словами башку не задуришь. Не можешь ты правды знать. Ты правду и свою и чужую зарыл в паскудстве. А еще священник. Прощай! Ванька».
Поп отстоял вечерню, а вернувшись домой, снова запил горькую. Пил в одиночестве, чего с ним никогда не случалось. Попадья, робкая, истощенная ревностью женщина, приникнув ухом к тонкой двери, слушала, как поп бормотал:
— Бог действует и через недостойных священников. Понял, Ванька? Бог действует и через недостойных священников…
— Хоть бы ты подох, — ненавистно шептала попадья. — Ванька ушел, а мне куда скрыться. Куда?
Все пять лет до самой солдатчины Иван работал в селе на промыслах. Два рыбных промысла было в Каралате — Сухова и Саркисяна. По весне хозяева пригоняли сюда плашкоуты, набитые девками, бабами, детьми, мужиками с верховьев. Люди сходили на каралатский берег, как на обетованную землю, выгружали пожитки, ошпаривали кипятком трехъярусные нары, вымаривая клопов, и начинали свою удивительную жизнь. И было в той жизни вот что: была отчаянная, бешеная, безумная работа, когда у грузчиков трескались разъеденные солью пятки; была радость отдыха в пасхальный день, когда хозяин выдавал бабам сверх заработанного по двугривенному, а мужикам по полтине; были страстные молитвы в церкви и хула богу в кабаке; были песни, похожие на визг и рыдание; любовь была с обманом и без обмана; была смерть, и было рождение — и все было, чем жив человек. Но все это исчезало, как только рыба уставала давать жизнь другой рыбе и, растерзанная, скатывалась в море. Тогда затихал каралатский берег и все бывшее казалось наваждением.
Оглушенный, усталый, со скудным заработком в кармане, возвращался Иван в землянку своего дяди и жил здесь в одиночестве, пока единственный бедолага-родственник не приезжал с морского промысла. Первые несколько дней Иван спал почти беспросыпно. За высокий рост и раннюю силу его нанимали грузчиком, он таскал соль, катал тачки наравне с матерыми мужиками. Он вспоминал все, чему, покинув попа, был свидетелем и участником, и во всем этом не было правды, которую он хотел найти. Не видел он правды-справедливости под каралатский небом. Видел тьму, ненависть, зависть, ложь. Видел подводы, уставленные гробиками, — это летом десятками умирали от дизентерии дети, их везли в церковь, как дань богу. И доброта попа, который отпевал детей безвозмездно, была уже не доброта, а ложь. Видел свирепые драки сезонников с заголяевцами и бесштановцами и не понимал, чего же не поделили между собой эти люди, одинаково нищие, одинаково темные. Однажды он пытался предотвратить такую драку и стал кричать им о братстве, о любви, о прощении обид, обо всем, что понял и узнал в учении великого Толстого, но слова его были смешны, нелепы и непонятны толпе. Обе стороны объединились и избили его в кровь… Каралатский исправник посадил Ивана в кутузку и, так как до него уже давно доходили слухи, что парень ведет в казармах довольно странные речи, то он решил отправить его в город. Заступничество попа спасло Ивана.
— Все правду ищешь? — допытывался поп. — А может, хватит? Может, ко мне вернешься? Вдругорядь из кутузки не вытяну. С властью, дурень, не шутят.
— Я тебя не просил, — непримиримо отвечал Иван. — А правду искал и буду искать.
— Позволь спросить какую? Чтобы все жили по Толстому? Начитался, на мою шею… Но ведь и ты, правдолюбец, по Толстому не живешь. Он учит прощать обиды, а ты не то что обиды, — ты все мое добро к тебе простить не можешь, зверем на меня смотришь с детства. Где же справедливость? Нас только двое, и то меж нами нет правды. Откуда же ее взять для всех людей?
Иван тяжело молчал, ответить ему было нечего. Правда, которую он хотел найти, была беззащитна, как обнаженная рана.
— Теперь далее будем рассуждать, — бил в одну точку поп. — Ты зовешь к любви и братству меж людьми, и то же самое проповедую с амвона я. Меж нами нет разницы, Ванька, хоть я иду от Христа, а ты от Толстого.
— Есть разница, — сказал Иван. — Меня за мои слова в кутузку сажают, а ты беспрепятственно жрешь, пьешь, тешишь плоть…
— Слова-то какие, — усмехнулся поп, — слова-то мои, амвонные… Эх, Ванька, жалко мне тебя, пропадешь ни за грош. Одна есть правда в жизни: кто умен и смел, тот два бублика съел. Граф Россию опроститься звал, а сам имения небось не кинул. Так у нас всегда: и лучшие лукавы… Возвращайся ко мне, дурень, в люди выведу.
Разговоры с попом Иван передавал дяде, когда тот являлся с морского промысла. Сухонький, жилистый, Вержбицкий всплескивал руками, как птица крыльями, восхищался:
— Ах поп, ах голова! Распластал тебя крепко, как осетренка. Ты эту хреновину брось, Ваня, — насчет братьев. Я с твоим папашей на Петра Земскова робил; твой папаша помер, и Земсков помер, теперь я роблю на Сеньку Земскова. Тебя послухать, так должон я Сеньку любить, а за что, едрена-бабушка! Он из меня все силушки тянет и будет тянуть до самой моей распоследней кончины. Мозги у тебя набекрень, Ванька. Начитался графьев всяких…
Иван и сам чувствовал неувязку в своей вере, однако лучше с такой верой жить, чем совсем без веры. Потому и держался за нее крепко. Говорил:
— Народ темен. Народ молится, водку пьет, зверствует. Каждый за кусок хлеба готов горло перегрызть другому, обмануть, продать. Надо показать народу, в какой мерзости он живет. Слово ему надо такое дать, чтобы он опомнился, огляделся и сказал бы: да что же это, мол, такое? Да как же это я подло живу и мог жить раньше? Слово надо народу дать, вот что.
Споры их кончались, когда иссякал заработок. Тогда они перебивались поденщиной, а ближе к зиме шли к Сеньке Земскову. Тот давал им снасти, коня, сани и посылал с ватагой таких же сухопайщиков, как они, в море на подледный лов. Однажды перед очередным уходом на промысел дядя явился в землянку возбужденный, сказал:
— Ванек! Ты про большаков слыхал? Сегодня разговаривал с одним…
— А где он? Кто такой? — загорелся Иван. — Наш, сельский? Сведи!
— Дура, — укоризненно сказал Вержбицкий. — Наши, сельские, еще рылом не вышли… Шустрый какой… Большаки, племяш, по тюрьмам сидят, а те, кто на воле, живут опасливо, первому встречному не откроются. Шутка ли, на власть замахнулись. Я так соображаю: ежели они не сбрешут — народ за ними пойдет.
— Брехливых в тюрьму не сажают.
— Смотря каких… Тебя вот чуть не упекли, — колол его насмешкой дядя.
Племянник от таких слов темнел лицом, но молчал. Вержбицкий продолжал:
— Ты нового конторщика Семина знаешь? Есть у него бумага, в которой все прописано — и про землю, и про воду, и про белый свет, как он трудящему народу должон принадлежать. И думаю я, Ваня, — он наклонился к сидевшему племяннику, грея его ухо шепотом, — думаю я, племяш, что этот Семин из них, из большаков. Пытать его начал на сей предмет, и он мне ни отчернил, ни отбелил, в сомнении оставил. О тебе сказал: пусть-де графа Толстого читает крытически, не у него учиться теперя надо… Крытически — это как, Ваня?!
— Не все на веру брать, а с рассуждением.
— Во-во! — радовался Вержбицкий. — Дельный мужик, в точку сказал. Зиму свалим — прибьемся к нему плотнее. Лады?
В ту зиму они чуть не попали в относ. Был февраль, на Каспии опаснейший месяц. С юга приходили гнилые ветры, сшибались с северными и, бессильные, уходили назад. После буйства ветров великая тишина нисходила на Каспий, и ночами, когда креп мороз, с тоскливым шорохом осыпались на лед соленые туманы. Подо льдом в эти ночи совершалась потаенная работа. Вода уходила вслед за южными ветрами, образуя пустоты, и лед тяжко обламывался над ними. Огромные поля на десять и более верст в полукружиях отплывали со скоростью быстро идущего человека. Горе тем, кто оставался на них: их давно отпоют в селах, а они будут жить, страдать и ждать смерти на обсосанных водой ледяных островках. В опасный месяц февраль Ивану Елдышеву исполнялось двадцать лет.
Не миновать бы дяде с племянником беды, да спас хозяйский жеребчик, которого Вержбицкий холил и берег пуще глаза — не в угоду хозяину, а для таких вот случаев. Был уже полдень, и ничего вроде не изменилось в мире: под ногами все тот же лед, над головой — голубенькое небо и солнце, бессильное и бледное, как бумажный обрывок, а вокруг, насколько хватал глаз, редкими точками чернели люди, лошади, бурты осетровых тушек. Ничего не изменилось в мире, а жеребчик уже почуял беду и забил копытом и заржал тревожно. Но работники были далеко и не слышали: рыба на крючьях сидела густо. Иван очнулся, когда кто-то цепко ухватил его за плечо. Обернулся, увидел оскаленную морду коня, прыгнул в сани. «Молись, Ванька! — крикнул дядя, когда сани подлетели к нему. — Ты молодой, безгрешный… Авось!» Иван молчал, потрясенный. Не крик дяди, ненавистный и злобный, не серое его лицо потрясли Ивана и не то, что они попали в относ, — в гибель ему по молодости лет не верилось, — а то, что конь мог уйти один, и не ушел без людей. И эта запоздалая мысль пронзила его счастьем, видел он в этом какой-то знак для себя, для жизни своей, но какой и что таилось в нем, он не знал и думать об этом было некогда. Была безумная скачка по краю смолисто-черного развода, то расширяющегося, то сужающегося, — и наконец конь прыгнул. Задние ноги его сорвались с ледяной кромки, он подломил под себя передние, завалился на бок и стал кричать. Иван не помнил, как очутился на льду, — наверное, его вышвырнуло из саней силой прерванного бега. Лежа, он схватил узду, потянул. Какое-то мгновение голова коня и Ивана были почти рядом, и парень видел, как из распоротого ужасом малинового зрака лошади текла слеза… А дядя, странно прихохатывая, бил ножом по гужам, по чересседельнику, высвобождая коня. Оглобли, как руки, разошлись в стороны, Иван вложил в рывок всю силу, конь тоже рванулся, встал на лед, всхрапывая.
— Все, — сказал Вержбицкий, когда они вытянули на лед сани. — Ванька, а? Это тебе не графа читать… Видал? Сучья жизнь, паскуда… Ни снастей, ни улова.
Таким он и запомнился Ивану — маленький, в ледяной одежде, с дымящейся, патлатой головой. И тогда Иван впервые укорил великого учителя, чья мудрость была бессильна под этим небом, в этой ледяной пустыне, в деревнях и городах, где одни жрали, пили и развратничали, а другие ломали хребты работой, голодали и мерли от болезней. И пусто стало на душе Ивана, будто вынули из нее смысл, которым она жила, а новый не дали.
Летом того же года уходил он на царскую войну. К большевику Семину им так и не удалось притулиться: зоркое полицейское око углядело кое-что за ним и удалило из Каралата. Жизнь теперь не светила Ивану ничем, он в своем сознании отъединил ее от себя, как вещь, и не знал, что с нею делать. На войну — так на войну… Пьяненький дядя припадал к его плечу, орал грозные слова про германца, чья кость жидка наспроть русской… Плач висел над каралатским берегом и над приткнувшейся к нему кургузой баржой для рекрутов. Тут же, на берегу, отец Анатолий служил молебен, покрывая могучей октавой многоголосую людскую скорбь. В сопровождении причта он плыл в толпе, и люди на его пути преклоняли колени, ловили губами полы парчовой рясы, целовали, крестились вслед. Иные, обессилев, подолгу лежали в пыли. Солнце жгло немилосердно, жир грязными струйками стекал с насаленных волос баб, и лица их, обмякшие от горя и самогона, были страшны. Ладан густыми пластами лежал над толпой, и запах его был древен — древнее бога, которому его воскуряли. С иконы отчужденно и нежно взирала на расхристанных каралатцев матерь божия приснодева Мария, а хор, то ликуя, то скорбя, выпевал исступленные слова, которым тысячи лет. И случилось вдруг что-то с душой Ивана, будто выросли у нее крылья, и полетела она далеко-далеко… Сместилось время, смялось оно в комок, прошлое стало настоящим, лишь вдаль страшилось взглянуть прозревшее око. Видел себя Иван не на каралатском берегу, а в княжеском ополчении. И так же шли мимо монахи, и так же хор возносил в небо чистую молитву-слезу, синеглазая дева глядела на людей и не видела их, объятая тревогой за младенца. И забыл Иван все: нищую жизнь забыл, простил господину батоги и голод, и нет у него обид, нет злобы и страха раба — есть чисто поле, а в поле ворог… Одно лишь помнит Иван: он и господин его — русские. Пусть господин на коне и в броне, пусть холоп пеш и открыт удару меча, пусть неравным счастьем одарила их при рождении родная земля, но это была их родная земля! И оба падут за нее в чистом поле, и трава пронзит по весне их тела, и смешаются они в прах, прибавив родной земле одну горсть. Твоя от твоих, плоть от плоти, кровь от крови — восстань же, душа, и умри честно за веру, царя и отечество… На каралатском берегу, в вое баб, в пьяных криках мужиков, в горе народа, душа Ивана Елдышева вновь обретала смысл жизни, короткий и точный, как удар штыка.
Простим ему его заблуждения… В тот час и на том берегу все люди были слепы, лишь поп Анатолий Васильковский знал, что творил.
5
Выпарившись в бане, хватив с дядей по чарке за встречу, Иван проснулся на следующее утро по деревенским понятиям очень поздно, но зато совершенно здоровым. Дядьки не было, ушел, надо понимать, в свою коммуну. Ладно… Хватит разлеживаться, подумал Иван, и так в последние полторы недели только и делаю, что дрыхну. Три дня отпуска — это мне начгубмилиции Багаев дал, а не мировая революция. Она, милушка, нашему брату отпусков не дает. Как там Васька Талгаев, друг разъединственный? Выкарабкается ли? Чуть на штык меня не взял, шутоломный. От штыка, правда, и оборонил. И это — ладно… Я теперь, друг ты мой Вася, при большой революционной должности — начальник волостной милиции. А что это такое и с чем это едят, ума не приложу, ежели сказать правду. Но задачу свою в текущий момент помню, Вася, твердо. Вчера вечером шел к дядьке главной улицей села — и что видел? Хоромы Левантовских стоят, как стояли, Земсковы — рядом, дед Точилин отделил, видать, внуков: три пятистенки пристроил к родовому рядку. А за Точилиными — поп, за попом — Болотов… Это как понимать? Живут не тужат, сволочи, вот как. Вроде на них пролетарской власти и нету. А дядька мой? Оратор! Кровососы живут не тужат, а он раздирает на ужин соленого леща, хлещет пустой кипяток и революционными лозунгами заедает. Да еще и рад, что поет правильно, соловей голопузый. Вот тебе и покачнулась старая жизнь… Ни хрена она здесь, гляжу, не покачнулась. Наша каралатская сермяга, до слов дорвавшись, не утопила бы революцию в них — вот какое опасение имею, Вася. А с другой стороны… Коммуну, чертяки, организовали, комячейка у них. Это что-нибудь значит? Или нет? Ни черта мы с тобой, Вася, мирную жизнь не понимаем. Как вперлись в четырнадцатом в солдатскую шинель, так и… А надо, надо понять. Для чего сейчас и потопаем мы, Вася, к председателю волисполкома Андрею Василичу Петрову.
Петров знал Ивана мальчишкой, а позже, когда Иван ушел от попа, на промысле Сухова они вместе ломали хребты работой. Встретил как родного… Когда схлынула первая радость, угасли бессвязные вопросы и ответы, оба сели и закурили перед серьезным разговором. За селом потрескивали винтовочные выстрелы — там коммунары под командой военкома Николая Медведева обучались войне. Петров прислушался, сказал недовольно:
— Зря патроны жгут. Мог бы Медведев и штыковым боем ограничиться. А завернется дело — стрелять нечем.
— Как поглядеть, — не согласился Иван. — Если человек ни разу из винтовки не стрелял, он не врага — винтовку свою бояться будет.
Петров хмыкнул.
— Что я заметил, Ваня, — врастяг сказал он. — Как стал властью, сую нос куда и не следует. Вроде у меня одного голова, а у других капустные кочерыжки. Вроде я один соображу, а другой не сможет. Отчего такое дело происходит?
— Ты всегда этим отличался, дядь Андрей, — улыбнулся Иван.
— Верна-а! — хлопнул рукой по столу Петров. — Да и не привык еще… Нынче третья неделя покатилась, как я на волостном престоле.
— А до тебя кто был?
— Эсер, господин Карнев. Ты, видать, забыл родимый Каралат? Напомню: наскрозь кулацкий. Мы, большевики, в нем в меньшинстве. Прямо хоть меньшевиками называй…
Иван темнел лицом, приподымаясь.
— Шутю, — быстро сказал Петров. — Шутю, Ваня!
— Ты ш-шути, да н-не зашучивайся… С-смотри у меня… Я еще после командарма Сорокина не очухался, а у вас тут, говорят, тоже контра своя жирует. — Иван выругался. — Это ж надо, — сказал он, помолчав, — аж в голову ударило. Ты меня, слушай, заикой сделаешь.
— Да-а… — ошарашенно протянул Петров. — Пришлося тебе, Ванек… А ведь я тебя другим помню.
— Вы с дядькой сговорились, что ли? Тот меня тоже графом Толстым попрекнул… Вот что скажи: как же тебя избрали, если Каралат не в наших руках?
— Голод, Ваня, меня избрал. Наши кровососы угнали скот в камышовую крепь, припрятали хлеб, рыбу, картоху, соль — и продают тайком втридорога. Когда дети пухнут, поневоле начнешь мозгами шевелить. Ну и мы тоже не дремали… Был Каралат не наш, стал теперь наш.
Задумался, помрачнел.
— Наш-то наш, — сказал, — да не совсем… Ничего, будет наш. Вчерась, Ваня, решение приняли — начнем трясти толстосумов… Вот, гляди, — Петров придвинул Ивану список, — гляди, душа моя, вовремя ты подоспел… Левантовский, стотысячник, — этому полная экспроприация. Коммунарам, Ваня, весной на лов выйти не с чем и не на чем — на Левантовском выйдут. Далее: Точилины… У этих хлеб возьмем.
— А есть?
— Опять забыл? Хотя что я… где ж тебе помнить. Тогда скажу: весной в семнадцатом годе полая вода пришла страшенная, размыла вал, топить стала промысла. А ночью было дело… Кинулись владельцы промыслов Сухов и Саркисян к старику Точилину — и что ты думаешь? Он стометровый проран мешками с мукой забил. А ты говоришь… Есть у них хлеб, Ваня, у всех есть, только найти надоть.
Прошлись по всему списку. Иван поднялся в радостном возбуждении.
— Ну, дядь Андрей! Прости, пожалуйста. Нехорошо было подумал про тебя, когда ты нас меньшевиками обозвал.
— Пошутить уж нельзя, едрена-вошь… Ты вот что, Ваня… Начнем прямо с ихней идеологии — с попа. Чтоб народ видел — сурьезно за дело беремся.
Петров пытливо глянул на Ивана.
— Проверяешь? — спросил Иван без обиды. — Я, товарищ председатель, тысячу раз проверенный. А через твою проверку перешагну — и не замечу.
— Ну-ну, — с хитринкой улыбался председатель. — Пишу мандат, Ваня. Попу дай срок неделю, и пусть вытуряется. Учитель Храмушин давно просит помещение под нардом, пьесы будет ставить, агитацию вести. И муки поищи. Есть мучка у батюшки, есть…
Написал, хлопнул печатью. Черно лег на бумагу царский двуглавый…
— Извиняй, товарищ Елдышев, — сказал предволисполкома, — свою еще не успели завести. А где их делают, печати-то?
— Поеду в город, закажу… Значит, так: беру пяток милиционеров — и к попу.
— Эка, быстрый какой! Откуда они у нас, милиционеры-то?
— Позволь…
— Ваня, — проникновенно сказал Петров, — средствиев содержать милицию у нас нету. Ты будешь у нас и за милиционеров и за начальника. Не обессудь, чем богаты — тем и рады.
— Я-то что… А вот мы-то как? Гражданскую войну здесь начинаем — не шутка!
— Да так, потихоньку… — Предволисполкома, как помнил его Иван, и при проклятом царизме не шибко унывал. — Потихоньку-полегоньку, — продолжал Петров. — Комячейка, а в ней девять человек, — раз, комсомолисты, а их шестнадцать, — два, остатние беспартейные коммунары — три. Меня учтем — четыре, тебя — пять, Николку Медведева — шесть.
— Хорошо, — повеселел Иван, — дислокация ясна. Вот и давай мне пятерых.
— Пятерых мало. Дам десять для первого раза. И лучше пойти не сейчас, а вечером.
— Чуждую идеологию решил сокрушать под покровом темноты? Рабья душонка в тебе заговорила, товарищ Петров! Нет уж, пойдем сейчас. Возьму с собой дядьку, и ты троих дашь. Но таких, чтоб не дрогнули: к попу идем!
Петров послушал, как трещат за селом винтовочные выстрелы, сказал задумчиво:
— Может, ты и прав, Ваня…
6
С Иваном пошли Джунус Мылбаев, отец и сын Ерандиевы, дядька.
В доме попа их встретили причитания и вой приживалок, обыкновенно тихих старушек. Набегал народ, глядел в окна.
— Цыц! Завыли… — пророкотал поп. — Здравствуй, Ваня.
— Здравствуй, гражданин Васильковский, — ответил Иван. — Постановлением волисполкома твой дом отбирается в пользу трудового народа. Прочти и распишись. На сборы и съезд дается тебе неделя. Излишки хлеба и мануфактуры предлагаю сдать добровольно.
При упоминании о доме и хлебе старушки заново начали подвывать.
— Цыц, кикиморы, — сказал поп, и они затихли. — Щель у меня в сердце открылась, Ваня, — пожаловался он. — Помру скоро. Бери все, ничего не жалко. Жизнь прошла — жизнь жалко.
— Ирод, — мстительно сказала попадья, — ты обо мне подумал? А где жить будем, подумал?
— О тебе новая власть подумает, мать, — сказал смиренно Васильковский. Попадья попыталась было еще что-то сказать, она, по всем признакам, в последние годы осмелела, но Иван прервал:
— Где хлеб, гражданин Васильковский? Тоже зарыл?
— Искусил дьявол, — сокрушенно признался поп. — Пудиков триста зарыл. Полагал, вы наложите контрибуцию, а вы вон как — хлыстанули экспроприацией.
— Вот гад ползучий! — сказал старший Ерандиев. — Товарищ Елдышев, Ваня! Ты что не чуешь — он изгаляется? Люди с голоду пухнут, ему веселье. Где хлеб зарыл? Если его подмочка прихватила — пеняй на себя, на рясу твою не посмотрю.
— Тимоша, — сказал отец Анатолий, — экий ты, право, неуважительный. Я твоих детей крестил, родителей, царствие им небесное, отпевал, супруге твоей вчера на исповеди все грехи отпустил.
— Ерандиев, уймись, — сказал Иван. — Помни, кто теперь ты есть.
— Помню и жалкую, — проворчал Тимофей. — Я б ему отпустил грехи, жеребцу…
Сохранять революционную законность было трудно. Голод не тетка, он ожесточил Бесштановку и Заголяевку. Когда были вынуты мешки с мукой из обшитой досками ямы в саду и оказалось, что половина мешков подпорчена водой, Ивану с товарищами пришлось спасать попа от самосуда обезумевшей толпы. Васильковский сразу как-то сник, сидел на табуретке, свесив голову и не обращая внимания на ругань Тимофея Ерандиева, который крыл его на чем свет стоит.
— А говоришь, ничего не жалко, — укорил Васильковского Иван. — Ни себе, ни людям. Этого я от тебя не ожидал.
Поп как-то странно поглядел наИвана, с нежностью, что ли… От такого взгляда нехорошо стало Ивану.
— Ванька, — сказал поп. — Ты когда-нибудь думал, почему я взял тебя к себе, кормил, поил?
Иван, застигнутый врасплох, молчал. И вправду, почему поп это сделал?
— Ничего тебе не скажу, раздумал. У дядьки своего спроси.
Ночью Иван спросил у дядьки. Тот, лежа на топчанишке, сказал легко:
— Тут такое дело, Ваня. Поп — он, как бы тебе выразиться, мать твою любил… И, видать, сурьезное у них дело было. Рясу хотел скинуть и все такое. Плевал он на бога-то… Но сестрица ему не далась. Может, конешно, что и было… Я бы сам рад понять свою сестрицу, да где мне. Отец твой был тюха, помянуть его не к ночи, а ко дню. Я бы на его месте гачи попу переломал…
— Тогда лады, — облегченно сказал Иван. — А то я уж было подумал… Этот чертов поп чуть опять мне голову не задурил.
— Тю! — сказал дядя сонно. — Ты, брат, уже под стол бегал. И, чую, пробежал меж ими…
Утром они пососали леща, запили горячей водой и вышли из землянки. Около волисполкома ждали их отец и сын Ерандиевы, через минуту подошел и пятый член экспроприационной комиссии Мылбай Джунусов. Темноликий, он за ночь стал исчерна-серым, шел тяжело.
— Что с тобой? Заболел? — спросил Иван.
— Плоха-а… Еда нету. Подыхаим, Ванька. Дети мой, Рахматка звали, ночью сдох…
— Умер, — сказал Иван, и горло ему перехватило. — Надо говорить — умер.
— Умер, — покорно повторил Джунусов.
Вчера ночью в волисполкоме составили список людей, кому будет выдана прогорклая поповская мука. Ту, которую не достала подмочка, а ее набралось с двести пудов, сегодня отправят в город, госпиталям, армии. В составленном списке на выдачу прогорклой муки Мылбай Джунусов стоял первым, сам-десят в семье. Сегодня его дети будут есть мучную болтанку. Чтобы как-то приободрить Мылбая, Иван сказал ему об этом. Джунусов в ответ слабо качнул головой.
Муку, которую решено было отправить в город, с болью и кровью оторвали от себя… Двое членов исполкома, певшие явно с эсеровского голоса, яростно выступили против. «Это что же? — кричали они. — Отправим, а самим подыхать? Где такое видано?»
Напрасно Петров тряс перед ними разнарядкой губпродкомиссара, напрасно говорил, что еще ни одним пудом волость не отчиталась перед городом по разнарядке. «А почему мы им, а не они нам? — кричали несогласные. — Они-то нам что дают?»
Тогда военком Николай Медведев, дергаясь лицом, вынул маузер, сунул под нос самому крикливому.
— Что ты, что ты? — опешил тот.
— К стенке поставлю, — пообещал военком. — Пристрелю.
— Вот так мы и решаем политические разногласия, — сказал тот, кто был потише и от кого маузер был подальше. — Далеко пойдете, граждане большевики. Нас маузером пристращать легше всего, а народ? Народ не пристращаешь. Отправим муку — народ свою власть не поймет.
— Втолкуем, — сказал Петров. — Николай, спрячь ты свою пушку… Втолкуем народу, что мы не отдельная Каралатская волостная республика и что декрет о продовольственной диктатуре нас строго касается.
— Декрет тоже надо с умом исполнять, а не так — чтоб последнюю нитку с себя. Наши коммунары и до весны не дотянут — слягут.
— Ах, мать твою! — взъярился Вержбицкий (он тоже был членом волисполкома). — Это с каких же пор коммунары стали твоими? А кто против коммуны глотку драл? Не ты ли? Товарищ Петров! Андрюха! Ты запрети ему в коммуну шастать. Он туды зачастил, подколодную агитацию ведет, гад ползучий!
— Не ты меня избирал и не Петров. Меня народ избирал!
Иван сидел в сторонке, слушал, постигая мирную жизнь… Еще вчера он думал: много тратят слов его товарищи, не изошли бы паром. Но н-нет… Здесь слово — тоже оружие, да еще какое! Кинут свое поганое слово эти двое в голодную массу людей — и масса вспыхнет, отзовется и сметет свой же волисполком с лица земли. Как же! Не кто-нибудь, а своя власть, и не у кого-нибудь, а от голодных, нищих людей последний кусок хлеба отбирает. Город далеко, выползавших из степей тифозных красноармейцев каралатцы не видели, а здесь дети мрут на глазах… Иван скользнул взглядом по лицам остальных членов волисполкома и прочел сомнение и неуверенность в их лицах. Лишь дядька был бодр и безогляден. Но дядьке что — он бобыль…
— Позвольте спросить, товарищи? — подал Иван голос из своего угла.
— Я уж думал, ты язык проглотил, — сказал Петров.
— Мой вопрос такой, что задать его я не могу в присутствии этих двух…
— Выйдите на минутку, — сказал им Петров. — Мы тут своей фракцией побеседуем.
— В случае заварухи, — сказал Иван, когда они вышли, — все ж таки сколько мы своих людей можем поставить под ружье?
— С полсотни, — ответил военком.
— А кулацкий Каралат?
— Человек двести-триста, — сказал Петров. — А ты еще меня отбрил, Ваня, когда я насчет меньшинства говорил. Теперь сам видишь… Нас, конечно, полсела поддержит, но как поддержит? Сидя по запечьям, охами и ахами.
— Вот! И вы, мои дорогие товарищи, все ж не убоялись, начали кровососов трясти. Почему не убоялись? Потому что позади нас город, а в нем — наша, пролетарская власть. Покуда она наша — здесь ни одна тварь голову не поднимет явно. Щипать из-за угла будут, это ясно. А падет наша власть в городе — нам здесь и минуты не продержаться, в клочья разнесут. И нам ли сомневаться, помогать или не помогать городу? Помогать, последнюю нитку отдать!
— Верно! — сказал Петров. — Дюже правильное у тебя слово, Ваня.
— Дядька! — повернулся Иван к Вержбицкому. — Ты что же это, а? В коммуне, оказывается, вражеская агитация на полном ходу, а ты молчал? И ты, товарищ Медведев… Маузером трясешь… Оружие не игрушечка, обнажил — стреляй!
— Эка! — сказал Петров. — Охолони, Ваня, маненько…
— Я к тому, что вы должны постановить: за вражескую агитацию — под суд и к стенке. Вы власть или не власть?
Позвали крикунов, постановили… Все это было вчера вечером. А нынче, чтобы не дать опомниться кулацкому Каралату, Иван хотел сразу же повести свою экспроприационную комиссию к Левантовскому. Но Петров нарушил его планы.
— Ваня, — сказал он, едва Елдышев переступил порог его кабинета, — муку надо сегодня же отвезти. От греха подальше… Тебе все равно ехать в город — вот и отвезешь. Сдашь прямо в губпродком.
— А Левантовский? Слушай, им после попа роздыху давать никак нельзя. Смять их надо, ошеломить. На город надейся, сам не плошай. Не ровен час — и снюхаются.
— Ты меня глазами-то не жги! — рассерчал Петров. — Манеру взял! Я тебе в отцы гожуся… К Левантовскому сам пойду. Мы и без твоих глаз понимаем: отступать теперя некуда, попа нам все равно не простят. Для того я, — Петров улыбнулся с хитрецой, — и отправил тебя к нему первому. Чтобы, значит, в нашем брате, у кого остатняя рабья душонка, — тут опять усмешечка скривила его губы, — мыслюха какая опасливая уж боле не ворошилась. Понял?
— Вот это я люблю, дядь Андрей, — от души сказал Елдышев. — Тут я до конца с тобой.
— То-то же! — довольно заулыбался предволисполкома. — И мы не лыком шиты. Соображаем, что к чему!
7
В сырой, загаженной плевками и окурками комнате сидел за столом управляющий складским хозяйством губпродкома и ужинал всухомятку куском хлеба и брюшком испеченной в золе соленой воблы. Но не то было удивительно, что он ужинал, а то было удивительно, как ужинал. Невозмутимо он ужинал… Комната была забита матросней, солдатами, неопределенного вида штатскими — каждый тянул к нему мандат, с мандатом — требование на отпуск продовольствия для своей части, госпиталя, учреждения… Иные вместо мандатов вытянули браунинги, наганы и маузеры, стучали рукоятками по столу, тыкали дулами в ужинавшего. Он устало отмахивал их от себя, как надоевших мух, и продолжал жевать. В комнате висел сизый махорочный дым, хриплый гомон и мат.
Иван Елдышев продрался поближе к столу, посмотрел и отошел в сторону, не понимая, что тут происходит. Тут же его придавил к стене могучим плечом солдат.
— Видал? — захрипел он возбужденно. — Видал, браток? Склады закрыл, с утра нас тут гноит, а сам жрет, контра!
— С самого утра и жрет? — спросил Иван спокойно.
— Н-ну как… Н-ну не знаю, — малость опешил солдат, но тут же и выправился в своем праведном гневе. — Сам видишь — жрет! А у меня в госпитале двести тифозных. С чем к ним вернусь? С пустыми руками, браток, возвращаться мне к ним никак нельзя. Я так сделаю, браток: пулю приму. Но до своей пули этой интеллигентной вше, — он ткнул «смит-и-вессоном» в сторону ужинавшего, — две не пожалею, в каждое его стеклышко всажу.
— Ну и дурак, — сказал Иван устало.
— Што-о?
— Дурак, говорю, будешь. Тебе какой паек положен?
— Фунт хлеба и соленая вобла.
— Съел?
— Для меня это еда ли? — спросил солдат грустно. — Понюхал!
— Вот и он тоже — понюхал, — Иван кивнул на управляющего, который бережно собирал с расстеленной газеты хлебные крошки. Солдат несколько мгновений хлопал на него гноящимися глазами, отвалился от Ивана к стене и стал клясть мировую буржуазию в бога, в крест и в маузер.
Управляющий, отправив собранные крошки в рот, прилежно пожевал, поправил пенсне и в последний раз отмахнул от себя плавающие пистолетные дула. Затем вытащил из пальто браунинг и выстрелил в потолок.
Стало тихо.
Он прижал ладонь к горлу и зашелестел сорванным голосом, обращаясь к Ивану:
— Товарищ, вы почему мне не грозите оружием?
— Нездешний, — коротко ответил Иван. — Не привык. Продовольствие привез.
Стало совсем тихо. С потолка на стол оглушающе шлепнулся кусок штукатурки.
— Откуда? Сколько? — шелестел управляющий, напрягая горло.
Иван ответил. Он привез двести пудов муки, три бычьих туши, четырнадцать бараньих тушек и пуд топленого масла, которое вчера изъял у попа.
Управляющий тут же распределил муку по трем пекарням, приказав начать выпечку в ночь. Мясо и масло отдал госпиталям. Но всем не хватило. Опять перед ним заплавали пистолетные дула. А он глядел сквозь пенсне на Ивана и улыбался печально, подрагивая старорежимной бородкой клинышком. «А ведь убьют его», — подумал Иван. Кое-как он утихомирил недовольных, вытурил их из комнаты под предлогом, что ему надо обговорить кое-какие дела с товарищем наедине. Закрыв за ними дверь, сказал:
— Вам, товарищ, не надо бы свой паек есть при всех. На такой случай закрывались бы, што ли.
— Нельзя, — прошелестел тот в ответ. — Закроюсь, подумают черт-те что. Бомбу бросят. Надо только на виду. Не та беда, что ем, а та беда, что три раза должен есть: язва желудка у меня, паек делю на три части.
— Можно ли при язве соленую воблу-то? — искренне пожалел его Иван. — Позвольте, товарищ, отрезать вам кусочек мяса и баночку масла принести. Это не взятка, — заторопился он, — это подарок вам будет. От каралатских коммунаров.
— Подарок должностному лицу и есть взятка, — проклекотал управляющий. — Но я учитываю, молодой человек, ваше искреннее желание помочь мне, поэтому благодарю на добром слове. Отрезать кусочек мяса, конечно, можно. И сварить — не проблема. Но вот как его проглотить? Ведь мы его из тифозных ртов вынем…
Иван сник. Вспомнил Мылбая. Но не сдался. Продолжал:
— Вы на таком месте, товарищ… Вас надо беречь. Свалитесь — кто придет?
— Сюда не приходят, — прошелестело ему в ответ, — сюда назначают. Проверенных. А помимо партийной проверки, не я, так другой, будет здесь под пистолетными дулами жить, чему вы и были свидетелем.
— Был, — сокрушенно сказал Иван, поднимаясь с колченогого табурета. — Прощайте, товарищ. Счастливо вам. Ухожу с виною: ничем не смог помочь, а хотел.
Минут через пятнадцать каралатские сани были пусты. Богатырь, который хотел принять пулю, пер теперь на плече к своим саням бычью ногу. Увидел Ивана, ощерился:
— Поживем еще, браток!
Иван отвернулся.
— Чего морду-то воротишь? Думаешь, сбрехнул Петра Мосолов про пулю? А поехали со мной, поглядишь, как революционная тифозная братва в бараке на соломе дохнет. Вши в нее впились, крысы обгрызают, а ты, а? Морду воротишь?
Он стоял, покачиваясь, глаза его стекленели, левой рукой он придерживал груз на плече, правой уже рвал ворот гимнастерки. Но вот правая скользнула в карман за своим «смит-и-вессоном»… Плохо бы, наверно, все это кончилось, да, к счастью, подбежали к богатырю двое, тоже не слабые; один не дал ему вынуть руку из кармана, другой переложил бычью ногу к себе на плечо. Повели, оглядываясь и прожигая Ивана глазами.
— Лихой народ, — сказал Вержбицкий, приехавший вместе с Иваном. — За наш хлебушек, который от себя со слезьми оторвали, нас же лают и чуть свинцом не отдарили.
— Обиделся, дядя? — спросил Иван хмуро.
Дядька в ответ слова не дал, лишь слабо хмыкнул.
— А напрасно, — сказал Иван. — Тиф у него. Он об этом еще не знает. А вечером сляжет. И сильно ему повезет, если койка найдется. Мы с Васькой Талгаевым первыми вышли, нас в ванне мыли… А когда я из госпиталя выписывался, то до наружной двери по живым и по трупам пробирался, столько нашего брата было набито.
— Что деется, — вздохнул Вержбицкий. — Уж мы вроде у себя бедуем, а тута… Ох, Ваня! Давить нашу каралатскую контру надо беспощадно и без рассуждениев, а то пропадем. Город на ниточке держится. Склады-то какие, видал? Бывшие купцов Сапожниковых, их, мяса не поев, не обойдешь. Я заглянул — пусты. А ежели бы мы своих двести пудиков не привезли, что тогда?
Иван оглянулся на окошко, за которым сидел сейчас тот странный человек, управляющий складским хозяйством губпродкома, фамилию которого он даже не узнал, и потеплел сердцем. Сказал:
— Ежели да кабы… Ты, дядька, песню свою про город на ниточке забудь: контрреволюционная твоя песня, в чека запросто загремишь.
Подошли еще шесть возчиков, все мужики в возрасте, из них Иван помнил только одного — Степана Лазарева, который когда-то дружил с его отцом.
— Ваня, — сказал Лазарев, — солнышко заходит, а кони не поены и не кормлены, об себе уж молчим… Какие твои будут указания? Тут постоялый двор рядом…
— Указание одно — назад, в Каралат, — ответил Иван. — Команду сдаю Вержбицкому, ему подчиняйтесь, он ваша волостная власть. Коней напоить и, покормить здесь — и в путь. Без промедления.
— Что уж так-то, Ваня? Больно ты суров. Дозволь хоть чайком кишки прогреть в трактире, — загомонили мужики.
— Чаевник! — укорил Иван Лазарева. — У тебя дома семеро по лавкам. А на разомлевших и потных тифозная вша так и лезет. Еще нам этого дела в Каралате не хватало! Обойдитесь уж, мужики, без трактира. Целее будете. Слыхал, дядька? Взыщу!
— Не сумлевайся, Ваня. Мы ныне люди военные: на семерых — одна винтовка. А ты свою заберешь?
— Оставлю. Ежели понадобится, мне и тут дадут.
Иван простился со всеми. Обнял дядьку.
— Вань, а ты куда намылился-то? — спросил Вержбицкий.
— Велено явиться к начальнику губмилиции товарищу Багаеву. А зачем — кто знает?
— Не ко времени, Вань, — попенял Вержбицкий. — Тамочки у нас дела теперя крутые пойдут, а ты в нетях. Они што — без тебя не обойдутся?
— Сам понимаю, не ко времени, — согласился Иван, — но ведь я при службе, дядя.
— Это уж да, — вздохнул Вержбицкий. — Службу служить — другу не дружить.
— В ночь идете, дядя. — Иван вынул наган. — Возьми. Мало ли что… Обращаться с ним можешь?
— Военком Медведев научил. — Вержбицкий сунул наган за пазуху. — Теперя с двумя винтовками и этой штукой нас задешево не возьмешь. Не боись, дойдем в целости. Сам вертайся скореича. У товарища Багаева на тебе, думаю, свет клином не сошелся.
Со стесненным сердцем Иван проводил дядьку и возчиков, а сам пошел в центр города, в губмилицию. Было у него твердое намерение отпроситься у товарища Багаева, поймет, поди, не к теще на блины отпрашиваюсь, в Каралате бочка с порохом осталась. Но в кабинете у Багаева он даже заикнуться об этом не успел.
— Товарищ Елдышев, — сказал начгубмилиции, — я тебя жду. А ты запаздываешь.
Иван не помнил, чтобы ему было приказано явиться нынче; наоборот, он считал, что прибыл на день раньше. Но оправдываться не стал. Перед отъездом в Каралат он видел Багаева накоротке и не знал, что это за человек.
— А жду я тебя потому, — продолжал Багаев, — что из твоего формуляра следует: ты воевал. Это очень важно. Из сотрудников милиции и уголовного розыска сформирован спецотряд, который нынче в полночь отправится под Саратов за хлебом. Люди отобраны проверенные, но воевавших среди них мало. Командир спецотряда — я. Тебя назначаю первым своим помощником. В случае моей гибели командование принимаешь ты. Бери мандат.
Иван взял бумагу, прочел. Грозный был мандат! С таким мандатом в Каралат не отпросишься. И печать стояла своя, революционная. Вспомнил каралатского двуглавого орла, посожалел, что не успеет уж теперь заказать.
— Внизу, в дежурке, тебя дожидаются четыре вооруженных сотрудника, — продолжал Багаев. — Бери их и езжай на вокзал, из-под земли достань начальника дороги господина Циммера: он на мои телефонные звонки не отвечает. Ему еще вчера было приказано подготовить нынче в десять вечера тяжелый товарный состав. Ежели в десять часов состава не будет — ставь господина Циммера к стенке.
Иван вынул из кармана мандат, перечитал.
— Основательный ты мужик, товарищ Елдышев, — с одобрением сказал начгубмилиции. — Но ты не туда глядишь, ты сюда гляди, — он подал Ивану газету. — Читай, что отчеркнуто красным карандашом.
Красным карандашом был отчеркнут приказ председателя Астраханского ревкома Кирова о введении в городе чрезвычайного положения. Иван выхватил глазами строчки: «…всех бандитов, спекулянтов, мародеров, застигнутых на месте преступления, всех саботажников и лиц, не подчиняющихся велениям пролетарской власти, — расстреливать. Право расстрела принадлежит органам ЧК, милиции…» Иван не стал дочитывать, кому еще принадлежит право расстрела, положил газету на стол, спросил:
— Этот Циммер — он по-русски хорошо понимает?
— Ежели меня попросят к стенке, скажем, на французском, я, думаю, враз смикитю, хоть и неуч. А все ж таки… Уважая твою основательность, товарищ Елдышев, дам тебе еще одного сотрудника. Он прекрасно разобъяснит суть дела хоть на немецком, хоть на английском — на каком Циммер пожелает. Тропкин!
В кабинет влетел дежурный, щелкнул каблуками.
— Агента губрозыска Гадалова ко мне!
— Поставить Циммера к стенке — дело плевое, товарищ начальник, — сказал Иван, когда дежурный вышел. — А состав? Он сам по себе не сформируется.
Багаев тяжело и с явным сомнением, от которого Ивана бросило в жар, глянул на него.
— Не нравится мне твой вопрос, товарищ Елдышев. Я тебя туда не карателем посылаю. В десять часов вечера состав должен стоять на путях под парами. Головой отвечаешь! Я тебя не спрашиваю, разбираешься ли ты в железнодорожном хозяйстве, — я в нем сам ни черта не понимаю. Но тебе на этот случай и дана громадная власть. Ты ею привлеки людей, которые в деле разбираются. Задачу понял?
— Так точно, товарищ начальник.
Вошел агент губрозыска Гадалов. Им оказался парнишка лет шестнадцати в поршнях, ватнике и высокой калмыцкой шапке. Шапку он снял и тихим голосом доложил о прибытии. А когда он снял шапку, Ивану бросилось в глаза его тонкое, нервное, лобастое лицо, и почему-то подумалось Ивану, что к такому лицу никак не подходят ни поршни, ни ватник, ни высокая, похожая на башню шапка. А почему не подходит? Губмилиция и губрозыск располагались в одном здании, и пока Иван добирался до кабинета Багаева, повидал в коридорах всякого народа, и народ был одет пестро. Поршни — это еще милость, в лыковых лаптях щеголяли сотрудники. Иван слышал, что губисполком выделил их для губмилиции четыреста пар… Так ему подумалось, а сказалось другое:
— Товарищ, шапка у тебя сильно приметная. Считай, каждая шальная пуля твоя.
Сказал — и прикусил язык: поперед начальства вылез, а его не спрашивали. Но, к удивлению, Багаев его поддержал.
— Сергей, что такое? — сказал он. — Я в губисполком отношение писал, чтобы тебе — одному тебе во всей губмилиции и розыске! — полный комплект воинского обмундирования выдали. И тебе, помню, выдали.
— Выдали, товарищ начальник, — тихо подтвердил Сергей.
— А где ж оно? Почему не носишь?
— Берегу… Мне его выдали как переводчику, а не как агенту губрозыска.
— Ну парень! — только и сказал Багаев. — Разница-то какая? Тебе ж выдано!
— Разница есть, товарищ начальник, — тихо, но твердо стоял на своем Гадалов. — Вашим приказом я зачислен в спецотряд.
— И что?
— Угваздаю. Новенькое обмундирование. А вы сами же и сказали, что после возвращения из Саратова быть мне при вас переводчиком на встречах с английским консулом мистером Хоу и персидским консулом господином Керим-ханом уль-Мульк Мобассером.
— А ведь забыл! — хлопнул рукой по столу Багаев. — Совсем забыл! Нам надо, Серега, с ними говорить по делам военнопленных и беженцев. Слушай, а ты и персидский знаешь?
— Керим-хан, — сказал Гадалов, — в совершенстве владеет английским. У него оксфордское произношение.
— Это еще какое? — с неудовольствием спросил Багаев. — Поди-ка, вконец контрреволюционное, язви его!
Гадалов на мгновение запнулся, а Елдышеву, который в свое время окончил церковноприходскую школу и, главное, много читал в поповской библиотеке, была понятна эта запинка.
— Очень правильное произношение, Иван Яковлевич, — пояснил Гадалов. — Культурное. Мне до такого далеко.
— Тогда обмундирование береги, Сергей, — строго сказал начгубмилиции. — Благодарю за службу и революционную сознательность, а я перед тобой вкруговую не прав. О том бы мне, дураку, подумать: не оборванцами же перед господами капиталистами пролетарскую власть представлять. Пока будем добираться до Саратова и обратно, ты в это оксфордское произношение хорошенько вникни, чтоб нас перс не надул! А товарищ Елдышев, который на время поездки будет твоим прямым начальником, от вахт для такого важного дела тебя освободит. Теперь идите и выполняйте задание!
К десяти часам вечера Иван Елдышев поставить состав под пары все-таки не успел. Но к одиннадцати — поставил. Багаев привел отряд, принял рапорт как должное и даже не спросил, чего это стоило Ивану. Погрузились и поехали. После короткого совещания с помощниками, на котором обговорили внутренний распорядок, Багаев протянул Ивану лисий малахай, сказал:
— Передай Гадалову, тезка. И упаси его бог потерять как-либо. Из камеры вещдоков эта лиса взята. Возвращать придется.
8
Ровна степь для пешего, ровна для конного, а для паровоза и в степи нет ровного пути: на каждом перегоне таятся подъемы и спуски, почти незаметные глазу человека, но ощутимые для сердца старенькой «овечки». Ночами, когда паровоз, поистратив на подъемах скорость, не успевал набрать новую, откуда-то из тьмы налетали конники, постреливали, скакали рядом с вагонами, полосуя шашками их деревянные стенки, и исчезали прочь. Сводный милицейский отряд, сопровождавший состав, не отвечал ни единым выстрелом. Запретил Багаев. «Пуля есть достояние революции, — строго сказал он. — Пулю надо расходовать с умом. Пока поезд бежит, нам сам черт не страшен».
Так, молча, они уходили от степных банд. Далеко по горизонту слабо мерцали зарева, где-то гибли люди, рушились надежды, а здесь безостановочно стучали колеса вагонов, до отказа набитых мешками с мукой. Когда отошли верст на сто от Красного Кута, где брали хлеб, Багаев, несмотря на яростный протест машиниста, остановил поезд и часа два до пота гонял весь отряд, пока не уверился, что каждый твердо знает свои обязанности в случае нападения.
К каждой станции поезд подходил, ощетинившись винтовочными дулами, как еж иглами. Черным оком настороженно следил за станционной платформой пулемет. Со стороны это было, наверное, внушительно; мешочники, которых никто и ничто не могло остановить, испуганно откатывались назад. И бежала молва: к поезду не подступиться. И бежала другая: на все боевые наскоки поезд не отвечает. Ошарашивающая, сбивающая с толку весть летела по степи. А Багаев на нее и надеялся: он-то знал изнанку боевой мощи своего отряда. Пулемет заедал, винтовки были в исправности, но патронов к ним мало…
Потому-то и не терпел Иван Яковлевич подъемов, они раздражали неизвестностью, таившейся за ними. Вот в этот, версты в три, — что за ним? Всякое могло быть за ним, всякое… И он, подобравшись, сказал машинисту:
— Гони, батя!
— Не лошадь, — язвительно ответил машинист, — кнутом не стегнешь. А ты, господин-товарищ, отойди, не мешай.
— Ладно, отойду, — бормотнул Багаев. — Я не гордый, отойду. — И продолжал про себя, заговаривая свое смущение и нетерпение свое: «Ишь ты, какой сурьезный мужик. Дать бы тебе по шее за господина, да нельзя: прав ты… Всяк будет соваться не в свое дело, что получится? Анархия получится, вот что… Анархия-то анархией, а проследить за тобой не мешает. Нет, не мешает проследить за тобой, батя, совсем не мешает…»
Разговаривая сам с собой таким образом, Иван Яковлевич зорко ощупывал глазами степь. «Может, все это ерунда? — думал он. — Может, ничего такого и не будет?» Но предчувствие ныло в нем: будет, будет, будет… Паровоз одолел подъем и теперь, кашляя паром, тяжело вытягивал вагоны. Далеко впереди, в сером рассветном сумраке, разглядывалось что-то темное, бесформенное — там, на полустанке, мимо которого состав пройдет, не задерживаясь, стояло несколько домишек. Но не туда смотрел Багаев — смотрел он правее, где лежала балка. Дальним концом она уходила в степь, ближним — широким полукругом охватывала рельсовый путь, и в это полукружие уже втягивался состав. Если бы Багаев решил напасть на поезд — он нападал бы здесь. Несмотря на то что ни в балке, ни около не было заметно никакого движения, он дал три коротких гудка — сигнал тревоги. В эту минуту его шатнуло вперед: он уперся руками в стекло и в просвете между ладонями увидел на рельсах красный огонь. Человек угадывался смутно, но огонь рдел, описывал круги — яркий, бесстрашный… Тело Багаева стала легким и упругим, гневная сила втекла в каждый мускул, мозг работал четко и схватывал сразу многое. Слева, боковым зрением, Иван Яковлевич видел, как машинист ручкой реверса дает контрпар, как помощник налег на тормозное устройство, — он видел это и с запоздалой виной думал, что зря подозревал машиниста, обидел этим старика и поделом схлопотал от него «господина». И еще он отметил, что поезд быстро замедляет ход, — значит, там, в вагонах, двадцать тормозильщиков тоже не сидят сложа руки. Он отметил это, как зарубку положил, и тут же забыл: справа, примерно версты в полторы от состава, из балки выхлестнула темная волна. «Вот где вы пригрелись, змеи», — подумал он без удивления. Надо было бежать к своим, но Иван Яковлевич не мог сдвинуться с места, ему казалось кощунством уйти сейчас, когда там, на рельсах истекали последние мгновения жизни неизвестного ему человека, предотвратившего крушение поезда. «Узнаю имя, — заклинал себя Багаев, — дорогой ты мой товарищ, по земле мне не ходить, узнаю твое имя». Теперь он следил уже не за ним, а за конником, вывернувшим из-за жилых построек. За ним следили и милиционеры с крыши состава. Прогремело несколько выстрелов, но поезд был далеко, он уже замедлил ход и пули не достали. А конник все ближе, ближе, вот он взмахнул рукой, граната полетела от него к человеку на рельсах, упала — и на том месте расцвела малиновая вспышка. Конь поднялся на дыбы, защищая всадника от осколков, и стал заваливаться назад: всадник соскользнул с него и побежал в степь.
Багаев широким шагом шел по крыше состава, перепрыгивая провалы в местах сцепления вагонов. За мешками с землей по двое длинной цепью лежали милиционеры. Багаев молча проходил мимо них: все, что надо было сказать, было сказано и повторено раньше.
— А ты почему один? Где напарник? — спросил Багаев у Сергея Гадалова. Плечо шестнадцатилетнего парнишки мелко дрожало под рукой Ивана Яковлевича. — Боязно?
— Не-ет, — ответил Сергей. — Замерз я, вот и дрожу. Со мной Иван Елдышев, он ждет вас у пулемета.
— Тогда тебе лучше, парень. Я вот не замерз, а дрожу…
Сергей улыбнулся мучительно.
Елдышев сидел у пулемета и доставал из чехольчиков немецкие гранаты с длинными деревянными ручками. Аккуратно ставил их рядком. Сосед его, агент губрозыска Петр Космынин, сожалеючи спросил у Багаева:
— Как будем делить, товарищ начальник?
— Поровну, Космынин, поровну, — ответил Багаев, устраиваясь за пулеметом. — Сказано же было! Хоть как хитри, Космынин, а их всего шесть…
Космынин отбухал в окопах всю царскую войну, боевой опыт у него был. Ему Багаев поручил хвостовую часть состава, Елдышеву — головную, себе взял центр…
— Что-то вы расселись, мужики… Не к теще на блины пришли.
Космынин взял две гранаты, поднялся и сказал обиженным голосом:
— Пойду.
— Поспеши… А ты, тезка, — попросил Багаев Елдышева, — пригляди за Сергеем Гадаловым. Побереги его… Два языка, пострел, знает, в угрозыске ему цены не будет.
— Я уж и так, товарищ начальник, — ответил Иван, взял гранаты и побежал к своим.
Балка еще выхлестывала последних конников, а основная их масса уже развернулась и лавой пошла на состав. В тишине зимнего утра возник слабый вой, он разрастался, густел. «Сотни полторы», — определил Багаев. Нападение подготавливалось в спешке: много времени было потеряно на выход из балки по неудобному, видимо, подъему.
— Любуйся, Тюрин, — сказал Багаев напарнику, — такое не часто увидишь. Это не какая-нибудь бандочка, казаки идут.
— Дурость — и ничего больше, — ответил Тюрин. — Разве так поезда берут?
— А где ты видел, как их берут? Мне как-то не приходилось полюбоваться.
— В Америке видел.
— В Америке… — сказал Багаев отсутствующим голосом и приник к прицелу. — Вася! — сказал он снова, нетерпеливо и тревожно. — Не приказываю — прошу: старайся держать ленту повыше, Вася. Заест — пропадем, тут тебе не Америка.
Вон тот бородач, думал Багаев, его только допусти сюда… Еще немного, еще… Уже виден провал разъятого в крике рта. Еще подождать… Пора!
И он ударил.
Лишь самое начало боя, когда ударил пулемет и стал сминать первый рядок лавы, и она, словно наткнувшись на невидимую стену, потекла в стороны, — лишь это уложилось целостной картиной в сознании Сергея Гадалова, а все остальное слилось в какой-то вихрь обрывочных картин и действий, причем все свои действия он совершал бессознательно — будто и не он, а кто-то посторонний, существовавший в нем потаенно до поры до времени. Этот деловитый человек в нем стрелял, бежал туда, куда приказывал Елдышев, совершенно не думая, с какой целью бежит и что будет делать дальше, — и не удивлялся тому, что цель перебежек вдруг раскрывалась сама, без подсказки: надо было снять с тендера четверых казаков. Рядом стреляли товарищи, и он тоже щелкал затвором, досылал патрон, стрелял — и, может быть, убивал, и — хотел убивать.
Визг лошадей, жалобный плач рикошетируемых пуль, площадной мат, стопы, грохот гранатных разрывов, прерывистый говор пулемета — все это видел, слышал другой человек в Сергее Гадалове, и он, этот другой человек, кричал от страха, ужасался, ничего не понимал и хотел одного — забиться куда-нибудь, спрятаться, исчезнуть. И то желание осуществилось: позади ударила граната, и Сергея сбросило взрывной волной с крыши вагона. Он успел ощутить толчок о землю, но земля его не задержала, он продолжал падать в ее темные вязкие недра и пробыл там целую вечность. А когда пришел в себя и встал, покачиваясь, то увидел, что за целую вечность ничего на земле не изменилось. И еще увидел — смерть его близка. Тогда тот, деловитый, не рассуждая и ничему не удивляясь, поднял винтовку и выстрелил. И потому, как мстительно оскалил зубы казак, как занес он для удара шашку, понял Серега Гадалов, что промахнулся, и закричал коротким смертным криком. И опять деловитый, будто так и надо, успел поднять плашмя винтовку. Сталь тяжко, со вскриком, ударила о сталь и высекла струю бледных искр. На второй удар всаднику не хватило жизни: Елдышев услышал крик Сергея и послал свою пулю.
И сразу же все стало тихо. А может быть, и не сразу, но только Сергей Гадалов вновь ощутил себя, когда кругом стало тихо. Конечно, звуки были: пофыркивал паровоз, поругивались на крыше дальнего вагона какие-то люди, пытаясь сбить пламя землей; вблизи слышалась негромкая хриплая речь, посвистывал ветер в разбитых окнах тормозного вагона; голос санитарки Тони ласково уговаривал кого-то: «Потерпи, миленький, потерпи. Батюшки, да зачем ты меня кусаешь? Не надо, миленький, кусаться, мне еще других перевязывать». Эти голоса и звуки доходили до Сергея смутно, он ничего не понимал в них и, сидя на земле, бездумно смотрел на левую кисть руки, где шашкой был почти отвален мизинец. Временами на Сергея накатывала дурнота, глаза застилали багровые всполохи, бил озноб. Но не от этого страдал он — страдал от мысли, сначала слабой и отдаленной, а по мере того, как он приходил в себя, все более грозной и неумолимой — ее, казалось, рождал каждый удар сердца: трус, трус, трус… «Трус!» — кричало все его существо, и жизнь, которая была так желанна, за которую он так дрожал, теперь казалась ему невозможной, отвратительной, купленной ценой предательства. Как посмотрит он в глаза своим товарищам, что скажет Елдышеву, что скажет Багаеву? Они все видели, все знают, а он не знает даже, живы ли они, — так боялся за себя. И Сергей, ярко и зримо вспомнив свой ужас и бесцельные неумелые действия, застонал от стыда.
А Багаев — вот он, подошел, сел, спросил:
— Сергей, почему руку не перевязал?
Спросил буднично, устало — и это было необъяснимо, это никак нельзя было совместить с тем, над чем казнилась душа юноши. Сергей снова глянул на окровавленную руку, боль стала нарастать, заполнять тело, подошла к горлу, но тут же отхлынула, и Сергей забыл о ней. То, что он отделался пустячной раной, когда другие, возможно, отдали свои жизни, лишний раз убедило его в своей трусости, виновности, подлости. И догадка обожгла его: Багаев притворяется, Багаев щадит…
Багаев между тем внимательно вгляделся в Сергея. Вздохнул, поднялся, одернул на себе гимнастерку:
— Встать, Гадалов! Встать!
— Зачем? — вяло отозвался Сергей. — Зачем вы притворяетесь, Иван Яковлевич? Меня расстрелять надо…
— Что такое? Ты как, сукин сын, с командиром разговариваешь? Вста-а-ть!
И с острой жалостью глядел, как поднимается с земли Сергей Гадалов. Чистая душа этого юноши скорбела… Вспомнил Багаев себя, первую сабельную рубку свою, затуманился…
— Сергей, — мягко сказал он. — Слушай меня внимательно. Слушай и запоминай, повторять не стану. Ты действовал в бою храбро, находчиво, сообразно обстановке, понял?
Однако пришлось повторить. Сергей вроде бы и слышал, а не понимал ничего. Дело худо, подумал Багаев, в таком разнесчастном виде его оставлять нельзя. Он зорко огляделся по сторонам, крепко встряхнул парня, спросил:
— Способен слушать?
И увидел — способен.
— Повторяю. Елдышев доложил: ты действовал в бою храбро, находчиво, сообразно обстоятельствам. Оглушенный и сброшенный с крыши вагона, винтовку не выронил, не напоролся на штык. Понял теперь? Винтовку из рук не выпустил и от казака оборонился. Значит, Серега, из тебя выйдет надежный боец.
Сергей так и подался к нему:
— Дядь Ваня, правда ли? Выйдет?
— Еще чего — командир тебе брехать будет? И кто он такой, этот дядь Ваня? — стал заворачивать потуже гайки Иван Яковлевич. — Я такого не знаю. Я знаю командира спецотряда товарища Багаева, то есть себя лично, и бойца спецотряда, агента губрозыска товарища Гадалова. В данную минуту командир выражает бойцу благодарность за стойкое поведение в бою, а боец стоит перед командиром рассупонившись, винтовка на земле, рука не перевязана. Марш на перевязку! Казацкая шашка не больно сечет, зато потом больно бывает, поверь мне.
А там, на разъезде, выскочил в это время из землянки человек, кинулся в одну сторону, в другую и увидел то, что, наверное, боялся увидеть, — и застыл на месте. А потом побежал — на пределе сил, заполошно размахивая руками, раздирая легкие дыханием. Подбежал, рухнул на колени, затих.
И Багаев, глянув туда, гневно себя укорил. Восемь человек погибло в бою, но вот о самом первом он забыл, даже в счет не взял его. После боя много забот о живых сваливается на командира, а все ж таки забывать-то не следовало, раз обещал…
На шпалах лежал четырнадцатилетний парнишка. Осколки гранаты распахали его тело, лишь лицо осталось нетронутым: широко раскрытыми глазами глядел он в зимнее небо, и не видел ни неба, ни Багаева, ни отца, уткнувшегося головой ему в колени, ни Елдышева, подошедшего и вставшего рядом с Багаевым. Короткой, как гранатная вспышка, была его жизнь: пришел и ушел, и нет его, малой песчинки этого мира. «А вот что я сделаю, милый мой, — решил Багаев,-сокрушаясь сердцем. — Выстрою я отряд и перед строем по русскому обычаю поклонюсь в пояс твоему отцу. И благодарность ему скажу от всего мирового пролетариата. А имя твое в рапорт впишу. Больше, милый мой, я ничем не богат».
Человек тяжко поднял голову от колен сына — борода в крови, зубы оскалены — не человек, оборотень.
— Имя спрашиваешь? — ненавистно прорыдал он в лицо Багаеву. — А ты, сука красная, сына мне вернешь за имя?
Под шершавой ладонью Елдышева рука Багаева намертво припаялась к кобуре маузера — не шевельнуть. Нет света, нет дыхания…
— Стреляй! — хрипел мужик, поднимаясь. — Пореши заодно!
Елдышев, вздыхая, шел за Багаевым.
— Сманул мальчонку… Осиротили! — ненавистно неслось им вслед. — Убивать вас буду, жечь… Чтоб она сдохла, ваша проклятая революция!
— Ничего не пойму, — сокрушенно говорил Елдышев. — Лежал он в землянке связанный, как куль. Не мы его связали, не мы мальчонку его гранатой растерзали… Хоть убей, ничего не пойму, Иван Яковлевич.
— Раз он лежал связанный, это меняет дело, — задумчиво проговорил Багаев. — Ты, тезка, потолкуй с ним. Наскоком, как я, такого сурьезного человека за душу не возьмешь… Кто он такой, где живет, какая семья? И узнай имя парнишки.
— А чего узнавать? Узнано… Степан Степанович Туркин, тринадцать лет. И отец его, вурдалак этот, тоже Степан Степанович. Вдвоем тут и живут: Степан Степанович да Степан Степанович.
— Жили вдвоем, — поправил Багаев. — Ему теперь не прожить после нас и дня. Надо его забрать с собой. Уговори.
— Я девок-то не умел уговаривать, — махнул рукой Елдышев, — а этого как уговоришь? Постараюсь, конечно… Вы бы поехали?
Багаев запустил пятерню в волосы на затылке:
— М-да… Поговори все ж таки.
Поезд тронулся только под вечер. Машинист осторожно провел состав по кое-как скрепленным рельсам. В насквозь продуваемой теплушке уснули милиционеры, свободные от несения дежурств. Спали вповалку, укрывшись брезентом, исторгая стоны, храп и жаркие речи, смятые сном в мычание. А в другой теплушке под куском брезента, у стены, спали еще восемь, навсегда свободные от дежурств. А девятый остался далеко позади, у разъезда, и спал под большим крестом, который отец сделал ему из просмоленных плах. Он закончил эту работу — глядь, а конники — вот они, и лошади, сбрасывая пену, кивают ему головами.. Что ждать от этих людей? Он удобнее перехватил топор и пошел на первого, уже знакомого ему.
— Хорошо ли твой сын послужил красным? — спросил знакомец, обнажив сахарные зубы. Жеребец под ним плясал.
— Хорошо, — подтвердил отец, приближаясь. — Жеребца уйми.
— А куда ж ты идешь? — спросил знакомец. — С топором-то, куда?
— К тебе иду, сахарный, — сказал отец, приближаясь. — Убить тебя.
— Ну, попробуй, — смеялся тот: каждое движение топора сторожил позади казак с шашкой. — Ну, давай размахнись пошире!
— Еще чего, — сказал обходчик и метнул топор снизу вверх. — Дурака нашел?
Лезвие топора врубилось в грудь всадника, задев концом открытую шею. Всадник пустил изо рта длинную черную струю и сполз с лошади.
— Топор дюже хорош, — сказал обходчик. — Струмент дедовский.
И никто его не услышал: ни тот, кто стоял рядом и стирал с шашки кровь, ни те, уже далекие, кого мотало сейчас в насквозь продуваемой теплушке, ни Иван Елдышев, который звал его с собой, ни Сергей Гадалов, который лежал рядом с Елдышевым, баюкая перевязанную руку, ни Иван Багаев, стоявший в кабине паровоза, — никто его не мог услышать. Если бы эти люди оглянулись, они бы, возможно, увидели в степи огненный крест — жарко горит просмоленная плоть дерева! Но эти люди не оглядывались: что позади — то позади. А впереди снова горбился подъем, и Багаев, злой, напружинившийся, крикнул машинисту:
— Батя, сколько еще их на нашу долю?
Машинист подумал и хмуро нагадал, глядя во тьму:
— На мою долю два, а на вашу, сынок, как придется…
9
Состав с хлебом они привели в Астрахань ранним утром. Когда осталось совсем немного до Астрахани, Елдышев, выбрав минуту, обратился к Багаеву:
— Товарищ начальник, прошу совета.
— Давай, на советы я горазд…
Елдышев рассказал, что происходит в родном Каралате.
Багаев насупился.
— Ты же сам видишь, — сказал он, — ребят я собрал боевых, но ведь молодежь, пороху и не нюхала! А нам еще раз идти.
— Теперь понюхали, — тихо заметил Елдышев. — Потому и говорю: прошу совета, а не прошу отпустить. Где мне быть нужнее? Душа у меня неспокойна. О порохе мы заговорили… Я в Каралате целую бочку его оставил, и фитилек рядом.
— А почему сразу мне не сказал?
— Хотел, да не решился… Я военный человек, Иван Яковлевич.
— Тоже резонно… Вряд ли бы я поверил тебе сразу-то. А теперь видел в деле — верю.
— Благодарю, товарищ начальник…
— Есть, значит, хлеб у кулачишек…
— У нас, Иван Яковлевич, не кулачишки, у нас исстари богатейшее село. — Елдышев рассказал о том, как весной семнадцатого года старик Точилин, спасая рыбные промысла от половодья, заваливал мешками с мукой прораны в валах. — Многолетние запасы у них. Ни сеют, ни жнут, божьи птички, а хлебом да снастью держат в узде нашего брата, ловца-сухопайщика. Без хлеба, Иван Яковлевич, на лов рыбы не выйдешь.
— Ладно, — сказал Багаев, — отпускаю. Я, признаться, глаз на тебя положил, думал забрать к себе в аппарат. Грамотных у меня мало, Ваня! — пожаловался он. — Протоколы пишут через пень колоду… Чтоб свой, преданный революции человек да еще и грамотный — это, брат, на вес золота. Как там Сережа Гадалов? Раненых навещал, а его среди них не видел. Оклемался?
— Да как сказать? Кисть вспухла, жар… Думаю, два звена от мизинца отнимут.
— Ничего, злеебудет, — сказал Багаев. — Но пусть дурака не валяет! Чтоб был в теплушке для раненых! А то знаю его… Вознамерился, поди, скрыть и второй раз пойти с нами.
— Есть у него такая мыслишка, — улыбался Елдышев. — Эх, молодо-зелено… У всех, говорит, раны как раны, а у меня — мизинец…
— Вот-вот! Передай ему мой приказ и будь свободен, — сказал Багаев. Пожал руку Ивану, добавил: — Держи там крепче революционную линию, товарищ. Если что — сообщай, поможем.
По дороге к лазарету, в котором лежал дружок его Васька Талгаев, Иван забежал на базар Большие Исады, продал трофейные мозеровские часы. Купил пирог с требухой, кусок вареного мяса, фунт хлеба и фунт комкового сахару. Подсчитал остаток — хватило на фунт перловой крупы и пачку махорки. Крупой и махоркой дядьку обрадует… К Ваське его, как и в прошлый раз, не пустили, но сказали, что вчера он поднялся и сидел на койке. Иван передал через нянечку продукты, записку и, радостный, что друга не сожрал тиф, выскреб из карманов все, что оставалось в них, нанял извозчика и покатил на Форпост. Здесь ему повезло — нашлась оказия. Ночью он уже стучал в дверь землянки, с замиранием сердца ожидая дядькиного голоса. И скрипнула внутренняя дверь, и явлен был родной голос, и отлегло от тревожного сердца…
— Живой? — тормошил дядьку Иван.
— А что с нами сдеется? — сонно отвечал дядька. — Ваня-а… Табачку не промыслил ли?
И от этого сонного теплого голоса, от влажного, живого дыхания единственного во всем белом свете родного ему человека стал Иван счастлив… Торопясь, нашел дядькину руку, вложил в нее пачку махорки.
— Мать родная! — возликовал Вержбицкий, заядлый курильщик. — Целая пачка!
Ах, дядька, дядька! Пень бесчувственный…
10
У старика Григория Точилина, к которому экспроприационная комиссия пошла на следующий день после возвращения Ивана, не семья была — род. Шесть сыновей, старшему из которых, Никите, было за пятьдесят, семь женатых внуков, правнуки и правнучки — иных женить и выдавать замуж уже пора. Старик никого не отделял, лишь построил для сыновей и старших внуков дома рядом. Столовались вместе, общий расход шел из рук старика и доход в его руки. Когда Елдышев с товарищами вошли в горницу, Точилины сидели за огромным, как поле, столом, завтракали. Из трех кастрюль на столе и увесистых кружек парил круто забеленный калмыцкий чай, запах свежевыпеченного хлеба сминал мысли… Иван быстро и обеспокоенно глянул на Мылбая Джунусова. Тот держался молодцом, лишь на глаза пал туман…
— Гляди-ка на них, — сказал Григорий Точилин, восьмидесятилетний, крепкий телом и хищный разумом старик, — выставились, гостенечки дорогие, комиссары голож… Бабы! Все с печи на стол мечи, а то сами по загнеткам будут шуровать, обожгутся ишо… У них, у комиссаров, манера такая — первым делом пожрать на дармовщину.
Старик набивался на скандал, это было ясно. Шум нужен был старику, свалка. Сыновья и внуки угрожающе поднимались из-за стола — все сытые, краснорожие… Андрей, сын Ерандиева, щелкнул затвором винтовки.
— Отставить! — приказал ему Иван и сказал Джунусову, жалея его сердцем: — Сходи, Мылбай, приведи трех понятых.
Джунусов глядел на него туманными глазами.
— Трех понятых, — показал Иван на пальцах. — Приведи.
Мылбай наконец осмыслил сказанное, вышел. На лицо старшего Ерандиева было страшно смотреть. Да и сам Иван чувствовал, что такой ненависти у него не было даже к немцам. С немцами он вместе со своей ротой однажды братался в окопах… С однокровниками Точилиными его не побратает и смерть.
Излишков хлеба, скота и мануфактуры у Точилиных не оказалось. Продуктовая лавка и лабаз старика тоже были пусты, а полки вымыты и выскоблены, словно в насмешку. Обыск закончили к вечеру. Иван на что был крепкий парень, но и его пошатывало.
— Мы, — сказал Точилин, под одобрительный смешок своих потомков, — комиссарам завсегда рады. Захаживайте при случае ишо раз.
— А мне с тобой, гражданин Точилин, и вовсе жаль расставаться, — ответил Иван. — Собирайся.
— Это куда же?
— В кутузку. Посидишь — авось вспомнишь, где хлеб спрятал и куда скот угнал.
От кулака Земскова, как и от лавочника Точилина, экспроприационная комиссия тоже ушла ни с чем, если не считать самого Земскова.
— Привел тебе напарника, старик, — открыв дверь каталажки, сказал Иван. — Вдвоем вам будет веселее. Как надумаете — позовите, я рядышком.
— Вота тебе, — прошипел старик Точилин, вывернув кукиш, — не видать вам моего хлеба!
— Завтра, граждане, — невозмутимо продолжал Иван, — перевожу вас на пролетарский рацион питания. Один раз в день кружка горячей воды, фунт хлеба и одна вобла. Родственники ваши предупреждены, чтобы больше ничего не носили.
Дня через три пришел старший сын Точилина, Никита, угрюмо попросил: «Дозволь отцу слово молвить». Иван молча отпер замок. Впустил, сам встал в дверях.
— Батюшка, — поклонился отцу сын, — их сила. Не выдюжишь.
Старик его прогнал. А через неделю потребовал священника. Иван к тому времени уже освободил Земскова, сын которого привез хлеб на двух санях. Ездил он за ним к морю, в камыши, — там, на одном из бесчисленных островков, был, видимо, у Земсковых тайник. Хотелось бы знать Ивану, что осталось в том тайнике… Комиссия перестала ходить по кулацким домам. После двух-трех неудач Елдышев понял, что это бесполезная трата времени: хлеб, мануфактура, соль, спички, снасти, сахар спрятаны у каралатских захребетников давно и надежно. Еще понял Иван, что действия гласные, дабы иметь успех, должны быть подкреплены действиями негласными. Стал начальник волостной милиции (а теперь он был полноценный начальник, волисполком поднатужился и наскреб паек для двух милиционеров) хаживать в народный дом, где директор Храмушин учил парней и девчат грамоте. Здесь же каралатские комсомольцы готовили к постановке свой первый спектакль и, не мудрствуя лукаво, вкладывали в уста шиллеровских героев призыв к революции… Стал, повторяю, Елдышев хаживать в нардом, и вскоре у него появилось в друзьях много молодых людей. Иные удивляли его своей зоркостью. Семнадцатилетняя Катька Алферьева сказала ему, что в избе коммунара Степана Лазарева повадились глубокой ночью топить печь. «Катерина, — строго сказал Елдышев, — ты бы допоздна-то не гуляла, замерзнешь еще ненароком… И что же, часто печь топится?» — «Раза два видела, — запылав, прошептала Катька Алферьева. — Вася видел… тоже».
Вася между тем недобро поглядывал на них из другого конца зала, где собрались парни. К счастью, Вася оказался пареньком смышленым и понял все с полуслова. Катерину провожали вдвоем… Со двора Алферьевых хорошо был виден двор Лазаревых, но в ту ночь наблюдатели не заметили ничего подозрительного, даже печь не топилась. Повезло во вторую ночь. Перед рассветом возник у крыльца человек, постучал в дверь условным стуком. Открыли ему тотчас — видать, ждали. «Выйдет — доведешь его до дому, — прошептал Елдышев Васе. — Не приметил чтоб!» Вася кивнул, снял тулуп, оставшись в ватнике: в первую ночь они чуть не пообморозились, вторая — научила их уму-разуму. «Вернешься и заходи туда, — Иван кивнул на землянку. — Я там буду».
Ночной гость недолго задержался у Лазаревых. После его ухода Иван подождал минуты две, перемахнул через забор и постучал так, как стучал ушедший. И верно постучал, потому что Лазарев, полуоткрыв дверь и белея в темноте исподним, спросил заискивающе:
— Али забыл что, Никита Григорич?
Сказал он эти слова и осекся. А Иван подумал, что зря погнал Васю следить за пришельцем: хлеб здесь был точилинский.
Они постояли немного, и тяжело дались эти мгновения Степану Лазареву, которого Иван знал с детства мужиком многодетным и невезучим. Баба его, тетка Лукерья, постоянно рожала одних девок, да и те мерли: из четырех выживала одна. Скотина на этом дворе тоже не держалась: то в ильмене увязнет, то мор на нее падет. А однажды летом произошло такое, после чего Степан уже не мог подняться хозяйством и съехал в батраки. За одну августовскую ночь неведомая болезнь, называемая в народе сетной чумой, превратила всю его снасть в коричневую гниющую массу. Другой бы запил от стольких напастей, озверел, но Иван помнил Степана Лазарева всегда веселим, неунывающим, с удивительно светлой улыбкой на курносом бородатом лице. Был Степан Лазарев схож с Ивановым отцом несгибаемой беззащитностью перед жизнью: оттого-то, видно, и дружили… Но, вспомнив это, Иван одернул себя: отроческая память светла, но она не даст ключа к пониманию того, что было и что есть… Коммунар Степан Лазарев глухо сказал:
— Проходи, товарищ Елдышев, коли пришел.
В горнице Степан долго высекал огонь, чтобы затеплить каганец. Иван нащупал ногой табуретку, сел. Сопели на печи дети, в темноте теленок ткнулся сухим теплым носом в руку Ивана, вздохнул, как человек. И сразу же проснулась тетка Лукерья и спросила звонко, предчувствуя беду:
— Отец, ктой-то у нас? Кто?
— Я это пришел, теть Луша. Иван Елдышев.
— Да чтой-то ты поздно, Вань? Али дело какое?
Иван молчал. Тогда Лукерья слезла с печи, во тьме нашла Ивана, опустилась на колени и обняла его ноги. Иван поднялся, но больше двинуться не мог. «Ты что? — растерянно сказал он. — Ты что, тетка? Пусти…»
— Вань, — тихо просила Лукерья, — не погуби нас, век молиться буду. Вань, ты же нас знаешь… Ну что тебе? Ну хочешь, большутку нашу возьми… Ты солдат, тебе надо… Девке шестнадцать, в самой поре… Анка, проси его, проси! Проси! — вдруг закричала она и, разжав руки, сползла на пол.
Степан зажег каганец. Жалкая улыбка кривила его губы… Вдвоем они подняли Лукерью, положили на застланный чаканкой пол, где, прикрываясь тулупом, сидела старшая дочь Анка. Рядышком беспробудно спали еще две девочки. На печи за ситцевой занавеской, откуда слезла Лукерья, слышались шорохи, сладкий сап, сонное бормотанье — и там спали дети. У печки покачивалась подвешенная к потолку зыбка. В ней сидел большеглазый младенец и ликующе гулькал, потому что видел свет каганца, слышал голоса людей — и в том была его огромная радость.
Вошел Вася, доложил уже известное. Спросил:
— За сколько продал коммунарскую совесть, дядь Степан?
— За мешок муки, Вася, — ответил Лазарев. — Двадцать точилинских храню, чтоб им пусто было. И еще лежат у меня в подполе десять мешков кускового сахару да пять штук ситцу.
— Июда ты, дядь Степан, — сказал Вася. — А ты, ты! — крикнул он, найдя глазами Анку. — Предательша! Гадюка! С нами ходишь, наши песни поешь, а нож у тебя за пазухой.
— Я июда, — ответил Степан, — а девку не трожь. Ты ее слез не видал. И будя об том. Я готовый, товарищ Елдышев. Все приму.
— Дай! — потянулся Вася к кобуре Ивана. — Дай мне!
— Больно ты резвый, парень, — сказал Елдышев, отводя его руку. — Тетка Лукерья, ты жива?
— Жива, Ваня, — ответила Лукерья. — А силушек моих нету подняться. Сердце зашлося. Ты прости меня за слова за поганые. И ты, дочь, прости. Ум смеркся.
— Светает уже, — сказал Иван. — Туши каганец, хозяин. Мы сейчас с Василием уйдем, и запомните, граждане Лазаревы: нас тут не было.
— Шкура ты, товарищ Елдышев, — сказал горячий Вася. — Ух, гад! Вот кого стрелять надо… — И Вася пошел к двери.
— Погоди, — Иван цепко ухватил его за плечо. — Не петушись… Никита Точилин часто приходит за мукой, дядь Степан?
— В неделю раз… Понемногу берет.
— Придет — дай! Прими, как принимал. И гляди, Степан Матвеич… Судьба твоя на волоске.
Елдышев почувствовал, как доверчиво ослабло под рукой плечо Васи.
И было это неделю назад. А теперь старик Точилин требовал попа — собороваться.
— Помрешь и так, — жестко сказал Иван. — Или здесь помрешь, или хлеб отдашь, лютый старик. Контрреволюционную агитацию я тебе разводить не дам.
— Зови Никишку, — глухо сказал тогда Точилин.
Иван привел Никиту, прикрыл за ним дверь каталажки — пусть теперь отец с сыном посовещаются наедине. На хлеб, что спрятан у Лазарева, они не покажут, думал Иван. Для них он надежно спрятан, никому и в голову не придет искать у Лазаревых. Есть и еще причины, чтобы не указывать им на Лазаревых. Лучше вырыть еще одну яму с хлебом, чем вырыть яму себе, лишившись поддержки в Заголяевке. Точилины — они каралатские политики, усмехнулся Иван, на том и срежутся.
— Хватит, граждане, — он открыл дверь. — Не на сходку собрались. Что решили?
— Пойдем, — сказал Никита Точилин, — получишь хлеб, чтоб ты им подавился.
— Разжую как-нибудь, у меня зубы крепкие.
Во дворе у младшего сына старика двенадцать Точилиных подошли к широченному крыльцу, ухватились за края дубовых плах, крякнули, приподняли и понесли крыльцо в сторону. Открылся низкий деревянный сруб, запечатанный круглой плашкой, — лаз в тайник. «Теперь, дед, — сказал Иван старику, — можешь помирать на здоровье». — «Я ране твою смертушку увижу, Ванька, — ответил Точилин. — Увижу и помру спокойно». — «Не будет, дед, нам спокойной смерти, — сказал Иван. — Хлеб твой, что спрятан у Лазарева, мы нашли. Где ж тут помереть тебе спокойно? А мне, думаешь, легко будет помереть, зная, что весь твой выводок цел? Ради спокойной смерти нам с тобой надо было еще при царе поторопиться… Ты что, сдурел?»
Старик дико, по-заячьи вереща, тянулся дрожащей лапкой к горлу Ивана.
11
Каталажка не пустовала. Зато и хлеб потек тонким поначалу ручейком, а Иван расширял его русло всячески… И вдруг из губернского комиссариата юстиции пришла в Каралатский волисполком бумага. Некий Диомидов, следователь, грозил начальнику Каралатской милиции страшными революционными карами за аресты мирного населения. Предволисполкома Петров, твердый и безоглядный во всем, перед каждой бумагой сверху испытывал трепет… Чесал затылок, спрашивал:
— Ваня, права-то нам на такие аресты дадены? Ты человек грамотный, растолкуй. А то, знаешь, своя же власть к стенке и поставит.
— А мы не пробовали уговорами? Не собирали кулаков на митинг?
— Шут его ломи! Что ж он тогда пишет! Сдурел, что ли? Его бы в нашу шкуру!
— Мы, Андрей Василич, ни одного каралатца, сдавшего добровольно излишки, не арестовали. Давай и будем отсюда плясать. Но все ж таки… Напишу я Багаеву. Он мой начальник, ему и карты в руки: пусть разъяснит, кто из нас прав, а кто виноват.
Багаеву он написал все, как есть, начиная с Точилина. Не утаил, что в кутузке холодно, топит ее два раза в неделю, и что из бедняцкого фонда, созданного волисполкомом, он ни грамма не берет на питание арестованных: их содержат родственники. Написал и про рацион, который установил сам.
Вот и бумажная война началась, думал он, грустно улыбаясь.
12
В Каралат приехал агент губрозыска Сергей Гадалов. Учил Ивана, как правильно вести следствие, оформлять протоколы. Привез и записку от Багаева. «Товарищ Елдышев! — писал начгубмилиции. — Этот перекрашенный меньшевик Диомидов давно требует твоего ареста. Я знаю, за какое мирное население он хлопочет, и тебя в обиду не дам. В городе голод. Кто тайно гонит скот под нож, кто гноит хлеб, рыбу, сахар и мануфактуру в земле, тот враг революции, и весь тут сказ. Действуй, товарищ, смелее! Пролетарский привет товарищу Петрову, он держит правильную линию. На ней и стойте».
Петров расцвел.
— Ты и обо мне написал, Ваня? — польщенно спросил юн. — Вот спасибочко. Уважил!
— Андрей Васильевич! — сказал Сергей. — Багаев на словах просил передать, чтобы на каждый арест волисполком выдавал Елдышеву разрешение.
— Эка, Сережа! Пусть-ко попробует без разрешения. Мы ему попробуем!
— Имеется в виду письменное, Андрей Васильевич. Приедет проверять тот же Диомидов, камера у вас забита, а тут, — Сергей поднял папку, — пусто. По какому праву Елдышев арестовал людей? Взял — и арестовал, можно и так понять.
— Действительно… — снова полез пятерней в затылок Петров. — А ты-то куда глядел? — напустился он на Ивана. — Мы-то хоть народ темный, а ты все поповские книги перечитал, голова! Мог бы и присоветовать.
— Про наш случай в тех книгах ничего не написано, — улыбался Иван. — Как теперь будем решать эту задачу, Сережа?
— Волисполком, я думаю, должен собраться и утвердить все прошлые аресты, если согласен с ними. Нужно перечислить всех арестованных поименно и против каждого имени — указать, за что.
— Причина у нас одна: за злостное противодействие декрету о продразверстке, — сказал Иван. — Других причин у нас пока нету.
— Так и запишите.
— Так и запишем, — повеселел Петров. — Век живи, век учись. И дюже мне боязно, что дураком помру…
Сергей приехал не только затем, чтобы дать им начала юридической грамоты. Была у него и другая цель, про которую он сказал только Ивану и его дядьке. На пригородных дорогах, сказал Сергей, пошаливает банда. С городским уголовным миром она связана через барыг, кое-какие следы ее сейчас нащупываются в известных губрозыску малинах, но банда не уголовная, а ярко выраженная кулацкая, грабит продовольственные обозы, направляемые из сел в город.
— Вы сколько обозов уже отправили, Иван Гаврилович? — спросил Сергей.
— Сережа, да зови ты меня, ради бога, по имени! — сказал Елдышев. — А то я прямо дедом себя чувствую.
— Стесняюсь я, Иван Гаврилович… Ваня… — Сергей запылал.
Тогда, на крыше хлебного состава, потерявшись от страха (что уж теперь скрывать-то, горько думал он о себе), Сергей слушал только приказы Елдышева, бежал, куда надо было бежать, стрелял, в кого надо было стрелять, и только благодаря этим приказам, благодаря тому, что их надо было выполнять и на другое не давалось времени, Сергей и остался, как сам считал теперь, человеком. Позже он успел побывать в двух засадах, и бандитские пули были в него целены, и благодарность Багаева уже была у него, и всем этим он был обязан двадцатишестилетнему Елдышеву, прошедшему всю царскую войну, отступавшему с Одиннадцатой армией по ногайским степям и испытавшему столько, сколько Сергею не испытать, наверно, и за всю жизнь.
— Ваня, — сказал он и прислушался, словно не веря себе, и повторил радостно, жарко: — Ваня! Я тебе не только жизнью обязан, ты это знай. Я за тобой, Ваня, пойду в огонь и в воду…
— Вот и хорошо, вот и ладненько, — сказал Вержбицкий, чем и помог обоим в их смущении. — Дружите, сынки. Живете вы опасно, душу на замке держать вам не след. А то мой Ванька — ну ни с кем. Хоть бы девку завел, что ли?
— А когда? — теперь уже по-иному смутился Иван.
— Когда… Умеючи, найдешь когда.
— Кончай, дядька, свою погудку, — строго сказал Иван. — Четыре обоза отправили мы, Сережа. И все дошли благополучно.
— В том-то и дело. Но на той же дороге были разграблены два обоза… Вам фамилия Болотова ничего не говорит?
Им эта фамилия кое о чем говорила. Старик Болотов сидел сейчас в камере, дозревал до необходимости сдать излишки… Семейка была в такой же силе, как и Точилины. Но вся семейка была налицо, никто из Каралата не отлучался, о чем Иван и сказал Сергею.
— Ан и не так, — поправил его дядька. — Один из Болотовых, Николка, как отлучился из села года четыре назад, так и с концами.
Разговор произошел в первый день приезда Сергея. А вечером того же дня Иван познакомил его с Антошкой Вдовиным. Вдовины по богатству своему шли чуть позади Болотовых и дружили меж собой, но Антошка, тянувший к каралатскому комсомолу, кое в чем согласился помочь… Дня через два, уже втемне, он приполз к землянке Вержбицкого. Иван с Сергеем втащили его и ахнули. Лицо парня превратилось в кровавое месиво, сельский фельдшер, за которым сбегал Вержбицкий, нашел перелом ключицы и ребра. Антошка силился что-то сказать и не мог.
— Кто тебя? Кто?
— Ф-фи-и-иль-ка-а… — вышептал наконец парень. — Со-о-ба-ачий… у-у-уло-ок…
Иван выпрямился растерянно. Ни у Болотовых, ни у Вдовиных никаких Филек-Филимонов не было. И не было в Каралате Собачьего переулка. Что-то тут не так. Он снова склонился над парнем: «Кто тебя, кто? Родные братья? Или же братья Болотовы?» — и, заглянув в эти кричащие глаза, Иван, может быть впервые в жизни, понял, что наигорчайшая из мук — мука непонимания…
— Ваня! — стеганул его по нервам изменившийся, тревожный голос Сергея. — Надо немедленно в город, Ваня!
— Не позволю, молодые люди, — сказал фельдшер. — Вы не довезете его. Уж как-нибудь я сам. И не таких выхаживал.
— Это ясно, отец, — сказал Сергей. — Ваня! Надо в город. Немедленно! Где хочешь, как хочешь, а достань хорошего коня.
Он тоже склонился над Вдовиным, взял его руку:
— Спасибо, товарищ…
Легкие санки и лучшего коня дал им тогда предисполкома Петров.
13
В ту ночь, в третьем часу, по Собачьему переулку шел человек, пьяненький, хорошо одетый. Над миром неистовствовала луна, и Ленька Шохин, стоя в подворотне на стреме, отлично разглядел, какое богатство плывет ему в руки: дорогая шуба, шапка-боярка, добротные валенки. «Ах, фраерок, — возликовал Ленька, — фраерочек ты мой, фраерок!.. Сниму все».
Ленька ликовал, а пьяный гражданин, наоборот, страдал беспросветно. «Зачем, зачем? — плакался он, выписывая кренделя на снегу. — За что? Подлая, грязная Элеканида! Убью! У-у-у… — взвыл он и, запрокинув лицо, стал плевать на луну. — Вот тебе, вот… Мальчик, где ты?»
Мальчик совсем не входил в Ленькины планы. Какой еще мальчик? Ленька высунулся из укрытия, мальчика не увидел, зато сам был замечен. Обманутый Элеканидой дурачок, радостно лепеча: «Тетушка, позвольте вас спросить?» — кинулся к нему, как к родному. Лучшего и желать было нечего. Зная по опыту, что сильно пьяных пугать бесполезно — не испугаются, а шуму наделают, Ленька шагнул навстречу, занес финку для удара… Но ударить ему не удалось. Рука была схвачена, черное дуло пистолета присосалось к той ямочке у основания шеи, где у каждого человека, даже у жулика, беззащитным комочком бьется душа, и пьяный трезво сказал:
— Не шали, Леня… Брось финку.
— Я не шалю, — глупо ответил Леня. Финка упала в снег. Тогда рука, цепко державшая Ленькино запястье, ослабила хватку, скользнула к предплечью и улеглась на Ленькином затылке. На руке, между прочим, не хватало мизинца — почему-то именно это обстоятельство и помогло Леньке постичь смысл происшедшего. «Спалился», — горестно прошептал он.
Непостижимым образом — откуда бы? — около Леньки возникли еще трое. Через минуту он связанный лежал навзничь под забором. Беспалый снял шубу, осторожно свернул ее, положил рядом. «Гляди, — шепнул он, — чтоб не сперли… Казенная!» Под шубой на нем оказался поношенный ватник, шею прикрывал шарф. Рядом с Ленькой лег кто-то — это был инспектор губрозыска Тюрин — и тихо сказал:
— Брехать не советую, парень… Кто в доме?
Ленька торопливо перечислил имена. Затем между ним и Тюриным состоялся короткий разговор вполшепота, после чего Ленька пискнул:
— Не буду, гражданин начальник. Не могу. Свояк, Расчехняев, убьет!
— Что значит — не могу, Шохин? И что значит — убьет? Убивать нас будут. Ты из игры целеньким вышел. Ну? Твой последний шанс!
Был беспросветно нищ Собачий переулок. Горластые псы, которыми он когда-то славился, покинули людей, потому что люди начали их есть. Домишки, кухни, сараюшки, баньки лепились друг к другу, образуя кривые переходы, закоулки и тупики, в которых легко спрятать и спрятаться. Не закрытые на ставни и болты окна бесстрашно глядели на мир: нужда оберегала их надежнее запоров. Неистовый лунный свет, блеск снега и тени на снегу — резкие и черные, словно ямы. Ни звука, ни шелеста, ни движения, все мертво… Елдышев подивился тому, как неслышно работают люди Тюрина — они занимали сейчас подходы к дому. Иван помнил Тюрина по хлебному составу, но смутно: Тюрин был там всего лишь вторым номером у Багаева за пулеметом, молчаливый, невидный человек с мужицким топорным лицом. А здесь, в губрозыске, он оказался начальником целой бригады, и Сергей шепнул Ивану, что в скором времени Тюрина назначат, видимо, заместителем начальника губрозыска. Назначат или не назначат, но нынешний начальник бригады дело свое знал хорошо. Пока Иван вываживал коня, поил и ставил его в конюшню, Тюрин успел поднять бригаду, обдумать операцию, каждому объяснить его место. Иван попал лишь к концу инструктажа, сел в уголок и, осмысливая отдельные слова, замечания, вопросы, понял, что о Болотове бригада уже многое знала и что они с Сергеем привезли недостающее звено. Сейчас люди Тюрина занимали подходы к дому, Иван не видел их, ухо не воспринимало даже скрипа на снегу, но в какое-то очень четкое мгновение он сказал себе: вот наконец все. Тюрин, стоявший рядом, расслабился, — значит, и он уловил это мгновение.
Расчехняев появился на крыльце внезапно — дверные петли в доме были надежно смазаны. Он постоял, прислушиваясь, и тихо засвистал. Тюрин повел пистолетом в сторону лежащего Леньки, и тот ответил условным свистом. Но на какую-то долю секунды он промедлил, и этого оказалось достаточно, чтобы насторожить Расчехняева.
— Своячок! — поплыл с крыльца низкий угрожающий голос. — Топай ко мне!
— Тихо ты, не базарь, — обмирая, выругался Ленька. — Не могу я подняться, маячит кто-то.
И то, что он выругался, и то, что приглушенный его голос действительно поднимался с земли, и то, что калитка была полураскрыта именно так, как была полураскрыта, и то, что в тесном дворике, застроенном клетушками и амбарушками, снег по-прежнему оставался девственно чист, не запятнан человеческими следами (содержательница квартиры тетка Филька получила строгий наказ не шастать по двору как попало, а ходить по одной тропе: от крыльца к калитке и вдоль забора — к уборной), — все это в какой-то мере успокоило Расчехняева, притушило вспыхнувшее было подозрение. Но даже в этом случае он никогда бы не сделал того, что сделал сейчас. Он подскочил к калитке, нырнул в нее и, выйдя на удар Елдышева, мягко сунулся лицом в снег. Он был пьян, Расчехняев, и это погубило его.
— Ну? — тихо сказал Тюрин, когда бандит был связан и рот забит кляпом. — Пошли!
Они гуськом поднялись на крыльцо — Тюрин, Елдышев, Гадалов, Космынин. Хорошо смазанная дверь опять открылась бесшумно. Где-то недалеко от другой двери, что вела в горницу, должно лежать на боку пустое ведро, о котором предупреждал Ленька. Тюрин нащупал его руками, поставил в сторону, мельком подумав, что Расчехняев хоть и был пьян, а сумел не стронуть его.
Вторую дверь он открывал так, как должен был открыть ее, вернувшись, Расчехняев: не осторожничая, но и без лишней торопливости, по-хозяйски. И этим Тюрин сберег несколько секунд, в течение которых сидящие за столом бандиты видели вошедших, но не могли от неожиданности осознать происходящее. Это был тот, не раз проверенный Тюриным на практике случай, когда видит око, а ум неймет…
А Ленька, лежа под забором, слышал, как четверо вошли в холодные сени, как во двор хлынул хмельной гул голосов, — это Тюрин открыл внутреннюю дверь. Несколько мгновений, которые он сберег неожиданностью, стояла во дворе томительная, почти смертная тишина. Затем в доме бухнуло два или три раза. «Господи, — взмолился Ленька, — сделай так, чтобы Болотова убило, а из ихних чтобы никого…» И объяснил богу свою странную просьбу: «Срок я тогда возьму тяжелый, а у меня баба молодая, скурвится». Но, вспомнив о Болотове, Ленька вспомнил о свояке, глянул на него… Свояк подползал к нему. Сейчас ляжет грудью на Ленькину грудь, вонзит зубы в горло. «А-а-а!.. — заорал Ленька и бревном покатился прочь, оставив ни с чем менее сообразительного свояка. — Спаси-и-те!»
Расчехняев мычал, в исступлении разбивая подбородок в кровь.
Сергей Гадалов нашел Леньку метрах в пятидесяти от дома. Он не выразил по этому поводу никакого удивления, только попенял: «Тебе что было сказано? Шубу караулить… А ты?» — «Шубу… — всхлипывал Ленька. — Пошел ты со своей шубой! Свояк чуть мне горло не перегрыз!»
— У него же кляп во рту, — сказал Сергей, вспарывая ножом веревку, которой были связаны Ленькины руки и ноги. — А ты, гляжу, сильно чувствительный, Леня. Жить хочешь, зачем в банду тогда полез?
— А Болотов? — с надеждой спросил Ленька.
— Жив твой Болотов.
— Ну бог, ну фраер! — горестно воскликнул Ленька. — Пришьют они теперь меня!
— Отпришивались, — успокоил его Сергей. — Им до трибунала только и осталось дышать. Ты нам помог, тебе суд зачтет. А после суда, мой тебе совет: просись на фронт. Кровью смоешь свою подлость перед Республикой — человеком станешь.
— На фронте тоже убивают, кореш!
— Я тебе не кореш, — строго сказал Сергей. — Ишь ты, прыткий! Я тебе, дураку, совет дал, а там — гляди сам.
14
Сергей проводил Ивана до окраины Форпоста, до знакомого солончака, теперь скрытого под снегом. Вышли из саней и, стеснительно помедлив, обнялись.
— Поклон дядьке, — сказал Сергей. — Хороший он у тебя старик, Ваня. Жил у вас, как у родных. Вот… — засмущался он и сунул в карман Иванова полушубка пачку махорки, — подарок ему передай.
Иван дернулся было, но, увидев лицо парня, сказал ворчливо:
— Зря балуешь.
Сергей рассмеялся.
…Всего ничего прожил Гадалов у Елдышева с Вержбицким, а без него изба словно опустела. Дядька слонялся из угла в угол, нещадно дымил дареной махрой, вздыхал.
— Знамо дело, нехорошо каркать, — вдруг сказал он, — а чую, Ваня: жить нам недолго осталося. Страха нет, а сердцем томлюся.
— С непривычки, — успокоил его Иван. — Я как попал в окопы, так первое время и жил тем: убьют, убьют… Ничего, задубел. И живой, как видишь.
Той же ночью в Ивана стреляли. Пуля на излете задела грудную мышцу и тупо ударила в забор. Иван взял ее из доски теплую. То ли пугают, то ли сами еще боятся, подумал он. Сплющенный кусок свинца, рубленный дома, мог бы свалить и кабана, окажись стрелок поближе и пометче.
— А ты говоришь — с непривычки, — ворчал дядька, разрывая чистую тряпку на бинты. — Хороша привычка… Нет, мое сердце не обманешь. Помню, как попасть на лову в относ, так сердце колет, колет… Ну, мужики, говорю, сегодня не пойдем, сегодня быть беде. Тем и спасались.
Иван вспомнил, как они однажды спасались, улыбнулся, но перечить не стал. Давно это было, словно в другой жизни и не с ним. Жив ли тот земсковский жеребец, что плакал, лежа брюхом на льду? Посмотреть бы на него, вдохнуть запах пота, унестись в свою юность. Ивану двадцать шесть лет, а восемнадцатилетние зовут его по имени и отчеству, словно отрубая себя от него. Что ж. Иван старше их на целую войну. Она тяжким грузом лежит на его плечах, а еще — признаться стыдно! — ни одна девка не целована, о прочем же и подумать страшно — дыхание перехватывает злая мужская тоска. Батя наградил несмелым характером, хоть умри.
А хлеб тек…
И дни текли…
И каждый пуд хлеба учитывал Иван, а дням своим учета не вел. Мало их осталось, но не крикнешь, не предупредишь — десятилетия упали меж нами… И счастлив тем человек, что не знает своего смертного часа, что до последнего удара сердца с ним живут его надежды, и тверды думы его и труды…
ПРИКАЗ № 19 ОТ 27 МАРТА 1919 ГОДА ПО АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ МИЛИЦИИ
В дни кулацкого контрреволюционного восстания в Каралате милиционер Елдышев, отбившись от кулаков и подкулачников, вбежал в землянку и оттуда отстреливался. Озверевшая толпа, подстрекаемая наймитами англичан и разной черной сволочью, видя, что тов. Елдышев героически защищается, облила керосином землянку, подожгла ее, и Елдышев был сожжен живым, но не сдался. Так погиб верный сын трудового народа. Сожалея о столь мученической смерти тов. Елдышева, я глубоко убежден, что среди товарищей милиционеров найдутся еще и еще сотни таких же преданных великому делу революции, за которую гибнут каждый день лучшие сыны пролетариата.
Нач. губмилиции И. Багаев
Иван отстреливался не один. С ним был и Вержбицкий.
Перед землянкой в весенней грязи мертвыми комками лежали три человека. Двое были из точилинского выводка. Дед Точилин глухо выл за углом соседней землянки, потом вышел и, пошатываясь, побежал к окну, за которым стоял Вержбицкий. Иван Прокофьевич снял его выстрелом, бережно поставил винтовку к стене, вздохнул:
— У меня все, Ваня.
Иван у своего окна следил за улицей, не отвечая. Ему не хотелось говорить. Вержбицкий помялся и, угадывая тайные его думы, сказал:
— Не трави душу, Ваня. Прими все, как есть. Легше станет.
— Легше! — взорвался Иван. — Разиню словили, расквасились. Нас, как щенков, раскидали, а ты — легше… Не прощу себе!
За глухой стеной землянки пылала баня, выбрасывая космы пламени. Жирная грязь на дороге была теперь словно полита кровью, а может, и была полита ею.
— Сынок, — печально и ласково сказал Вержбицкий, — жизню в обрат не переиграешь. Мы свое дело сделали, другие умнее будут. Простимся, милый, а то навалятся и не дадут.
Они обнялись.
Больше к приказу добавить мне нечего.
Твой выстрел — второй
Глава первая
1
Двое лежали в засаде за пулеметом. Разрывом гранаты убило одного, второго отшвырнуло в сторону — он, очнувшись, снова потянулся к пулемету, радуясь, что тот стоит, как стоял. Этим вторым был Роман. Боковым зрением видел, что напарник его убит, но пожалеть об этом не успел: новый взрыв и новая боль настигли его и, теряя сознание, он успел лишь подумать: «Меня тоже убило».
Санитары вынесли его, и он, подлечившись в санбате, вскоре вернулся в строй. Еще одно ранение Роман получил уже в сорок втором, и оно было намного тяжелее первого. Начались скитания по стране в санитарных поездах, остановки в разных городах, операции, и, наконец, он вышел из астраханского госпиталя. Сторож, позванивая металлом о металл, закрывал ворота госпиталя, и Роман со стесненным сердцем оглянулся на этот звук. В эту минуту пришло к нему ощущение, будто жизнь его разрублена надвое. Позади осталось детство, четыре класса школы, юность, комсомол, работа в колхозе и на заводе, служба в армии, война, две раны. А впереди, что ждет впереди? Он глубоко вдохнул сырой воздух, голова у него закружилась, ослабли ноги, — и так, на подгибающихся от слабости ногах, в шинели четвертого срока носки, в заштопанной гимнастерке, в нагрудном кармане которой лежало заключение врачей «годен к нестроевой», пошел Роман Мациборко навстречу своей судьбе.
Судьбами людей война распоряжалась круто. Через несколько дней во дворе военкомата выстроили сотню таких, как он. Пятьдесят, которые стояли слева, отправили служить в милицию, пятьдесят справа — в пожарную охрану. Роман стоял слева… К милиции Роман относился уважительно, службу эту считал делом мужским, опасным, требующим от человека такой же строгости и отдачи, какой требует солдатская служба. Лежа в госпитале, он уже наслышался о грабежах и убийствах, слышал и о том, что несколько милиционеров погибло от рук жулья. Что и говорить, служба нелегкая, хлеб ее несладок, но зато, думал он, никто не укорит, что отсиделся в тылу на теплой печке. Одно смущало его: жуликов никогда не ловил и не знает, как это делается, а оплошать на новой службе не хотелось, потому что честь солдатскую берег.
Так, размышляя, дотопал Роман с полусотней будущих своих сослуживцев до милицейской санчасти. Здесь вместе с врачами ждал их начальник окружной милиции капитан Заварзин, которому не из любопытства, а из суровой необходимости надо было знать, как выглядит прибывшее пополнение в первозданном своем виде. Простая арифметика: сто шесть обученных, знающих свое дело оперативников, следователей, милиционеров ушли за последние две недели под Сталинград, и заменить их надо этой полусотней, что пришла из госпиталей. Заварзин глядел на худые тела молодых солдат и не мог скрыть жалости. У одного из них, по внешнему виду совсем мальчишки, сукровица ползла из раны на бедре.
— Бегать-то сможешь? — спросил Заварзин участливо.
— Смогу, товарищ капитан! — поспешил заверить парнишка.
— А от преступника убежишь?
— Убегу, товарищ капитан, не сомневайтесь.
Задребезжали оконные стекла от дружного хохота солдат. Парень оглядывался по сторонам, силясь понять, что же такое он сморозил. Наконец понял — и тоже рассмеялся. Заварзин, вытирая слезу, сказал:
— Ну, братцы, теперь и без врачей вижу — здоровы… Остальное приложится.
Так началась милицейская служба сержанта Романа Мациборко.

2
Так начиналась и милицейская служба младшего лейтенанта Алексея Тренкова. Куцая разница была лишь во времени: Тренков служил уже пятый день. И если бы в этот пятый день ему разрешили без суда и следствия расстрелять человека, который сидел сейчас перед ним, он сделал бы это, не раздумывая и не колеблясь. И ни разу в жизни совесть не кольнула бы его за то, что расстрелял он женщину.
Первый день войны младший лейтенант Алексей Тренков встретил в тридцати километрах севернее Бреста. На семнадцатый день он принял командование батальоном, а в батальоне оставалось двадцать девять человек. Через полтора месяца к своим прорвались сто сорок. Младшего лейтенанта, который командовал ими, солдаты вынесли на руках.
Не суждено было Алексею Тренкову познать высшую солдатскую радость — бить врага, наступая. Он бил его, отступая… А мать говорила, что раны, полученные при отступлении, заживают медленнее ран, полученных при наступлении. Он часто вспоминал эти слова в астраханском госпитале после четвертой операции, когда его легкие отказывались насыщать кислородом кровь. Но в конечном счете ему повезло. В Астрахань была эвакуирована его мать, терапевт по профессии. Здесь, в госпитале, они и встретились случайно. Благодаря матери он поднялся на ноги, а теперь даже мог пробежать полсотню метров. Правда, при каждом вдохе он синел, как астматик, а когда волновался, дыхание ему перехлестывало, и на лицо падала синюшная, мертвенная бледность. Но все это пустяки по сравнению с тем, что было. Мать говорила, что постепенно все войдет в норму, а он верил матери. Но она сказала ему неправду: знала, что жить ему осталось лет шесть-семь, не больше. Может быть, Алексей и прозревал ее ложь, но он не хотел об этом думать. Он был рад, что на ногах, никому не в тягость, что ему дали ответственную работу, а вчера в трамвае он перехватил заинтересованный взгляд молодой женщины… После всего, что он испытал, это ли не счастье? В двадцать лет мы бываем счастливы и меньшим.
И этот счастливый двадцатилетний младший лейтенант, ко всем щедрый и сострадательный, ненавидел сидящую перед ним женщину до того, что расстрелял бы ее, если бы позволили. Но кто позволит? Конечно, теперь и законы надели солдатскую шинель, но не перестали быть законами. Ненависть свою приходилось всячески скрывать… Порой Тренкову казалось, что весь кислород в кабинете забрала эта женщина, и он умрет, дыша ее отравленным дыханием. Ощущение было настолько сильным, что он подходил торопливо к форточке, в которую, дымясь, падала чистейшая морозная струя, — и жадно ловил ее. На четвертый день допроса пришла к нему ясная и простая мысль, что он, боевой офицер-фронтовик, бессилен перед допрашиваемой, и этим бессилием рождена его ненависть.
В одну из минут полнейшей растерянности и незнания того, как заставить заговорить эту бабу, судьба смилостивилась над младшим лейтенантом и постучала в дверь. «Войдите», — сказал Тренков — и в кабинет вошел неутомимый и лихой оперативник Витя Саморуков, для которого Тренков был со дня войны четвертым по счету начальником уголовного розыска ВОМ[12]. Он положил на стол какую-то бумагу, сел напротив допрашиваемой и сказал:
— Что же ты, Клавдия, меня подводишь? Четвертые сутки молчишь. Не ожидал от тебя такой глупости.
Сержант Виктор Саморуков разговаривал с Клавдией Панкратовой на правах старого знакомого. На то были веские основания. Именно он четыре дня назад разыскал и задержал ночью Клавдию Панкратову на квартире спекулянтки Анны Любивой. Зато сутками раньше Клавдия и ее друзья-налетчики ушли от него, сержанта, подземным ходом из дома, который был окружен группой задержания. Так что в их знакомстве были у каждого свои победы и поражения.
Друзья Панкратовой теперь ходили на свободе и успели взять еще один крупный продовольственный склад. А не успели бы, будь Клавдия поразговорчивей. Но она молчала.
— Клавдия, одумайся, — наседал Саморуков. — На днях арестуем ихнюю ямщицу[13], уж тогда просить тебя не станем. Тяжелый срок возьмешь, Клавдия. Нечем тебе будет смягчить суд.
Насчет того, чтобы арестовать ямщицу, этим пока и не пахло, — сержант Саморуков явно заливал, Клавдия Панкратова после тюрьмы стала большим психологом. По многим признакам она догадывалась, что розыск топчется на месте. Поэтому она, глядя на сержанта правдивыми глазами, заявила:
— Гражданин начальник! Что знала, то сказала.
— Сказала… Плетушку плетешь, Клавдия! Спокаешься, да будет поздно. На что надеешься? Из твоего дома одного риса вывезли с полтонны… Разрешите уйти, товарищ младший лейтенант. У меня нервов не хватает с ней беседовать.
Тренков разрешил. Пока Саморуков воспитывал Клавдию, он изучил принесенную им бумагу. Тая радость, отложил ее в сторону.
— Клавдия Федоровна, повторите еще разок свои вчерашние показания.
Она повторила. После выхода из тюрьмы встретила на толкучке Геннадия Логового и Владимира Крылова, с которыми была знакома раньше. Молодые люди попросились к ней на квартиру, сказали, что будут платить. Пустила. Жили у нее с месяца три, чем занимались — не знает. Но однажды ночью квартиранты привезли в ее дом на телеге продукты, целый воз. Тут Клавдия сообразила, что опять попала в нехорошую компанию.
— А до этого вы не могли сообразить? — спросил Тренков.
Клавдия притушила ресницами сиянье глаз, сказала:
— Продуктов больно было много…
— Количество, значит, перешло в качество. Так надо понимать?
— Вам виднее…
В ту же ночь, продолжала она, Логовой и Крылов попросили ее закрыть дом и перебиться где-нибудь суток двое. Так она и сделала. Ушла к подружке Анне Любивой, ночь переночевали, а утром пошли в церковь.
— О чем бога просили, если не секрет?
— Мало ли, — сказала Панкратова. — Мы бабы еще молодые, наша песня не допета. Я об муже молилась, чтоб здоровый вернулся. А то свалится на руки калекой — что тогда?
Тренкова стала бить дрожь… Не за то расстрелял бы он Клавдию, что из ее дома вывезли полтонны риса, пуды сахару, конфет и много рулонов шелка, ситцу, байки… А за мысли ее, за такие вот поганые слова. Эта стерва плюнула сейчас в душу орденоносцу-пулеметчику НиколаюПанкратову, своему мужу, который, судя по его письмам, горько любил ее. Она плюнула ему в душу, а вместо него принял плевок младший лейтенант Алексей Тренков. Принял и… смолчал. Потому что шел пятый день службы младшего лейтенанта в милиции, и он начал кое-что в ней понимать. Это в первый и во второй дни он взрывался, негодовал, уличал, взывал к совести, и после десятичасового допроса его, двадцатилетнего, увозили домой почти бездыханного, и тридцатипятилетняя Клавдия входила в камеру свеженькая, словно тренированная лошадка после разминочного пробега. Во вторую ночь, еле отдышавшись, младший лейтенант твердо сказал себе, что первый и второй бои он проиграл. Проиграл и третий. Сегодня проигрывает четвертый, но по крупицам кое-что подготовлено для будущих атак. Поэтому он, постояв снова у форточки, сказал:
— Кстати, о муже. Ваше письмо к нему я не отправлю. И очень жалею, что дал вам карандаш и бумагу.
— Это почему же? — спросила она, и Тренков отметил, что спросила без всякого интереса.
— Вы пишете, что вас, невиновную, арестовали и содержат в ужасных условиях. Какие это ужасные условия, хотел бы я знать? Камера, конечно, не курорт, но туда попадают те, у кого в доме кроме риса, сахара, мануфактуры находят в печной золе пистолет и восемь тысяч рублей. Да еще тридцать тысяч — в сумочке при аресте. Неужели вы не понимаете, что такое письмо вашему мужу — как выстрел в сердце?
— Ну и ладно, — безмятежно сказала Клавдия, — пусть повоюет без письма.
Разговор этот вчера ночью Тренков проигрывал с начальником следственного отделения Ефимом Алексеевичем Корсуновым. Поэтому он, как и было условлено, сказал:
— Возвратите мне письменные принадлежности.
Панкратова вытянула руку над столом — и из рукава жакета выскользнул карандаш.
— А где второй листок? — спросил, как тоже было условлено, Тренков. — Вы свое письмо уместили на одном.
— Да господи… Использовала… Что уж вы, гражданин начальник! Прямо до всего вам дело, — очень смущенно заулыбалась Клавдия.
— Мы отвлеклись, — тоже смущенно сказал Тренков («Ну, артист!» — подумал он о себе). — Продолжайте показания.
Клавдия охотно продолжила. Сходили они с Анной Любивой в церковь, помолились, вернулись домой, сели пить чай… Рассказ Клавдии Панкратовой, как таратайка по дороге, катился тряско, но бодро. Клавдия, выдав младшему лейтенанту первый вариант в ночь своего ареста, при повторениях не ошибалась ни в крупном, ни в малом. Выдержке ее и памяти можно было позавидовать. Она сидела перед ним, симпатичная, милая женщина, сияла огромными прекрасными очами, теребила русую косу и убедительно, с подробностями врала. Причем эта ложь никоим образом не смягчала ее собственного положения, но укрывала и работала на ее сообщников.
— Достаточно, — прервал Тренков Клавдию на полуслове. — Взгляните сюда, — и подал ей бумагу, принесенную Саморуковым.
Это было спецсообщение. Рецидивисты Геннадий Логовой и Владимир Крылов, осужденные в 1936 году за вооруженный грабеж, полгода назад, после пересмотра дела, были отправлены в штрафбат и в первом же бою смертью искупили свою вину перед Родиной.
Панкратова, прочла, положила листок на стол и сказала спокойно:
— Значит, у меня квартировали другие мальчики. Я запамятовала.
А младший лейтенант в это мгновение сказал себе, что будет служить в милиции всю жизнь. И он служил в ней восемь лет и три месяца, а потом, двадцативосьмилетний, умер от старых ран.
3
Заместителю начальника управления НКВД по Сталинградской области майору милиции Бирюкову
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
В декабре 1942 года в Астрахани зарегистрированы три вооруженных ограбления крупных продовольственных складов. Во всех трех случаях грабители запирали охрану, состоявшую, как правило, из пожилых женщин, в подвалы. Примет преступников, кроме самых общих и противоречивых, получить не удалось.
В конце декабря служба розыска установила, что в домах по ул. Чайковского, Урицкого, Пестеля, Чугунова происходят сборища молодежи, играющей в карты и проигрывающей большие суммы денег. Этот район был взят под особое наблюдение. В ночь с 3 на 4 января 1943 года в очередной пеший наряд для обхода указанных мест были назначены среди прочих милиционеры каввзвода Сагит-Гиреев и Клещев. После комендантского часа на ул. Пестеля они встретили неизвестного гражданина, документов у которого не оказалось. Его задержали. Из-за оплошности Клещева задержанный сумел выстрелить из нагана, тяжело ранил Сагит-Гиреева и скрылся.
4 января, в 12 часов дня, при обходе того же района пом. оперуполномоченного Чернозубов и милиционер Мареев потребовали у двух молодых людей предъявить документы. В то же мгновение один из неизвестных дважды выстрелил через пальто и ранил Чернозубова в челюсть. Стрелявший скрылся. Его спутник после отчаянного сопротивления был взят Мареевым. Все трое пошли в железнодорожную поликлинику, находящуюся поблизости. Пока врач обрабатывал рану Чернозубову, Мареев и задержанный, выглядевший подростком 15—16 лет, ожидали в приемной, так как им тоже нужна была медицинская помощь. Мареев проявил преступную халатность — не обыскал задержанного. Тот выждал момент, выхватил браунинг, тяжело ранил Мареева в грудь и, высадив раму, выпрыгнул из окна второго этажа поликлиники. Выстрелом Чернозубова, произведенным из кабинета врача, неизвестный был ранен, но сумел скрыться.
В тот же день мною был созван личный состав окружного отдела. До сведения каждого доведено, что только кровь, пролитая Чернозубовым, Мареевым и Сагит-Гиреевым, освобождает их от сурового дисциплинарного взыскания. Милиционер каввзвода Клещев, упустивший задержанного, в результате чего был ранен Сагит-Гиреев, предан мною суду трибунала. Следует заметить, что личный состав окротдела за короткое время сменен почти на 70 %, очень многие еще не освоили специфику милицейской службы. Выяснилось, что вчерашним фронтовикам кажется невозможным, чтобы мальчишка пятнадцати — шестнадцати лет предательски стрелял в своего. Большинство новичков психологически не подготовлены к этому, а отсюда — нерешительность и запоздалость действий по задержанию, несоблюдение элементарных правил предосторожности. Все случившееся мною было тщательно проанализировано с той целью, чтобы каждый извлек себе урок на будущее.
По нашим данным, в городе сейчас сформировались две бандгруппы, тесно связанные между собой. В ночь с 6 на 7 января 1943 года вооруженные бандиты напали на склады пароходства «Волготанкер», вывезли большое количество продуктов (рис, мука, пшено) и промышленных изделий (верхнюю и нижнюю одежду, белье, обувь, рулоны ситца и фланели). В ночь с 7 на 8 января был ограблен склад консервного завода. Совокупная стоимость похищенного по государственным ценам — 100 000 рублей, по рыночным — 1,5 миллиона.
На розыск преступников поднят весь личный состав окротдела и ВОМ. Для координации действий создан штаб под моим руководством. Благодаря принятым оперативным мерам, уже 10 января была выявлена квартира Клавдии Панкратовой, в которой обнаружена значительная часть продуктов и вещей, похищенных со складов пароходства «Волготанкер». Преступники вместе с хозяйкой, закрыв изнутри дверь и сделав несколько выстрелов, ушли от группы задержания подземным ходом. Панкратова была арестована на квартире у своей подруги Анны Любивой, известной нам как мелкая спекулянтка. Панкратова на допросах упорно молчит. Работают с ней начальник следственного отдела ВОМ ст. лейтенант Корсунов и начальник уголовного розыска ВОМ мл. лейтенант Тренков.
План розыскных мероприятий прилагается.
Операция проходит под кодовым названием «Лягушка».
Начальник Астраханского окружного отдела милиции капитан Заварзин
4
Оперативка штаба по ликвидации банды заканчивалась, когда Заварзину позвонил секретарь окружкома партии Александров.
— Чем занимаетесь, капитан? — спросил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Смысл вопроса тоже был нехорош. Что значит — «чем занимаетесь»? Кратко не ответишь, а пространно отвечать не положено. И молчать не положено.
— Подбиваем итоги проделанной за сутки работы, — ответил Заварзин. — Сейчас у нас идет оперативное совещание штаба по ликвидации банды.
Таким ответом он попытался намекнуть, что в кабинете не один, что понимает, какого рода будет разговор и что хорошо бы его перенести. Однако Александров нынче не был расположен щадить чье-либо самолюбие.
— Штаб создали, совещания идут, — сказал он, — а бандиты уже днем начали в городе стрелять, не укладываются в ночи, которые ты им отдал на откуп… У меня на столе, Заварзин, письмо. Кому, спрашивают рабочие, город принадлежит: Советской власти или бандитам? Дошли мы с тобой до ручки, если нам стали такие вопросы задавать… Что присоветуешь ответить?
В сущности, и звонка и разговора Заварзин ждал с того момента, как в городе прогремел первый бандитский выстрел. Надо отдать должное Александрову — две недели он не звонил, не поторапливал, не дергал Заварзина, хотя сводки происшествий, одна тревожнее другой, ложились ему на стол ежедневно. Терпению секретаря окружкома, видать, пришел конец…
— Андрей Николаевич, у нас пока нет прямых выходов на банду, поэтому точный срок ее ликвидации назвать не могу, — сказал Заварзин. — Но заверяю вас: органы милиции сделают все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки…
Договорить ему Александров не дал.
— Так окружкому партии не отвечают, Заварзин! — голос его налился гневной силой. — Слушай, как надо отвечать… Через две недели, одиннадцатого февраля, банда будет ликвидирована. В противном случае ты положишь партбилет на стол, и мы найдем для милиции другого руководителя, который сумеет глубже понять свою ответственность перед партией и народом. Тебе все ясно, товарищ Заварзин?
— Ясно, товарищ Александров.
— Коли ясно — выполняй. — Он помолчал и добавил: — Ты, говоришь, в кабинете не один?
— Да…
— И твои слышали наверное, все?
— Так точно. И сейчас слышат, — Заварзин обежал глазами присутствующих, улыбнулся. — Трубка у меня звонкая…
— Извини тогда, Сергей Михалыч. — Теперь на другом конце провода говорил усталый, замотанный человек. — Надо мне было свой голос подсократить.
— Ничего, — сказал Заварзин. — Подчиненные наши думают, что только с них требуют, только им устраивают головомойки, а начальству — никогда. Пусть теперь не заблуждаются на этот счет.
— Передай своим людям: надеюсь на них. Передай еще: в городе в связи с бандитскими грабежами и налетами поползли панические слухи, один нелепее другого. Это ощутимо мешает работать. Особенно большой резонанс имели перестрелки, старайтесь их больше не допускать. Во всяком случае, громких… Заметь, Сергей Михалыч: немцы бомбили город — что ж, народ это понимает: война, а бандитских выстрелов у себя за спиной он терпеть не хочет, не может и не должен. Так что укладывайся. Одиннадцатого февраля имеешь право оттянуть свой приход в окружком до двадцати часов — и ни на минуту больше. Все. До встречи.
Послышались отбойные гудки, и Заварзин положил трубку, подумав, что сегодня же надо заменить ее. Он еще раз обежал глазами присутствующих и не встретил ни одного ответного взгляда.
— А что бы вы хотели? — сказал он. — Пока в городе банда, никто меня по головке гладить не будет.
— Чертова работа! — пожаловался старший лейтенант Корсунов. — Пластаешься, пластаешься, а чуть что — ты снова в лодырях.
— Хорошенькое — чуть что! — сказал начальник Водного отдела и непосредственный начальник Корсунова старший лейтенант Кононенко. — Банда — это полтора миллиона рублей ущербу, а не чуть что. Я думаю, — он серым и острым, как нож, взглядом уколол Корсунова и Тренкова, — я думаю, все, что сказал секретарь окружкома партии, относится в первую очередь ко мне и к вам.
Он имел в виду, что бандиты по какой-то случайности брали продовольственные склады, принадлежавшие предприятиям и организациям, работавшим на реке и в море. Водный отдел нес, формально говоря, главную ответственность за эти грабежи.
— Будет уж тебе, Петр Петрович, — сказал Заварзин. — Ответственность мы несем общую. Итак, заканчиваем. Еще раз напоминаю: все материалы стекаются в Водный отдел непосредственно к начальнику следственной части Корсунову, которого вы хорошо знаете, и к начальнику уголовного розыска ВОМ, новому нашему сотруднику, младшему лейтенанту Тренкову. Старшим назначается Корсунов. Любое его указание имеет силу военного приказа для каждого начальника всех трех только что созданных оперативных групп. За все факты ведомственных рогаток и ведомственной спеси взыскивать буду беспощадно со своих, а ты, Петр Петрович, — обратился он к Кононенко, — со своих. С нас же с тобой, — Заварзин усмехнулся, — найдется кому взыскать. Вопросы есть?
— Есть, — сказал заместитель Заварзина старший лейтенант Авакумов.
В хорошо подогнанной форме, ладный, чисто выбритый, в меру пахнущий одеколоном аккуратист, Авакумов говорить умел и говорил чаще всего дельные вещи. Речь его была тщательно причесана, как и он сам, смотреть и слушать его было одно удовольствие, но иногда удовольствие длилось слишком долго… Памятуя это, Заварзин приготовился задавать вопросы, другого способа борьбы с гладкой речью Авакумова не было.
— Пятый день, — начал Авакумов, — в наших руках находится человек, который может вывести нас наикратчайшим путем к банде. Может, но не хочет, а мы бессильны повлиять на него. Разве мы не можем заставить Клавдию Панкратову заговорить? Я не верю в это. Я думаю, тому причиной — неопытность младшего лейтенанта Тренкова. Отдавая должное боевому опыту этого офицера-фронтовика, мы не можем закрывать глаза на то, что этот опыт — не очень-то большой помощник в оперативно-розыскной работе. А учитывая жесткие сроки, которые нам даны для раскрытия дела, я бы предложил заменить младшего лейтенанта, потому что…
— Кем? — настала пора задать вполне уместный вопрос, и Заварзин задал его.
— Я предлагаю себя… Думаю, что сумею найти подход к Панкратовой. Она заговорила бы у меня.
— Что ж, предложение серьезное. Давайте-ка подумаем минуты две.
Думали. Тренков, бледный, безразлично смотрел в окно, собрав все силы, чтобы дышать неслышно. Оказывается, не тогда судьба его решалась, когда он допрашивал Панкратову, а сейчас. Если отстранят, думал он, я сгорю быстро и ненужно. А почему так важно ему расследовать это дело, он не успел додумать: две минуты истекло.
Заварзин в эти две минуты думал не о том, заменять или не заменять Тренкова. Не заменять, ни в коем случае! О другом он думал… Он часто себя ловил на неприязни к Авакумову, а почему — не всегда мог отчетливо понять. Авакумов был способный офицер, хороший помощник. Заварзин сам и сделал его своим заместителем. Клавдия Панкратова у него быстро заговорила бы, это ясно. Но Авакумов не предложил своих услуг раньше, а предложил только сейчас, после звонка секретаря окружкома партии. Теперь, когда внимание окружкома приковано к этому делу, Авакумов, человек честолюбивый, согласен поработать на полную отдачу, лишь бы отличиться. Честолюбие Авакумова очень часто Заварзин использовал в нужном русле, но сегодня — нет, не тот случай…
— Две минуты истекло. Мы обсуждаем предложение моего заместителя, сводящееся к тому, чтобы заменить Тренкова. Каждый отвечает коротко, без объяснения причин. Корсунов?
— Нет, не заменять.
— Луценков?
— Да. Заменить.
— Кононенко?
— Да. Заменить.
— Миловидов?
— Да.
— Топлов?
— Да.
— Мнение присутствующих ясно… Срок ликвидации банды, без сомнения, жесткий, но горячку нам пороть не годится. Во-первых, учтем, что не один Тренков работает с Панкратовой, а под руководством опытного и всеми нами уважаемого следователя Корсунова, во-вторых, они работают с Панкратовой пять дней, знакомы со всеми деталями дела, а Авакумову надо будет знакомиться заново. В-третьих, сейчас, на мой взгляд, Корсунов и Тренков уже кое-что имеют и в ближайшие дни иметь будут больше. Так, Ефим Алексеевич?
— Чтоб только не сглазить, Сергей Михалыч… Заговорит бабенка!
— Младший лейтенант!
— Здесь! — Тренков вскочил, стараясь, чтобы это у него получилось молодцевато.
— Младший лейтенант, вы затянули работу с Панкратовой, надо признать. Но вам все-таки присуще оперативное чутье, и это заставляет меня надеяться на лучшее. Дать Панкратовой бумагу и карандаш для письма мужу — это ваша идея?
— Никак нет, товарищ капитан, — честно ответил Тренков. — Это идея самой Панкратовой.
— Потому и говорю об оперативном чутье, младший лейтенант. В нашем деле надо быть очень осторожным.
— Кое-что начинаю усваивать, товарищ капитан, — улыбнулся Тренков. — По собственному почину, конечно же, не стал бы навязывать ей письменные принадлежности. Но она очень уж просила. Мужа не любит, не пишет ему давно, а тут вдруг воспылала желанием… Вчера на допросе Панкратова, сама того не сознавая, косвенно подтвердила мне, что записка на волю сообщникам ею уже написана, она теперь ищет возможность передать ее.
— Помогите ей. Контроль за путешествием записки вами продуман?
Поднялся Корсунов, доложил:
— Через два часа план операции «Записка» будет лежать у вас на столе, товарищ капитан.
— Хорошо. А через три дня в семнадцать ноль-ноль у меня на столе должны лежать правдивые показания Панкратовой. Это приказ, Тренков! Дело Панкратовой вы доведете до конца.
— Благодарю за доверие, товарищ капитан. Я выполню приказ.
В дверях Тренков благодарно сжал локоть Корсунова.
— Ефим Алексеевич, ты один высказался за то, чтобы меня не заменять Авакумовым. Спасибо тебе, дорогой.
— Да что там, Алеша! И почему — один? А Заварзин? Это уже, брат, двое!
5
Оперативка штаба закончилась в десять часов вечера, а ровно в полночь личный состав окружного отдела и ВОМ начал облаву во всех подозрительных и злачных местах города. Она прошла быстро и закончилась удачно — без выстрелов и потерь, но пока разбирались, кого взяли, пока начальники городских отделений докладывали Заварзину по телефону о результатах, — наступил четвертый час утра.
Заварзин дал отбой всем, кто был свободен от дежурств, и сам собрался прилечь на диване. Но прозвенел телефонный звонок. Старший лейтенант Луценков просил встречи на десять минут.
— Мы с тобой, Иван Семенович, — сказал Заварзин Луценкову, когда тот вошел, — в истекшие сутки виделись раз пять. А тебя, заметил, так и тянет ко мне под утро.
Но Луценков не принял дружеского тона своего начальника.
— Не дает мне покоя, товарищ капитан, — сказал он, — давешний звонок из окружкома партии. Александров слов на ветер не бросает… Но две недели! Срок для ликвидации банды явно нереальный.
Заварзин хмыкнул, спросил:
— Слушай, а ты сейчас в какой ипостаси ко мне явился? Как подчиненный или как секретарь партийной организации?
— Един в двух лицах, Сергей Михалыч, — улыбнулся наконец и Луценков. — На ковер перед Александровым стану с тобой и я.
— Угу, — Заварзин поднялся из-за стола и заходил по кабинету. — Значит так: через две недели я являюсь в окружном и докладываю, что банда не ликвидирована, а ты, если тебя, конечно, спросят, в чем я крепко сомневаюсь, — мы ведь, не забывай, работаем с тобой в прифронтовом городе, законы в нем военные, и спрос с нас тоже военный, — а ты, если тебя, повторяю, все-таки пожелают выслушать, явишься и доложишь, что Заварзин и не мог управиться за две недели, что банда сильно законспирирована, бандиты оргий не устраивают, водку не пьют, анашу не курят, с проститутками из уголовного мира не якшаются, в малинах не бывают, — следовательно, обычных и скорых выходов на банду мы получить не могли. Ты меня защитишь, партбилет и должность останутся при мне, командирский паек — тоже, а то, что бандиты трех наших товарищей ранили, четыре крупных продовольственных склада взяли, — за это пусть дядя отвечает.
— Сергей Михалыч, — спокойно и печально сказал Луценков, — ты зачем меня дурачком выставляешь? Столько лет работаем вместе! И в дураках у тебя, судя по твоим же благодарностям, я вроде никогда не ходил.
Заварзин споткнулся, замер. Долго они глядели друг другу в глаза… Затем Заварзин подошел к столу, сел, сказал устало:
— Прости, Иван. Нервишки, видать, сдают.
— Я бы этого не сказал, Сергей. Канатные у тебя нервишки, судя по всему.
— Что ты имеешь в виду?
— Сильно ты рискуешь, не заменив Тренкова Авакумовым. И потом… Зачем было спрашивать на этот счет мнение начальников служб, ежели ты все равно не посчитался с нашим мнением? Авакумов твой заместитель, но для нас-то он является непосредственным начальником. А ты в присутствии подчиненных ударил по его самолюбию. Для такого человека, как он, удар твой — очень болезненный. Переживает… Приходил ко мне.
— …поплакаться в жилетку партийному руководителю, — в тон Луценкову продолжил Заварзин. — Ничего, выплакался — работать злее станет. А вот твоя позиция, Иван, мне не совсем ясна. Ты ведь, насколько помню, тоже высказался за то, чтобы заменить Тренкова?
— Что же тут неясного, Сергей Михалыч? Авакумов — опытный оперативник, а Тренков — пока еще мальчишка в нашем деле. Вот и вся моя позиция.
— Жидковата твоя позиция, Иван Семеныч. Этот, как ты говоришь, мальчишка фронта хлебнул под самую завязку. Геройски вел себя, возьми в кадрах его личное дело, ознакомься, тебе, как парторгу, надо бы знать, из кого завтра пополнять нашу парторганизацию.
— Обожду, — твердо сказал Луценков. — Он только что из окружения вышел.
— Не вышел — вынесли… Эту маленькую разницу улавливаешь? Авакумовские нотки слышу в твоих словах. Тот подозрителен ко всем сверх меры.
— Обожду, — еще тверже повторил Луценков. — И это не подозрительность сверх меры, а разумная осторожность. А вот ты, Сергей… Ты такой безоглядный, что иной раз мне просто боязно за тебя. Могут ведь найтись люди, которые неправильно истолкуют: окруженцу, молокососу доверил важнейшее дело, а своему заместителю, коммунисту, опытному и проверенному не раз работнику — не доверил. И случись нам не уложиться в срок с этой бандой… Много ты взял, Сергей Михалыч, на себя, много!
— Иван, — резко сказал Заварзин, — нас двое в кабинете! Не ссылайся на каких-то там людей… Но желательно мне знать: как ты сам при случае истолкуешь?
— Я до конца с тобой, Сергей, — просто ответил Луценков. Помолчал и добавил с обидой: — Мог бы мне такого пакостного вопроса и не задавать.
— И не задал бы, да что-то мы с тобой в последнее время начали не в одну дуду дудеть. Вот хотя бы с этой заменой… Я ведь вас тоже проверял на прочность и человечность, помощники мои дорогие. А вы, кроме мудрого старика Корсунова, проверку мою не прошли. А все почему? Из осторожности: как бы чего не вышло, как бы кто превратно не истолковал.
— Не прав ты, Сергей Михалыч, — возразил Луценков. — Мы в первую очередь о деле думали. Для дела, учитывая жесткие сроки, замена была бы на пользу.
— Дело, людьми делается, Иван, — сказал Заварзин. — Надломив Тренкова недоверием, мы тем самым решили бы его судьбу на будущее. А для Авакумова — это не вопрос судьбы, а всего лишь вопрос самолюбия, возможность отличиться. Ничего, уж как-нибудь мы свое самолюбие зажмем в кулак, не то время, чтобы нянчиться с ним. Ты вот не поглядел на мое самолюбие, отбрил так, аж дыхание у меня перехватило… Да и эта скоропостижная замена — знаешь, о чем бы свидетельствовала?
— О чем?
— О нервозности и неуверенности — моей, в частности. А худо, брат, когда начальник занервничает, заегозится; подчиненные тогда такое наворотят — не расхлебаешь. Не знаю, о чем тебе плакался в жилетку Авакумов, но путь он нам всем предложил лишь на первый взгляд выгодный, а на самом деле — гибельный. От тебя-то я как раз и ждал понимания этого. И поддержки ждал. Не дождался.
— Трудно мне спорить с тобой, Сергей Михалыч, — сокрушенно сказал Луценков.
— Почему трудно? — пожал плечами Заварзин. — На равных спорим, я тебе рот не затыкаю. Хорошее ты времечко выбрал для спора… Погляди-ка на себя внимательно.
— А что?
— А то, что не ходи ко мне больше под утро. Манеру взял! Не молоденький, чай. Да и я не двужильный.
Оба невесело рассмеялись.
Глава вторая
1
Следователь Корсунов глядел, как спекулянтка Анна Любивая, на квартире у которой была арестована пособница бандитов Клавдия Панкратова, старательно выводит свою подпись.
— В последний раз, Анна, — веско сказал он. — Больше ты дуриком от нас не уйдешь. Подписала? Завтра в восемь утра заступит на дежурство сержант Кашкин, он тебя и выпустит.
— Ох, Ефим Алексеич! Еще ночь маяться… А нельзя ли прямо счас на волюшку?
— Ты когда подписываешь бумаги, гляди — чего подписываешь. Бумага оформлена завтрашним числом, твои арестантские часы завтра истекают, понятно? А завтра меня не будет, я в засаду пойду, Анна, и если эту бумагу не оформить нынче, ни одна душа тебя отсюда не выпустит. Я из-за тебя, можно сказать, закон нарушаю…
— Поняла, Ефим Алексеич, чего не понять? Сильно ты душевный мужик… Великое тебе спасибо.
Корсунов долго глядел в слишком бесхитростные, слишком благодарные глаза Любивой.
— Язва ты, Анна…
Тут, как и было условлено, явился Тренков. Корсунов, указывая на Любивую, попенял ему:
— Твоя недоработка, Алексей Иваныч. Спекулянтка явная, связь с Панкратовой она тоже поддерживала, а предъявить ей ты ничего не смог. Отпускать приходится.
— Как — отпускать! — возмутился Тренков. — По какому праву?
— А не пойман — и не вор, — вставила Любивая, почувствовав поддержку Коршунова. — Это что же такое, добры люди? Попросилась подружка ко мне переночевать, пустила — и меня же за мою доброту в тигулевку? Я про Клавкины шашни с бандюгами, вот вам крест, граждане начальники, знать не знала, ведать не ведала.
— А два килограмма риса? — нажимал Тренков. — А полтора килограмма сахару?
— У меня дома тоже с килограммчик риса найдется. Так что я — спекулянт? — спросил Корсунов.
— А два килограмма топленого масла? У вас дома найдется столько? — не отступал от своего Тренков. — Рыночная цена — три тысячи за килограмм.
Корсунов вроде бы засомневался… Легкая тень прошла по его птичьему личику, рука вроде бы потянулась к бумаге — смять, порвать, выбросить в корзинку… Любивая испуганно воззвала:
— Гражданин начальник! Ефим Алексеич! Ей-богу, для чахоточной сестры потратилась. Не верите — спросите.
— Вот видишь, Алексей Иваныч, для сестры, — сказал Корсунов. — Между нами говоря, не для сестры, конечно. Но чем мы докажем суду? Нечем нам доказывать. Плохо мы сработали. Придется отпустить… Но гляди, гражданка Любивая! Встречу еще раз за перепродажей, испугом не отделаешься.
Любивую увели. Тренков с сомнением спросил:
— Не перестарались ли мы, Ефим Алексеич? Со страху она никакой записки от Панкратовой не возьмет.
— Возьмет… Жадна больно. Леша, считай: с завтрашнего дня мы выходим на банду.
— Не верится что-то. Пока с одними бабами имеем дело, да и те молчат.
— Я, милый, работал лет пятнадцать тому назад с одним парнем, Сережей Гадаловым. Начальник он был мой… И человек, Леша, был незабываемый… Так он знаешь что частенько говаривал?
— Что? — равнодушно спросил Тренков, думая о своем.
— Не знаешь… А потому не знаешь, что ты не учен по-французски. А он был учен и частенько говорил нам: «Ищите женщину». Вот мы эту самую женщину, Клавку Панкратову, и нашли. А получим ее записку к бандитам — заговорит, милая, заторопится…
2
Ночью Панкратова сняла с себя шелковую комбинацию и отдала Анне Любивой. Та надела ее под полотняную рубашку, ощутила непривычный холодок шелка, вздохнула:
— В молодые бы годы такую… Чуть припоздала ты, Клавка.
Записку она спрятала в лифчик. Ночь не спала. Камера была забита спекулянтками, лишь в дальнем конце ее тихо и застойно жили три молодые карманницы. Соседки по нарам, отбойные, прошедшие огонь и воду бабы, храпели так оглушительно, с таким тошнотным присвистыванием и прихлебыванием, что у Любивой покалывало сердце. Давно уже, лет пять, не пробовала Анна тюремного хлеба и тюремного сна — и не пробовать бы их никогда… Под утро она твердо решила: по сказанному Клавкой адресу не пойдет, записку не отдаст, сожжет ее в печке, Клавке все одно пропадать. А утром, под гром открываемой дежурным двери, окаянная Клавка обожгла ее ухо шепотом:
— Гляди, Анна! Не отдашь — узнаю, а узнаю — мои мальчики тебя из-под земли достанут. Гляди, Анна…
Ох, жизнь! Корсунов заладил: гляди да гляди, и эта тоже… А тут еще в дежурке настрадалась. Дежурство принял сержант Кашкин, ревностный служака, чтоб ему пусто было. Оглядел ее подозрительно, шмон сделал в авоське, хотя авоську ей выдали при нем, — такой уж он, собственным глазам не верит. А после предложил добровольно выдать все, что, не дай бог, несет она на волю от заключенных, пряча на себе. Любивая облилась холодным потом и, прокляв Клавку, ее шелковую комбинацию и записку, сказала, что выдавать ей нечего. А сержантки, которая обыкновенно бабам личный обыск делала, все не было и не было, непорядок какой-то, видать, случился, и сержант Кашкин стал звонить наверх, в кабинеты, чтобы кто-нибудь из юбошниц пришел. Но тут ударило на стенных ходиках восемь, никто не имел права держать Любивую ни одну лишнюю минуту под арестом, и она зашумела. Службист Кашкин порядок уважал во всем, поэтому он бросил крутить ручку телефона, сказав: «В рубашке родилась, бабонька», — после чего Анна вышла из отделения милиции на ватных ногах. Одна радость: Клавка видела все ее муки, потому что вели ее на допрос, а сопровождающий остановился поболтать с Кашкиным. Может, теперь Клавка, выйдя на свободу, добавит что-нибудь к комбинации?
Глубоко вдохнула Любивая сочный морозный воздух — ах, как сладок воздух свободы! Дыша этим счастьем, можно пойти в любую сторону. Пойдет Анна сначала домой, захватит бельишко, в бане смоет с себя тюремную карболку и воспоминания, потом чай будет пить, потом в церковь пойдет… О господи, господи! Как хорошо-то… Но тут мыслишка ворохнулась: а куда ж записку, чего с ней делать? И сразу темно стало. Ну жизнь, ну лярва, не даешь ты человеку продыха. А может, человек сам дурак? Сам оковал свою свободу цепями похлеще тюремных?
Так думала Анна Любивая, выходя из парка, в котором располагалась Водная милиция. И тут подсунулся к ней немудрященький такой мужичишка, сказал страшные слова — и не ему бы, голодранцу, их говорить:
— Гражданка Любивая, тебе чего — опять в тюрьму захотелось?
И повел ее в окружной отдел. И пока шли, Анна ежилась, плечами двигала — все хотела, чтоб проклятая записка как-нибудь выпала. Но свернутая в жгутик бумага мертво, как шов, лежала на коже.
В окружном отделе Анну ждали. Корсунов, оказывается, ни в какую засаду не ходил — тоже дожидался. И другие важные шишки сидели. И тут уж прости, Клава, своя шкура дороже. Сделаю все, как милиция велит.
А велели ей исполнить все в точности так, как просила Панкратова. Анна отнесла записку старухе Дашке, о которой слышала, что та несметно богата. Дашка записку взяла, спросила скрипуче: «А кто платить будет?» Любивая на это ответила Клавкиными словами: «Ребята заплатят, хорошо отвалят. Когда за ответом прийти?» Старуха пожевала впавшими, лиловыми губами, сказала: «Через день, как стемнеет».
Пришла Любивая через день, а Дашка встретила ее разъяренной ведьмой. «Кто платить будет? — потрясала она запиской. — Вот дура, так дура, тьфу! Ни твоя Клавка, ни ее бумажка никому не нужны, так ей и передай».
— Верни мне, бабушка, записку, — попросила Анна, вспомнив наказ Корсунова, который предвидел подобный поворот.
— Верну, — старуха вмиг притихла. — За килограмм маслица верну.
Любивая сделала добротный кукиш, сунула его под крючковатый нос старухи и вышла, рассудив, что потраченный на Дашку килограмм масла милиция ей не возвратит ни за какие коврижки.
В тот же вечер она, сменив серый пуховый платок, в котором ее забрали вместе с Клавкой, на белый, пришла к Водному отделу милиции. И прохаживалась здесь до тех пор, пока в полуподвальном зарешеченном окне размытым пятном не показалось лицо Клавки. И будто с этим мучнисто-бледным лицом молодой подружки выплыл из глубин здания тошнотный храп соседок по нарам, шибанула в нос карболовая вонь камеры — и жалко стало Клавку до боли в сердце. «А не балуй с бандюгами, дура!» — тут же решила Анна. Чтобы Клавка в сумерках хорошенько рассмотрела цвет платка, Анна развязала его, покрылась заново и пошла по главной аллее парка. А Панкратова долго и ненавистно смотрела ей вслед, как смотрят тем, кто уносит наши последние надежды.
3
Начальнику третьего отделения милиции мл. лейтенанту Топлову А. М.
РАПОРТ
Доношу, что, находясь в засаде на квартире Богомоловой Дарьи на предмет задержания бандитов, я в книжке обнаружил записку заключенной Панкратовой, в которой она просит бандитов освободить ее.
Записка прилагается.
Участковый уполномоченный сержант милиции Мациборко
4
ЗАПИСКА
Коля и Женя, спасите меня. Если вы мои друзья, вы должны это сделать. Избавьте меня от издевательств Тренкова. Очень свободно сделать мне побег. Вы спросите как? Приходите часов в восемь вечера, на первом этаже милиции никого нет, только двое дежурных, один за столом, другой возле стола. Вот этот милиционер и водит в уборную. Я зайду за уборную, а кто-нибудь из вас выйдет и прямо ему в рот что-нибудь. Двое подбегают и режут его или наганом, я в это время ухожу, а вы вяжите ему руки или совсем удавите. Народу никого нет, действуйте прямо, только застучите в окно, как придете. Скорей, пока я здесь, на Семнадцатой пристани, а увезут в тюрьму, тогда все. Смотрите, не забудьте обо мне. Ваша Клавдия.
5
Панкратова взяла записку, сунула в рот и стала жевать, Тренков онемел. Его удивило, с каким наглым, бесстрастным лицом эта русская красавица жевала бумагу и смотрела на него.
— Выплюньте, — посоветовал он. — Это же копия. Вы свой почерк забыли, что ли?
Некоторое время Клавдия сидела с полуоткрытым ртом. Вид у нее был глупый. Чтобы она не заметила его невольной улыбки, Алексей, кашляя, пошел к форточке.
— Слушайте, Панкратова, — сказал он, — вы про какие издевательства пишете своим друзьям? Мне начальству уже пришлось объяснение давать.
— По двенадцать часов допрашиваете… Воды не даете…
— А кому мне пожаловаться, что приходится вас допрашивать по двенадцать часов? А что это вы сейчас делаете, как не воду пьете, горлышко после бумаги прочищаете? Даже разрешения не попросили, как положено всякому культурному человеку. А ведь вы техникум закончили, в школе когда-то преподавали… Все больше убеждаюсь: вздорный и мелкий вы человек, Клавдия Федоровна. И не по-женски жестокий, к тому же. Чем вам помешал сержант Кашкин, которого вы удавить захотели? Службист, но добрейший человек, сами же заключенные говорят. Не-ет, Клавдия Федоровна, таких, как вы, надо расстреливать. Я даже, честно говоря, не ожидал, что в тылу такие мягкие законы.
— Я-то буду жить, — хрипло сказала Панкратова, — а вот ты, лейтенант, не жилец. На каждый случай форточки рядом не будет.
— Возможно, — сказал Тренков, садясь за стол. — Мне двадцати одного нет, вам — тридцать пять. Пожалуй, я не сумею дожить до ваших лет. Но я, Клавдия Федоровна, должен был уже десять раз помереть. По всем мыслимый и немыслимым законам. А я живу. И работаю. Кстати, благодаря вам я понял, что работа у меня очень ответственная. И потому каждый день для меня праздник. Вы это можете понять?
— Заливайте, заливайте.
— Да я и сам не понимаю, — засмеялся Тренков. — Нынче что-то у меня настроение хорошее. Выздоравливать начинаю, что ли? Слушайте, Клавдия Федоровна, а вы читали Островского «Как закалялась сталь»?
Теперь смеялась Панкратова. Долго и оскорбительно.
— Настроение хорошее, — сказала она, отсмеявшись. — А как же, лейтенант, с таким хорошим настроением поведешь меня расстреливать, а? Не смутишься? Я все же русский человек. Женщина!
— Ты — русская, ты — женщина? — чувствуя, что срывается и не в силах сдержать себя, тихо и гневно переспросил Тренков. — В окружении я собственноручно двух предателей пристрелил — таких же, как ты, русских… А если бы я их не пристрелил, мы бы не вышли из окружения. Так неужели ты думаешь, подстилка бандитская, что сейчас, когда под Сталинградом наши солдаты гибнут тысячами, моя рука дрогнет? Да никогда! В последний раз тебе говорю — назови тех, кому писала. Мне осталось с тобой работать шесть часов. Через шесть часов твои показания я должен положить на стол начальнику окружного отдела Заварзину. А не положу, с меня их спрашивать больше не станут, и с тебя — тоже. Это твой последний шанс, Панкратова. Последний!
— А я и желаю дать правдивые показания, гражданин начальник, — сказала Панкратова. — Про мальчиков, которые меня предали. Я их берегла, а они меня предали. Ловите их, подлецов! — закричала она. — Ловите и стреляйте, чтоб духу их на земле не было!
— Без истерик, Клавдия Федоровна… Что такое? Около вас я тоже сорвался. Прошу простить меня за грубое слово.
Он подал стакан воды, она выпила. Спросила:
— Какое слово?
— Какое, какое… Не повторять же мне его,, Клавдия Федоровна.
Она потерла виски пальцами, сказала с тоской:
— Господи, никогда мне не понять вас, мужиков…
— У вас будет еще время и подумать и понять. Только вот что, Клавдия Федоровна… Прошу без уверток. Всю правду и с самого начала.
— Начало было такое, — сказала она. — Пришла ко мне Дашка Богомолова…
6
Дашка Богомолова, притаенная старуха, пришла к ней однажды вечером. Была Дашка, как обычно, навеселе, но не от водки, а от опиума — под старость лет пристрастилась к нему, просаживала богатство. И вот эта Дашка сказала:
— Клава, есть ребятки, они ищут квартиру, а у меня коридор общий, возьми их к себе.
— В тюрьму с ними загремишь, — засомневалась Клавдия, еще не отмывшая трудового пота после второй отсидки. — Темные, видать, твои ребятки.
— Кому темные, а нам с тобой светлые, — настаивала старуха, имевшая от этого дела свой навар. — Тюрьмы они боятся поболе твоего. Кормить будут досыта. Бери, не раздумывай, а то попросишь — таких удачливых уж не найду.
Клавдия не ответила ни да, ни нет. А на следующий день, тоже под вечер, она столкнулась во дворе своего дома с двумя парнишками. Первый, лет семнадцати, с узким нежным лицом и юношескими прыщами на щеках, угрюмый от желания быть старше, назвал себя Евгением, другой, светловолосый улыбчивый крепыш лет двадцати, сунул ей лодочкой крепкую руку и отрекомендовался Ванькой Поваром. Кличку свою произнес легко, с удовольствием. Дом ему понравился, и место тоже. Эти молоденькие, безобидные на вид ребята дотошно осматривали каждую комнату, расспрашивали, куда какая стена выходит, пробовали, крепки ли оконные рамы, чтобы при случае их высадить, — и, видя все это, Клавдия подумала, что кровь на них уже лежит и терять им нечего. Значит, и платить будут хорошо… И она, минуту назад колебавшаяся, дала согласие.
В двенадцатом часу ночи они пришли впятером, среди них был и тот, кто жесткой рукой и на коротком поводке держал всех. Ничего особенного в нем не было, так себе, немудрященький с виду, смуглое лицо побито оспой, почти безбровое, глаза очень белые, словно выстиранные, — нет, не красавец, даже дурен. На нем были хромовые командирские сапоги и длинная шинель с лейтенантскими кубарями на отворотах воротника. Когда же он снял шинель, то оказался в хорошо подогнанной лейтенантской форме, чему она опять очень удивилась, а он, заметив ее недоуменный взгляд, усмехнулся и промолчал. Так же дотошно осмотрев дом и расспросив о соседях, он сел за стол, посадил ее рядом — ребята встали у стены — и сказал:
— Кто вы — мы знаем, Клавдия Федоровна, кто мы — вы догадываетесь. У меня в группе, — он так и сказал «в группе», — железная дисциплина, ей будете подчиняться и вы, если согласитесь нас принять. Подумайте, прежде чем согласиться. Если нет, мы уйдем, хорошо заплатив вам.
— За что? — испугалась она: в ее среде плата в подобных случаях была известная.
— Вы не поняли меня, — мягко улыбнулся он. — Мы вам дадим деньги. Хорошие деньги. За то, что вы видели нас и будете молчать. Видеть нас, — он опять улыбнулся и такая же улыбка расцвела на лицах ребят, — тоже недешево стоит.
— Господи, как вы меня испугали, — сказала она с облегчением.
— Это не мы вас испугали, — ровно продолжал он, — это прошлое вас испугало. В прошлом вы имели дело со всякой низкопробной шпаной. Прошу нас не путать с ней, мы не такие.
«А какие?» — хотела спросить она, но наткнулась на его белые, выстиранные, враз построжавшие глаза и сказала:
— Я согласна. Оставайтесь.
— В таком случае, капитана своего бросьте… Перестаньте приторговывать на базаре. С завтрашнего дня вы будете только покупать.
— А продавать мне и нечего, — легко сказала она.
— Будет чего. Но этим станут заниматься другие. Ваша забота: содержать дом в чистоте, обстирывать нас, готовить еду. Чтобы не мозолить глаза милиции, завтра вы пойдите в госпиталь, что на Парбичевом бугре, и наймитесь домашней прачкой.
Увидев, как вытянулось лицо Клавдии, сказал печально:
— Никто не любит работать. Даже то не можем понять, что жить без прикрытия нашему брату — гибель.
— А вы любите? — разозлилась Клавдия. Что это, право: он ей мораль вздумал читать. — Этак я могла бы и без вас туда устроиться.
— Ваше отношение к труду, — сказал он, — мы учли, Клавдия Федоровна. Белье в госпитале вы будете брать, относить по указанному мной адресу, получать его через несколько дней чистым и сдавать в госпиталь. Мне думается, — он чуть заметно усмехнулся, — это не очень обременительно.
Помолчал и добавил спокойно и равнодушно:
— За неисполнение хотя бы одной моей просьбы вас пришьет Женя.
Уже знакомый ей угрюмый парнишка, ходивший заНиколой тенью, отслоился от стены, глянул на Клавдию горячечными пустыми глазами, и она поняла, что да, этот пришьет, этот родную мать зарежет, прикажи ему Никола.
Они были странны ей, эти воры. Ни водки, ни оргий, ни девок, ни карт — квартира ее совсем не походила на притон, к чему Клавдия была готова. В прошлом кое-кто из ребят баловался анашой — Никола и это запретил им. Когда прошли облавы по ямам, где пьянствовали, развратничали, проигрывали в карты десятки тысяч рублей и ставили на кон жизнь — свою и чужую, — когда прошли эти облавы и милиция замела много крупной шпаны, Никола презрительно усмехнулся и сказал:
— Чище будет. А то расшумелись, пакостники.
Подумал и спросил строго:
— А кто это нас тянул к бабке Дашке?
— Я, — ответил Ванька Повар. — Корешок меня туда зазывал.
— Теперь твой корешок хлебает милицейскую баланду, — сказал Никола. — Знаю его, Ваня. Единоличник сопливый. Возьмет червонец, звону по малине пустит на сто. Балаболка. Настоящий вор, мальчики, ценит слово. Часто за одно неосторожное слово вор платит свободой. Мы же заплатим жизнью. Берегите слово, мальчики… Клавдия!
— Да, — отвечала она. По ночам, когда ребята не уходили на дело, она садилась в большой горнице у печки, брала штопку и слушала их беседы. Говорил в основном Никола, а парни с горящими глазами, похожие в эти минуты на волчат, слушали его, не проронив ни слова. Даже она, тридцатипятилетняя, знающая почем фунт лиха баба, попадала под обаяние этого человека и его речей. Обыкновенно беседы начинались с того, что он учил их осторожности, умению заметить слежку и оторваться от нее. У каждого из них в ее доме были сапоги, валенки, полушубок, пальто, ватник, по два костюма — он требовал менять верхнюю одежду часто, чуть ли не через сутки. Женьке Шепилову, его телохранителю, сменное пальто оказалось великоватым, а это могло вызвать подозрение: Никола не выпускал его из дому неделю, пока не достали вещь по фигуре. И многому другому учил он их, и это была наука выжить.
— Клавдия, — спрашивал он, — сколько мы живем у тебя?
— Да дней двадцать, — отвечала она.
— Представь теперь, что мы глухонемые. Много ли ты узнала бы о нас?
Это ей было интересно. Она думала. Отвечала:
— Почти ничего. Разве что квартира у вас еще есть, и даже не одна, потому что не всегда вы у меня ночевали. Ну и те склады, что вы брали. Шум по городу идет…
— Что ж, резонно. И от молчаливых можно много узнать путем сопоставления. А у нас еще есть языки, поганые, несдержанные. Мы поболтать любим, по-дружески, между собой, обо всем понемножку. Что же ты узнала от моих юнцов, Клавдия?
Юнцы заерзали на стульях. Открыто протестовать они не смели.
— А вы скажите, — разрешил Никола. — Я права голоса ни у кого не отнимал.
Они загалдели возмущенно.
— По одному, — поднял руку он. — А еще лучше — один пусть скажет.
— Я у Клавы не исповедовался, — заявил Иван Повар. — И за ребят ручаюсь.
— Да, это так, — подтвердила она.
— Однако у Клавдии есть уши, — сказал он. — Что же вошло в твои уши, Клавдия? Из разговоров, из недомолвок?
Она помолчала, вспоминая. И вдруг поняла, что знает о них почти все. И ужаснулась этому, потому что лучше бы ей не знать ничего.
— Клавдия! — подстегнул он. — Не юли, Клавдия!
— Ты тамбовский, Коля, кличка — Волк. Убежал из КПЗ, убил охранника. У Ивана есть девушка, зовут Галя, учится она на курсах медсестер. Любовь у них… У Жени брат старше на два года, ушел добровольцем на фронт… Все вы скрываетесь от мобилизации, недавно за сто тысяч купили дом, подставную хозяйку зовут тетя Витя. Полное ее имя, думаю, Виктория. Ну и еще кое-что по мелочам…
Тихо-тихо стало в горнице. Шипя, сгорал керосин в семилинейной лампе. Желтый немощный свет выхватывал из полутьмы горницы не лица, а застывшие маски.
— Как же мне научить вас ценить слово, брехливые собаки? Клавдия! Дай листок бумаги, карандаш, прихвати из прихожей чью-нибудь шапку.
Она принесла все, что он требовал. Дрожа, прижалась к теплому боку печки и смотрела, как он делил листок на пять равных частей И в каждую вписывал имя.
— Проверьте, — сказал он. Никто не двинулся с места.
— Чей жребий выпадет, тот умрет, — сказал он. — Проверьте.
Послышалось слабое шевеление, но встать и подойти к столу никто не решился. Тогда он скрутил в жгут каждую дольку, бросил в шапку.
— Тяни, Клавдия.
— Пятая — я? — спросила она.
— Пятый — я, — сказал он. — С такими болтунами лучше подохнуть сразу, чем быть заметенным через неделю. Я себе испрашиваю единственную привилегию — застрелиться. Любой другой должен повеситься в каком-нибудь сарае на окраине города. Чтобы не было никакого шухера, в кармане иметь собственноручную записку. Женя, проследишь. Если выпадет тебе, проследит Иван. Клавдия!
Пляшущими пальцами она нашарила в шапке первый же жгутик, развернула, прочла: Сашка Седой. Слабо застонав, поднялся с койки худенький белесый парнишка с простреленным плечом — тот самый, кто при побеге из больницы ранил милиционера Макеева и кого выстрелом из докторского кабинета ранил Чернозубов.
— Мне жаль, Саня, — дрогнув в лице, сказал Никола, — ты славный парнишка, мне не хотелось бы тебя терять. — Он медленно обвел глазами всех и добавил: — И никого из вас мне не хотелось бы терять. Тебе не повезло, Саня.
И столько печали было в его голосе, что Клавдия лишь только сейчас поверила: он заставит Седого повеситься, а Женька проследит. Она всхлипнула, сползла на пол, обняла руками колени этого странного, непонятного ей человека и стала просить несвязно:
— Коля, не нужно… Не губи его… Смерть его будет на мне… Коля! Все сделаю, вся ваша, родные вы мои… Прости его, Коля!
Захваченные ее порывом, ребята тоже подошли, брали за плечи и за руки, просили… Лишь Сашка Седой, покачиваясь, по-прежнему стоял у койки. Сжигаемый огнем изнутри, он слабо понимал, что сейчас происходит.
— Эх вы, лизуны, — голос Николы потеплел. — Ну хватит, хватит! Поднимись, Клавдия… Тоже мне, матерь божия, заступница сирых… Считай, ты в рубашке родился,, Александр. Ложись, милый. Нам, братцы, надо все-таки достать врача. Опасно, а надо. Сгорит парень.
Говоря это, он подошел к печке, открыл заслонку и вытряхнул из шапки записки с именами. Шапку, не глядя, кинул через плечо, ее подхватил всегда настороженный Женька.
Каждую ночь Клавдия ждала его к себе, нынче он наконец пришел в ее боковушку. После близости, в те отрешенные чистые минуты, когда хочется спрашивать и отвечать только правду, она сказала ему:
— Коля, зачем ты обманываешь их?
Спросила — и ждала, чутко ловя его голос. Он сапнул недовольно:
— То есть?
— Ну, воры мы — и воры… Чего уж там… икру-то метать. Не надо бы…
Под ее щекой было его плечо, и Клавдия чувствовала, как твердело оно. Но голос его еще был мягок:
— Хорошо с тобой, Клавдия… И тем хорошо, что мудрая ты: знаешь, что надо, а что не надо. А надо мне теперь, Клавдия, чтобы приняла ты Женьку, тень мою.
— Коля! — почти простонала она. — Я же не шлюха, Коля!
— Разве? — холодно спросил он.
Она, бессильно плакала у него на плече. Он обнял ее, сказал:
— Вот видишь, правда не нужна тебе. И никто не хочет знать о себе правду. Что же ты так хлопочешь за мальцов? Почему тебе кажется, что они обделены правдой и несчастны? А не наоборот ли, Клавдия?
— О господи! — сказала она. — О господи!
— А Женьку прими, — повторил он, поднимаясь. — Мне надо делать, из него мужчину. Я пришлю его сейчас.
— Коля, за что ты меня так? — шептала она, удерживая его. — Не смогу я… Сейчас не смогу…
— Сможешь, — сказал он, размыкая ее руки. — Я вор, а ты шлюха… Чего же нам икру метать?
Растерзанная, раздавленная, она глухо плакала. Ни тогда, когда ее, молоденькую учительницу из Уваров, изнасиловал на полевой тропе хмельной звероватый лесник, ни тогда, когда она хлебала в лагерях баланду, ни тогда, когда она обманывала своего доверчивого мужа, ни в объятиях боязливых откормленных чиновников, ни в ласках истеричных, бесшабашных воров, всю мужскую силу которых постоянно и тайно сжигал страх, — нет, в те позорные дни ни разу не приходила к ней горькая мысль, что жизнь ее погублена. Все ей казалось, что она мстит кому-то, и сладко это было — мстить, а еще ей казалось, что дальше будет лучше, что как-то изменится все, жизнь станет чище, а сама она станет чистой и звонкой, как туго натянутая струночка, какой шла она когда-то полевой тропой, доверчиво и безбоязненно глядя на встречного мужика. И вот теперь в теплом доме, доверху забитом жратвой и тряпками, в глухую совиную ночь, камнем павшую на голодный город, мысль о том, что жизнь ее погублена, пришла к ней и пронзила ее и не оставила обманных надежд. И поняла она, почему страдала за ребят, почему хотела для них нынешней, а не поздней правды.
В проеме двери, смутно белея оголенным телом, переминался Женька. Хрипловатым от сна, теплым, почти детским голосом он сказал:
— Ты плачешь, Клава? Ты не плачь, я тоже не хочу… Ну его… заставляет. А зачем мне? Ты не плачь. Я посижу вот тут, на табуретке, и уйду. Ты только не продай меня, ладно?
В темнота он шарил руками табуретку, ударился коленной чашечкой о ножку стола, слабо ойкнул. Клавдия приподнялась, протянула руку, положила ладонь на его враз задрожавшее плечо.
— Иди ко мне, — сказала она с щемящим чувством печали, — не бойся меня, милый…
Ранним утром все они сгинули в морозной мгле. Клавдия поднялась, умылась, стала выгребать золу из печи. Что-то словно подтолкнуло ее, и она, не зная, зачем это делает, собрала все бумажки, выброшенные ночью Николой, развернула их, прочла. На каждой стояло одно имя — Сашка Седой. Сашка метался в жару на койке, бредил. Сухими глазами она долго и равнодушно смотрела на него, и ничто не всколыхнул в ее душе еще один обман. В этот день она начала упорно долбить из чуланного подполья ход на соседний двор. Злющей собачонке, обитавшей там, она кинула кусок хлеба с мелкими иголками.
Никола нашел врача, но было уже поздно: через три дня Сашка умер. Ночью они вынесли его на Кутум, опустили в прорубь. Другой Сашка, клички у которого не было и лицо которого она даже не запомнила, пошел без разрешения Николы навестить мать, — хорошо еще, что оружия при нем не было. Туда же совершенно случайно заглянул участковый, забрал его и сдал в военкомат. Как уклоняющегося от воинской обязанности, Сашку судил трибунал, загремел парень в штрафную роту. О своем участии в банде он промолчал, благо не спрашивали, а в тот день, как его забрали, Ванька Повар по приказанию Николы отнес его матери двадцать тысяч.
По тридцать тысяч Никола в тот же день дал каждому — и Клавдии тоже, чем приравнял ее ко всем и чему она была рада. Велел найти в городе тайники, спрятать деньги и не прикасаться к ним до худших времен, объяснив, что худшие времена настанут тогда, когда они не смогут быть вместе и каждому придется выкарабкиваться самостоятельно.
Их было теперь трое, все трое не расставались с оружием… Но втроем работать было тяжело, невыгодно, и как ни противился Никола, пришлось пополнять свою группу — Клавдия так и не услышала, чтобы он хоть раз произнес слово «банда». Вскоре явился к ее ребятам ночью двадцатисемилетний матерый вор Ленька Лягушка, бежавший из воинского эшелона на пути в Сталинград. Это Клавдия узнала позже… Он постучал условным стуком, и Клавдия поняла, что встреча была назначена. Ленька с Николой закрылись в ее горенке и долго говорили о чем-то. Ленька вышел и через час привел троих своих подельников — родного брата Володьку, Пашку Джибу и Генку Блоху. А сам вышел во двор, сменив на стреме Ивана Повара. Этим он дал понять, что уступил главенство добровольно и бескровно. Иван Повар и Женька знали новых хорошо, об этом можно было судить по тем восклицаниям, шуткам, довольно бессвязным вопросам и ответам, которыми они обменивались в первые минуты. Никола же видел их впервые. Клавдия настолько хорошо изучила его, что его тревога, нерешительность передались и ей. Но голос Николы по-прежнему был сух и ровен.
— Молодые люди, — сказал он, — за каждым из вас в этот дом тянутся широкие связи с внешним миром. Смертельные связи, потому что в выборе вы неразборчивы. Оборвите их, забудьте друзей, забудьте родных. Не потерплю карт, пьянок, наркотиков, истерик, ломок ксив и прочего разгильдяйства. Мое слово — закон, малейшее самовольство карается смертью.
— Мы знаем это, — тихо сказал кто-то.
— Знайте и другое: каждый из вас входит в мою группу на равных правах со мной. Мои товарищи, — он кивнул на Женьку и Ивана, — скажут вам, что каждый заработанный рубль честно и поровну делился, и я не брал себе не единой лишней копейки. Так, Иван?
— Так, Никола…
— И будет так. В моей группе будет и есть: один за всех, все за одного. Языки привязать к зубам! Таковы мои основные правила. Сейчас составьте на ночь график дежурства — и спать. Леонида смените. Он второй здесь после меня человек и от дежурств освобождается.
Теперь у Клавдии они ночевали редко, раза два в неделю, не больше. Последний раз пришли без предупреждения, поздно вечером. Она уже собрала им на стол, как влетел Генка Блоха, выкрикнул:
— Идут, гады!
Кто-то кинулся к лампе.
— Стоять! — властно приказал Никола. — Леонид, закрой обе двери на запоры. Ты, — повернулся он к заполошно дышавшему, расхлюстанному Генке, — конечно, об этом не позаботился?
— Спешили… — сник тот.
— Спешить надо. И думать надо. Хорошо хоть, что поспешил к нам, а не в иную сторону. Молодец! А когда спешить начнешь с толком — совсем ладно будет.
Генка Блоха расцвел. Однако возразил для порядка:
— За мной не водится, чтоб товарищей оставлять.
В дверь уже бухали чем-то тяжелым. Все споро, но без сутолоки одевались. Николай, словно испытывая судьбу, неторопливо натягивал поданную Женькой шинель. Оглядел ребят.
— Павел, почему шапка набекрень? Потерять хочешь?
И ждал, усмехаясь, пока тот не застегнул тесемки малахая у подбородка. Затем подошел к окну, выстрелил наугад, отскочил в простенок между окнами. В ответ грянуло несколько выстрелов, одна из пуль, пробив толстую ставню, ударила в потолок и слабо шмякнулась на стол. Никола удовлетворенно сказал:
— Вот теперь они будут все у окон. Пора. Клавдия идет первая.
Сам вышел последним. Ребята летучими тенями скрылись во тьме. Видимо, они знали, что делать и куда идти, у них все было обговорено заранее, и только с ней никто ничего не обговорил. Она стояла одна-одинешенька под черным звездным небом, мрак был в ее душе, и если бы был у нее пистолет, она бы застрелилась.
Откуда-то вдруг подсунулся Женька, обнял, зашептал горячо:
— Клава, ты перебейся… Мы тебя найдем… Мы тебя не оставим, Клава. Я все сделаю для тебя…
— Господи, — всхлипнула она, — что ты можешь, мальчик? Дом мой громят… Без дома меня нет на земле.
— Дом… Нашла о чем печалиться, — сказал Никола. Он возник из тьмы и тоже обнял ее. — Достану тебе новые документы и куплю дом краше этого. Верь мне, Клавдия. Забудь наш разговор… Ты своя в доску баба… Верь мне, Клавдия, я добро помню.
Она знала, что ничего не будет; ни дома, ни документов, ни ребят — они уйдут сейчас и забудут о ней. Может быть, лишь у Женьки, который самозабвенно ласкал ее своими первыми, страстными, скоротечными от неопытности ласками, — может быть, у него останется боль в слепой душе, но нескоро она прорастет в прозрение. Она знала все это и верила несмотря ни на что. И когда на следующую ночь сержант Виктор Саморуков поднял ее с постели, она встала, спокойно оделась и равнодушно наблюдала, как он пересчитывает ее тридцать тысяч, а понятые, две соседки Любивой, округлившимися от ужаса глазами глядят на огромную кучу денег на столе… Она верила. И в вере своей она спасала их от ареста до самой последней минуточки. Они целы, невредимы, здоровы, никто не взят — и они отказались от нее. Неужели же прав этот молокосос, этот лейтенантик, синюшный доходяга, смертник, — неужели у воров все не так, как у всех остальных, неужели не одно солнце им светит, не одна в жилах кровь течет, и нет у них верности, нет благодарности, нет памяти — ничего нет того, чем жив человек? Почему они не пришли к ней на помощь? Почему? Почему?
Глава третья
1
Роман Мациборко вышел из нотариальной конторы и, прижмурясь, с наслаждением подставил лицо под искрящееся февральское солнце. Тепло было, чирикали воробьишки, с высокой крыши соседнего здания, в котором располагался госбанк, срывались увесистые сосульки и долбили асфальт. Весна скоро, подумал Роман, хорошо. Прикрыл глаза, скосил их вправо, узрел постового — тот тоже грелся на солнышке, жмурясь, как кот. Шинелишка на нем была потертая, не по плечу, одна пола почему-то длиннее другой, по всему видать, мужик из недавних, сунули ему в хозчасти — на тебе, боже, что мне негоже, он и смолчал. Впрочем, Роман смолчал тоже… Ничего, думал теперь он, обслужимся, поймем, что в хозчасти сидит товарищ прижимистый, у него только из горла и выдерешь что-нибудь стоящее.
— Гражданин!
— Да, — ответил Роман. Он был в штатском. — Слушаю, товарищ постовой.
— Получил справку, гражданин, и иди своей дорогой. Тут нельзя стоять. Тут банк. Деньги народные хранятся.
— Иду, иду, — сказал Роман. — От народных денег надо держаться подальше, проживешь подольше.
— Верно, — заулыбался постовой, но Роман, проходя мимо, видел, как он неуловимо отвел руку к кобуре.
Постовые, участковые, конные и пешие наряды милиции — теперь, после показаний Клавдии Панкратовой, знали приметы бандитов. И не только они, но и сотни добровольных помощников милиции, верных ее друзей. Розыск вступил в ту стадию, когда вроде бы еще и нет ничего, но уже есть многое. Сотни глаз сейчас кинжально простреливают город. Глаза на вокзале, на всех выездах, на базарах, в магазинах, в трамваях, в очередях… Уже стали поступать донесения: там-то видели Ваньку Спирина, по кличке Повар, там-то проходил тщедушный Генка Блоха… Это очень много — знать, кого надо видеть из трехсот тысяч горожан.
Но и скрыться легко среди трехсот тысяч… Впрочем, среди двадцати тысяч — тоже легко. А именно столько горожан и горожанок находится теперь на попечении Романа Мациборко: два дня назад его назначили участковым уполномоченным. Сейчас из двадцати тысяч подопечных горожан и горожанок его интересовала только одна — тетя Витя, которая выплыла на свет божий из показаний Клавдии Панкратовой. Требовалось ее найти, но как? Ни примет, ни фамилии… Да, не больно-то дружки-бандиты откровенничали с Клавдией. И все же тетя Витя — это вам не тетя Маня: мужское имя, намертво пристав к женщине, сильно сужало поле поиска. Витя, Виктория, Виолетта, Витольда… Не так-то уж много заковыристых женских имен на букву «В» — с этим убеждением и входил Роман в нотариальную контору полчаса тому назад. Теперь он вышел оттуда, имея в кармане адрес Виктории Георгиевны Барминой, купившей дом на улице Пестеля, 32. На всякий случай записал он имена еще двух покупательниц — Виолы и Виорики, памятуя, что имя имеет обыкновение в обиходе так изменяться и усекаться, что от паспортного остаются только рожки да ножки…
Итак, Виктория Георгиевна Бармина, сорока лет, мать двоих детей, муж на фронте, несудимая. Еще недавно жила Виктория Георгиевна в двухкомнатной коммунальной квартире, переулок Извилистый, дом 14. А переулок Извилистый находился во владениях участкового уполномоченного Романа Мациборки… Туда он и поехал, не переставая удивляться, как же так получилось, что мать двоих детей, работающая прачкой в военном госпитале, сумела сэкономить сто тысяч? Ну хорошо, сэкономила… Но неужели ей было тесно с двумя детьми в двухкомнатной квартире? Зачем же выбрасывать такую уйму денег за дом-пятистенку? Ох, Виктория Георгиевна, чует мое сердце, что это тебя зовут тетей Витей, подставной хозяйкой бандитского дома, ямщицей…
В квартире дома, что стоял в переулке Извилистый, дверь Роману открыла худенькая женщина с измученными глазами. Роман сделал изумленное лицо.
— Простите, — сказал он, — здесь живет Виктория Георгиевна Бармина? Или я ошибся? Да нет, я же бывал здесь не раз. Я ее племянник. Из деревни.
Интересно, думал он, а как ты, брат, выйдешь из положения, если она и есть Бармина? Зашла на старую квартиру за какой-нибудь забытой вещью. Что тогда?
— Она жила здесь, — тихо ответила женщина, — а недавно переехала. Дом купила.
— Дом? — снова изумился Роман. — Да она что? С ума сошла? У нее и эта квартира не тесная.
— Да, две комнаты, — так же тихо сказала женщина. — Светлые, теплые. Я так рада! — Она улыбнулась.
— Вот так тетка Витя! — сердился Роман. — Дом купила, а старшей сестре — ни гугу. Где ж мне теперь ее искать? Шутейное ли дело? Она хоть у вас бывает?
— Нет. Я даже и не видела ее ни разу. От соседей, правда, слышала, что дом она купила на улице Пестеля. А номера не знаю, она никому не сказала.
Все так удачно получилось, что Романа неудержимо потянуло на улицу Пестеля: может, и там что-нибудь выгорит? Ибо сказано, хватай удачу за хвост, а то неудача пырнет рогами. Правда, улица Пестеля не входит в его участок, но ведь и Роман не формалист… Надо съездить. Нет, в дом 32 он не зайдет, но через соседей наведет кое-какие справки. Участковым дан приказ: обо всех подозрительных покупательницах домов незамедлительно сообщать в городской уголовный розыск старшему лейтенанту Миловидову. Явится Роман в уголовный розыск, высыпет на стол целое лукошко фактов, все скажут: ай да Рома! Хорошо, скажут, что его повысили в должности, назначили участковым, очень к лицу ему будут теперь погоны младшего лейтенанта… Решено — еду!
Но никуда он не поехал. Почему-то вспомнилось ему слово «племяш». «Племяш, племяш, — шептал Роман. И тут его пронзило: — Ах ты сукин сын, дубина стоеросовая! Вот уж поистине — заставь дурака… А если у Барминой нет сестры и, следовательно, племянника? А если она, годами жившая в этом многоквартирном доме, навестит своих соседок, зайдет и в свою квартиру? Известие, что приходил несуществующий племяш, ее сразу кинет в дрожь. Что тогда? В младшие лейтенанты захотел, карьерист несчастный! Тут наследил, да еще и на улицу Пестеля чуть было не отправился…»
Начальнику городского розыска Геннадию Владимировичу Миловидову он рассказал все без утайки, за исключением, конечно, розовой мечты о лейтенантских погонах. Выслушав, Миловидов спросил:
— Инициатива хорошо, а что есть сверхинициатива, сержант?
— Глупость, — убито пробормотал Мациборко.
— Истинно. Не зная общего хода операции, не следует соваться туда, куда не просят. Еще одну вещь запомни, пригодится: то, что можно сделать проще, — надо делать проще! Вот ты разыграл сценку перед новой хозяйкой квартиры… Ну что же, в иных обстоятельствах без этого не обойтись. Но не в твоих! Ты уверен, что завтра судьба не приведет тебя в переулок Извилистый уже в образе участкового уполномоченного?
— Приведет, конечно. Это же мой участок…
— Вот. Увидит тебя хозяйка квартиры и сразу сообразит, что к чему. А тут может случиться то, чего ты боишься и чего действительно следует опасаться: придет навестить соседок Виктория Бармина… Давно служишь у нас, сержант… э-э… напомни-ка мне свою фамилию?
Роман напомнил и сказал, что служит чуть больше месяца.
— Мациборко, Мациборко… — задумчиво повторил Миловидов. — Фамилию, помнится, я встречал в приказе. Редкая для наших мест фамилия… Это не ты на базаре Большие Исады взял налетчика Герку Кола?
— Да повезло мне просто, товарищ старший лейтенант… Чего теперь об этом деле говорить.
Миловидов хмыкнул. Однако голос его потеплел.
— Вот что, парень. Бери ноги в руки, дуй в переулок Извилистый, поговори с женщиной, которой ты представился племянником тети Вити, предъяви свои документы и попроси ее молчать.
— Да-а… — сокрушенно протянул Мациборко. — Мог бы и сам догадаться.
— Ничего, — успокоил его Миловидов. — Ты все-таки два добрых дела сделал. Во-первых, добыл нам Викторию Георгиевну Бармину, во-вторых, у тебя хватило ума не поехать на улицу Пестеля. Для начала — совсем неплохо, сержант.
Когда Роман вышел, Миловидов поднял телефонную трубку.
— Луценков? Здравствуй. Кажется, получили мы наконец тетю Витю. Какую Витю? Ты, гляжу, показания арестованных дюже внимательно читаешь… Да, да, та самая… Ну, не совсем та самая, это нам надо с тобой уточнить. И еще два адреса есть — Виолы и Виорики… А чем черт не шутит? Ты вот что, вопросы потом будешь задавать, а сейчас двигай ко мне. Тренкова тоже попрошу прийти, вместе обговорим детали. Ох ты, какой гордый… Хорошо, мы с Тренковым придем к тебе. Готовь своих парнишек, пора и им поработать.
2
Вечером посыльный передал Роману Мациборко приказание: в 19.00 явиться снова к старшему лейтенанту Миловидову.
В назначенное время Роман доложил о прибытии. Миловидов подозвал его к столу, показал фотографию.
— Это наш сотрудник Николай Микитась, — пояснил он. — Служит в отделе Луценкова. Под видом работника домоуправления ушел на улицу Пестеля собирать сведения о Барминой. Двое других пошли по адресам Виолы и Виорики. Они вернулись в назначенный срок, Николай Микитась — нет. Найди его следы, сержант.
И он объяснил, как найти, не привлекая внимания. Добавил, что Николай Микитась отправлен на задание с удостоверением работника домоуправления Андреева.
— Безоружный? — спросил Роман.
— Работникам домоуправления оружие не полагается. Ты их видел когда-нибудь с пистолетами?
— Но ведь тетка Витя, — засомневался Роман, — она же почти та самая…
— Ему было приказано в дом Виктории Барминой не заходить. И тебе приказываю! Повтори!
— В дом к Виктории Барминой не заходить, товарищ старший лейтенант. Справки навести через соседей. Один из них, Абдрахман Кашаев, будет со мной откровенным. Можно ли спросить — почему?
— Год назад квартиру Абдрахмана Кашаева обчистили до последней вещички. А мы нашли жуликов и вернули ему украденное. С тех пор он милицию зауважал. Назови ему мою фамилию, скажи, что это моя просьба.
— Ясно. Разрешите выполнять?
— Выполняй. Вернешься, сразу иди в кабинет Заварзина, помощник его будет предупрежден. Вернуться ты должен в двадцать ноль-ноль.
Вернулся Роман чуть раньше. В кабинете капитана Заварзина шла оперативка штаба по ликвидации банды, но Романа ждали. Когда помощник ввел его, Мациборко на миг оробел — все начальство здесь собралось: Заварзин, Авакумов, Луценков, Корсунов, Тренков, даже непосредственный начальник Романа, старший лейтенант Топлов, сидел тут же и почему-то неодобрительно поглядывал на своего участкового.
— Доложи, сержант, что узнал, — сказал Заварзин.
— Виктория Бармина действительно живет в доме тридцать два, товарищ капитан. Николай Микитась проверил домовые книги примерно у десяти хозяев. И когда он сидел у хозяйки дома тридцать четыре, к ней зашла Бармина за щепоткой соли. У них состоялся там разговор, и я так понял, товарищ капитан. Микитась вынужден был пойти с Барминой, чтобы не раскрыться. На этом следы его обрываются. Всем он представлялся как работник домоуправления Андреев, ходил с палочкой, прихрамывая, говорил, что на этой работе временный, пока не заживут фронтовые раны, а потом снова уйдет на фронт. Дело обыкновенное, ни у кого никаких сомнений, как я понял, не возникло, роль свою он сыграл хорошо.
— А ему и не надо было играть, — сказал Луценков. — Николай Микитась — сталинградец, был ранен в боях за Тракторный завод, лечился в одном из наших госпиталей. И недолечился как следует, ходит с палочкой. В моем отделе служит около месяца.
«Почти как я, — подумал Мациборко. — Да и одногодок, наверно, мой».
— Авакумов! — обратился Заварзин к заместителю.
— Слушаю, товарищ капитан.
— Поднимайте свою опергруппу. Дом окружить. Если бандиты там — взять, если их нет — а я уверен, что их там уже нет, — начать обыск. Бармину после обыска доставить ко мне.
Авакумов вышел. Заварзин нашел взглядом Миловидова и Тренкова, сказал:
— Вам быть со своими людьми наготове. В ночь предстоит работа.
Луценков крепко потер ладонью вспотевшую лысину, сказал с горечью:
— Торопимся, спешим… И вот она чем оборачивается, торопливость наша.
— И еще как спешим! — поддержал его Миловидов. — Сведения о купленном Барминой доме мы получили в нотариальной конторе в двенадцать дня. Хотя бы сутки понаблюдать за ним — многое бы прояснилось. А мы уже через два часа послали туда человека, можно сказать, в лобовую атаку. Так дела не делаются…
Заварзин слушал молча. Он был из тех начальников, которые позволяли своим подчиненным высказывать все, что на душе. И они это знали…
— А по-моему, мы не больно-то и торопимся, — возразил начальник третьего городского отделения милиции Топлов. — Понаблюдать… Собрать данные… В игрушки играем. Добыли адрес Барминой — сразу надо было посылать опергруппу, бандитов бы и накрыли. А теперь ищи ветра в поле. Очередную бабенку на допрос Авакумов привезет. Будем с ней опять мыкаться, как Тренков с Панкратовой.
— А если бы не накрыли? — сказал Луценков. — А если бы эта тетя Витя оказалась не той, которая нам нужна?
— Извинились бы за беспокойство. Чего ж проще…
— Счастливый ты человек, Александр Михайлович, — вздохнул Луценков. — Мне бы твою сокрушительную уверенность.
— Где сержант Мациборко? — спросил Заварзин. — Куда он делся? Я, помнится, его не отпускал.
— Виноват, товарищ капитан, — сказал Миловидов. — Я его отпустил. Мациборко — единственный, кто знает, где на Пестеля расположен дом Барминой. Чтобы наши люди там не мыкались, не разглядывали номера…
— Вот и ответ, Александр Михайлович, на твое обвинение в медлительности, — сказал Топлову Заварзин. — Проследить, собрать данные — это отнюдь не игрушечки в розыскной работе. Мы даже подходов к дому Барминой не знаем, не говоря уже обо всем прочем. Для этого и послан был Микитась. Нет, я не вижу ошибок в нынешнем дне. Мы сработали оперативно. Конечно, с точки зрения чистой теории розыскного дела — мы спешим. После войны, товарищи, станем работать по чистой теории. Вот тогда-то и отведем душеньку. А теперь нам остается самое тяжелое — ждать вестей от Авакумова.
— Ах ты, Микитась, Микитась, — горько сказал Луценков. — Что же там случилось с тобой, браток?!
Глава четвертая
1
Бармину привезли в полночь.
— Виктория Георгиевна, — сказал Заварзин, — у меня нет времени подробно допрашивать вас, этим займемся завтра. На улице пурга, мороз, ваши квартиранты в такую ночь спать под забором не станут. Дайте нам их возможные адреса. Напоминаю, этим вы облегчите свою участь.
— Ничего не знаю, — тупо сказала Бармина. — Ничего не знаю.
С невольной жалостью глядел на нее Заварзин. Еще несколько часов назад она была зрелой, видной женщиной, бабий век которой был бы долог. Но об этом можно было лишь догадываться, потому что сейчас перед ним сидела старуха. Мертвый взгляд, потухшее, морщинистое лицо… Не по себе было Заварзину… Однако продолжать надо.
— Начнем тогда с азов, — сказал он. — В подвале вашего дома найдены шестнадцать ящиков конфет, два мешка сахарного песку, два мешка рафинада, двести пачек махорки, три рулона материи, десять шерстяных одеял. Откуда это у вас?
— Где мои дети? — мертвым голосом спросила Бармина. — Что вы сделали с ними?
— Товарищ Луценков, узнайте, что с детьми.
Луценков поднялся с дивана, вышел. Через несколько минут возвратился, доложил:
— Младшая спит, товарищ капитан. Постелили ей на диване в кабинете Криванчикова, укрыли шерстяным одеялом, конфискованным у Барминой. Старшая, Аля, спать не хочет, пьет чай с Корсуновым.
— Вот видите, Виктория Георгиевна, ничего страшного с вашими детьми не происходит и не произойдет. Отвечайте на мой вопрос. Быстро!
— Это не мои продукты, — сказала Бармина. — Их привезли какие-то воры.
— Воры устроили, продовольственно-вещевой склад, а вы жили и молчали? Наивно, Виктория Георгиевна.
— Воры появились у меня три дня назад, — сказала она. — Приходили ночами. Спали то на подлавке, то в сарае — как им захочется. Я пошла в третье отделение милиции, дежурный послал меня к сотруднику, я все ему рассказала. Он записал. Я еще попросила его забрать их быстрее.
— Фамилию сотрудника помните?
— Андреев.
Вот и все. Если и была какая-то надежда, то теперь ее нет. Большим напряжением воли удалось Заварзину сохранить прежний ровный голос.
— Опишите его. Я строго взыщу с этого человека. Если бы не его расхлябанность, вы сейчас не сидели бы передо мной.
— Уж я ждала-ждала вас, все глазоньки проглядела… Молодой такой, с палочкой ходит. Видать, раненный был. Волос светло-русый, брови черные, разлетные, глаза черные, большие. На виске черная родинка с горошек.
Заварзин не знал примет Николая Микитася и с последней надеждой глянул на Луценкова. «Он, — ответили глаза Луценкова. — Он!» Тогда Заварзин перевел взгляд на Бармину, стремясь постичь истоки ее извилистой лжи. И ничего не прочел в ее мертвых глазах. Снял трубку, попросил сонную телефонистку соединить его с начальником третьего отделения милиции.
— Топлов слушает, — густым басом сказал Топлов, и громкоговорящая трубка, заменить которую у Заварзина так и не дошли руки, разнесла его голос по кабинету.
— Александр Михайлович, у тебя в отделении есть сотрудник Андреев? — спросил Заварзин и назвал приметы.
— Был Андреев. Зимой прошлого года ушел на фронт. — Топлов помедлил. — Погиб он, товарищ начальник.
— Александр Михалыч, того Андреева я знал не хуже тебя. Ты скажи, сейчас у тебя служит Андреев, приметы которого я описал?
— Обижаете, товарищ начальник, — сказал Топлов. — Я не только свой оперсостав, я каждого постового, каждого участкового знаю в лицо и по фамилии. Нет у меня Андреева. — Чувствовалось, что Топлов начинает гневаться. — Андреев — человек Луценкова, он сегодня ходил собирать сведения о Барминой. Помните, мы еще говорили об этом на оперативке? Микитась его настоящая фамилия, вот как. Бармина прихватила его у соседей, помните? Я еще подумал, сгиб парень, но ничего не сказал, чтоб судьбу не искушать. Товарищ начальник! Але! Это, что-то там Луценков крутит. Приписал мне своего Андреева. Але! Але!
— Спасибо, Александр Михайлович, — совсем по-штатски сказал Заварзин. — Все выяснилось, — и положил трубку.
Бармина слышала разговор до единого слова.
— Я не убивала его, — сказала она и разрыдалась. Заварзин понял, что расспрашивать сейчас ее об Андрееве-Микитасе бесполезно. Замкнется, закостенеет…
— Уже час ночи, Виктория Георгиевна, — устало сказал он. — Дайте нам адреса тех, кто убил его. Хотя бы примерные.
2
Ночь. Пурга.
Ефим Алексеевич Корсунов пьет чай с десятилетней Алей Барминой. Тренков лежит на диване, прикрывшись шинелью. Его опергруппа числом в десять человек расположилась в соседних-комнатах — кто на столах, кто на стульях. Тренкову нездоровится, временами он впадает то ли в дремоту, то ли в забытье, откуда выбирается снова в эту комнату весь в поту. Тогда он слышит разговор, происходящий за столом меж старым и малым.
— Вы допрашивать меня будете, дядечка?
— Нет, дочка, не буду, — отвечает Корсунов. — Пей чай без опаски и ложись спать.
— Совсем-совсем не будете?
— Ну, как… Совсем-совсем нельзя. Завтра вызову учительницу, при ней и допрошу. А без нее допрос не дается.
— А бить меня будете?
Корсунов поперхнулся.
— Да ты что, Аля! Какие ты слова говоришь?
— А маму?
— И маму. Сидит она в кабинете начальника и разговаривает с ним, как ты со мной.
— Не верю я.
— А пойдем, посмотрим, — сказал Корсунов. — Только так: откроем дверь, глянешь ты в щелку — и сразу дверь прикрой. А то у меня начальник дюже строгий, не любит он, чтобы ему мешали разговаривать.
Пошли, посмотрели. Снова сели пить чай.
— Что же это получается? — сказала Аля. — Никола Волк, выходит, наврал? А я ему верила!
— Ясно, это так, наврал. Известный брехунишка.
— А вы его знаете, дядечка? — удивилась Аля.
— Да уж знаю. И Генку Блоху знаю, и Леньку Лягушку, и Пашку Джибу, и Женьку Шепилова. Всю эту артель знаю.
— Зачем же, дядечка, вы их не заарестовали? — с упреком сказала Аля. — Мама богу молилась, сама слышала, хоть бы, говорит, арестовали их скорее, шпану кровавую.
— Никто нам, Аля, не помогал. Вот вы с мамой молчите, ничего не говорите.
— Боязно, дядечка. Хотели мы пойти в милицию, да раздумали. Боязно… Никола-то рассказывал, что в милиции бьют, стреляют…
— Это в нас, дочка, стреляют…
— А вы никогда?
— Почему же никогда… Мы тоже, бывает, стреляем. Но всегда вторыми. Нам право такое дадено — стрелять вторым, коли жив остался. Только мы иной раз не успеваем. Ты пей чай-то… Больно у нас с тобой разговоры тяжелые на ночь глядя. Допивай свой стакан, и отведу я тебя к сестренке на диван.
— Я такая радая, что вы вместе с мамой и нас забрали. Уж не знаю, что бы делала, если б мы с Томкой одни дома остались.
— Да спать бы легли, — сказал Корсунов. — Ты уже взрослая девочка, темноты не боишься. А утром мы бы пришли, что-нибудь придумали бы.
— Темноты я не боюсь, — сказала Аля. — Я мертвых боюсь. А у нас, дядечка, в доме мертвый схоронен…
3
Старенькая полуторка остановилась около дома Барминой. Из кабины вылез Корсунов, махнул шоферу рукой: двигай дальше, мол. В кузове, скукожившись, тесно сидели оперативники Тренкова и Миловидова. Машина отошла метров на пятнадцать — и сгинула: будто и не было ее.
— Сюда, товарищ старший лейтенант, — сказал Корсунову встречающий. Он вышел на крыльцо в белой нательной рубахе, с непокрытой головой. — Давайте руку, тут лоб с непривычки расшибешь.
Прошли холодный коридор, потом теплый, потом какую-то комнату без окон, куда даже не доносился вой пурги. Корсунов послушно шел, держа в руке молодую сильную руку своего проводника.
В большой горнице жарко топилась печь, добавляя тревожный, мечущийся свет к ровному немощному свету семилинейной лампы. У стены, загораживая два закрытых на ставни окна, штабелем лежали запечатанные фанерные ящики, лежали мешки, рулоны материи, полушубки, ватники, брюки. Наметанным глазом Корсунов сразу определил, что вещей и продуктов значительно больше, чем Авакумов сообщил в коротенькой записке Заварзину. Значит, еще нашли… Авакумов сидел за столом, составлял опись. Рядом с ним дымил махрой старик с черными гвардейскими усами и сивой бородой. Девушка, лицо которой раскраснелось от печного жара и незримого внимания четверых молодых мужчин, расставляла кружки и стаканы на столе.
— Вовремя, Ефим Алексеич, — сказал Авакумов. — Сейчас чай будем пить. Уработались, как амбалы, — он довольно улыбнулся и кивнул на штабель ящиков и мешков. — Такую прорву надо было с чердака спустить, да в подвале нашли немало. Я тут малость власть превысил, изъял килограмм конфет, сахару и печенья: людям червячка заморить. А то мои понятые падут от истощения сил, да и мы еле на ногах держимся.
Насколько холоден и высокомерен был Авакумов у себя в кабинете, настолько прост и доброжелателен сейчас. Ну что ж, думал Корсунов, это бывает. У Авакумова не отнимешь цепкой хватки. Принявшись за дело, доводит его до конца. Мог бы сейчас укатить к себе в кабинет, главное ведь сделано, сливки сняты, осталась черная работа, с которой справятся и подчиненные. А он остался и работал вместе со всеми. Вон как форму измазал, чистюля. Вернется в кабинет — другим станет: не подступись. Знал Ефим Алексеевич такую странность за своим бывшим подчиненным.
— Не возражаю, Георгий Семеныч, — сказал Корсунов. — Я, это так, уже напился чаю с Алей Барминой, но с вами приму еще кружечку за компанию.
— Занятная девочка эта Аля, — сказал Авакумов, кинув на Корсунова быстрый взгляд. — Жаль, не было времени тут потолковать с ней… К столу, товарищи. Скоро светать начнет, а у нас еще дел по горло.
Какая она занятная, думал Корсунов, прихлебывая чай, не прав ты, Георгий Семеныч, она обычная девочка, десяти лет. Мать ее при одном упоминании имени Андреева цепенела, впадала в прострацию, а дочка, надежно защищенная от ужаса материнской жизни святым неведением своих десяти годков, рассказывала о нем и его смерти так, как будто это было страшно, но все же понарошку. Позже, повзрослев, содрогнется ее душа, а сейчас ужас ее был легок, ибо в детстве нет смерти — ни своей, ни чужой. Если перевести рассказ этой девочки на взрослый язык, то получится, что Микитась не сделал ни одной ошибки.
— Соль в этом доме есть? — спросил Корсунов.
— Да вы что, товарищ старший лейтенант! — удивился сержант Кузьмин. — Неужто чай подсаливаете? Не калмыцкий же пьем.
— Нет в этом доме соли, — сказал Авакумов, неодобрительно поглядев на Кузьмина. — Проверено.
«Умен, черт, — с уважением подумал Корсунов. — Знал Заварзин, кого себе в заместители назначать».
Ни одной ошибки не сделал Микитась, а судьба его уже была решена ничтожной малостью: в этом доме, забитом продуктами, не оказалось и щепотки соли. Именно за ней (но не под предлогом, что за ней, как об этом думал Корсунов до разговора с Алей) заглянула Бармина к соседке. И именно там сидел в это время Микитась, хотя мог бы находиться в другом доме. Случайность сомкнулась со случайностью, и обе, слепо, с удвоенной силой, ударили в него. Теперь, чтобы выдержать легенду до конца, Микитась был вынужден, вопреки приказу Луценкова, отправиться с Барминой в ее дом. О чем он думал на том коротком смертном пути? Корсунов понимал, что этого не узнать теперь никогда. Конечно, парень мог бы найти предлог, свернуть в сторону, ведь у приказа еще оставалась формальная сила, и она работала на его спасение. Но она уже не работала на дело. И он не свернул, а вошел в дом вместе с Барминой, шутил, улыбался — скромный работник домоуправления, которого сунули на эту должность, пока он не залечит раны и не отправится снова на фронт. Отравляемый горчайшим знанием близкого конца, он нашел в себе силы сделать последнее — убедительно умереть не в своем истинном обличье. Ах, парень, парень… Ефим Алексеевич затосковал и ярко, до боли зримо, вдруг вспомнились ему те, кого он потерял за двадцать лет службы в милиции. Какие горькие потери и какие люди! Молодые, еще не жившие. Незабвенные…
Эту тоску, эту боль души почувствовали все сидящие за столом.Притихли. Девушка молча, быстро и незаметно убрала со стола.
— Теперь, товарищи, — сухо сказал Авакумов, — слушайте приказ Корсунова. Я думаю, он не чайку попить к нам пожаловал.
Ефим Алексеевич вздохнул.
— Кузьмин, — сказал он, — найдите топор и пешню. Затем все ступайте в кладовку, уберите оттуда хлам, вскройте пол.
— А нам что делать, добры люди? — впервые подал голос старик с гвардейскими усами.
— Вам, папаша, и вам, — Корсунов обратился к девушке, — быть там же. Смотрите, запоминайте. Протокол будете подписывать.
— А мы уже подписывали, — сказала девушка.
— Еще один придется подписать, дочка, — снова вздохнул Корсунов. — Потерпи, милая. Ты сейчас глаза и уши закона.
— Бармину бы надо сюда для полного порядку, — недовольно сказал Авакумов.
— Хотели. Бунтует она. В истерику впадает.
Оперативники взяли лампу и ушли. Авакумов и Корсунов остались одни. Молчали, глядя в огненную пасть печи. В трубе жутко визжал ветер, отчего в горнице затравленно метались тени. В другом конце дома глухо гукали голоса, и вот уже прошелся по сердцу стонущий скрежет первой отдираемой от пола доски.
— Пора и нам, — сказал Корсунов.
— Подожди минутку… Ну что там Бармина? Раскололась?
— Дала два адреса. Тренков и Миловидов поехали с ребятами.
— А парень, значит, здесь лежит, — тихо сказал Авакумов.
— Лежит, Георгий Семеныч… Сидел он с Барминой за этим столом, за которым мы сидим, проверил домовую книгу, сказал, что положено сказать в таких случаях, и собрался уходить. В прихожке они набросились на него. Ударили ножом в спину, смерть мгновенная ему пришла.
— Слушай, Ефим Алексеич, — Авакумов глядел в печное жерло, и глаза его рдели, как угли. — Слушай, Ефим Алексеич… Вот ты, знаю, не любишь меня. И за что — тоже знаю. И не ты один.
— Н-ну, Георгий Семеныч… Любишь — не любишь, что ты, право! Ты ж не девка.
— Не о том я — досадливо поморщился Авакумов, — не о том! Но я тоже тебя и тебе, подобных не признаю и не люблю, вот что. И Заварзина за это же не люблю, хотя умный и знающий он человек. Вы все вкупе совершаете большую ошибку, а за нее наши люди расплачиваются кровью.
— Не пойму тебя, — построжал Корсунов. — Четче выражайся.
— Сейчас поймешь, — Авакумов встал, одернул гимнастерку и зашагал взад-вперед по горнице. Теперь это был тот же высокомерный и сухой Авакумов, что у себя в кабинете. — Сейчас поймешь, старый служака. Вот тебе маленький примерец. Я спросил: почему Бармину не привезли? Ты ответил: в истерику впадает. Что такое? Кто такая Бармина? Она в данный политический отрезок времени по всем своим деяниям нам классовый враг, вот кто она такая. Кинуть ее в кузов — все истерики пройдут. Но как же… Нехорошо… Не по-человечески… А сейчас мы вынем из-под пола труп — это, я тебя спрашиваю, по-человечески? А в нас стреляют мгновенно — это по-человечески?
— Нам, предлагаешь, тоже надо стрелять мгновенно? Без предупреждения? Без требования показать документы?
— Ты огрубляешь мою мысль, Ефим Алексеич. Я хочу сказать: мы проявляем гнилой либерализм там, где от нас народ ждет классовой твердости. С волками имеем дело.
— С законом имеем дело, Георгий, — сказал Корсунов и улыбнулся. — Я девочке Але Барминой нешутейно давеча втолковывал, что мы стреляем всегда вторыми. Вроде поняла… А тебе скажу: выстрелишь первым — попадешь закону в сердце, это так…
Он поднялся с лавки, потер занемевшую спину.
— Пойдем, Георгий Семенович. Мы эту песню никогда с тобой согласно не допоем.
В кладовке, под полом, среди мешков с крупой и сахаром лежал, засунутый тоже в мешок, труп Николая Микитася. Подняли его, принесли в горницу, скорбно встали рядом.
— Звери, — всхлипнула девушка, — волки.
Корсунов поднял затуманенный взгляд на Авакумова. Тот, гневный, непримиримый, опустился на колени и стал осторожно развязывать веревку, намертво схватившую горловину мешка.
4
В эту ночь милицейская полуторка долго колесила по городу. Дважды останавливалась, выбрасывая из кузова людей, словно грибы из лукошка. Последней сошла группа Тренкова. Тут же из тьмы возник некто снежный, спросил простуженным голосом:
— Где ваш начальник?
Его подвели к Тренкову. Снеговик обнял Алексея, сунулся холодным лицом к его лицу, доложил:
— Участковый, сержант Мациборко. Пойдемте, провожу.
Тренков, видевший Романа на вечерней оперативке в кабинете Заварзина, удивился.
— Ты и сюда успел, сержант?
— Это мой участок, товарищ младший лейтенант.
— Давно сторожишь у дома?
— Час назад сообщили адрес — я сюда. Двор полуразгорожен, собаки нет. Пять окон, ставни наружные, из цельных плах, купеческие.
— Что значит — купеческие? Как закрываются?
— Изнутри закрываются. Штырь такой, в руку длиной, прошивает всю стену, а хозяева замыкают его конец болтиком. Изнутри такую ставню открыть невозможно, но и снаружи тоже нельзя, пока болтик в штыре торчит.
— Значит, не выпрыгнут?
— Как в садке, товарищ младший лейтенант. Но на всякий случай по человеку на окно надо поставить.
— Правильно, сержант… Поставим. Двери?
— Наружная дверь ведет на застекленную веранду. Тонка. Пуля ее прошьет и убойной силы не потеряет. А что внутри — не знаю, не бывал…
— У Панкратовой они тоже сидели, как в садке. А что вышло?
— Осмотрел соседские дворы, товарищ младший лейтенант, справа и слева. Вроде бы никаких подземных ходов нет. Но — не ручаюсь. Все занесло снегом.
— Хорошо, веди.
Алексей объяснил каждому задачу и затем расставил людей. Подошел к крыльцу. Прижавшись к кирпичной кладке фундамента, лежали здесь четыре человека — по двое в каждой стороне от крыльца. Их уже занесло снегом. Алексей подошел к тем двоим, что были слева, потянул их за воротники шинелей и повел вправо.
— Перестреляете, черти, друг друга.
И лег сам. Вытянул из кобуры пистолет. В вое и визге пурги выстрел был почти неслышен, но те, кто ждал его, услышали. Забарабанили рукоятками наганов в ставни, в стены.
— Открывай!
И почти сразу же из дома начали стрелять — в ставни, наугад. А потом зазвенели стекла на веранде, пули певуче ушли во тьму. «Двое их, — определил Тренков и скомандовал: — Огонь!» Пять огненных стрел пронизали веранду наискосок, а потом еще пять. И уже кинулись четверо мужиков в дверь, бухнули чем-то тяжелым, вынесли ее и ворвались внутрь. Алексей на такую резвость способен не был. Он поднялся через силу на крыльцо, в ноздри ударил запах парно́й крови. Лучом фонарика выхватил стоявшую у косяка фигуру человека, бледно-мертвенное лицо, пятна крови на белой рубахе. И по лучу, как по тоннелю, пробитому во тьме, прошла чья-то рука, схватила пальцами скулы, сжала, и напряжено-мстительный голос выдохнул:
— Ты… тихий, ласковый!.. Ты, сволочь, овечка!..
— Убрать руки! — властно приказал Тренков. — Кого это нервишки подвели? — Он выхватил фонариком лицо пожилого, обычно очень спокойного сержанта Кашкина, вспомнил, что Клавдия Панкратова просила в письме, удавить или пристрелить его, и сказал, смиряя голос:
— Нехорошо, Кашкин. Ах, как нехорошо!
— Виноват, товарищ младший лейтенант, — ответил Кашкин, слепо упираясь глазами в световой луч.
— Ведите его, Кашкин, в горницу. Это Ленька Лягушка. Найдите там чистые тряпки, перевяжите. И без фокусов, Кашкин! А не то загремите у меня под трибунал.
Открылась внутренняя дверь, выпустив облако подсвеченного дальней лампой пара. Предстал перед Тренковым сержант Саморуков, доложил:
— Товарищ младший лейтенант, дом осмотрен мною. Никого, кроме старой и молодой хозяек, да этих двух бандюг, больше нет. Подкопа тоже вроде не замечается.
— А где второй?
— Тут второй, — подал голос Роман Мациборко. — Лежит-полеживает.
— Ранен?
— Да нет… Сомлел от страху. Или притворяется.
— Гражданин начальник, я не стрелял, — сказал лежащий.
— Боженька за тебя стрелял… Поднимайся, вояка! — приказал Мациборко.
— Гражданин начальник! Даю чистосердечное признание. Сдобников Владимир я. Лягушка увлек меня в эту кровавую банду.
— Он же тебе брат, кажется? — спросил Тренков.
— Какой он мне брат? — закричал Сдобников. — Живоглот он, а не брат.
— Давай-давай, разговорчивый, — подталкивал его в спину пистолетом Мациборко. — Дуй в горницу. Какие могут быть на морозе чистосердечные признания? В тепле и признаешься… Товарищ младший лейтенант, пистолет этого чистосердечного человека надо найти. Куда он мог его сунуть, ума не приложу.
— Нашли уже, — сказал кто-то. — У крыльца лежал. Он его в разбитое окно под шумок выбросил.
— Не мой, — заявил Сдобников, входя в горницу, — ей-богу, не мой, гражданин начальник.
Здесь, в тепле, Алексей почувствовал, что устал смертельно. В грудь ему будто всунули нож и ворошили им безжалостно. Даже способность видеть потерял он — размытыми пятнами плавали у стены лица хозяек, какая из них старая, какая молодая — он не мог разобрать. «Упаду, — подумал он, — стыд какой». В доме разговаривали, слышались возгласы, чертыхания, но все это ударяло в голову как молотком: бу, бу, бу… «Упаду, — снова подумал Тренков, напрягая остатки воли. — Не смей падать, скотина!» Но тут из красноватой мглы подсунулся к нему Саморуков, сказал:
— Товарищ младший лейтенант, два секретных слова надобно сказать.
И зашептал что-то и повел, а Тренков чувствовал, как руки сержанта бережно и надежно поддерживают его. В маленькой комнатке Саморуков подвел его к дивану:
— Лягте, Алексей Иваныч, здесь.
— Слушай, Виктор… Неудобно… Разлягусь, как корова.
— Сказал бы я, — ворчал Саморуков, — чего делать неудобно, да должность ваша не позволяет быть откровенным. — Он рассмеялся. — Алеша! С почином, дорогой! Теперь посыпятся бандюги.
— Спасибо, Витя… Ты вот что…
— Что? — склонился над ним Саморуков.
Тренков дымными от боли, беспамятными глазами глядел на Виктора и не видел его.
Минут через двадцать Тренков заставил себя подняться, позвал Саморукова и сказал смущенно, что в милицейских тонкостях еще не горазд: есть ли смысл оставлять засаду до утра?
— На всякий случай надо, товарищ младший лейтенант, — присоветовал Саморуков. — Чем черт не шутит! Да еще в такую ночь.
— Нашумели ведь. Дверь на веранде вынесли. Они ж не дураки!
— Дверь мы уже навесили. Пурга… Все следочки наши замело, товарищ младший лейтенант. — Саморуков держался в строгих служебных рамках, и Тренков был ему благодарен за это. — Надо попытаться, их ведь сейчас с других адресов тоже сгонят. Замечутся, сволочи, глядишь — и сунутся.
— Да, есть резон, — согласился Тренков. — Оставляю тебя старшим. Людей, сколько нужно, сам возьми из группы.
— А я уже отобрал, товарищ младший лейтенант, — улыбнулся Саморуков. — Много мне не нужно, взял двоих — Мациборку и Кашкина, ежели вы позволите.
«Хороший у меня помощник, — думал Тренков, застегивая шинель. — Третий рапорт о переводе в Действующую армию подает. Не дай бог, удовлетворят! Как без рук останусь. Да и, — он пощупал гудящий затылок, — без головы тоже».
5
А в это время в другом конце города оперативная группа начальника окружного розыска Миловидова тоже нашла и оцепила нужный дом. Входная его дверь оказалась запертой на висячий замок. Постучали в окна — ни звука в ответ. Дом был пуст. Бармина, видимо, соврала или же сама не знала точного адреса…
И здесь Миловидов, опытный работник, совершил ошибку. Она не в том, что он решил открыть дом, оставить в нем засаду и снова навесить замок на дверь. К такому естественному решению пришел бы каждый. Ошибка Миловидова, которую он годами не мог простить себе, таилась в другом. Пока оперуполномоченный Василий Киреев, позванивая связкой ключей, подбирал к замку нужный, к крыльцу незаметно стянулись все, поставленные в оцепление. С людей схлынуло напряжение, с которым они шли на операцию, позволил себе расслабиться и Миловидов. Выстрела изнутри дома никто из них не услышал. Услышали лишь тупой удар, с которым пуля пробила дверь, да слабый возглас Киреева, когда она вошла ему в сердце.
И были долгие, как века, секунды полной, ошеломительной растерянности. Прислонившись боком к стене и зажав в руке связку ключей, сидел на корточках мертвый Киреев — ему не хватило жизни, чтобы упасть. В злобном вое пурги был почти нежен звон разбиваемого стекла и сух треск выдираемой рамы.
— За мной! — крикнул Миловидов.
Но было уже поздно. Двоих пурга взяла и растворила в себе, третий, длинный и нескладный, упал, огрызаясь пистолетными вспышками. Когда он поднялся и рванулся в черно-белую мглу, выстрелил навскидку Миловидов. Он был лучший стрелок в отделе и потому, не оглядываясь, тяжко зашагал к крыльцу.
6
Начальнику уголовного розыска ВОМ
мл. лейтенанту милиции Тренкову А. И.
ДОНЕСЕНИЕ
После задержания Леонида Сдобникова (кличка Лягушка) и его брата Владимира Сдобникова (кличка Перс) я вместе с сержантами Мациборко и Кашкиным остался по вашему приказанию в засаде с целью поимки могущих прийти по этому адресу других членов бандгруппы.
В 7 ч. утра во дворе дома послышался женский голос и стук в окно. Я находился в это время на кухне, из окна которой была видна застекленная веранда (холодный коридор) и входная дверь в дом. Хозяйка квартиры Евгения Суркова и ее дочь сказали, что это голос их соседки, девушки Кати, которая ежедневно по утрам приходит к ним, чтобы вместе идти на работу. Я послал Суркову открыть дверь и сам осторожно вышел за ней. Суркова открыла, девушка переступила порог, и в ту же секунду я заметил за разбитым стеклом веранды силуэт человека. Почти сразу же увидел вспышку выстрела, девушка вскрикнула и упала на руки хозяйке. Я произвел выстрел по силуэту, после чего в броске выбил оконные переплеты веранды, так как входная дверь была еще занята хозяйкой и девушкой. Метрах в четырех от меня лежал во дворе на боку неизвестный, он успел выстрелить в меня два раза подряд, я вышиб ногой револьвер из его руки. Крикнув Мациборке и Кашкину, чтобы они забрали этого человека и оказали помощь девушке, я стал преследовать другого. Полагаю, что сумел его ранить, так как после моего выстрела он, как мне показалось, зашатался и побежал неровно. Однако сам я потерял силы и упал из-за сильных ушибов и порезов, полученных во время броска с застекленной веранды и не замеченных мною в горячке. Догнавшему меня Мациборке приказал продолжать преследование. Оно результатов не дало.
Задержанный нами бандит оказался Иваном Спириным, по кличке Повар. Он получил касательное ранение спины. Скрылся от преследования, по его словам, Генка Блоха.
Девушка Катя, действительно, оказалась соседкой Сурковой, Екатериной Крашенинниковой, 20-ти лет. Выстрелом, произведенным Иваном Спириным, она была убита. Это бессмысленное убийство Спирин объясняет тем, что будто бы принял ее за сотрудницу розыска.
Пом. оперуполномоченного уголовного розыска ВОМ
сержант милиции Саморуков
7
К одиннадцати часам утра все обыски были закончены, описи похищенных продуктов и вещей составлены, протоколы написаны и подписаны, арестованные размещены в камерах. Члены штаба собрались в кабинете Заварзина.
Пурга утихла, за окном снова сияло щедрое февральское солнце и била капель. Слушая доклад Миловидова — а он докладывал последним, — каждый с болью чувствовал жестокую текучесть и неповторимость времени. Мгновение прожито — и не дано вернуть его, не дано передать то, что уже сделано тобой. А казалось бы, так просто: приказать людям занять свои места в оцеплении, не терять бдительности — и Киреев остался бы жив, и бандиты были бы захвачены… Извечен спор человека со временем, эта мысленная и запоздалая перекройка его, но усталые, замотанные люди, собравшиеся сейчас в, кабинете, не шли по такому пути даже в мыслях. Профессия дала им понимание, что любое исследуемое событие абсолютно уникально, оно не может быть повторено, оно реально невоспроизводимо. И следственный эксперимент, который будет поставлен, станет подобием, но не сутью мгновения, ушедшего, в прошлое. А сейчас истекают шестьдесят секунд молчания в память о Микитасе и Кирееве. Вот и они истекли…
Когда все сели, Заварзин сказал:
— Похороны послезавтра. Девушку тоже похороним мы. Положим рядом с нашими товарищами.
Помолчал и добавил печально:
— У меня из головы не выходит этот дикий выстрел Спирина. Какие злобные, трусливые твари! Тем опаснее они сейчас, когда заметались. Новых ограблений вряд ли можно ждать: как единый организм банда нынешней ночью уничтожена. Но бандиты остались и будут стрелять на каждый шорох. Начальникам служб и отделов, — Заварзин чуть повысил голос, — строжайшим образом предупредить личный состав об особой бдительности. Участковое должны ежедневно доносить о фактах купли и продажи домов на своих участках. Все бандитские квартиры известны нам, а теми, которые еще не известны, они не станут пользоваться из осторожности. Значит, будут искать новые, а возможно, уже искали. Это надо установить в кратчайшие сроки. Ефим Алексеевич! Твои соображения на этот счет.
Поднялся Корсунов.
— У меня, Сергей Михайлович, — сказал он, — в подчинении остался только один следователь. А взяли этой ночью трех бандитов, не считая мертвого, да около десятка их пособниц и укрывательниц. Вот и судите, каков я теперь помощник розыску. Дай бог нам вдвоем успеть составить процессуальные документы на всех взятых, а то и так может получиться: бандитов выловим, а судить не за что будет, все следы растеряем. Одних очных ставок, я сейчас прикинул, понадобится провести до двадцати. Это что? Десятая часть работы… Суд красивым нашим глазам не поверит, ему документ подавай.
— Ясно. Подчиняю тебе, Ефим Алексеевич, трех следователей своего отдела.
— Тогда другой разговор, — повеселел Корсунов. — Сейчас соберемся, составим единый план и навалимся гужом. Тогда через сутки сможем, это так, дать службе розыска ниточку к Николе Волку и к этому, как его… адъютант его, пащенок… эх, память старая!
— Женька Шепилов, — подсказал кто-то.
— Вот-вот… Никак его не запомню, а почему? Клички нет… Работа, мать ее! Всю память исковеркала… А что касается Генки Блохи, который ушел от засады, — возьмем его быстро. Мы тут подумали с Тренковым и пришли к выводу: через двое суток Генка Блоха будет у нас.
— А когда вы успели? — голос Заварзина потеплел. — Тренков, доложите!
— Наш план, товарищ начальник, основывается на том, что родная сестра Блохина, Татьяна Линяева, работает нянечкой в госпитале и, по непроверенным пока данным, уже нашла раненому брату крышу. Понаблюдаем за ней, двух суток, думаю, нам хватит. Соответствующие распоряжения я отдал.
— Дельно, — сказал Заварзин. — Садитесь, лейтенант. Ваша опергруппа действовала наиболее квалифицированно, объявляю вам благодарность. От моего имени поблагодарите за службу и сержанта Виктора Саморукова. Кто-то недавно тут говорил, что боевой опыт — плохой помощник в милицейской работе, а?
— Я говорил, — поднялся Авакумов. — Беру свои слова назад, товарищ капитан. Рад за вас, Тренков, и поздравляю.
Заварзин встал.
— Все свободны, товарищи. Рекомендую поспать несколько часов, а то, смотрю, кое-кого краше в гроб кладут. Полуторка у подъезда, развезет желающих по домам.
Глава пятая
1
— Гражданин начальник Тренков! Сидишь ты передо мной довольный — спалил, мол, Генку Блоху. Это я сижу перед тобой? Чего уж там… И на «вы» разговаривать не буду, терпи. Сидишь, говорю, ты передо мной довольный, а мог бы и не сидеть, мог бы, говорю, заземлить я тебя запросто, пугач был при мне. Сестра помешала, Танька… Вот шалава! Хату мне нашла приличную, а голову себе приличную найдешь ли? Тут уж так, какую дали, а батяня с маманей, вижу теперь, не шибко старались… Из окна сверху гляжу — прет ко мне Танька, а вы, гады, за ней втихаря, ну хоть бы оглянулась, хоть бы своей головешкой пустой подумала — не к матери же на блины спешит. Ладно… Запиши, гражданин начальник, в своей бумаге: Генка Блоха сдался без сопротивления. А вот кто-то из вас прострелил мне руку, когда мы с Ванькой Поваром шли на хату к Сурковой, знать бы кто. Этот? Тоже ручкой не шевелишь? Запомню тебя, начальник, на моем пути в будущие годы ты лучше не встревай. Я не наглый, моя беседа со всеми такая простецкая. Никола Волк, не тебе чета, однажды тоже на меня наехал, не понравилась ему, видишь, моя речь, он же у нас человек культурный, с понятием, товарищество, братство, то да се… Я ему пугач показал, он и отволокся скромненько. Ну как, одни мы были… Знать надо, когда пугачом махать, а то что ж… Разговора меж вами и мной теперь не было бы, лежал бы я где-нибудь в щели, тепла дожидался, чтоб сгнить. Но, думаю, Волк мне этого дела не простит, момент выжидал, да вы помешали. Бывало, про товарищество и братство толкует, Клавка Панкратова рот и разинет, а этот его блюдолиз, Женька Шепилов, словно опоенный слушает, молокосос сопливый. Нет, думаю, рвать когти отсюда надо: что за богадельня? Не пей, не кури, карту не кинь… Меня гроши горячат, я развернуться желаю, а он меня своим унылым братством с ложечки кормит. И что теперь? Мы, товарищи и братья, почти все тут, а он на свободе ходит. Я сразу смикитил, для чего ему братство нужно — чтобы мы тут молчали, как суслики. Н-ну, гад! Ищи Зинку Кочергину, начальник, она медсестра в каком-то госпитале. Найдешь — твой будет Волк. Нет, не видел ее ни разу, и никто из наших не видел. Стороной слышал, что она его маруха. От кого слышал? Этого я тебе не скажу. Посторонний от ваших делишек человек, тянуть его за собой не стану. Клавку Панкратову попытай: она шибко хотела про все это знать. Может, что и узнала.
Как с бандой познакомился? А чего мне с нею знакомиться, с детства многих знал. Отец и мать, бывало, уйдут в море, на шаланде они работали, мы втроем остаемся: сестра Танька, я да брат старший Володька. Сестре лет четырнадцать было, все уж при ней, с парнями вовсю гуртовалась, только мы ее ночами и видели. Брат у меня малахольный, хоть он теперь и лейтенант, все с книжкой, бывало, сидит. А я голубей гоняю с Ванькой Поваром и Пашкой Джибой. А между делом бегали по квартирным кражам, по-нашему, по-воровски, это значит по скачкам. Я, например, взял самостоятельно один скачишко в Кузнецах. Взял платья, три простых белых отреза, в рукавице был рис с комком сахара, все отдал бабке Дашке. Второй скачишко брал с Пашкой Джибой, все загнали одной тетке. Понравилось мне. А тут война началась, я уж в железнодорожном техникуме учился. Отцу и мне повестки пришли в один день, а брат добровольцем напросился. Пошли в военкомат. Отец меня цепко за руку держит, он догадывался о моих проделках, в детстве сек сильно. А у меня одна мыслишка: как бы это удрать? Батя, говорю, я же понимаю момент ответственности, чего же ты меня за руку ведешь на защиту Родины? Стыдно ж мне от людей. Он зыркнул на меня, смутился вроде, ослабил хватку. Я и был таков. А он мне в спину кричит: «Пашка! Вернись, не позорь мои седины!»
Гражданин начальник! Я понимаю, такими показаниями я под вышку себя подвожу. Хоть бы он крикнул грозно, как бывало, когда сек меня, а то жалобно крикнул, вроде в сердце я ему нож воткнул. И вот запало… Документы я выкинул, дезертиром стал, ночевал в щелях, в подвалах, а все слышу: «Вернись, милый!» Милый — это батя тоже крикнул, никогда не слышал от него такого слова, прямо как пулей ударил. А этот, сволочь, мне про братство… Какое братство — в крови омылись. Ванька Повар, дружок мой, ни за что пристрелил девку, скотина. А мужика домоуправляющего, который пришел к тетке Вите с проверкой? Его-то за что? Молодой парень, воевал, идет — палочкой постукивает, хромает. Навалились… Я потом взял удостоверение, сую Волку, вот, говорю, харя рябая, это же парень с домоуправления, оружия при нем нет, что ж ты наделал, фашист? Каждой мышки боишься. Так он чуть мне толковище не устроил. Когда возьмешь, начальник, Волка, мне скажешь, я кое-что про его прошлые делишки знаю. Тоже справочки наводил на всякий случай про товарища и брата… Сейчас сказать? Не-ет… Не пройдет номер. Как будет он тут, так я сразу спокойный стану, вот тогда и начнутся меж нами откровенные разговоры.
Слушай, начальник, все, отрезало. Давай меня к врачу, у меня огонь во всем теле. Руку-то мне прострелил? Давай меня, слушай, к врачу, а то подохну. Давай к врачу, давай. Ну чего сидишь, тебе говорю! Подыхаю. Все расскажу, все, у меня ничего не завязнет. Стопорнули хату, вставили фомич в серьгу… Свободу взяли, равенство… Ах, сволочь!.. Дай, начальник, жить… Жить хочу. Чего сидишь, чего зенки пялишь? Дай жить, начальник, дай… Жить хочу… Жить… Жить… Жить…
2
Участковый уполномоченный Роман Мациборко идет улицей. Видит — навстречу ему топает знакомый парнишка с кошелкой в руке.
— Здравствуй, Петька, — говорит Мациборко. — Куда это ты на ночь глядя зашустрил?
— Домой спешу, — отвечает Петька, всем своим видом показывая: некогда, мол, мне.
— Стой, Петька, не торопись… Как это — домой? Дом твой — вон где, — Мациборко кивнул на пятый по счету от них домишко, глядевший на улицу узкими окнами.
— Утром продали, — Петька был краток. — Свезлись. А я забыл свои причиндалы, вернулся. Отпусти меня, дядя, итить далеко.
— Жалость какая, — сокрушенно сказал Мациборко, — такой хороший парнишка съехал с моего участка.
Лесть попала в цель. Впалые Петькины щечки заалели… Мациборко, надо сказать, с ребятишками своего участка дружил. И по душевной склонности и для пользы службы. От глаз вездесущих Петек ничто не могло скрыться.
— Ну, прощай, Петька, — сказал участковый уполномоченный. — Расти большой. Пойду знакомиться с новыми жильцами.
— А нет еще там жильцов, — сказал Петька, подхватывая кошелку, из которой высовывался конец бредешка в мелкую ячею. — Одна тетя Зина. Полы подметает.
— А кто дом покупал? Она?
— Она.
— А ты говоришь — нет жильцов. Прощай, Петька. — Роман подал ему руку, с нежностью чувствуя, как пальцы цепко сжала жесткая ручонка парнишки. — Дуй, Петька, домой, а то и в самом деле поздно.
С покупательницей Роман знакомиться не пошел. Он постучался в дверь совсем другого дома. Хозяйка, открыв, испуганно схватилась за сердце:
— Ой, Рома, неужто мои что натворили?
— Что вы, что вы, Галина Петровна… У вас отличные ребята. Целый день я на ногах, устал. Разрешите, посижу немного, вот там, у окна. Вопросов мне, Галина Петровна, не задавайте, чаем не угощайте, о том, что был у вас, — никто не должен знать. Сапог снимать не буду, наслежу — вы уж простите. Давайте ноги вытру хорошенько.
Роман вытер ноги и прошел в чистенькую переднюю. Из окна был виден наискосок проданный дом. Уже темнело, когда из него вышла на улицу женщина, оглянулась по сторонам и быстро пошла улицей. Роман дернулся, чтобы встать, но тут же осадил себя: он был в форме, далеко бы эту женщину все равно не довел незамеченным. Подождал немного, попрощался с хозяйкой.
Дом, к его удивлению, заперт не был. Мациборко вошел, оглядел две небольшие комнаты, кухню. Здесь, на подоконнике, заметил клочок бумажки. Это был рецепт на имя Зинаиды Кочергиной. Роман осторожно положил его на место. Из ориентировки он знал, что Зинаида Кочергина разыскивается как пособница и укрывательница главаря банды Николы Волка и что уже трое суток она не появляется в своей квартире.
Через час Роман уже был у начальника своего отделения Топлова. Тот выслушал его и сказал:
— В двенадцать ночи оцепим дом. Пойдешь с нами, Мациборко.
— Слушаюсь.
— А до двенадцати соваться туда не станем. Спугнем еще. Сдается мне, Волк со своим пащенком нынче будут наши. Молодец, Мациборко. Хвалю. Так и дальше продолжай — добрый из тебя оперативник получится.
В служебной характеристике на Топлова было записано, что он глушит инициативу подчиненных. Александр Михайлович знал об этой строке… И то, что он сейчас искренне похвалил своего подчиненного именно за проявленную инициативу, принесло ему мстительное удовлетворение. «Вы там пишете, а мы, как видите, не такие».
— Рад стараться, товарищ старший лейтенант, — отозвался Мациборко. — Разрешите высказать свое мнение?
— Выкладывай, — разрешил Топлов.
— Хорошо бы эту ночку понаблюдать за домом. Один справлюсь, местечко для этой цели есть.
— А зачем? — в голосе Топлова послышался орлиный клекоток. — Зачем, сержант?
— Возможно, и они будут наблюдать за домом. Пусть успокоятся. А в следующую ночь возьмем.
— Вы сговорились все, что ли? — произнес Топлов непонятную для Мациборки фразу. — Дай вам волю — всю жизнь будете наблюдать за бандитами. Ты мне говоришь — возможно, вероятно. А я тебе кладу строгие факты. Утром Зинаида Кочергина купила дом, к обеду бывшие хозяева уже выехали из него. К чему такая спешка?
— Ясно же, ночевать Волку негде.
— Я тебе больше скажу: квартиру Кочергиной Тренков нашел и держит под наблюдением, он это тоже любит — наблюдать… А раз Кочергина дома не появляется, значит, и ей голову приклонить негде. А вывод?
Мациборко молчал.
— Будут они в купленном доме ночевать, сержант, будут. И мы их возьмем. Всех сразу и накроем.
— Дай-то бог, — сказал Мациборко, однако в голосе его было явное сомнение.
— Сержант! — рассвирепел Топлов. — Налево кругом! В одиннадцать быть здесь в полной боевой готовности.
— Слушаюсь!
Мациборко четко развернулся и вышел. Топлов покипел немного, перекладывая бумажки с места на место. Сам того не подозревая, он сейчас еще раз подтвердил ту злополучную строку в служебной характеристике, которая ему, человеку самолюбивому, энергичному, желавшему исполнять свою работу только на хорошо и отлично, доставляла немало тайных огорчений. Предстоящее дело в его понимании было настолько простым, удача настолько явной, что непонимание этого в других раздражало. С неохотой он взялся за телефонную трубку, чтобы доложить Заварзину о полученных данных и испросить разрешение на операцию. Заварзина на месте не оказалось, чему Топлов немало обрадовался. Позвонил Авакумову — с ним столковаться легче, этот человек рассусоливать не будет, но и Авакумов не ответил. «Вымерли они, что ли?» — сказал себе Топлов, однако же радости от себя таить не стал: руки были развязаны. Правда, нужно еще поставить в известность Корсунова, но это уж простите. Обойдется и так… Помедлив, Топлов снял трубку и позвонил все-таки: слова Заварзина о ведомственных рогатках засели у него в голове, а Топлов был по натуре строгий службист. Он требовал неукоснительного исполнения своих приказаний, но приказания начальства тоже исполнял неукоснительно.
Удача явно улыбалась ему — и Корсунова на месте не оказалось. «Вы давайте следите там, наблюдайте, — бормотал Топлов, положив трубку на рычаг, — а мы будем действовать. Каждому, братцы, свое». Он отметил в записной книжке время, в которое вызывал всех троих, и вышел из кабинета в приподнятом настроении.
До двенадцати Топлов старался не заглядывать в кабинет, чтобы не наткнуться на звонок от начальства. Начальству пришлось бы доложить, а неизвестно, как бы оно отнеслось к его инициативе.
Ровно в двенадцать сотрудники оцепили дом. У Топлова в отделении была железная дисциплина, никто и ни при каких обстоятельствах не покинул бы свое место в оцеплении, как это случилось недавно в группе Миловидова. Так что все шло по намеченному. И никто даже царапинки не получил, хотя двое бандитов яростно отстреливались. Женька Шепилов не успел пустить себе в лоб последнюю пулю — Мациборко выстрелом раздробил ему кисть руки. «До суда заживет, парень», — утешал его Мациборко, делая перевязку. «А после суда, слава богу, ему не жить, — хмуро сказал участковый Лобов. — На нем нашей крови много». Женька не проронил ни слова, в пустых морозных глазах даже боли не было — странный, нездешний, давно погибший юноша…
Второй, кого считали Николой Волком, оказался не им. При тусклом свете ночника Топлов сразу же увидел это, изумился:
— Это что? Прорвы на вас нет! Растете, как грибы. Кто таков?
— Посторонний я. Случайно попал. Нет за мной ничего, начальник.
— За оружие тоже, видать, схватился случайно? Ладно, разберемся. Всем на выход! Шепилов, идти можешь? Помоги ему, Лобов. Здесь остаются Мациборко и Тукаев.
Сели в кузов полуторки, поехали. Топлов был доволен. Хорошо бы, конечно, иметь в кузове вместо этого рыжего бандюги Николу Волка, но кто много хочет, тот не получает ничего. Улов и так неплохой.
Знать бы Топлову, что метрах в ста от разгромленной бандитской квартиры стоят, прижавшись к забору, Никола Волк и Зинаида Кочергина.
3
— Куда ж теперь, Коля? — спросила Зинаида и заплакала. Он молчал, обняв и поглаживая ее плечи.
— Господи, господи, — всхлипывала она. — Почему я такая несчастная?
Поздним вечером она привела в дом Женьку Шепилова и новенького, имени которого не знала. Потом пошла за Николаем, встретила его в условленном месте, у аптеки на Селенских Исадах, тоже привела сюда. Ноги отваливались… Третью ночь она не спала… А он в дом не пошел.
— Подождем, — сказал. — Поглядим, как и что.
Сидели на бревне, привалившись спинами к курятнику. Кур в нем давно уж не было… Чей это был двор, как они попали сюда, почему она сидит здесь глухой ночью и чего ждет — этого Зинаида не могла бы сказать, если бы спросили. Она то впадала в забытье, то выплывала из него, и порой ей казалось, что сидит она с мужем, ждет гостей, двухлетний сынишка их, обняв ручонками большую желтую дыню и весело лепеча, сидит тут же, на диване, в чистой, светлой, залитой электрическим светом комнате. Так хорошо, так покойно на душе, но чьи-то руки обнимают ее, тормошат, чей-то чужой голос хрипло и приглушенно говорит: «Не спи, Зина, замерзнешь», — и она видит ночь, какие-то строения, чей-то двор, понимает, что муж ее убит еще в самом начале войны, сынишка у чужих людей, которым заплачены неправедные деньги, и нет у нее прошлого и нечего ждать от будущего. Она стонет и инстинктивно отодвигается от мучителя своего, единственного своего, который все разрушил, все растоптал, а взамен дал эту проклятую сытую жизнь с вечной оглядкой.
Так они просидели час, второй. Она уже не теребила его идти в дом, его тревога передалась и ей. Февральская ночь была тиха, туманна, морозец оковал снеговую квашню на улицах, и самый осторожливый шаг человека был в эту пору предательски звонок. Оттого ли, что она немного поспала, от тревоги ли своей, от опасности ли, которой густо насыщалась эта предвесенняя парная ночь, но мысль Зинаиды работала теперь четко, слух был изощрен, зрачки расширились и светились, как у кошки. И все же сначала она почувствовала, как под полушубком каменно затвердело плечо Николы, и лишь потом услышала, что купленный ею дом окружают… Женька и тот, рыжий, стали стрелять, и выстрелы эти гукали глухо, отдаленно. Вскоре все было кончено.
— Куда ж теперь, Коля? — переспросила она и заплакала, понимая, что с последним выстрелом в том домишке расстреляна и вся ее недолгая жизнь с этим человеком. Теплыми ладонями он сжал ее лицо.
— Зин, я к тебе был добр?
— Добр, — сказала она, слабея от этой его ласки.
— Я не обманывал тебя? Говорил, какая жизнь тебя ожидает?
— Говорил.
— Я помогал тебе, Зин?
— Помогал, Коля. О господи, господи…
— Помоги и мне, Зин. Возьмут тебя — продержись двое суток, молчи… А потом можешь говорить, все равно они узнают.
Вчера по подложным документам за взятку в три тысячи рублей она получила для него от домоуправляющей паспорт на имя Геннадия Михайловича Баринова. Об этом Волк и просил ее молчать.
— А я? — опросила она горько. — А я?
— Ты же не сможешь со мной… У тебя сын. Да и не выдержишь ты моей жизни, Зинаида. И зачем тебе это? За тобой ничего нет, ты не воровала, не грабила. Взятку, правда, я на тебя положил — прости. Она тебе прибавит срок. А так что же — ты жила со мной, любила меня, о делах моих не знала. Вали на меня все, что можешь, — выдюжу…
Слова его были разумны, слова его были участливы, но когда он ушел — и ушел по-волчьи, ни одна ледяная корочка не хрупнула под ногой, — она сцепила зубами воротник пальто, свалилась, как куль, на бревно и глухо завыла. За двадцать четыре года своей жизни ни разу не испытывала она такого страшного, опустошительного одиночества. И чья-то рука снова легла на ее плечо. Она вздрогнула, вскочила, исступленно стала целовать его лицо и простила ему все за одно это малое мгновение.
Потом Зинаида шла по городу, шла легко, словно плыла, и ни один патруль не встретил и не задержал ее. Двумя поворотами ключа — именно так, как она закрывала, — отперла дверь, вошла в прихожку, втянула в себя воздух, уловила слабый запах чужого присутствия, сказала громко:
— Это я, Зинаида Кочергина. Я одна.
Во тьме, совсем рядом, ей ответили:
— Долго ж гуляла, Зинаида. Заждались.
Тьма около нее уплотнилась, мужская сильная рука нашла ее руку, потянула за собой в комнату. И тот же голос с затаенным нетерпением произнес:
— Витя! Саморуков! Сверни, брат, потолще. Ну, силушек моих нет — так курить хочу. За двое суток аж уши опухли…
4
На допросах Зинаида Кочергина наотрез отказалась отвечать — тянула время, чтобы дать Волку уйти. Но то, о чем она молчала, стало известно Корсунову и Тренкову из других источников. На исходе второго дня после ее ареста Коршунов привел к Заварзину Тамару Ганенко, которая работала домоуправляющей на участке третьего городского отделения милиции. Паспортистку этого отделения Раису Волкову пошел арестовывать Роман Мациборко и должен был с минуты на минуту привести ее сюда же.
— Садитесь, Ганенко, — сказал Заварзин. — Сколько же вам лет?
— Восемнадцать…
Так горько, так тяжело было сознавать, что смерть двух сотрудников, ранение четырех, бессонные ночи десятков людей оплеваны и загажены этой девчонкой! Она все еще стояла перед ним — и глаза ее, юные, молящие, дочиста выжженные стыдом, не были глазами преступницы. Тем горше стало Заварзину.
Корсунов, насупившись, сидел на диване. Заварзин вопросительно глянул на него.
— Проверим, Сергей Михайлович, всю ее документацию, конечно, — сказал он, отвечая на его немой вопрос. — А покамест все говорит за то, что в первый раз она…
— Никогда, никогда в жизни чужого не брала! — прижав кулачки к груди, воскликнула Тамара Ганенко. — Верьте мне, дяденьки! Зинка Кочергина в душу ужом пролезла. Упросила, деньги насилком всунула. Я даже и не поняла, как это случилось.
И Заварзин видел — не врала она. И все его гневные слова улетучились куда-то. Что тут скажешь? Чем поможешь?
— Дяденьки… — повторил он, усмехнувшись. — Садись, тетенька… Что же ты сделала со своими деньгами? Как вы их поделили с Волковой?
Тамара села, утопила лицо в ладонях.
— Стыдно мне… Ой стыдно мне! Пополам поделили с Раиской…
— Значит, по полторы тысячи пришлось. По три буханки хлеба, даже с довеском. Сладок ли был хлеб, Тамара?
И не в силах совладать с собой, добавил жестко:
— Совесть свою сожрала с тем хлебом, Тамара, и молодость свою, и честь.
Она ответила, глядя на него сухими глазами:
— Дяденька, не казните меня. Сама себя уж исказнила. Вот что решила я: не буду жить, руки на себя наложу.
— Не позволим, — холодно сказал Заварзин. — До суда не позволим, Тамара. А после… И после не советую. Взяв бандитские деньги, ты продала нас — и живых, и двух погибших наших товарищей. Уйдешь подло — продашь вторично. Подумай хорошенько об этом. Впереди у тебя долгая жизнь, и время подумать — будет.
— Вы ненавидите меня, дяденька…
— Нет, Тамара, — сказал он ей, не лукавя. — Мне по-человечески жалко тебя.
Она заплакала.
— Я не хлеб купила на те деньги, — говорила, всхлипывая. — Я пальто на толкучке сторговала. Обносилась вся, выйти не в чем…
Когда ее увели, Заварзин сказал смущенно:
— Под дых она меня ударила, с пальто-то этим… Ах черт, жалко девку! Прямо хоть вместо нее садись.
— Жалко, Сергей Михалыч.
— Добренькие мы с тобой, Ефим Алексеевич… Может, Авакумов и прав?
— Мы не добренькие, мы добрые. А иначе, это так, на нашей работе засохнешь на корню, чуркой станешь. Не прав твой Авакумов.
— А Волк ушел, — вздохнул Заварзин. — Упустили.
— Ушел…
— А почему ты думаешь, что ушел, старый? Почему Волку не осесть, отсидеться, пока не схлынет шум? Деньги у него, по всей видимости, есть. Вы с Тренковым отработайте-ка эту версию.
— Отработаем, конечно… Но в городе ему оставаться нельзя. Крепко почистили мы город, Сергей Михалыч. Тридцать человек проходят у нас по этому делу. Барыг, о которых мы даже не подозревали, взяли пять человек. Почти все миллионщики. На что уж вроде закаленный я товарищ, в нэп кое-что пришлось повидать, и то не по себе стало, когда у Фаруха из-под пола извлекли мешок с двумя миллионами. Паучье семя! Сколько ж, думаю, людских слез в этом мешке! Вот кого надо расстреливать без всякой жалости. Что там Волк — козявка против этих кровопийц. Поймаем и Волка, Сергей Михалыч, дай срок.
Не знал тогда Корсунов, что срок этот растянется почти на два года…
Глава шестая
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Я, ст. следователь ОББ[14] УНКВД Астраханской области капитан Корсунов, рассмотрев материал о преступной деятельности Николая Тамбовского по кличке Волк, он же Бухаров Матвей Иванович, он же Комовский Валерий Федорович, он же Рыбцов Павел Никифорович, он же Филатов Сергей Федорович, он же Баринов Геннадий Михайлович,
НАШЕЛ:
Настоящая фамилия Николая Тамбовского-Волка — Бухаров Матвей Иванович. Бухаров происходит от зажиточных крестьян села Ветлянка Астраханской области. В 1929 году в возрасте 20-ти лет он дезертировал из рядов Красной Армии, перешел турецкую границу, а в 1930 году вернулся тем же путем. Вместе с односельчанами Дербаневым и Лебедевым занимался вооруженным грабежом мирного населения, угоном колхозного скота. В декабре 1931 года бандгруппа была ликвидирована, Лебедев и Дербанев убиты, а Бухаров захвачен и осужден на 15 лет лишения свободы. В 1936 году он бежал из лагеря, а в 1939 году был обнаружен в г. Тамбове, где учился на рабфаке под фамилией Комовского Евгения Федоровича.Убив охранника, Бухаров бежал из КПЗ.
В декабре 1942 года Бухаров, имея документы на имя выздоравливающего после ранения мл. лейтенанта Красной Армии Рыбцова Павла Никифоровича, организовал в Астрахани преступную группу из рецидивистов и дезертиров. Бандиты убили двух сотрудников милиции, ранили четырех, ограбили шесть крупных складов с продовольственными и промышленными товарами, нанеся государству ущерб в сумме 3 000 000 рублей. В феврале 1943 года сотрудниками Астраханского окружного отдела милиции и ВОМ банда была ликвидирована, но Бухарову удалось за взятку получить паспорт на имя Баринова Геннадия Михайловича и скрыться.
В январе 1944 года оперативными группами Астраханского отдела ББ была уничтожена банда бывшего легионера[15] Зургана Оджаева, состоявшая из изменников Родины и уголовного элемента различных национальностей. На вооружении бандитов были винтовки, гранаты, пистолеты, бинокли, компасы, кроме того, каждый уходил от преследования, имея по две запасных лошади. В степях Астраханской, Ростовской, Сталинградской областей и в прикаспийских песках Казахстана банда грабила население, угоняла и уничтожала колхозный и совхозный скот. Бандиты насиловали женщин, убили после тягчайших истязаний 18 колхозников, рабочих совхозов, работников партийно-советского аппарата, сотрудников милиции. Главарь банды Зурган Оджаев находится под следствием, его сообщники уничтожены, кроме Николы Волка, которому при разгроме банды в районе Сарпинских озер удалось скрыться.
В настоящее время Никола Волк вступил в банду Басанга Огдонова, действующую в тех же степях. А поэтому, я, ст. следователь…
ПОСТАНОВИЛ:
Материалы на Николу Волка, он же Бухаров Матвей Иванович, он же Баринов Геннадий Михайлович, он же… выделить из дела № 1029 («Лягушка») и из дела № 1203 («Зурган») и принять к своему производству.
При подтверждении оперативных данных о том, что Никола Волк вошел в банду Басанга Огдонова, присоединить выделенные материалы к делу № 1204 («Степные волки»).
Ст. следователь ОББ УНКВД Астраханской области
капитан КОРСУНОВ.
Астрахань, 9 февраля 1944 года.
2
Шестые сутки опергруппа капитана Джакупа Кенжибаева преследовала в калмыцких степях банду Басанга Огдонова.
Трое осталось в банде, а было восемь. Иных оперативники убили в перестрелках, иных, раненных, пристрелили сами бандиты, взяв их коней.
Не первый раз опергруппа встречалась с бандой Басанга, но нынче — последний. Знали это и те и другие. Знали и то, что за шесть суток непрекращающейся, в лютый мороз, погони не столько оружие решит ее исход, сколько умение всадника расчетливо взять от коня его силу и выносливость. Взять — и не загубить, иначе погибнешь в степи и без пули.
На шестые сутки, в полдень, оперативники подняли бандитов с привала и пошли от них на расстоянии четырех криков[16]. На привале, в таганке, оставленном впопыхах и набитом снегом, лежали куски синего лошадиного мяса: даже костер не успели развести. Увидев это, Роман Мациборко сказал:
— Товарищ капитан, нагоним! Пересядем на запасных, нагоним!
Джакуп промолчал. Можно пересесть на запасных, можно сделать рывок… Очень хотелось покончить все разом — сколько же можно терпеть эту муку мученическую? Но и у бандитов есть запасные лошади, даже по две. Уйдут… Или нет? Уйдут… И тогда уж уйдут окончательно.
До сих пор опергруппа шла за бандитами по следам. Снег был глубок, следы — как печати. До первого бурана, конечно… Но все эти дни стоял мертвый кристальный мороз, и Джакуп берег коней, зная, что те, кого гонят, беречь коней не смогут. Они умелые всадники, но за спиной неотрывно идет смерть. И все чаще, и все непроизвольнее их колени стальным капканом сжимают бока лошадей, все чаще и безжалостнее, вспарывая шкуру, ложится плеть меж лошадиных ушей… Нынче бандиты впервые показались на глаза, если не считать тех коротких минут, когда, истерзанные постоянной опасностью, они принимали бой. Скоро конец… Дрожь нетерпения передалась ли от всадника коню? Саврасый конь Джакупа, вытянув шею, надбавил…
— Уходят! — сказал Виктор Саморуков. — Уходят, товарищ капитан!
— Пересели?
— Нет, на тех же. — Саморуков приложил бинокль к глазам, добавил уже не так уверенно: — Должно быть, на тех же.
Часа через полтора опергруппа наткнулась на трех пристреленных лошадей. Роман Мациборко подъехал к ним первый, спешился.
— Все взяли от бедолаг, — говорил он, переходя от одной лошади к другой. — Прежде чем пристрелить, жилы им отворили, кровососы.
— Это хорошо, — откликнулся Шакен Джумалиев. — Усталая кровь — отрава, Роман. От нее у них ноги отнимутся.
— Что нам их ноги, Шакен? Отнялись бы у них… — выругался Мациборко и, непривычный к таким долгим скачкам, пошел раскорякой в сторону. Через минуту вернулся, сказал буднично:
— Там лежит один, товарищ капитан. Отбегался…
Близким выстрелом в затылок был убит бандит Ерофеев. Оперативники нашли ямку поглубже, бросили его туда, нагребли снега, плотно притоптали.
— Двое их осталось, — подытожил Мациборко. — Басанг и старый наш знакомец Никола Волк. Не забыл его еще, Витя? — спросил он Саморукова.
— Такого бандюгу забудешь… — пробурчал Саморуков. — Дорого бы дал сейчас Алеша Тренков, чтоб очутиться здесь, да только не для его пробитых легких такие скачки… И что ты скажешь? Раза два метил я в этого Волка — мимо! И тогда и сейчас — как заговоренный… Самый лютый выжил, а?
— Ну, это мы еще посмотрим, — сказал Роман.
Сказать-то сказал, а сам глянул на мосластых, уходившихся лошадей… Да и все глянули… И каждый подумал, что после убийства Ерофеева у бандитов теперь по три коня. Неужели сегодня опять уйдут?
— Переседлывай! — приказал Джакуп.
Уже стемнело, когда следы привели их к зимовью. Оттуда еще издали хлестанул винтовочный выстрел, и Джакуп понял, что бандиты прошли дальше: они бы не стали попусту жечь боевой патрон. На всякий случай рассредоточились, крикнули, дождались заполошного крика в ответ, подъехали. Хозяин, чабан совхоза (это были уже ростовские степи, оперативники знали их плохо), встречая, суетился, сбивчиво рассказывал, что бандиты к жилью даже не подъехали, а только отворили ворота кошары, и все.
— Что — все? — переспросил Виктор Саморуков.
— Коней не взяли, — радостно пояснил хозяин. — Кони, правда, приблудные, но я их вчерась, как на грех, оприходовал. Теперя на мне числются. Добрые лошадки, подкормил… Стоят в кошаре у глухой стены, за овцами. Знать, не увидели.
— Ярку забрали, — сказала его дочка, крепкая, кровь с молоком, солдатка лет двадцати пяти. — Живоглоты!
— Что ярка? Нашла об чем тужить… Сами живы остались, Катерина! Кабы не вы… — он благодарно глянул на Джакупа.
Катерина сказала легко:
— А винтовка на что, батяня? На что нам ее выдали-то? Отбились бы… Я по ним два раза стрельнула — и к землянке не подошли.
Оперативники невольно рассмеялись.
— Ду-у-ра! — рассвирепел отец. — Винтовка… Они бы тебе показали винтовку… Разговорилась у меня! Мясо ставь на стол да кулеш понаваристее!
Шесть суток они не ели горячего. Ночами, когда нельзя было продолжать погоню из-за опасения потерять следы и нарваться на засаду, они по очереди спали у тощего костра, будылье для которого доставали из-под снега. Четыре человека, обмороженные, оставлены позади на редких зимовьях. Нынче, на этом, останутся еще двое… И то ли от духовитого тепла землянки, то ли от съеденного мяса они быстро опьянели, сонная одурь не навалилась — обрушилась на них.
— Роман, — сказал Джакуп Кенжибаев, — и ты, Виктор… Мы сейчас пойдем дальше.
— Надо — пойдем, товарищ капитан, — ответил Мациборко. Голова покачивалась как на стебле, и было видно, какой он еще молодой, Мациборко, как далеко еще ему до жесткой мужской силы. Лица всех были обожжены морозом, шелушились, а на лице Романа юно и ало полыхал румянец… Но в смертельно усталых его глазах, несмотря на покорность этому тихому приказу, удивленно стояло: зачем пойдем и куда пойдем? Разве можно идти ночью по следам? Это значит пахать носом снег, это значит вконец обессилеть, и тогда возьмут они нас…
— Роман, — мягко сказал Джакуп, — мы не пойдем по следам… Они оставили нам это зимовье, сами тоже станут искать крышу над головой. Им отдых и горячее хлебово нужны не меньше, чем нам… Хозяин!
— Ась? — жалостливо откликнулся тот.
— Сколько верст до твоего ближайшего соседа в сторону Эргеней?[17]
— Верст пятнадцать будет.
— А бандиты, товарищ капитан, пошли в обратную сторону, — вступила в разговор Катерина. — Я подсмотрела.
— Знамо дело, им путя не заказаны, — поддержал ее отец. — Куда хотят, туда и повернут. Почему они обязаны пойтить к Михаиле Золотову? Он им там разносолы приготовил?
— А ты хорошо его знаешь? Он тебе близкий человек?
Чабан махнул рукой, не ответив. Он не желал принимать к сердцу тревогу Джакупа, сквозившую в его тоне. Так хорошо, так надежно ему было с этими людьми, так не хотелось ему отпускать их…
— Тогда молись богу, чтобы мы успели к этому Золотову, хозяин. И коней дай. А без того твои молитвы не дойдут… Путь бандитам в степи не заказан, но к Эргеням они тащат нас аж из-под самой Астрахани.
Чабан поднялся с лавки, выбелев в лице.
— Катерина! — сказал он. — Выводи лошадей из кошары. А вы поспите, люди добрые, прямо за столом и прикорните, пока заседлаю. И к Мишке Золотову сам проведу, короткой дорогой. Успеем.
— Батяня, — Катерина торопливо затягивала полушалок, — дозволь мне самой проводить их. Растрясет тебя, батяня…
3
Басанг скакал впереди, подставив под выстрел широкую спину. Но степные боги надежнее панциря хранили Басанга от пули Николы. Они хранили его умением выжить в этой первозданной степи, найти ночью путь по звездам, отворить жилу коню и вовремя и спасительно влить его ярую кровь в холодеющую свою. Ошибся Шакен Джумалиев, степняк, но не кочевник: надо знать, какую жилу вскрыть смертельно усталому коню, чтобы у тебя не отнялись от яда ноги, а мозг стал свеж и тело сильным. Басанг знал.
Он пристрелил заболевшего Ерофеева, подошел к Николе, повернулся к нему спиной и постоял так несколько мгновений, достаточных, чтобы получить пулю в затылок. Ничего меж ними не было сказано, но главарем банды стал теперь Никола, ибо двое таких, как они, тоже банда. Жесток и хитер Басанг, темен и неграмотен он, и все-таки не мог он не понимать, что за этим русским стоит знание мира, который выше и сложнее степного. Никола Волк не насиловал женщин, по его просьбе Басанг отпустил, не тронув, двух чабанов-казахов, но тот же Никола, узнав, что в дальнем хуторе ночует участковый уполномоченный Шевырев, настоял поднять банду. И вместо того чтобы жрать мясо и пить самогон, Басанг проскакал с ним по ночной степи двадцать верст, а для чего? Никола скучно пристрелил Шевырева, лишив их долгой мести. И только на обратном пути, к мясу и самогону, Басанг, не раз умытый кровью, почувствовал себя щенком перед новичком-русским. Почему? Отчего? Смутно выплывало: есть легкая кровь и есть трудная кровь, новичок тянет их к трудной. Но разве ему, Басангу, надо не то же? Разве скот, который он имел, и три жены, и власть в хотоне в революцию не отняты? И чем же ты, Басанг, старый пес, вернешь их быстрее: кровью безоружного пастуха или кровью лейтенанта? Как получилось, что теперь каждое зимовье встречает тебя выстрелами? Ой-ей-ей!.. Где была твоя голова, зачем не думала? Надо беречь русского, небесные предки послали его, чтобы вовремя предостеречь потерявшего рассудок потомка.
Но без того, что знал и умел в степном мире Басанг, русский в степи погибнет. И Басанг, уверенно подождав, сколько было положено (мускулы спины и затылка все-таки конвульсивно напряглись), сказал Волку то, чего не говорил ни одному из своих сообщников. В Эргенях, сказал Басанг, есть у него тайник с оружием и запасом продуктов, вдвоем они проживут там до весны, а весной… Русский молча — он вообще мало говорил — положил ему руку на плечо. Басанг заседлал лошадей Ерофеева, себе взял похуже…
От зимовья, где остановились и сейчас уже, наверное, легли спать оперативники, они пошли на юго-запад, почти в строго обратную от Эргеней сторону. Басанг долго и усердно петлял, раза три они с Николой расходились и затем по оголенным от снега хребтам барханов сходились вновь. Наконец поскакали на север к зимовью, которое знал Басанг и в котором они надеялись поесть и поспать в тепле за то время, пока опергруппа, никогда не продолжавшая погоню ночью, разомкнет их следы и доберется туда. Конь под Николой всхрапывал, два запасных, слева и справа, испуганно жались к нему, и Никола, не понимая в чем дело и оберегая ноги, наотмашь бил кулаком по их мордам. Басанг по-прежнему скакал впереди, иногда гортанно смеялся чему-то, иногда что-то выкрикивал, и кони его были спокойны.
На дальний бархан вылезла багровая ущербная луна и по-азиатски лениво и надолго уселась на нем. Снега повлажнели, выдавили из себя сукровицу, и она широкой рекой заструилась от луны к всадникам. И ту дорогу пересекли летучие тени… Никола глянул влево и назад — и там тоже увидел их и понял, почему храпят и бьются на скаку его кони. Он крикнул, молчаливое волчье кольцо разжалось и сжалось, оно стало пульсировать в такт его возгласам, а кони, ободренные голосом хозяина, пошли ровнее. Как беспредельна, как мертва степь под февральскими снегами, как жестоко обнажены в ней жизнь и смерть! Еще сильны Никола и Басанг, и вооружены они, а стая уже почуяла в них ослабевших и будет терпеливо идти за ними сегодня, завтра, до конца…
Басанг вышел точно на зимовье. Слабый огонек светился из единственного окошка землянки, он потух сразу же, как только залаяли в кошаре три запертых вместе с овцами сторожевых пса. И тут же выстрел потряс степь. Пуля задела каменную горловину колодца, срикошетировала и ушла в ночь. Никола с тоской подумал, что вот оно — благословенное тепло, но не достанешь, не войдешь. Он почти физически ощущал, как холод проникает в разбитое окно землянки (оно парило), и, полузамерзший, страдал от этого, а еще от того, что придется тратить драгоценное время, чтобы убить строптивого чабана. Черно и злобно пожалел он, что хватал за руку сначала Зургана, а затем и Басанга, когда те истязали женщин, стариков и детей. Он втолковывал им, что надо воевать только с властью, с государством, но дикие бандиты оказались умнее его, непреложно зная, что государство — это все эти люди, хар яста, черная кость.
Хлев для скотины стоял за глухой стеной землянки, не под выстрелом, и они могли завести туда лошадей, которых от волков нельзя было оставлять без присмотра и на минуту. Развязав себе руки, попытались достать чабана пулей. Не тут-то было! Тот стрелял редко, с точным расчетом, по всему чувствовалось, что винтовка — в умелых руках бывшего солдата. Меж выстрелами Никола уловил женский голос и детские голоса…
— Эй, ты! — крикнул он. — Не стреляй! Переночуем — уйдем, не тронув.
— Гад ты ползучий! — отвечал ему чабан. — А еще по-русски баишь… Никола Волк, што ли? Было говорено… Покажись-ка!
— Детей бы своих пожалел, — продолжал увещевать Никола, но увещевал из-за угла сарая.
— Пожалею, как тебя достану, иуда, — ответил чабан и чуть не достал Николу, прошив пулей камышовые стенки сарая.
Басанг тоже стрелял из винтовки, его пули тоже, видимо, прошивали стены чабанского жилья, но так можно было жечь патроны долго, а их мало. Поняв бесполезность лобовых попыток, Никола приказал отойти к хлеву. Басанг подчинился, вкрадчиво улыбаясь: теперь не он был главарем банды и как выкурить чабана, уже не его печаль. Тогда Никола достал, словно от сердца оторвал, последнюю гранату, вынул из нагрудного кармана запал — и отдал ему. Крыша зимовья всего метра на полтора подымалась над землей, Басанг мягко, по-кошачьи, вспрыгнул на нее… Жили чабаны в землянках, землей же и утеплялись; по локоть ее было насыпано на крыше. А чтобы не выдули ветры, не вымыли ливни, была засеяна крыша овсюгом, шелюгой и иными устойчивыми на корень травами. И ни Михаил Золотов, ни жена его, ни две малые дочки-погодки даже не почувствовали, как их смертынька шагнула к трубе… Луна скрылась, но в слабом свете, который еще хранила ночь, Никола видел, как Басанг отвел руку, чтобы опустить гранату в черное жерло. И — не успел опустить: две автоматные очереди скрестились на нем, и граната взорвалась в его руках. Николу толкнуло взрывной волной, он упал, вскочил, последние, спрятанные на донышке души силы вскипели в нем, — и он, пригибаясь, побежал.
А Михаил Золотов открыл дверь землянки и, крутоплечий, сильный, с мученически-счастливым лицом, облапил первого же, кто подсунулся к нему, а это была Катерина. И она счастливо рассмеялась.
— Мать честная! — ахнул изумленно Золотов. — Катерина! Ты? Н-ну, Катерина… А развалюха-то моя, а? Выдержала, шалавочка… Прямо дзот! Катерина… Век тебе не забуду, Катерина…
Он обнимал Виктора, Джакупа, чуть не задушил в объятиях Романа Мациборко, тонкого и худенького даже в полушубке. Простоволосая, плача и смеясь, выбежала жена Михаила, целовала Катерину, оперативников, восклицала бессвязно. А те, на кого так неожиданно и открыто пала радость спасенных, вдруг поняли, что вот и пришел конец их страде, их мучениям, и им стало легко, они тоже заговорили бессвязно, утешая плачущих женщин, смеясь освобождение И эта радость человеческая, и смех, и участливое, исторгнутое из сердца слово, и эти теплые слезы поднялись тогда над снегами и поплыли в ночь, к ледяным звездам. И там, в черной беспредельности, никогда не погаснуть им, люди, усталые вы мои, милые вы мои!
Джакуп пересчитал в хлеву бандитских лошадей. Все шесть на месте, и он успокоенно приказал располагаться на ночевку. Он знал непреложно: тот, кто в такую пору уйдет в степь без коня, или вернется, или погибнет.
— Есть на земле справедливость, — сказал Роман Мациборко, когда опергруппа, переночевав, вышла по следам на место, где замерз Никола Волк. Его обыскали, вынули из карманов полушубка пистолет, паспорт на имя Баринова Геннадия Михайловича… Джакуп, сидя в седле, положил на планшетку лист бумаги и стал писать акт с точными приметами бандита.
— Есть на земле справедливость, — закончив, подтвердил и он. — Домой, мужики… Теперь домой!
Кони всхрапнули, взяли наметом. И долго, не оседая, серебряно мерцала на солнце снежная пыльца.
Что ответить ему
Глава первая
1
Тетка Ариша Рудаева поругалась с замужней дочерью, влезла в долги, купила домишко и ушла жить своим хозяйством. Работала она сторожем в автоколонне, работой дорожила: отдежурит сутки — трое свободна. Имела во дворе огородик, хаживала на базар, сдавала комнату квартирантке, так помаленьку-полегоньку за три года выплатила почти все, что задолжала за дом.
И все три года ни она к дочери, ни дочь к ней — ни ногой. Зять приходил. Был он плотник первой руки, а дому требовался ремонт — вот и помогал по-родственному. Звали его Петр Инжеватов. Потюкает, бывало, топориком часика два и садится за стол, где уже ждала его тещина бутылка. Он задумчиво выпивал, грустно вздыхал перед последней рюмкой и смотрел на тещу совершенно трезвыми, в собачьей тоске глазами. У общительной, жизнерадостной тетки Ариши была такая манера: любила говорить правду в глаза, прямое слово у нее не залеживалось… Но меж ними правда была давно и вся сказана, оба молчали.
Не часто, но забегал к ней восьмилетний внук Петька. От радости Ариша не знала, куда его посадить и чем накормить: сильно его любила. А мальчонке много ли радости с бабкой? Сладким куском его не прельстишь, сказкам нынешние дети в восемь лет уже не верят, разве что на ночь… Покрутится, повертится — и нет его, ветром сдуло. Бабка сникала, одиноко сидела за столом, думала. О чем? Не знаю… Быстролетный Петька словно уносил с собой что-то, оставляя смутные минуты.
Но вечерами, когда на скамейках собирались пожилые товарки, общительная тетка вела речи самые гонористые.
— Эх, бабоньки, — говорила она. — Нынче мне хорошо, живу — не нарадуюся, сама себе хозяйка. А что было? Не так встала, не так прошла, не то сказала… Самовар поставить — спросись, что купила — отрапортуй, про всяку мелочь — доложись. Моей постоялице — и то вольготнее, чем мне у родной дочери.
— Знамо дело, — дружно вздыхали соседки, — укорот нам крепкий дают.
На квартире у Ариши жила Мария Андреева, молодая женщина лет двадцати пяти, а у нее — своя беда. Разошлась Мария с мужем, и разошлась из-за свекрови. «Прямо Кабаниха, — говорила она, — дышать не давала. Вы, старухи, тоже хороши».
— Да и то сказать, — помолчав, соглашалась с ней правдолюбка Ариша. — Годы на нас, старух, пошли урожайные. В какой дом пальцем ни ткни, кто вылезет? Старуха… И всяка с норовом, взять хоть меня… А молодые нынче сами дерзки, жить хотят по-своему. Ну и идет меж вами и нами постоянная пальба…
Разговоры эти вели они за самоваром, за долгим-долгим чаем. И пока выпьют самовар, обвинить себя успеют, оправдать, пожалеть и поплакать над собой же. Одного только не смогут понять — кто прав, кто виноват, почему не терпит сердце даже малой обиды от кровных, почему неуступчиво оно? Что за такое за колдовство? Добро бы, куска хлеба не хватало. А то ведь… Нет, не понять. Только и утешения, что наговорятся вдосталь, отмякнут, и назавтра, глядишь, вроде и легче.
Так вот и жили они, хозяйка и постоялица, до пятницы, 21 сентября 197… года, до восьми часов вечера. Вечером поужинали, тетка Ариша разобрала в горнице свою постель и постель Марии, надела поверх цветастого халата синюю душегрейку, обула мягкие черевички — и была готова к выходу.
— Далеко ли? — спросила Мария. Она сидела за неприбранным столом, думая о чем-то. Тетка Ариша знала, о чем она думала, — о ребенке, которого могла родить, но, поддавшись уговорам свекрови и мужа, не оставила. И, страдая за Марию, Ариша сказала:
— Ты что это, девка? В твои ли годы горевать? Собирайся, пойдем со мной, развеешься…
— Куда? — снова спросила Мария, но было видно, мыслями она далеко. И вряд ли она слышала, что ответила ей тетка Ариша.
— Дельце одно маленькое есть, — ответила та. — И Дроботовы давеча приглашали. Кино у них посмотрим по цветному телевизору. Пойдем, Маша, а?
Долго будет Мария жалеть, что не пошла в тот вечер с хозяйкой.

2
Далеко от Аришиного дома, в тот же вечер и в те же часы, к одному из волжских островов подошла рыбачья лодка. Ее привел сюда на буксире баркас и пошел дальше, а Михаил Бурлин, выбрав и уложив чалку, закатал штаны до колен, слез в воду и потянул лодку в горловину бухты, к седой ветле. Вспугнутые мальки тупо и щекотно били рыльцами ему в ноги. Если бы у меня не было в жизни рыбалки, думал Михаил, то что тогда было? Но он тут же отбросил эту мысль, отравлявшую ощущение счастья. Сейчас он мог все.
И все делал не торопясь, с наслаждением. Снял подвесной мотор, которым не пришлось воспользоваться, и положил его в лодку. Вытащил оттуда две старые фуфайки, кожушок, полиэтиленовые мешочки с едой и с лесками — отнес все на берег, положил у старого кострища. И еще он что-то делал, а минуты текли, и он, замерев и прикрыв глаза, пытался услышать и слышал иногда шорох уходящего времени. «Постереги мое добришко, мать, — сказал он старой ветле, к которой приковал лодку, — а я схожу к роднику».
Через час он вернулся к лодке, принес с собой фляжку с ключевой водой и старую домашнюю сумку с коровьими лепешками. Их он положит в костер, и всю ночь они будут багряно тлеть под седым пеплом, источая ровное тепло. Разжигая костер, Михаил думал, что завтра он не станет ловить рыбу, ну ее к лешему, успеется. Завтра на зорьке он уйдет в дальние луга, где колхозные механизаторы докашивают перестойные травы: давеча оттуда был слышен слабый рокот тракторов. Там встретит хозяина этого острова лесника Романа Евсеевича и спросит его, не нашел ли он себе замену. Нынче люди не больно стремятся в глушь, в прошлый раз старик, собравшийся на пенсию, ухватился за Михаила. Долго расписывал выгоды лесного житья, даже стельную корову обещал на год оставить… Потом примолк, задумчиво пожевал серыми губами, сказал просто:
— Не затем ты едешь сюда, парень. Спасаться едешь.
— Семью спасать, Евсеич, — признался Михаил.
— Не дело задумал, милок, — сказал старик. — От себя не убежишь, а шкодливая баба в лесу и с деревом спутается… Брось ты ее к чертовой матери. Молодой, другую найдешь.
— Чужую беду руками разведу, — хмуро попенял ему Михаил.
— Не серчай, парень, — Евсеич сразу потерял к нему интерес. — Как примстилось, так и сказалось. В лесу живу, оброс дурью…
Долго саднила душа после того разговора с лесником. Встреча с ним в тот раз была вроде бы случайной, а на самом деле Михаил давно искал ее. И вот оказалось, что податься в лесники — это не выход, несколькими словами старик разрушил то, что Михаил лелеял в себе бессонными ночами. Но что же делать? Ведь как-то надо спасать Таню. В последнее время он остро чувствовал, что и себя самого тоже надо спасать… «Пойду к старику завтра, решил Михаил, попытка — не пытка. Поживем здесь годика три, сынишку определим в интернат. Поживем, оглядимся, подумаем, мы же взрослые люди, и было же, было…»
А костер горел, шелестя и потрескивая, а кизячий дымок першил в горле, выбивал слезу. Михаил глубоко втянул этот забытый запах. Больно и горько ворохнулось сердце: то был запах его детства. И не стало у костра тридцатилетнего, неудачливого и не приспособленного к людской суетливой жизни человека — сидел мальчишка, отрок, с неясными, только что пробудившимися желаниями, а костерок, ало-сизый кизячный холмик, у которого сидел он на теплой вечерней земле, был разожжен не им, а его молодой вдовой матерью; за скудным столом под навесом она пила чай с двумя старшими сестрами, тоже вдовыми. Выпили сестры весь самовар и, голодные, затянули старинную протяжную песню и незаметно отдались ей, нелепо, жалко и истово помогая себе движениями рук, сминая слова тоской и рыданием. И он впервые о чем-то смутно догадался, его, худенького, робкого, тихого мальчика, захлестнула мужская жалость к матери и теткам; он заплакал. А они пели, кизячный дымок пластался по двору, пугая комаров, тонкий немощный месяц светил, приглушенно синела разлившаяся вокруг деревеньки полая вода, и где-то там, в ее таинственных холодных просторах, переливчато, одиноко кричали ночные птицы. Давно уже нет матери, разбрелись по свету тетки, а отрок, который верил, что будет жить прекрасно и даже знал, как это — жить прекрасно, с годами растерял свое знание. Да что там — за пятнадцать последних лет он ни разу не был в родной деревне, не припал губами к земле у могильного холмика, не прошептал забытых слов, не попросил прощания у родимой… Вспомнив это, Михаил застонал от невозможности вернуть все и, недоумевая, негодуя и ничего не в силах с собой поделать, вытащил записную книжку, куда вносил всякие мелочи по работе, стал писать в ней о том, над чем казнилась и чем счастлива была его душа. Никогда раньше он такими глупостями не занимался, и, наконец, измучившись до жаркого пота меж лопаток, он отбросил книжку в сторону. И все-таки стало ему легче… И яснее стало. Нет, бросить Таню он не сможет, все в нем противилось предательским словам лесника.
Натянув шапку и прикрывшись кожухом, он лег у костра.
В эту свою ночь в лесу он проснулся всего один раз, приподнялся на локте и строго, без удивления, полностью доверяя себе, смотрел, как рядом, на матово-черном зеркале воды, молча ходили белым хороводом русалки. Потом от хоровода отделилась одна и подошла к нему в подвенечном платье и фате, и это была его Таня, какой он знал ее десять лет назад, в день их свадьбы. Она прикоснулась рукой к его лицу, ладонь ее была теплой, и сердце его задрожало, он откинул кожух и обнял ее благодарно. Она пришла к нему юной и его сделала таким же, и он уснул снова, самый счастливый человек на свете.
А на свете не было человека несчастнее его. Потому что в этот час погибла насильственной смертью тетка Ариша Рудаева.
Но пока об этом никто не знал.
Не знала Мария Андреева, уже забеспокоившаяся, потому что хозяйка не ночевала дома. Не знали ни соседи, ни знакомые, ни те, кто, как и Михаил Бурлин, никогда не видел ее в глаза. Да и что этим людям тетка Ариша? Кому мешала? Кого задела?
Глава вторая
1
Токарь Иван Бурцев заканчивал смену. И надо же: чуть ли не на последней минуте отказал универсальный станок ИК-62. Иван, любя, называл его «Костей». Был большой шут… Мастер участка Петр Федорович Касаткин ругал Ивана на чем свет стоит, и поди докажи ему, что «Костя» всю неделю работал на той эмульсии. Правда, кое-какой недогляд был и за Иваном, поэтому на эмульсию он напирал не слишком настырно: старика Касаткина не проведешь. Так день славно начинался — и на тебе, получил Иван плюху… И еще увесистее получит ее в понедельник, когда выйдет из отгула мастер смены Михаил Бурлин. Веселый тогда будет денечек у Ивана.
Но, спрашивается, чего ради казнить себя неприятностями будущими? Унылым самоедством Иван Бурцев никогда не занимался. Иван был молод, силен, добродушен и незлобив, его могучая натура была настроена на радость, понимала и чувствовала только ее, а всякие там душевные штучки-дрючки сгорали в нем мгновенно и дотла. Сойдя с автобуса на своей остановке, Бурцев и думать забыл о сломанном станке.
Упругим шагом он спешил домой — к жене, двум дочкам-погодкам и старому отцу. Обычно дочки выбегали ему навстречу, но нынче что-то, наверное, случилось: у калитки ждал отец. Иван, подходя, вгляделся, спросил шутливо:
— Батя, ты не на сковородку ли сел ненароком?
— А и тебя счас посажу, — пообещал отец и, взяв Ивана за руку, повел в дальний угол подворья. Там, в простенке меж гаражом и забором, стояло обшарпанное цинковое ведерко. Иван заглянул в него… Долго глядел… Видел обрывок цветастого халата и понимал, что это — обрывок цветастого халата, а все остальное, что комком лежало в ведре, — этого он понять и принять никак не мог.
Отец сзади потянул его за ворот рубашки. Иван разогнулся, спросил шепотом:
— Эт-то что?
Не отвечая, отец опять взял его за руку и повел в дом. Лида, бледная, сидела на кухне. Здесь отец и рассказал, что в метрах пятистах от их дома, в ерике, нашли мешок, а в нем труп женщины. Сейчас на том месте милиция, прокуратура, собаку привозили, она туда-сюда потыкалась и села… Иван слушал в оцепенении, ничего не понимая. Какая-то собака, какое-то ведро, а в нем… Зачем? Почему? Откуда?
— Ты мужик аль кто?! — прикрикнул отец.
И вовремя прикрикнул. Что это в самом деле? Раскис как сопливый мальчишка… Иван помотал головой, стряхивая оцепенение, спросил строго:
— Батя! Ты убивал?
— И-и, дурень… Язык-то как у тебя повернулся?
— Лида!
Лида залилась негодующими слезами. Тогда Иван ткнул себя в грудь и заявил ответственно:
— И я не убивал. Значит, что? Сажусь в машину, дую на ерик и если милиция еще там, приглашаю в машину, берем собаку, возвращаемся. Там, ясное дело, тьма народу до милиции побывала, следы затоптаны, а от нас, глядишь, собака след и возьмет. Резонно?
В ответ на такие резонные слова Лида еще пуще залилась слезами. Все мог терпеть Иван, перед всем устоять, но перед этим… Разрывалось у него сердце от женских слез. И он с жалостью подумал, что батя терпит их с той минуты, как обнаружил подкинутое ведро.
— Так-то оно так, Ваня, — промямлил отец. — По-человечески оно так… А вот кто в собачье-то разумение влезет? От нас собака след возьмет, али нас же с Лидухой начнет цапать? Отбрешись потом от нее…
— А люди что скажут? — всхлипнула Лида. — Начнут тыкать пальцами — убийцы, мол, дыма без огня, мол, не бывает. А детям нашим будет каково? А третьему нашему? Я вся изведусь, и не будет у нас третьего…
С сильнейшего козыря пошла Лида. Но Иван еще не сдался.
— Да вы что? — воскликнул он в искреннем недоумении. — Да вы сами-то кто? Нелюди? Ведь человек убит! А если мы сейчас сдадим ведро, то убийцу, может, сразу и найдут. Да и знать желательно, кто же это нам такой подарочек спроворил? Я этого хмыря и до милиции-то не допущу!
— А если не найдут? — теперь уже напористо, без слез, спросила Лида. — Совсем-совсем не найдут? По судам нас тогда затаскают, Ваня.
— Ты ее слушайся, Ванек, — наставительно заметил уже, видать, сломленный отец. — Жена-то зря не присоветует. Ты сызмала головкой был не дюже силен, а она стихи пишет, понимает больше.
Не убедили его. Но победили… Зарыл Иван ведро там же, где оно стояло. Потом банька была, потом бутылка «Столичной» появилась на столе. А потом Иван лежал в горнице, жену дожидался, а она стихи писала. Все было как прежде.
«Пишет, — вдруг подумал он о жене отстраненно, как о чужой. — Мы человека второй раз убили, а она стихи пишет, стерва!»
Отвернулся к стене, уперся взглядом в настенный ковер и лежал так, наверное, с минуту. И тут с ним что-то случилось. Не понимая, что это с ним и зачем он это делает, чувствуя лишь ледяную тоску в сердце и желая освободиться от нее, Иван медленно, боком, приподнял на одной руке свое большое сильное тело, а другой схватил верхнюю кромку ковра, услышал испуганный вскрик жены и, падая, яростно рванул на себя. А это уже было не как прежде.
2
Марию Андрееву доставил на место происшествия участковый уполномоченный старший лейтенант Огарев.
Увидев то, что ей показали, Мария тихо сказала:
— Тетечка-а-а… Аришечка-а-а… Родненькая-а-а…
И заплакала молча, уткнув серое лицо в плечо Огареву. У него, старого служаки, так часто видевшего человеческую скорбь, боль и неустройство, что пора бы уж и привыкнуть, тоже защемило в груди, когда он заставил себя профессионально видеть… Кому же помешала Машина хозяйка, что ее не только убили, но раскромсали на части и жгли? Давненько Огарев не сталкивался с подобным зверством, даже в лютые на шпану послевоенные годы не помнит такого, а ведь он отработал здесь, в Трусовском[18] райотделе, почти четверть века.
Поддерживая, Огарев подвел Машу к милицейской машине, помог сесть. Здесь ей совсем стало плохо, и над ней захлопотала немолодая докторша из судебно-медицинской экспертизы. Она посоветовала отвезти свидетельницу домой, и Огарев уже хотел это сделать, но подошел капитан Емельянов, шепнул: «Ты что, старик, раскомандовался? Полковник Максимов тебя ждет. Быстро к нему!» — и сел в машину. Следователь областной прокуратуры Зародов, проводивший осмотр места происшествия, поручил Емельянову допросить Марию дома, как только ей станет легче.
И тут-то Огарев увидел, что кроме следователя, доктора, эксперта-криминалиста и двух сотрудников Трусовского райотдела в осмотре места происшествия принимают участие заместитель начальника областного управления милиции полковник Максимов и начальник областного уголовного розыска полковник Бежанов. В том, что такое большое начальство приехало сюда, удивительного не было: преступление тяжелое. А как же это, подумал сокрушенно Огарев, ты, старый пень, оплошку дал, не догадался сразу же доложить, с чем приехал и кого привез, — вот что и удивительно и непростительно. Видно, Машино горе совсем сбило его с толку. Со вчерашнего дня он был в отпуске, волюшки штатской хлебнул, нынче вечером на рыбалку уже собрался — смазывал и регулировал подвесной лодочный мотор, когда пришла Маша Андреева. Он уже знал, что обнаружили в заречной части Трусовского поселка, в мелководном ерике. И заторопился, и не послушался жены, которая советовала надеть форму, посадил Машу на мотоцикл и повез ее, в чем был, — в кургузом пиджачке, в старых, запятнанных машинным маслом штанах. Давно известно, к чему приводит торопливость… Эх! Иди теперь, старый пень, в этом наряде под строгие очи полковника Максимова, докладывай. Уж он выдаст тебе по первое число! И прав будет, потому как крепко стро́жит милицейская форма нашего брата, рассупониться ему ни духом, ни телом не дает…
А что делать? Одернул пиджачок, пошел.
Максимов видел смущение участкового, которого знал, как почти всех старослужащих, в лицо и по имени, и, чтобы сбить его смущение, сказал просто:
— Докладывай, Николай Леонтьевич. Важнейшего свидетеля ты нашел.
«Это уж так, — приободрясь, подумал Огарев. — Знать, кто убит, — много знать. А я вроде бы и чуть побольше сведений привез».
Но полковнику он честно сказал, что никакой его заслуги в том, что убитая наконец опознана, нет. Просто Маша Андреева в дальнем свойстве с его супругой, и когда забеспокоилась ночным отсутствием хозяйки, сама пришла к ним. К кому же ей еще идти? Всюду искала. А он…
— Покороче, Николай Леонтьевич, — мягко прервал Максимов. — Не первый день служишь, должен понять, время дорого. Выкладывай самое основное.
— Убита Ирина Николаевна Рудаева, — вмиг выправился Огарев, — вахтер автоколонны, возраст — пятьдесят шесть лет. Вчера вечером, в двадцать ноль-ноль, вышла из дому и не вернулась. Мария Андреева запомнила, что в момент ухода хозяйки по радио передавали сигналы точного времени. Она также говорит, что хозяйка приглашала ее пойти к Дроботовым и посмотреть фильм по цветному телевизору. Название фильма — «Рассказ нищего», начало — в двадцать сорок. Сам смотрел вчера со своей старухой…
— Кто такие Дроботовы? — задал вопрос полковник.
— Виктор Дроботов — начальник автоколонны, где работала Рудаева, — ответил Огарев. — Молод, тридцать лет. По словам Марии Андреевой, Рудаева дружила с его матерью и частенько бывала у них. Кроме того, у Рудаевой есть дочь Людмила, двадцати пяти лет. Замужняя. Работает в доме быта, швея. Муж ее, Петр Инжеватов, — плотник бондарного завода.
— Все эти люди живут на твоем участке, старший лейтенант?
— Только Дроботовы. Но адреса остальных я взял у Маши перед тем, как повезти ее сюда. Разыскивая хозяйку, она у всех побывала, а потом уж пришла к нам.
Огарев вынул из записной книжки заранее приготовленный листок, подал Максимову, сказав:
— Сердце чувствовало, что везу Машу к беде и что нам эти адреса понадобятся, товарищ полковник.
Максимов полковником был молодым, звание это присвоили ему вне очереди, но зато оперативником был старым. И потому к фразе участкового: «Сердце чувствовало…» — он отнесся без тени усмешки. Когда, как Огарев, прослужишь почти четверть века в милиции, сердце поневоле научится остро чувствовать горячие точки, где зреет человеческая беда.
— Благодарю, Николай Леонтьевич, — сказал Максимов. — Сейчас по этим адресам поедут наши люди. А ты поезжай к Дроботовым, раз уж они живут на твоем участке. Пригласи Виктора Дроботова на допрос. — Максимов помолчал и уточнил: — Пригласи! Он пока для нас свидетель… Возможно, им и останется… А возможно, на допрос придется тебе везти Дроботова без всякого желания с его стороны. Одним словом, действуй по обстановке.
— Это уж да, — вздохнул Огарев.
— А вздыхаешь по какой причине? — спросил Максимов.
— С мальчонков знаю его, товарищ полковник, — ответил Огарев. — На моих глазах рос… Больше скажу, с отцом его на фронт в один день отсюда уходили. Отцу так и не пришлось узнать, кто родился — сын или дочка… Тут-то и повздыхаешь, Евгений Александрович, ежели это Витькиных рук дело.
— Вот даже как… — задумчиво проговорил Максимов. — Ну что ж, Николай Леонтьевич, не мне тогда тебя учить… Постарайся использовать свои контакты с этой семьей, прежде чем приглашать Виктора на допрос.
— Знамо дело… — совсем по-штатски ответил Огарев, но тут же снова одернул свой кургузый пиджачок, сказал: — Задание ясно, товарищ полковник. Разрешите выполнять?
— Выполняй. Имей в виду, что Рудаева была убита в ночь с пятницы на субботу в промежутке между десятью и одиннадцатью часами вечера… Из отпуска, — Максимов скользнул взглядом по затрапезной одежонке участкового, — будешь отозван. К Дроботовым, думаю, тебе лучше поехать прямо так, в чем есть. Через час мы закончим осмотр, к тому времени Виктор Дроботов уже должен быть в райотделе, следователь займется им.
Но следователю не пришлось заняться им. Огарев вернулся от Дроботовых сильно расстроенный. Даже с лица потемнел. Доложил, что узнал. И по докладу выходило, что здесь надо срочно делать обыск.
Сделали в тот же вечер. Нашли полусожженную Аришину безрукавку, остатки черевичек, обрывок цветастого халата.
Глава семьи при обыске не присутствовал. Вчера в полночь, когда, по предварительным данным судмедэксперта, Рудаева уже была мертва, Виктор Дроботов выехал из дома на грузовой машине. Что он повез на ней и куда? Почему до сих пор не вернулся? На эти вопросы ни мать, ни жена не могли ответить. Скорее всего, не хотели. Их допрашивали по отдельности, но обе согласно утверждали, что Ариша была у них в пятницу дважды: первый раз — днем, второй — вечером. Второй раз пришла перед началом фильма, посмотрела его и незадолго до окончания программы «Время» ушла. Виктор проводил ее до калитки, вернулся тотчас же. И все легли спать.
Но если так, то почему же на подворье оказалось то, что обнаружено обыском? И почему, уже улегшись спать, глава семьи вдруг поднялся и уехал? Откуда взялась грузовая машина?
В ответ были слезы. Полуобморочный страх. Глухое молчание.
Женщин отпустили, взяв подписку о невыезде. Надо было искать Виктора Дроботова…
3
Ко всем этим вечерним событиям младший лейтенант Александр Токалов отношения не имел и не знал о них, поскольку на месте происшествия получил задание — съездить к супругам Инжеватовым, дочери и зятю погибшей, сообщить им о случившемся, получить хотя бы самые общие сведения о Рудаевой и ее связях, обязательно поинтересоваться у Людмилы Инжеватовой, не была ли в последнее время чем-либо встревожена мать, не боялась ли кого и не угрожал ли ей кто… Задание с профессиональной точки зрения было простенькое, потому что Токалова посылали не к кому-нибудь, а к родной дочери погибшей, и надеялись найти у нее поддержку и понимание. Но по-человечески рассуждая… По-человечески-то рассуждая, тяжкое задание выпало на долю младшего лейтенанта. Вот он сообщит Людмиле… Как сообщит? И как это вообще делается? Наверное, надо сначала подготовить ее… А главное — как после э т о г о задавать ей вопросы?Никто не посоветовал, никто не подсказал, даже капитан Мухрыгин, шеф-наставник младшего лейтенанта, промолчал, будто Токалов всю жизнь занимался выполнением подобных поручений. А ему как-то не случалось… Он лишь третий месяц служит в уголовном розыске Трусовского райотдела после окончания милицейской школы.
Одно хорошо: Огарев, направляясь к Дроботовым и сделав крюк, подвез младшего лейтенанта почти до места. Квартала за два он остановил мотоцикл, объяснил, как выйти на улицу, где жили Инжеватовы: хотя и не его был участок, но старик все здесь знал. И тогда Токалов решился.
— Дядь Коля, — сказал он, — посоветуй…
Огарев понял его мгновенно, но затем долго, с недоумением, даже с жалостью, глядел на младшего лейтенанта.
— Ты что же, Саня… — наконец произнес он. — Я скажу, а ты заучишь? На всю остатнюю жизню? До самых до генеральских погон? Так, что ли, Саня?
Лучше бы Огарев его ударил! Александр поднял к нему ошеломленное лицо, и участковый с прежней жалостью подумал: «Милые вы мои, да в каких же теплицах вас растят? И ведь парень-то золотой, вон как сразу с лица обрезался, а и ему поводырь на все случаи жизни надобен. А что ж? Привыкли… Холим, бережем, от каждого сквознячка укрываем».
— Этому никто тебя не научит, Саня, — сказал Огарев. — Ни папа, ни мама, ни чужой добрый дядя. Тут надо в сердце свое глядеть. И глядеть придется не раз, коли ты теперь в уголовном розыске. И всякий раз это будет по-иному, Саня.
Александр, сглотнув сухой комок, покорно кивнул.
— И не о том ты у меня спрашиваешь, — продолжал Огарев. — А спросил бы ты лучше о том, что́ я знаю об этих самых Инжеватовых. Давеча Маша Андреева была у меня, кое о чем рассказала. Вскользь, мельком, но, может быть, тебе и пригодится.
Огарев сообщил ему отрывочные, разрозненные сведения о семье Инжеватовых, Александр мысленно отметил одно, заслуживающее внимание, сказал:
— Спасибо, дядь Коля.
Огарев сел на мотоцикл и покатил к Дроботовым. А младший лейтенант потопал к Инжеватовым…
Людмилу Инжеватову подготавливать ему не пришлось. И вообще ничего такого в этом доме не случилось, если не считать, что все перевернулось в голове младшего лейтенанта… Людмила была одна. Токалов вошел, представился, попросил разрешения сесть, и только было… А она ему и слова не дала вымолвить.
— Я все знаю, младший лейтенант, — сказала спокойно.
Токалов вгляделся и не поверил себе: дочь тетки Ариши отнюдь не была убита горем. А он-то каков? Дурацкие вопросы задавал Огареву, страдал над тем, как придет, как подготовит Людмилу, как скажет… И кончилось все чем? Сидит перед ним Людмила, и на лице ее странная, полуобнаженная улыбка, которую можно понять всяко. Токалов вновь вгляделся… Нехорошо, жутковато ему стало… Вот дрянь!
— Вы не пьяны, Людмила Николаевна?
«А может, мне кажется? — усомнился он. — Может, она в шоке? Это, наверно, я не в себе после выволочки, которую мне устроил Огарев. Пожалуй, так и есть».
Младший лейтенант очень хотел бы сейчас так думать. Проще бы ему тогда было, понятнее… Но Людмила Инжеватова тут же и разрушила его позицию.
— Нет, — ответила она, не переставая улыбаться. — В полдень ходили мы с мужем на базар, по дороге выпили по две кружки пива, только и всего.
Токалов после разговора с Огаревым знал, что нынче в полдень пришла к ней обеспокоенная квартирантка матери — Мария Андреева. Сказала, что Ариша не ночевала дома, а ночевать собиралась: даже постель заранее разобрала, чтобы не тратить на это время, когда вернется. Да и не было такого — чтоб не ночевала… «Мне-то что?» — ответила дочь Маше, своей подружке, и пошла пить пиво. Ну хорошо, думал Токалов, тогда могла и не придать значения Машиной тревоге, а теперь-то, теперь? И он спросил:
— Вы когда услышали, что убита мать?
На что ему было кратко отвечено:
— С час назад.
Токалов взглянул на свои электронные, прикинул, когда Огарев привез Машу на место происшествия, сопоставил — получалось, что Людмила действительно могла услышать о смерти матери с час назад. Телеграф заречной части поселка работал вовсю… Александр записал фамилию женщины, сообщившей ей об этом, чтобы потом проверить, когда она пришла к Людмиле и называла ли в разговоре конкретно тетку Аришу… Это все он делал чисто автоматически, а думал о другом. О том думал, что вот дочь узнала о гибели матери и не кинулась туда, к ерику. Мало ли что и как скажут? А вдруг ошибка? Сидит. Улыбается… Непостижимо!
— Простите, — не выдержал он. — А ваша ли мать убита?
— Моя, — Людмила Инжеватова, сидевшая за столом напротив, положила подбородок на сплетенные пальцы. — Это мою мать так страшно убили. — Она говорила совершенно спокойно. — Вы ожидали, что я стану кататься по полу, рвать на себе волосы, раздирать лицо? Этого не будет. Моя мать прожила на свете пятьдесят шесть лет. И прожила не лучшим образом. А я в двадцать пять уже не живу, я убита, меня нет.
При желании Токалов по следам, впечатанным в милое, но рано постаревшее лицо этой молодой женщины мог бы многое прочесть. Муж Людмилы, Петр Инжеватов, был почти в два раза старше ее и каждодневно пил… Когда Огарев сообщил об этом, младший лейтенант мысленно пожалел Людмилу, но сейчас не мог выжать из себя и капли сочувствия: его поразила эгоистичность этой женщины.
— Я убита, — повторила Инжеватова, — а кто убил меня? Мать. В семнадцать лет она выдала меня, несмышленую, замуж за Петра.
— Людмила Николаевна, — возразил младший лейтенант, — я хоть на четыре года и младше вас, но все-таки мы принадлежим к одному поколению… Попробовали бы меня родители женить насильно! В наше-то время!
— В наше время быть такого не должно, это вы заучили. А не должно, стало быть, и нет. А она меня выдала! А до этого она…
Не договорив, Людмила Инжеватова разрыдалась.
Токалов почувствовал себя явно не в своей тарелке. Понимал, что подобных вещей Инжеватова завтра уже не скажет никому, а они, возможно, будут важны для следствия и розыска. Возможно! Но необязательно… И обыкновенная человеческая деликатность погнала его отсюда, заставила отодвинуть стул, чтобы подняться и уйти. Ни ему и никому уж не распутать узелочек между дочерью и матерью, никто теперь не сможет дознаться, где здесь ложь и где здесь правда. Отодвинул Токалов стул, чтобы подняться и уйти… и, придвинув, сел снова. Деликатность — это хорошо, холодно подумал он, но тогда придется забыть, что убит человек. И если для розыска убийцы будет необходимо выяснить, где же ложь и где правда в отношениях дочери и матери, то ты, карась-идеалист несчастный, это и будешь выяснять. Деликатно, но досконально!
Отчитав себя так, Токалов обрел уверенность. Успокоившуюся Людмилу стал расспрашивать, чем занималась она в пятницу, в какое время вернулся ее муж и почему он, работая во вторую смену, ушел с территории завода (сведения Огарева опять пригодились младшему лейтенанту) примерно в то же время, как и Рудаева из дома. Инжеватова была неглупа, она понимала, что на мужа и на нее («Особенно после того, что я вам выболтала») падает подозрение, но это нисколько ее не тревожило, и Токалову даже показалось, что смерть матери принесла ей какое-то облегчение, возможно еще не осознанное ею самой. И лишь в одном месте разговора она встревожилась. Токалов спросил:
— А что вы, Людмила Николаевна, имели в виду, когда сказали, что мать «прожила не лучшим образом»?
— Только то, что сказала, — ответила она.
На ее лице по-прежнему была улыбка, которую Токалов, пожалуй бы, и понял, если бы не был одет в форму и не допрос вел, а просто пришел к этой даме нынешним вечерком на чаек. Да и то — при условии, что мать этой дамы жива-здорова, а не убита вчера ночью. Токалов верил и не верил себе — чертовщина какая-то…
— Вы эту улыбочку снимите, — строго сказал он.
Лицо ее полыхнуло жаром и окаменело. Она сказала:
— Моя мать по возрасту уже должна быть на пенсии. Но до пенсионного трудового стажа ей не хватало десять лет. Это ведь тоже, наверное, прожить не лучшим образом?
Вроде бы с Людмилой Инжеватовой после этих слов ничего и не произошло, а в то же время — произошло… Будто неожиданно пришла к ней какая-то мысль, принесла в себе смутную догадку, и догадка ошеломила ее. Сникла Людмила Инжеватова, обрыхлела мгновенно.
— А вы говорите, — произнесла она растерянно, — а вы говорите!
— Что это с вами? — забеспокоился Токалов. — Я, позвольте заметить, ничего не говорю.
— Сердце, — сдавленным голосом сказала она. — Сердце ударило… Отпустите меня, не мучайте!
Токалов поднялся.
«Сердце… — думал он, возвращаясь в отдел. — Сердце у тебя каменное, гражданка Инжеватова».
В кабинетике, похожем на пенал, Токалов долго сидел, думал, вздыхал… Настроение у него, прямо скажем, было отвратительное. И вроде бы ясно почему, а в то же время — ни черта не ясно, полный ералаш в голове. Если кто и испытывал к погибшей неприязненные чувства, накаленные почти до ненависти, если кто и был ее врагом, так это, выходит, родная дочь. Непостижимо… Даже после смерти матери — и какой смерти! — Людмила не может простить ей своих обид. А эта ее улыбка, ее откровенное желание бросить на мать хоть малую тень, ее мгновенная догадка, от которой она схватилась за сердце… О чем, спрашивается, догадалась и почему не пожелала сказать? И желает ли она, чтобы убийца был найден? Вот что странно, вот что подозрительно.
Однако все это надо теперь донести по начальству рапортом…
Он положил перед собой чистый лист, взял шариковую ручку и… опять застыл надолго. Оказывается, одно дело, когда ты сомневаешься и подозреваешь, совсем другое — когда пишешь об этом. Строка требует доказательности. А ее-то и не было у младшего лейтенанта Александра Токалова.
4
Месяца полтора до описываемых событий прежний начальник Трусовского райотдела милиции ушел на пенсию, а заменил его временно майор Громов. Все служебные бумаги Громов, человек честолюбивый, вынужден был пока подписывать с огорчительной для него приставкой «врио», но в райотделе уже поговаривали, что окончательное утверждение его в должности начальника и звание подполковника — не за горами. Александру Токалову по многим причинам не хотелось бы верить этому, но, увы, с ним пока еще не консультируются о должностных перемещениях… А потому, постучав и войдя в кабинет, младший лейтенант обратился к Громову по всей форме, как и полагается обращаться подчиненному к своему начальнику.
Оказывается, за время его отсутствия в райотделе появились важные новости.
— Младший лейтенант, — сказал Громов, — два часа тому назад приказом начальника областного управления создана оперативная группа по раскрытию убийства Рудаевой. В нее из нашего райотдела входят: я, капитан Емельянов, капитан Мухрыгин и ты. Из областного отдела уголовного розыска к нам прикомандирован старший лейтенант Сергунцов.
Сергунцов сидел тут же в кабинете. Рядом с ним — Мухрыгин, он что-то усердно писал. Не было только капитана Емельянова, который повез Машу Андрееву домой и, наверное, еще не вернулся в отдел.
— Давай сюда свою бумагу, Саша, — сказал Сергунцов.
По лицу майора Громова прошла легкая тень неудовольствия. Ему не понравился простецкий тон, взятый Сергунцовым. Вечно у них так, у сыщиков, никакого тебе чинопочитания… А еще сильнее Громов был задет тем, что координировать повседневную работу оперативной группы полковник Максимов назначил Сергунцова. А ведь координировать ее мог бы с успехом и он, Громов. Но — не доверили… Можно, конечно, утешить себя тем, что у начальника райотдела, пускай и временного, забот хватает и помимо раскрытия убийства Рудаевой, но… Невысокого же мнения руководство о его, Громова, способностях к практическому сыску! Правда, служба складывалась так, что с оперативно-розыскной работой ему вплотную сталкиваться не приходилось, но ведь он же хорошо знает людей отдела, может организовать их, потребовать исполнения… «А никто, собственно говоря, и не лишает меня такой возможности, даже обязанности, — неожиданно подумалось ему, — наоборот, именно сейчас я и смогу проявить себя как руководитель отдела, и когда еще проявлять себя, как не при раскрытии тяжкого преступления?» И только подумалось ему так, тут же ожгла опасливая мысль: «А если не раскроем?» И от этой мысли он поежился…
Возможно, Сергунцов почувствовал болевые точки майора, а возможно, у него это получилось случайно, но, обращаясь к Александру Токалову, сказал:
— Чтобы тебе, Саша, дислокация наших сил стала окончательно ясной, добавлю, что начальник областного управления милиции назначил руководить опергруппой своего заместителя полковника Максимова. Мой шеф, начальник областного уголовного розыска полковник Бежанов, тоже входит в оперативную группу. Цени доверие, юноша: с большими людьми будешь работать бок о бок.
«И мне неплохо, — подумал Громов, — с больших людей — больше спросу. А за их широкими спинами мы уж как-нибудь…»
Сергунцов завершил свою краткую речь словами:
— Теперь присядь, младший лейтенант, и замри. А мы почитаем твой рапорт.
Читали молча и поочередно. Токалов по лицам читающих хотел определить их отношение к написанному. Это ему не удалось, и он приуныл.
— Ну что же, — сказал Сергунцов, когда чтение было закончено всеми, — ты, оказывается, большой психолог. Но больно уж краток, прямо Чехов. Расскажи-ка с подробностями.
Токалов рассказал. А заканчивая, почувствовал: не смог он передать ни состояния Людмилы Инжеватовой, ни своего. Прямолинейно у него вышло, грубо. Получалось, что Людмила Инжеватова строила ему глазки, только и всего.
Однако к его сбивчивым впечатлениям все отнеслись серьезно. Молчали некоторое время, обдумывали, Затем шеф-наставник Токалова капитан Мухрыгин взял рапорт, сказал:
— Вот ты пишешь: «Психологическое состояние Людмилы Инжеватовой не соответствует тяжести потери». А ведь это можно истолковать и по-другому. Бывает и так: у человека горе — он смеется. Что совсем не значит, будто он смеется от души. Не срезался ли ты, младший лейтенант, на такой маленькой психологической тонкости?
— Я и сам бы хотел так думать, товарищ капитан, — ответил Токалов. — Да Людмила мне не позволила… Из-за этого-то я никак и не могу ее понять.
Когда шеф-наставник и его подчиненный оставались в своем кабинетике-пенале наедине, то они, конечно, разговаривали друг с другом не так официально. Но сейчас рядом был майор Громов, их непосредственный начальник. Это Сергунцову, начальство которого было далеко, вольно отступать от служебных строгостей в обращении друг с другом, но не им. Наедине с Мухрыгиным младший лейтенант изложил бы свое мнение несколько пространнее, а сейчас только и сказал:
— Товарищ капитан, я уверен: психологическое состояние Людмилы Инжеватовой не соответствовало тяжести потери не из-за шока, как вы предположили, а совсем по другой причине. Но причины этой я не знаю.
— Значит, надо знать, — сказал Сергунцов. — И знать мы станем больше, если завтра с утра ты займешься алиби супругов Инжеватовых. Мимо психологии проходить тоже не след, но алиби — это уже факт, который можно подшить к делу. Особенно меня интересует Петр Инжеватов, — продолжал Сергунцов. — Подробности о нем тебе, Саша, сообщит Мухрыгин.
— Подожди меня в кабинете, младший лейтенант, — сказал шеф-наставник. — Я подойду.
— И последнее, — закончил Сергунцов. — Завтра, в девять вечера, соберемся и подобьем первые итоги. Совещание будет вести Максимов. Упаси тебя бог опоздать, прийти в несвежей сорочке и невыбритым. Полковник этого не терпит. Никакие ссылки на то, что ты весь день бегал за алиби, не пройдут.
— Ясно, — Токалов поднялся и, повернувшись к Громову, оказал: — Разрешите идти, товарищ майор?
— Иди, и чтоб завтра — никаких психологий, а то Сергунцову нечего будет к делу подшивать…
Глава третья
1
Муж Людмилы, Петр Инжеватов, оказался человеком весьма коммуникабельным. В пятницу вечером он вышел из заводской проходной в тот же час, когда покинула дом тетка Ариша. Предстояло выяснить, не скрестились ли где в тот вечер их пути… Младший лейтенант выяснял это в воскресенье, а в воскресенье люди дома не сидят. Машину Громов младшему лейтенанту не дал, сказав, что сыщика, да еще такого молодого, кормят ноги и общественный транспорт. И пришлось Токалову много бегать, ездить, много писать, и лишь в девятом часу воскресного вечера он сунул в папку девятый по счету и последний протокол свидетельских показаний, удостоверявших полную непричастность супругов Инжеватовых к тому, в чем он еще вчера их подозревал. Теперь перехватить бы чего-нибудь в столовке, выпить кружку холодного пива, приободриться — и посмотреть, обмозговать… Стоп, осадил себя младший лейтенант, какое еще пиво? В девять начнется оперативное совещание, которое будет вести полковник Максимов. Не дай бог опоздать!
И чуть не опоздал! Вошел в кабинет в ту минуту, когда все уже расселись, но еще тихо переговаривались, приготовляли ручки и блокноты для заметок, устраивались поудобнее. Александр незаметно, как он думал, прошмыгнул в уголок, но все сразу же обратили на него внимание. Полковник Максимов, оторвавшись от бумаг, с явным удовольствием оглядел стройного, выглаженного младшего лейтенанта, сказал одобрительно:
— Так и впредь держи марку, Токалов. Распустехами мы преступника не поймаем…
Помолчал, вглядываясь в каждого. Затем продолжал:
— Начнем, товарищи, работать. По делу об убийстве Рудаевой выдвинуто несколько версий. Они основываются на данных, полученных при осмотре места происшествия и оперативным путем. Сейчас все эти данные мы проанализируем, чтобы исполнители каждой версии знали и обстоятельства дела, и общее направление розыска. Начнем с анализа вещественных доказательств. К сожалению, старший следователь областной прокуратуры Кирилл Иванович Зародов почувствовал себя плохо и не смог остаться на нашем совещании. Из оперативной группы в осмотре места происшествия, кроме меня, принимал непосредственное участие следователь райотдела капитан Емельянов. Он и введет вас в курс дела. Докладывайте, капитан.
Поднялся капитан Емельянов и начал докладывать. Кое-что из его доклада Александру Токалову уже было известно. В частности, дождавшись вчера вечером своего наставника Мухрыгина, он узнал от него, что в мешке с трупом обнаружен бумажный комок из незаполненных шоферских путевок и бухгалтерских платежных поручений. Но в том комке был и обрывок газеты. Следователь прокуратуры Зародов сумел быстро установить его принадлежность номеру «Пионерской правды» за 20 августа. Этот номер оказался под рукой убийцы в ночь на 22 сентября. Нынче утром младший лейтенант поинтересовался у Инжеватовых, какие газеты они выписывают? Оказалось, «Пионерку» выписывали. Не скрывая удивления, Людмила порылась в кипе старых газет, нашла требуемый номер, подала Токалову. Целехонький. Чистые бланки шоферских путевок и платежных поручений им совсем без надобности, поскольку она — швея, он — плотник. Эти и другие вещдоки по делу, о которых сейчас докладывал капитан Емельянов, не имели никакого отношения к супругам Инжеватовым, тем самым лишний раз подтверждая свидетельские показания об их алиби. «Так что же я вцепился в супругов? — уныло думал младший лейтенант. — Что меня тревожит? И почему? Сам же выяснил, что нет никаких объективных данных для моей тревоги и подозрений».
Сомнения Токалова стали еще сильнее, когда участники совещания перешли к обсуждению версии о причастности к преступлению начальника автоколонны Виктора Дроботова. Многое говорило против этого человека; версия была, пожалуй, наиболее вероятной из всех. Младший лейтенант с жадным вниманием слушал, кто и как будет отрабатывать ее и что необходимо предпринять для выяснения некоторых противоречий, а они были. Обсуждение завершил полковник Максимов, сказав:
— По отношению к Дроботову здесь проскальзывало словечко «скрылся». Что значит скрылся? Это не отпетый уголовник, которому после преступления ничего не стоит скрыться и тем самым косвенно подтвердить свою вину. У Виктора Дроботова здесь корни, семья, работа. И, думаю, не настолько он глуп, чтобы бросить все и податься в бега… Майор Громов!
— Слушаю, товарищ полковник.
— Не следует, майор, создавать мнимые трудности словечком «скрылся». В этом уголовном деле нам действительных трудностей хватит. Позаботьтесь, чтобы ваши люди нашли и доставили Виктора Дроботова в райотдел завтра же.
— Будет исполнено, товарищ полковник.
Затем обсудили еще две версии… Наконец очередь дошла и до Александра Токалова.
— Доложи, младший лейтенант, — сказал Максимов, — что ты нам принес под свой психологический рапорт.
Александр поднялся и доложил, что принес полное алиби супругов Инжеватовых. В частности, Петр Инжеватов вышел из проходной завода…
— Частности — в рабочем порядке старшему лейтенанту Сергунцову, — сказал полковник. — А нам сейчас важен факт: алиби установлено… Но, может быть, у тебя, младший лейтенант, остаются какие-то сомнения?
— В алиби сомнений нет, — ответил Токалов. — И вещдоками по делу мои первоначальные предположения не подтверждаются. И все-таки я прошу разрешения продолжить работу с Людмилой Инжеватовой. Товарищ полковник, я сильно сомневаюсь в ней. Человек с чистой совестью не может вести себя так, как вела она себя в беседе со мной.
— Мнение присутствующих?
— Не вижу оснований для такой просьбы, товарищ полковник, — сказал Громов. — Алиби установлено, вещдоки молчат, а уголовное дело мы возбудили отнюдь не по поводу нечистой совести Людмилы Инжеватовой. Мы начнем выяснять оттенки ее совести, затратим время, а в результате может случиться так — и в моей практике подобное случалось! — что выявим какой-нибудь психологический выверт очень несчастной в семейной жизни женщины, и ничего более. Повторяю: Людмила Инжеватова и ее муж имеют твердое алиби, что позволяет нам забыть о них и обратить внимание на оставшиеся версии. Они все-таки покоятся на фактах, а чистая или нечистая совесть — это, младший лейтенант, уже сфера морали…
— Не согласен с вами, товарищ майор, — поднялся старший лейтенант Сергунцов, — и поддерживаю просьбу Токалова. Я решил перепроверить его впечатления и встретился сегодня с Людмилой Инжеватовой… Не буду касаться высказываний этой дамы, в достаточной степени рисующих ее отношение к родной матери. Меня больше настораживает тревога, которую испытывает она. Токалов очень точно уловил, что тревога Людмилы вытекает из какой-то догадки. Но какой? И почему она не хочет поделиться ею? Что-то Инжеватовой явно мешает, возможно какая-то косвенная причастность к факту преступления. А раз мы вынуждены говорить «что-то», «какая-то», «возможно», — значит, есть неясности, и нам надо продолжать работу.
— Кто еще желает высказаться?
Желающих больше не было. Полковник Максимов чуть заметно усмехнулся.
— Тридцать часов, — сказал он, — прошло с момента, как был обнаружен труп Рудаевой. За это время мы сделали довольно много, но преступник пока еще не задержан нами. И пока он не задержан, никто не освободит нас от всестороннего изучения личности и всех связей погибшей. Между тем никто и не знает ее лучше родной дочери и Марии Андреевой, жившей со своей хозяйкой бок о бок почти полтора года. Из материалов дела видно, что обе эти молодые женщины поддерживают между собой дружеские отношения. Но вот какая странность… Мария Андреева, уважая хозяйку, отзываясь о ней очень тепло, многое недоговаривает из сострадания к памяти покойной. А родная дочь, наоборот, переговаривает! Позиции подружек, как видим, различны, и это надо будет тебе использовать, младший лейтенант.
— Слушаюсь, товарищ полковник, — отозвался Токалов, веселея.
— Рапорт твой весьма психологичен, — продолжал Максимов, — потому и работу тебе поручаю тонкую… Конечно, если завтра любая другая из принятых сейчас версий даст нам прямой выход на преступника, то необходимость в твоей работе отпадет. А пока нам без нее не обойтись. Капитан Мухрыгин!
— Слушаю, товарищ полковник.
— Помогите Токалову составить подробный план и покажите его мне. О прошлом и настоящем Рудаевой мы должны знать все, ибо в ее прошлом и настоящем, в близких и дальних связях, возможно, и зрела эта насильственная смерть. Видите, я опять употребил слово «возможно», что лишний раз подчеркивает правоту Сергунцова…
Максимов закрыл совещание и, оставшись наедине с майором Громовым, сказал:
— Василий Михайлович, в этом кабинете кроме Сергунцова и… меня, — здесь полковник чуть заметно усмехнулся, — присутствовали люди, подчиненные непосредственно тебе. В следующий раз, будь добр, дай сначала им высказаться, а потом уж произноси свое руководящее мнение. А то мне только с тобой и придется совещаться…
2
Следователь райотдела капитан Емельянов забежал после совещания к себе в кабинет. На минутку. Но в кабинет только заявись — сразу уйма мелких дел навалится… Он уже собирал бумаги со стола, чтобы положить их в сейф, как дверь открыл участковый инспектор Огарев.
— Геннадий Алексеевич, — сказал Огарев, — я Дроботова привел.
— Ну и чудесно, Николай Леонтьич, — рассеянно ответил капитан. — Ну и хоро… Что? Какого Дроботова?
— Начальника автоколонны. Который у наев бегах числится.
— Отлично, старый! А наш майор обещал полковнику разыскать Дроботова завтра.
— Перевыполняем обязательства, — скромно ответил Огарев, но скрыть довольной улыбки не мог.
— Надеюсь, Дроботов не успел побывать дома и переговорить с домашними? И про обыск он тоже не знает?
— Нет, — ответил Огарев. — Мы приказы приучены выполнять… Я прохаживался перед его домом. Дожидался. Мне его привезли. Пригласил.
Емельянов не стал выяснять, почему Огарев прохаживался и дожидался, почему и откуда ему должны были привезти Дроботова. Дело Огарева — найти, дело следователя — допросить…
— Зови его, Николай Леонтьевич, — сказал капитан. — Но не сразу, а минут через двадцать. Мне надо подумать, подготовиться.
— Велено передать, — сказал Огарев, — что парнишка наш, Санька Токалов, послан перепроверить показания жены и матери Виктора Дроботова.
— Появилась такая необходимость?
Огарев пожал плечами. Коротко добавил:
— Сергунцов и Мухрыгин допрашивают Семена Паузкина.
Капитан вспомнил, что́ говорилось на совещании о гражданине Паузкине. Он был заместителем Дроботова в автоколонне. В ночь, когда Рудаева была убита, выехал из дома в неизвестном направлении. Почти в одно и то же время с Дроботовым. Значит, и его разыскали… Неплохо, черт возьми, работаем, подумал Емельянов.
Ровно через двадцать минут Дроботов постучал, вошел, сел на предложенный стул, и после того, как Емельянов заполнил лицевые графы протокола, спросил, доброжелательно улыбаясь:
— Вы подозреваете меня в убийстве, товарищ капитан?
Виктор Сергеевич Дроботов был молод и симпатичен. Для начальника автоколонны, пожалуй, слишком молод. Правда, автоколонна невелика и должна вскоре потерять хозяйственную самостоятельность, влившись в крупное автотранспортное предприятие. Однако же — пока начальник… Рубашка с коротко завернутыми рукавами, потертые джинсы, румянец на открытом сероглазом лице с разлетными бровями, располагающая к себе улыбка… Но таилась в ней еле уловимая нагловатая прямота. Такому палец в рот не клади, подумал капитан, откусит.
— А разве у вас, Виктор Сергеевич, — сказал Емельянов, — есть основания для подобного лобового вопроса ко мне?
— Некоторые… Ну, скажем, ваш коллега… Фамилия у него еще такая поэтическая.
— Огарев.
— Да, Огарев. Я подошел к дому, а он даже калитку не позволил мне открыть, сразу повел сюда. Вел, словно арестанта.
«А зачем эта ложь? — спросил себя капитан. — Огарев знает его очень давно, а он, видите ли, совсем не знает Огарева».
— Мы проверим, насколько тактичны были действия участкового инспектора, — сказал Емельянов.
— Ни боже мой! — поспешно отозвался Дроботов. — Я совершенно не к тому. Вы ведь спрашивали об основаниях, побудивших меня задать вам прямолинейный вопрос. Я сослался на первое из них. А второе… Рудаева дружила с моей матерью, часто бывала у нас. И в пятницу вечером тоже должна была прийти. В ночь с пятницы на субботу ее убили, а меня чуть позже угораздило уехать из дома. Будь я на вашем месте, тоже заподозрил бы неладное.
— Откуда вы знаете, когда ее убили? Вы даже в дом сейчас не успели зайти.
— Не ловите меня на слове, — снисходительно проговорил Дроботов. — Я был в степи у знакомого чабана, а два часа тому назад туда явился шофер автоколонны Аркадий Синельников и рассказал, что тетку Аришу убили. Об этом в заречной части поселка теперь, поди, каждый знает. Я — к нему в машину, и домой, а меня уж Огарев дожидается. Как видите, все просто.
Емельянов записал фамилии шофера и чабана, сказал:
— Раз уж вы заподозрили неладное, то придется вам, Виктор Сергеевич, предъявить свое алиби на критическое время ночи с пятницы на субботу. Начнем с пятницы, и не с ночи, а с трех часов дня. Для полноты картины.
— В три часа дня мы сели обедать. Мать, жена, я, две мои пацанки. Рудаева тоже обедала с нами… Вы не удивлены?
— Не приучен по второму разу, Виктор Сергеевич.
— Поработали уже, значит. Тогда для вас, конечно, не новость, что я восьмой день в отпуске. Пообедали, мать сказала: «Ариша, приходи вечером, кино будет». Рудаева обещала. И, повторяю, не пришла. Я еще, помнится, спрашивал своих: была ли?
— То есть как это — спрашивал? — насторожился Емельянов. — Почему спрашивал?
— А почему бы мне и не спросить? — удивился Дроботов. — Почему бы мне и не поинтересоваться, что происходило на семейном корабле в отсутствие капитана? После обеда я ушел из дома и вернулся в половине одиннадцатого вечера.
Емельянов молчал, обдумывал услышанное, и Дроботову очень не понравилось, как он молчал.
— Слушайте, — забеспокоился он, — я что-нибудь не то ляпнул?
— Вы не ляпать сюда позваны, а давать показания. И в ваших же интересах — правдивые. Итак, после обеда вы ушли из дома. Куда, к кому?
— А первоначально ни к кому. И слава богу, что потом зашел кое к кому… Я, товарищ капитан, три дня назад купил ружье, решил пристрелять его перед охотой. Сделал мишень, взял десяток патронов и — в степь. Мишень так в степи и осталась, а где — покажу. Часу в восьмом вечера, возвращаясь, завернул к Семену Паузкину — узнать, как там дела в родимом коллективе. Вам доложить, кто такой Семен Паузкин? Не надо? Ага… То, се, сели ужинать. Распили бутылку «Столичной». Домой явился как раз к концу программы «Время», сводку погоды передавали. Милая такая, женщина стояла с указкой у карты. Меня жена постоянно к ней ревнует. Сводку дослушали и легли спать.
— Жена и мать допрошены, — сказал Емельянов. — Послушайте, Виктор Сергеевич, их показания.
Жена и мать утверждали, что глава семьи в пятницу ни днем, ни вечером из дому не отлучался, смотрел вместе с ними телефильм «Рассказ нищего», затем программу «Время», после чего, проводив Рудаеву, лег спать.
— «Рассказ нищего»! — растерянно воскликнул Дроботов. — Это вообще что такое? Это им зачем нужно? Зачем они наговаривают на меня?
Впрочем, он быстро взял себя в руки. И даже пошутил:
— Если моя родительница и наидражайшая супруга еще разок подкинут мне такой сюрпризец, то нищими мы станем — это уж точно… Но мне опровергнуть показания своих родственников довольно просто. Вызовите Паузкина, допросите, сделайте очную ставку.
— Почитываем, Виктор Сергеевич, детективную литературу?
— На досуге балуюсь.
— О Паузкине мы поговорим с вами чуть позже. Сейчас спрошу: он вас после ужина и выпивки провожал?
— Хозяин гостя уж обязательно проводит до калитки. Здесь покурили — и разошлись.
— По пути домой никого не встретили из знакомых?
Дроботов вспоминал, наморща лоб.
— А ведь встретил! — сказал он с живейшей радостью. — И недалеко от дома встретил! Записывайте: Тамбулова Арлекина Федоровна, пенсионерка. Я еще, помню, подумал: надо же, какое имечко старуха всю жизнь носит. Не имечко, а проклятье… Но не разговаривал с ней. Во-первых, не о чем, во-вторых, поздно, в-третьих, — Дроботов говорил, как гвозди забивал, — неудобно, все ж таки я под хмельком… Вот видите, товарищ капитан, как все просто разрешилось. Старуха поставит последнюю точку в моем алиби.
— Вы думаете? Легкий вы человек, Виктор Сергеевич, все у вас, гляжу, просто. А между тем все очень не просто, к сожалению. Итак, в пятницу, в три часа дня, Рудаева обедала у вас, за обедом была приглашена посмотреть телефильм и приглашение приняла. В восемь часов вечера она закрыла за собой калитку, сказав квартирантке, что идет к вам. Небезынтересна такая деталь: от ее до вашего дома пожилой женщине идти чуть больше двадцати минут. Не торопясь. А Рудаевой и не надо было торопиться, она довольно точно рассчитала время: фильм начинался в восемь сорок.
— Возможно, возможно… — Дроботов, улыбаясь, покуривал сигарету. — Но меня-то дома не было! Предположим, что она смотрела фильм. Далее в этом случае наши пути не перекрещиваются: к моему приходу она уже ушла.
— Ваши домашние утверждают обратное. Они говорят, что лично вы проводили Аришу до калитки.
— Слушайте, товарищ капитан, — со слабым, но уже первым беспокойством заговорил Дроботов, — вы начинаете меня как-то медленно и упорно обволакивать. Не нравится мне это!
— Нравится — не нравится… Довольно легкомысленная, Виктор Сергеевич, у вас терминология. Пользуясь ею, скажу, однако: дальше вам совсем не понравится. Кстати, и мне. Мы с вами выявили сейчас первую странность, несоответствие, несовпадение ваших показаний и показаний родственников. Как все-таки вы можете объяснить это?
— Я сам бы дорого дал за объяснение, товарищ капитан.
— Подобного рода загадки решаются иногда просто, — сказал Емельянов. — Возможно, так будет и в вашем случае. Не станем над этим ломать сейчас голову, двинемся дальше, к другой загадке. Вы явились домой под хмельком, прослушали сводку погоды в программе «Время», легли спать. В первом часу ночи проснулись и поехали в степь, к чабану… — Емельянов заглянул в черновые записи, которые на допросах он всегда вел перед составлением официального протокола, назвал фамилию чабана и продолжал: — Конечно, в гости никому не запрещено выехать и глубокой ночью…
— Я отпускник, — пожал плечами Дроботов. — Сплю, сколько захочется и когда захочется. Проснулся, чувствую — не усну больше, собрался и поехал.
— Домашних, собираясь, не разбудили?
— Жена у меня чуткая. Сказал ей, к кому еду, успокоилась. Чабан — ее дальний родственник.
— Вы сказали жене, она матери. Виктор Сергеевич, возникает вторая загадка: почему они из вашей, казалось бы, обычной поездки к дальнему родственнику сделали тайну? Вам зачитать соответствующее место протокола?
— Не надо. Но я и этого не могу объяснить, — в голосе Дроботова Емельянов уловил неуверенность.
— Можете, — нажал он. — Это — можете, Виктор Сергеевич.
Дроботов молчал.
— Значит, не хотите. Дело ваше. Я уже могу взять себе на заметку, что в обычной поездке есть нечто необычное, о чем гражданин Дроботов предпочитает умолчать. Это — вторая загадка… Как вы добирались до чабана?
— На собственном мотоцикле.
— Мотоцикл стоит на вашем дворе с неисправным зажиганием. Вы уехали на грузовой машине. Фамилия шофера? Номер машины? Что вы грузили на нее глубокой ночью, при потушенных фарах? В ваших интересах, Виктор Сергеевич, ответить на мои вопросы правдиво, а иначе мы будем с вами присутствовать при рождении уже третьей по счету загадки. Не много ли их?
— Уверяю вас, — спокойно сказал Дроботов, — они не имеют никакого отношения к убийству Рудаевой.
— Не надо меня уверять, — сказал Емельянов. — Сидючи за этим столом, я много слышал уверений. Лучше дайте толковое разъяснение всем подозрительным фактам, потому что, не получив его, я вынужден предположить связь между убийством Рудаевой и вашей поездкой.
— А как вы это сделаете, желал бы я знать?
— Давайте вместе порассуждаем, Виктор Сергеевич. Каждый волен выехать из дому, когда ему заблагорассудится. Вы вздумали и поехали в гости глубокой ночью. Ну что ж… И против этого нечего возразить, если бы Рудаева была сейчас жива. Но она мертва. А как вы уехали? Поспешно, чего-то опасаясь. Чего именно? Почему ваши родственники сделали из поездки тайну, а вы пошли на прямую ложь, решив подсунуть следствию мотоцикл вместо грузовой машины? Вы по-прежнему не желаете отвечать?
— Нет.
— В таком случае мы приходим к тому, с чего начали: ваш поспешный и, подчеркиваю, тайный отъезд из дома связан с тем, чтобы спрятать труп, орудия и другие вещественные доказательства преступления.
— Да что же это такое! — возмутился Дроботов. — Поверьте, я не убивал эту старуху, не прятал топор под пальто. Нашли Раскольникова… Смех! Конечно, я не икона, кое в чем грешен… Но убить человека! Не говорю уже о том, что никакого смысла не было мне убивать тетку Аришу.
— Так… Вот мы, Виктор Сергеевич, и подошли с вами к мотиву преступления. В связи с этим настала самая пора поговорить о Семене Паузкине, вашем заместителе.
— Мне заместитель по штату не положен, колонна маленькая, — ворчливо уточнил Дроботов. — Паузкин — заведующий гаражом. Заменяет меня лишь во время отпуска.
— Кто такой Паузкин, очень хорошо знают мои коллеги из ОБХСС. У них заведено на него уголовное дело.
— Даже так? — осевшим голосом спросил Дроботов. — Вот это новость…
— Арест Паузкина и обыск в доме по санкции прокурора запланированы на завтра, то есть на понедельник, — продолжал Емельянов, словно не замечая теперь уже явного беспокойства Дроботова. — Но убийство Рудаевой ускорило события. Выяснилось, что в ночь после убийства Паузкин, так же как и вы, выехал в неизвестном направлении. И так же поспешно, тайно, словно чего-то опасаясь, Сегодня с утра мы пошли с обыском к вам и к нему. У него в подвале дома и хозяйственных пристройках нашли: четырнадцать новых скатов для грузовых автомашин, десять автомобильных камер, два электромотора и шесть аккумуляторов в заводской упаковке, тракторный двигатель-пускач, множество мелких, но крайне дефицитных запасных деталей.
— Вот жук! — возмущенно произнес Дроботов. — Всю автоколонну перетащил к себе!
— Разделяю ваше возмущение, — холодно сказал Емельянов. — Он доил вашу маленькую автоколонну, как хорошую корову-рекордистку. И, видимо, не без вашей помощи.
— Я попросил бы! — вспыхнул Дроботов.
— Я же сказал — видимо, то есть полуутвердительно, — возразил Емельянов. — Мои коллеги из ОБХСС восстановят полную картину хищений в автоколонне, вам еще не раз придется держать ответ перед ними: там и доказывайте свою непричастность к деятельности Паузкина. Зато утвердительно я могу сейчас говорить о ваших тесных внеслужебных отношениях с ним.
Дроботов, опустив голову, молчал. И Емельянов, насколько он мог понять характер сидевшего перед ним человека, чувствовал, что надо долбить эту стенку не переставая, по нарастающей.
— Итак, мотив… Рудаева работала у вас вахтером, была близка вашей семье и, конечно же, она знала многое о порядках в автоколонне. Естественно предположить, что в последние дни перед смертью она узнала нечто такое, чего мы еще не знаем, а для вас с Паузкиным ее знание стало опасным. Вот и мотив, Виктор Сергеевич. Не скрою, предполагаемый. Но не беспочвенный. А вы что думаете на этот счет?
Мнение Дроботова капитан не надеялся услышать, да и не смог бы: зазвонил телефон внутренней связи. Емельянов снял трубку.
— Геннадий Алексеич, — сказал Мухрыгин. — Бдишь? И мы бдим, Сергунцов и я. Так вот… Паузкин в ту ночь уехал в низовье, на рыбацкие тони, менял запчасти на красную рыбу и икру, где его и взяли наши коллеги из Икрянинского райотдела. Много, стервец, наменял: шесть осетров и жбан черной икры килограммов на тридцать. Неплохой довесок получит к тому сроку, который возьмет по автоколонне. Ты меня слышишь?
— Да. Можно и потише.
— Ясно… Теперь — сведения по нашему делу. В восемь вечера, когда Рудаева пошла к Дроботовым на телевизор, твой подопечный сидел на квартире Паузкина и попивал с ним водочку. До половины одиннадцатого примерно. Затем ушел домой. Неплохо на алиби поработал, даже свидетельница у него есть. Знал бы ты, как зовут эту даму, растрогался!
— Знаю.
— Мы тоже только и знаем, что на тебя работаем, хотя полковник всех нас отпустил на кратковременный заслуженный отдых… Я к тому, что новые показания домочадцев Дроботова у меня на руках. В прошлый раз они сказали на допросе неправду. По-человечески понять их можно: испугались, думали, для главы семейства будет лучше, если он окажется дома, на глазах. Так сказать, ложь во спасение. Лишь один пункт в их показаниях остается темным: теперь они утверждают, что вечером Рудаева к ним не приходила, хотя и обещала. Но в этом у меня большие сомнения.
— Спасибо, Владим Георгич, — поблагодарил Емельянов и положил трубку. Помолчал, собираясь с мыслями. Сказал:
— Продолжим, Виктор Сергеевич. Могу напомнить, о чем у вас был застольный разговор с Паузкиным. Вы обсуждали его поездку за красной рыбой и икрой. Не за хорошие глаза и не за свою открытую улыбку вы надеялись получить дорогой товар.
— Да, мы говорили об этом, — признал Дроботов. Он умел быстро брать себя в руки, а телефонный звонок все-таки разрядил напряжение. — Мы говорили об этом, но не о том, как нам проще и легче отправить на тот свет тетку Аришу. Я вам больше скажу, только прошу не заносить это в протокол: да, я кое-что скрываю. Открываться перед вами мне нет никакой охоты. Давайте говорить только по делу, по которому меня вызвали.
— Очередь-то ваша, — напомнил Емельянов.
Дроботов на несколько мгновений задумался. Затем начал:
— Не скрою, вы тонко подметили кое-какие несовпадения, странности, неувязки и даже противоречия. Но где тонко, там и рвется. Простейший пример: вы, скажем, задокументировали, что Рудаева пошла не к кому-нибудь, а ко мне смотреть телефильм в тот вечер. Ну и что? Могла передумать, зайти к другим своим знакомым, их у нее немало. Кстати, так было не раз: обещает прийти — и не придет. Есть у вас показания человека, который видел, как тетка Ариша после восьми вечераоткрывала калитку моего дома? Если есть — предъявите, с удовольствием почитаю.
«А неглуп, — подумал Емельянов, — весьма неглуп».
— Некоторые противоречия, — продолжал Дроботов, — я объяснить в самом деле не в силах, товарищ капитан. Вот вернусь домой и возьмусь за своих. Я покажу им «Рассказ нищего»! Впредь представителям закона они будут отвечать правду, ничего, кроме правды… А некоторые противоречия я мог бы снять и сам, но не желаю. Уже говорил — не святой, делишки, мелкие, есть за мной. А кто не грешен? Вы?
— Я, — просто ответил Емельянов. — Не грешен вот, знаете ли.
— Верю. Вы улыбаетесь? А я верю! Но сам-то я — другой человек. Люблю жить сладко. К тому же у меня — мать, жена, двое пацанок, сам-пят. Надо вертеться… Но я верчусь в большом отдалении от уголовного закона.
— А от совести?
— С совестью — сложнее, Геннадий Алексеевич, — Дроботов впервые назвал его по имени-отчеству, хотя Емельянов представился ему, еще только приступая к допросу. — Но совесть такая штука нежная! Не каждому ее вынешь на погляд.
— Убит человек, Виктор Сергеевич, — сказал Емельянов. — И поэтому вынуть вам ее придется, нежную свою совесть.
— Все! — сказал Дроботов. — Я устал. Давайте мне свидетеля, улику или как это там у вас называется… Но чтобы все прямо указывало на мое участие в преступлении. Тогда я подниму руки кверху, скажу: да, я убил Рудаеву.
— Ну что ж… Напористо. Логично. Временами даже доказательно, — говорил Емельянов, вынимая из конверта несколько чистых шоферских путевок. Показал Дроботову. Сказал: — Найдены при обыске в вашем доме, Виктор Сергеевич.
— Взять несколько путевок с работы — конечно, ба-а-льшой криминал, — криво усмехнулся Дроботов.
— А все-таки нехорошо, — спокойно сказал Емельянов. — Но хуже, и намного, когда такие же шоферские путевки находят в мешке с трупом. Вот протокол обыска и осмотра места происшествия. А вот еще один конвертик. С ним я буду обращаться осторожно. Эти путевки размокли, они в иле, слизи и крови. В крови Ирины Николаевны Рудаевой.
— Ну и что? Те путевки, которые нашли у меня, — чистые. Как вы докажете, что они имеют отношение к тем, что найдены в мешке с трупом?
— Существует понятие — идентичность. Сорт бумаги, шрифт, типографская краска… Все это завтра начнут исследовать эксперты.
— Пусть исследуют, — спокойно сказал Дроботов. — Мои путевки и те — случайное совпадение.
— Возможно. Но налицо целая цепь случайных совпадений: Рудаева пошла к вам, после ее гибели вы спешно выехали из дому, многие противоречия не можете объяснить. А это — тоже совпадение?
Он снял с края стола газетный лист, открыв кусок цветастой фланели. Пояснил:
— В халате из такой фланели Рудаева в последний раз вышла из дома. Да вы, наверное, узнаёте этот материал… Остатки халата, вынутые из мешка, сушатся сейчас в комнате вещественных доказательств перед отправкой на экспертизу. Предлагаю пойти и взглянуть.
— Зачем? — спросил Дроботов. Румянец на его лице выцветал, оставляя после себя серые, словно лишаем побитые, пятна.
— Затем, чтобы до экспертизы вы могли убедиться, что обрывок, предъявленный вам, и те, что сушатся в комнате, совсем недавно, в пятницу, до восьми часов вечера, составляли единое целое с халатом Рудаевой.
Дроботов не мог отвести взгляда от лоскута на столе. Он уже догадывался, что́ сейчас скажет следователь, и не хотел верить, и, надеясь на чудо, с мольбой глянул на Емельянова.
— Найден на вашем подворье, Виктор Сергеевич, — сказал Емельянов. — И на нем, как видите, тоже кровь.
— Этот? — ошеломленно переспросил Дроботов. — Этот? У меня на подворье?
— Да, этот, — подтвердил Емельянов. — Протокол обыска лежит перед вами… Вы — знаток детективного жанра, посоветуйте, как мне поступить? Хотя что же… Насчет рук, помнится, вы ведь весьма недвусмысленно выразились?
— Нет! — выдохнул Дроботов. — Нет, товарищ капитан! Верьте мне: не убивал! Да вы спросите свою совесть: способен ли я убить? И зачем?
— Ах вот как! — с гневом сказал Емельянов. — Законы жанра, значит, побоку, теперь мы снова заговорили о совести. Но все почему-то о моей! А ваша нежная, ваша удобная, опять осталась в стороне. Свою я попытаю, и она не позволит мне уйти от решения, где вам быть после допроса, — дома или в камере. Но ведь я и вашу спрашивал о том же. А вы извивались, как уж, в поганенькую философию ускользали с наглой улыбочкой. Не за что мне уцепиться в вашей совести, Виктор Сергеевич.
— Тогда я погиб, товарищ капитан, — сказал Дроботов. — Но почему? Что за наваждение? Откуда этот обрывок? И почему мать и Нина сказали, что я был дома, когда меня дома не было? По глупости или… Это что такое? Не знаю, что и думать… У меня все рушится, товарищ капитан!
— Без крайностей, Виктор Сергеевич. Ни мать, ни жена не убивали Рудаеву. Сейчас вы мне дадите подписку о невыезде. Вам объяснить смысл этой меры пресечения?
— Не надо, — растерянно откликнулся Дроботов. — Понимаю.
Но Емельянов, подготовив постановление, официальным тоном предупредил его о последствиях за нарушение подписки. Дроботов выслушал, расписался.
— Знаете, Геннадий Алексеевич, — произнес он тихо, — хоть вы и вывернули меня наизнанку, но я зауважал вас.
— А я, — тоже тихо ответил Емельянов, — не уважаю вас, Виктор Сергеевич.
3
Михаил Бурлин проходил в это время мимо райотдела милиции. Он нес на плече подвесной мотор, опять ему не понадобившийся: тот же баркас, возвращаясь, взял его лодку на буксир. Три часа на закатно вечереющей реке, на лодке, без шума и треска мотора, были чудесны… Но Михаил уже насытился одиночеством и торопил время. Он волновался, потому что договорился с лесником о переезде на кордон, а не знал, как отнесется к этому жена. Без совета с ней он не принимал и менее важных решений, а нынешнее — рубило жизнь надвое.
Жена ни словом не обмолвилась о том, что в поселке было у всех на языке со вчерашнего дня. В его отсутствие она побелила печь, покрасила полы в доме; спать решили во дворе под пологом. Сынишке постелили рядом. Он прибежал с улицы, поел и свалился, сморенный. Уже засыпая, сказал:
— Папк, а у нас был пожар. Печка загорелась.
— Вечно, брат, у вас с мамкой без меня что-нибудь случается, — ласково сказал Михаил. — То керосинка вспыхнет, а теперь — печка. А с чего это она загорелась, со зла, что ли?
Сын не слышал, он спал, почмокивая губами. Услышала Таня, сказала:
— Чистить ее надо, Миша. Решила протопить, а сажа и займись.
Он разделся и лег, а она еще долго управлялась по хозяйству, мелькала в полутьме двора, топоча босыми ногами. За этот тяжелый и быстрый топоток он когда-то прозвал ее Топ Топычем, и она, не шутя, обижалась. Она хотела, чтобы походка ее была легкой, как у старинных красавиц, которых она видела в кинофильмах и о которых читала в книгах. Не было ему дороже походки Татьяны, особенно ее тяжелого осторожного шага, когда она была беременна Колькой. И сейчас, слыша сонное посапывание сынишки, топоток жены, он вдруг ощутил такую нежность, такое страстно-нетерпеливое желание, что стиснул зубы, чтобы не позвать ее. После сирого голодного отрочества, после скитаний по стране с неугомонными тетками, все искавшими свою судьбу, Михаил попал в Астрахань. Было ему тогда семнадцать… Через полтора года тетки завербовались на остров Шикотан. И Михаил тоже собрался с ними, ибо что ему было терять? Он подал заявление об уходе с завода, на котором только-только получил разряд слесаря, забрал документы из вечерней школы и назавтра должен был пойти в предварительную кассу за билетами, но купил билеты только для теток, потому что днем раньше познакомился с Таней. Про Михаила позже говорили, что он под каблуком у жены, а это было совсем другое. Мало надо тепла, чтобы согреть одиноких, но нет крепче и смертней привязанности их…
Судьба словно решила испытать его на прочность. Шесть лет тому назад открыл калитку участковый Огарев и предъявил Михаилу ордер на арест… Жены дома не было, ошеломленный Михаил стал собираться, ничего не понимая, тупо тычась туда и сюда, пока Огарев не сообразил и не сказал жалостливо: «Не ты мне нужен, друг, жена твоя. Читай бумагу-то, читай хорошенько». Михаил снова ухватил глазами прыгавшие строчки, набрел на полное имя Тани… Лишь на суде он узнал, что Таня, работая инспектором кадров на заводе, подделывала справки о трудовом стаже. Мошенничала она мелко и робко, взятки брала такие же; может быть, поэтому дали ей всего три года тюрьмы. После суда им позволили свидание. Татьяна плакала, клялась, умоляла дождаться ее, сберечь Кольку, но ничего не ответила, когда Михаил спросил, почему она сделала это. Ему советовали бросить ее, намекали на ее измены, и намекали тем настырнее, что он слыл человеком мягким, податливым, не от мира сего. Из лучших чувств советовали… Михаил разогнал советчиков и советчиц, никого не подпустив к своему горю. Он ждал ее.
Татьяна возвратилась домой со своим знанием, ненавистным и злобным, усвоенным ею так прочно и непреложно, что Михаилу порой казалось: это не Таня пришла, а другой человек.
Поначалу все было приглушено радостью встречи, но как только жизнь вошла в обычную колею, началось новое узнавание друг друга, и оно было мучительным. Спустя месяц, когда Михаил осторожно завел разговор о ее планах, жена резко сказала, что работать не пойдет, а если он станет гнать на работу, она примется там за старое. И эта ее нераскаянность ошеломила. Он растерянно сказал, что старое может кончиться новой тюрьмой и, увидев ее перекосившееся лицо, пожалел о сказанном: ведь давал же себе зарок ни словом, ни намеком не напоминать ей о прошлом — и сорвался. «Я была дура! — крикнула она. — Дура, набитая дура! Уж теперь бы я, миленький, не попалась, уж теперь меня на мякине не провести». И еще она кричала, что он слепой, что не видит, как ловчат люди, и что только такие праведники, как он, живут на одну зарплату.
— Вот и ты ловчила, — тихо сказал он. — Для чего, Таня? Я не помню, чтобы твои взятки нас обогатили. Они погубили нас, Таня.
Она как вспыхнула, так и погасла, — мгновенно. Заплакала неуступчиво… И после Михаил не раз возвращался к этому разговору, но он всегда кончался тем же. Однажды она схватила его за руку, подвела к калитке перед домом. «Садись, — сказала зло, — садись и разуй глаза, может, что и увидишь». И сама села рядом.
Сидели, молчали… Был конец рабочего дня, люди возвращались домой. Прошли два бондаря. Нисколько не сторожась, несли они по бочоночьему донью: о клепке, видать, позаботились раньше… Сосед слева работал на мебельной фирме, у него в доме была хорошо оборудованная мастерская, и он тоже кое-что принес… Кое-что привез себе и шофер, живущий напротив. Поздоровалась, проходя мимо, знакомая заведующая столовой, молодая женщина лет двадцати восьми. Смущенно поздоровалась: сгибалась она под двумя хозяйственными сумками, в которых, конечно же, были не камни. Еще посидели, еще посмотрели. Да-да… Ловчили люди.
— Вижу, вижу… — сказал Михаил, стараясь скрыть смущение. — Не терпится тебе, спрашивай. Вон как глаза-то разгорелись.
— И спрошу. Кто эти люди?
— Жулики, Таня. Мелкие подколодные жулики.
— А их не судят. Ты не видишь, а я вижу: годами так ходят!
— Таня, — он закипал, но еще сдерживал себя, — они — доходятся, а ты — уже… Себя, меня и сына нашего ты вываляла в грязи — и когда еще отмоемся? А ты вроде бы уже по новой настраиваешься, вроде бы благословения у меня испрашиваешь. Не позволю. Как вспомню про деньги твои взяточные — жизнь не мила, Таня. Я второй раз через этот стыд не перейду.
Она прижималась к нему, клала руку на плечо, шептала:
— Что ты за мои грехи казнишься, дурачок? Даже сын за отца не ответчик. Гляди людям в глаза прямо. Не такие уж они ангелы. Вон, еще один работничек попер домой ношу…
Тогда он развернулся и коротко ударил ее по лицу. Она не закрылась руками, глядела прямо перед собой, плакала.
— Запомни, — шептал он бессильно и отчаянно, — запомни, Таня. Нет у меня отца, нет матери, есть ты, и ближе тебя — только сын. Начнешь по новой — погубишь нас.
Она молча плакала, и ему жалко стало ее, будто по сердцу резанули…
— Прости, пожалуйста, — он придвинулся ближе, обнял, — сам не знаю как вышло. Такая злоба взяла: толковал, толковал…
— Да откуда ты взял, — она, плача, улыбалась, — что я воровать побегу? Хватит, наворовалась! Дай мне осмотреться — и на работу поступлю. Что уж ты, Миша, какой стал суровый. Пойдем, а то люди скажут: то ли дерутся, то ли милуются…
Он верил ей и не верил… Духовная власть ее над ним кончилась, она понимала это, но оставалась власть тела. В грубых ее ласках грубел и он, и, лежа рядом, обессиленный, он никак не мог освободиться от мысли, что только что изменил Тане с чужой и грязной женщиной. Мучительны были их ночи, ими она выторговывала право на свою новую жизнь и новое понимание ее, а он уступал и уступал, еще на что-то надеясь. И донадеялся! Через год пришел к нему мастер участка Петр Федорович Касаткин, присел стеснительно к столу (Бурлины ужинали), попросил отослать на время мальчонку. Кольке того и надо было, дунул на улицу, а Петр Федорович начал рассказывать. Его младшая восемнадцатилетняя дочь, говорил он, работает в промтоварном киоске, что на базаре, и у нее нынче украли початую штуку шерстянки с лавсаном, ни много ни мало, а метров под двадцать будет. В милицию он дочку не пустит, роток девке заткнет, хулы и огласки ни на кого не положит, но ты, Михаил Алексеич, повлияй на жену: пусть вернет украденное. И, не дав слова вымолвить Михаилу, сказал:
— Голубиная у тебя душа, Миша, потому и пришел. А так что же… Ее, — он кивнул в сторону Татьяны, как на пустое место, — на базаре все знают. Скупает, перепродает, а при случае и приворовывает. То перчатки, то шарф, то еще что по мелочи стянет с прилавка, а у моей раззявы вон как — чуть не весь киоск уперла.
Татьяна молча встала из-за стола и пошла по выложенной кирпичом дорожке в глубь двора. Они слышали, как звякнула щеколда калитки, ведущей на соседнее подворье.
— Миша, а куда это она пошла? — спросил Касаткин.
— Не знаю, Федорыч, — ответил Михаил, не подымая на Касаткина глаз.
— А знать надобно бы, Миша, — сказал с укором Касаткин. — Пошла она к соседке Акулине Коротковой. С этой беспардонной старухой и шурует твоя Татьяна на базарах. Что ж ты так-то, а?
— Не следить же мне за ней, Федорыч. Да и как уследишь… Я целыми днями на работе.
— А ты вот что, Миша… Ты это… поучи ее, а? Глядишь — и опамятовалась бы. Первое средство, лучше и не надо.
Касаткин помолчал, вздохнул:
— Жизнь перевернулась, язви ее… По своим девкам сужу. Попробуй-ка поучи их битьем: подумать страшно. А ведь отец…
Вернулась Таня, принесла плоское бревнышко материала, завернутое в грубую бумагу. Не зная, что делать с ним, куда приткнуть, она стояла и нелепо держала его в руках… Унизительные мгновения текли, текли, и не было им конца; Татьяна попыталась что-то сказать, в горле ее булькнуло, выкатилось оттуда искаженное, непонятное слово, и Михаил злобно глянул на Касаткина: да возьми же ты, пень старый!
— Пойду я, — поднялся Касаткин.
Таня по-прежнему стояла у стола, безвольно опустив руки. А он ждал минуты, чтобы яростно, с наслаждением бросить ей в лицо свои каменные слова, — невысказанные, они, казалось, разорвут его на части; и вот Касаткин ушел, Таня покорно ждала его суда, и эта покорность сразила Михаила, злоба и отчаяние, терзавшие его, схлынули, и он с холодным презрением к себе подумал, что чуть не выместил свое унижение на раздавленной страхом жене. Уже стемнело, и Михаил даже не глазами, а тем пронзительным оком души, которое дано только любящим, видел, как постарела она, как огрубели черты. Он поднялся из-за стола, подошел к Тане и обнял ее. Она, дрожа и всхлипывая, прижалась к нему.
С того случая жизнь их вошла в тихие берега. Татьяна устроилась на работу — уборщицей в заводскую контору. Пришел день, когда их пригласили в гости, и день, когда они сами принимали гостей. Потом Кольку собирали в первый класс, ходили на свое первое родительское собрание… Все обыденные и необыденные вехи семейной жизни были для Михаила полны особого значения, ибо еще раз убеждали: прошлое забыто. Лишь временами ему казалось… И Михаил заспешил. Он намеренно не поберег жену, она забеременела. Он думал, что рождение второго ребенка навсегда отсечет те щупальца, которые еще тянутся к ней из прошлого. Татьяна нашла врача и сделала аборт. Он вернулся вечером с работы, увидел ее, лежащую с бледным ненавидящим лицом, с запекшимися, искусанными губами, и понял, что вся их жизнь после тюрьмы была зыбкая, неустойчивая. Надежды его — в который уже раз! — обвально рухнули. Он выбрался из обломков без сил, с отупевшей душой, и опять прошло какое-то время, чтобы он мог помыслить о будущем. На то время и пала его первая встреча с лесником. Он чувствовал, что в словах лесника была беспощадная народная мудрость, но что оставалось ему? Ничего, ничего…
К его удивлению, Таня сразу же согласилась на отъезд. И не только согласилась, а даже попрекать начала: почему не сказал раньше, почему потратил два дня на рыбалку, а не съездил в лесничество, не договорился твердо о работе? Вдруг не примут, вдруг уже кто-то нашелся на место старика? Она испуганно прижалась к нему и зашептала с мольбой:
— Уедем, Миша. Виновата перед тобой — отмолю, заслужу, раба твоя буду. Только увези отсюда.
— Татьяна, — сказал он с шутливой строгостью, — про какую рабу говоришь? Ты ничего опять не натворила?
Слова эти выговорились, но не задели его сознания и тут же были забыты. Не придала им значения, будто не слышала, и жена. Она стала высчитывать, когда ему выпадет очередной отгул, чтобы съездить в лесничество. Прикидывали так и сяк — и выходило: не раньше второй половины октября.
— Долго, Миша, — сказала она. — Еще и раздумаю.
Это было существенно. Раздумать она могла. Он сказал решительно:
— Рвать так рвать. Завтра подам заявление. Оно и лучше — при тепле перевеземся. Давно бы нам надо было это сделать. Парень наш растет, свой умишко заимел, уже приглядывается к папке с мамкой, и скоро будем мы у него, жена моя, как на ладони. Детский суд жесток и неправеден, а если еще и длинные языки найдутся…
— Нашлись уже, Миша…
Он и сам знал, что нашлись, был у него однажды разговор с сыном, прибежавшим домой в синяках. Но не хотел он сейчас говорить об этом Тане, скажешь слово, оно потянет за собой другое, вылезет прошлое, а им надо думать о будущем.
— Миша, — сказала она, — почему ты меня не бросил? Тогда, после тюрьмы…
— Спроси что-нибудь полегче. Сколько лет-то прошло?
— Миш, и не бросишь?
— Нет, — сказал он бестрепетно. — Нет.
Глава четвертая
1
Утром в понедельник, тяжелый день, Михаил Бурлин положил на стол начальника цеха заявление об уходе с работы. Тот прочитал, глянул на Михаила, снова прочитал…
— На, — сказал он, протянув ему листок. — Я этого не видел, ты этого не писал, тезка.
— Не шутки шучу, Михаил Алексеевич. Уезжаю совсем из поселка. Очень прошу, отпустите без отработки. Мне время дорого.
Начальник цеха смотрел на Михаила усталыми глазами, а потом кое-что, видать, вспомнил, кое-что начал понимать: он жил на соседней улице. Однако… За здорово живешь выпустить из рук такого мастера? Н-нет…
— Чего вы теперь-то заегозились? — ворчливо спросил он — Все прошло, пролетело. Люди уж и думать забыли.
— Сын растет, — коротко ответил Михаил, безошибочно выбрав довод, который будет понятен. — Сын растет, а улица ничего не забывает.
— Да, — задумчиво повторил начальник цеха, сдаваясь. Но тут он опять кое-что вспомнил и сказал с надрывом: — Без ножа режешь, Миша. До конца квартала неделя осталась, план трещит… И думать, брат, не моги, чтоб без отработки.
— Имею на то моральное право. Мой план, Михаил Алексеевич, не трещит.
— Не твой трещит, а цеховой, несознательный ты элемент! В оставшуюся неделю дал бы ты мне еще пять процентов, а? Подналяг на своих, возьми голосом, чертом, чем хочешь, а дай.
— Три с половиной, Михаил Алексеич, и не больше. Остальные полтора процента возьмете в других сменах. Вам не в первый раз.
— Миша!
— Вот расчеты, Михаил Алексеич. Смогу дать продукции еще на три с половиной процента — и не больше.
С тем и расстались. Михаил поднялся в свой закуток — конторку, огладил взглядом оцинкованный, матово поблескивающий стол, заваленный чертежами, потом сквозь стеклянную стенку вниз, где солдатами в строю стояли станки. В их ровном мощном гуле, в неторопливых движениях людей, в воздухе, напоенном запахами масла, окалины, свежеструганого металла, — в воздухе, которым он дышал двенадцать лет! — было такое, отчего Михаил дернулся, сделал шаг к двери и лишь тогда понял, что идет взять свое заявление назад. «Еще раздумаю, Миша», — вспомнились ему слова жены. Как бы ему самому-то не раздумать, черт!.. Но по металлической лесенке уже поднимался к нему мастер участка Петр Федорович Касаткин, чем-то очень рассерженный.
— ИК-62 гробанулся, Алексеич, — сказал он.
Михаил вспомнил о трех с половиной процентах, обещанных начальнику цеха. Сломавшийся станок пробил в них теперь хоть и небольшую, но ощутимую брешь. Чем ее затыкать? Да станком же… Следовало вывернуться, исхитриться, вылезти из шкурочки, а запрячь «Костю» к завтрашнему дню. Оба понимали, что отремонтируют его наживушку, станок протянет неделю и замолчит, — и оба стали набрасывать план действий, чтобы выиграть эту горячую, дорогую неделю.
Когда закончили, Касаткин сказал:
— Через два месяца, Алексеич, ухожу. Шестьдесят стукнет.
— Поздравляю, Петр Федорович. И жаль. Руки у тебя золотые.
— Успеешь еще поздравить, — сказал Касаткин, поднимаясь. — Нашел с чем поздравлять — со старостью. Хоть два месяца, а мои. Торопиться не к чему.
— Так ты же сам напросился на поздравление, — рассмеялся Михаил. — Я сам ухожу, Федорыч. Заявление сегодня подал. Совсем уезжаем отсюда.
— А надо ли? — Касаткин сел. — Надо ли, Миша? Вроде у вас наладилось, вроде не слышно про Татьяну ничего. — Касаткин смущенно отвел глаза. — Извиняй, коли напомнил.
Касаткин действительно никогда ни словом, ни намеком не возвращался к тому вечеру… Михаил был благодарен ему, но постоянно при встречах чувствовал гложущее неудобство от постыдной тайны, хранимой обоими. Будто Касаткин открыл ему глаза на что-то, чего он сам не знал в себе.
— Этого-то не было, — сказал Михаил и тут же ощутил, как зажглось лицо, потому что было, было это… Ловил он и позже жену на мелочах: то французские духи в кошелке обнаружит, то наткнется в шкафу на джинсы с заграничными заклепками на заду… — Нет, не было этого, — повторил он с чувством унижения от необходимости врать и не понимая, откуда такая необходимость и почему не сказать Касаткину правду, а сказать ее язык не поворачивается… Уже второй человек, думал он, считает, что у нас с Таней жизнь наладилась.
И чтобы закончить тягостный для себя разговор, Михаил добавил:
— Сам посуди, Федорыч, сын у нас подрастает, об нем думать надо. — И мысленно повинился перед сыном, второй раз он прикрылся сегодня его именем, как щитом.
«Уезжать, быстрее уезжать, — думал он в обеденный перерыв, вяло дожевывая еду, взятую из дома. — Изоврался весь, под корень. Еще не вор, не спекулянт, но уже укрыватель. Вот почему меня жмет, когда вижу Касаткина.
Он сидел, привалившись спиной к штабелю еловых плах. Теплое солнце, чуть привядший запах развороченной древесной плоти нагоняли дрему; на заводском дворе, тут и там, расположились рабочие.
Он, занятый своими мыслями, не прислушивался к разговорам, но вот одно слово поразило его, второе…
— Мужики, — спросил он, — о чем это вы?
— Хо! — быстренько откликнулся Иван Бурцев. — Ты что, Михаил Алексеич, ничего не знаешь?
Бурцев начал рассказывать, но рассказывал, отметил Михаил, как-то уж слишком заинтересованно, лихорадочно, что ли… Иван выдал подробности, настолько жестокие и невероятные, что воображению уже нечего было делать, оно молчало. Женщину Михаил не знал, но по возрасту она могла быть ему матерью, и он, рано осиротевший, вздрогнул, представив, что вот так могли бы убить и его мать…
— Сволочи! — сказал он горько. — Ну, сволочи! Найти бы и перестрелять как собак!
— А меня в милиции об Инжеватове расспрашивали…
— Это кто такой?
— Да наш, плотник… Зять убитой… Я им говорю: вы, товарищи, не белены ль объелись? Этому мужику не то что тещу убить, его всякая сырная муха обидит. Еле отгородил. А уж было взять намылились… Работнички, мать их за ногу!
— Зато ты у нас работничек. Станок запорол!
— Алексеич! Ну что теперь? Так и будешь всю жизнь казнить?
Перерыв кончился, и, без разгона взяв предобеденную скорость, завертелись маховики тяжелого дня понедельника. Как татарская рать, снова поперла на Михаила всякая мелочь, рожденная далеко еще не идеальной связью человека и машины. В довершение ко всему пришел начальник цеха, добрейший тезка Михаил Алексеевич. Пришел он из заводоуправления и потому был суров, тряс Михаила как грушу, въедливо проверял его расчеты, жал и выжал не три с половиной, как почти условились утром, а четыре процента. И это — до чего же цепкий мужик! — при вышедшем из строя станке. На сообщение о станке начальник цеха лишь поморгал запаренными глазами, обронил: «Меня это покуда не касается», — и пошел себе дальше, несокрушимо уверенный, что слово человека и сила приказа понадежнее самых выверенных расчетов. И они, выверенные, были сунуты Михаилом в ящик стола за ненадобностью. Кляня в душе этого старого производственного зубра, который из всех видов трудового героизма признавал и понимал только героизм лихорадочный, Михаил торопливо сбежал по лесенке в цех. Опять не удалось ему оградить свою смену от штурмовщины, опять смена закончит квартал с большим перевыполнением, но с такими потерями, которые ей не раз аукнутся. «Погоди, тезка, погоди, штурмовик несчастный, — мстительно приговаривал Михаил. — Загну тебе салазки на первом же собрании». Как будто раньше на собраниях он не загибал ему салазок… И как будто это, новое, собрание еще могло быть в его жизни… Так неумолимо крутились маховики понедельника, так жадно и без остатка пожирали они всякую постороннюю мысль, что Михаил и думать забыл о заявлении, которое подал сегодня утром.
И вспомнил о нем уже вечером, когда подходил к дому. «Уезжаю», — удивился, словно не веря себе. «Уезжаем», — поправился он и заторопился к калитке, чтобы скорее увидеть Таню: как она там, не раздумала ли? Торопясь он все же цепкими чужими глазами покупателя (дом-то придется продать!) охватил фасад и крышу, остался доволен: хоть и не ново все, но добротно. На трубе, правда, не хватало верхнего облицовочного кирпича, это непорядок, надо сегодня же поставить. А что это у нас с печкой, думал он, прикрывая калитку, почему она горела? Память тут же подсунула слова Тани: «Чистить ее надо, Миша». Он кинул щеколду в паз… «А с какой стати чистить? Я же прочистил дымоход весной, сразу же, как кончили топить». Он затоптался на месте, недоумевая. А память уже подсказывала страшные подробности рассказа Ивана Бурцева, причем эти подробности неведомым образом связывались теперь с его домом, с Таней, и память же отбросила его назад, к тому мгновению, когда после рыбалки он открыл дверь горницы, увидел свежевыкрашенные полы, учуял слабый запах, которым никак не могла пахнуть масляная краска. И почему Таня сама выкрасила полы, ведь это же всегда делал он? «Да что за напасть такая, — сказал себе Михаил, — ты только подумай, в чем ты подозреваешь жену!» Не желая думать и все-таки думая об этом и казнясь, он кружил и кружил по двору — искал какие-то чужие следы, а какие и что именно он ищет, не смог бы ответить, если бы его и спросили. Во дворе, в сарае, в закутке, в котором стоял его верстак и лежали в ящике инструменты, все было так, как он оставил в пятницу утром. Михаил вздохнул облегченно… И вдруг заметил, что нет второго, маленького топора.
— Миш, пришел?
Она стояла сзади, голос ее был чист и ясен, и у него отлегло. Он сидел на корточках перед ящиком с инструментами, спиной к ней, надо было бы подняться, ответить, но он не мог этого сделать: ему замкнуло горло. Наконец собрался с силами и сказал как можно небрежнее:
— Топор ищу. Надо бы его на новое топорище насадить.
— А я уже побеспокоилась, — сказала она. — В субботу ходил по дворам старичок, кликал — я и отдала. Обещал найти дубовое топорище. Такое век прослужит. Нам в лесу топоры понадобятся.
Он верил не столько ее словам, сколько голосу, спокойному лицу и улыбке. Мысленно виноватясь, подошел, приобнял легонько, спросил:
— Ну как ты тут? Не раздумала?
— Чего ж раздумывать? Решили… Раньше бы надо было, Миша, додуматься-то.
Прикоснувшись к ней, Михаил совсем успокоился и даже посмеялся над своими страхами. Они казались ему нелепыми и до того стыдными, что он и под пытками бы не признался в них Тане. Звякнула щеколда — и уже бежал к нему Колька, и, поймав его на руки, он подумал: сын-то ведь был дома, возможно ли при нем?.. Кем же это надо быть? Ах, идиот, идиот! Прости, Таня, своего дурака… Но перед ужином, опять не в силах совладать с собой, он пошел в горницу, открыл дверь и жадно втянул в себя воздух. Пахло краской, чуть-чуть горелой бумагой, но того запаха, который чудился ему вчера, не было.
После позднего ужина Михаил, дождавшись сладкого посапывания Кольки, уснул — и даже не слышал, как легла к нему жена. Проснулся он под утро — и стал думать. Почему Таня сказала, что топоры понадобятся в лесу? Откуда вечером в пятницу она могла знать про лес? И почему вдруг такая заботливость о вещах, о которых она никогда не заботилась? Почему?
Как просто: разбудить жену — и спросить, и рассказать ей, и повиниться, и снять эту тяжесть с души. Господи, как просто! И как бы он был благодарен ей. Но где взять силы? Спаси меня, Таня, спаси от страшных мыслей, милая, родная.
Он решил разбудить ее. Прислушался.
Таня ровно, тепло и сонно дышала ему в плечо.
Он замер. Ему почудилось: она тоже не спит.
2
Виктор собрался, и они пошли. Огарев посапывал, вздыхал и старался вести его к райотделу безлюдными переулками.
— Что-то ты тяжело дышишь, дядь Коля, — насмешливо сказал Дроботов. Он шел, насвистывая легкий мотивчик. — Не страдай. Исполнил свой долг — дыши спокойно.
— Нынче, гляжу, я тебе уже дяденькой стал, — проворчал Огарев. — А вечор ты мою фамилию у следователя Емельянова переспрашивал, племянничек новоявленный.
— Тактика, дядь Коля. С вашим братом надо ухо держать востро.
— Не на тех ухо востришь. Ухо свое держал бы востро, когда Паузкин тебя на пикники приглашал. По степям шастали, у чабанов бешбармаки жрали. А прикинул бы, тактик: за что же тебя бешбармаками угощают? За какие такие выдающиеся достижения в овцеводстве? Вот она, твоя тактика, — полон дом слез оставил.
— Ничего, дядь Коля, поплачут — и перестанут. Это им за «Рассказ нищего»… А Паузкина ко мне не лепи, он — жулик. Не раскусил я его, куркуля.
— Витька! — гневно сказал Огарев. — Ведь я тебя мальчонкой помню и совестливым. А теперь разъясни мне за-ради бога: с каких пор ты стал такой плавучий? Ну совершенно непотопляемый! Мать, жена, дочки плачут — тебе ничего. Жулика под крылом пригрел, около него уж два года отираешься — опять ничего. Вчера подписку о невыезде дал, чернила на подписи еще не просохли, а ты, домой не заходя, в степь ударился, к чабану, к дружку своему корыстному. Подписку нарушил, следователя Емельянова подвел — и опять ничего! Тебя нынче свободы лишили, а ты…
— Позволь, товарищ Огарев, — вскинулся Дроботов, — выбирай формулировки! Меня задержали, а не арестовали. Понимать должен разницу. Через семьдесят два часа — пожалуйте обвинение. А не предъявите — я тебе же, товарищ Огарев, ручкой помашу.
— Дурень ты, дурень… Это по закону — разница, а по-человечески, по совести ежели рассуждать, разницы никакой нету, Витя. Семьдесят два часа ты будешь без свободушки. А без нее доброму человеку и минуты прожить невыносимо. За твою-то свободу у нас там, — Огарев махнул рукой туда, куда шли, — борьба мнениев открылась. М-да… А ты? Идешь, песенки насвистываешь… Тебе — опять ничего.
— Вы с Емельяновым словно сговорились, — усмехнулся Дроботов. — В одну дуду поете.
— Емельянов всего лет на пять постарше тебя, а разница меж вами… и-и-и, касатик! Далеко тебе до его сердечной чистоты и душевности. Этот много будет думать, прежде чем сунуть человека в камеру.
— Да лучше бы уж и сунул… А то всю душу вытряс. Водил, водил вокруг убийства, я и оглянуться не успел, а он уже меня подвел к нему да и ткнул мордой в Аришин халат. Тут поневоле задумаешься: уж не я ли? От тебя того же жду… Того и гляди, скажешь: признавайся, Виктор.
— Признавайся, Виктор, — сказал Огарев. — Вспомни слезы своих дочерей и признавайся, не вертись вьюнком, будь мужчиной. Перво-наперво: зачем ездил к чабану в ту ночь, когда была убита Рудаева? Почему нарушил подписку и опять уехал в степь? Что тебя туда тянуло?
— Да не в том дело! — воскликнул Дроботов. — Ты с луны свалился, что ли, участковый? Меня в чем обвиняют-то? А ты — про чабана, про подписку…
— Заюлил, заюлил… Вот потому-то Емельянов и ковырялся в твоей увертливой душонке. Видит: то тебе ничего, это нипочем, а отсюда недалеко и до убийства… Но все ж он поверил тебе. А я вот думаю: не ошибся ли? У чабана твоего мы нынче кое-что изъяли и отправили на экспертизу. Найдут эксперты кровь Рудаевой на тех предметах, тогда что ж… Тогда сомневаться боле уж не будем.
— А обрывок халата, дядь Коля? — с надеждой спросил Дроботов. — Отослали на экспертизу?
— Ответ уж получили. Ее кровь на нем, Виктор. Много, много на тебе висит.
— Ну, все, — сник Дроботов. — На допросе у Емельянова еще верилось как-то… А теперь — все! Пропал я… Своих домашних почище следователя допросил, но и не возьмем в толк: откуда этот лоскут? Ты про какие-то предметы говорил, которые вы изъяли у чабана. Я не знаю, что это, но чувствую: будет и на них кровь тетки Ариши! Ни в бога, ни в черта не верю, но, дядь Коля, это же какое-то колдовство. И все на меня, на меня, на меня!
— А на два мои простеньких вопроса так и не ответил, — сказал Огарев. — Что ж ты дурочку валяешь, щенок? Колдовство приплел… Стыдись!
Дроботов замялся.
— Вот жизнь! — вздохнул Огарев. — Прожил, почитай, ее, а не перестаю удивляться. Над человеком подозрение в убийстве висит, до обвинения недалеко, — есть ли что позорнее этого? Выходит, есть… Зачем в ночь гибели Рудаевой ездил в степь? Ну!
— А когда мне еще ездить! — взорвался Дроботов. — Ночью ты хоть спишь… А днем у тебя всюду глаза.
— И ночью ты от людских глаз не скроешься. Далее отвечай!
И опять замялся Виктор Сергеевич Дроботов. Очень ему не хотелось говорить!
— А придется… — сказал он вслух. — Все равно допытаетесь. Зря я лез в бутылку на допросе у Емельянова, А к кому ты меня сейчас ведешь, дядь Коля?
— Не крути, Виктор!..
— Ну ладно… Митька Батаев, к кому я ездил, моей жене дальний родственник. В его отаре моих овец с десяток ходит…
— В совхозной отаре, — поправил Огарев.
— Отвез ему дрова на зиму и кое-какие запчасти к «Жигуленку». Но говорю тебе, дядь Коля, — заторопился Дроботов, — с Паузкиным меня не путай. Все покупное!
— Как можно! — отозвался Огарев. — Паузкин жулик… а ты у нас честный человек… Однако и покупное возишь почему-то тайком и по ночам.
— Вот-вот… Этого и боялся. Начнете теперь меня поджаривать на медленном огоньке.
— Тебя, помимо угрозыска, ОБХСС еще поджарит, и не раз. За мудрое руководство автоколонной… Далее!
— А что далее? Знал бы, что в ту ночь была убита Рудаева, обождал, уехал в другую. Я ж не дурак — под прямое подозрение себя подводить.
— Подписку зачем нарушил? Почему сразу после допроса рванул в степь? Забеспокоился и решил понадежнее кое-что спрятать?
— Дядь Коля, ты в Шерлоки Холмсы не рвись, тебе дедукция противопоказана… Если бы я решил в степи «кое-что» спрятать, то первым делом спрятал бы там труп. Степь широка, ищи его… А его кинули в ерик. Очень укромное местечко, скажу я тебе!
— Ты крылышки-то не расправляй. Уж поверь мне, старому: от преступника можно ждать все что угодно. Он убил — и сам в смертном страхе, ему не до рассуждениев… Ждешь, скажем, что он, имея машину, отвез и закопал труп в степи, а он взял и выбросил его в ерик… Но это к слову. Ты-то что прятал в степи?
— Овечек, дядь Коля… После допроса подумал: а ведь Митьку Батаева начнут трясти. И выплывут тогда мои овечки… Съездил, предупредил, чтоб молчал, — и назад.
— Вот, значит, как… — проговорил в раздумье Огарев. — Тебе, парень, одно теперь спасение: перед Емельяновым — как на духу…
— Пусть он одно знает, дядь Коля, — я не убивал! А все эти халаты, шоферские путевки и чего вы еще нашли у чабана? Все это ко мне отношения не имеет. Диво дивное! Приехал к Митьке, сказал и уехал, а они нашли… Этак вы на нашего брата не знай чего найдете, чтоб убийство приконопатить.
— Опять? — строго спросил Огарев. — Заегозился? Крылышками захлопал?
— Я не убивал, дядь Коля, — устало сказал Дроботов. — Верь мне: не убивал.
Пошли молча. Минуты через две Дроботов, забывшись, снова засвистал веселый мотивчик. Огарев с изумлением глянул на него.
— Ну, Витька, — сказал, — ну, Витька! Сил моих с тобой больше нету. Ох, с каким бы удовольствием снял бы я с тебя джинсики и выпорол. Чтоб ты всю остатнюю жизнь, прежде чем словчить, на собственные ягодицы поглядывал!
3
По утрам, вместе с солнцем, истаивал дурной туманец в душе Михаила Бурлина, пропадали ночные страхи. Вставали Бурлины рано. Таня собирала завтрак, Колька мыкался по горнице, ища запропастившийся пенал, Михаил просматривал его тетради, наблюдал, успокаиваясь, за обычной утренней суетней жены и сына, милой его сердцу.
— Пап, — ныл Колька, — где ж он, пенал-то?
— Ускакал куда-нибудь.
— Такой же неслух, как и ты, — поддерживала мать. — Сколько говорено: сделал уроки — сразу собирай свой ранец.
— Вам бы все меня критиковать, — заявлял Колька. — А я вот в школу опоздаю. Хорошо будет?
— Да чего ж хорошего, — ответил Михаил. — Выпороть тебя тогда придется.
Колька думал-думал, говорил:
— Поищу, пожалуй, пенал-то.
— Поищи, сынок.
Страхи его пропадали, подозрения улетучивались, но они были же, были! И будут. Ночь снова придет… Михаил понимал, что такой груз в душе долго носить не сможет. Но теперь, при свете дня, ему казалось, что дело уже не в Тане, только такой сумасшедший, как он, мог связать убийство неизвестной старухи с именем жены. Дело в нем. Если он мог подумать такое о жене, значит, тут только два объяснения: или он действительно сумасшедший и об этом пока еще никто не знает, или же виноват сам…
— В чем? — спросил он с возмущением и спросил вслух.
— Ты что, папка? — сказал сын. — Чего-нибудь у меня неправильно?
— Все у тебя правильно, сынок, — Михаил отдал ему тетради. — Это я об работе думаю.
— А ты придешь на работу, тогда и думай, — сказал Колька. Пенал он нашел, в тетрадях ошибок не оказалось. Потому и выдал с материнской интонацией: — Сейчас, папка, ты обязан о семье думать, как все добрые люди.
«О семье и думаю», — хотел было ответить Михаил, да прикусил язык: вошла Таня, поставила на стол сковородку с яичницей. «Завтракать, мужики!» — сказала она с улыбкой.
Позавтракать еще не успели, как явилась старуха Акулина Короткова, соседка. С порога, не поздоровавшись, дрожа от возбуждения, спросила:
— Слыхали?
Трое Бурлиных молча и удивленно глядели на нее.
— Убивца-то нашли! И кто? А? Витька Дроботов, Михеевны сынок, — в многотысячном поселке Акулина знала многих поименно. — От сынок, всем сынкам сынок! Его еще анадысь, в воскресенье, повели к ответу, да выпустили. Видать, сумление было. А вчерась законопатили в милицию насовсем. Михеевна волосы на себе рвет…
Понаслаждавшись мгновение, Акулина продолжала с сарказмом:
— Рви, матушка, рви остатние волосенки… Произвела на свет убивца, теперя и рви, и реви, да поздно. А туда же — в начальники вышел. От они, начальнички-то, мать их…
— Акулина! — звенящим голосом сказала Таня. — Ребенок за столом!
— Колька, забудь, — тут же повинилась беспардонная Акулина. — Забыл?
— Забыл, баушка, — ответил Колька. Как ни странно, он любил старуху, пропадал у нее часами. — Нехорошо ругаться, баушка.
— Знамо, нехорошо, касатик, — Акулина пятилась к двери под взглядом Михаила. — Ты уж меня прости, глупую. До свиданьица!
И выскочила за дверь. Таня, глядя на побледневшее лицо мужа, сказала:
— Ну что мне теперь, Миша? Не на запоры же от нее закрываться. Клянусь тебе, никаких дел у меня с ней нет!
А Михаил не слышал ее слов, не об этом думая. Ему дышалось легко, освобожденно… Нашли! Боже мой, нашли! А он-то, он-то каков! Прости своего сумасшедшего, Таня…
Глава пятая
1
Для оперативной группы, работавшей над раскрытием убийства Рудаевой, был отведен в райотделе просторный кабинет, который стал штабом розыска. Поздними вечерами здесь собирались все. Из управления приезжал тогда полковник Максимов, ему докладывали, что сделано за день, уточняли план действий на завтра. И так — до следующего вечера. А в течение дня единственным хозяином кабинета был инспектор областного уголовного розыска старший лейтенант Виктор Сергунцов, да и он не сидел на месте: появлялся, исчезал, снова появлялся, звонил следователю Зародову в прокуратуру, экспертам — в управление, кого-то о чем-то просил, с кем-то уславливался о встрече, а с кем-то ругался нешуточно, и его тоже поругивали… Снова исчезал и, появившись, принимал посетителей, желавших высказать свои соображения об убийстве; знакомился с рапортами сотрудников райотдела, устанавливавших, что «убийцы», как правило, никакого касательства к Рудаевой не имели, но зато имели весьма натянутые отношения с уголовным кодексом… Каждый день наваливалась на Сергунцова эта неблагодарная, кухонная работа, без которой, однако, не обойтись, потому что преступник пока еще разгуливает на воле, а в массе пестрых фактов, которую ежедневно перемалывает проверочная машина розыска, могут оказаться золотоносные крупинки, хотя бы отдаленно намекающие на его след. Эти крупинки очень легко просмотреть, но ведь для того исоздается оперативная группа, чтобы толково, целенаправленно, с привлечением криминалистики знать, что и где искать. И тогда случается, что звонит телефон, Виктор Сергунцов берет трубку и слышит голос дежурного по райотделу старшего лейтенанта Романова:
— Виктор Гаврилыч, тут к тебе посетитель. Заявление желает сделать.
У Сергунцова дел по горло, а такие звонки и посетители были…
— Пригласите ко мне, — отвечает он без всякого энтузиазма.
Через три минуты в кабинет входит токарь Иван Бурцев. В руках, прижимая к могучей груди, он держит цинковое ведерко, запакованное в большой полиэтиленовый мешок. А еще через пять минут Сергунцов в подробностях узнает, как токаря Ивана Бурцева победили домашние… И что-то не так стало в жизни Ивана. Жена не мила. Батя блудливо отводит глаза, а то и с презрением глянет на родного сыночка: во что ты, мол, и меня превратил, курица мокрая? Это все-таки твоя жена, а не моя… Четыре дня крепился Иван, а на черта, спрашивается, такая жизнь? Вину свою признает, готов сесть, вот и кошелку с собой прихватил, чтобы, значит, без всякой задержки…
— Ведро вижу, — сказал Сергунцов, сдерживая невольную улыбку, — кошелки нет.
— За дверью оставил, — ответил Бурцев. — Чай, у вас вещички не пропадают?
Вернулся с кошелкой, водрузил ее на стол рядом с ведром, пояснил:
— Харчишки, бельишко… Тут не курорт, ясное дело.
— Жена собирала?
— Какое! — Бурцев глянул на часы. — С работы только возвращается… Кошелку мы с батей спроворили. Он у меня в недавнем прошлом знаменитый на Волге капитан. Сейчас капитанский китель с наградами надевает, чтобы, значит, бурю и натиск выдержать достойно. Он там, а я тут за честь фамилии будем страдать.
— Тут вам, гражданин Бурцев, страдать, пожалуй, не придется. Сейчас дадите следователю официальные показания и…
Такая перспектива явно не обрадовала Бурцева. По всему было видать, что страшнее домашних страданий для него нет ничего. Сергунцов вдруг подумал, что иному мужику легче пулеметную амбразуру закрыть. Да… Вот жизнь! С щемящей добротой и симпатией к этому увальню, стремясь хоть как-то утешить его, он сказал:
— Иван Сергеевич, мы ведь, знаете ли, по необходимости насквозь бумажные люди… Сначала дадите официальные показания следователю, затем надо будет зафиксировать то, что вы принесли в ведре. Часа полтора уйдет на все. Первый натиск к тому времени разобьется, а второй вы уж как-нибудь, думаю, вдвоем выдержите. Да и будет ли второй? Вы в тюрьму собрались, котомку взяли, а может, уже сидите, горемычный… Сердце-то у жены все ж таки не камень, а?
Иван ничего не ответил на это. Ладно, думал Сергунцов, оставим тебя с твоими горестями. Человек за все платит, вот и ты, хороший и добрый Ваня, выплати положенное. Хотя бы за то, что смалодушничал и не принес ведерко в первый день. Тогда оно было бы ох как к месту! Теперь оно тоже нелишне, но яичко-то дорого к христову дню. Впрочем, смотря что в ведре…
— Что в ведре? — спросил он.
— Обрывок халата, — ответил Иван. — Полусожженный. Сверху. А под ним…
Он шумно втянул ноздрями воздух, страдальчески сморщился: запах уже проступал в комнату и сквозь полиэтиленовый мешок. Спросил:
— Неужто вынимать будете? Копаться?
— Помилуй бог! — разозлился Сергунцов. — Как можно! Зачем это нам? Выбросим!
Иван виновато опустил голову. И долго сидел так, не поднимая глаз. Пострадай, опять подумал старший лейтенант, пострадай, добрый человек Ваня, тебе на пользу. А нам пора снова за работу.
Собственно, работа Виктора Сергунцова в данный момент заключалась в том, чтобы раскрутить работу… И вот уже из прокуратуры приехал следователь Зародов, сильно недомогавший в последнее время. На второй этаж райотдела, где был штаб опергруппы, он так и не смог подняться — ко всем его прочим болям добавился еще и радикулит. Пришлось старшему лейтенанту организовать для следователя помещение внизу, куда и спустился Бурцев со своим ведром. Затем Сергунцов вызвал участкового инспектора Огарева и поручил ему привезти в райотдел семью Бурцевых, которых тоже надо было допросить. А поскольку жили они на участке Огарева, то кому, как не участковому, проверить у нее «Пионерку» за 20 августа? Они эту газету, сообщил Иван, выписывали. Огарев же должен был поинтересоваться у старого волгаря-капитана, нет ли в их доме чистых шоферских путевок и бухгалтерских платежек, особенно последних, потому что супруга Ивана работала бухгалтером в СМУ. Закрутился старший лейтенант Сергунцов: то учесть, это не забыть, тому дать ход, от того принять рапорт о выполненном задании, этому дать новое — ах боже ты мой! Конец будет? Как прекрасно — мчаться за преступником в машине, желательно в «Волге», немыслимые виражи, машина переворачивается, горит, но ты вылезаешь из нее целый и невредимый, с пистолетом в руке, подлетает мотоцикл, прыжок в люльку — и дальше, дальше… Живут же люди! А тут ни разу не пришлось…
Не на машине, а на своих двоих бежал однажды младший в ту пору лейтенант Виктор Сергунцов на дальний девичий крик о помощи. Ночь, заброшенный парк, темень, лужи, грязь, сапоги пудовые, шинель отсыревшая, неподъемная — ни шику тебе, ни красоты, дыхания не хватает, глаза того и гляди выхлестнет, потому что это уже не называется — бежать, это называется — ломиться сквозь деревья и кустарник. И наконец у светового столба — вот радость-то, лампочка сохранилась! — видит он прилично одетого гражданина, который заполошно машет, кричит что-то, зовет на помощь. К нему, скорее! Младший лейтенант наддает, подбегает, дыхания у него теперь уж совсем нет, чтобы спросить — что, где? — но дышать Сергунцову больше и не придется, потому что прилично одетый гражданин молча и деловито сует ему в живот дуло пистолета и — щелк! — просто, знаете ли, без предупреждения, — щелк! — и ничего более. А если бы боек был в исправности? Что тогда? Где она, смерть яркая, при выполнении особо опасного задания. Чтобы дети и внуки вспоминали, раз уж пришлось отдать жизнь? Даже помереть красиво не дал бы, сволочь! Доставил он этого гражданина в райотдел, а дежурный, нет чтобы от лица службы сказать младшему лейтенанту золотое слово, с благодарными слезами смешанное, по запарке отругал его же! Во-первых, что за вид? Почему шинель угваздана и хлястик оторван? Во-вторых, где протокол задержания? У кого изъят пистолет с четырьмя боевыми патронами? У этого? Ах, у этого… А суд откуда узнает? Ты что же думаешь, младший лейтенант, — привел, сунул в камеру, и дело с концом? А до суда этого бандита кто доводить будет?
И ничего ведь дежурному не возразишь, ничем не оправдаешься: шинель угваздана, хлястик оторван, протокола нет, поскольку там, в парке, под проливным дождем, просто случайно — такое, знаете ли, невезение — не оказалось в кустах канцелярского стола с письменными принадлежностями. Сел младший лейтенант писать злополучный протокол, а пальцы ручку не держат, он и так, он и этак, он конфузится — не держат! Написал все ж таки. Почти зубами.
Старший лейтенант, вспоминая теперь все это, некоторое время чему-то туманно улыбался… Ладно, подумал он, у кого как, а у нас вот так, неярко, буднично, но…
Свидетельские показания Бурцевых следователь Зародов сейчас, поди, уже оформил, поэтому самая пора пойти к нему. А Зародов, потирая поясницу и болезненно морщась, сказал с сожалением:
— А ведь была версия!
— Была, — вздохнул Сергунцов. — Ох, была!
Оба имели в виду версию на причастность Виктора Дроботова к убийству. Иваново ведерко поставило сейчас на ней последний крестик. Поначалу, думал Сергунцов, такой она казалась плотненькой, такой выразительной… Зафиксировали: пошла тетка Ариша к Дроботовым на телевизор — раз. Еще зафиксировали: смотрела фильм, после чего Дроботов проводил ее до своей калитки, — два. Его внезапный, подозрительный отъезд глубокой ночью, когда Ариша была уже мертва, — три. Затем обыск: обрывок халата, остатки душегрейки, черевички, все это в Аришиной крови, — четыре. И ко всему этому — ложь. Мать и жена хотели как лучше, а их сын и муж, любитель дарового мясца и икорки, хотел прикрыть свои темные делишки. Не остановился даже перед тем, чтобы нарушить подписку о невыезде, наглец. И мы вынуждены были выдирать его из собственной лжи, где справедливость? Полегче, полегче, товарищ, на поворотах, самокритично поправил себя Сергунцов, справедливость была и будет, на том стоим. Дроботовым теперь займется ОБХСС, а мы, отрабатывая версию, узнали про последние Аришины часы кое-что новое. Даже не кое-что, совсем не кое-что… Во-первых, к Дроботовым она собиралась, но у них не была. Не успела. Не дали. И выяснил это парнишка наш, Саня Токалов. Посадил Машу Андрееву за стол так, как она сидела в тот вечер, за столом — те же чашки, ложки, вилки; радио включено, через одну-две минуты даст оно точные сигналы московского времени. С первым сигналом Токалов вышел из горницы к Марии, сказал ей те же слова, которые говорила хозяйка, приглашая задумавшуюся квартирантку на телефильм к Дроботовым. И Маша вспомнила: не так было! Сначала хозяйка упомянула о каком-то деле, а потом уж последовало приглашение к Дроботовым. Что же это за дело? Не очень-то много собиралась Ариша отдать ему времени, поскольку до начала фильма оставались 40 минут: планировала успеть. И не очень-то оно тайное было, если приглашала с собой Машу. Рудаева так и сказала: дельце. Но именно оно оказалось последним в ее жизни — это во-вторых. А в-третьих, преступник — местный, живет в заречной части поселка, там же, где живут Дроботовы и… жила Рудаева. И где живут еще около двадцати тысяч человек… Но на вчерашнем совещании оперативной группы уже сделаны кое-какие коррективы: под проверку попадают все улицы на отрезке пути Рудаевой к Дроботовым…
Все это старший лейтенант прокрутил в голове за две-три минуты, но нелишне и следователя послушать… А следователь говорил:
— Понятна логика преступника, подбросившего обрывок халата и прочее на подворье Дроботовых. Он знал о связях Рудаевой с ними, знал, что она собирается пойти к ним на телефильм. Видимо, понимал, что тем самым выдает себя, и тогда подбросил почти то же самое Бурцевым. Последние, если верить им, даже не слышали о существовании Рудаевой и живут не в заречной части поселка. Тем хуже для нас… Есть в подобном рассуждении смысл, Виктор Гаврилыч?
Вот на такие вопросы старший лейтенант не любил отвечать. Зачем? Что толку? Десятки ответов можно придумать, а все равно не обойтись без тщательной отработки всего, на что указывало содержимое Иванова ведерка. И, кстати говоря, Бурцевым было подброшено не совсем то же самое. Там, в ведерке, оказался такой же бумажный комок, как и в мешке с трупом. Различие было в том, что на одном из бланков бухгалтерского платежного поручения проглядывался машинописный текст. Бланк разорван, сохранилась меньшая часть. Но она может стать крепкой зацепкой…
— Постановления готовы, Кирилл Иванович? — спросил старший лейтенант, уходя от ответа. — Мне отвезти все экспертам, или вы сами?
— Все равно же возвращаться в город, — сказал Зародов. — Отвезу сам. В последний разочек…
— Что так?
— Послезавтра ложусь в больницу. Дело примет следователь Конев. Решено уже.
— Отлично! — вырвалось у Сергунцова, но он тут же и обругал себя маленьким язычком: вот валенок! Что же хорошего, если человек ложится в больницу? И как он истолкует твою радость по поводу прихода другого следователя?
Но слово — не воробей… Сергунцов попытался хоть немного сгладить свою оплошность.
— Кирилл Иванович, — сказал извинительно, — поймите меня правильно. Просто я очень давно знаю Конева, не раз работал с ним. И сюда, на Трусово, приехал знаете откуда? Прямо из Владимировки. С поезда — домой, из дому — сюда. Даже в родимый отдел не заглянул.
И, уже проговорив это, Сергунцов понял, что спорол еще бо́льшую глупость. Во Владимировке, дальнем райцентре области, полгода назад была убита тринадцатилетняя девочка Ира Серова. Дело тогда принял к производству старший следователь областной прокуратуры Зародов, завел его в тупик, передал своему коллеге, тоже старшему следователю, Александру Григорьевичу Коневу. Две недели назад Конев, Сергунцов и работники местного райотдела раскрыли это преступление. После чего начальство отозвало старшего лейтенанта и направило на Трусово, а Конев остался во Владимировке еще на несколько дней — добивать всякие мелочи по завершенному делу. Непроизвольно напомнив все это, Сергунцов наступил Зародову на больную мозоль. «Плохой из меня дипломат, — сокрушенно подумал он, — опять сморозил глупость. А впрочем, почему? Почему не сказать этому человеку прямо и честно: не получается у тебя, дорогой товарищ. От неудач никто не застрахован, но твои неудачи начались, слышал я, с тех самых пор, как дали тебе старшего следователя и стали поручать сложные дела». Но сказать вот так, прямо в глаза, что-то мешало Сергунцову. «Все-таки болен человек», — оправдал он себя, хотя в глубине души знал, что не в болезни тут дело.
И Зародов знал, что не в болезни. Что-то ушло от него… Но что? Не всякий умный человек способен прозреть, заглянув в себя, и далеко не всякий желает в себя заглядывать. А то там разглядишь… Семья, дети, уже возраст и положение старшего следователя областной прокуратуры — поздно менять профессию. «Я болен, я устал, — мгновенно ухватился Зародов за спасительную мысль. — Подлечат, вернусь, и мы еще покажем, покажем… А как Виктор обрадовался-то, — не удержавшись, вновь растравил он себя, — когда услышал о Коневе! Хоть бы кто-нибудь мне так порадовался…»
Сергунцов, конечно, не был ясновидцем, чтобы читать чужие мысли, но потемневшее лицо Зародова кое-что подсказало бы и слепому. Выходя из кабинета, чтобы договориться с дежурным о машине для Зародова, старший лейтенант с невольной жалостью подумал: «Конечно, поздно, кто спорит? Но ведь и мы с тобой, Кирилл Иванович, тут не табуретки поставлены строгать. Тяп-ляп в наших департаментах — это не работа».
2
Минута приема-сдачи дела была для обоих тягостна. Человек легко находит оправдания своим неудачам — и Зародов тоже нашел их. Внешне все было вполне благопристойно, самолюбие его, казалось бы, не должно страдать: он ложился в больницу, и его работу прокурор распределил между другими следователями. Но вот наступила эта минута, и все оправдания остаются при тебе, а ты сдаешь дело. Тебе никто не сказал, что ты не справился с ним, но почему же ты так оживлен, суетлив, разговорчив? Что ты хочешь скрыть от себя самого? Несладко было и Коневу. Его ждали стертые следы, приглушенная временем людская память, для него десятикратно возрастала возможность ошибочных ходов и решений. И как ни скрывали эти два человека свое состояние за незначащим разговором, оба вздохнули облегченно, когда расстались.
Два дня Конев изучал материалы и отбирал из них то, что относилось к выдвинутым версиям. Его предшественник даже этого не удосужился сделать, он без системы свалил в папку протоколы осмотра места происшествия и вещественных доказательств, акты экспертиз, протоколы свидетельских показаний, часто совершенно не относящихся к расследуемому делу. Нельзя было проследить мысль следователя, понять, над чем бьется он, какие версии считает главными, побочными, какие — уже отработаны, а над какими — еще надо работать. Но в этой бессистемности была все-таки своя своеобразная система. В дотошности, с которой Зародов требовал от оперативной группы письменно фиксировать любой факт, попавший в поле зрения следствия и розыска, Конев видел опасение: а вдруг это понадобится? И видел недоверие к сотрудникам розыска: а вдруг проглядят, пройдут мимо? И оглядку на случай неудачи видел: вот, мол, не сидел, работал, каждый шаг документально подтвержден… Как много может рассказать о характере человека следственное дело, нормированное законом до каждой точки и запятой! Формально в этой папке материалов сейчас было больше, чем требовал закон. На формальную сторону и работал Зародов, обеспечивая себе тылы на случай, если не будет найдена истина по расследуемому делу.
Конев не намеревался вести расследование, сидя у себя в кабинете. По его просьбе ему поставили стол рядом со столом Сергунцова, и в семь утра он, как и все члены оперативной группы, являлся на работу. А там — как дело покажет: частенько разъезжались по домам в двенадцатом часу ночи. Первые два дня Александр Григорьевич сидел за своей папкой безвылазно; Сергунцов, по обыкновению, появлялся, исчезал, снова появлялся — и все поглядывал, хмыкая, то на катастрофически худеющую папку, то на корзину, куда Конев, безжалостно уничтожая, выкидывал из папки следственный мусор. Наконец не выдержал, спросил:
— Александр Григорич, свирепствуешь? Уничтожаешь палочки-выручалочки Зародова?
— Приходится, — ответил Конев. — Один добрый человек втолковал мне однажды крепко, что истина не там, — он кивнул на корзину.
— Адресочек! — потребовал Сергунцов. — Не худо бы и мне пройти выучку у этого человека.
— Его уж нет в живых, Витя, — ответил Конев.
— Тогда хоть расскажи. Оторвись от бумаг, а то зачахнешь.
— Рассказать-то можно, — засомневался Конев, — да больно совестно!
— Чего уж там… Меж своими-то…
— Был он старый ленинградский следователь, а я проходил свою первую производственную практику. Нынче практикантов опекают, шагу без поводыря не дают ступить, а мой старичок придерживался иной методы: сразу поручил самостоятельное дело. Простенькое, в общем-то… На гражданку Озерову напали двое, сняли кольцо, вынули из авоськи двадцать рублей. Все произошло в условиях очевидности, нападавшие были тут же задержаны, четыре свидетеля пожелали дать показания. Дело простенькое, но ведь, сам понимаешь, мое первое самостоятельное дело! Я очень старался, Витя… Дотошностью своей измучил и потерпевшую, и свидетелей, и сопляков-грабителей. Хотелось мне сдать дело таким, чтобы шеф, прочтя, похвалил, отметил бы мою высокую профессиональную подготовку… Ну, сдал… Сижу, покуриваю с независимым видом, а сам замер, кошу глазом, жду заветных слов. Ждать пришлось секунд двадцать, не больше. Старичок взял мою папку, положил на ладонь, подержал на весу, оглядел и, не раскрывая, протянул ее мне. Возьмите, говорит, юноша, суд вернет вам это, — тут он с отвращением поморщился, — назад. В лучшем случае — с частным определением в адрес следователя, в худшем — на доследование, что, впрочем, одинаково плохо и стыдно. А я был уже далеко не юноша, поскольку в семнадцать лет ушел на фронт, воевал от звонка до звонка, три года работал на гражданке, женился, ребенка родил, двухгодичную школу следователей заканчивал… Каково ж мне, недавнему фронтовику, выслушивать такое? Но я выслушал. Сильно уважал своего старичка, было за что, а потому позволил себе лишь слабо возразить: «Андрей Михалыч, вы бы хоть обложку раскрыли, посмотрели, зачем же так огульно?» — «Огульно? — старик аж подпрыгнул в креслице от негодования. — Дайте сюда дело!» Я подал, он опять подержал его на весу, спрашивает грозно: «Это что?» Когда я сшивал материалы, то расположил их неровно, из-под обложки торчали бумажные хвосты. Неприятно, конечно, неаккуратно, но ведь и не смертельно, а? Я так ему и заявил. «Ни-ни! — снова вскинулся мой чудесный старик. — Ни слова больше! А то я вам никогда не прощу!» Он мне, видите ли, не простит… «Бойтесь бога, Андрей Михалыч, — теперь уж чуть не взвыл я, — за что вы меня так?» — «За небрежность! — отчеканил он. — Непозволительную! Преступную по отношению к нашей профессии! — Оглянулся и добавил шепотом: — И к за-ко-ну!» Меня поразило, что оглянулся он так, будто закон вживе стоит у него за спиной и может услышать нас. А он продолжал: «Никогда не позволяйте себе, юноша, неряшливо оформлять следственные дела. Мне даже заглядывать не надо, чтобы увидеть: материалы в них не систематизированы, доказательства разбросаны, не следуют одно за другим по нарастающей, а в самих доказательствах обязательно будут неточности, которые и сведут на нет их силу. Вы сами попытаетесь убедиться в этой закономерности или мне убедить вас?» — «Убедите, говорю, только вряд ли, Андрей Михалыч, вам это удастся, я очень старался, а то, что листы сшил неаккуратно, — виноват, поторопился, на будущее учту вашу критику». Это я, Витя, позволил себе вежливо съязвить… Старик со скорбью посмотрел на меня, ничего не ответил, раскрыл дело, стал читать. Через несколько минут, гляжу, он начинает расшивать папку, откладывает в сторону один протокол, второй… Этот второй, не утерпев, я тут же взял со стола, прочел раз, другой — все вроде бы нормально. Отлегло от сердца, я уж хотел положить протокол назад, и вдруг — как по глазам ударило: допрашиваемый расписался у меня везде, где положено, но свою-то подпись я поставить забыл! Тут уж не до гонора, тут одна мысль — быстрей за ручку, расписаться, а старик этак спокойненько говорит: «Да, юноша, да… расписаться необходимо. Но вот беда — не всякая небрежность следователя так легко исправляется. Скажите-ка мне, сколько потерпевших проходит по вашему делу?» Одна, отвечаю. Гражданка Озерова, у которой сняли кольцо, а из авоськи вынули двадцать рублей. «Сомнительно, — говорит мой старик. — Из материалов явствует, что гражданок Озеровых было по крайней мере три». Не может быть, отвечаю, но мне уже ничего не остается, как в отчаянии твердить: не может быть, Андрей Михалыч, потерпевшая в моем деле одна — гражданка Озерова. А он ткнул меня носом в протокол, в котором свидетель утверждает, что у гражданки Озеровой была в руках авоська, ткнул во второй, в котором гражданка Озерова держала в руках уже не авоську, а портфель… Помню, я еще как-то оправдывался, но когда в моем обвинительном заключении у гражданки Озеровой оказался в руках чемоданчик, — тут меня и не стало. Видимо, кто-то и сидел перед стариком в кабинете и, возможно, что-то бормотал в свое оправдание, но это был уже не я.
— Верю, верю, — улыбнулся Сергунцов.
— Были, конечно, и у меня неудачи, приходилось и мне передавать дела незавершенными, но в таком виде, — Конев положил ладонь на зародовскую папку, — я себе уже никогда не позволял.
— Да уж, — вздохнул Сергунцов, — предшественник твой…
— Я не к тому, — прервал его Конев, — чтобы мы сели рядком и отвели душеньку, ругая Зародова. Теперь спрос с нас с тобой. А в нашем расследуемом деле есть одна зияющая дыра. Будь жив старик Андрей Михайлович, он бы накостылял нам обоим по шее.
— А именно? — построжал Сергунцов. — За что именно, Александр Григорич? Это твой Зародов так навалился на Дроботова, что остальные версии ему — трын-трава. Даже не поинтересовался ни разу, как тут у нас дела… А мы работали по этим версиям планомерно и систематически. Хвастаться не хочу, но уже сейчас есть полная уверенность, что выйдем на преступника или через «Пионерку», или через дочку Рудаевой, или через квартирантку Машу Андрееву. Вопрос лишь во времени.
— «Твой» Зародов, «мой» Зародов… Нехорошо, Виктор… Давай не будем делиться. Одну работу работаем… И кстати, в версии, связанной с «Пионеркой», Зародов, как я понимаю, тоже сыграл не последнюю роль. Дату выхода номера, да и само название газеты он дал вам на другой же день. Будь уж объективным, коли хвастаться не хочешь.
— Винюсь! — быстро проговорил Сергунцов. И добавил сокрушенно: — До чего же отвратительно устроен человек, скажу я тебе! Чуть погладят его против шерстки — он тут же на дыбки и норовит ответно ударить. Воспитывай меня и далее, благодетель… Так что там у нас с дырой, где ты ее узрел?
— В материалах уголовного дела, где же еще… — ответил Конев. — Из них следует, что мешок, в котором находились части трупа Рудаевой, не был осмотрен и до сих пор не отправлен на экспертизу. Почему?
— Осматривали — и не раз, Александр Григорьевич, — сказал Сергунцов. — Я тоже было схватился за него, а он еще волглый, корка ила на нем в палец толщиной, трудно что-либо разглядеть. Все-таки я позвонил Зародову, тот ответил, что надо подождать и что непросохшую мешковину эксперты в работу все равно не возьмут. Резон?
— Не резон, — сказал Конев, поднимаясь из-за стола. — Позаботься о понятых, Виктор Гаврилыч. От таких резонов я, слава богу, давно отучен…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении криминалистической экспертизы
…Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:
1. Каково содержание надписей, имеющихся на мешке?
2. Когда и каким красителем исполнены надписи?
Эксперта за дачу заведомо ложных показаний предупредить по ст. 181 УК РСФСР.
Ст. следователь
юрист II класса А. Конев.
* * *
— Надписей… — хмыкал начальник экспертно-криминалистической лаборатории Захаров, рассматривая расстеленный на столе мешок. — Надписей… Громко сказано, Александр Григорьевич. Тут отдельные штрихи всего от нескольких букв — и то еле проглядываются.
— Дорогой ты мой, — сказал Конев, — если бы на мешковине проглядывался адрес убийцы, я, поверь, не стал бы тебя беспокоить.
— Поддел — и рад, да? — ворчливо спросил Захаров и подал ему акт экспертизы. — Пашем на вас, пашем… И хоть бы одно доброе слово.
Конев прочел, высветлел в лице, сказал признательно:
— Спасибо, Аркадий Алексеевич. Весомая вещь!
— Куда уж весомее! — заулыбался Захаров. — У нас контора такая: пишем, что знаем, и не пишем, чего не знаем.
Конев бережно вложил в папку акт экспертизы. Сотрудники Захарова восстановили часть машинописного текста и подписи на бланке платежного поручения, вынутом из ведра, которое принес Бурцев. Подписывал платежку главный бухгалтер Икрянинского отделения госбанка, а райцентр Икряное находился в сорока верстах от поселка Трусово. Конев снял телефонную трубку, соединился с Сергунцовым и попросил срочно выяснить, кто работает главным бухгалтером Икрянинского банка, сказав, что от всей его подписи уцелели на обрывке лишь инициал и две буквы от фамилии.
Захаров между тем продолжал изучать мешковину через сильное увеличительное стекло. Наконец сказал с немалым удивлением:
— Александр Григорич, а ты, пожалуй, не зря обмолвился про домашний адрес убийцы. Адресок не исключен: в этом мешке в свое время была отправлена почтовая посылка. Да, сомнений нет… вот и второй след от сургучной печати. Посмотри-ка сам!
— Было смотрено и было видено, — отозвался Конев. — О домашнем адресе убийцы мечтать не станем, это было бы слишком хорошо, но адресок получателя этой посылки ты, Аркадий Алексеевич, разбейся, а восстанови.
— Разбиться-то я могу, — сказал Захаров, — почему ж не разбиться для старого друга? Да боюсь, толку не будет, время зря потратим. Нет, этот мешочек моим ребятам пока еще не по зубам.
Если уж Захаров говорил такое!..
— Да-а… — разочарованно протянул Конев. — А я-то думал: наука всемогуща.
— Не торопись бросать в нее камень, в науку-то, — сказал Захаров. — Мешок надо отослать в Москву, в Центральную криминалистическую лабораторию. А когда дадут нам электронный преобразователь — милости прошу, заглядывай, и не такие мешочки заставлю заговорить.
— Так чего же ты молчал! — воскликнул Конев. — Собирайся, старина! Пойдем с тобой к полковнику Максимову, он, думаю, пробьет нам эту экспертизу.
На другой день в Москву вылетел капитан Емельянов. А Конев сел на автобус и отправился в Икряное, к Елене Юрьевне Хабаровой, главному бухгалтеру районного отделения госбанка.
3
Александр Григорьевич постучал, вошел и оказался в маленьком кабинете, половину которого занимал стол с ворохом бумаг на нем. Хозяйка кабинета строго сказала:
— Будьте кратки, товарищ. Могу уделить вам пять минут. У меня срочный вызов в город.
— К сожалению, мне надо двадцать минут, Елена Юрьевна, — сказал Конев и назвал свое имя и должность.
Удивительно, думал он, но именно честные, щепетильные, порядочные люди менее всего подготовлены к встрече со следователем. Не со следователем, поправил он себя, с законом… Елена Юрьевна Хабарова была несомненно честным, порядочным человеком, но и ей, молодой, собранной женщине, так ценившей рабочее время, не удалось избежать душевной сумятицы.. «Ко мне? — испуганно спросила она. — Но почему ко мне? Что случилось, чтобы ко мне?» Обычно Конев гасил этот непроизвольный испуг, это недоумение мягкой улыбкой, дружелюбным тоном. Так сделал он и на этот раз.
— Я приехал посоветоваться с вами, Елена Юрьевна. И кое-что, конечно, выяснить. Разрешите присесть? Благодарю… Будьте добры, покажите, пожалуйста, любое платежное требование, подписанное вами.
Из кипы бумаг она взяла одну и протянула Коневу, сказав, что подписала ее десять минут назад. В свою очередь Александр Григорьевич дал ей обрывок платежки, побывавший на экспертизе, и акт экспертов.
Сколько бы женщине ни было лет, почерк ее за редчайшими исключениями остается четким, округлым, с милой детскостью в написании крупных букв. Именно такой и была, подпись Елены Юрьевны на поданном ею документе: строгий инициал и ясная, полная, без мужских хитроумных выкрутасов фамилия.
— Странная платежка, — Хабарова вертела обрывок в руках, пытаясь даже рассмотреть его на свет. — Подпись не вся, но она моя, Александр Григорьевич.
— Ваша, — подтвердил Конев. — Почитайте акт экспертизы.
Хабарова прочла его, улыбнулась.
— Воистину: в огне не сгорит, в воде не утонет. Теперь мы можем легко найти первый экземпляр этой платежки.
Она по телефону дала задание сотруднице и, положив трубку, сказала:
— Боюсь быть назойливой, Александр Григорьевич, а спросить не терпится.
— Отвечу… Убийца вытер руки о первые попавшиеся бумаги и хотел их сжечь. Но что-то помешало ему. Тогда он сунул их в мешок. — Об Ивановом ведерке Конев решил умолчать. — А мешок утопил в ерике.
— О господи! — сказала Хабарова тихо. — О господи!
Вошла девушка в яркой и пестрой, как купол парашюта, юбке-колокольчике, положила на стол листок. Разглядела лицо своей начальницы, и светлые бровки ее удивленно взлетели вверх.
— Ступай, Валя, спасибо, — сказала Елена Юрьевна. — Платежка, Александр Григорьевич, исходит из СМУ-1 «Волгоахтубстроя». Это — на Трусово.
— На Трусово? Но там же есть свой банк!
— Конечно. Однако предприятие, которому это СМУ заплатило две тысячи пятьсот рублей, — у нас, в Икряном.
Она толково и кратко объяснила ему систему взаимных банковских расчетов.
— Не нравится мне кое-что в вашей епархии, — выслушав, сказал Конев.
— Что именно, Александр Григорьевич?
— Я считал, что финансисты особенно строги к учету денежных документов. Неужели у вас нет инструкции, которая бы определяла количество выписываемых платежек? Ведь получается, что одна из них оказалась лишней и превратилась в путешественницу. Почему это стало возможным?
— А потому, что инструкцией предусмотрена и такая вещь, как авизовка…
Хабарова опять сумела кратко и толково объяснить, что это значит, и закончила с чуть заметной иронией:
— Не окажись лишнего экземпляра, вы, Александр Григорьевич, не получили бы возможность проследить его путь. А насколько я понимаю, это для вас очень важно.
Конев рассмеялся.
— Ну хорошо, — сказал он, — вот мы и подошли к главному. Имеются три финансовые точки — Икрянинский банк, Трусовский банк и Трусовское СМУ, — через которые проходил этот документ. Где мог осесть лишний экземпляр?
— Только у вас на Трусово, в СМУ. Подписав все экземпляры, один я оставила у себя, остальные отослала в Трусовский банк. Мой коллега поступил точно так же. А бухгалтер СМУ, получив эту платежку в двух экземплярах, одну вложил в отчетную документацию, другую — порвал и выбросил в корзину за ненадобностью. Кстати, посмотрим на подпись бухгалтера на моем экземпляре. Вот она: «Л. Бурцева».
«Что такое? — насторожился Конев. — А хорошо ли Сергунцов и его товарищи проверили поэтессу и ее мужа?»
Взяв со стола акт экспертизы и обрывок платежки, он сказал:
— Видимо, вы правы, Елена Юрьевна. Бурцева порвала этот документ, как ненужный. Но где? На работе? Или сначала взяла его домой?
— А смысл, Александр Григорьевич? Для подделки? Подчистки? Только сумасшедший будет подделывать и подчищать документ, деньги по которому уже перечислены. Нет, тут другое.
— Логично, — сказал Конев. — Почти убедили, Елена Юрьевна.
— Когда-то, — смущенно произнесла Хабарова, — хотела я поступать на юридический. Очень мне нравилась ваша профессия, Александр Григорьевич. Отговорили нерешительную девушку… Да, а почему «почти»? Почти убедить — это ведь, применительно к вашей профессии, совсем не убедить.
— Потому что кто-то все-таки вынес платежку из конторы СМУ. Иначе она просто не оказалась бы там, где ее нашли.
— Тоже логично, — сказала Хабарова. — Тогда открою вам, Александр Григорьевич, маленькую производственную тайну: есть у нас две уборщицы. Сколько раз им выговаривала: «Бабоньки, нельзя брать домой бумаг из мусорных корзин». Винятся, обещают не брать и берут. Зачем? У нас, Александр Григорьевич, все-таки село, а не город, нас русская печь греет… А печку надо чем-то разжечь. Поселок Трусово я хорошо знаю, там отопление не везде паровое. Думаю, что уборщицы Трусовского СМУ тоже этим грешат. С них, пожалуй, и надо вам начать.
Сказав это, Хабарова спохватилась:
— Простите, Александр Григорьевич, я, кажется, начинаю давать советы следствию лишь на том основании, что когда-то мечтала поступить в юридический институт. Ох, как нехорошо… Сама ненавижу дилетантов — и на тебе!
— Почему же, — сказал, улыбаясь, Конев, — совет дельный, мы им воспользуемся. Благодарю вас, Елена Юрьевна. Две минуты я вам все-таки сэкономил, мы уложились в восемнадцать…
4
Вскоре соседка Акулина Короткова принесла Бурлиным другую новость: освободили начальника автоколонны Виктора Дроботова. В этот раз Акулина пришла вечером. Таня отругала ее: «Ходишь, носишь… а нам-то что? Нам-то зачем знать? И своих забот хватает». Настырная Акулина, что на нее совсем было непохоже, смешалась, ответила: «Человека извели, Таня, ай непонятно? Люди добрые и по сю пору опомниться не могут, а ты? Старушка в земле лежит безвинная, а убивца — на тебе! — отпустили… Жалости, гляжу, нету в тебе, Татьяна». — «Что мне ее жалеть, — сказала Таня, — я про нее раньше и не слыхала. Вот о тебе бы я пожалела». — «Да, уж ты пожалеешь, — засомневалась Акулина, — каменюка холодная». Михаил увидел, как напряглось лицо жены от этих слов, поймал ее беспомощный взгляд, сказал:
— Акулина Степановна, вы больше к нам не приходите. Калитку нашу общую я завтра заколочу.
— Спасибо, Миша, — сказала Акулина вздорным голосом. — А ты, Татьяна, чем мне отпоешь за мою к тебе любовь и потачку?
Она отвернулась. Тогда Акулина поклонилась ей в спину, поклонилась и Михаилу, сидевшему на старенькой кушетке, сказала как ударила:
— Живите!
И открыла дверь. Но уйти ей не дал Колька. Кинулся, повис на шее, целовал… Акулина заплакала. Глянул Михаил на жену — и у нее глаза на мокром месте. Да и ему на своей кушетке что-то стало неудобно…
— Сынок, — спросил растерянно, — тебе бабушку жалко?
— А как же, пап, — ответил Колька. — Ты, бабаня, садись… — И снова — отцу: — Все ее бросили, теперь ты гонишь. Совсем одна. А заболеет, что тогда? Умрет ведь человек, умрет! А вам с мамкой хоть бы хны.
— Да ведь слова-то у нее какие, Коля! — сказала мать. — Слова-то у нее поганые. И разума нет: при ком ни приведись ляпнет — при малом, при старом, ей все одно.
— Не обращаю внимания, — заявил Колька.
— Ох, миленький, — шептала, всхлипывая, Акулина. — Ох, золотко…
— Акулина Степановна, — вконец растерявшись от такого поворота дела, сказал Михаил, — защитник у вас больно могучий, да и я не зверь… Но вы в другой раз все-таки думайте, кому и при ком говорите.
— Неученая я, Миша… Как думается, так и скажется, — по-простому. А все ж при мальчонке я окорачиваюсь… Тань, ты уж прости меня за каменюку-то холодную…
— Это называется — окоротилась… — сказала Таня. — Ты еще разочек повтори, чтоб сын получше запомнил… И насчет «убивца» — тоже. Ох, Акулина, Акулина… Что с тобой делать, прямо и не знаю.
Час спустя, уложив Кольку, она подсела к Михаилу, непривычно тихая. Прижалась плечом, сказала:
— Парень наш весь в тебя. Сердечко ясное… Вот и ты, Миша, извелся весь, мучаешься, милый мой. Я же вижу…
На него после ухода Коротковой снова обрушилось то, прежнее. Пока неизвестный ему Виктор Дроботов сидел в милицейской камере, это вроде бы потеряло смысл, ушло, развеялось в прах, но подспудная тревога все-таки тлела в нем, а теперь вспыхнула с новой разрушающей силой. И надо вложить в слово свои подлые страхи и сомнения, жена ждет, и другого такого случая не будет. Но слово не выговаривалось… И Михаил вдруг понял, что раньше, мучаясь и подозревая, он мучился и подозревал как-то так, вообще, туманно, зыбко. Ни разу он не нашел мужества подумать: «Таня убила, Таня расчленила труп, выбросила его в ерик», — нет, он трусливо обходился смутными намеками, а если и появлялась прямая мысль об этом, он поспешно отшвыривал ее, и она тут же дробилась на что-то мелкое, бесформенное, вроде бы ложное и потому терпимое, позволяющее жить рядом с Таней и не терять веру в нее. Вот в чем, оказывается, дело — об этом надо думать без обмана, если хочешь постичь правду, а он щадил себя, играл в страхи, в мнительность, потому что за ними маячила надежда: выяснят, найдут… Кого-то найдут, про кого он и не знает, зато перед Таней он останется чист, если не в помыслах, то в слове. И Таня перед ним — тоже… И тут ложь, и жалкий, щадящий обман самого себя. А вдруг не выяснят, вдруг не найдут? Что тогда? А ничего… Будет он жить с женой, которая вроде бы убийца, а вроде бы и нет. Ведь живет же он с нею, а она — воровка… но вроде бы и нет, потому что он прикрыл ее грех в тот пятилетней давности сентябрьский вечер, когда пришел к ним Петр Федорович Касаткин. С Петром Федоровичем и прикрыл, и оба теперь блудливо отводят друг от друга глаза при неизбежных встречах в цеху. А с чего бы? Да с него же, с маленького обмана. Такая ведь мелочь: взято — возвращено, а не пойман — не вор, и не отправлять же Татьяну из-за пустяка в тюрьму снова. Они оба, некрадущие, уважаемые, считающие себя честными, были, оказывается, подлее и опаснее ее, раздавленной рулончиком украденного материала, который она, стоя у стола, потерянно и нелепо держала в руках. А могла бы она узнать, что не пойман — но вор… Не узнала. И если Рудаева убита Таней, то убита не сейчас, а тогда, в тот сентябрьский вечер, за тем вечерним столом, — и не Таней, а им самим. Боже ты мой, с тоской подумал он, когда, в какую минуту я превратился в подленького лгуна? Врал Тане, себе, Касаткину — всем! И еще предстоит один обман — уедем в лес. Будто там, в лесу, можно очистить совесть, сразу перешагнув через возмездие, не перестрадав всенародно свой позор.
Она обняла его рукой за шею, притянула голову, сказала тихо:
— Не казнись, Миша… Говори уж… что ты придумал с этой старухой?
— Ты догадалась? — отшатнулся он от нее.
— Невелика догадка, дурачок ты мой. Когда ты думаешь об чем-нибудь, у тебя все на лице. Говори уж…
И он сказал. Слова его, вобрав в себя все затаенные страхи и подозрения, стали такими дикими, такими нелепыми, что не могли уже иметь в силу одного этого никакого отношения к Тане. Трудно, оказывается, думать ясно, четко и безобманно, но еще труднее — сказать. А она слушала внимательно, глядя на него с жалостью, с материнской нежностью. Не рассмеялась его словам как нелепице, не возмутилась, не откликнулась ни единым протестующим жестом.
— Все? — спросила.
— Все, — ответил он, чувствуя, что и на этом, новом для себя пути, он терпит поражение. Добавил, понурив голову: — Прости меня, Таня. Теперь и сам вижу: глупость это.
— Для меня, может, и глупость, — печально сказала она, — а тебя, горюшко мое, эта глупость может запросто до желтого дома довести. Давай разберемся трезво и спокойно. А то ляжешь нынче ночью и опять будешь прислушиваться: сплю ли?
— Значит, все-таки не спала…
— Ты страдаешь неизвестно от чего, а я что же? Я тебе не жена?
— Прости, Тань, — снова повинился он.
— Теперь слушай… Перво-наперво, смутил тебя недостающий кирпич на трубе. Подумай сам: я убивала старуху в доме или на дворе, внизу то есть, на земле. А кирпич-то по какой причине упал с трубы? Из протеста, что ли? Дать знак тебе захотел?
Михаил вскочил, заходил по горнице, сжав голову руками.
— Дурак, — шептал он, — ох, дурак… Такого поискать! Нагородил, наворочал… Не надо, Тань, а?
— Надо, — жестко сказала она. — Теперь разберемся с топориком твоим любимым… Подозрительно, что топоришко отдан мною старику сразу после убийства Рудаевой, да? А почему ты не настораживаешься, когда случайно встречаешь на улице знакомого, которого не видел, скажем, пять-шесть лет? Почему не думаешь, что все эти годы твой знакомый специально проторчал на том месте, чтобы только встретить тебя? Не подсунься ко мне в ту субботу старик — лежал бы твой топорик и до сих пор на своем месте. И не в ящике с инструментами, где ты его искал, а в прихожей, в нижнем ящике комода, там тоже твой хлам лежит, мужичок ты мой хозяйственный… Лучше бы ты этого старика сам поискал, а то он взял топор в работу — и нет его до сих пор.
— Вернул. Дня три тому назад.
— Так ты бы его и спросил, как дело-то было. Кто кого искал: я — его, или он сам по дворам шастал?
— Не догадался, Тань… Не тем мысли были заняты.
— Как же — не тем? Тем самым… Хороший, гляжу, из тебя следователь. Обвинил собственную жену, а там хоть трава не расти… Ладно, далее пойдем… Печь побеленная, полы покрашенные, запах странный… Ну, насчет запаха — я не знаю, это уж, Миша, возьми на себя, разберись сам, если сможешь. А печи наши, в доме и на кухне, проверяли пожарники дня три спустя после убийства Рудаевой. Ты был на работе. Проверили — и ушли, замечаний никаких не сделали.
— А что ж ты мне-то не сказала? — удивленно и обрадованно спросил он.
— Да запамятовала, Миша. Ко всем ходили, у всех проверяли.
И каждому факту, который тревожил его и заставлял подозревать, она дала иное толкование. Даже о сыне, в присутствии которого, как думал раньше Михаил, невозможно было совершить э т о, она сказала:
— Так уж и невозможно… Калитка внутренняя не заколочена, Колька у Акулины часами пропадает…
Лучше бы она не говорила этих слов! С похолодевшим сердцем он подсел кней, спросил:
— Таня, а ты не в кошки-мышки со мной играешь? Все ты мне объяснила, на все у тебя готов ответ. Будто заранее наизусть заучила.
— А мне иначе и нельзя, — сказала она просто. — Запнусь на чем-нибудь, ты меня вновь заподозришь. Тебе со мной, Миша, нелегко, это я понимаю, обжигался ты не раз… Но и мне с тобой трудно. Ты добрый, великодушный, прощал мне много, соседи говорят — он-де все тебе простит, если после тюрьмы принял… А я, Миша, гнева твоего боюсь. И потерять тебя боюсь, родной… Десять лет с тобой прожили, а непостижимый ты для меня.
— И ты, — признался он тихо и благодарно. — Иной раз будто в пустоту кричу — без ответа. И такая тоска берет, куда бы делся. Таня, про какой ты гнев говорила — не знаю, но прошу тебя… Если это ты… мне ни слова не говори, не надо. Но завтра пойди сама в милицию… Ведь человек убит, Таня!
— Господи, — сказала она в отчаянии, — ты опять за свое? Далась тебе эта старуха! Послушать тебя, так будто ты ее сам убил.
— Может быть, я и убил ее, Таня…
Она взяла его лицо в ладони, повернула к себе, смотрела неотрывно, долго, почти со страхом.
— Вот этого, — сказала, — и боюсь. И что ты за человек? Все скорби твои. Ладно, Миша, я пойду, если хочешь. Я пойду, но ты научи меня, как мне там говорить. А то ведь и засмеют…
Лицом приникла к его лицу, целовала в ухо, шептала:
— Не мучь ты меня, и сам не казнись, родной мой. Нехорошо ты сказал про тоску… Нехорошо, больно. Молодая была, слепая, ничего не понимала, оттого и тоска твоя… Теперь иное, теперь я другая. Верь мне, Миша, верь мне, солнышко мое.
Она робко расстегивала на нем ворот рубашки, и касания ее пальцев волновали, его, она, всегда желанная, с чуть откинутым, мгновенно истончившимся от ожидания лицом, была рядом, звала его к себе, и он успел благодарно подумать: все то, прежнее, было наваждением, потому что не могла же она… не может же… нельзя же так… И освобожденный, и осчастливленный, и крылатый от новой веры в Таню, он сейчас любил ее, как любил в снах своих, больно, забыто, нежно…
Глава шестая
1
Младший лейтенант Александр Токалов, видя, что Конев с Сергунцовым заняты разговором, попросил разрешения подождать и устроился в сторонке. Следователь рассказывал о поездке в Икряное и о встрече с главным бухгалтером районного отделения госбанка Хабаровой. Сергунцов слушал, делал пометки, а сам нет-нет да и поглядывал в сторону Токалова, чувствуя, что парень дожидается неспроста. Как только Конев кончил, Сергунцов сказал:
— Александр Григорьевич, ты позвонил из Икряного, и мы сразу пошли в СМУ, чтобы заняться этой платежкой. Мухрыгин и сейчас еще там.
— Молодцы! — искренне похвалил Конев.
— А как же… Не сидим, не лежим, мхом не обрастаем, — довольно отвечал Сергунцов. — Лида Бурцева, бухгалтер СМУ, насторожила тебя зря. Милая женщина, стихи пишет. Самолично прочитал в стенгазете.
— Стихи — это не доказательство по делу, Виктор.
— Александр Григорич, — четко проговорил Сергунцов, — супруги Бурцевы проверены основательно, забудь о них. Я ведь не только стихи читал, но и ознакомился у них дома с содержанием номера «Пионерской правды» за двадцатое августа, чем нанес, можно сказать, Огареву личное оскорбление. Старикан не привык, чтобы его перепроверяли…
— Уборщицами поинтересовались?
— Еще бы. Но тут хуже. Уборщица в СМУ одна, причем новая. Приступила к работе дня через три после убийства Рудаевой. А прежняя уволилась дней за десять до убийства. Но она-то и прихватывала отработанные бумаги для домашних надобностей.
— Нашли ее?
— Выяснились кое-какие сложности, Александр Григорьевич. Мухрыгину даны сутки. Что у тебя, Саня? — спросил Сергунцов младшего лейтенанта. — Ты у меня, брат, работаешь наособицу: тебя полковник Максимов опекает…
— Не смущай парня, — добродушно проворчал Конев. — Он и так волнуется.
А было отчего. Тетка Ариша, сказал Токалов, несколько месяцев тому назад дала взятку неизвестному лицу, чтобы иметь документ на десять лет трудового стажа, не хватавшего ей для ухода на пенсию. Справку на стаж не получила. Но и денег ей не вернули.
Конев быстро глянул на Сергунцова, уловил ответный взгляд. Уже не по одному делу работали они вместе, давно научились понимать друг друга.
— Откуда сведения? — коротко спросил Сергунцов.
— Откуда же им быть, от квартирантки, Марии Андреевой, — пожал плечами Токалов. — Ариша обмолвилась ей о взятке незадолго до смерти и посетовала, что денег своих получить назад, видно, не удастся.
— Эх, Ариша, Ариша… — сожалеюще произнес Сергунцов. — Не о том бы тебе думать, как деньги вернуть, а о том бы подумать, чтобы взятку не давать. Глядишь, и жива была бы… А что, Андреева не могла вспомнить раньше?
— Ну, Виктор Гаврилыч… Понять ее можно: не хотела вспоминать. Достаточно, что родная дочка память о покойной матери не щадит… Кстати, из-за этого меж Людмилой Инжеватовой и Марией черная кошка пробежала, а раньше были довольно дружны: обе молоды, обе несчастливы в семейной жизни. Людмила и сейчас тянется к Марии, но та видеть ее не хочет. И с Аришей под конец она тоже в размолвке была. Узнав от нее о взятке, Мария вспыхнула, стала ее ругать, вгорячах даже воровкой назвала, чего теперь простить себе не может.
— Успокой ее, она недалека от истины, — сказал Сергунцов. — Попытаться украсть у государства десять лет трудового стажа — не шутка. Д-да… А все-таки не могу и я простить твоей Марии: могла бы сказать раньше!
— Товарищ старший лейтенант, — запротестовал Токалов, — да войдите же вы в ее положение! Хозяйка убита, родная дочка чернит ее, а теперь еще и Мария станет… Больших трудов стоило мне снять этот психологический барьер. Да и не могла она знать, что сведения о взятке нас заинтересуют в связи с убийством.
— Сведения о взятках интересуют милицию всегда! — отрубил Сергунцов. — Вообще, Саня, старайся воздерживаться от выдачи легковесных справок на моральную чистоту той или иной гражданки. Мне говорили: тетка Ариша — правдолюбка, но она же хотела получить пенсию незаконным путем. Мне говорят: Мария Андреева чистая натура, ее возмутил факт взятки, но дальше возмущения дело не пошло. Ладно, я не валенок, кое-что понимаю… Но теперь-то эта чистая натура пожелает помочь следствию? Ты объяснил ей, как важно нам знать имя человека, которому была дана взятка?
— Объяснил, — ответил Токалов. — Сказал, что между взяткой и убийством возможна причинная связь. И еще сказал, что единственный человек, который может знать, кому была дана взятка, — дочь тетки Ариши, Людмила Инжеватова. Посоветовал возобновить с ней дружеские отношения.
— И что Мария?
— Расплакалась. Дескать, не пошла в милицию, промолчала, — тем самым, выходит, убила свою хозяйку. Я же говорю, чистая натура, а чистые — они все на себя берут.
— Опять тебя повело, — поморщился Сергунцов. — Отвечай коротко: согласна?
— Да, Виктор Гаврилович.
— Ну вот, — довольно проговорил Сергунцов. — А то: чистая — нечистая, убила — не убила… Поступок, и только поступок, определяет духовное лицо человека. Понял?
— Понял, — произнес Токалов с сомнением.
Сергунцов рассмеялся.
— Ничего, поймешь… Садись ближе, Саня, будем думу думать, как нам, в свою очередь, помочь Марии.
— Вы думайте, — сказал Конев, — а я все-таки попытаюсь вызвать Людмилу Инжеватову на откровенность. Каково на этот счет твое категорическое суждение, Виктор Гаврилыч?
— А таково! — мгновенно откликнулся Сергунцов. — Наивный ты человек, Александр Григорич!
2
Конев не стал вызывать Инжеватову в райотдел, сам пришел к ней домой. Подготавливаясь к разговору, еще раз перечитал материалы, имевшиеся в уголовном деле. Первым с Людмилой разговаривал Токалов, за ним — Сергунцов, а следователь райотдела капитан Емельянов взял у нее уже официальные показания. Со всеми тремя сотрудниками Людмила твердо держалась на заранее занятых позициях. Следователь прокуратуры Зародов не встречался с ней. Весьма отрицательно относясь ко всякого рода «психологическим» версиям, он считал, что в поведении Людмилы Инжеватовой нет загадок, а ежели таковые и есть, то не имеют никакого отношения к расследуемому преступлению и не стоит над ними ломать голову. Противоположной точки зрения держался полковник Максимов: по его заданию младший лейтенант Токалов планомерно изучал прошлую жизнь и связи не только тетки Ариши, но и ее дочери. И кое-что выяснил. Была загадка в поведении Людмилы Инжеватовой, и она имела все-таки отношение к убийству ее матери… А иначе ничем не объяснишь те новые факты, которыми теперь был вооружен Конев.
Людмила была в доме одна, встретила его сухо, но и без удивления, будто внутренне готовилась к его приходу. Снимая плащ, Конев сказал, что сотрудники розыска многое уже знают о жизни и смерти ее матери, это знание не совпадает с тем, о чем Людмила говорила в прежних показаниях, и он хотел бы понять, почему она так говорила. В конце концов, он ведь пришел к союзнику, цель у них одна — найти убийцу Ирины Николаевны Рудаевой…
Инжеватова пригласила его к столу, застланному старинной бахромчатой скатертью. Сказала с напряженной усмешкой:
— К союзнику… А весь наш разговор сведется к одному: выпытывать у меня станете.
— Не скрою… — добродушно откликнулся Конев, усаживаясь и словно бы не замечая ее усмешки. — Но ведь и есть что, а?
— Вам виднее, — не поддалась она на его тон. — А я уже раньше сказала все, что знала.
— Вот и пройдемся по сказанному еще разок, Людмила Николаевна. Цитирую коротенькую протокольную строчку: «Моя мать прожила не лучшим образом». Вы говорили так?
— Да.
— И в доказательство сослались на десять лет, которых ей не хватало до пенсионного трудового стажа. Человек десять лет не занимался общественно полезным трудом — прямой намек на то, что занимался чем-то иным, предосудительным. Иного толкования и быть не может, ведь эти десять лет вашей матери жить как-то было надо. Впрочем, и вам тоже, поскольку вы, несовершеннолетняя, были в ту пору у нее на руках, а глава семьи долгие годы бегал за длинным рублем, да так и затерялся в бегах… В таких условиях жить без постоянной работы — значит голодать… Или, наоборот, сыто жить, но… Большой простор оставили вы нам для додумывания характера и поведения своей матери, Людмила Николаевна.
— И в этом теперь вы вините меня? А в нашей жизни все это было! Могу и сейчас повторить то же самое.
— Условимся, Людмила Николаевна, вот о чем. Мне придется говорить вам тяжелые вещи, они сами по себе будут обвинять. Но я-то пришел сюда не обвинять, я пришел понять вас. И убедить… Готов даже к тому, — Конев улыбнулся, — что стану говорить больше, чем вы. Но надеюсь — не безответно!
Наконец-то и она улыбнулась. Проговорила быстро:
— В чем я не уверена, Александр Григорьевич…
— Не торопитесь. Попытайтесь-ка мысленно поставить себя на мое место, чтобы вам было легче понять и меня. Вы, следователь прокуратуры, приняли дело к своему производству, изучаете материалы и, в частности, знакомитесь с показаниями свидетеля Инжеватовой, дочери погибшей… Что вам, следователю, сразу же бросится в глаза? Странное, необъяснимое и противоестественное желание дочери бросить хоть какую-то тень на покойную мать. Мать была плоха, а вот она, дочь, лучше. Хотя бы потому, что всю жизнь страдала от каких-то поступков и проступков своей матери… Осознанно или неосознанно, но вы, Людмила Николаевна, словно выгораживали себя. А еще говорите — мы выпытываем… Этого Саша Токалов у вас не выпытывал. Для него ваши откровения были как гром с ясного неба.
— Но я, — воскликнула Инжеватова, — была обязана говорить правду! Он же сам меня предупредил.
— Такую — не обязаны… В таких случаях и закон щадит сокровенные родственные чувства свидетеля и не обязывает его давать компрометирующие показания на близких родственников: жене — на мужа, дочери — на мать. И особенно на тех родственников, которые не встанут, не оправдаются… Как же это так, Людмила Николаевна? Понять хочу и понять надо: за что же вы в родную мать камнем, а?
Инжеватова побледнела, взволнованно затеребила бахрому скатерти. Конев ждал. Она, не желая выдавать своего волнения, поднялась, прошла к серванту, поискала в нем что-то и оттуда спросила срывающимся голосом:
— Мне можно закурить, Александр Григорьевич?
— Вы у себя дома, — ответил он. — Да я и сам иной раз балуюсь.
Она вернулась, поставила перед ним пепельницу, закурила.
— Ночей не сплю, — призналась. — Сама не понимаю, как я могла, Александр Григорьевич…
— И все? — спросил он. — И добавить вам больше нечего?
— А что еще? Рассказать, как не сплю?
— Тогда, — произнес Конев тихо, — все ваши бессонные ночи еще впереди.
Подождал. Она молчала. Добавил еще тише:
— Потому что вы лжесвидетельствовали на мать, Людмила Николаевна.
Она резко, как от удара, вздернула голову. Спросила холодно:
— А есть закон, который оградил бы меня от ваших вторжений?
— Ну если речь зашла об этом… — Конев встал и пошел к вешалке за плащом. — Разговор продолжим в райотделе: вопросы, ответы, протокол… Ждите повестку, Людмила Николаевна.
— Господи, что это я… — мгновенно сникла Инжеватова. — Останьтесь, Александр Григорьевич. И простите меня, пожалуйста.
— Так-то лучше, — пробормотал Конев, — а то гоняете, как мальчишку… Продолжим, — сказал он, отодвигая стул. — Шесть из тех десяти лет, о которых вы упоминали, Людмила Николаевна, ваша мать все-таки работала на производстве. Пусть это было маленькое полукустарное предприятие, теперь уже ликвидированное, — Конев назвал город, где Людмила жила прежде, — но ваша мать работала, а не занималась, скажем, спекуляцией… И эти шесть лет можно было бы, при желании, восстановить, присоединить к трудовому стажу, но, видимо, вам или вашей матери показалось это хлопотным… — Александр Григорьевич поймал ее испуганный взгляд и круто свернул в сторону: — Остаются, следовательно, еще четыре года, которые вроде бы соответствуют дочерним намекам на неопределенный и отнюдь не лучший образ жизни матери.
— Возможно, — ухватилась Людмила за мысль следователя, — я и имела в виду именно эти годы.
— Нехорошо, Людмила Николаевна, — укорил Конев. — Нехорошо, мелочно… И несправедливо. Эти годы падают на ваше замужество, на рождение ребенка. Мать прожила их с вами. Надо ли мне говорить, чем занималась она и чем занимаются все бабушки, когда на руках у них и внуки, и домашнее хозяйство.
Опустив голову, Инжеватова проронила глухо:
— Добивайте уж, Александр Григорьевич… Быстрее!
— А от вас-то самой я слова дождусь? Ну ладно… В брак с Петром Инжеватовым вы вступили уже здесь, в поселке Трусово. Младшему лейтенанту Александру Токалову не составляло большого труда выяснить, что ни о подневольном замужестве, ни о материнском принуждении не может быть и речи. Наоборот, мать была против вашего брака, всячески отговаривала вас. И не в семнадцать, а в восемнадцать лет выходили вы замуж — и выходили по любви. Когда лгут, ищут выгоду… Какую вы для себя искали, Людмила Николаевна?
Сухими, выжженными глазами глядела Инжеватова на следователя. Молчала. Александр Григорьевич не торопил ее: пусть подумает.
— Не знаю, — наконец ответила она. — Затмение на меня какое-то нашло, Александр Григорьевич.
— Затмение оставим в стороне, — строго сказал Конев. — После Токалова через довольно большие промежутки времени с вами беседовали другие сотрудники. Можно бы уж и выйти из затмения… Однако не пожелали.
— Значит, я изверг, а не дочь.
— И это не ответ, — сказал Конев. — Случай мне вспомнился, разрешите уж поделиться… Давно было, четверть века назад, мы все еще очень хорошо знали цену каждому куску хлеба, в газетах нам не надо было тогда о ней напоминать… Один из моих подопечных, за час до ареста, пришел домой и съел — а точнее сказать, сожрал, скотина! — все, что жена приготовила для четверых малолетних детей. Все, до кусочка, до ложки хлебова, и, заметьте, на глазах у них, голодных. А они-то ждали к обеду отца… И когда я спросил его, как же это он мог, неужели в нем ничего не шевельнулось, он ответил мне, смеясь: «А я такой!»
Она уронила голову на стол и заплакала, шепча что-то. Конев поднялся, принес из кухни стакан воды.
— Успокойтесь, — сказал, — я верю, вы любили свою мать.
— Боже мой! — прорыдала она. — Что же я наделала, Александр Григорич! Ма-ма… Мамочка… Прости меня… миленькая… родненькая… Если бы знать… Если бы знать!
— Успокойтесь, — мягко повторил Конев. — Выпейте воды… Нам теперь, Людмила Николаевна, надо рассуждать очень трезво и очень осторожно. Ведь честно говоря, за этим вашим «если бы знать» я и пришел. Скажите же нам, что вы не знали в тот час, когда вас допрашивал Токалов, но что знаете теперь. Или догадываетесь… Скажите мне, о чем вы догадываетесь, — и мы быстро найдем убийцу.
— Зачем вы меня мучите, Александр Григорьевич? Я даже не понимаю, о чем вы говорите и что от меня требуете. И как вы можете связывать убийцу со мной!
— Это называется — не понимаю… — горько сказал Конев. — Оказывается, вы все очень хорошо понимаете. Но между нами большая разница. Я хочу выяснить эту связь, а вы даже думать боитесь о ней. Авось обойдется? Авось вы тут ни при чем, да?
— Боюсь, — призналась она, и призналась, Конев видел, искренне: — Даже думать боюсь, Александр Григорич, вы правы… Матери нет, ей ничем не поможешь, ее не вернешь. В чем виновата перед ней — отмолю, отстрадаю. Она простит мою поганую ложь… Она поймет… А мне ведь жить дальше! Ради сына, ради ее внука…
— Значит, обойдется… — задумчиво проговорил Конев. — Что ж, все мы люди, все человеки, и не вечно же, в самом деле, грызть себя. Все перемелется, пройдут и бессонные ночи. Станем мы снова чисты, и очень легкой ценой. Ведь в конце концов, тот, кто должен нас понять и простить, не скажет нам об этом. Мы сами себя от его имени и поймем и простим…
— Нет! — выкрикнула она. — Нет, Александр Григорьевич! Верьте мне, я начну новую жизнь. В ней не будет лжи и обмана. Никогда! Ни словом, ни помыслом…
— Новую жизнь? — гневно переспросил Конев. — Новую жизнь, Людмила Николаевна, не начинают с того, что идут в библиотеку за Уголовным кодексом!
— Вы следили за мной?!
— Еще чего, — поморщился Конев. — Ежели вы помните, я ходил в кухню за водой для вас… Книжечка лежит там, на подоконнике. Завтра мне скажут, в какой библиотеке, кто из вас взял ее и когда: до или после смерти вашей матери.
— Я взяла ее, — торопливо проговорила Инжеватова. — Четыре дня назад. Муж не знает. Пожалуйста, не…
— Какую же вину вы ищете в кодексе? — перебил ее Конев. — Ту самую, про которую догадываетесь? А ведь ваше алиби установлено бесспорно, Людмила Николаевна!
Конев поднялся.
— Позвольте, — сказал, — на прощанье дать вам два совета. Первый: поторопитесь прийти к нам, иначе убийцу мы найдем и без вашей помощи. Новую жизнь, Людмила Николаевна, не начинают со старой виной и в старой лжи. Ее начинают хоть с маленькой, но правды. А второй мой совет…
Александр Григорьевич надел плащ, взялся за дверную ручку.
— А второй совет, — закончил он, — такой: виновному в чем-то человеку вникать в Уголовный кодекс порой так же опасно, как заболевшему — в медицинскую энциклопедию. Если вам, Людмила Николаевна, понадобится правильно понять статью о взяточничестве и о пособниках во взяточничестве, придите ко мне, я квалифицированно объясню вам ее… Последний раз спрашиваю: вам нечего мне больше сказать?
Она молчала, спрятав лицо в ладони.
* * *
В райотделе Александр Григорьевич застал Сергунцова, Токалова и Мухрыгина. Устало упал на стул.
— Слушайте, — сказал, — на мне будто камни возили. И жалко-то ее, и зло берет… Это что же? Как об глухую стену бился!
— О чем, не забудь, один старый товарищ и предупреждал тебя, — скромно заметил Сергунцов.
— Не скажи, Виктор… Сходил все-таки не зря. Марии Андреевой теперь будет полегче, дорожку я ей все-таки проложил. Задачу ее вижу такой: давить на совесть Инжеватовой. Одно дело когда мы уличаем ее во лжи и умолчании, и другое — когда за то же самое осуждают ее люди из ближайшего окружения. Поддастся… Она не пропащий человек, Виктор.
— Дай бог…
— А зачем нам все это? — спросил Мухрыгин. — Вернется Емельянов из Москвы. Уверен, привезет адресочек с мешка… Неужели не расстараемся?
— Ай-яй-яй! — сказал Сергунцов. — На чужого дядю надеемся, Владимир Георгич? А между тем платежка тоже могла бы дать нам адресочек, очень близкий к убийце. Где он? Имею в виду адресочек…
— Сутки еще не истекли, — смутившись, ответил Мухрыгин. — Разыщу я эту уборщицу.
— Да, кстати об уборщице, — сказал Конев. — Не узнаю наш боевой уголовный розыск. В чем дело-то?
— В принципе пустяковое, — сказал Сергунцов, — но времени этот пустячок потребует. Уборщицу зовут Милена Борисовна Свиридова, женщина бальзаковского возраста, и этим весьма озабоченная… Я не вру, Владимир Георгич?
Мухрыгин кивком подтвердил, что да, весьма.
— А главное, — продолжил Сергунцов, — прописана она в другом конце города, у дальних родственников, но у них не жила, целый год им глаза не показывала. Жила здесь, в поселке Трусово, у кого-то на квартире. Придет вечером, когда все уже отработали, в СМУ, уберет контору — и нет ее до следующего вечера.
— Найду, — повторил Мухрыгин. — Чай, не иголка. Да к тому же еще — Милена…
— А давайте подумаем вот над чем, братцы, — сказал Сергунцов. — Как плохо иметь много… Есть у нас мешок, который что-то даст, есть платежка, которая благодаря неукротимому Мухрыгину тоже что-то даст, есть в конце концов «Пионерка», и вновь появилась Аришина дочка, чью совесть, надеюсь, Маша Андреева сумеет ухватить за скользкие бока… Много кое-чего есть, вроде бы мы уже близко ходим, а конкретного-то нет ничего. Вот моя печаль, вот моя заботушка…
— С такой-то заботушкой можешь спать спокойно, Виктор, — с улыбкой заметил Конев.
— Да? А что мне нынче докладывать на планерке?
— Надо ждать, — сказал Конев. — Машина запущена, машина работает, и ждать нам, поверьте, осталось недолго.
Людмиле Инжеватовой уже нечего было ждать. Этот спокойный, неторопливый в словах, доброжелательный следователь лишил ее последних надежд, намекнув, какую статью искала она в кодексе. Значит, они выяснили и это.
Плача, она оделась и торопливо выскочила на улицу. Зачем — она и сама не знала. Был вечер. Широкая бойкая улица плавала в лаве автомобильных и рекламных огней, и Людмила инстинктивно свернула в темный переулок. Кружным путем, отворачивая лицо от редких прохожих, будто могли они узнать ее здесь, во тьме, на кромке жилья и глухого степного пространства, она пробиралась куда-то, слепая, без чувств и мыслей, с пустой, звенящей, как колокол, головой. Наконец впереди, у чьей-то калитки, тьма сгустилась до плотности вещества, там кто-то стоял, она, проходя, опять отвернула лицо — и чуть не прошла мимо.
— Людмила! — позвал ее спокойный женский голос. — Куда спешишь?
Она повернулась, сделала на подкошенных ногах два шага, обхватила руками сильные, под тонкой блузкой, плечи.
— Ты… Ты…
Вот к кому, оказывается, она шла. Нет, следователь еще не лишил ее последних надежд… Как в спасение, вцепилась она взглядом в чужие, влажно мерцавшие глаза и звонко, на срыв, спросила, утверждая:
— Таня… Твой муж… Ты… Вы не убивали мою маму?
— Молчи, дуреха! Это ты убила ее. Ты! И молчи, молчи…
3
Зам. начальника УВД Астраханского облисполкома
полковнику милиции Максимову Е. А.
РАПОРТ
…Дальнейшая работа по проверке показаний Людмилы Инжеватовой позволила установить следующее. Инжеватова, задолго до смерти своей матери, поддерживала связь с жительницей нашего города Татьяной Бурлиной. Эту связь она скрывала от работников следствия и розыска по той причине, что боялась и боится ответственности за прямое участие в даче взятки, за которую Татьяна Бурлина обещала достать справку на десятилетний трудовой стаж, необходимый матери Людмилы для получения пенсии. По инициативе Инжеватовой и в ее доме состоялось три месяца назад знакомство И. Н. Рудаевой с Татьяной Бурлиной, при котором последней и были вручены деньги в сумме 400 рублей.
После беседы со следователем А. Г. Коневым Инжеватова резко изменила свое поведение. Раньше она на все вопросы соседей о причине смерти матери отмалчивалась, не делилась ни с кем своими мыслями, теперь, наоборот, сама ведет разговоры на эту тему, в особенности — с квартиранткой покойной, Марией Андреевой. Боязнь наказания за инициативу и пособничество во взятке у нее остается, но усиливающееся чувство вины за поступок, повлекший за собой такие трагические последствия, все более толкает Инжеватову на откровенность. Мария Андреева, осуждая Людмилу за недавнюю ложь и утайку от следствия важных фактов, убеждает ее ради памяти матери прийти в милицию и рассказать все. На вопрос Марии, а не могла ли Татьяна Бурлина, присвоив деньги, подговорить мужа или кого-либо из знакомых мужчин совершить убийство, Инжеватова, заплакав, ответила: «Не знаю, что и думать. Голова идет кругом. Это я убила ее, Маша. Я!»
В настоящее время трудно судить, решится ли Инжеватова прийти в милицию. Ее положение осложняется не только внутренней душевной борьбой, но и тем, что против такого шага выступают некоторые из соседей и особенно резко — муж, Петр Инжеватов. По свидетельству двух его товарищей по работе, он недавно заявил, что не верит ни в какие чистосердечные признания, что все это враки, выдумки милиции и т. д. Такими огульными утверждениями Петр Инжеватов, несомненно, влияет на жену, не понимая источника ее страданий, усугубляя их и не давая найти им выход. В последние два дня к Людмиле Инжеватовой несколько раз приезжала «скорая помощь».
Адрес и место работы Татьяны Бурлиной устанавливаются.
Инспектор Трусовского РОВД
мл. лейтенант милиции А. Токалов.
Глава седьмая
1
В полдень позвонил из Москвы капитан Емельянов и сказал, что вылетает в Астрахань. Дежурный по городу сообщил об этом Сергунцову, когда самолет был уже в воздухе, и добавил, что все машины у него в разгоне. Сергунцов спросил вежливо:
— Товарищ майор, вы не поинтересовались, с чем летит Емельянов?
— Прилетит — узнаем, — замороженным голосом ответил дежурный. — У меня, старший лейтенант, своих забот полон короб.
— Уф! — сказал Сергунцов, положив трубку. — Кругом нервы!
И пошел к дежурному райотдела выбивать машину для Емельянова. Там ему тоже, видать, понадобились нервы, потому что, вернувшись в штаб, он вытер платком взмокшую шею, сказал:
— Подаю в отставку, мужики. Силушек моих больше нету.
— Погоди пока, — откликнулся Мухрыгин. — Послушай сначала про техничку из СМУ, Милену Свиридову. Я ее не нашел!
— То есть как? Хороши у тебя докладики!
— Наш старый товарищ по оружию тебе доложит, — кивнул Мухрыгин на Огарева. — Уж он тебе доложит!
Тон, каким это было сказано, явно не сулил Сергунцову скорой встречи с женщиной бальзаковского возраста. Платежка-путешественница что-то никак не давалась в руки… Огарев, сидевший у окна, молча достал записную книжку, полистал ее.
— Милену Свиридову, — сказал, — не ищите. Дней за десять до убийства Рудаевой я эту самую Милену с квартиры удалил.
— Удалил? — ошарашенно переспросил Сергунцов. — Как это — удалил?
— Полгода жила на моем участке без прописки. Жить положено там, где прописан. Бабенка она смазливая и одинокая. Инженер из этого СМУ, фамилию его называть не буду, стал что-то подолгу задерживаться вечерами в конторе. А у него двое детей. Жена приходила, жаловалась… Удалил!
— И правильно сделал, Николай Леонтьич, — сказал Конев. — Нам же теперь легче: с одного человека подозрения сняты. Но именно этот человек, как установлено, брал из СМУ отработанную бумагу. Однажды Милена Свиридова вместе с другим хламом прихватила с собой и бухгалтерскую платежку. Платежка в свое время дошла до Икряного, вернулась сюда, в СМУ, ее держала в руках бухгалтер Лида Бурцева и затем, смяв и порвав, выбросила за ненадобностью в корзину. А Милена Свиридова решила содержимым корзины растопить хозяйскую печку. И не успела, поскольку Огарев ее удалил… Затем следует почти невероятное. Платежка в ночь на двадцать второе сентября побывала в руках убийцы, часть бумаг он сунул в мешок, часть — в ведро, и платежка, таким образом, снова отправилась к Лиде Бурцевой, но уже в качестве улики. Мир поистине тесен… Хозяин квартиры, у которого жила Милена Свиридова, надеюсь, остался на месте?
— Хозяйка… — поправил Огарев. — Одна. Беспардонная старуха Акулина Короткова. Адрес: улица Суворова, два. Но ежели вы думаете, что она… Прямо говорю: нет! Все ее связи знаю, давно у меня под прицелом живет. С Рудаевой не знакома.
— И газет, судя по твоей характеристике, не читает, — сказал Сергунцов. — А ведь в руках убийцы, не забудем, побывал еще и номер «Пионерки» за двадцатое августа.
— Выписывает, — поправил Огарев и его. — Только «Пионерскую правду» и выписывает.
Сергунцов долго и с изумлением смотрел на Огарева.
— Николай Леонтьич, — сказал он наконец, — мы люди нервные, замотанные работой и начальством. Ты с нами так не шути! Если одинокая старушка выписывает «Пионерскую правду», то скажи зачем? И почему в таком случае ты ее не проверил? Ведь ты же отчитывался у нас на планерке!
Версию, связанную с газетным клочком, тоже усиленно отрабатывали… Исходили из того, что номер «Пионерки», вышедший в свет 20 августа и примерно тогда же купленный в киоске розничной продажи, вряд ли бы сохранился в чьем-то доме до злополучного 22 сентября. Скорее всего газета подписная, и подписчик аккуратист… Понимали, что вывод довольно шаткий, жизнь сложнее наших логических построений, но и другое понимали: жизнь была бы для человека сплошным хаосом, не подчиняйся она определенным логическим законам. Подписчиков проверяли участковые инспекторы райотдела, и проверяли так, чтобы никого не задеть, не обидеть и не оскорбить даже намеком на подозрение. Учитывая важность задания, их регулярно вызывали для отчета и контроля на ежевечерние планерки оперативной группы.
На одной из таких планерок Огарев отчитался за двадцать девять своих подписчиков. Ему оставалось проверить шестерых. Последней в этом списке стояла Акулина Короткова.
— Вот бабушка! — сказал Сергунцов. — Всем бабушкам бабушка! Пора, Александр Григорьевич, идти по выявленному адресу…
— А как с мотивом? — спросил Конев. — Пойти-то просто, да вот с мотивом у нас что-то не вытанцовывается. Это точно, Николай Леонтьевич, что Рудаева и Короткова знакомы не были?
— Стар я уж врать-то, — обиженно проговорил Огарев.
— Да… Тут, действительно, маленькая неувязка, — согласился Сергунцов. — Мотив у нас глядит совсем в иную сторону — на Татьяну Бурлину. Владим Георгич, — обратился он к Мухрыгину, — а где подведомственный тебе юноша, Саша Токалов? Нынче он должен принести адрес и первичные данные о Бурлиной.
— Звонил. Через полчаса будет, — ответил Мухрыгин.
Услышав фамилию Бурлиной, невозмутимый Огарев малость взволновался. Впрочем, выразилось это лишь в том, что он снял и положил на стол свою тесную фуражку, обнажив бритый череп с алой, словно надрез, полоской на лбу. Снова полез во внутренний карман кителя за книжкой. Полистал ее. Сказал:
— Зря гоняете мальчишку.
Все выжидательно глядели на него.
— За Бурлиными, — пояснил он, — зря… Стариков надо почаще спрашивать, худому не научат. Вот Мухрыгин, не поленился, спросил — и получил Милену Свиридову. А Сашка Токалов, торопыга, все сам, все сам:..
— Не томи! — сказал Сергунцов. — Докладывай!
Огарев еще раз глянул в свою книжку.
— Значит, так. Акулина Короткова и Бурлины — соседи. У Татьяны Бурлиной со старухой неразливная дружба. Двор у них общий, разделен маленьким заборчиком, внутри калитка. Так и ходят друг к дружке. Татьяна в прошлом была судима.
После этих слов Сергунцов снял трубку и позвонил в управление, сообщив о судимости Бурлиной. Затем сказал Коневу:
— Теперь-то, Александр Григорич, пора!
Конев глянул на часы, спросил:
— Московский самолет приземлился?
— Да.
— Подождем, Виктор, минутки остались. Не может быть, чтобы мы зря гоняли Емельянова в Москву!
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
…Принят на исследование мешок стандартной формы, изготовленный из мешковины желто-серого цвета. Поверхность сильно загрязнена и потерта.
В процессе исследования грязь с мешка была удалена и отдельные его участки фотографировались в инфракрасных лучах. На полученных снимках выявлены слова и цифры. В дальнейшем поверхность мешка просматривалась в электронно-оптическом преобразователе с целью расшифровки букв и слов, полученных неотчетливо на снимках.
В результате выявлен текст следующего содержания:
Астрах[а]нь
пос. Трусо[во] Су[во]рова 2
Коротковой Акулине Степановне
* * *
Емельянов рассказывал, как прилетел в Москву, явился в Центральную криминалистическую лабораторию, как там осмотрели мешок и попросили выстирать его в ванне… Конев, поневоле прислушиваясь, готовил два постановления на обыск. Закончив, попросил Сергунцова разделить людей на две группы.
— Одна, — пояснил, — идет со мной к Акулине Коротковой. Другая во главе с Емельяновым — к Бурлиным. Геннадий Алексеич, ты не против? Может, отдохнуть поедешь домой? Заслужил!
— Что вы, что вы! — протестующе поднял руку Емельянов. — Это вы тут вкалывали, а на моем счету только и есть, что одна постирушка…
Из райотдела вышли с ощущением, что теперь-то конец близок.
2
Приходу следователя и сотрудников милиции Акулина Короткова ничуть не удивилась: видать, приходили к ней не в первый раз.
— Ох, не ко времени, гостенечки дорогие, — съязвила она. — Обождать бы вам до завтрева.
На столе у нее стояла чуть начатая бутылка плодово-ягодного, на загнетке шипела сковородка с картошкой и мясом. Акулина Короткова кого-то ждала. А так как клюквенный нос ее был тщательно припудрен и от нее несло дешевыми духами, то можно было заключить, что в свои шестьдесят лет Акулина умела извлекать из жизни радости.
Минут через десять, когда обыск уже шел вовсю, явился маленький, лысый, розовощекий старичок, испуганно затоптался у порога, увидев людей, на общество которых явно не рассчитывал. Акулина и тут съязвила:
— За что боролся, на то и напоролся… Так-то вот опаздывать, чугунок старый.
Румяный кавалер, втянув аппетитный запах жаркого, с сожалением глянул на бутылку.
— Пойду я, — сказал он. — А то моя старуха заругается.
— Посидите, гражданин, — попросил его Токалов. — Отпустим, тогда и пойдете к своей старухе.
У Акулины Коротковой нашли кипу старых платежек, заполненных и незаполненных, бланки строительных нарядов и шоферских путевок, отдельные номера «Пионерской правды». «Жиличка моя, Милка Свиридова, приносила из конторы на разжижку печи, соседке моей тоже давала», — пояснила она. Когда Александр Григорьевич сказал, что придется ей пойти вместе с ним в райотдел милиции, Короткова ответила:
— Я готова.
Конев допрашивал ее в кабинете Мухрыгина. На все вопросы Акулина отвечала охотно и безмятежно. До войны жила она в Ленинграде, в сорок первом эвакуировалась, судьба забросила ее в Астрахань. От первого мужа, погибшего, детей у нее не было, а со вторым — уж поздно заводить, да и помер он вскорости. С тех пор живет одна как перст.
— Родственники в Ленинграде у вас есть, Акулина Степановна?
— А как же, родименький, — Акулина за спокойным разговором со следователем окончательно освоилась, потеряла ершистость и забыла, где сидит и с кем говорит. А может быть, сделала вид, что забыла. — Сестра старшая есть, да три ее дочки, мои племяшки. Живут — куда тебе! Ну и подкинут иной раз на бедность… То денежек пришлют, то одежонку какую. Продам — тем и питаюсь.
Конев в сомнении покачал головой. Короткова уловила это, быстренько поправилась:
— Конечно, батюшка, на дареном не проживешь. Что уж там! Изворачиваешься и так и сяк… То скупишь, это продашь… Жить-то надо! Ты бы, батюшка, отпустил старика-то, — Короткова кивнула на дверь, за которой томился ее кавалер. — Отпустил бы, а? Старуха у него громовая… Не дай бог, дойдет до нее слух — прогонит! А он что? Он ко мне начнет прилобаниваться, а зачем он мне нужен в одних порточках? Тут бы самой как прокуковать…
— Старика отпустим, — сказал Конев. — Но вы что-то за себя не шибко беспокоитесь, Акулина Степановна.
— Меня отседова быстро не отпущают… Ваш Огарев давно на меня глаз положил!
— Это в каком же смысле? — улыбнулся Конев.
— А в государственном… Примстилось ему, будто я государство обманываю. Уж такой мужик допытливый! Анадысь сюда же вызвал, два часа битых мытарил. Все про какую-то штуку шерстянки с лавсаном толковал. Вроде бы я, значит, с Танькой Бурлиной украла ее с прилавка. На беззащитную женщину кто хочешь могет сослыгнуться, а он и рад, непутевый.
— Акулина Степановна, мы что-то никак друг друга не поймем. Я уж говорил вам о цели обыска, но вы почему-то не обратили на мои слова внимания. Мы подозреваем вас, Акулина Степановна, в причастности к убийству Рудаевой.
— Царица небесная! — воскликнула Короткова, но страха в ее голосе не было. — Ты меня не пужай, батюшка. Ни в жисть не поверю.
— «Пионерскую правду» выписываете, Акулина Степановна?
— А как же… Для соседского парнишки, Кольки Бурлина.
— Что же, Бурлины сами не могут выписать газету своему единственному сыну?
— Они могут, — помолчав, ответила Акулина. — Да я-то упросила…
— Зачем?
Еще помолчала Акулина. А потом глянула в глаза Коневу старая, одинокая женщина… Сказала тихо:
— Принесут газетку, покличешь: «Колька, Колька!» — он и прибежит… И почитаем вместе, поговорим, посмеемся, вот и у меня в доме не пусто и сердцу не так уныло.
Нечаянно обнажив перед следователем трепетный, в неутихающей тоске, уголочек души, Короткова спохватилась:
— А на кой ляд сдалась тебе эта газета, батюшка?
Не отвечая, Конев достал мешок из бумажного свертка, расстелил его на столе.
— Ваш?
Акулина взяла, помяла, подошла к окну и оглядела его со всех сторон.
— Мой, — сказала удивленно. — Посылку от сестры в нем получала… Я-то думала — куда запропал? — а он у вас. Ничем, гляжу, не требуете, за все хватайтесь, чтоб беспомощную женщину под статью подвести.
Конев объяснил ей, каким образом очутился в милиции ее мешок и что в нем нашли…
Короткова, выслушав, осоловело плюхнулась на стул. Беспутная ее жизнь складывалась так, что юридическую грамоту Акулина постигала во время кратковременных приводов в милицию. Но и этой грамоты вполне хватило, чтобы понять, о чем сейчас говорил ей следователь.
— Батюшка! — взмолилась она, с трудом выталкивая слова. — Гражданин начальник! Ловчила, жила неправедно, каюсь, есть за мной. Но чтобы убить? Вызволяй меня, родимый. Засудишь — грех на тебе ляжет…
3
В соседнем кабинете капитан Емельянов допрашивал Михаила Бурлина.
Обыск в доме у Бурлиных был более удачным, чем у Коротковой. А в то, что он будет удачным, Емельянов поверил сразу же, как только все они вошли в горницу. Хозяин, высокий, нескладный, с измученным, как показалось Емельянову, какой-то болезнью лицом, поднялся и, жалко улыбаясь, произнес:
— А мы вас ждали.
— Почему? — спросил Сергунцов. — Почему вы нас ждали, Михаил Алексеевич?
— Ждали — и все, — сказал Бурлин так, будто свалил с себя огромную тяжесть. И эту освобожденность, эту странную жутковатую радость почувствовали все, в том числе и понятые, парень и девчонка, тремя минутами раньше шедшие в кино и откликнувшиеся на неожиданную для них просьбу. Понятыми им ни разу не приходилось быть, это обещало новые неизведанные впечатления: они согласились охотно, ожидая по молодости лет игры, а не дела. Но теперь, увидев хозяина дома, услышав его слова, почуяв за ними то, что он, потерянный, не сумел скрыть, молодые люди тревожно и болезненно напряглись. Девушка сделала инстинктивное движение назад; не оборачиваясь и не отводя глаз от Бурлина, она нащупывала дверную ручку, чтобы уйти из этого дома, где игрой в детектив и не пахло. Парень, сомкнув брови, предупреждающе сжал ей локоть. Текла долгая минута всеобщего напряжения от смутной, но единой для всех догадки, и наконец ее сумела рассечь, как ножом, хозяйка дома.
— Ко всем приходили, — сказала она спокойно. — Отчего бы и к нам не прийти? Тоже в заречье живем.
— Не ко всем с обыском, Татьяна Васильевна, — Емельянов протянул ей ордер.
Она прочла, пожала плечами.
— Ищите.
Вечером, хотя и ранним, но уже без солнца, не больно-то много найдешь… Но вот в спальне под тумбочкой Сергунцов обнаружил крышку люка, ведущего в подпол. Сдвинул тумбочку, откинул крышку… Вылез оттуда весь в пыли, сунул фонарик понятому: твоя, мол, очередь поглядеть на то, за что будешь расписываться в протоколе. А парень сначала поглядел на свой костюм, потом на девушку…
— Не робей, — сказал Сергунцов. — Все, что можно вынести на себе, я вынес. Тебе крохи остались.
Парень махнул рукой, полез.
— Товарищ капитан! — обратился Сергунцов к Емельянову по всей форме. На время роли переменились: теперь не Емельянов ему, а он подчинялся Емельянову как следователю, руководящему обыском. — Товарищ капитан, в подполе на досках, особенно в щелях между ними, мною обнаружены подозрительные натеки. Вот… — он протянул Емельянову крошечную лепешку темно-коричневого вещества. — Кровь. Свежая, еще и вязкости не потеряла.
И неприкрытую радость Сергунцова, и бодрый его тон, и ловчий азарт капитан Емельянов понимал и внутренне разделял, потому что все это было вызвано — теперь уже несомненно! — скорым окончанием дела. Но рядом стоял Михаил Бурлин. Глядя в его опрокинутое потухшее лицо, видя его неизмеримое и до удивления открытое всем страдание, капитан Емельянов чувствовал себя беспокойно, стыдно ему былопочему-то за этот бодрый тон Сергунцова. Но кто же тогда, кто? Не Бурлина же Татьяна — так естественно держаться невозможно. А Сергунцов, деловитый и жестокий в своей деловитости, снял верхний рядок кирпичей с пода русской печи и, подозвав Бурлина, показал ему на темные пятна.
— Сплоховали вы, Михаил Алексеевич, — сказал он, выламывая два кирпича на экспертизу. — Следовало бы перебрать весь под.
Во время обыска Бурлин старался не отходить от Емельянова. И сейчас качнулся к нему, словно хотел сказать: защити! И опять это движение было замечено всеми.
— Что уж ты, Миша! — сказала недовольно жена. — Чего ты так пугаешься? Забыл, что ли? Мы же осетра разделывали.
— Какого осетра? — спросил он, С надеждой спросил. И тут же, успокаиваясь, повторил эхом: — Да, осетра… Запамятовал я.
— Не слышал, чтобы осетров-то разделывали в спальне, — жестко сказал Сергунцов. — Сомневаюсь, чтобы и загнетка была подходящим для этого местом.
Бурлин крепко потер ладонью лоб, будто приходя в себя. Спросил у жены:
— Где сын?
— К соседке отвела, Миша…
Тогда он спокойно сказал Емельянову:
— Заберите меня, гражданин следователь. Не тяните.
И так же спокойно и ровно он отвечал в кабинете на установочные вопросы: фамилия, имя, год рождения, место работы… Покончив с этим, Емельянов сказал:
— Мне показалось, Михаил Алексеевич, что результаты обыска были для вас неожиданны. Ваша реакция, честно говоря, сбивает меня с толку. Но тогда кто? Кто убил в вашем даме Рудаеву? Вы? Ваша жена? Или третий кто?
А Бурлин опять ухватился за ту надежду, которую разрушил своими жесткими словами Сергунцов, спросил:
— А может быть, она и не была убита в нашем доме? Может быть, все это, — он кивнул на два кирпича и кусок доски, вырезанный из пола, — совпадение? Помню, Татьяна покупала у кого-то осетра…
— Вряд ли совпадение, Михаил Алексеевич… Вы, конечно, имеете право ничего не отвечать до результатов экспертизы. Да и после экспертизы — тоже имеете полное право. Но мы ведь пошли на обыск в ваш дом не потому, что нам так захотелось… Вы понимаете, о чем я говорю?
— Да, — ответил он. — Хорошо, что вы нашли нас. Я боялся: не найдете.
Помолчали.
— Странный вы человек, Михаил Алексеевич… Вы хорошо продумали свои слова?
— Да, — повторил он. И добавил четко: — Я убил Рудаеву.
Еще помолчали.
— Не верю я вам, — тихо произнес Емельянов. — Однако слово сказано… В таком случае давайте, Михаил Алексеевич, подробности: когда, за что, как чем?
— Я не смогу ответить на ваши вопросы, — сказал Бурмин. — Я был тогда как во сне… Но я убил ее. Убил!
4
Пока у Бурлиных и Коротковой шел обыск, старший лейтенант Огарев по заданию Сергунцова ходил к их соседям.
К Марковым он пришел, когда вся семья пила калмыцкий чай во дворе под навесом, называемым здесь повсеместно салтенькою. Охотно принял приглашение к столу: с утра маковой росинки во рту не было, загонял Сергунцов. Он выпил третью кружку (калмыцкий чай полагалось пить из кружек) и, покрывшись легкой испариной, сказал с сожалением:
— Не устоял, соблазнился… Пью ваш чай, хозяева, ем ваш хлеб, а душа болит.
— Что так, Леонтьич? — обеспокоилась хозяйка. — От души и предложено.
— Потому и соблазнился, что от души, а я при службе. Не положено. Это первое… А второе — обманули вы меня, хозяева, крепко обманули!
— Сурьезно выражаешься, Николай Леонтьич, — сказал Марков, шофер по профессии, а по натуре — основательный, крепкий мужик, не ветрогон.-Этим он был похож на Огарева, и они, кстати сказать, знакомы были давно, и даже больше чем знакомы: не одну рыбачью зорьку встретили вместе. — Сурьезно выражаешься, — повторил Марков. — Поясни, будь добр, свою мыслю.
— Я у тебя двадцать четвертого сентября был?
— Был. Не помню, какого числа, но недели полторы назад был.
— Двадцать четвертого был, — сказал Огарев, сверившись со своей книжкой. — И об чем я тебя спрашивал? И тебя, Михаловна, — обратился он к хозяйке.
— Да уж забыла я, Леонтьич. Времечка-то сколько прошло?
— Не крути, мать… — сказал Марков. — Спрашивал ты, не горела ли у кого в пятницу вечером сажа в печи, не видел ли я у соседей искр, пламени? Вот об чем ты спрашивал.
— Хорошая у тебя память, Константин, — сказал с удовлетворением Огарев. — И что ты мне тогда ответил?
— Ответил: не видел.
— А теперь что ответишь?
— И теперь бы надо так ответить, — замялся Марков, — да лицо что-то у тебя дюже сурьезное. И потому отвечу: видел. Искрила, и сильно, труба у Бурлиных. Дня за два до твоего прихода ко мне. Теперь уж дело прошлое — можно сказать.
— Поглядите-ка на него, а? — возмутился Огарев. — Он сам решает, когда можно, когда нельзя. Я к тебе и тогда не с улыбочкой и не с песнями приходил… Тебя закон обязывал говорить правду, а ты?
Маркова было трудно вывести из себя, но при упоминании о законе его мотор начал набирать обороты.
— Не кричи на меня, — сказал он. — Тоже — друг называется…
— Я тебе сейчас не друг, — сказал Огарев, — а представитель власти. И ты отвечай представителю власти: почему правду сразу не сказал?
— А потому, что вы тогда все словно взбесились… Пожарники да и ваш брат, милиционер, каждую печь обнюхивали. Не ты ли в мою сам заглядывал? Обида взяла… Многих заставили перекладывать, а зима на носу. Скажи я про Бурлиных — могли бы и их без тепла оставить, ныне печника не больно быстро сыщешь, дефицит! Да и делов-то? Ну, печь искрила… Постучал я к ним в окно, вышла Татьяна. Спасибочко, говорит, Петрович, я и не вижу. Вас, говорит, мужиков, дьяволов, таких-рассяких, разве вовремя заставишь дымоход прочистить? Мой опять увеялся на рыбалку до понедельника, а я тут хоть разорвись.
— Это уж точно, — поддакнула Михайловна. — Я, грешная, Татьяну недолюбливаю, но срезала она вашего брата не в бровь, а в глаз. Вы со своей рыбалкой скоро ума лишитесь.
— Слыхал? — Марков озорно глянул на Огарева. — Я сам Таньку не люблю, это не баба, а сей-вей-рассевай, не такую бы надо Михаилу, парень он уж больно хороший. Так чего ж я буду его подводить? Да и делов-то, говорю, всех? Приехал, дымоход прочистил — печь на ходу.
— А в котором часу вечера труба искрила?
Марков задумался, вспоминая. Ответил не совсем уверенно:
— Кажется, в девятом.
— А Михаил когда уехал на рыбалку?
— В седьмом. Я с работы иду, а он мне навстречу, на плече подвесной мотор держит. Поздоровались, потолковали немного. Помню, он сказал, что едет на остров Буйный и вернется вечером в воскресенье.
Добираться до острова, соображал Огарев, примерно полтора часа на подвесном моторе: он не раз с тем же Марковым ездил туда. Но сначала надо от дома добраться до лодочной станции. Конец рабочего дня, транспорт загружен, а Михаил не из тех, кто будет пробиваться к трамваю нахрапом, да еще с мотором на плече. Час убил, не менее… Итого на круг получается два с половиной часа. Значит, в самое критическое время Татьяна оставалась дома одна. Не может быть… Видимо, он все-таки по каким-то причинам не уехал на рыбалку.
— А Михаил не вернулся тогда же? У нас вот с тобой сколько раз дело срывалось! Мотор, сломался, то-се, мало ли…
— Мотор у него и впрямь сломался, но Мишку попутный баркас дотащил до острова, и оттуда, в воскресенье, — домой привез.
— Он сам тебе говорил про баркас?
— Слушай, товарищ Огарев! — взъерошился Марков. — Ты чего это в меня, как клещ, впился?
— Оттого и впился, — горько ответил Огарев, — что несознательный ты элемент, Константин. А кабы был ты сознательный, как все граждане, мы бы убийство в три дня раскрутили.
— Какое еще убийство? — ахнула хозяйка.
— Такое… Рудаеву забыли?
Огарев видел, как у основательного его товарища по рыбалке вытянулось лицо. Туго соображал Марков, но, сообразив, попал в точку.
— Прости тогда, Леонтьич, — сказал он. — Подвел я тебя.
— Да как же так? — ахала и охала хозяйка. — Неужто Бурлины? Да кабы знать — рази мы бы умолчали? Да не может такого быть, Леонтьич! Ох, изверги, изверги! И мысли-то такой не было, и подумать-то на них не могли!
— Я вас не про мысли спрашивал, — сказал Огарев, поднимаясь. — Я вас про возгорание в печи тогда спрашивал… Гражданин Марков! Собирайся… Пойдешь со мной в отдел, дашь там свидетельские показания следователю.
Доро́гой Марков сказал, что баркас называется «Зоркий», а капитаном на нем шурин Маркова, Сергей Вырин. Назвал адрес…
5
Есть много странностей в поведении человека, которые он сам же не может ни понять, ни разумно объяснить. Зачем Иван Бурцев зарывал в землю подкинутое ведро, осторожно запаковав его в полиэтиленовый мешок? К чему такая предусмотрительность, если добрый человек Ваня уже был побежден своими домашними, сдался, отступил? Объяснить он это тоже не мог. А экспертам и не нужны были его объяснения: они получили возможность — с большим трудом, правда, среди стертых и полустертых отпечатков пальцев на внешней и внутренней поверхностях ведра, — выявить один, очень четкий. А дальше — дело техники: есть картотека, а Татьяна Бурлина была когда-то судима…
Но имя ее и без того уже попало в поле зрения розыска — из рапорта Александра Токалова. Официальное заключение экспертизы поступило с нарочным в райотдел минут через десять после того, как члены оперативной группы ушли на обыск к Бурлиным и Коротковой. Обыски были закончены, получено признание Михаила Бурлина в убийстве; у старухи Акулины Коротковой Конев выяснил, что месяца три назад Татьяна Бурлина брала у нее злополучный мешок для каких-то домашних надобностей. И не вернула. А в пятницу вечером, с девяти до одиннадцати, лежала старуха Акулина в постели с большим давлением, при ней был сынишка Бурлиных, Колька, принес ей градусник, измерял температуру, любит он это дело, на врача, видно, выучится, пострел! Конев отпустил Акулину домой, сказав мимоходом, что подозрение с нее снимается, поскольку Михаил Бурлин признался в убийстве. И, увидев, как в радостном возбуждении забегали ее шустрые глаза, суровым тоном предупредил, что доверил ей тайну следствия, которую ни при каких обстоятельствах не должна знать Татьяна Бурлина. Акулина клятвенно заверила Конева, что придет домой, запрется — и ни-ни… Но не такая старуха сидела перед следователем, чтобы утерпеть, несмотря на доверенную тайну… Александр Григорьевич на это и рассчитывал.
Затем он допросил Михаила Бурлина, но тот повторял, что и Емельянову: убил он, на рыбалку в пятницу вечером собрался, но раздумал ехать, с полпути на лодочную станцию вернулся, жены дома не было, ушла с сыном куда-то в гости, об убийстве не знает и к нему непричастна. Конев предъявил Бурлину акт экспертизы, сказал тихо:
— Если она ничего не знает, то вы сами подкидывали и ведро к Бурцевым. Но почему на нем пальцы вашей жены?
И тогда Михаил Бурлин замолчал, как будто не слышал ничего, что говорил ему следователь. А может быть, и не слышал…
Конев приостановил безрезультатный допрос.
Был уже одиннадцатый час вечера, сегодняшний долгий день измучил всех, и можно было бы сейчас поставить точку, а остальное доделать завтра с утра. Но уходить никому не хотелось. Собрались в штабе, ждали Огарева, который обещал разыскать капитана баркаса Сергея Вырина, если только «Зоркий» не ушел в очередной рейс. К счастью, не ушел… Александр Григорьевич допросил Вырина и, зная, что его ждут, вернулся в штаб, сказал коротко:
— Полное алиби.
Помолчали.
— Брать ее надо, — сказал Токалов. — Чего медлим?
— Ребенок при ней, Саш, — ответил Огарев. — При ребенке — нехорошо… Утром уйдет в школу, тогда уж… Мое дело десятое, следователю здесь распоряжаться, но думаю, что и Мишке Бурлину лучше эту ночь у нас переночевать. Сумной он, кабы чего не натворил над собой… А с солнышком у человека дух крепче.
Оделись, вышли на улицу. Прощаясь, Огарев — жил он неподалеку — сказал, продолжая свою беспокойную мысль:
— Разнесчастный мужик… Вчуже жалко!
— Жертвенник он, твой Мишка, — проронил Мухрыгин, влезая в дежурную машину. — Надо же — все взял на себя! И на что надеялся? Мы ему что тут — лопухи?
— Лихо ты его припечатал, Владим Георгич, — сказал Емельянов, усаживаясь рядом. — А вот во мне Бурлин вызывает сочувствие.
— Есть в нем что-то, — согласился и Сергунцов. — Но тоже, знаете… так нельзя. На жертву шел, а подумал бы: осудят меня, с кем сын останется, с какой мамочкой?
— Когда идут на жертву, не думают, Виктор, — сказал Конев. — А подумают — уж не идут… И слава богу, что не успеваем подумать.
— Старею, — вздохнул Огарев, стоя у машины, — совсем старею… Что-то в нынешней совести стал мало понимать. После войны шпана убивала за кусок хлеба, за десятку… Возьмешь, бывало, такого ворюгу, гнев обуяет, ну, кажись, разорвал бы! А понимал, ясно было, почему и отчего. В нехватках да недостатках взгляд на совесть человечью был тогда прост и прям. А нынче что? Женщина, мать… Не голодала, не холодала, одета, обута, в доме, не скажу, густо, но ведь и не бедно. Ан, нет — за лишние деньжонки — я человека убью, не пожалею… И эта, вторая, как ее… Людка Инжеватова! «Скорая» к ней приезжает, врачи хлопочут, молодое сердечко и нервишки ей поддерживают, но в милицию она так и не пришла, не проснулась в ней совесть до такого шага, не выгребла из души прошлого, будет в нем подгнивать. Да и будет ли? Нынче успокоительных таблеток — пей, не хочу. В каждой — райская жизнь. Моя старуха, чуть что не по ней — хлоп! — приняла… И все по ней, и душа тиха, и жизнь прекрасна. Н-не понимаю… Дело раскрутили, а радости никакой нет.
— А вот у меня, старый, большая радость, — с вызовом сказал Мухрыгин.
— С чего бы это? — хмуро спросил Огарев.
В раскрытую дверцу просунулась мухрыгинская правая рука с широко растопыренными пальцами.
— Гляди, старый, — сказал Мухрыгин и стал загибать пальцы. — Убийцу нашли. Нахаленка Дроботова отучили от даровых барашков; захочет, положим, еще разок разменять совестишку на пятачки, да вспомнит, как прищучили, поостережется; неволей, из страха, станет жить честно, что тоже, скажу тебе, старый, совсем неплохо, законы-то надо уважать! А страдалица Инжеватова? И она впредь совать взяток не станет, шустрая! У меня и о Бурлине, о котором вы тут плачетесь, есть слово. Благодаря нам гражданину Бурлину опять же будет над чем подумать. Что это? Вырыл в собственной семье монашескую пещерку, спасался в ней, а жена что хотела, то и творила. Не моя она жена!
Все невольно рассмеялись.
— Чему смеетесь? — не на шутку обиделся Мухрыгин. — Повело вас, гляжу, на жалость и сочувствие… Ох вы печальники! Поднял я в архиве дело Татьяны Бурлиной, почитал. Полные пять лет ей можно было дать по закону, но как же… Молода, в первый раз, ребенок маленький, муж хороший, семья будет разбита… Учли, вошли в положение, смягчили, раз закон позволяет, дали три года. И тех не отсидела, голубка! Уж чересчур мы добрые да жалостливые…
— Я с тобой согласен, Владим Георгич, — серьезно сказал Сергунцов.
— А я нет, — сказал Конев.
— И я нет, — сказал Токалов, забившийся в уголок на заднем сиденье.
— Трогай, парень, — обратился Огарев к шоферу, — ихним разговорам не будет конца. Всю правду никогда в одно слово не вложишь, правда большая, много слов для нее надобно… Александр Григорич! Мне поручишь завтра утречком привести Бурлину?
— Думаю, она сама придет, Николай Леонтьич, — ответил Конев, вспомнив об Акулине Коротковой. — Предупреди, на всякий случай, дежурного… А уж если нет, к десяти утра доставь.
— Ох философы! — возмущенно пробормотал Мухрыгин. — Ох жалельщики!
Огарев прощально махнул рукой и устало пошел в дежурку…
6
На рассвете Татьяна Бурлина пришла в райотдел, назвала старшему лейтенанту Романову свое имя и сказала, зачем пришла…
Романов, выжатый колготной ночью, заполнял в этот тихий час журнал приема и сдачи дежурств. Поднял голову от страницы, вгляделся в лицо вошедшей.
— Эх, Татьяна Васильевна, — сказал с укором. — Прийти бы тебе вот так-то недельки две назад. А нынче что ж? Могла бы и солнышка дождаться.
Она, будто не по ту сторону деревянного барьера стояла, — ответила далеким-далеким голосом:
— Мое солнышко давно закатилось, старший лейтенант. Отпустите, прошу, мужа. Не виноват он.
— Об этом следователя надо просить, гражданка Бурлина, — строго сказал Романов. — Я одно лишь могу сделать — зафиксировать явку в журнале…
7
Чувствуя отвращение к каждому мгновению, которое он еще должен прожить, Михаил сел на кушетку, пригнулся и торопливой рукой стал срывать с правой ноги носок. Зажатая меж колен двустволка по-змеиному холодила щеку, мешала ему, он дергал лицом, отодвигал ее, мешал себе еще больше. Наконец все. Откинулся, примериваясь. Сейчас, сейчас…
И вдруг услышал: дверь на веранду открывает сын, зовет его. Еще секунды оставались, он мог бы успеть… Михаил сквозь зубы, со стоном, втянул в себя воздух. Переломил ствол, вынул патрон и отшвырнул ружье прочь.
Ему и этого нельзя. Надо жить.
Влетел Колька, теплыми ручонками обнял отца за шею, и Михаил прижал к себе худенькое тельце, не понимая теперь, как же он мог забыть о сыне. Помнил все четырнадцать часов, которые провел под арестом, знал, что есть в их семье самый главный, самый хрупкий, перед которым надо держать, ответ не только Тане, но и ему. И вот — будто замстило…
— Папка, папка… Это правда? Мама убила бабушку Аришу?
— Ты ее знал? — спросил Михаил, холодея.
— Она приходила к нам. Ни за что не поверю! Скажи мне, папка, скажи… Быстрее!
Глаза в глаза… И не отвести их, и не скрыться, и не солгать. Нет сил ответить. Нельзя не ответить. И надо еще жить, жить…
Печь с выломанным подом, как с распяленным в крике черным ртом, качнулась и медленно поплыла на Михаила. Он выдвинул плечо вперед и прижал, загораживая, к себе сынишку. Колька, спрятав лицо в отцовскую грудь, бил кулачонками по его плечам.
Что ответить ему? Что?
Соколов Михаил
Враг в зеркале
ГЛАВА 1
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
...А ещё потому, что меня вновь, - и как всегда неожиданно, - затопила ненависть к этому глухому, заплесневелому миру. А может, потому, что в глубине души мне было жаль своей бедной молодости, с бешеной тоской восставшей в сердце вместе с неизменным запахом вчерашних щей, табачного дыма и нищеты.
Сидя в машине, припаркованной в тени огромной акации, я курил сигарету за сигаретой и поглядывал через дорогу на корявый многоквартирный барак, как и все временные строения переживший, вероятно, и своих торопливых строителей.
Ветер, тоскливо воя, разметал ветки над машиной, и пестрые лезвия светотени от ближайшего фонаря, пробились вниз и быстро пробежались по темному салону моего "Мерседеса", по моим коленям и по моей печали...
Как же я ненавидел этот город, этот отвратительный дом и особенно квартиру, что сейчас уставилась слепыми темными окнами в начавшийся дождь за стеклом!
И все-таки идти было надо. По сути, мой приезд сюда несколько дней назад уже фактом своим фатальным образом предопределил исход: очень скоро, там, за мертвыми стеклами ненавистной квартиры, я убью своего брата...
Там, на втором этаже, я разом покончу с прошлым, с тем миром, что до сих пор корнями своими прочно держится за за темное дно моего сознания. Там я наконец смогу обрести покой.
Я проверил, насколько свободно выскальзывает из кобуры пистолет.
Хлопнул дверцей машины, закрыл на ключ... Редкие капли прохладно освежили лицо. Некуда торопиться. Я вновь закурил, потому что, несмотря на твердую решимость поставить на всем действительно последнюю точку, спешить было некуда.
Не нужно обладать сверхвоображением, чтобы увидеть его обмякшим вдеревянном скрипучем кресле с синеватой дырой между глаз и развороченным затылком, - слишком многие с вожделением ожидают моего прибытия в небесах с подобными отметинами на головах.
Слишком многие...
Сигарета, зашипев, погасла. Я отбросил окурок. Пиджак промок.
Скрипнула всегда наполовину приоткрытая дверь... скрипучие ступени... Одна, вторая, третья... В этом месте из неведомо каких щелей дохнуло затхлостью подвала, где зимними вечерами, забившись по зябким сырым углам, мы, подростки, сообща выкуривали свое одиночество... И там вместе с нами незаметно подросла Таня...
Площадка второго этажа. Три двери. За двумя, ненужными мне, тускло шевелилась жизнь. Мне же нужна была эта, темная и ненавистная дверь в прошлое...
Нет, уже в настоящее.
Я извлек ключ из кармана и осторожно, стараясь не щелкнуть замком, открыл дверь. Темный коридор и темная гостиная впереди.
Тишина.
Я вытащил пистолет. Навинтил глушитель. Тихо щелкнул предохранитель.
Скоро.
За соседней дверью тонко и сердито закричал женский голос.
И тут меня вновь охватило чувство нереальности происходящего. И как же все было безнадежно...
Я вспомнил, как все началось. Совсем недавно, и очень давно. С моего приезда сюда несколько дней назад и ещё раньше, с первых проблесков осознания себя в этом маленьком приволжском городке. И тут вдруг, - вместе с молнией за стеклом подъезда, - ощущение простоты и ясности с необыкновенной силой заполнило мою душу. Мне стало понятно...
ГЛАВА 2
Я ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬСЯ С ПРОШЛЫМ
Мне, наконец-то, стало понятно, что приезд сюда, в Нижний Новгород, в расчетливой спешке осуществленный, имел, разумеется, более глубокую подоплеку, нежели организация выгодного охранного филиала в "Бета-банке". Я осознал это при виде очень знакомых, зеленого цвета штанов, обвисших на худых ногах лежащего за киоском человека, недавно весело болтавшего со мной. И тут же осознал причину того, почему так безвольно сползла со ступни человека туфля. Мой приятель Геша был мертв, мертвее некуда.
Я прилетел два дня назад утренним рейсом на крепеньком словно игрушечном "Яке", лихо пронзающем ладными формами бесконечное российское пространство. Прилетел на несколько дней, воспользовавшись стечением обстоятельств, вынесших меня к моим истокам. Серая пьяная лихорадка покинутой в Москве рабочей суеты не могла, конечно, надолго задержать меня здесь: путешествие было деловым, но в промежутках, вырываясь из ситуации необходимости с усладой для души плескался в солнечном кипятке, забегая то на пакгауз, то на берег Волги у портовой пристани, то в старые дворы, где знал каждый камешек.
Гешу я встретил час назад. Мы одновременно выхватили друг друга взглядом из толпы, тут же потекшей мимо нас, и сперва неуверенно, но затем все осмысленнее улыбаясь, отдались воспоминаниям. Его большой нос на худом лице стал ещё больше и между глотками баночного пива за столиком ближайшего летнего кафе привычно вынюхивал поживу. В детстве мы его звали Нюхач, и кличку он оправдывал вполне, не раз выводя нашу малолетнюю банду на стоящие (по тем скромным меркам) дела.
Мы выпили по банке пива (угощал я), заели солеными орешками, стали говорить о прошлом одними вопросами: "А помнишь?", после чего кто-то из нас произносил короткое "Да".
Пообещав ещё раз встретиться на днях (есть одно дельце, - пояснил Геша, - можно здорово подзаработать), мы расстались, но что он имел в виду я, конечно, уже никогда не узнаю. Кивнув на прощание, я пожал ему руку и проводил взглядом до киоска, за углом которого он и скрылся уже навсегда.
Я ещё посидел. На гладком пластике округлых столиков подсыхали отвергнутые покупателями сморщенные кусочки чебуреков, кремовые спирали сосисочных шкурок, бумажно-белые кружочки тарелок, прорисованные остатками кетчупно-горчичных узоров. На столики поглядывал гладкий усатый продавец то на остатки пиршества, то на стоявшего рядом сухонького старого мальчика, - предаваясь сонному раздумью: самому выполнить сервисный долг или заставить нищего.
Скрытно подплывшее короткое плотное облако неожиданно закрыло солнце. Тут же похолодало, а в спину мягко ткнулся ветерок. Голубь, едва не задев усердно трущего пластик нищего, шумно спикировал на соседний столик. Ветер от его крыльев заставил меня поднять голову, и я заметил, как прозрачен кристально чистый воздух: умытые недавним дождем и нежно подкрашенные по контуру дома красуются, словно соревнуясь с уменьшенными своими копиями в стеклах все того же киоска.
Я не понимаю, почему так изменилось мое настроение? Почему - боже мой! - меня вдруг настигло это мгновенное счастье - почти болезненная волна свежести и детского, незамутненного опытом восприятия. И мне хочется, - как тогда, давно, - завопить по-индейски люто и пронзительно...
Поминутно оглядываясь, с явной готовностью наткнуться на грубость, возникла откуда-то куцая собачонка. Вихляясь из стороны в сторону, свернула за пахнущий собачьим раем киоск-кафе и вдруг свирепо оскалилась. Я думал кот или крыса и даже поднялся, желая удовлетворить ленивое любопытство, на что же она так рычит? Но меня опередили: закричала женщина, и вот тут я и увидел зеленые штаны лежащего навзничь моего давнего приятеля Гешу, единственным глазом (во второй вошла убившая его смерть) он разглядывал синее-синее раскаленное небо.
Вот так было покончено с моим лирическим настроением.
И с этого момента жизнь увлекла меня... куда? Если бы я тогда знал!..
Ребята из ближайшего отделения прибыли минут через пять. Старший опер толково разобрался в ситуации и быстро нашел женщину, чей внезапный крик слышали все, гладкого усача-продавца из кафе и меня, собеседника и знакомого покойного.
Этот же опер, подозрительно поглядывая на меня снизу вверх, высмотрел кобуру у моей левой подмышки и потребовал документы. Паспорт и разрешение на оружие он рассматривал так тщательно, что все стали как-то меня сторониться. Опер изъял у меня пистолет, сразу понюхав ствол. Потом тут же позвонил куда-то, продиктовав мои данные.
Тут прибыла ещё одна машина с майором, фотографом и типом в гражданском, немедленно занявшимся телом Геши.
Канитель завертелась. Мне не хотелось тратить время зря, однако покойный, как ни крути, был некогда моим корешом. Надо было отдать последний долг.
Оперативник-лейтенант доложил обстановку майору. Я услышал недовольное брюзжание:
- Так-таки и никаких следов? Может, плохо искали?
- Какие тут следы? - оправдывался лейтенант. - Вы сами взгляните.
Майор не поленился заглянуть за киоск ещё раз и поморщился. Место, огороженное кустарником и стеной дома, было скрыто от глаз прохожих, поэтому перегруженные любители пива пользовались предоставленными удобствами в полной мере. Лейтенанту не хотелось ещё раз скакать среди застоявшихся луж, и, желая отвлечь начальство, он усиленно переводил внимание майора на меня.
Ему это удалось. Майор бросил на меня рассеянный взгляд, враз ставший цепким и настороженным.
Конечно, мои габариты впечатляют, но нажать на курок может и ребенок.
Подъехала "Скорая", не нужная сейчас помощь. Фотограф отщелкал свое, труп завернули в белое, уложили на носилки и увезли.
- Неужели никто ничего не слышал? - недовольно бурчал майор. - Среди бела дня, выстрелом в упор убит человек, кругом полно народу и никто ничего не слышал.
Никем не останавливаемый, я подошел к месту, где недавно лежал Геша. Стена и кустарник заслоняли окна соседних домов, задняя сторона кафе проезжую часть и тротуар. Очень удобно для убийства. Конечно, выстрел был сделан из пистолета с глушителем.
Я посмотрел на зловонные лужи под ногами, через которые бодрыми прыжками стремилась куда-то крыса. Ирония судьбы - место последнего приюта стало логическим завершением вертляврй, не очень-то честной жизни Геши-Нюхача.
Эпитафия.
Я слышал свое имя, но мыслями все ещё был так далек отсюда, что не сразу догадался оглянуться.
- Иван! Иван! - кричал мне какой-то капитан. Он оживленно махал рукой и лишь по мере приближения, я начал узнавать. Ну конечно...
- Ловкач! Ты что-ли?
- Здравствуй, Иван! Давненько... давненько меня так уже не называли. Для некоторых я уже Константин Анатольевич.
- Ты это брось! - увидел он мои насмешливо вздернутые брови. - Для своих я Костей и остался. Ладно, познакомься. Полковник Сергеев Петр Леонидович. А это мой друг детства Иван... Как тебя по батюшке? Иван Михайлович по кличке Оборотень.
Полковник протянул мне руку и крепко пожал. Это был невысокий широкоплечий мужчина лет пятидесяти.
- Я слышал о вас. Да и капитан мне рассказывал. Не могли бы уделить мне время для разговора?
- Я так понимаю, что отказаться мне не удастся.
- Почему же?.. Но я думаю, для нас обоих выгодно сотрудничать.
- В чем же для меня выгода?
- Насколько я осведомлен, вы приехали сюда по делам "Бета-банка". А я, кроме всего прочего, вхожу в правление нашего городского филиала.
- Понял, - кивнул я. - Отчего же не поговорить.
- В таком случае, милости прошу ко мне в машину.
И, завершив свое старорежимное приглашение каким-то иезуитским вывертом кисти, он направил меня (слава богу не к "жигулю") к служебной "Волге". Уже это хорошо, подумал я, не надо складываться, больно втискиваясь в средние габариты общедоступной машинки.
Шофер в штатском лихо рванул с места. Рядом с ним, явно напрягаясь, сидел, отвернувшись, Константин, всем видом демонстрируя страстное желание быть вежливо-отсутствующим и то же время внутренне настраиваясь на нашу волну. Это бывает на службе.
- Капитан Кашеваров рассказывал нам о вас, Иван Михайлович. Я собирался с вами связаться сегодня же. А тут такой случай.
Костя повернулся, подтверждая слова полковника. Я лихорадочно пытался сообразить, каким образом оказался вплетенным в сеть посторонних для себя замыслов..
- Да, - нейтрально отозвался я.
- Кроме того, мне доложили, что вы приехали в наш город в связи с расширением вашего бизнеса. Это в какой-то мере затрагивает и мои интересы.
- Да, - ещё более нейтрально повторил я.
- Сейчас, буквально пять минут назад, мне доложили, что вы оказались в числе свидетелей последнего преступления, вот я и решил воспользоваться случаем и познакомиться.
Мне нечего было на это сказать, потому я и промолчал. И подумал, что, вероятно, полковнику позвонил тот опер, когда диктовал мои паспортные данные.
- Вы, кажется, раньше были хорошо знакомы с городом? - переменил тему полковник.
- Еще бы. Я, знаете, был, что называется, уличным ребенком. Вот Константин... Анатольевич подтвердит, - кивнул я на тут же согласно закивавшего Костю-Ловкача.
Полковник вытащил пачку "Мальборо" и предложил нам закурить. Костя с готовностью взял сигарету. Я отказался.
- Привык к крепким. Я курю "Кэмел". В Чечне пристрастился.
- Как же, как же, - полковник давал понять, что знаком и с этим эпизодом моей служебной карьеры в ФСБ.
- Вы приехали два дня назад?
- Прилетел.
- Да, разумеется. Ну и как ваши ощущения, многое изменилось здесь?
- Изменилось? Циолковский как-то сказал, что мы скорее избороздим Вселенную, чем сделаем что-нибудь с Калугой. Я думаю, это же можно отнести ко всем нашим русским провинциальным городам.
- Значит, сразу сориентировались?
- Можно и так сказать.
- Это хорошо.
- Вы хорошо знали убитого? - тут же спросил он.
- Капитан Кашеваров должен был вам доложить, что Геша... Георгий был нашим общим приятелем..
Меня начинала немного раздражать эта осторожная беседа. Уже несколько лет, счастливо содрав погоны, я потерял вместе с ними и необходимую каждому служаке субординационную почтительность.
- Зачем я вам понадобился?
- Терпение, капитан Фролов.
- Бывший капитан.
- Это теперь уже на всю жизнь, - доброжелательно пояснил полковник.
Я не стал переспрашивать, что он имел в виду. И так было понятно. Кроме того, тоскливая мысль, что я попал в какую-то западню, сменилась злобной решимостью... Впрочем, посмотрим, что он предложит.
Мы приехали. Водитель, лихо притормозив, влетел в каменный дворик старенького особняка, и, словно щелкнув затвором памяти, мозг мой выдал забытый снимок: конечно, это было в детстве таинственно и глухо звучащее здание КГБ. Значит, полковник Сергеев, несмотря на свои милицейские погоны, служит в нашей конторе.
Мы выбрались из машины, оставив там водилу, и втроем мимо часового прошли на второй этаж по сильно потертому лестничному ковру.
В кабинете казенно пованивало застоявшимся табаком и ещё бог знает чем. У меня возникло ощущение, что я вернулся на десяток лет назад, когда перестройкой не пахло, или весьма слабо, зато больше разило растерянной затхлостью пробуксовывающего, оставленного без руководства механизма Госужаса.
- Прошу садиться, - сказал нам полковник.
Мы сели за длинный стол. Полковник, шумно двигаясь, устроился напротив.
- Перейдем к делу. У нас в городе последние два дня происходит что-то странное. Четыре убийства. Скорее всего идет разборка среди местных креминальных структур. Но, может быть, эти убийства не имеют между собой связя. Кроме одной детали: все покойники в жизни хорошо знали друг друга. А в детстве даже дружили. Поэтому нам нужен человек, который хорошо знал бы изнаночную сторону жизни города и в то же время ни с кем не был бы связан.
- Вы имеете в виду меня?
- Да. Капитан Кашеваров исключается. Его нельзя использовать. Все знают, что он работает в милиции. А вы местный, сейчас бизнесмен. У вас процветающее охранное предприятие: банки, офисы, госучреждения.
- Я не был здесь почти десять лет. Как взяли в армию, так больше не возвращался. Сейчас другие времена... - я решил не сдаваться.
- Времена другие, но если постоянно упускать инициативу, то через несколько лет вы точно города не узнаете. Сейчас благоприятная ситуация. Нам на самом верху разрешено, наконец-то, применять жесткие меры. Мы должны только выяснить - к кому применить эти меры.
- Вам, наконец-то, разрешили работать? - оскорбительно вопросил я.
Он побагровел, достал ключи и полез в низ стола. Пыхтя, отомкнул дверцу и, выпроставшись, протянул мне листок.
- Четыре убийства. И три из одного и того же оружия. Это уже плохо, а дальше может стать и ещё хуже. Посмотрите, вам знакомы эти имена?
Я взглянул на список и бросил односложно:
- Да.
- Что вы можете о них сказать?
- Не больше того, что вам уже рассказал капитан Кашеваров.
- И все-таки?..
- Когда были детьми, мы слонялись компанией, вместо того чтобы ходить в школу, как большинство детишек, которых мы считали своими личными врагами.
- И вас всех вместе приводили в отделение милиции?
- Почему, иногда и отдельно. Впрочем, вы и это, конечно, знаете.
- Кое-что знаем, - он взял у меня листок и задумчиво забарабанил пальцами по столу.
- Кстати, что это за загадочная личность по кличке Лютый? - Никто ничего толком сказать не может, кроме того, что это, вроде, ваш брат. Это правда?
- Чушь! Никакого Лютого никогда не знал.
- Да, да. Но многие утверждают...
- Вы, разумеется, и с паспортным столом связывались?
- Конечно. У вас две сестры, обе замужем. Одна живет в Волгограде, другая в Старом Осколе. Ваша мать умерла семь лет назад. Отец развелся с вашей матерью, когда вам было... три года, насколько я помню.
- Пять.
- Что?..
- Пять лет мне было.
- Извините. Когда вам было пять лет. От его новой жены, Венеры Федоровны Мамаевой, у вас были сестра Роза и брат Руслан. Может, имеется в виду этот ваш брат?
- Не знаю, кем имеется в виду, но я никогда не был с ним знаком.
- Хорошо, оставим это. А отец ваш умер ещё при вас. Что с ним произошло?
- Заражение крови. Он был токарь и ему оторвало руку. По локоть. Затянуло в станок.
- Очень жаль.
- Да, очень.
- Но вернемся к вашему мифическому брату. Вот и капитан Кашеваров утверждает...
Я уже не слушал, потому что воскрешение этой дикой, ни на чем не основанной легенды о существовании Лютого, потрясло меня сильнее, чем я мог предположить. Его небытие давно стало одной из аксиом, что спрятались вы такой глубине рассудка, куда и заглядывать-то уже нет ни малейшей охоты. В детстве, то в шутку, то всерьез упоминание о моем каком-то лютом братце доводило и меня до состояния лютости, так что шушукаться об этом стали исподтишка. Потом, конечно, ещё и сны, на них не было управы. И не только случалось, что иллюзорный мой брат, притянутый к действительности одной своей страшной кличкой, являлся мне в самом что ни на есть реальном виде, в обстановке безумия, наскоро составленной сном из таких аксессуаров, как нож с канавкой на лезвии, граненая и неизвесно где найденная граната, патрон, купленный в ближайшей воинской части у беспечного старослужащего солдата. Мне он представлялся грубым, мускулистым, беспощадно жестоким, стремительно влекущим за собой лавину бездумных шалостей и преступлений. И однако же тень его мрачной славы падала и на меня, делая в глазах товарищей бесспорным вождем.
- ...С учетом изложенного, а также принимая во внимание ваш послужной список, мне кажется, вы могли бы помочь...
- Вы же знаете, что после моего ухода из конторы, я не желаю иметь ничего общего...
- Так и не надо иметь, - перебил он меня. - Пусть это будет вашим частным расследованием. И вы можете располагать всеми нашими возможностями.
- Не уверен, что мне захочется вновь купаться в дерьме...
- Ну что вы!.. Позвольте, капитан, я буду откровенен. Эти убийства встревожили кое-кого наверху. В общем, мне дали понять, что я должен в считанные дни "разобраться и доложить". Мне дали понять, что от этого многое зависит для меня лично.
- Ну а лично я тут при чем?
- В том-то и дело, что вам не составит труда... Я ведь знаком с делом "Осетинских гастролеров", с "Люберецкой разборкой", с вашими успехами в Чечне. Для меня просто находка, что специалист такого класса, как вы, оказался здесь в тот момент, когда это необходимо не только лично мне, но и городу, где вы родились.
- Я не...
- Нет, нет, послушайте, прежде чем отказывать окончательно, послушайте. Вы же сюда приехали не просто на экскурсию. Если вы нам поможете, можете считать все ваши задачи с охранным филиалом решенными на самых выгодных для вас условиях. Абсолютно все будут довольны. Ну как?..
- А если я не соглашусь, то могу сразу отбывать?..
- Ну почему же, вы можете попытаться.
Странно, но я почему-то даже не разозлился. Обычно и при менее откровенном давлении черная злоба окрашивала мир в мрачные тона, не скоро причем светлеющие. Сейчас этого не было.
Полковник, внимательно разглядывавший меня, что-то прочел на моем лице и чуть не порвал рот в улыбке.
- Вот и прекрасно. Для вас это будет пустяшным делом. Вы приехали к нам навестить свою девушку. Она недавно переведена из Москвы, и мало кто знает, что работает у нас в ФСБ. Все будет выглядеть вполне естественно.
- Мне не нужны никакие девушки!
- Нужны, нужны. Кроме того, вы знали её с детства, а в Москве просто возобновили отношения. Люди так и подумают, что нам и требуется. Вдвоем все будет выглядеть естесственно.
- Полковник. Я не какой-то там салабон, и если я за что-то берусь, я сам знаю, как лучше сделать дело. Я не хочу впутывать женщину в такие грязные дела.
- Прежде всего, это не женщина, а сотрудник Министерства безопасности, а кроме того, я уверен, что вы захотите с ней работать, как только увидите её.
- Серьезно?
- Ее зовут Татьяна Соколова... Припоминаете?
Надо же!.. Вот уж!..
- Она переведена к нам буквально на днях. Все будет выглядеть очень естественно: парень приехал вслед за своей девушкой.
- Я вижу, вы хорошо поработали над моим личным делом.
- Пришлось. А теперь вернемся к нашим баранам. Вернее, к покойникам. Слушайте меня внимательно. Все убитые, хоть и не были законопослушными гражданами, но не входили в какую-то единую группировку. Скорее это были мелкие жулики. И у нас пока никаких зацепок.
- Тогда почему на вас давят сверху?
- Этого я не могу понять.
- Ну а если ниточка потянется в политику?
Полковник Сергеев улыбнулся фаталистически и добродушно.
- Там видно будет.
С тем мы и расстались, пожав друг другу руки. Выходя, я поймал его настороженный взгляд. Дверь закрылась.
ГЛАВА 3
ЧЕРТОВСКИ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
- Значит, ты, Константин Анатольевич, сразу после армии махнул в милицию?
- Да будет тебе, Иван. Какой я тебе Анатольевич. Вспомни лучше, как с тобой щук таскали...
- Мне больше помнится, как мы у пацанов из соседней школы деньгу сшибали.
- Да, были времена. Мне как-то это и вспоминать неохота. Как мы тогда не сели?.. Жуть берет! Нет, я все забыл окончательно и бесповоротно.
- Тебе удалось? Впрочем, ты недаром получил свою кличку - Ловкач.
- Знаешь, Иван, - остановился вдруг Константин, - давай сразу договоримся по старой дружбе: что было, то умерло. Я имею в виду наши... шалости. Тем более, что при моем участии ничего такого не происходило. А то, что ты и все наши делали без меня - я знать не хочу. Лады?
- Да что это с тобой? - ухмыльнулся я. - Действительно, не было ничего. И что ты так разволновался? Пойдем, пойдем. Я теперь в некотором роде на службе, работать надо.
Мы пришли на место. И сразу пахнуло чем-то отвратительно знакомым; напротив входа, так, чтобы дежурный за стеклом мог постоянно иметь в поле зрения, находился битком набитый обоего пола пьяными бомжами обезьянник, откуда сквозь прутья нас обозревали бессмысленно и хитро.
Проходя мимо, Константин машинально отобрал дубинку у стоящего рядом дежурного и прошелся ею по прутьям, но обитатели вольера так же привычно успели отдернуть пальцы.
Дубинка была возвращена, и мы по свежевымытой с шаткими перилами лестнице прошли на второй этаж. Здесь народу было побольше, в основном младшие чины деловито сновали в жилетах и с автоматами. Меня равнодушно оглядывали, некоторые на ходу спрашивали Костю о новом убийстве, он отмалчивался.
В пустой комнате без таблички на двери было пусто. Сейф, два стола, несколько стульев.
- Ты посиди здесь, - сказал Константин, - а я тебе сейчас материал принесу.
Он приволок три толстые папки и с шумом бросил на стол.
- Вот, изучай. Расписался я, так что ты осторожнее.
- Давай, давай. Надеюсь, тебе есть чем заняться?
- Найдем. Вот тебе ключ, запирайся и работай. Я загляну вечерком, если ты ещё будешь. А понадобится, вот мой телефон, - сказал он и протянул визитку, отпечанную золотыми буквами.
- Красиво работаете, - заметил я, разглядывая визитку, и он довольно хмыкнул.
Константин ушел. Я посмотрел в окно, увидел облупленную глухую кирпичную стену соседнего дома и сел за стол.
Что ж, папки оказались пухлыми и содержательными. Здесь было все,начиная со свидетельств о рождении и кончая свидетельствами о смерти. Были и фотографии убитых (я с интересом сравнил их последние обличья с непорочным эталоном, извлеченным из памяти), заключения специалистов по баллистике и прочие протоколы протокольчики о всех тех деяниях, коими были полны жизни отошедших в небытие моих прежних товарищей. Кто-то сейчас трудился над таким же томиком по делу Геши. И я подивился, - с учетом того, что двое были убиты позавчера, а один вчера утром, - работа была проделана большая и в рекордно короткие сроки. Чувствовалось, что все находится под особым контролем.
Кроме чисто милицейских бумаг, папки содержали полные биографии убитых. Мои бывшие кореша достойно применяли в жизни навыки, которые закладывались в нашем общем детстве. И должен сказать мое имя мелькало очень часто. Правда, в отношении определенного периода.
Потом зазвонил телефон. Я снял трубку.
- Капитан! Это опять я, полковник Сергеев. Что-нибудь нашли интересное?
Я посмотрел на часы. Было три часа. Я сидел уже больше двух часов.
- Пока ещё нет. Но если на что наткнусь, я вас обязательно извещу, полковник.
- Не кипятитесь, капитан. Я не подгоняю, самому любопытно.
- Все нормально, Петр Леонидович.
Когда надо, должен сказать, я быстро отхожу. Как сейчас, например.
- Петр Леонидович! - все же добавил я, - вы лучше меня не отрывайте. Когда понадобится, я с вами сам свяжусь. Все.
Я повесил трубку и сразу же забыл о Сергееве. Меня удивляло, что во мне ничто не отозвалось на всю ту информацию, которую сейчас штудировал. Обычно мой внутренний голос, которому я привык доверять больше, чем самому себе, сразу выдавал решение. Несколько лет, правда, прошло, прежде чем я научился слепо верить в истинность этих, неизвестно откуда выплывающих ответов на поставленные задачи.
Кто-то постучал в дверь. Я пошел открывать.
Я никак не мог понять, что связывало этих убитых мужиков, кроме общего детства и почти одновременной смерти?
Чертовски красивая девушка!..
- Так ты меня впустишь, или будешь держать на пороге?
Оказывается, открывая дверь и мыслями находясь далеко, я тупо разглядывал возникшее передо мной диво. Теперь, собравшись, я окончательно понял, как хороша стоявшая в дверях девушка. Недаром весь второй этаж как-то притих.
У неё были стройные длинные ноги, и светлые волосы спадали мягкой волной на плечи. Глубокий вырез пестренького платьица открывал взорам безупречную грудь. Или почти открывал.
Я поспешно отскочил в сторону, и красавица обворожительно улыбнулась.
Она была высокого роста, что сразу мне понравилось. Я предпочитаю высоких людей. Так или иначе, мне не пришлось изгибаться в три погибели здороваясь с ней, и рукопожатие её было крепким, без жеманства. Я почувствовал, как где-то внутри у меня сладко заныло.
- Иван Михайлович. Можно просто Ваня, - сказал я.
Она бросила на меня странный взгляд, ещё более обаятельная улыбка зародилась в уголках её глаз.
- Тайный агент Министерства безопасности Татьяна Соколова прибыла для дальнейшего прохождения службы, - отрапортовала она.
Вот это да!
- Как я тебе нравлюсь?
- У меня нет слов.
И это была правда. Я все ещё держал её за руку. За эти десять лет она успела расцвести в прелестную женщину.
- Я рада видеть тебя, Иван, - сказала она и осторожно отняла свою ладонь.
Да, вел я себя не лучшим образом.
- Неужели это ты, Таня?
- Как видишь.
- Нет, вижу я нечто другое. Сколько тебе было, когда я отсюда слинял? Лет пятнадцать?
- Пятнадцать.
Я все ещё смотрел на неё и не мог оторвать глаз.
- Неужели это ты, Танька-прилипалка?
- Помнишь все-таки... Я тогда, действительно, бегала за тобой, как сумасшедшая. Помнишь, ты грозил меня отшлепать? А потом эти десять лет! Ну, не будем об этом.
Она обошла меня и направилась к ближайшему столу. Гибко изогнувшись, она уселась на мое место.
- Я часто думала, кем же ты станешь? Знаешь, вообще-то я боялась об этом думать. Как вспомню, чем вы тогда занимались!..
- Удивить, к сожалению (может, и к счастью), тебя не могу. Год служил в армии, потом оттуда - в училище. Через три года попал на несколько месяцев в Чечню. Еще три года служил в Москве. А потом все надоело, написал рапорт, и вот я уже больше двух лет вольная птица, бизнесмен. Причем процветающий. Миллионов пока не заработал, но на жизнь и себе, и друзьям хватает.
- А детей у тебя много?
- Неужели я похож на обремененного семьей патриарха?
- Значит, развелся?
- Откуда ты взяла? - удивился я. - И не был никогда женат. А как обстоят дела на семейном фронте у тебя? Много у тебя детишек?
Она рассмеялась.
- Однако, грубо мы работаем. Послушали бы нас наставники, вот бы влетело. Спешу успокоить, мужчинами я не интересуюсь.
- Не верю! - вдохновенно заверил её я. - Хотя и приятно слышать.
- Почему это тебе приятно?
- Потому что люблю всегда быть первым.
Она окинула меня внимательным взглядом. Улыбнулась.
- А ты и был первым. Всегда.
- Я запомню, - сурово сказал я, и мы одновременно рассмеялись.
- Все же уточним наши роли, - предложила Таня. - Как я поняла, мы с тобой, если не супруги, то давние любовники.
- Что-то вроде этого, - согласился я.
- Теперь решим, где ты будешь жить. У меня здесь двухкомнатная квартира. Отец умер, а мама уехала с Ленкой в Житомир. Помнишь мою сестру? Мужа нашла оттуда, представляешь? Так что, я думаю, смело можно использовать мои хоромы. Или у тебя другие предложения?
- Какие предложения? Правда, наша семейная квартира ещё цела. Сестрички писали, что, прежде чем отбыть, приватизировали её зачем-то. Ключ есть, но я так и не заходил. Не хочу бередить воспоминания.
- Понимаю, - тихо сказала она. - А где ты ночуешь?
- В гостинице.
- Ладно, если обещаешь быть примерным мальчиком, будешь ночевать у меня. Поместимся.
- Обещать я могу, но, честно говоря, ты не очень-то верь мне.
- Ну, раз предупреждаешь, буду начеку.
И мы вновь рассмеялись.
- Надо работать, - заметил я после того, как мы стали серьезными. Работать надо, а в животе пусто. Может, сходим куда?
- Зачем? Ты думаешь, я не знала, что иду к представителю вечно голодного племени. И потом я помню, какой у тебя всегда был аппетит.
И она торжественно извлекла колбасу, сыр, какой-то салат в упаковке, пирожки.
- Пойду разживусь у ребят чайником. Ты вон какой большой, тебе есть надо. А ты ещё больше стал. Какой у тебя рост?
- Сто девяносто два на девяносто два килограмма.
- Ого! У меня сто семьдесять девять на семьдесят два. Ну я пошла.
Отсутствовала она недолго. Пришла, включила чайник в розетку, и мы перекусили.
Потом я закурил сигарету.
- Ты похож на сытого довольного кота, - заметил она.
- Да, - со вздохом согласился я, - сейчас бы бросить все, но надо работать. Привычная атмосфера моей канувшей было в Лету службы. Давай-ка снова накинемся на эти бумажки. Надо сегодня их основательно изучить.
- Слушаюсь, капитан!
- Бывший, бывший...
ГЛАВА 4
В РЕСТОРАНЕ "ЧАЙКА"
В девять часов я, наконец, сдал папки дежурному и позвонил Косте, чтобы сообщить ему об этом факте.
- Все усвоил?
- Усвоил.
- И не отвлекался? - игриво поинтересовался он.
- Ты это о чем? - спросил его я, и телефон сухо и коротко пожелал мне всех благ.
- А теперь, как и подобает влюбленным, закатимся в ресторан. Будем шумно праздновать, - сказал я Тане.
- Очень шумно? - лукаво прищурилась она. - Куда прикажешь идти?
- В самое шикарное и самое злачное место. Ты знаешь что-нибудь подобное?
- Найдем, - улыбнулась она и взяла меня под руку.
Мы прошли мимо притихшего обезьянника, попрощались с дежурным и, наконец, оказались под пасмурным небом этого хмурого вечера.
Я остановил проезжающую "Волгу". Сели. Вертлявый парень с длинными беличьими зубами, повернулся к нам и поинтересовался, куда везти.
- В "Чайку", - сказала Таня.
- О'кей, - согласился парень, вновь свернувшись к рулю.
Мы выехали на набережную. Гранитный парапет нависал над густой маслянистой водой. Пластиковые бутылки (может, поплавки, может, просто мусор), грязные пузыри, какие-то ошметки, ветки - все осталось позади
Ресторан "Чайка" оказался почти что плавучей ярко освещенной коробкой, украшенной лепниной и балкончиками, куда, возможно, выходили по ночам любители свежего воздуха.
Метрдотель приветливо принял мою десятидолларовую бумажку и провел нас к одиноко стоящему столику.
Мы сели. Огромный зал имел стеклянный, сейчас уже темный потолок. Музыка. Шумная "джаз-банда". Во всю веселящийся банкет. Редкие пары лихо отплясывали на площадке для танцев. Наверху, по галереям, словно ласточкины гнезда, тесно лепились открытые ниши, занятые столиками с любителями псевдоуединения.
- Может, туда пойдем? - кивнул я наверх.
Таня неторопливо оглядела галереи и отрицательно покачала головой.
- Нет. Как я понимаю, мы пришли не просто так, а работать. Здесь мы больше на виду, да и сами больше видим.
Я посмотрел на нее. В ресторане с ней произошла очаровательная метаморфоза. Девчонка, которую я почти стал узнавать в ней, надежно спряталась. Дивная женщина сидела рядом со мной. Холодная, неприступная, она сияла умопомрачительной... не красотой даже, а неыслимым шармом. В общем, взгляды большинства посетителей были устремлены на нее. Обстановка, что ли, играла роль. Во всяком случае, в сером отделении милиции она не казалась такой... царицей. Здесь же, в свете ярких огней она просто ослепляла. Все, что угадывалось под шелком платья, вызывало у глазеющих их на неё мужчин дрожь.
- Ну, и как я тебе? - вдруг спросила она, и я подумал, что сам скоро задрожу.
- Прекрасно, - небрежно бросил я, и она вновь улыбнулась.
Юркий официант в бабочке шустро возник из-за колонны.
- Что будем заказывать?
- Не знаю, что вы будете заказывать, - парировал я, - а нам закажет дама.
Таня углубилась в меню. Слушая нас и быстро записывая заказ, официант успел пару раз отлучиться.
- Это тебе пока, парень, за скорость, - сказал я, сунув и ему десять долларов.
Официанта сдуло. Вероятно, нашим заказом.
- Давай подытожим, - предложил я. - Сообразим, что полезного можно извлечь из информации, которая чуть не засушила только что наши мозги.
- Мы узнали подробности жизни трех наших бывших друзей.
- Это что-то нам дает?
- Да, дает, хотя я чувствую: что-то не сходится. Всех убили из одного и того же оружия. И почерк один.
- Что ты имеешь в виду? - спросил я.
- Стрелял профессионал. Он даже контрольного выстрела не делает. Это говорит об опыте и самоуверенности. Надо выяснить, кто из специалистов этого рода мог за последнее время приехать сюда. А ещё надо выяснить, зачем профессионалу такого класса связываться с убийствами в общем-то мелких жуликов.
- Хорошо мыслишь. Но какой можно сделать вывод?
- Единственное, что сразу замечаешь и что связывает всех убитых и нас, в том числе, - общее детство.
- Молодец! Не знаю, что мы будем с этим делать, но это уже кое-что. Думаю, полковник Сергеев, твой шеф, потому и поручил нам это дело. Так сказать, наиболее осведомленным.
Официант подлетел с закуской, графинчиком водки для меня и коктейлем для Тани.
Я налил себе рюмку и выпил. Таня пригубила свой коктейль. Она жевала листик салата. Я поднял на неё глаза и вновь подивился её грации и дивному оттенку волос.
- О чем ты думаешь? - вдруг сказала она.
- Почему ты спросила?
- Ты так... смотрел на меня.
- Я думал, почему такая эффектная женщина, как ты, пошла служить в нашу контору? Тебе же светила прямая дорога на подиум. Стала бы манекенщицей, потом миллионершей. Или лавры Мата Хари пленили? Не похоже.
- Так тебе все и расскажи. Будто не знаешь старую истину, что не мы выбираем судьбу, она нас.
- Ко мне это не относится. Я сам решил бросить службу.
- Ой ли? А чем ты в настоящее время занимаешься? Не той ли самой оперативной работой?
Шустрый официант принес нам горячее. Мы принялись за еду, тем самым прекратив ставший неожиданно неприятным для меня разговор.
Я ел и думал: почему неприятный? Это правда, что неприятный, но почему становится так мерзко на душе, когда вспоминаю свои подвиги?
- Что с тобой? - тихо спросила Таня.
- Ничего. Вспомнилось прошлое.
- А знаешь, о чем я сейчас вспоминала?
- Нет.
Она улыбалась. Взгляд её затуманился, я вновь увижел в ней ту маленькую девочку, которую я так хорошо помнил.
- Я вспоминала, как мы все плыли на тот берег Волги, а потом я выбилась из сил и ты один тащил меня обратно.
- Надо же! Не помню.
- А я помню. И помню, как эти интернатские мерзавцы затащили меня за сарай на стройке и хотели изнасиловать. А ты вдруг один ворвался, как вихрь, и задал им такого жару, что эти гады бежали без оглядки. Их было человек пять, и некоторые старше тебя. Да, я помню, - мечтательно прищурилась она, - ты был страшен и великолепен. Кому-то руку сломал, челюсть...
- Думаешь, только из-за тебя? У них главарем был парень по кличке Крокодил. Помнишь, нижняя челюсть у него была, как утюг.
Он ещё потом как-то страшно погиб, а тогда все грозился поймать меня и задать трепку. А ты просто случайно там оказалась.
- Нет, из-за меня, - не согласилась Таня. - Они от школы выслеживали меня. Мне ведь ближе всего до дома через стройку. Они и устроили засаду.
Я рассмеялся.
- Помню у меня был перебит локоть и ещё в ухе стреляло. Кто-то здорово заехал мне тогда по уху. Но больше Крокодил не лез. Только грозился.
- Ты хочешь сказать, что не думал меня спасать? Ни за что не поверю, улыбнулась она.
- Думай, как хочешь, но чтобы я! - да ещё из-за девчонки! - полез бы тогда в драку?! Невозможно.
- Перестань кокетничать. Ты меня спасал. Я точно знаю.
Вокруг становилось все более оживленно. Столики постепенно заполнялись. Музыка звучала громче и громче. Я был рад быть здесь с Таней.
- Давай все-таки решим, что нам делать дальше, - сказала Таня и отпила из своего стакана коктейльной смеси.
Я налил себе ещё водки, выпил, неторопливо вытащил сигарету и закурил.
- Давай, - согласился я. - Будем пока разрабатывать версию о наших друзьях-приятелях. Итак, не считая тебя - ты крутилась где-то на несерьезной периферии и была очень надоедлива, кстати, - было нас восемь человек, включая твоего покорного слугу. Позавчера убиты Сергей Костомаров по прозвищу Костолом и Валерка Мишин, наш Колобок. Вчера кончили Селеверстова Петра по кличке Профессор. Сегодня - Нюхача Гешу, фамилия Вершков. Биографии этих усопших мы с тобой сегодня досконально изучили. Остаются: Чингиз, Лом и Ловкач, то бишь Костя Кашеваров, капитан милиции.
Я взял вилку и поймал соленый грибок, едва не ускользнувший. Пока я жевал, молчала и Таня. Потом сказала:
- Лома я помню. Его звали Олег, фамилия, кажется, Никодимов. А вот Чингиз?.. Что-то азиатское, но помню с трудом. Нет, не помню
- Да, это был редкий гость. Редкий, но меткий. Он жил на окраине и приезжал только на дело. Его звали Марат Карамазов.
- Ох! Ну и жизнь у вас была! Меня до сих пор дрожь пробирает, - она зябко передернула округлыми плечиками.
И тут она спросила:
- Я так никогда и не понимала, что это за брат у тебя был? То ли близнец, то ли двойник?.. Помню все шушукались насчет Лютого. Все было так таинственно.
- Честно говоря, я знаю не больше тебя. Сам я этого мнимого брата никогда не видел. Знаю, что впервые о нем сообщил Чингиз. Будто бы Лютый встретился с ним в случайной драке, чем-то они понравились друг другу, вот он и притащил его участвовать в делах нашей шайки малолетних разбойников. А потом пошло-поехало. Массовый психоз. Думаю, я один вменяемым остался. Во всяком случае, никакого Лютого я никогда не видел. Поэтому и запретил тогда всякие разговоры на эту тему.
Я затянулся сигаретой и медленно выпустил дым из ноздерй.
- Давай ещё напоследок повторим то, что мы знаем. Значит, Костолом, Колобок, Профессор и Нюхач... Все убиты практически один за другим. И оружие одно и то же - пистолет "беретта" с глушителем, найденный возле трупа Геши, то есть Нюхача. И знаешь, что самое странное в этом деле?
- Скажи.
- Самое странное, что убрал наших бывших корефанов классный спец. Это я сужу по качеству работы. Исходя из этого, признаюсь: не понимаю, что могло связать наших знакомцев, мелкоту, со столь крутой фигурой? Ведь, судя по всему, у них ни оборота не было, ни капитала, ни авторитета в определенных кругах. Петя-Профессор вообще сутенерством занимался. Снял квартиру и поселил двух девчонок. Это то, что мы знаем из материалов дела. Но все равно серьезный человек - я имею в виду настоящего дельца, - не опустится до связи с ребятами уровня наших приятелей.
Я заметил, что у неё опустел стакан. Подняв руку, я подозвал нашего шустрого официанта и попросил принести бутылку шампанского и что-нибудь на десерт.
- Ты давно приехала сюда? - спросил я Таню, когда принесли вино, конфеты, какие-то пирожные, большую шоколадку и даже мороженое в придачу.
- Да нет, месяца три, - она медленно стала есть мороженое. Пригубила шампанское. Вскинула ресницы. - Сунули сначала в информационный отдел. Бумажки сортировать. А тут вдруг сам полковник Сергеев вызывает. И вот я здесь, с тобой. Ато совсем заск чала.
- Надо же! - покрутил я головой. - Кто-то ещё сохранил энтузиазм.
- А что! - вспыхнула она, и сердитый румянец сделал ещё более очоаровательным её личико. - А что! Я изучила все данные о местных группировках, знаю в лицо каждого из этих мафиози. Кстати, вон там, слева у стены, нет, ближе к колонне... Не смотри так откровенно. Видишь компанию и того высокого, жирного. Это Ленчик. Леонид Бурлаков, местный городской авторитет. А вон там, справа, с двумя девушками и двумя мордоворотами сидит Семенов Юрий Леонидович. Он же Семен. Этот вообще крутой мужик. Неизвестно зачем приехал две недели назад из Казани. Мы уже туда, в Казань, запрос делали, но и там ничего не знают. Только строим предположения, в чем могут состоять интересы Казани в нашем городе?
- Интересно, - я постарался запомнить обоих. Хотя очень скоро события повернули так, что специально запоминать их не стало нужды. И надо сказать, в общих чертах план расследования стал смутно прорисовываться в голове уже тогда. Но очень смутно. А сейчас мы сидели, как два голубка, и я изо всех сил курлыкал, или гугукал - уж точно не знаю, как называется то, что издает голубь, распуская хвост перед своей голубкой.
В общем, старался.
Глава 5
НЕУЖЕЛИ НАДО БИТЬ ТАК ЖЕСТОКО?
- А почему ты меня не пригласишь потанцевать? - неожиданно спросила она, и я отодвинул её стул, помогая встать.
В затененном для танцев углу двигались несколько пар, но когда Таня положила мне руки на плечи, остались только мы одни.
Все же я с удовольствием отметил, что несмотря на сумерки, царившие в круге, взгляды всех (конечно, всех!) мужиков в зале были устремлены на мою прелестную партнершу.
Потом она прижалась ко мне, и на мгновение я ощутил её всю, но тут музыка прервалась, дав передышку музыкантам.
Я увлек её к столику, галантно отодвинул стул, усадил, как величайшую драгоценность и, наконец, с чувством глубокого удовлетворения сел сам.
Перед ней был пустой бокал, и я поспешил наполнить его шампанским. Себе я налил остатки водки из графина. Предпочитаю водку. Конечно, я в своей жизни пил все что угодно, начиная от одеколона и кончая всей этой заморской дрянью, но водка все же лучше.
Неожиданно оркестр вновь разбил тишину, заполненную шелестом голосов и тихим звоном стекла.
- Можно пригласить вашу даму на танец? - услышал я чей-то жирный самодовольный голос. Но, увидев потемневшие глаза Тани, тут же небрежно ответил:
- Дама устала.
- Один танец. Ничего с ней не случится.
Добродушное хамство заставило меня начать ритуальную игру: сделав недоуменное лицо (нижняя губа презрительно оттопырена, глаза едва смотрят от скуки и того же презрения), я медленно поднял взгляд на этого... Надо же, Ленчик! Леонид Бурлаков, которого только что заочно представила мне Таня.
Он стоял распаренный, красный, как ветчина, откровенно толстомясый. Рукава пиджака трескались от вбитых в них верхних окороков. Но окончательно добили меня его белесые торчащие брови.
- Ты онемел, мужик? Давай, роди слово, а то твоя телка уйдет без твоего согласия.
Я молчал, потому что Ленчик стал вдруг раздуваться, расти, наполнив собой весь зал, весь этот гнусный мир, где сейчас везде правят Ленчики. По сравнению с ним ресторан казался игрушечной коробочкой, Волга - дохлым ручейком, деревья доходили ему до колен. Огромный, победоносно пахнущий потом и вином, с бессмысленно ревущим голосом, с прокисшими от простоты мироустройства мозгами, он мгновенно довел меня до безумия. Ненавижу! Я не знал, что заставляет подобных ему постоянно следовать по тропам моей жизни.
- А ну проваливай, ублюдок! - произнес я.
Морда Ленчика перекосилась ухмылкой.
- Давно бы так, лягаш вонючий! Думаешь, я не знаю, какого черта вы тут расселись? А это, значит, твоя мусорная подстилка?
Тон его голоса стал ниже, стал угрожающим. Он схватил меня двумя пальцами за отворот пиджака и чуть потянул.
- А ну вставай, лягаш. Или штаны замочил, боишься встать перед своей сучкой?
Краем глаза я заметил, что все смотрят на нас. Взгляды были разные, как всегда: кто-то смотрел с интересом в ожидании зрелища, кто-то с тайным или явным испугом, кто-то скучающе поднимался, чтобы на время удалиться все это было последнее из того внешнего, что я ещё смог воспринять.
Тут время замедлило бег. Я поднялся - Ленчик отводил правый окорок для удара - и, схватив два его пальца - указательный и большой, завернул вверх. Они сломались с громким хрустом, доставившим мне наслаждение. От боли и неожиданности у Ленчика подогнулись колени. Я помог направлению движения его тяжеленного тела, потянув держащиеся на одних связках персты покорителя жизни вниз. Когда он почти упал, я поднял его страшным ударом колена в подбородок.
Ленчик, словно дорожный каток сквозь полосу молодых лесонасаждений, пролетел через зал, сминая столики и обреченное веселье вечера.
Я жотел продолжения драки. Мне было мало столь короткой стычки. Я поймал испуганный взгляд Тани.
Но мне было мало!
Что-то надломилось... Не знаю. Наша бесполезная теперь конспирация, раскрытая так скоро. Поганый мир, населенный предателями-друзьями и ублюдками-врагами. Не знаю.
Я хотел продолжения драки.
Я медленно обвел взглядом зал. Народ таял, словно под лучом гиперболоида. Прятали глаза. Мелькнула мысль о чем-то диком, что творится здесь сейчас. Стук собственного сердца. Милое, снисходительно улыбающееся лицо... И ещё один Ленчик, пообтесанный официальным признанием новой России и общением с кутюрье: Семенов Юрий Леонидович.
Я уже шел к нему. Мне нужно было... Вечер, начавшийся так красиво, так нежно... все в дерьме!..
Два широких молодца встали мне навстречу. Охранные овчарки при боссе. Я шел быстро и встретился с ними недалеко от столика хозяина. Первого громилу я коротко без замаха лягнул ногой в печень и едва успел нырнуть под свистящий кулак второго пса.
Он повалился на меня, и в ту же секунду я снизу вверх ударил его головой в подбородок. Разбил себе голову. Не сильно, видно, рассек кожу. Зато - нет ни противника, ни его челюсти. Челюсть ему будут собирать из осколков.
- Иван! - услышал я крик Тани. Оглянулся. Первый, тот кого я вырубил ударом в печень, сидя на полу в трех метрах, пытался навести на меня ствол.
Я успел быстрее, и моя нога вмялась в то, что за мгновение перед этим было лицом, хотя можно ещё поспорить, что у него имелось на этом месте.
Все произошло в считанные секунды. В зале стояла оглушительная тишина. Вскрикнула женщина. Я подобрал пистолет. Глаза Семенова Юрия Леонидовича смотрели на меня с застышего, словно маска мумии, лица.
- Все, все, мразь! - убежденно сказал я. - Всех вас надо давить как клопов.
Я подошел к нему. Он смотрел мне в глаза ничего не выражающим взглядом, не думая сопротивляться. Это было нечестно. Я смял его лицо в горсть, приподнял и ударил рукояткой пистолета выше уха. Пусть отдыхает.
Таня завороженно смотрела на меня. Я поднял упавший стул. Оглянулся. Подозвал официанта. Тот подлетел, смотря куда-то вниз. На пистолет в моей руке. Боялся. Я сунул пистолет в пустующую с утра кобуру. Непослушными пальцами извлек сотенную купюру из бумажника.
- Хватит?
Официант кивнул и исчез.
Мы с Таней вышли из ресторана. Где-то вдалеке верещала милицейская сирена. Шли по набережной. Волга, рассекаемая длинными огнями, сыро темнела рядом. Ночь была сухая, ясная, нарядная. Проехал троллейбус.
- Неужели надо было бить так жестоко? - тихо спросила Таня.
- Конечно. Или ты ожидала, что я позволю оскорбить тебя?
- Можно было бы как-то... мягче.
- Ты меня знала и раньше, разве я могу быть мягким?
- Можешь. Я знаю.
- Ну, ну...
Наши шаги озвучивал асфальт. Проехала легковая машина, замедлила ход возле нас, надеясь получить пассажиров. Я собирал в кучу разбредающиеся мысли. Разочарованная легковушка сорвалась с места и умчалась вдаль.
- Всю жизнь я имею дело с такими людьми, как Ленчик и этот Семенов. Они привыкли давить силой. Для них нет ничего святого. Даже близких своих они потребляют, как свою жратву, шмотки, дома, яхты, машины. Это объяснимо. Если не перестроиться - их сметут конкуренты. Бизнес - любой бизнес - не терпит сантиментов. Побеждает всегда сила, а сила - это отсутствие привязанности, доброты и прочей для них ерунды. Если такие ублюдки почувствуют, что они сильнее, то тебя не спасут ни воля, ни положение, ни оружие.
Она посмотрела на меня. Хотела что-то сказать. Вздохнула.
- Нас ведь сразу заложили, - добавил я. - Не успели нам поручить это дело, как какой-то Ленчик уже в курсе. Теперь придется на ходу перестраиваться. Надо все тщательно обсудить.
- Да, - вновь вздохнула она. - Видимо, я слишком долго сидела по кабинетам и забыла об этом сброде.
- Вот-вот. Надо просто понять, что как уголовники не считают нас, фраеров, за людей, так и вся эта накипь - не совсем люди. И уважение среди этих подонков можно завоевать только силой.
- Скорее всего ты прав.
- Конечно, прав. А теперь поедем к тебе.
- Тут рядом, зачем нам ехать? Лучше пройдемся.
- Давай, - согласился я.
Мы вскоре свернули от набережной в переулок, потом влево и вверх, по маленькой кривой улице, заляпанной там и сям бледной и какой-то кривой луной. И запахи! Запахи - это последнее, что уходит из нашей памяти. А впрочем, их забыть все равно невозможно. Сырой, кислый запах нищеты мгновенно восстал, чтобы затянуть, как в трясину, в дни моего проклятого детства. Высокие голые фасады узких домов, ещё более мрачные из-за редких фонарей и почти везде темных окон, словно наклонялись с обеих сторон, как бы сходясь верхушками, а там, где темные тучи, нависая, затушевывали синеющее небо, срастались совсем. У подъездов шныряла мелкая живность (конечно, крысы), орали коты и одинокие вороны...
Мы пошли дальше, свернули в переулок, и хотя мне казалось, что мерзкая улица, по которой мы только что поднимались, была пределом мрачности, грязи, тесноты, проход этот, рядом с темной, не огороженной траншеей, выражал ещё худший упадок.
Я узнавал, я все узнавал. Мои сестрички первые годы регулярно снабжали меня информацией в письмах, потом вышли замуж, потеряв интерес ко всему внешнему, не имеющему отношения к их собственным семьям. И все равно, будто не было этих взрослых лет, не было моего нынешнего относительного благополучия; я стал мальчишкой, подростком, беспощадным ночным охотником на более слабых. Я отнимал чью-то мелочь и лихорадочно обчищал пьяных, надеясь отыскать остатки получки. А парень, которого потом в армии дембеля сожгли в сопле истребителя, здоровался со мной каждое утро, потому что жил напротив, и в школу нам было по дороге. А вечно умный очкарик из параллельного класса, которого я ненавидел за усидчивую гордыню и пятерки по всякой там физике-математике, успел показать относительность всех жизненных достижений, сойдя с ума, когда его бросила жена. И сухонькие супруги из квартиры первого этажа, дочь которых, соблазнившись заработком, гниет где-то в арабской Африке в публичном притоне, и об этом сообщила моим сестрам её подруга-одноклассница, чудом сбежавшая из этого полового ада. Вспомнился мне и Марат Карамазов по прозвищу Чингиз, веселые татарские глаза его смеялись, когда однажды в головокружительной схватке ему удалось одним ударом бритвы отхватить пальцы тому длинному вечно пристающему интернатскому, с которым потом мы неплохо дружили. И все мы тогда ходили с собачьими кличками, потому что собачья жизнь делала и человека животным. Я, например, назывался Оборотнем, потому что мог иногда казаться добрым мальчиком.
Наш завуч, Михаил Григорьевич, был единственным, кто, кажется, видел меня насквозь, хотя я особенно старательно юлил перед ним. Но однажды кто-то подкараулил его темным зимним вечером в его же темном подъезде и с размаху приложил тяжелый кирпич к его большому, вечно шмыгающему носу, заодно выбив и глаз. Михаил Григорьевич, отлежав полгода в больнице с какими-то осложнениями, тихо вышел, минуя школу, на пенсию по инвалидности. Что-то этот кто-то ему повредил.
И было ещё одно воспоминание, не дававшее мне покоя все эти годы. Однажды, разговорившись со старым речником, давно уже счастливо научившимся растягивать годы тихой рыбалкой, услышал о крысином короле и, загоревшись идеей, уже через несколько дней начал великий эксперимент. Мы отлавливали крыс всеми доступными средствами и, так как средств было достаточно, очень скоро несколько сот штук были сброшены в громадный отсек трюма ржавеющего на корабельной свалке сухогруза.
Этот отсек, метров пяти в поперечнике, сначала являл собой шевелящееся серое дно, но потом мерзких тварей стало меньше. С каждым днем количество их стремительно убывало и скоро осталось десятка два свирепых бойцов: злых, проворных и упитанных - жрали они друг друга весьма споро.
Мы ждали, и интерес перерос в подлинную страсть. Это было получше футбола: каждый имел своего фаворита, и каждый огорчался, не найдя своего любимца в очередное посещение.
И когда осталось два страшных гладких зверя, мы едва ночные дежурства не стали устраивать. Ставки росли, но ожидание длилось пару дней, а сама битва - долю секунды.
Мы пометили наших бойцов краской. И вот однажды крыса с белой меткой направилась к крысе с красной меткой.
Тот, что с красной отметиной, прыгнул, оказался на спине противника, мгновенно укусил его и тут же отскочил в сторону.
Он не стал жрать свою последнюю жертву, а как-то очень разумно посмотрел на нас, свисающих с края бункера. Те, кто выиграл пари, кинулись вниз к фавориту и в восторге тискали все понимающего гладиатора, тут же ставшего есть с рук.
Мы, крысята, смогли оценить крысиную доблесть.
С тех пор наш Рембо приносил немалый доход, когда, сломив недоверчивое сопротивление команды очередного сухогруза, мы вечерком выпускали его в трюм, а поутру становились свидетелями массового бегства крыс с судна. Наш Рембо не щадил своих соплеменников; он был грозен, могуч и великолепен. Он был сверхкрысой. И мы его очень ценили и щедро кормили.
Крысы всегда понимают крыс.
И все это страшное, мерзкое, что я старался забыть все последние годы и во что постоянно окунался на службе по самые уши, что заставило меня уволиться из ФСБ, все всплыло, задышало давним смрадом и болью...
- Что с тобой? - голос Тани вывел меня из задумчивости. Я почувствовал, как напрягаюсь, невольно ускоряя шаг. Опомнившись, я пробурчал:
- Все нормально, неприятные воспоминания.
- Это из-за драки?
- Частично.
- А мы уже пришли, - сказала она. - Узнаешь?
И я узнал.
ГЛАВА 6
МЫ НАЧИНАЕМ СХОДИТЬ С УМА
День измотал меня, а ночь, так своеобразно отпразднованная в ресторане, довершила разгром моих сил; я покорно кивал, подчиняясь указаниям Тани (ванная, полотенце, мыло, зубная паста, туалет, моя постель), что-то делал, умывался и...
Разбудил меня стук в дверь комнаты.
- Да?
В комнату заглянуло обрамленное взлохмаченными кудрями веселое личико Тани, и, в свежих утренних чертах её, я все более узнавал прежнюю дворовую девчонку.
- Ты долго будешь спать, соня? Я кофе приготовила. Вставай, живо!
- Ах кофе!.. Я тебя сейчас!.. - грозно сказал я.
Она засмеялась и исчезла.
Я встал, натянул брюки и пошел умываться в ванную.
Когда уже выходил, едва не столкнулся с Таней.
- Какой же ты... огромный! - сказала она, оглядывая мой жилистый торс. Улыбка сползала с её губ.
- Боже мой! Что же это с тобой сделали!..
- Что ты! - бодро сказал я. - Шрамы украшают мужчину. Мне ещё везло. Все эти отметины от касательных ранений.
Ее пальцы скользили по моей коже.
- Боже мой! А это?..
- Это минометный осколок. Больше было испуга да потерянной крови. А здесь пуля навылет. А это меня кинжалом полоснул "дух".
- Дух?
- Мы так чеченцев по традиции называли. У меня тогда кончились патроны, а этот сын гор захотел равного - в его понимании! - боя. Здесь он меня и полоснул. Чуть бы выше, мог бы сонную артерию задеть.
Я вдруг ясно, словно это было вчера, вспомнил ночь, южную луну, залившую жидким серебром арену той горной поляны, по которой стремительно метались наши хищные тени; и острый блеск его стали... и странный мокрый холодок в загривке после его молниеносного замаха, и мой отчаянный бросок, звершившийся победой!
- Что с тобой? - голос Тани возвращает меня в наше веселое утро, и призрак с неохотой отступает.
- Ничего, Танюха-приставуха, - отвечаю я.
- Уф-ф! - облегченно вздыхает она. - Ну и лицо у тебя было... Такое лицо!..
- Одевайся и живо завтракать! Кофе стынет.
Мне приятно. У меня хорошее настроение. Мною давно уже не командовали, а так, как сейчас, вообще никогда. И новизна ощущений доставляет удовольствие. "Та-ня-я-я! - мысленно протянул я. - Та-ня-я-я!.."
Она быстро поставила передо мной чашку, масленку с маслом, булочки, сыр. Я снизу вверх посмотрел на нее. Она улыбнулась и вдруг быстро и сильно прижала мою голову к груди.
- Ванечка! - тут же отпустила и уже сидела напротив, отпивая из своей чашки.
- Утро красит нежным светом!.. - продекламировал я.
- Что это ты вспомнил? - спросила она. - Настроение хорошее?
Меня поразило, как точно она угадала.
- Пей, пей! - сказала она, отчего-то очень довольная. - Пей, кофе, наверное, совсем остыл.
Телефон на столике справа от неё зазвенел неожиданно и тревожно. Она сняла трубку. Лицо её изменилось. Она прикрыла микрофон рукой и удивленно сказала:
- Тебя. Голос какой-то странный.
Я взял трубку.
- Это ты, Фролов? - спросил высокий электронно модулируемый голос. Молчишь? Значит, ты.
- Тогда слушай, супермен недорезанный, - продолжил машинно-нечеловеческий голос. - Если ты сегодня же не слиняешь из города, мы тебе пятки поджарим и фитиль вставим...
По мере нарастания степени угроз, голос все более повышался, раскаты его стихали, уходя за порог слышимости. Таня внимательно и настороженно следила за моим лицом.
- Ты слышишь меня, мертвец ходячий? Уши не заложило?
- Кто говорит?
- А тебе не все равно, трупоед вонючий? Повторить, или ты уже понял? Если сегодня не уберешься, мы сначала твою бабу заберем. И ей понравится, можешь быть спокоен. А потом и тебя чпокнем. Уловил, гад?
Я положил трубку и позвонил на телефонную станцию. Нежный голосок равнодушно сообщил, что справок не дают.
Я положил трубку, и телефон зазвонил вновь. Тот же голос:
- Фролов! Нас разъединили...
Я нажал на рычаг и положил трубку рядом.
- Далеко отсюда продаются телефоны с определителями номеров?
- Да нет, - ответила она и спросила. - Ты хочешь здесь поставить?
- Надо бы.
Я вспомнил, что уже сутки молчит мой сотовый телефон. Поколебавшись, все же набрал номер своего генерального директора. Я, правда, строго наказал не беспокоить меня эти дни, но контраст с обычным ежеминутным трезвоном и молчанием последних суток безотчетно тревожил.
- Привет, Илья! - поздоровался я со своим замом, шустрым, бойким и вечно веселым отставным майором. Естественно, у нас работали только офицеры. Бывшие, конечно. Хотя последнее, спорно, тут полковник Сергеев прав, потому что офицером остаются до гробовой доски. Этого не отнимешь у нас. Я не хочу сказать, что гражданские хуже, мне достаточно это просто знать. Во всяком случае, даже врагов я предпочитаю в погонах, потому и ненавижу всякую подросшую за последнее время плесень, не знакомую с иной дисциплиной, кроме как дисциплиной своих животных страстей...
- Извини, Илья, отвлекся. Повтори, что ты там насчет Израиля?
- Я говорю, - вновь затараторил Илья, - что Израиль прислал нам предложение участвовать в международном смотре-соревновании среди охранных фирм. Можно сделать заявку на участие до десяти человек.
- Сколько это нам будет стоить?
- За участие каждого человека надо выложить сорок тысяч долларов. Сколько пошлем? Все равно надо послать.
- Давай человек пять-шесть, не больше, - сказал я. - Больше ничего нового нет?
- Ничего. А у вас там как?
- Тоже неплохо. Вопрос, как мне кажется, решен положительно. Надо кое-что отработать. Ты меня сам не тревожь. Только если что возникнет экстраординарное. Я буду с тобой сам связываться. И этот мой номер никому не давай.
- Почему?
- Мне тут работу подкинули, так я не хочу, чтобы в самый нужный момент кто-нибудь трезвонил. Может случиться казус. Ну, ты меня понимаешь.
- О, кей, босс. Тревожить не будем.
- Тогда все. Делай, как договорились. И больше шести человек не посылай. А лучше пять. Подбери там кадры типа Валеры Кинкажу. Пусть наши жару поддадут. Ладно, все. Давай.
Я отключился. Таня сидела напротив и, подперев кулачком подбородок, слушала мои руководящие указания.
- А ты начальник. Я как-то тебя ещё не знаю с этой стороны. Хотя я тебя вообще ещё совсем не знаю.
Она вздохнула, встала и подошла к холодильнику.
- Мед будешь? У меня мед есть.
Она вернулась и поставила плоскую банку с медом на стол. Я взял её за руки и притянул к себе так близко, что ощутил запах её кожи. Она обняла меня за шею и тут же моих губ коснулись её губки: они были влажные и теплые. Почувствовал я и её язычок, словно приветствие после долгой-долгой разлуки.
- Ох! - протяжно вздохнула она, когда наш поцелуй закончился и мы смогли оторваться друг от друга. - Мы начинаем сходить с ума. А утром это чревато... Ты же знаешь, как у нас говорят: утром сто грамм - весь день свободен. А мы друг для друга и на поллитра потянем.
- Уж никак не меньше, - ухмыльнулся я. - Быстро опьянеем.
Она вновь села напротив меня.
- Полковник Сергеев словно бы знал, кому давать задание, - Таня рассмеялась своим смехом с хрипотцой.
- Да уж, - согласился я.
- Поэтому мы должны как можно дольше сохранять трезвость, рассудительно проговорила она. - Давай-ка завтракать.
Мы позавтракали.
- Какие планы? - спросил я, когда она уже стала относить чашки в мойку.
- Планы? Ты у нас старший. Тебе и планы составлять. А я пока быстренько отчет сочиню о нашем вчерашнем бурном начале боевой и трудовой деятельности.
- Хорошо. Я пока схожу куплю телефон, - я кивнул на лежавшую у аппарата трубку. - Когда приду, мы сообразим, что делать.
Подумав, я все же положил трубку на рычаг. Тут же раздался звонок. Я поднял трубку к уху.
- Иван! Ало! Таня, это ты?
- Иван, - отозвался я, узнав голос Кости Кашеварова. - Как ты узнал, что я здесь?
Я словно бы увидел, как Ловкач ухмыляется.
- Ты нас, провинциалов, низко ценишь. Да, конечно, мы не Москва, отнюдь. Что делается в одном конце города, аукается в другом.
- Понятно, - сказал я, - объяснение принимаются.
- Один-ноль, - сказал Костя. - Я чего звоню. Тут с утра жалобы на тебя посыпались. Вчера ресторан разгромил, кучу костей переломал и одного важного командировочного обидел.
- И ещё обижу.
- Да я и не сомневаюсь, - отозвалась трубка знакомым Костиным смешком, - главное, чтобы ты оставался, по возможности, в рамках.
- В чьих рамках? - буркнул я. - События покажут...
И события показали. И быстрее, чем я думал.
ГЛАВА 7
ПОХИЩЕНИЕ
Я спускался по бетонному монолиту подъездной лестницы, думая о том, что "хрущевки", на которые так боялись истратить лишнего материала, из-за отсутствия звукоизоляции являют собой голый строительный скелет; я словно спускался по гулким каменным костям.
Вышел из-под козырька подъезда прямо под жидковатый пока поток солнечных лучей, обещавших на весь последующий день безоблачный зной; память живо напомнила вкус и запах подобных утренних часов, и тут же сработало внутреннее, редко ошибающееся бюро прогнозов: да, весь день будет жара. Я в нерешительности отступил под козырек, обдумывая, где может быть нужный мне магазин. Я почему-то не спросил у Тани и сейчас лишь позвякивал в кармане запасными ключами, врученными мне, дабы облегчить доступ...
В этот момент - все происходило очень быстро, и за моим нерешительным шагом назад в тень под бетонный кохырек подъезда прошло мгновение - что-то с грохотом и пыльным взрывом ухнуло об асфальт передо мной. Еще секунду я тупо разглядывал обломки кирпичного блока, усыпавшего асфальт щебнем, пока не догадался - метили в меня.
Тут уж мечтательная рассеянность, возможно, все ещё пахнувшая Таниным поцелуем, сменилась привычным калейдоскопом быстро сменяющихся картинок: перила, различных оттенков двери, Танина дверь, лестница на чердак, открытый люк. Добежал!
Я вылез в пропыленный грязный чердак. Через несколько окошек продавливались густые столбы света с пыльными протуберанцами внутри. Одно окно распахнуто.
Я вытащил пистолет. Где-то загремела жесть. Стихла. В раме открытого окна торчал гвоздь. Чуть не напоролся.
Вывалившись на теплый рубероид крыши, я скользнул за ближайшую вентиляционную будку. Краем глаза успел заметить движение метрах в двадцати за такой же будкой. Тихо.
Я побежал что было духу, надеясь лишь на скорость. Успел. Позеленевшее от страха лицо. Вытаращенные от ужаса глаза пацана. Совсем ребенок. Я убрал пистолет от его носа.
- Кто ещё с тобой? - одновременно я прислушивался. Вроде никого. Говори, кто тебя послал? Живо!
Пацан ошалело мотал головой. Я встряхнул его левой рукой, хотел шлепнуть по щеке, чтобы пришел в себя, но заметил крупицу разума в глазах и передумал.
- Вы Оборотень?
Признаюсь, ожидал чего угодно, но не такого вопроса. И не из этих уст. Впрочем, мальчик был из ранних, если судить по его делам.
- Кто тебя послал?- сурово спросил я, разглядывая малолетнего киллера.
Светлые, выгоревшие волосы, круглое лицо, немного курносый нос, голубые глаза - обычный паренек, каких много, и каким я был лет пятнадцать тому.
- Вы Фролов?! Иван?!. Оборотень?!.
Пацан оправлялся на глазах. Рассматривая меня во все свои "синие брызги", он вдруг насупился и сел прямо на рубероид:
- Откуда мне было знать? Он сказал, что надо фраера одного пришить. Я же не думал...
Паренек, по всей видимости, откуда-то хорошо меня знал. И кто-то, не называя меня, отправил его на дело.
- Я же не знал, - повторил пацан.
Было в нем что-то такое... не есенинское, конечно. Не знаю, может, мой приезд сюда после десятилетнего отсутствия?.. Может, встреча с Таней?... Не хватало мне ещё заниматься самоанализом!
- Откуда ты меня знаешь?
Он вскинул на меня ещё не успевшие выцвести небесные глаза:
- Так я же Лещев! Мать мне о вас рассказывала. У нас и фотокарточка ваша есть.
- Ну и что? - сказал я. Что-то, однако, брезжило в сознании...
- Как же. Мне мать говорила...
- Как зовут твою маму?
- Елена Олеговна. Лещева.
Я вспомнил. Ну конечно, я вспомнил. Ленка Лещева! Лещиха. Не вытравляемый эпизод моей юности, о котором тоже мечтал забыть.
Куда там, забыть!
Я сел рядом с пацаном. Яркие солнечные лучи, так нагревшие рубероид крыши, становились все жарче. Я вновь оказался в подвале среди верных соратников моего детского невежества и сурово ерничая, обращался к Лещихе, конопатой, полной девице, имевшей совсем взрослые формы и наглость втрескаться в меня до идиотизма. Я публично требовал доказательств её великой любви, и она соглашалась... Как любой вожак я тоже зависел от своих волков, потому и требовал от Лещихи доказательств своей преданности... Каждому в отдельности. И каждый, уходя с Ленкой в соседнее сырое, наполненное паром помещение, возвращался, хмурясь сыто и гордо. А потом это стало так привычно... для нас, для нее... Я слышал, она спилась потом, промышляя на портвейн и закуску единственным, чем могла...
- Отец есть? - спросил я.
- Не-а.
- Тебя как звать?
- Пашка. Сатана.
- Что Сатана?
- Это моя кликуха. Пашка-Сатана.
- А-а-а! - сказал я. - Ну что, Пашка-Сатана, так кто велел тебе прихлопнуть фраера? Ленчик?
- Он самый. Но я же не знал! А это вы его так разукрасили? Мне мать рассказывала о вас. Вас, правда, никто победить не может? Вот бы мне так! Я бы тогда!..
- Вот что, Павел. Будешь теперь меня слушаться. Понял?
- Конечно. А вы научите меня так драться, как вы?
- Это мы с тобой потом обсудим. Пока держись подальше от Ленчика и его корешей.
Не знаю, что со мной произошло, но этот пацан, и та девчонка-подросток, которой мы так привычно-беззастенчиво пользовались, и сам я, тенью восставший за этим Пашкой-Сатаной, - все вместе вновь заставило тяжко заныть мое глупое сердце...
- Все! Сматывайся отсюда, - решительно поднялся я, - пока я не доберусь до твоих боссов, держись-ка ты в тени.
И уходя, вспомнил:
- Матери привет передай. Скажи, что я о ней всегда хорошо вспоминал.
Я влез в чердачное окно, прошел, ступая мягко, чтобы меньше поднимать пыли, до открытого люка и спустился по лесенке вниз. Танина квартира ниже, на четвертом этаже.
Я спустился на этаж. Ее дверь была приоткрыта. Я постоял у двери. Сердце билось гулко у самого горла. Коврик сдвинут. Ваза с тумбочки сбита на пол. Цветы в луже. Тишина. Дверь в гостиную. Скрипит.
- Входите, входите. Не бойтесь.
В кресле прямо напротив меня сидел, длинно вытянув костлявые ноги, незнакомый мне мужчина и насмешливо улыбался торжествующим худым лицом.
Было тихо. Я оглядел комнату. Стул опрокинут, стол отодвинут от окна, на стене скособочилась дешевенькая картина, видимо, задетая слепым замахом руки. Я, чувствуя, как меня обволакивает душная, страшная, ватная ярость, судорожно сглотнул слюну.
- Да не беспокойтесь, - благодушно успокоил меня мужчина. - Ничего с ней не будет. Главное, чтобы вы не делали резких движений. Никто никому не угрожает. И спрячьте ваш пистолет. Он мне на нервы действует.
- Где она? - хрипло спросил я. Было все ещё очень тихо. В тишине под его острым задом сухо скрипнуло кресло. На тяжелом буфете неподвижно застыли знакомые вещи - старое фото её родителей, ранжирный ряд мраморных слоников, фарфоровая борзая...
- Я вам не могу этого сказать. Мы сейчас вместе поедем в нужное место, и с вами все обсудят. Вы только не волнуйтесь. И спрячьте пистолет, я вам уже говорил.
Я покорно спрятал.
- Где она? - вновь спросил я. - Если не скажете, я вас убью.
- Бросьте. Ничего вы мне не сделаете. А иначе не увидите свою подружку.
- Тут ты и ошибаешься, - сказал я, чувствуя, как то темное и страшное, что ещё сдерживалось внутри меня, разбило, наконец плотину воли и хлынуло, хлынуло...
Я мгновенно оказался рядом с этим расчетливым глупцом и всеми пальцами залез ему под костлявую челюсть. И тут же со страшной силой шмякнул этим живым снарядом о стену. Мало. Я выскочил на балкон. Внизу урчала мотором "Волга". Меня заметили, и машина очень медленно стронулась, стала делать малый круг для разворота. Я уже складывался от перила к перилам, слетая вниз подобно гигантскому гиббону.
Все так быстро!.. Казалось, прошло несколько секунд, как я вошел в её приоткрытую дверь... "Волга" заревела, ускоряя движение. Почти проскочила подо мной. Сильно оттолкнувшись, я полетел следом. Ударился коленом о крышу, но зацепился раскинутыми руками...
Водитель бросал машину из стороны в сторону. На поворотах меня почти отрывало. Но я чудом держался. Мне помогала ненависть. Следом кто-то свистел. Кажется, я слышал милицейскую сирену.
"Волга" свернула в изрытую ухабами улочку, меня затрясло. Я стискивал зубы. Только бы удержаться и настичь!.. Открытые железные ворота, довольно большой двор, прошлого века двухэтажный особняк, узорчатые излишества барроко...
Мы резко затормозили, и я, наконец-то, слетел. Из машины уже лезли озлобленные хари. Я ударил ногой по передней дверце; водила, почти вывалившийся, буквально вделся в окошко (словно нитка в иголку) и так и затих, мелко дергаясь.
Оглянувшись, я выбросил пятку назад в чью-то грудь, услышал хруст костей. Тут все перемешалось. Из всех щелей - из дома, ворот, машин, сползались разнокалиберные твари, тут же принимавшие киношные боевые стойки... Закипело... Я видел только рожи - слюнявые, ощеренные, испуганные и злобные, - рожи, которые я убирал со своего кружного пути короткими полновесными ударами.
Потом стало очень тесно... я едва вставлял в просветы колени, локти, кулаки. Давно я не чувствовал себя так свободно. И только где-то глубоко внутри жгло: Таня, Таня, Таня!.. Что-то горячо и звучно задело меня по плечу, чуть не сбив с ног. И сразу ослепительный и ужасный удар шарахнул по лицу. Я свернулся на месте и тут же синее прозрачное небо, мгновенно застывшее в глыбу льдистого стекла, обрушилось мне на голову, сразу погасив солнце...
ГЛАВА 8
СУМАСШЕДШАЯ НОЧЬ
Очнулся я, как мне показалось, тотчас же. Ощущение, конечно, было обманчивым. Упакованный в белые простыни на свеже-пахнущей стиркой подушке, я лежал в незнакомой комнате, а рядом, в позе безнадежной усталости, сидела на стуле Таня.
Уже одного этого мне было достаточно, чтобы почувствовать облегчение и радость. Я это и чувствовал, во все глаза разглядывая так внезапно ставшее дорогим милое личико моей малышки. И, почувствовав мой взгляд, Таня отвела глаза от раскрытого окна, куда лезли распяленные ладошки русского клена (ненавижу американский клен, заполонивший - как и многое другое! - всю Москву), ахнула и стремительно бросилась ко мне.
- Милый! Очнулся!
Бережно обнимая её трясущиеся плечи, я ещё раз оглядел комнату и остался доволен чистотой и порядком. А через открытое окно вливались свежие запахи травы и листьев.
- Целые сутки! - все повторяла Таня. - Целые сутки не приходил в сознание.
- Что со мной станет, - легкомысленно сказал я. - И не в таких переделках бывал. Ты лучше скажи, где мы?
- Как где?! У этих бандитов: Ленчика и Семена. Вернее, у Ленчика. Это его особняк.
- Как тут с тобой обращались? - забеспокоился вдруг я. - Ты говоришь, мы уже здесь сутки?
- Сутки. Но обращаются хорошо. Всем заправляет, конечно, Семенов. Ленчик хоть и хозяин, но все равно на побегушках. Подчиняется Семенову. А тот сама галантность. Жаль пистолет отобрали, отплатила бы за гостеприимство!..
- Вот как вы меня благодарите! - раздался вдруг добродушный баритон.
В дверях, незаметно возникнув, стоял сам Семен. То бишь, Семенов Юрий Леонидович. Я бегло оглядел своего ресторанного врага. Сухое горбоносое лицо, поджарая фигура, выпуклая грудь бывшего атлета. И печальные глаза. А следов насилия на лице не обнаружил. И тут же мысленно укорил себя; сам всегда учу других не увлекаться в бою, ибо от этого страдает качество работы. Плохо, выходит, я его обработал в ресторане. Ну да ладно, ещё будет возможность нам поквитаться.
- Вы, я вижу, легко в ресторане отделались, - посетовал я вслух.
- Вы, знаете ли, вчера тоже. Я видел вашу рубку здесь во дворе. Признаться, не надеялся в живых видеть. А вы вон какой живчик. Впрочем, я рад.
- Ой ли? - не поверил я. - Наверное, рады были бы поприсутствовать на моих похоронах?
- Не кокетничайте. Зла на вас у меня нет. Как раз наоборот. Поэтому и пришел с открытой душой.
- Татьяну вы тоже похищали с открытой душой?
- Помилуйте, а что оставалось делать? К вам невозможно подступиться, вы сразу кулаками своими знаменитыми махать начинаете.
- Значит, все ваши нападения исключительно из чувства доброжелательности?
- Хотите верьте, хотите нет, но у меня нет к вам ни малейшей неприязни. Даже более того, я хотел сделать вам заманчивое предложение.
- От которого я не смогу отказаться?
- Ну зачем так! Отказаться всегда можно. Только как деловой человек вы же бизнесмен, я знаю - вряд ли откажетесь.
- Короче, - решительно прервал его я.
- Зачем торопиться. Это было вступление. Чтобы подготовить вас. Основной разговор будет позже, за ужином. Хочу сказать только, что я предлагаю вам деловое сотрудничество. Обоюдовыгодное. А сейчас вам и вашей даме принесут поесть. И принесут вашу одежду. Если хотите, можете встать с кровати. Оружие, сами понимаете, вернем позже.
- Ну, я не прощаюсь, - весело сказал он и вышел.
Почти сразу же легкомысленного вида девица в мини-платьице и белом фартучке вкатила столик на колесиках, уставленный всевозможными закусками. В пузатых бокалах плескалась коричневая жидкость. Я понюхал - коньяк. Девица суетилась, низко нагибаясь над тарелками и тарелочками, но быстро сникла под злым взглядом Тани. Пожелав приятного аппетита, она ушла.
А мы весело и добротно закусили.
Мрачный квадратный парень принес мой костюм, тщательно вычищенный и даже отутюженный. С обслугой здесь было все в порядке - сервис на высоте.
Чувствовал я себя хорошо, поэтому решил покинуть кровать.
Оделся, прошелся по комнате. Ничего не болело. Попробовал дверь, заперта. Выглянул в окно. Весьма запущенный сад: клен, акация, рябина. Ни одного фруктового дерева. Сквозь кроны просвечивала высокая кирпичная стена, за которой в этот момент проревел грузовик.
За спиной звякнул замок. Я повернулся и увидел входящих Семена и знакомого уже пацана, Пашку-Сатану, как он себя назвал.
- Так вы подумайте над моим предложением. А пока я забираю вашу даму. Она поможет сервировать стол. Встретимся прямо в ресторане. Вас проводит вот этот неумелый молодой человек. Надеюсь, с этим поручением он справится.
- Справлюсь, - угрюмо кивнул мальчик.
- Итак, сейчас семь часов вечера. Через часок-другой можете приходить. Погуляйте пока.
Семенов повернулся, и они вместе с Таней ушли. Я чувствовал: что-то за всем этим было... Все как-то неправильно, думал я.
С реки тянуло вечерней прохладой. Желтое солнце зависло над водой, готовясь опуститься по безоблачному небу. Завтра вновь будет безветренная жара.
- Что молчишь? - спросил я Пашку.
- А что говорить? Они и вас припахали.
- Это ты брось! - бодро возразил я. - Меня не припашешь за здорово живешь.
- Да, - согласился он, - за здорово живешь не припашешь. Они другие подходы знают. Вон вы какой веселый. Тетя Таня у них, а вы веселый. Они по всякому могут припахать.
- Ты это брось, пацан, - бодро сказал я, на самом деле ощущая подъем сил.
Мы немного погуляли. Странно, но я не чувствовал никаких последствий вчерашней драки. Наоборот, бодрая энергия наполняла силой мои мышцы. И, каюсь, мне было приятно думать об ожидавшем нас вечере с Таней. Даже будущее общение с Юрием Леонидовичем, то бишь, Семеном, не омрачало настроения.
Прошел час. Перескочив какую-то траншею, я повернулся, чтобы подхватить мрачно сопящего Пашку и вдруг задержался взглядом на грубо сваренной из железных прутьев пятиконечной звезде, распятой на воротах, подобных тем, коими любят огораживаться воинские части и небольшие заводики.
- Это здесь, - сказал Пашка.
Я удивленно посмотрел на него.
- Чего здесь?
- Ничего. Дошли, - буркнул он.
Мы вошли в ворота и, пройдя мимо штабеля деревянных ящиков, кучи мусора и покореженных "Жигулей", оказались перед неприметной полуподвальной дверцей. Внезапно стемнело. Где-то за спиной замигало, словно вспышки электросварки - далекие зарницы. Я потянул на себя тугую пружинную дверь. Тут же ослепительно сверкнуло, я не стал дожидаться удара грома и вошел внутрь. Только я ступил на гладкие, звонкие плиты пола небольшого магазинчика, как взгляды болтавшихся в одиночестве продавцов, встретились с моим, признаюсь, удивленным, - я ожидал другого. Но раз зашел, я добросовестно, хоть и с недоумением, осмотрелся: острый свет, блеск никелированных уголков ветрин, сверкающие стекла, за которыми влажно потели импортным соком мясные деликатесы; вдоль стен на высоких полках выстроились бутылки со спиртным. В молчании, под прицелом глаз здоровенных продавцов, больше похожих на вышибал (мысль, заронившая первые подозрения, скоро, впрочем, подтвердившиеся), я быстро окончил осмотр ненужного мне ассортимента и впервые прямо взглянул на облаченных в строгие костюмы мужчин. В глазах одного из них что-то мелькнуло и он спросил:
- Вы не Иван Михайлович?
Я подтвердил, крайне удивленный.
- Вам столик заказан, - продолжил продавец. - Пойдемте, я вас провожу.
Заинтригованный всей этой таинственностью, я последовал за ним; кусок зеркальной стены оказался дверью, пропустившей нас в полутемный обшарпанный коридор. По плохо выметенной каменной лестнице (на ступеньках нашли приют пустые пачки из-под сигарет, скомканная бумага, окурки, пакеты из-под молока) мы долго спускались вниз. Из неосвещенных коридоров доносились неясные звуки; в треттем пролете услышали перестук убегавших звонких женских каблучков. Лжепродавец поймал мой взгляд:
- У нас ещё ремонт продолжается, - нашел он нужным пояснить.
- Если закрыть ресторан, клиенты будут недовольны, - продолжал он угодливо-фальшивым тоном. И тут мы пришли, наконец.
Мне, прямо скажу, понравилось, что ресторан существует на самом деле. Весело присутствовать при упорядочении вначале кажущегося безнадежным хаоса. Меня подвели к пустому столику на четверых, одному из многих, заключенного с трех сторон в незавершенный квадрат, этой пустой стороной, помимо прохода, являвший глазу бесконечной длины аквариум, сквозь мутную зелень которого, прошитого всплесками золотых рыбок, угадывались причудливо искаженные подводным миром силуэты посетителей за столиками потустороннего ряда.
- Извини, шеф! - сказал я готовящемуся вернуться наверх своему провожатому. - А кем заказан столик? - непонятно почему я решил перепроверить и так мне известное.
- Кем? - повторил тот, заговорщицки улыбаясь и при этом извлекая откуда-то тисненную золотом записную книжку. Отыскав отмеченную страницу и коротким толстым пальцем прижав её, он неожиданно улыбнулся ещё любезнее и как-то даже фамильярно:
- Мы не разглашаем секреты своих клиентов, - объявил он, тут же вырвал страницу и разорвал её на мелкие клочки, которые снежными хлопьями посыпались в массивную низкую урну. Сказав это, он почтительно склонил голову и удалился, оставив меня в легком недоумении и нарастающем раздражении. Тут я заметил медленное умирание верхнего света, погрузившее длинный пестрый зал в траурный плюшевый полумрак; но ярче разгорелись светильники в кабинках, что, конечно же, определяло степень интимного уюта; подлетевший официант молча расставил приборы; я\ определенным образом проникался странной атмосферой этого заведения и был готов к явлению новых спецэффектов... не заставивших себя ждать, - на небольшой сцене, ближайшим зрителем которой оказался я, возник молчаливый, с ног до головы в черном, эстрадный фокусник - столь же условный и незначительный, как первый номер любого подобного рода представления. Самодовольно-важный метрдотель оглядывал длинный зал со своего тоже близко от нас расположенного боевого поста, - от нас, говорю я, ибо уже заметил рядом мило улыбающуюся Таню, а напротив - ясное, отмеченное печатью благодушия лицо, скользящего по волнам бесконечных интриг Семенова Юрия Леонидовича..
- Ага! - несколько глупо воскликнул я, обозревая своих соседей. - Это как же надо понимать?.. - но они уже смеялись, а Таня, путаясь в смехе, объясняла, что их сюрприз удался, и все вообще замечательно. Я решительно не был с ней согласен, мне не понравилась также их дружная радость, и механизм сюрприза остался непонятен, но тут вдруг три длинные кроваво-красные девы, взметнув под потолок сапожки "а-ля рус", отвлекли нас задорным канканом, - действительно как-то вдруг стало весело, и Семен неторопливо поплыл куда-то и вернулся с хорошенькой девчушкой по имени Света, которая отчего-то уже танцевала со мной, а Семен - с внимательно слушавшей его Таней. Тут заскользили по стенам и потолку цветные шарики огней, Света влекла меня за собой, мы прошли какой-то длинный коридор и у единственной на всем горизонте двери она печально поведала мне, как ей одиноко, и я вдруг поверил; мы нырнули в эту дверь, густо задымленную курильщиками, я поплыл, кто-то дернул меня за карман, - уводимая кем-то Света успела сунуть мне записку. Я уткнулся грудью в чье-то плечо. Смутно знакомый широкоплечий тип неприязненно взглянул не меня стеклянистыми голубыми глазами и вдруг, переменив лицо с надменного на радостное, уже хватал меня рукой, всем корпусом разворачиваясь для рукопожатия.
- Иван! Здравствуй! - рявкал он, топыря пальцы, и сверху, с размаху хлопал пукой по моей ладони, крепко пожимая её.
- Не можешь вспомнить? - орал он, восхищенный моей с перебоями работающей памятью.
- Не узнает! - радостно, через плечо, сообщил незнакомец каким-то бледно прорисованным в дымном тумане фигурам за своей спиной, и тут я его вспомнил, наконец.
Конечно, Аркадий, чудом залетевший сюда прямо из котла незабвенных чеченских событий. Был Аркадий плечист, как и тогда, строен, чисто выбрит и бледен той прозрачной бледностью, которая присуща рыжеватым блондинам и любителям ночного существования. Тогда, подвязавшись на жирной должности интенданта, Аркадий преуспел, получил майора и со страстью, нами молчаливо незамечаемой, использовал свободное время, дабы пострелять всласть. Мне он однажды показал маленькую записную книжку, кожаная черная корочка которой хоть и потерлась, все же ещё сверкала тисненным золотом: страницы были аккуратно, с интендантской тщательностью заполнены исламским полумесяцем и звездочкой, которая нам, неверным гяурам, более понятна.
- Здесь у меня те, которых я срезал наверняка, а здесь, - он тянул за ленточку закладки, - те, кто скорее всего мог выжить. Брак в работе, ухмылялся он и добавлял. - Мне простительно, я не профессионал, как ты, а просто любитель.
- Узнал! - продолжил Аркадий, восхищенно тиская мою руку. - Узнал, старый друг, узнал.
Обняв за плечо, он шептал мне прямо в ухо:
- Я тут уже несколько дней, вторая неделя пошла, хорошо, что тебя встретил. Дело серьезное, миллионами пахнет, точно говорю. Здесь обстановочка мутная, - шептал он, яростно вращая глазами направо-налево, не нравится она мне, но мы с тобой обязательно посидим, покумекаем, друг.
Он оглянулся на колышащиеся в тумане тени других курильщиков, и, отпустив меня, тут же сам стал, дрожа, как призрак растворяться в воздухе.
Мгновение спустя я выпал из этой непонятной курилки и через лестничный пролет попал в длинный, мрамором сверкающий гулкий зал с рядами пестревших табличками - "Касса не работает" - окошек. Обрадовавшись яркому освещению, я вытащил записку с номером телефона и стал разглядывать торопливо начертанные цифры. Вдруг рядом со мной возник давешний метрдотель, строго испросивший меня о причинах моего здесь пребывания. Заметив телефон-автомат, я торжествующе кинулся звонить по бумажке. После длинных гудков какой-то скрипучий голос объявил, что Света спит и не желает... Что не желает? - подумал я. Короткие гудки прервал уже метрдотель, все ещё стоящий за моей спиной:
- Прошу за мной.
Открыв дверь, он пропустил меня в зал. Ума не приложу, как это я умудрился петлять в этом лабиринте, пронизанном, по всей видимости, сетью прямых, мгновенных ходов. За столиком, горько надув спелые губки, в одиночестве пропадала Таня.
- Почему ты меня бросил? И куда тебя утащила эта противная шлюшка? слезки блистали на её прелестно накрашенных глазках. Осознав её печаль, я было даже забыл о сжигавшем меня беспокойстве. Таня доверчиво положила голову мне на плечо, Семен не появлялся; у нашего столика, совсем рядом, покинув сцену, медленно извивалась худосочная стриптизерша. Оставшись в двух ленточках, поддерживающих фиговый листик французских трусиков, она, наконец, взялась и за них.
- Семьдесят долларов, - вдруг все ещё печально и имея в виду трусики сказала Таня.
Девушка на сцене, винтообразно виляя бедрами, осторожно выскользнула из трусиков. Я вдруг понял, где искать Семена и,освободившись от пальчиков Тани, поспешил на лестницу и поднялся этажом выше. Стараясь не запачкать туфель в цементной пыли, я прошел один поворот, второй и заглянул в комнату с пустым, ещё не завешанным дверью проемом; сквозь большое окно уличный фонарь играл отражением на белых пляшущих ягодицах Семена, прижавшего к стене Свету. Мне почему-то стало тяжело, мутно, - потому ли, что свет фонаря удивительно и тревожно напоминал луну, или потому, что мне захотелось поскорее выбраться из ненужно удлинившегося кабака, но меня охватила какая-то ярость. Я подлетел к парочке, - Света успела вскрикнуть: "Нет! Нет!" - и с ходу, ловко набросал оплеух озадаченно отшатнувшемуся Юрию Леонидовичу. Между тем мы со Светой, на ходу поправлявшей что-то в одежде, перенеслись ещё в одну залу, с тремя центрами внимания присутствующих: один - стол с рулеткой, два других - большие круглые столы с сидящими кругом карточными игроками. Семенов Юрий Леонидович, вновь оказавшийся рядом и, видимо, уже не помнивший об оплеухах, непринужденно взял меня под руку и по мягкой ковровой дорожке провел в соседний зал, столь же тщательно и дорого отделанный, откуда мы на лифте спустились на этаж ниже.
Я уже ничему не удивлялся. То, что происходит нечто странное, и давно происходит - с этим смирился. Да и сил разобраться в этом абсурде не имел. Приходилось все принимать, как есть. Возможно, просто перепил, или здесь для веселья распыляли в воздухе какую-нибудь дрянь. Разгадывать все эти загадки было некогда.
Пройдя по устланному мягким ковром коридору, мы зашли в зал с деревянной мебелью в псевдорусском стиле. На столе шипел и плевался паром электрический самовар. Помещение оказалось предбанником уже закупленного на сегодня номера. Мы с Юрием Леонидовичем неторопливо разделись, облачились в услужливо поданные кем-то (совершенно не разглядел - кем!) простыни и пошли в парилку.
- Единственное место, где, кажется, нас не будут подслушивать, облегченно сказал Семенов.
Тело у него было мускулистое, лишь слегка тронутое жирком. Он следил за своей формой, и это меня расположило к нему.
- А что такое секретное вы хотели сообщить мне? - спросил я, оценивая качество жара. Я уже собрался было лезть на самый верх, но следующая фраза остановила меня.
- Дело в том, мой боевой друг, что я хотел бы со своей стороны предложить вам - конечно, за солидное, даже для вас, вознаграждение расследовать убийство четверки ваших детских друзей. Я имею в виду Костомарова, Мишина, Селеверстова и Вершкова. А проще - Костолома, Колобка, Профессора и Нюхача.
Я удивленно смотрел на него, одновременно пытаясь собрать разбегавшиеся мысли.
- Не смотрите так удивленно, - усмехнулся Семенов. - Дело в том, что эти люди работали на меня. Вернее, на организацию, которую я здесь представляю. И их внезапная смерть некоторым образом ставит под угрозу сроки реализации наших планов. А они очень важны. Я буду откровенен, речь идет о миллиардах долларов. Конечно, в перспективе. Этот ваш город выбран в качестве полигона, так сказать, и ваши бывшие друзья составляют низшее, но сейчас очень важное звено...
- Ничего не понимаю, - решительно сказал я и полез на верхний полок.
Наверху было жарко и сухо. Я улегся и блаженно вытянул ноги. Давно так не парился.
- Вас это, конечно, не затруднит. Мне просто хотелось бы первым узнать результаты расследования.
- Ничего не понимаю! - с досадой воскликнул я. Необходимость напрягать мозги раздражала. А подслащенный самодовольной уверенностью голос Семена вдруг стал неприятен.
Я слез с полка и пошел в предбанник. За столом у самовара, завернутая в простыню, пила чай Таня.
- Пошли, нам будут делать массаж, - сказала она и встала из-за стола.
Соседняя комната оказалась маленькой прихожей, откуда две двери вели в мужскую и женскую массажные половины. Меня увлекла за собой очень уверенная и вертлявая дева. Это было хорошо. А вот Таня пошла за мясистым кобелем. И это было плохо. Я думал над этим, пока девица не сорвала с меня простыню и не попыталась уложить на стол.
- Нет, - сдержанно сказал я и отобрал простыню. Я быстро завернулся в неё и выскочил за дверь. Мне пришла в голову мысль о том, что Семенов Юрий Леонидович мне, мягко говоря, врет. Я решил уточнить кое-что для себя. И надо же, выйдя из предбанника, сразу увидел Олега Никодимова по кличке Лом.
Каким-то образом я оказался у Лома в квартире. Да, в квартире, судя по обстановке. Но так как в этот вечер со мной уже происходили чудеса, я и сейчас решил ничему не удивляться.
- Ну и вид у тебя! Надрался где-то, да? - вместо приветствия сказал Лом и это меня разозлило до последней степени.
Но я сдержался, не желая после такой долгой разлуки ссорой портить встречу.
- Рад тебя видеть, Лом, - сказал я и огляделся. Рядом стояло кресло, куда я и плюхнулся.
...Жил Лом в этом же доме - только этажом выще. Жил он явно небогато, и мебель была ещё из социалистических времен, возможно, купленная родителями. "Где они сейчас?" - подумал я и забыл спросить. На столе стоял электрочайник "Тефаль", телевизор и видак, - конечно, японские, вмонтированные в фирменную тумбочку, а на стене висела большая фотография Олега возле подержанного, правда, но все же "БМВ".
- Твой? - кивнул я на фото.
- Ага! - самодовольно подтвердил Лом и встал, тут же общей длиной своей подтвердив смысл клички. Он всегда был выше всех нас, а кличка эта традиционно дается самым высоким парням. В армии, помню, тоже был Лом. И в училище...
- Месяц назад купил. Правда, хорош? Хотя ты, наверное, на "шестисотом" катаешься?
- Угадал, - подтвердил я.
- Каждому свое, - резюмировал Олег.
Черты его крупного лица успели за годы отяжелеть, а из-за роста и отсутствия физических упражнений, большая часть плоти сползла к бедрам, где и задержалась надолго. Лом вновь бережно поместил свой зад в кресло и спросил:
- Как ты меня нашел?
- Геша сказал. Я с ним виделся незадолго до смерти.
- Да, ужасно! - посетовал Олег. - Один за другим. Только, думал, жизнь наладилась, как кто-то начал наших истреблять.
- Слушай, - оживился он вдруг, - может, ты поможешь? Говорят, ты важный чин в ФСБ. Да даже и без этого. Мы же не забыли, каким ты раньше был. Может, поможешь? А то страшно становится как-то.
- Ладно, - согласился я, - помогу, чем смогу. Ты лучше скажи, что вам за работу предложил Семен?
- Какой Семен? Не знаю никакого Семена. Нам работу подкинул Ленчик. Он уже после тебя здесь возник. Лет пять как все под себя подгребает. Он для начала каждому по десять кусков в месяц предложил. Зеленых. Чем не работа! И делать всего ничего. Кайф.
- Не темни. Что за работа?
- Не могу. Ленчик предупредил, чтобы никому. Я тебя лучше с ним сведу, пусть он сам расскажет. Надоело, знаешь, мелочь считать, хочется пожить по-человечески.
- Ладно, бог с тобой. Не хочешь говорить, не надо.
- И то! Что у нас темы нет для разговора? Мы так часто о тебе вспоминали. Да и можно ли забыть! Помнишь, как ты тому старому идиоту глаза раскаленной рогулькой выжигал? Мы до конца не верили, что ты решишься. А ты и не колебался - только брызги и пар во все стороны!..
- Врешь! Не было этого.
- Как не было?! Путаешь что-то. Ты же потом ему голову бритвой оттяпал. Мы и моргнуть не успели. И правильно, ты не думай. А то строил из себя пахана, хотел нас подмять, в своих "шестерок" превратить. Даром что весь в наколках был. Нет, Лютый, если кто раньше и сомневался, кто у нас вожак...
- Какой я тебе Лютый?!
Он секунду непонимающе смотрел на меня, потом что-то сообразил.
- А это?... Ну, Оборотень. Лютый, Оборотень - какая сейчас разница...
- Большая, - перебил его я в страшном волнении. - Раз тебе все равно, я больше с тобой не разговариваю. Баста! И знай также, что я уже давно не работаю в госбезопасности, а Ленчики разные у меня на побегушках. Если хочешь знать, у меня сорок тысяч таких Ленчиков бегают туда-сюда.
Не понимаю, зачем я нес эту ахинею. Тем не менее меня взяла такая досада, плеваться хотелось. Что я и сделал, выйдя в туалет - сердито и смачно сплюнул в унитаз.
Не прощаясь, вышел из квартиры Лома, вызвал лифт и спустился на второй этаж, где находился игорный зал. Семенов Юрий Леонидович тронул меня за рукав.
- Может, все же сыграешь? Я тебе ссужу...
Насмешливо улыбаясь, он приблизился к столу с рулеткой, поставил на черное - выиграл, сгреб весь выигрыш на красное - и проиграл.
- Вот видишь, профессионалам никогда не везет. А раз ты почти не играешь, я искренне советую поставить.
Я вспомнил, что мне пора уходить. Решительно освободившись от висевшей у меня на руке вновь откуда-то возникшей Светы, я выскочил за дверь. И сразу оказался в совсем уж гигантском помещении с крытым стеклянным потолком, как на вокзале или в московском ГУМе. Множество людей, раскрыв зонтики, словно шел дождь, молча ожидали чего-то. Я слышал в отдалении тоскливый вопль тепловоза.
- Довольно, - крикнул я беспечному, не отпускавшему меня Семенову. - Я ухожу. Мы поговорим потом...
Но его уже не было. Я повернулся, увидел рядом с собой вход в вагончик, вроде тех, что возят посетителей в парках и ВДНХ и шагнул... поезд немедленно тронулся, какие-то люди, видимо, опоздавшие сесть, бежали следом, что-то крича... Как странно - вагончик напоминал обычное купе, свет у изголовья, оберегая энергию, все же тускло светил во мраке, и как же мне все осточертело!.. Вдруг опять все переменилось; купе, растаяв, осело на ленту эскалатора, вынесшего меня в зеленое помещение с медленно плывущими в воздухе комками плотного света. Приглядевшись, я понял, что стены, потолок, даже пол представляют собой стены аквариума, а сам я как бы заключен внутри, словно бы очутился в аквариуме для рыб, то есть для людей, - словом, меня разглядывали круглые немигающие глаза глупых мордастых существ.
И как же мне было страшно!
Не помня себя, лишь бы как-то прекратить этот кошмар, я кинулся к ближайшей стене, нацелившись боднуть тупую, словно бы свинную морду ближайшей рыбы. Я прыгнул... но попал в темноту, где натыкался на невидимую мебель, покамест, увидев далекие желтые огоньки, не вышел к оранжерее, за толстыми стеклами которой чернела искусственная ночь, а среди кадок с тропическими пальмами вповалку спали вокзального, ко всему привычного вида люди. Наконец, далекая музыка стала моей ариадниной нитью, я уверенно шел на звук, вслепую тыкаясь растопыренными пальцами, пока не нащупал дверную ручку. Когда же я распахнул дверь, никакого оркестра не было, а сверху сыпал мелкий, совершенно убедительный дождичек, и невидимый громкоговоритель самозабвенно орал "Прощание славянки".
ГЛАВА 9
МОСКВА
Я стоял на бетонных ступенях Речного вокзала, напомнившего мне мое волжское детство, а внизу, совсем недалеко, серела мягкая, подвижная рябь реки, с совершенно убедительными пятнами расплывающихся в мелких волнах солнечных бликов. Более чем убедительными! Я двинулся туда, к воде и, вдыхая неповторимой свежести воздух, первый раз за последние часы был уверен в отрадном и несомненном ощущении действительности, сменившей наконец всю ту нереальную муть, среди которой я только что метался. Значит, вагон, поезд, привезший меня ночью в Москву, помещение вокзала - все было реальным, и лишь мое искаженное поглощенной отравой (когда, кто скормил мне наркотик? Я уже не сомневался, что был где-то - в ресторане или, возможно, ещё в доме Ленчика - накачан наркотой) сознание находилось все это время в бреду. Но как я попал на Речной Вокзал?
Громко плеснуло волной о борт дремавшего пассажирского катера (я ясно прочел название - "Максим Горький"), из вокзального ресторана, прорывая неплотную ткань мелодии, доносился звонкий шум подгулявшей компании. И в этот момент, несмотря на символическое название корабля, напомнившего мне о моем невозможном перемещении из некогда родного города, давно, правда, сменившего поднадоевшее имя на изначальное - Нижний Новгород, умиротворенное дыхание притихшей реки и дождливая сырость дня, и твердый, надежный бетон под ногами были мне приятны после моих бестолковых блужданий. Уже смутно сознавая, где нахожусь, я ещё не связал нитью понимания Москву и Новгород, однако осознание того, что из кабацкого гнилого декаданса я вышел на волю, в настоящую мою жизнь, было так сильно и так приятно, что, желая продлить его, я медленно и глубоко вдыхал свежий речной воздух, крепко сжимая ладонями шершавый мокрый бетон парапета. И однако же невероятность всего происходящего сейчас не пугала меня: как человек, примерами чужих фантазий готовый к сюжетам волшебным, поворотам столь крутым, что мысли о единственности реализма просто не приходят ему в голову, а при очной ставке с несомненным чудом, он сразу готов принять его в сферу своего расширяющегося мировоззрения, - так и я, вздрагивая от ползущего по голени озноба, просто наслаждался ощущением реального дня. Какой-то человек вышел из туманной сетки дождя и прошел за моей спиной по пустынному сейчас причалу к парапету. Я повернул голову; воронкой ладоней защищаясь от сырости, прикуривал милиционер, тут же цепко и остро ощупывая меня взглядом. Не желая пока ни с кем из посторонних делить одиночество своего дивного возвращения в столицу, я медленно, потом все быстрее пошел от причала к вокзалу, потом на площадь, где, махнув рукой какой-то малиновой "Волге", уже забирался в салон.
Но как же я устал; захлопнув за собой дверцу и ожидая болезненного наслаждения в расслабленных мышцах, я машинально цеплялся взглядом за одинокую фигуру мокнувшей старушки с ручной тележкой и сумкой, набитой чем-то лесным, подмосковным, за бетонную коробку Речного вокзала, за серо-зеленую в блестящем плаще фигуру проводившего-таки меня милиционера... Все, поехали.
К Кривоколенному переулку, что за Мясницкой, где я снимал офис в неком медфармацевтическом учреждении, медленно ветшавшем над громадными трехэтажными подвалами, я был доставлен довольно скоро. Сунув водителю горсть бумажек (наверное, много, так как машина немедленно с ревом исчезла), я прошел через проходную, двор и по кривоколенным коридорам главного корпуса поднялся на второй этаж. Заглянул было к себе, но кинувшуюся с докладом Лену, преданную, веселую мою секретаршу, отмел раздраженно и прошел в кабинет к Илье. Тот безмятежно и в одиночестве возлежал в кресле, внимательно изучая свои, водруженные по американскому образцу на стол ноги.
- О! - оживлено воскликнул он. - Шеф! Каким ветром? Мы тебя раньше недели не ждали.
Я плюхнулся на бежевый кожаный диванчик у стены под непонятно что изображавшим абстрактным эстампом, купленным лично Ильей ещё при нашем заселении сюда.
- Однако, кстати, что приехал, - сказал Илья, опустив-таки ноги. - Я все равно думал тебе звонить. Тут, понимаешь, ерунда какая-то с утра. Ничего не понимаю. Сначала из "Лукойла" позвонили и сообщили, что, может быть, расторгнут с нами контракт. Сечешь, чем пахнет для нас? Потом из "Газпрома", ещё из пяти-шести контор звонили. Все на ту же тему: о возможном расторжении контракта. Ну это ладно, цветочки. Потом звонили оттуда - Илья многозначительно указал пальцем в потолок - и знаешь, что сказали?
- Что? - не выдержал я паузы. Я все ещё трудно соображал.
Илья уставился на меня, несколько мгновений молчал и вдруг предложил:
- Хочешь поправиться? У меня шампанское есть.
Я отказался, хотя упоминание о спиртном почему-то встревожило.
- Короче, - потребовал я.
- Павел Абдурашидович звонил.
- Хорошо хоть не из администрации президента, - сказал я. - В "Белом доме" больше болтовни. А впрочем, все едино, - махнул я рукой.
- А что, и из администрации могут позвонить? - нахмурившись, спросил Илья.
Я мотнул головой:
- Короче.
- Ну что, короче? Понес наш Абдурашидович какую-то ахинею о серьезности момента, о трудностях в экономике страны, о том, что они там заняты пересмотром лицензий.
- Ну и что? - раздражался я все больше. - Мы ему мало платим?
- Я его чуть не спросил то же самое, - улыбнулся Илья. - В общем, он просил передать тебе - дословно! - что излишняя активность может вредно сказаться на бизнесе. Посоветовал передать тебе снизить обороты и не ввязываться в чужие дела. Что ты там такое в Нижнем своем Новгороде накрутил? Чего это они все так на нас взъелись?
- Ничего страшного, - отмахнулся я.
- Это как сказать, - возразил обычно беспечный Илья, сейчас неожиданно насторожившийся, как бультерьер. - Это как сказать. Ты хоть у нас и хозяин, но пять процентов от прибыли мне тоже идут. Я, так сказать, тоже в доле. У тебя, может, уже счет в Швейцарии или где-то там еще. Ты, может, проживешь. А мне неохота снова работу искать. А знаешь, что вчера твоего кореша Кирилла Леонова убили? Забыл тебе самое главное сказать из-завсей этой пакости. На боевом, так сказать, посту. Я хоть его плоховато знал, но все же наш, гэбэшник, хоть и бывший. А мы в уставе обязались платить родственникам погибших сотрудников пенсию. Нет, Ваня, если ты наступил кому-то на мозоль, то это твое личное дело. Бизнес страдать не должен. Знаешь, что ещё Абдурашидович сказал? Что кое-где решение о нашей фирме уже принято, и если ты не будешь себя хорошо вести...
- Заткнись! - сказал я. Его озлобленная трескотня раздражала. Я был ошеломлен известием о смерти Кирилла. С ним я работал ещё в Чечне и нас связывали не просто приятельские отношения. Я подумал об Ирине, теперь уже его вдове, о Тане, оставшейся неизвестно где, о Семенове Юрии Леонидовиче, Ленчике, Павле Абдурашидовиче... И черная злоба уже привычно овладела мною. В ушах странно, гулко гремело - хлопанье крыльев, вороний грай, запах гниющих отбросов...
- Ладно, - сказал я. - Сейчас я все равно недееспособен. Пойду часок отдохну.
И со скрипом и хрустом суставов я поднялся с дивана. И уже у дверей вспомнил.
- Ты пока позвони Максиму Дежневу в контору. Я хочу кровь на анализ сдать. Пусть похимичут. Там, сам знаешь, быстро работают.
Илья озабоченно взглянул на меня.
- Что это у тебя там в Нижнем закрутилось? Неужели так серьезно?
- Не знаю, - сказал я. - А Максиму позвони.
Я прошел к себе.
- Разбуди часа через два, - предупредил я Лену. - Я что-то совсем плох.
Она с готовностью кивнула.
- Конечно, разбужу, Ванечка.
ГЛАВА 10
СТРАННЫЙ СОН
Едва я прилег на диван, как сразу уснул. И приснился мне странный, чудный сон.
Но по порядку. Я стоял перед высокой, под потолок, резной дверью и не решался войти. О, я знал нечто удивительное, волшебное ожидает меня там, но страшное волнение сковывало все мои члены. Несколько раз я пытался открыть дверь, - она тяжело сопротивлялась. Я почти потерял надежду войти, как вдруг понял: сейчас, сейчас!..
И действительно, медленно-медленно дверь стала раскрываться, я помогал сколько хватало сил, мне не терпелось оказаться внутри, в подвалах, в шикарных трехэтажных подвалах, где нечто важное, важное для меня лично уже происходило, уже ждало меня. И вот передо мной на ковровой дорожке показался Семенов Юрий Леонидович, почему-то во фраке и с красной гвоздикой в петлицей. Я быстро огляделся, только тут заметив и на себе фрак.
Приглушенно звучала музыка. У стены - длинный стол с закусками. Огромный зал был заполнен людьми, я понял, что попал в бизнесс-клуб для избранных. Однако здесь было тихо-пристойно. Черные фраки неторопливо расползались прочь и собирались кучками там и сям. И забавнее всего, - я говорю "забавнее", однако, увиденное лишь усилило мою волнение, - люди, одетые в такие же строгие костюмы. как и мы, редко в смокингах, все больше во фраках, ходили парами, стояли группками, закусывали у столиков, входили в соседние залы и выходили оттудда и все - все! - были не старше пяти-шести лет.
В зеркале у стены я видел себя - с трудом узнаваемый по древним фото облик! - смешной пузан рядом с тоненьким Юрием Леонидовичем. Но внезапно внешний вид бизнесменов перестал удивлять; шелест голосов доносил обрывки фраз, - да, да, здесь собрались серьезные люди, банковские воротилы: кредиты, контракты, офшоры...
Мы прошли в соседний зал, столь же шикарный, и на лифте спустились на этаж. И сразу атмосфера резко изменилась: вновь стали сновать официанты в белом, в глубине зала на большом экране стали крутить... я присмотрелся.. детскую порнушку?.. - ох! я чуть не забыл, где нахожусь: вокруг почти голенькие девочки среди во фраки одетых ребят выглядели на все свои несколько лет... - мы шли дальше. Я уже задавался вопросом: к чему все, и куда мы так целенаправленно идем, как вдруг ёкнувшее сердце подсказало вот оно! Мы были в казино. Все неподвижно застыли глядя на нас, замерли карусели рулеток, глазки опытных детишек уперлись в нас и вдруг ковровые дорожки, словно лента эскалатора, плавно - сначало медленно, потом все быстрее- повлекла нас к ближайшму столу. И я уже знап: меня будут принуждать играть, меня принудят, я обязательно... Семенов зашептал мне в ухо:
- Это твой шанс. Или сейчас, или никогда.
- Да нет же, - попробовал я сопротивляться. - Никогда не играл и не собираюсь. Хочешь, сам ставь.
Семен шмыгнул носом и утерся рукавом фрака. Его детское личико внезапно нахмурилось. Он злобно проговорил:
- Тогда не мешай другим играть, дурак!
- Сам дурак, - против воли сказал я. - Я никому не мешаю.
- Тогда найди убийцу своих друзей.
Он почти кричал, наседая на меня. Оглядевшись, я увидел как все пацаны и девчонки в вечерних туалетах осуждающе разглядывали меня. Мне стало страшно неловко, и я почти не сопротивлялся, когда распалившийся Семен вдруг потащил меня к двери.
- Смотри! - кричал он, выталкивая меня в дверь. - Смотри, игрок недоделанный. Ты только по своим правилам любишь играть. Так не мешай тогда нашей игре и найди убийцу!
В комнате шеренгой стояли Костолом, Валерка-Колобок, Профессор, Гешка-Нюхач, Чингиз, Лом и Костя Кашеваров, почему-то, несмотря на свое юное обличье, в милицейской форме. Я присмотрелся внимательнее...
- Да ведь... Что же это такое?!. - вскричал я в совершейнейшем ужасе.
- А!.. - злорадно закричал Семен за моей спиной. - Не нравится?!. А нам что, нравится? У нас бизнес летит коту под хвост. Знаешь. какие люди заинтересованы? Я просто не могу уехать из Нижнего ничего не сделав. А после этих убийств никто тут у нас не соглашается работать. Нет, ты смотри!
Да я и сам, впрочем, не мог отвести глаз. Костолом, Колобок, Профессор и Нюхач - зеленые и мертвые, мертвее нельзя - невидяще смотрели поверх моей головы. Ладно, к мертвым я уже привык. Но ужас, охвативший меня не был рациональным. В глубине души я сознавал, что сплю, что все виденное плохо согласуется с той реальностью, в которой я привык обычно пребывать, но от этого легче не становилось. Возвышаясь над головами товарищей торчал затылок Лома, которого я совсем недавно встречал в его же собственной квартире. Я подумал, что кто-то ловко свернул его детскую шейку, иначе никак нельзя было объяснить, почему затылок Лома торчал над его грудью. Семен сзади сильно толкнул меня вперед, я, махая руками, подлетел к Лому и тот, вытянув руки, слепо, но очень ловко, поддержал меня.
- Смотри! - крикнул Семен. - Смотри, до чего доводит тебя твоя глупость и слепота!
Он протянул руку, крепко ухватил Лома за волосы и дернул, чулком снимая кожу с головы.
- Смотри! - донеслось до меня, но я с ужасом, жалостью, внутренним содроганьем и сам не мог оторвать взгляд от кроваво-лакированных голых мышц лишенного кожи лица.
И эта белая костяная улыбка!!.
Семен сунул мне в руку... я невольно подхватил эту мягкую, покрытую живыми волосами кожу... все закружилось перед глазами и тяжело дыша, в испарине, с ужасно бьющимся сердцем проснулся...
ГЛАВА 11
НА ЛУБЯНКЕ
Я проснулся. Проспал полтора часа и, конечно, не отдохнул. И раздражало - Ленка с тревогой смотрела на меня. Я дал ей номер телефона Тани, приказал соединить с Нижним Новгородом и с тревогой ждал. Никто не отзывался. Я попросил позвонить Илье и спросить насчет Максима Дежнева. Максим ждал меня в три часа. Сейчас было около двух часов дня.
Все ещё разбитый, я позволил Ленке заварить чай. Она постаралась. Я люблю крепкий чай, и сейчас густой, медвяно-бурый чифирь взбодрил.
Без четверти три я, позвякивая ключами от нашего служебного "жигуленка" вышел из проходной. До Лубянки было всего ничего. Через десять минут я припарковал машину в пустынном переулке рядом с нашим серым бетонным монолитом, и уже скоро входил, предъявляя свой, бессрочно продливаемый (хорошо иметь надежные связи!) пропуск.
Я вызвал лифт и в одиночестве ожидал прибытия кабины, но когда входил, следом, потеснив мою штатскую фигуру, ввалились человек шесть-семь мужиков, распухших от бронежилетов и прочей амуниции. Группа, судя по всему, возвращалась с операции, во всяком случае, мрачное, злобное выражение лиц выдавало не только крайнюю степень усталости, но и глубоко скрытое удовлетворение. О!.. Я помню, я не забыл это ощущение, переполнявшее в подобные минуты: долгие часы на грани жизни и смерти, предел сил, обнажавший основу бытия - фундамент, на котором место лишь тебе и твоим товарищам, а ещё врагу, но уже по ту сторону лезвия, на этот раз не задевшего тебя. Я помню, я вижу - все позади, ты жив, напряжение уже отпускает, но где-то внутри ещё шевелится злоба, хотя бы вот к такому чистенькому фраеру, каким выгляжу я сейчас, стерильному в своем нежелании заниматься мужским трудом.
Я помню... А в те секунды, когда мы ехали в кабине лифта, я поглядывал на серые небритые лица мужиков и - действительно не вру! - ностальгически завидовал.
Они вышли раньше. Я поднялся на шестой этаж и, мимо кабинетов управления контрразведывательного обеспечения стратегических объектов, добрался наконец до лаборатории.
Максим Дежнев когда-то окончил Ленинградский медицинский институт и по профессии был микробиологом. По завершении учебы кадровики КГБ благополучно выудили его из толпы выпускников, забросили в наши стены, где он и осел в садке своей лаборатории, доведя в конце концов мастерство анализа неизвестно там чего до невиданных высот. Во всяком случае, ходила такая молва.
Я, рассказав сейчас о своих подозрениях, остался ждать в предбаннике результатов. Максим, широким жестом указал на стол с электрическим чайником, пачкой индийского чая, массой грязных чашек и удалился с образцами моей крови, слюны и прочего. А я действительно заварил себе чай и стал пролистывать стопку старых журналов "Вокруг света", кем-то, видимо, привезенных из дома.
Минут через сорок Максим выглянул из-за складчатого зеленого сукна, завешивающего дверь ради максимального глушения лабораторных звуков, и рассеянно попросил ещё подождать.
- Что-то наклевывается, - смутно объяснил он и вновь исчез за антиподслушивающей тканью.
Еще через полчаса он вышел окончательно, сел напротив за инвентарный стол, выбрал чашку почище и налил себе одной заварки.
- Ну что? - спросил я.
- Ты был прав, - ответил Максим, - реакция положительная. - Он отхлебнул чифирь, заглянул в кружку, ничего не нашел и вновь уставился на меня.
- Ну и?.. - нетерпеливо допытывался я. - Спиртное?
- Алкоголь тоже присутствует, но в малой дозе. Так, чепуха. Честно говоря, если бы не твои подозрения, мы не обратили бы внимание.
Он сунул руку в промасленный пакет на столе и вслепую пошарил в нем.
- Кончились, - объяснил он. - С утра кто-то пончики приволок, но уже все сожрали.
- Ты говорил, что вы что-то нашли, - напомнил я.
Максим почесал затылок.
- Однако где это тебя угораздило? Это же совершенно новый продукт. Синтезирован год назад в нашем братском ЦРУ. В прессе было упоминание о группе в классификационной таблице. Хорошо еще, что следы молекулярного воздействия совершенно уникальны. У нас недавно новое оборудование поставили. Кстати, оттуда же, из-за океана. А иначе мы ни за что не обнаружили бы.
Я терпеливо пережидал всплески его профессионального восторга. Максим отставил кружку и вытащил пачку "ЛМ". Я вдруг понял, что страшно хочу курить.
- Будешь? - предложил Максим сигарету.
- Свои, - буркнул я. В моей пачке "Кэмел" застряли две сигареты. Надо не забыть купить. Я прикурил от его зажигалки. Мы молча выпустили дым. Максим испытующе смотрел на меня.
- А ты где сейчас работаешь? Неужто к нам вернулся?
- Так я тебе и сказал, - в тон ему ответил я. - А чего это ты интересуешься?
- Как же... Ты, вроде, в частном бизнесе, а подобные препараты, кои я надыбал в твоем могучем организме, пока еще, к счастью, в обиходе не встречаются.
- Ты хочешь сказать, ежели кто и захочет, то не достанет?
- Почему... Конечно, можно. Поэтому я и спросил, где ты работаешь. У вас, в валютодобывающих отраслях экономики другие методы.
- Не понял, - сказал я.
- А чего тут не понять. Применять против конкурента в малом и среднем секторах экономики и производства подобный продукт все равно, что бороться против тараканов с помощью "калашникова". К тому же использовать патроны с серебряными пулями.
Он затянулся и долго выпускал дым. Я ждал.
- Нет, - возразил Максим самому себе, - золотыми пулями.
Он вновь заглянул в свою чашку и сообщил:
- Понимаешь, есть такое правило, называется "Бритва Оккамы". Был такой философ. Так вот, грубо говоря, оно, это правило, гласит, что среди нескольких решений задачи самое простое и будет самым правильным. Зачем применять сверхсекретный и сверхдорогой препарат там, где можно обойтись клофелином и рюмкой водки. Усек теперь, почему я спросил о твоей работе? Ладно, мне не интересно. Это я так.
Я медленно выпускал в потолок струю дыма. Неожиданно до меня наконец-то дошел факт, затененный этой лабораторной ерундой: против меня в самом деле применили наркотик. Со мной обошлись, как с последним лохом!
И тут же привычно потемнело в глазах от злобы. И этот шум крыльев, карканье, вонь, птичий базар!..
- Что это с тобой? - заметил мое состояние Максим. - Хочешь коньячку? Не повредит.
- Со мной обошлись как с пацаном, - вслух сказал я.
- Делов-то!.. Не ты первый, не ты последний.
Он встал и, подойдя к окну, заглянул за шелковые в сборках шторы неизменный атрибут конторы, препятствующий снятию информации с оконных стекол.
- Что-то воронье разоралось, - задумчиво проговорил он.
ГЛАВА 12
"БЕЛЫЙ ДОМ"
Я покинул гостеприимные стены госбезопасности без четверти пять. Мой "жигуль" мокро лоснился в переулке. Я плюхнулся на сиденье, хлопнул дверцей. Надо было решать, что делать дальше. Последняя сигарета. Я закурил и выдул дым в щель приспущенного стекла.
Конечно, оставалось одно безотлагательное дело. Но как же мне не хотелось его выполнять!
Ирина!
И сразу, словно живой, возник передо мной Кирилл Леонов. Я едва не застонал от горечи и тоски. Его убили вчера поздно вечером. Как мне сообщил Илья, Кирилл вместе с напарником благополучно проводили домой клиента, сдали дежурство ночной смене и уже вышли из подъезда, когда возле них возник среднего роста лысоватый мужчина лет тридцати. Представившись Петровым Сергеем Илларионовичем, он сказал, что есть сообщение лично Кириллу от меня, то есть Фролова Ивана Михайловича. Александр, напарник, пошел к машине, оставив Кирилла с этим Сергеем Илларионовичем. Усевшись в машину, тут же посмотрел в их сторону - Кирилл лежал на тротуаре у подъезда.
И больше никого.
Разве можно было ожидать! Конец смены, грядущий отдых, мое имя из уст серенького посланца и нож, сверху, за ключицей протиснувшийся в сердце!..
Ах, Кирилл, Кирилл! Сколько мы с ним пережили, и вот результат!
Я достал телефон и некоторое время смотрел на кнопки набора. Я раздумывал, ехать ли сейчас к Ирине? Нет, успею. Было ещё одно дело. Я набрал номер.
- Канцелярия второго вице-премьера, - мило пропищал девичий голосок.
- Веру Алиевну, будьте добры, - сказал я и приготовился...
- Кто её спрашивает?
- Передай, девочка, что её спрашивает Фролов Иван Михайлович. И пошустрее, милая, а то Вера Алиевна будет сердиться.
Дева исполнила мою просьбу, потому что я тут же услышал знакомый твердый голос Веры.
- Иван Михайлович! Что же ты забываешь старых знакомых. Пропал, ни слуху ни духу. Какие проблемы? - сразу перешла она к делу, и я немедленно вспомнил её решительную манеру брать быка за рога.
- Хотел бы шефа вашего застать, да боюсь, как всегда, не удастся. Может, поспособствуешь? Я хоть сейчас подъеду.
- А тебе, Иван Михайлович, везет. Я сегодня добрая, а значит, настроение у меня хорошее. Давай, приезжай. Через полчаса успеешь?
- Постараюсь. Если в пробку не попаду.
- Жду.
Я прибыл к "Белому дому" через двадцать минут. Вера позаботилась, и мое просачивание сквозь охрану прошло гладко. А пистолет я, конечно же, не забыл оставить в машине.
С Верой Алиевной Махдаровой я познакомился много лет назад ещё в Чечне, где мы находились по разную сторону баррикад. Тогда она была снайпером. Впрочем, обстоятельства нашего знакомства давно поросли быльем, и осталось ныне лишь деловые аспекты, позволяющие - как вот сейчас, наиболее быстро преодолевать кордоны бюрократизма. Я весело поприветствовал Веру Алиевну, и минут пять мы предавались приятным воспоминаниям. О том, о сем...
По прошествии пяти минут Вера вышла, оставив меня одного в кабинете, куда, однако, тут же вошла её секретарша - та молоденькая девица, ответившая на мой звонок. Как и Вера, она окрасила густые горские волосы в желто-блондинистый цвет.
Павел Абдурашидович, второй вице-премьер, (до сих пор я не могу разобраться в размножающемся количестве замов премьер-министра), молча протянул мне пухлую руку и вновь продолжил что-то быстро - видимо, чрезвычайно неотложное - записывать в блокнот.
Через пару минут блокнот был захлопнут, и Абдурашидович обратил на меня свой взор из-под поседевших на государственной службе бровей.
- Что же ты, Иван Михайлович, допускаешь, чтобы на тебя жаловались. Разве может умный человек переходить дорогу другим умным людям? И, наверное, более умным. Как ты считаешь?
Это было вступление. Я подумал, что на этом все может и закончиться.
- Павел Абдурашидович! Каюсь, но ничего не понимаю. Кому? Когда?..
- Ты это брось со мной ваньку валять! - погрозил он пальцем, и я понял, что война ещё не объявлена. Его просто попросили утихомирить меня. Очень ты беспокойный человек, Иван Михайлович. Что тебе неймется? Бизнес твой процветает, никто тебе не мешает, никто палки в колеса не вставляет, а ты что-то там не то делаешь.
- Павел Абдурашидович! Вчера убили моего друга. Мы с ним ещё в ГБ работали.
Он замолчал и только шевелил кустистыми бровями, поглядывая на меня.
- Убили, говоришь?
- Ножом. Прямо в сердце. Судя по всему, профессионал. Любитель Кирилла не достал бы.
- Профессионал, говоришь, - задумчиво повторил он. - Да, дело серьезнее, чем я думал, - он поднялся из-за стола и подошел к окну. Смотрел вниз, на мост, перекатываясь с пяток на носки и молчал. Я ему не мешал думать. Наконец он повернулся ко мне.
- В общем, так, дорогой. Я тебя предупредил. Ты меня выслушал. А что делать, сам решишь. А то, может, плюнешь на все, съездишь отдохнуть? Море, девочки - хорошо. О! - обрадовался он пришедшей мысли. - Поезжай в Майами. Поваляйся на пляже пару месяцев, а там, глядишь, все и успокоится. В общем, не так все и плохо. Ну, давай, - уже протягивал мне ладонь, одновременно нажимая кнопку селектора.
Вошедшей Вере сказал:
- Проводи Ивана Михайловича и пропуск ему отметь. А ты, - вновь обращался ко мне, - подумай о том, что я тебе сказал. Ты же свободная птица. Как, Вера, плохо, что ли, слетать в Америку, на пляжах тамошних пожариться, поплавать в океане? Жаль нам нельзя, - посетовал он, - кто за нас будет Россией управлять? Некому.
Попрощавшись с Верой и её телефонной помощницей, я благополучно покинул этот белый оплот государственности.
ГЛАВА 13
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
"Жигуль" мой сиротливо торчал между вишневым "Ауди" и голубым "Мерседесом". Я сел в машину и достал пачку сигарет. Чертыхнулся. Последнюю сигарету выкурил ещё на пути сюда. С безнадежным чувством потянулся к бардачку. Пистолет. Сунул в кобуру под мышку. Бумажки какие-то... пусть лежат. В глубине - початая пачка "Мальборо".
Я прикурил и глубоко затянулся. Хотелось есть. Хотелось спать. Посещение Абдурашидовича оставило неприятный осадок. Но надо было собраться с силами и исполнить все время откладываемый долг. Посещение Ирины, жены Кирилла, болезненное для нас обоих, было, конечно же, продолжением трагедии: её слезы, мое мучительное мычание... Я выбросил окурок и решительно потянулся к ключам зажигания.
Уже возле её (теперь только ее!) дома я позвонил по телефону и сдержанный, лишенный жизни голос скоро ответил: "Да, да, нет, я жду".
Я поднялся на четвертый этаж пешком, нажал кнопку звонка. Ира открыла почти сразу. Я не слышал её шагов, но и под дверью она не стояла, ожидая меня; горе истончило в ней жизнь и, словно сквозняком, гнало - туда, сюда, - напором остаточных обязанностей: надо есть, умываться, мыть посуду, открывать дверь соболезнующим гостям...
- Здравствуй, Иван! - спокойно сказала она, и я, в первые мгновения обрадованный этой собранностью, тут же разглядел пустоту её человеческого облика. И даже зная, что все проходит, что отсутствие детей быстро вернет ей жизнь и новые надежды, я был подавлен тяжестью этого мгновения.
Я вздрогнул. Как всегда неожиданно, а сейчас напрочь забытая, мне на плечи прыгнула Анфиска, большая персидская кошка, возлюбившая меня чрезвычайно. Впрочем, меня, почему-то, любит это мяукающее племя. Анфиска по-хозяйски разлеглась на моей шее, а протянутую было руку Иры отвергла решительным ударом лапы.
Из кухни вышла мама Иры. Мы с траурной подавленностью прошли в гостиную, сели и пытались говорить так, чтобы Кирилл, фактом ножевого удара вычеркнутый из реальности, не восстал ненароком. И все равно не удалось избежать слез; Ирина поднялась и ушла в спальню, мама её приложила платок к покрасневшему глазу, а я, отодрав сопротивляющуюся Анфису, предпочел уйти.
- Да, да, Ирочке так тяжело. Конечно, я уверена, вы поможете. Спасибо, что не оставляете её. Такое горе! Такое горе!
Чувствуя однако облегчение от того, что Ирина ушла и долг соболезнования, тяжелый для нас обоих худо-бедно выполнен, я вложил в напрягшуюся руку её матери сверток с пачками долларов - единовременное пособие на первые дни, - и поспешил выйти.
Сев в машину, я сразу почувствовал запах помойки, преследующий меня уже несколько дней ещё с приезда в Новгород, а когда-то (потом забытый) шлейфом тянувшийся по пятам моего детства. Было мерзко на душе. Посещение Ирины стало последней каплей, переполнившей чашу происшествий этого дня; калейдоскоп лиц, событий, разговоров, за которыми, словно зловещий вороний грай, угадывалась мрачная низость окровавленных интриг.
Я позвонил Илье и попросил приготовить мой "Мерседес". Завтра я поеду в Нижний Новгород.
Я коротко рассказал о посещении Павла Абдурашидовича и его очередном предупреждении.
- Может, действительно, возьмешь отпуск? Я справлюсь. Тем более что всегда можно созвониться.
- Нет, - отверг я, - хочу разобраться, что стоит за всем этим.
- Ну давай, отдыхай.
А сейчас - спать.
Я отключил телефон и, проехав переулок, две улицы, ещё один переулок, выехал на Проспект Мира. Жил я на Колхозной площади, в пустой, недавно купленной двухкомнатной квартире сталинской постройки. Я уже предвкушал сон, горячий душ, прохладные простыни, сладостное беспамятство сна...
Внезапно семьсот сороковой "Вольво", ехавший по встречной полосе, резко вильнув, пошел на разворот перед самым носом моей машины. Водила, видно, понадеявшись на реакцию - мою? свою? - кинулся очертя голову.
Моя "восьмерка", с визгом прочерчивая асфальт резиной колес, влетела носом в бок "Вольво".
Этого ещё не хватало! Я секунду сидел, зажмурившись. Идиотам не писаны законы: пошли на разворот через двойную разграничительную линию.
Я вышел из машины. Трое стриженных парней, с накрученными на шеях золотыми цепями, осматривали вдавленный бок своей тачки. Один - самый молодой, лет двадцати, - коротко взглянул на меня.
- Да, мужик, ну и влип же ты. Чем расплачиваться будешь?
Я помедлил, прежде чем отвечать. Уже темнело. Слабый накал уличных фонарей. Вороны, надоевшие мне за последние дни. Безнадежность.
- Сейчас ГИБДД подъедет, мы и разберемся, кто кому должен, - сказал я и добавил: - Мужики! Поимейте совесть. Вы нарушили.
- Он не понимает, - доверительно обратился все тот же молодой к двум товарищам.
Они закончили осмотр, и старший из них, невысокий квадратный мужчина лет тридцати, повернулся ко мне:
- Ты нам платишь три куска зеленых за наезд, ещё два куска за моральный ущерб, и мы тебя отпускаем.
Я молчал. Они меня отпускали!.. Почему-то усилился запах помойки... Голова заболела. Несколько ворон, близко подлетев, уселось на ближайших деревьях.
- Ты чего молчишь, мужик? Три тысячи - это потому, что у тебя такой скакун, - кивнул он на мой "жигуль". - А то бы в десять раз больше платил. Ну как, согласен? Соглашайся, пока мы добрые. Если нет денег при себе, давай паспорт. Надо же нам знать, где тебя найти в случае чего.
Почему все так мерзко? Почему все время моросит дождь? Почему я так устал? Откуда эти вороны, мистически накаркивающие мне беды?
- Не дергайтесь, мужики! - предупредил я - Сейчас вызовем ГИБДД, составим протокол...
Молодой, первым начавший общение, первым и двинулся ко мне. Оценив мои габариты, он на ходу извлек из кармана и стал прилаживать к кисти кастет.
"Ворон!" - подумал я, мельком заметив мельтешенье черных птиц. Не пытаясь обобщать, или делать иные выводы, я отметил, что уже начал привыкать... к чему?.. может быть к присутствию вот такого вот воронья... как в людском, так и в пернатом обличье...
Я устал; иррациональное присутствие ворон ослабляло внимание... О нет, я не хочу ни о чем таком думать, мне надоело...
Парень швырнул левую руку к моим глазам, детским финтом предлагая открыться. Я тут же нырнул под его правый боксерский хук и изо всех сил ударил в живот. Попал в солнечное сплетение. Паренек завалился на капот моей машины, слегка помятой уже, кстати говоря.
Оставшиеся двое холодно оценивали ситуацию. Разумеется, они ещё не поняли, на кого нарвались. Видимо, бывшие спортсмены. Видимо, среднее звено какой-нибудь группировки. Видимо, привыкшие всегда нападать и обнаглевшие, конечно. Нападающий всегда сильнее. Он сильнее уж тем, что решился причинить боль. Жертва до конца надеется и не хочет верить в насилие. А потом уже поздно.
Молодой хрипел на капоте. Я схватил его рукой за короткий ежик волос на затылке и несколько раз сильно припечатал "мягкими тканями лица" о капот.
- Мужики! - Вновь предупредил я. - Без глупостей. Я сегодня не в настроении, потому советую успокоиться.
Они не слушали. Один заглянул в "Вольво" и извлек из салона две милицейские дубинки. Протянул одну товарищу, вторую оставил себе и, примериваясь ловчее, двинулся ко мне.
- Тебе я сломаю руку, - предупредил я, но на него это не произвело никакого впечатления. Тогда я ударил его носком туфли в голень. Он охнул и отступил на шаг. Старший стремительно ринулся ко мне, так что я едва успел остановить его порыв прямым ударом ноги в живот.
Молодой все ещё пытался ползать по капоту, словно раздавленный таракан. И тут я получил - к счастью, скользящий - удар дубинки по левому плечу. Ужасно больно! Это пришел в себя второй боец.
От боли я на мгновение ослеп. Впрочем, только на мгновение. Я тут же решил не только выполнить свое обещание, но и перевыполнить оное. Развернувшись на левой ноге, я правым кулаком, раскрученным за спиной, смахнул ближайшую бритую голову. Голова принадлежала среднему звену этой бандитской ячейки, кому мало показалось разбитой голени, и кому я обещал сломать руку. Мужик упал и перестал двигаться.
Между тем осторожный главарь выждал наконец благоприятный момент и с каким-то визгом, долженствующим выражать ярость или ещё что-то ужасное, кинулся мне под ноги. Я не отнесся к его порыву с должным вниманием, за что и был наказан; хоть и невысокий, парень был страшно тяжел. Я отлетел к своей машине, на беду споткнувшись о тело окончательно вырубленного мною второго бойца сумеречного фронта.
Ладно. От удара по дверце "восьмерки" я сам, потеряв равновесие, сполз на асфальт, тем уравняв себя с моими противниками; старший, бешенно визжа, уже приподнимал дубинку, видимо, готовясь раскроить мой бедный череп. Пытаясь защититься, я схватил первое, что попалось под руку - ухо бандита, - и с треском оторвал, сразу остановив боевой порыв и замах дубинки. Ошеломленный болью и хрустом все ещё висящего в воздухе собственного уха, он открыл рот для вопля - боли? вторичной вспышки ярости? - об этом я не узнаю никогда.
Холодная и язвительная часть меня, так и не принявшая участие в потасовке, запихнула сырую раковину уже отдельно жившего уха в его раззявленную пасть. Он задохнулся, попытался встать, отшатнулся... Я пяткой, вернее, каблуком лягнул вслед, попал ему в зубы и этим слепым, но эффектным ударом заставил проглотить то, чем была забита глотка... Во всяком случае, в последующие минуты нашего общения я больше не видел этого куска его плоти; ну, а освобожденное горло тут же издало мощный вопль! Я же был уже на ногах и, подобрав дубинку, с наслаждением влепил главарю по черепу, возможно, проломив неандертальские кости.
Было ещё одно дело... Ну конечно. Я обещал бритому сломать руку. А я привык выполнять обещания. Что я и сделал все той же дубинкой, для удобства примостив предплечье противника к впадине колесного диска.
И что забавнее всего, пассажиры лентами скользящих мимо машин, конечно же, могли видеть нашу гнусную потасовку; людей можно понять, а о шоферской солидарности говорить уже нельзя: возможность просто так, ни за что ни про что получить пулю в лоб изживала гуманизм.
Тут, как всегда по окончании действия, подлетели три, кем-то направленные гибэдэдэшные "шестерки". Толпа толстых автоматчиков храбро поставила меня лицом к машине, я получил пинок по ноге и прикладом в спину, после чего центурионы стали разбираться. Ксивы произвели впечатление: бессрочно продлеваемое моими звездными покровителями удостоверение капитана ФСБ и не менее весомое - помошника какого-то мною уже забытого депутата.
Еще полчаса я помогал составлять протокол и наскоро допрашивать окольцованных наручниками братков. Потом сел в машину и под привычный аккомпанимент вороньего базара отбыл домой. Дома, несмотря на холостяцкую запущенность, довольно часто, впрочем, освежаемую посещением прекрасных дам (наши женщины всегда прекрасны!), все было так, как я и предвкушал. Только вместо душа я принял ванну и с наслаждением отмокал.
Вспомнив кое-что, я дотянулся до брошенного на стул телефона и ещё раз позвонил в Нижний. Никого. Сияющее настроение удачно завершенного вечера стало меркнуть, но я отбросил все черные мысли, полежал ещё немного в горячей воде, а потом, завернувшись в свой любимый синий махровый халат, прошел на кухню и вскипятил чай.
В холодильнике нашелся недельной давности сыр и кусок сливочного масла в морозильнике. Я вскрыл банку с ветчиной, сделал себе бутерброд-ассорти и с огромным наслаждением поглощал эту вкусную, но убийственную для организма снедь.
А за оконным стеклом в полуметре от меня, на подоконнике сонно топталась одинокая ворона, изредка оглядывая меня блестящим и черным в искусственном свете моей кухни глазом.
А потом - прохладные простыни, водоворот сонных видений - все кружилось, хлопало черными крыльями, а Павел Абдурашидович гонялся зачем-то за Верой с милицейской дубинкой...
ГЛАВА 14
НА ГОРЬКОВСКОЙ ТРАССЕ
Утро началось тонкими уколами зуммера. Я вслепую нажал кнопку будильника и только тогда открыл глаза. Семь часов.
За окном - серая утренняя мгла плачущего с утра дня. Я, не вставая, дотянулся до телефона, с вечера брошенного на тумбочку. Тани не было дома. Я поколебался, звонить ли полковнику Сергееву? Нет, у меня не было номера его домашнего телефона, а для службы было слишком рано. Так же нехотя позвонил Косте Кашеварову.
Трубку сняли после третьего звонка и бодрый голос Ловкача заявил, что он слушает.
- Я слушаю, - повторил он и, когда я назвался, энергично зазвенел в трубке.
- Ты куда пропал? Тебя обыскались. Полковник Сергеев звонит беспрерывно. Ты где?
- Я в Москве. Сегодня к вечеру буду в Нижнем.
- Зачем? Почему ты никого не предупредил? А Соколова с тобой?
- Нет. Таня в доме Бурлакова. У Ленчика. Хотя теперь уже, может, и не там. Я приеду, разберемся. Думаю, с ней ничего плохого не случится. В общем, к вечеру буду.
- Ты самолетом?
- Нет, на машине. Часов за шесть-семь доберусь. По приезде позвоню.
- Ну, ждем. Хорошо, что позвонил. Значит, ты на машине к нам? Один или с водителем?
- Один. Я ещё не разучился за баранку держаться.
- Ну давай, ждем.
Я нажал кнопку отключения телефона.
Пошел под душ, побрился. Потом открыл шкаф и некоторое время изучал свой гардероб, не зная, что выбрать в дорогу. Конечно, я предпочел бы джинсы и рубашку посвободнее, но привычка к униформе победила: решил, все же, надеть костюм.
В начале девятого я подрулил к Кривоколенному переулку, посигналил перед железными вратами, был опознан вахтой охраны и впущен; жестяная плоскость ворот поехала в сторону, и я благополучно въехал во двор, припарковав "восьмерку" подле своего же черного "Мерседеса".
Я поднялся наверх. Лены ещё не было; рабочий день у нас начинается в девять тридцать. Но Илья уже возлежал в кресле, с привычным удивлением изучая свои, положенные на стол ноги.
- Машину я тебе приготовил, - сразу сообщил он. - Ты когда созреешь, может быть, просветишь, чем ты так там занят? Мне Макс Дежнев звонил. Тебя, понимаешь, по его словам, чуть ли не цеэрушники работают. Наркотиками накачивают. Надеюсь, дело стоит того, чтобы в него влезать.
Он медленно и ловко стал снимать ноги со стола, сам любуясь тренированной силой своих мышц. Мое же сообщение заставило его забыть о конечностях, которые нелепо застыли в воздухе.
- Вчера на меня напали. Прямо на Проспекте Мира.
Илья вопрошающе смотрел на меня.
- Они разворачивались поперек встречного движения, и я не успел среагировать. Вот они и обиделись.
Ноги Ильи, дрогнув в воздухе, мягко спланировали на пол.
- Я уж думал...
- Да нет, просто случайные "братки". Только что на ногах и в носу золота не было. Пришлось разбираться.
Илья кисло сморщился и тут же захохотал:
- Не дай бог смотреть, как ты разбираешься! С органами правопорядка неприятностей не было?
- Да нет, я же при документах.
- А!.. Тогда ладно.
Он посмотрел в окно, сумеречно блестевшее дождевыми каплями.
- Не поймешь, дождь или воздух пропитан водой? Может, не поедешь? Асфальт мокрый.
- Это только в Москве. В Нижнем жара.
- Надо же! Вроде недалеко от Москвы, а какая разница: у нас серые будни, а у вас там река, солнце, пляж...
- Девочки, борделички... - в тон продолжил я.
Он рассмеяся.
- Что-то вроде того. Ну ладно, когда едешь?
- Прямо сейчас и еду.
- Слушай, может, отрядить кого в помощь? Зачем тебе одному ехать?
- У нас много свободных людей? - спросил я.
- Да, ты прав, конечно, - он потер переносицу большим пальцем.
- Ты был у Иры? - спросил он по понятной мне ассоциации.
- Был, - ответил я.
- Ну и как она?
- Плачет.
Илья осторожно взглянул на меня, поколебался, но спросил:
- Что ты думаешь о его смерти?
- То же, наверное, что и ты. Скорее всего предупреждение. Кирилл принципиально ничем этаким не занимался. Ты же знаешь.
- Его убили, чтобы предупредить тебя? Семьи нет, с этой стороны не зацепишься, так, что ли?
- Да, - подтвердил я, думая о Тане. - Семьи у меня нет.
И в этот момент волна злобной ненависти поднялась в душе...
Еще через полчаса я, наконец, выехал.
И вот что интересно. Даже в пределах Москвы смутное чувство... опасности?.. нет, возможно, присутствия рядом со мной другого?.. или других? - не отпускало. Однако все было так зыбко, а машин так много...
Некоторое время, скорее для очистки совести, я отмечал следовавшие в моем направлении тачки. Один вишневый "Рено" шел за мной аж десять минут. Но потом сгинул. Чуть больше наблюдал белый "Опель". А желтое такси "Волжанка" застилало мне спокойный вид минут двадцать.
Незаметно даже проснулся азарт - преследования? бегства? - разница небольшая. И хотя я понимал, что больше забавляюсь игрой, события последних дней оставляли место озабоченности.
Все это глупость, однако.
По выезде из Москвы я, где возможно, гнал со скоростью сто - сто двадцать и, опьянение скоростью, да и дорогой, конечно, скоро выдуло может, сквозняком, поверх приоткрытого бокового стекла? - мои подозрения; как после оказалось - напрасно.
А пока я ехал все дальше и дальше от Москвы, и все ближе и ближе к цели: Нижнему Новгороду, Тане и, конечно, Семенову Юрию Леонидовичу, Ленчику, моим усопшим, а также и живым приятелям.
Незаметно улучшилась погода. Влажный сырой воздух, покрывший матовой патиной лобовое стекло (я включал дворник и хмуро вглядывался в ленту шоссе), сменился устойчивой облачной дымкой, а затем выглянуло солнце раз, другой, - и уже прочно засияло где-то над головой.
К двум часам дня я проголодался и, как часто бывает в нашем мире, где причины и следствия, смешиваясь, идут рука об руку, скоро увидел придорожный ресторан, возле которого на асфальтированной плащадке стояло два трейлера и какие-то легковушки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся белым "Фордом", "Опелем", "Волгой" и синим "Запорожцем". Я по ранжиру припарковался с иномарковской стороны, проверил бумажник в кармане, вышел и запер дверцу.
Ресторан был дешевенько обновлен обжаренными паяльной лампой досками, а также железными светильниками на цепях. На резных столиках, занимая весь небольшой зал (по возможности соблюдая интервал между соседями), сидело человек десять-двенадцать.
Я подошел к стойке бара. Упитанная молодая барменша оценивающе взвесила меня взглядом и подобрела, осветив лицо милой простой улыбкой.
- Пиво? Или что покрепче?
- Я, крошка, за рулем.
- А!.. - беззаботно протянула она. - Сейчас многие за рулем не стесняются выпивать.
- А потом в сводки дорожных происшествий попадают.
- А вы осторожный.
- Битый, просто битый, - ухмыльнулся я и осмотрелся. - Чем, однако, угощают в вашем приятном заведении?
Женщина протянула меню, отпечатанное под обязательную синюю копирку, и я стал прилежно изучать листок.
Пока барменша передавала мой заказ невидимым поварятам, я взял бутылку "Пепси" и сел за столик у окна. Мне был виден мой "Мерседес", что было удобно.
В зале было жарко. Пол грязноват. Раньше - типовая придорожная столовая, а теперь, в новой ипостаси, заведение маскировало длинную железную стойку выдачи полупрозрачной кисеей, лениво колышащейся от легкого сквозняка. За соседним сдвоенным столиком сидело четверо мужчин, конечно, водителей грузовиков.
Еще одна группка словно сошла с карикатуры, высмеивающей бюргерскую жизнь: семейство из четырех человек чисто немецкого облика. Мне стало смешно, потому что при взгляде на одинаково толстых, - упруго толстых! отца семейства, жену и двух киндеров (все четверо в шортах и цветных рубашках) всплыл риторически-бесполезный вопрос: журнальный ли образец служит эталоном для подобного воплощения, или в природе некоторых людей уже заложен некий образ, при наличии средств немедленно материализующийся? Ноги из штанин шорт выползали толстенькие, крепенькие и даже у малых отпрысков одинаково целлюлитные.
Барменша, она же официантка, принесла мне на подносе тарелку борща, салат и на второе - мясо в обрамлении пюре с ложкой топленого сливочного масла в картофельном центре. К моему столу, высоко подняв хвост, неторопливо подошел черный с белыми пятнами кот и потерся о мою ногу.
- С утра ведь жрет, а все мало, - с любовью в голосе сказала барменша, а кот хрипло мяукнул в ответ.
От горячего борща, от вполне приличного мяса, запитого советским компотом из сухофруктов, я расслабился. Хотелось смирно сидеть, беседовать с барменшей, наблюдать за котом, уже спавшим на стуле рядом со мной. В проем распахнутой двери вливался яркий свет; пятнистые летние тени на столах и полу, куда забиралось солнце, - и где поблескивал лакированный козырек голливудской шапочки на голове толстого русского бюргера.
Мимо ресторана, по шоссе медленно проследовала вереница джипов. Последний, ярко-фиолетового цвета, шустро вильнув, оказался на стоянке, и из бокового открытого окна водитель - молодой мордастый парень, - рассеянно оглядевшись, вдруг встретился глазами со мной. Секунду, с легким уверенным вызовом, характерным для определенного сорта перестроечной братвы середины и конца девяностых годов, он смотрел на меня, потом отвел взгляд. Джип взревел, сорвался с места и присоединился к кавалькаде, вскоре исчезнувшей вдали.
Я взглянул на часы: половина четвертого. Настроение внезапно омрачилось, словно солнце за стеклами ресторанных окон, на которое наползла толстая тучка, за руку тянувшая вслед за собой ещё более сизую подружку.
Я подозвал барменшу и расплатился. Она улыбнулась мне уже отстраненно, и тронула кота за дернувшееся ухо:
- Пойдем, Васька, чем-нибудь угощу.
Я прошел к машине, похлопал себя по карманам в надежде найти сигареты - все выкурил в дороге. Не идти же снова в ресторан. Сел и заглянул в бардачок. Илья, как и обещал, купил мне блок "Кэмел". Я вытащил пачку, закурил и тронул с места машину.
Что-то меня тревожило. А я привык доверять своей интуиции. Помню, впервые обратил внимание на собственное чутье ещё пацаном. Да, было мне лет десять, когда я открыл для себя возможность наесться без хлопот, отоварившись консервами и плоскими брикетами - масла, сыра, ветчины - в близрасположенном "Универсаме", незаметно рассовывая продукты по карманам. Потом этот самообслуживающийся разгул прикрыли, но некоторое время я мог сыто и сонно, как давешний кот, смотреть на мир. И однажды, зайдя очередной раз ради взимания продовольственной дани, заметил изменение атмосферы в светлом огромном зале магазина. Загнав голод в подполье, я потратил несколько минут, чтобы раскидать изъятые было продукты по местам, а у кассы на выходе был с воплями торжества захвачен в плен.
Конечно, возмущенные бабы ничего не нашли, но я был, помнится, поражен яростью, обращенной на меня, ребенка. Я это запомнил и обмозговал уже потом.
Поймав меня с поличным, продавщицы отправили бы меня в колонию на пару лет - это уж точно, я специально интересовался. Я знал, что если каждую из этих женщин в спокойной обстановке поставить перед выбором: колония для ребенка или сумма, которую магазин потерял в результате моего желудочного разбоя, они бы предпочли заплатить сами. Но в тот момент ярость и желание придушить меня были написаны на каждом лице.
Подлая жизнь, заставившая меня воровать еду. И подлая тупость людей, спрятавших за букву закона собственную совесть!
Навстречу мне проехали два джипа, похожие на те, что недавно тормозили у ресторана.
По сторонам дороги густо стоял лес. Ельник. Как это говорится: "В березовом лесу веселиться, в сосновом - молиться, а в еловом - удавиться".
Еще одно - уже в полнеба - облако занавесило солнце. Почти исчезли встречные машины. Я взглянул в зеркало заднего вида. Нет, все нормально растянутая цепочка грузовиков и легковушек.
За поворотом, на асфальтовом остановочном пятачке - три джипа с синими мигалками на спинах. Двое милиционеров в бронежилетах под форменными кителями и автоматами на перевязи, жезлом останавливали меня.
Я притормозил. Важно помахивая полосатыми жезлами, гэбэдэдэшники неторопливо двинулись ко мне. Придется отстегнуть сотню долларов.
- Документы! - отрывисто бросил самый толстый. Толстые в милиции более наглы и решительны. Им приходится мстить за унижения своей плоти. Это тянется с детства: дети почему-то презирают толстячков. А детские унижения активно участвуют в строительстве нашей личности.
Я протянул водительские права. Милиционер неторопливо изучал их. Второй локтем облокотился на крышу моей машины рядом с передней дверцей.
- Ну что же вы, Иван Михайлович, превышаете скорость?
- Плачу штраф, - сказал я, не желая исполнять последовательность канонизируемой роли нарушителя.
- Уплатите штраф, а потом вновь будете нарушать? - ворчливо заметил толстый.
Мне казалось - со скуки ли, по другим причинам? - но он тянет время.
- Я тороплюсь, шеф, - примирительно сказал я. - У меня только сто долларов.
- Что же, - согласился милиционер и посмотрел на шоссе. Я услышал шум подъезжающих машин и посмотрел в зеркало: это были два джипа, недавно встреченные мною. Я тут же попытался вырвать права: правая рука тянулась к ключам зажигания, левая - к правам. Я опоздал: в нос, в глаза, лицо брызнуло остро-холодное, и последнее, что я успел увидеть, прежде, чем погас день, - это вываливающийся из подъехавшего джипа вчерашний попорченный мною "браток" с белой марлевой повязкой на голове и бешено выкаченными глазами...
ГЛАВА 15
В МОГИЛЕ
...Глаза мои ослепли и уши, забитые толстой ватой, оглохли, словно никогда не слышали, словно бы я оказался под водой, глубоко-глубоко, там, где давление бездны продавливала барабанные перепонки за их полной ненадобностью. И если бы не пыль, нет, запах пыли и тлена, я бы поверил, что дышу, будто давний утопленник, водой и смертью.
Сознание, опутанное беспамятством или сном (сном беспамятства!) сетью самосохранения, преграждало путь мыслям-рыбам; только редкие и скользкие упруго просачивались, всплеском своего появления вызывая вопросы: где? что? а еще: почему? и - неужели?..
А потом я вдруг ощутил, как болит мое избитое тело: кости, мышцы, внутренности... Лицо, распухшее так, что не нужно рук и пальцев, чтобы ощупью убедиться, - стоит прищуриться, и все отдается болью...
Кто так поработал надо мной? Неужели тот "браток", которому я оторвал ухо? Пять джипов, милицейская форма, автоматы, долгое преследование от Москвы - и все ради того, чтобы оплатить счет за утерю куска (пусть и собственного) мяса!
Почему я жив, если это так? И где я?
Медленно-медленно, чтобы в случае чего не рухнуть в ещё более глубокую трясину, трясину отчаяния, я вытянул руку перед собой. Уже сантиметров через пятьдесят пальцы наткнулись на шершавый потолок. Я ощупал - камень, может быть, бетон... И чуть не соскользнул в трясину, которой только что так боялся. С большим трудом я взял себя в руки и, с все более яснеющим сознанием, попытался изучить пространство вокруг себя.
Какое счастье! Это не был... Конечно, руки свободно раскинулись в стороны, прежде, чем наткнулись на стены... Все что угодно, но не то, что теперь кажется смешным. Какой, к черту, гроб, когда каменных гробов не делают.
Я несмело крикнул, попробовал позвать тюремщиков, может быть, даже одноухого. Слышать человеческий голос приятно даже в аду. Хотя здесь не ад, не могила, даже не гроб - просто каменный мешок, где я оставлен на хранение, пока за мной не придут.
Я вытянул руки вперед и изо всех сил попытался сдвинуть каменную крышку. Руки чуть не лопнули, чуть не хрустнули кости... что-то заболело в спине... я не смог ничего сдвинуть ни на миллиметр, ни на толщинуволоса!..
...Я обессиленно откинулся на своем ледяном каменном ложе. Вспомнил, как только что, потеряв власть над собой, охал, бормотал что-то, взмахивал руками, как те, кто сопротивляются во сне неведомой силе, которая хватает их, тащит куда-то...
Холодно, как же холодно! Я осознал, что лежу совершенно голым. Прежде, чем бросить меня сюда, они сняли всю одежду. Даже саван не надели, подумал я и обрадовался тому, что, впервые высказав страшное предположение, принял его спокойно. Все то дерьмо, что аккумулировалось во мне несколько дней: наркотик, влитый Семеновым, та дрянь, которую использовали стражи порядка на джипах - медленно покидало мое тело, позволяя сознанию начать трезво и хладнокровно оценивать ситуацию.
Я обрадовался. Главное, перейти барьер. Даже смерть не страшна, когда она неизбежна. Пусть будет так, как будет, и лучше я ошибусь, чем, обманывая себя надеждой, погибать много раз.
Итак, меня уложили в каменный мешок, и что-то зыбкое, интуитивное подсказывало мне, что это не банальное, лишенное творческой фантазии построение из бетона. Запах ли?.. Остаточное ли ощущение в кончиках пальцев?.. Мне казалось, я укрыт шершавым гранитом. И это навевало мысль о кладбищах, склепах, отпевании...
Не буду об этом.
Я решил передохнуть, подумав о другом. О чем? Конечно, о событиях последней недели, сунувших меня в этот склеп. Теперь я многое стал понимать, кусочки головоломки незаметно стали складываться в более-менее ясную картину. Ну а по порядку...
Я вспомнил: солнечное марево, встретившее меня на аэродроме, когда я прилетел из Москвы; мои слепые блуждания, когда я шагал по пыли собственного незнания, по слепящей пыли тех солнечных дней, во власти страха перед прошлым, - прошлым, детством и неведомым ужасным братцем, каким-то образом выдернувшим из моих рук обретенную Таню.
Нет ничего более живого, чем призраки, в которые начинаешь верить!
Я стап вспоминать все то, что узнал в наркотическом полубреду, в том кабаке, затем в бане, в гостях у Лома... Итак, Семенов Юрий Леонидович явился в Нижний Новгород, где нанял моих детских приятелей для какой-то работы, которая, по словам этого лощеного мафиози, может принести миллиарды долларов. Потом кто-то стал убивать нанятых им людей, а когда я начал толкаться среди этой дряни, Семен использовал Таню, накачал меня сверхсекретным наркотиком и отправил в Москву, чтобы меня вразумили на определенном уровне. Может быть, меня хотели вообще отделить, оставить в Москве, и нынешнее возвращение в Нижний заставило Семена (а может, кого покруче?) затолкать меня в этот каменный гроб?
Но разве я могу быть кому-то так опасен, чтобы предпринимать столько усилий? Или, может, мое нахождение здесь результат идиотской случайности дорожное столкновение с гипертрофированным самоуважением мелкого бандита, которого я лишил украшения на голове?
Не знаю. В любом случае этот одноухий - мелочь, которую не стоит принимать во внимание. Пока главное - Семенов Юрий Леонидович, и когда я доберусь до Нижнего Новгорода, мне придется заняться им вплотную. А также семейкой моего отца, у которого был сынок моих лет, может, чуть старше, насколько я помню. Я его никогда не видел, но, возможно, это и был Лютый, с моим приездом испытавший рецидив своего кровавого извращения. Но почему? В чем причина? И почему меня включили в систему этих нечеловеческих забав? Может быть, это все из-за деяний юности?..
Когда же я наконец смогу оторваться от всего, стать независимым человеком? Почему я вынужден всю сознательную жизнь существовать среди волков?
Ладно детство, где зыбкое самосознание подчинено простейшим приказам: есть, когда голодно, бить, когда бьют тебя, бежать, когда противник сильнее. И самому быть зверем, чтобы оградить свое ничего ещё в жизни не понимающее "я" от неистощимого насилия, коим богато наше равнодушное, лишь силу и признающее, Богом возлюбленное отечество!
Покинув дом родной, я думал: вот жизнь начинается! Здесь все ясно, чисто, понятно. Армия, училище, война - и Золотая Звезда Героя России, торжественно ввинчиненная в мою судьбу. Я думал... а были трупы, трупы и трупы. Я думал, что стал героем во славу России, всего того, к чему я повернулся лицом после грязного помойного, насыщенного карканьем воронья детства. Я думал...
Оказалось, такие, как я - лишь прикрытие для Ленчиков, Семеновых и Абдурашидовичей, сообща пополняющих счета в зарубежных банках под энтузиазм и быстрые подвиги дураков вроде меня.
Когда же что-нибудь изменится?! Когда же?!.
И вдруг мои мысли смешались, озарились вспыхнувшим пониманием: я лежу в каменном гробу - ловушке, из которой мне уже не выйти. И весь холодный поток моего сознания вскипел от жара, от ужаса, который столько времени я успешно загонял в самые глубины сознания. Каменная клеть, уменьшившись, сжала меня, надавила на грудь, стало трудно дышать, и нечеловеческое отчаяние бесконтрольно, стихийно разлилось, задушило... Вцепившись руками в то, что было когда-то моим телом, словно борясь с самим собой, я подтянул колени к груди, уперся в крышку-потолок и через короткое мгновение обмяк под тяжестью век, как под действием очередной дозы наркотика. Но беспамятство не было полным; я чувствовал, как тяжело дышать от недостатка воздуха, и руки беспокойно двигались вверх-вниз по телу; ноги - по очереди и вместе - все ещё упирались коленями в потолок, кончики пальцев лихорадочно щупали горло, чтобы вырвать из него огонь, который жег нутро; и в полузабытьи я начал, как рыба, выброшенная на песок, ловить ртом воздух, лизать холодный воздух сухим языком; хотелось кричать. И уже совсем очнувшись от беспамятства, но ещё не придя в себя от горячки, я стал кричать, напрягаясь изо всех сил - сильно-сильно! - чтобы услышали. Камень глушил крики. Я бил кулаками в стену, давил коленями, испускал вопли, превратившиеся скоро в сплошной вой... Воздуха, воды, света, неба, звезд!..
ГЛАВА 16
МЕРТВАЯ ЛЕСТНИЦА НА СВОБОДУ
Вновь меня обняла тишина, и по расслабленным рукам и ногам, раскинутым по сторонам света, я понял, что лежал без сознания. Что же сделало меня таким слабым: наркотики, впервые усвоенные моим организмом, мое положение живого трупа, или все в совокупности играет злую шутку надо мной?..
Я знаю, давно, Ярослав Мудрый заточил последнего из своих братьев просто так, ради спокойствия власти, - в каменный сидячий мешок. На двадцать с чем-то лет. На всю жизнь, конечно.
А сколько я нахожусь здесь? Несколько часов, недель, месяцев, может, лет? Человек должен жить на свету; подземелье делает из него животное. Я животное, выросшее в подземелье сна и завершившее, наконец, судьбоносный круг, попав живым в могилу.
Я горько рассмеялся: герои и бандиты живут ярко, но недолго.
И что же - это все?
Ну нет! Кто это... словно бы голос Тани. Горюя о себе, я забыл о ней и сейчас, вдруг, она оказалась рядом... зеленые глаза... и вкус её речи, вкус её губ, вкус её кожи... Ее тело, - словно скрипка, перетянутая в талии и которую, - не дай бог! - кто-то может терзать смычком... О-о-о, нет! Замерев, я плыл вместе с ней по волнам синего-синего, неведомого моря, в облаках, в тумане, в музыке...
И я ощутил Таню рядом с собой, в соприкосновении, жарком и жадном, чувствовал её, слышал, гладил пальцами, прижимал к своим ребрам, трепетавшим, как ресницы влажных глаз...
И вдруг - её ли образ, или желание жить, восставшее вместе с ней? возродилось это зыбкое ощущение, почти исчезнувшее в момент возникновения... Когда это было? И что?.. Я только чувствовал, что все неспроста - и мое отчаяние, моя жажда жизни, Танин сладостный образ, так несвоевременно измучивший меня - все это, конечно, неспроста, все имело цель...
И медленно-медленно, легкое, словно пламя свечи, возникло и окрепло это ощущение, схваченное в момент приступа отчаяния, когда я изо всех сил стремился расколоть камень коленями... конечно, едва заметное, но ясное, безошибочно уловленное и едва не забытое сразу же!..
О, какое горе! Нет, счастье!
Горе, что чуть-чуть не забыл, счастье, что я почувствовал, как от моих усилий чуть-чуть, едва заметно, сдвинулась плита надо мной!!
И уверившись, я уже не торопился. Я собрал силы, концентрируя энергию в коленях, в тех точках, которые должны будут упереться в камень... Я помогал и руками, и в тот момент, когда вновь уловил легкий скрежет и массивное сотрясение гранита, я уже мог думать и о другом, потому что поверить в реальность, в возможность освобождения, значит, уже стать свободным.
Я решил, что плита весит гораздо более полутонны, потому что на тренировках, смеясь над западными рекордсменами, одними руками, лежа, выжимал больше трехсот килограмм, а сейчас, с помощью коленей, мои усилия несоизмеримы... Я думал, что когда я выберусь, я постараюсь удавить всех, кто заставил меня несколько раз умирать в этой яме, я думал также о солнце, о луне, о свете дня и дивном прозрачном свете ночи... А между тем, раз уступив, плита все сдвигалась и сдвигалась и, наконец, наступил миг, когда, отдыхая, я смог ощупью соразмерить толщину своего тела и ширину щели...
Я выбрался и сразу сел. Какое счастье, оказывается, просто сидеть, когда только что был лишен этого! И какое счастье видеть! Я мог видеть! Высоко-высоко, может, метрах в пяти-шести, голубым светлым мраком светилось окно. Я понял, сейчас ночь, и я, хоть и свободен, конечно, но все ещё в подземелье, хоть и расширившемся несоразмеримо.
Новые ощущения: я почувствовал страшный холод и сразу задрожал, едва не стуча зубами. Соскочив на пол с возвышенности, сидя на котором привыкал к свободе, я, выставив руки вперед, начал обследовать свой новый мир. Одна стена железная... нет, вся состояла из железных листов - сантиметров семьдесят - восемьдесят ширины и сантиметров пятьдесят высоты. К каждому листу крепилась ручка, за одну из которых я потянул. Со скрежетом и очень тяжело что-то стронулось, но на меня пахнуло таким холодом, что мой исследовательский зуд был мгновенно заморожен. Какие-то холодильные камеры.
Еще стена - обычная. Железная дверь, глухо впаяна в стену, а рядом, совершенно случайно и нежданно, нащупал обычный настенный выключатель. Я тут же нажал на клавишу и мгновенно зажмурился: яркий свет буквально ослепил, сумев, однако, выжечь на внутренностях век, контур большой, метров двадцать пять на пятнадцать, полупустой комнаты.
Через секунду-другую я осмотрелся по-настоящему. Два железных стола в центре. Стена с рядами встроенных шкафов, которые я уже ощупывал, зарешеченное окошко, действительно, очень высоко расположенное, и за прутьями которой чернела ночь. Был ещё маленький конторский стол, стул и вешалка с гроздью белых брезентовых фартуков, довольно грязных, однако.
Ах да, посередине, как памятник временам забытым, когда и строили эту часть монастырско-крепостного сооружения, виднелся, со сбитой набок крышкой, квадратный колодец, из которого я смог-таки выбраться.
В общем, ничего хорошего. И уже зная, где нахожусь, я, дабы проверить, подошел к стенному холодильному стеллажу и вырвал первый, в руки попавшийся ящик.
Разумеется. Вместе с холодом в лицо мне уставились синие ступни босых ног с биркой на большом пальце, где я и прочел: Коршунова Ольга Александровна, 1930 года рождения.
Морг. Небольшой уютный морг, конечно, мало посещаемый посторонними, и где можно надежно спрятать тело. В данном случае - мое.
Я задвинул ящик. Ощущение эйфории от освобождения ушло и сменилось другим: я продолжал дрожать, как осиновый лист на ветру, а единственной одеждой в поле моего зрения были фартуки. Один из них - более чистый и без подозрительных бурых пятен, - я надел.
Вид ещё тот, но ничего, сойдет. Я захохотал гулко и громко. Главное, не поворачиваться задом.
В столе были какие-то полубухгалтерские тетради. Видимо, учета-приема тел. Еще - чашки и засохший пряник, который я немедленно стал грызть.
Оба железных стола оказались привинченными к полу. Железная дверь монолитно встретила мой толчок. Кстати, замочной скважины не обнаружилось. Видимо, запиралась дверь с той стороны на засов. Наверное, чтобы обитатели не разбежались. Впрочем, не смешно; одному из обитателей требовалось как раз убежать.
Если бы поставить столы один на другой, то можно было бы выбраться через окно. Предварительно взломав решетку. Но они привинчены.
Я догрыз пряник. Заглянул ещё раз в стол, но там ничего больше не было.
Оба разделочных стола, как и дверь, держались монолитно. Раньше строили хорошо.
И что делать? Выбираться все же надо.
Я подтащил конторский стол к стене под окном. Поставил на попа. Ну и что? Еще метра три-четыре.
Медленно обозрел помещение. Наткнулся взглядом на холодильные камеры. Конечно, чего я думаю: ящики!
Я потянул один - пустой. Выдвинул до конца. Что-то в конце держало. Я рванул раз, другой. Остервенело дергал, пока не убедился в прочности системы. Даже согрелся от всей этой физкультуры.
Вдруг меня осенило. Надо же - идиот! Мыслитель!..
Быстро заглядывал в боксы, пересчитывая тела. Семь покойников.
Ну, за дело.
Начал я с Ольги Александровны, женщины упитанной и потому устойчивой. Из-за морозной окаменелости пирамида строилась легко, так что можно было цеплять оттопыренные руки-ноги друг за дружку.
Не прошло и четверти часа, как я мог с удовлетворением обозреть плоды рук своих.
Н-да! Впрочем, видел и не то. Пора.
Я полез. Наверху мною был приспособлен Михаил Александрович Потанин (я посмотрел на бирку у большого пальца), и его руки были загнуты словно ступеньки. Я встал на них. От моей лестницы шел буквально мертвый холод.
Решетка. Я взялся руками. Никто не заглядывал сюда многие годы. От мощного рывка чуть сам не сорвался. Сыпались обломки гнилых кирпичей. Со второго, уже осторожного рывка, решетка легко вылезла. Я отбросил её в сторону и полез в окно.
Уже пролез и, напоследок, вися с той стороны, задержался взглядом за покинутое, так сказать, поле битвы. Я ведь, действительно, боролся здесь за свою жизнь. И однако же, подумал я, ухмыльнувшись, не завидую тому, кто завтра первым войдет сюда. Словно бы, вырвавшись из тюрьмы своих холодильных камер, мертвецы решили сбежать обратно в мир.
Жуткое зрелище!
Я оттолкнулся. Как и предполагал, с внешней стороны было метра три.
Как ни мало света исходило из окна, мне было достаточно: глаза, столь долго привыкавшие к мраку, сразу выхватили из темноты лакированный отблеск и тут же - контуры машины.
К моему безграничному удивлению это был мой "Мерседес". Я рванул дверцу и плюхнулся на сиденье. Даже ключи в гнезде зажигания. Я приоткрыл дверцу, чтобы оглядеть салон. Ничего - ни одежды, ничего. Потянулся к бардачку и увидел на ветровом стекле что-то большое и темное и... я моргнул: сверкнула очень ярко моя фамилия.
Вышел из машины. На ветровом стекле лежал похоронный венок с траурной лентой. Я содрал её и, словно ленту с телетайпа, медленно просмотрел. Там было: "На добрую память Ивану Михайловичу Фролову. Спи спокойно, энергичный ты наш".
Я ухмыльнулся. Медленно надвигался запах - запахло гнилыми овощами. Уже знал, что ждать. Поднял голову. На деревьях и темном здании морга зашевелилась и тут же громко завопили вороны. Я захохотал, как и давеча, при освобождении из-под плиты.
Вот ужо будет вам вечная память!
Значит, они все-таки похоронили меня. Живьем. Или собирались ещё как-нибудь поэффектнее завершить мое захоронение. Потому и не пристрелили. Я бы таких ошибок себе не позволил.
Сел в машину, завел мотор и, отжимая сцепление, дал газ. Фары осветили аллею. А дальше, за поворотом, светился коридорными голубоватыми ночниками главный корпус больничного здания. Я узнал. Это была пригородная нижегородская больница, ещё до моего рождения обжившаяся в старом монастыре. А вот в этот миленький морг с трепетом мечтал попасть в пору приключенческого детства. Конечно, не в буквальном смысле, а так, посмотреть, что да как.
Меня, значит, привезли сюда. За мной охотились, мне организовали приемные покои, для меня заранее заказали венок... И после всего этого я должен поверить в импровизацию одноухого бандита?!
В общем, временами не видел дороги от черной злобы. И все-таки удивляла живучесть человеческая. В данном случае - собственная. Совсем недавно сходил с ума, задыхаясь под крышкой каменного гроба, и вот уже мчусь в ночи, полный охотничьего азарта.
И, боже мой! - какое я испытывал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на тихий рокот мотора, на запах этой блестевшей встречными фарами ночи! Голова у меня была прозрачна после всех приключений последних суток; я впитывал все: гул только что взлетевшего с ближайшего аэродрома низко летящего самолета, обсыпанного ярко пульсирующими сигнальными огоньками, и мирную обыденность придорожной заправочной, возле которой остановился гаишный "жигуленок", и милиционер, почти влезший в окошко, задом целившийся в бегом проскакивающие машины, и огромную рекламу моих любимых сигарет "Кэмел" - смуглый красавец, устало закуривавший сигарету, печально грустит по поводу безвременной кончины своей фотомодели, не так давно почившей от рака легких.
Меня это не волнует - смерть, мерзко хихикая, грозит мне сухим пальчиком со времен далекого отрочества. Хватило бы сил жить. Я чувствую безмерную усталость и рад городскому оживлению за стеклами машины.
На дорожных часах мелькнуло - двенадцать сорок пять. Я хотел спать (приключенческий рецидив!), веки тяжело налились и надо было делать усилие, чтобы держать глаза открытыми.
И как же вдруг заныли избитые кости!
Я остановил машину, заглушил мотор и, выйдя, запер дверцу.
Лишь поднимаясь в подъезде по лестнице, я осознал, что приехал домой к Тане, а ещё через пролет подумал, что у меня нет ключей. Это меня не остановило, потому что уже плохо мог связать одно и другое, причину и следствие... На третьем, кажется, этаже из вздрогнувших, а потом открывшихся все же дверей, вышли какие-то компактные старичок со старухой и оцепенели, а когда я мимо них уже поднимался по лестнице выше, то оглянулся, и это почему-то вообще привело уставившихся мне в спину супругов в состояние ступора. А у Таниной двери тупо оглядел себя в поисках ключей, не нашел и, ещё не придумав, что делать, нажал на кропку звонка.
И вот такого, тупого от усталости, избитого, заросшего, прикрывшего чресла грязным фартуком - чудовище! - и увидела меня Таня, быстро открывшая дверь.
И все. Больше не о чем говорить. Я вернулся домой.
ГЛАВА 17
САТАНИНСКОЕ ОТРОДЬЕ
Утро. Я просыпаюсь в чистой постели, сам чистый и благоухающий. Потянулся; с хрустом суставов со всех сторон отозвалась глухая боль. Все же чувствовал себя отдохнувшим, а боль была уже так, чепуха, остаточный синдром.
Из приоткрытой двери тянуло запахом кофе, яичницы,.. нет, жареной ветчины, как показалось. По потолку, быстрыми кругами, с ускорением, ползали две мухи, словно паровозики на кольцевых маршрутах игрушечной железной дороги, которые вот-вот должны столкнуться, но - симафор ли? замаскированная простота программы? - все обходилось благополучно, петли маршрута завершены и вновь, как и сейчас для этих двух мух на потолке, можно идти на новые виражи.
Немного озабоченная, заглянула Таня, но, увидев меня бодрствующего, расцвела улыбкой.
- Как ты себя чувствуешь? - спросила она и, не дожидаясь моего ответа, продолжала: - Я могу завтрак тебе принести в постель, если хочешь. Как ты? Тебе лучше?
Я ухмыльнулся.
- В постели предпочел бы другое.
Она погрозила мне пальчиком.
- Вижу, начинаешь приходить в себя. А вчера... - она покачала головой. - Как ты смог доехать в таком виде?
- Да, вид у меня был ещё тот, - задумчиво проговорил я, пытаясь представить себя вчерашнего. - Этот фартук!..
- Да нет, - поправила меня Таня, - ты сам был еле живой.
Я вспомнил, как действительно брел вчера за ней в ванну. Как, усадив меня на табурет, она наливала воды... Наверное, доехав к ней, я совсем сломался, раз позволил ей все делать за себя. Лишь сидел, как истукан, шевелясь по её требованию: встань! скинь этот ужасный фартук! лезь в воду!
В ванне, лежа в горячей воде, потихоньку пришел в себя, с трудом намылился. Таня, едва не плача - все-таки она была рядом! - помогала мне встать и, завернувшись в простыню, добрести до постели...
- Слушай, напарница! Надо что-то делать с моей одеждой. - Этими словами я дал ей понять, что готов действовать.
- Конечно, надо. Не пойдешь же ты голый. Но сначала придется тебе поесть.
- Это уж первым делом.
Я сел на постели и приказал.
- Отвернись! Мне надо встать.
Она хихикнула.
- Посмотрел бы ты на себя вчера.
- Не хочу ничего знать! - свирепо рявкнул я, обертываясь простыней.
Она вновь хихикнула.
- Ладно, древний грек, пошли.
Я угадал: яичница с ветчиной. А ещё помидоры и кофе, и сыр, масло, булочки!.. Таня деликатно ковырялась в своей тарелке, а я поглощал... пока не съел все.
Откинувшись на стуле, я умильно посмотрел на Таню.
- Молодец, Танюха-стряпуха.
- Это что-то новенькое, - улыбнулась она. - До этого была только одна приставуха.
- Еще не то услышишь, - пообещал я и потянулся к телефону, тут же настраиваясь на работу.
Я набрал номер домашнего телефона Ильи. Взяла трубку его жена.
- Наташа! Это Иван. Будь добра, позови Илью.
И скоро услышал его бодрый утренний голос.
- Привет, Иван! Я так и думал, что ты скоро позвонишь. Вчера, наверное, много дел было, раз контрольный звонок не сделал.
- Да, было много, - согласился я. - Чересчур много. У меня тут дело к тебе. Позвони в банк, только лучше Эдику в филиал. Пусть он перешлет мне часам к десяти сюда в Нижний Новгород тысяч десять. Конечно, долларов. Да, в здешний филиал "Бета-банка". Я тут, понимаешь, вчера растерял свои сбережения. Даже одеться не во что.
Таня тихонько засмеялась.
- Да, - вспомнил я. - Скажи Эдику, чтобы предупредил "Бета-банк", что деньги заберет доверенное лицо. Записываешь? Соколова Татьяна...
- Андреевна, - подсказала Таня.
- Андреевна, - продиктовал я. - И очень срочно.
- Что у тебя там опять произошло? - встревоженно спросил Илья. - По телефону можешь?
- Лучше потом, при встрече. И не забудь предупредить Эдика о доверенном лице. Я сейчас не могу пока выйти на свет божий.
- У тебя правда все нормально? - спросил Илья.
- В пределах, в пределах. Так ты не забудь.
- Хорошо, предупрежу.
- Ну и прекрасно. Давай, я жду.
Я положил трубку. Таня засмеялась, уже не сдерживаясь.
- И почему это ты не можешь выйти?
Я погрозил ей пальцем и ухмыльнулся.
- Тебе придется сегодня не только получить деньги, но ещё зайти купить мне шмотки. Ну что, доверенное лицо, можно тебе доверить покупку одежды для мужика?
- Не знаю, не пробовала, - ответила она и вдруг погрустнела.
- Что-нибудь случилось? - спросил я. - Мы ведь так и не рассказали друг другу, что с нами произошло. С кого начнем: с тебя или меня?
- С тебя, - тихо сказала Таня.
И мне не понравилось изменение её настроения, но решил не распрашивать: надо будет - скажет.
Я же бодро начал свой рассказ, однако был тут же остановлен.
- Наркотик? Так вот оно что!.. Ты говоришь, что нас накачали наркотиками?
- Конечно. Я даже заехал на Лубянку, чтобы сделать анализ крови.
- Ну и?..
- Однозначно положительная реакция. Наркотик из новых американских разработок. Можно сказать, нам с тобой повезло испытать на себе сверхсекретную наработку бывших врагов.
- Так вот почему... - сказала она и замолчала.
- Что "почему"? - спросил я.
- Нет, ничего, продолжай, - попросила Таня.
Я стал рассказывать о том диком сумбуре, в котором пребывал весь вечер в ресторане. Не только вечер, всю ночь. Как нашел себя в Москве. Рассказал о посещении "Белого дома", о предупреждении отойти от нижегородских дел и желании отправить меня на отдых.
- Правда было бы здорово? Сейчас получили бы деньги и махнули бы в Майами, или на Канары. Большие, как дом, волны, серфинг, солнце...
- Ты словно бы меня соблазняешь?
- А ты согласилась бы?
- Когда? Сейчас?
- Ну, может, чуть попозже?
- А вот попозже и соблазняй, - безнадежно махнула она рукой.
- Я ловлю на слове. Однако слушай дальше.
Я продолжал рассказывать о своих свежих ещё похождениях так, как привык это делать всегда: несколько отстраненно и с насмешкой, присутствующей и в словах, и в тоне, но Таня слушала меня так внимательно и с таким, постоянно меняющимся вместе с рассказом лицом, что я незаметно увлекся сам, переживая вместе с ней все то, что случилось со мной. Мне было странно, что она понимала и принимала всерьез не только то, на что я обращал её внимание, но и на вещи, которые я, так до конца и не осознав, старался опускать. Так, неожиданно её заинтересовало упоминание о воронах, последние дни преследующих меня. Я рассказывал:
- Мне, знаешь, везет на ворон. Я уж думаю, не следить ли их за мной приставили; такие, знаешь, маленькие телекамеры на грудь - и лети. Чуть что происходит, так они сразу тут, как тут...
Я замялся, потому что вспомнил свою реакцию при встрече с этими птицами.
- Ты, верно, не все рассказываешь, все это не может быть просто, сказала Таня и помолчала, - совпадением.
И странно, это её замечание впервые заставило меня всерьез обратить внимание на эти, как мне казалось, казусы. Как говорят: если видишь птицу, похожую на утку, которая крякает, как утка, и ходит, как утка, и летает, как утка, то скорее всего перед тобой утка.
Но я не стал акцентировать свое внимание на этих идиотских... конечно, совпадениях, тем более что и кроме ворон было в моем рассказе много... занимательного. Особенно, что касалось морга и обстоятельств моего освобождения.
- Ты из этих покойников сделал лестницу?! - с дрожью в голосе спросила Таня, и я тут же вновь ощутил страшное дыхание потустороннего морозца, исходящего от твердокаменных ледяных фигур.
Однако, рассказывая, я невольно упорядочивал события, находя в них смысл, который из-за быстрой смены впечатлений ранее ускользал. И кое-что откладывалось в голове, я начинал - ещё очень смутно - видеть (или думал, что вижу) общую картину преступлений. А главное, мне было просто приятно наблюдать, как слушала меня Таня: не упуская ни слова, ни взгляда, ни жеста.
Я уже закончил рассказывать, но Таня продолжала смотреть на меня блестящими, расширившимися глазами. Мне было приятно, что там ни говори.
- Теперь твоя очередь, - сказал я и, словно задул огонек, освещавший её изнутри.
- Моя?.. Собственно, в отличие от тебя, у меня все не так интересно. Теперь, после того, как ты рассказал о наркотике, мне стало понятно все. А тогда - полный сумбур. Какие-то клочки воспоминаний, которым не хочется верить. Окончательно все прояснилось вчера вечером. Я проснулась в комнате, в которой меня держали с самого начала, с похищения. Я лежала на кровати. Одетая. Потом какая-то женщина принесла мне еду. Я поела. Потом вывели во двор, посадили в машину и довезли до дому. Я даже на работу не сообщила. Решила позвонить утром, хоть это и нарушениевсяких правил. А часа через три позвонил ты.
- Значит, тебя все время держали на "игле"?
- Нет, меня не кололи. А разве тебя кололи?
- Это я так выразился: игла, не игла, каким-то образом наркотик вводили. Я лично попал под его воздействие в ресторане или даже раньше. Да, скорее всего, как проснулся, уже что-то начало действовать. Я помню, было какое-то странное настроение ещё когда с этим парнишкой добирались до ресторана.
- С каким парнишкой?
- Павлом. Да, у него ещё кличка - Сатана. Сыном Лещихи.
- Да? Не знаю. Ну ладно, у меня тоже примерно тогда началось. Только ты вышел из этого состояния быстрее. Я только вчера вечером.
- Ну и ладно, - весело сказал я. - Теперь наша задача больше не попадаться и сохранять ясность духа и сознания. Пора, девочка, за работу.
ГЛАВА 18
В ОЖИДАНИИ ТАНИ
Я потянулся к телефону и набрал номер полковника.
- Полковник Сергеев слушает, - отозвалась трубка после второго гудка.
- Петр Леонидович! - сказал я и представился. - Это Фролов вас беспокоит.
- А-а-а! Иван Михайлович! Где же это вы запропастились? Мы уже беспокоиться начали.
- Петр Леонидович! Я бы хотел к вам сегодня приехать. Часам к двенадцати. Только сейчас я звоню по другому поводу. У меня к вам есть дело. Это касается филиала "Бета-банка", где вы, как говорили, председательствуете.
Таня, ещё некоторое время упорно смотрящая на меня, при упоминании "Бета-банка" отвела взгляд и вздохнула.
- Понимаете, Петр Леонидович, я оказался совсем без средств к существованию и, главное, без одежды. Нет, нет, в буквальном смысле. Конечно, конечно, подробнее доложу при встрече. Но сейчас я бы хотел получить свои деньги из вашего филиала. Вы же там можете поспособствовать. Я распорядился, чтобы могли выдать деньги доверенному лицу. Это будет лейтенант Соколова.
- Как Соколова! Она же, сами понимаете, находится в отсутствии. Мы вас ждали, поэтому не предпринимали никаких действий. Неужели сбежала?
- Нет, Петр Леонидович. Отпустили. Из-за меня, конечно. Мы к вам вместе явимся для доклада. Сейчас я, действительно, не могу выйти из дома. Так что позвоните в банк, пусть там пошевелятся. Если деньги ещё не пришли, то в течение часа должны быть обязательно.
- Ладно, позвоню. А сейчас вы что, не можете приехать? Хотя бы штаны имеются в наличии?
- Увы, Петр Леонидович, даже штанов нет.
- Хо-хо! Вы что, проигрались?
- Что-то вроде этого. Ну я на вас надеюсь, товарищ полковник. Так что ориентировочно до двенадцати.
Я положил трубку. Таня вошла уже одетая, подтянутая, готовая к выходу.
Я встал со стула.
- Значит, все поняла? Получишь баксы, зайдешь в магазин и купишь мне что-нибудь посвободнее - джинсы, рубашку. Костюм не надо, костюм сковывает. Можешь летний пиджак купить. А то пистолет негде будет носить. Да, пиджак купи.
- Послушай, у меня есть кое-какие деньги. Давай я прямо в магазин пойду, что-нибудь подберу.
- Крошка! - сказал я, ухмыльнувшись. - Посмотри на меня, похож я на мужика, живущего за счет своей девушки?
Она критически оглядела меня и наконец-то улыбнулась.
- Сам на себя посмотри, - сказала она. И добавила. - И следи, чтобы простыня не слетела.
Таня ушла. Начало десятого. В открытое окно залетал ветерок. День обещал быть жарким. Я заглянул в записную книжку Тани, предусмотрительно оставленную мне. Нашел номер телефона Константина. И служебный, и домашний. Позвонил на службу.
- Слушаю, - отозвался Ловкач.
- Это я, Иван, - представился я.
- Наконец-то. Я вчера ждал звонка. Почему не позвонил?
- Знаешь, очень поздно добрался.
- И где ты сейчас?
- У Татьяны. Ты в курсе, её вчера выпустили.
- Да ну? Когда же?
- Тоже поздно вечером. Вчера.
- Доложили?
- Конечно. Полковник в курсе. Мы у него скоро будем.
- Кстати, есть новости, - сообщил Константин.
- Надеюсь, хорошие, - предположил я.
- Как сказать, - услышал я его смешок. - Тут пришла оперативка с перечнем фамилий. Кроме того, наши городские ребята уже зафиксировали кое-кого из присланного списка. Новые гастролеры, так сказать. И главный среди них - Макаров Аркадий Николаевич. Кличка Макар. У нас город становится местом сходки "авторитетов".
- Кто такой этот Макар?
- Ты не знаешь?! Хотя, все забываю, что ты уже гражданский человек. Макар - это голова, контролирует Екатеринбург и область. Большой человек.
- Ладно. А что у вас-у нас имеется на такую важную персону, как Макар?
- Зря ты иронизируешь. Сам же лучше знаешь, какие возможности у этих людей. Нам, кстати, сообщили, что некоторое оживление в деятельности интересующих нас групп началось месяца три назад. Из Екатеринбурга эмиссары были направлены в Казань, а оттуда - уже казанские - в Екатеринбург. Мы знаем, что переговоры велись по поводу наркотиков. Но ни количества, ни что за товар так и не узнали. Известно только, что переговоры ни к чему не привели, но в выигрыше оказались казанские ребята. Шустрее оказались, как видно. А сейчас мы всех вновь видим вместе. Каково!
- Да, уже теплее. Можно сказать, горячо.
- У тебя есть соображения на сей счет? - тут же заинтересовался Костя.
- Кое-какие, - уклончиво ответил я.
- Может, просветишь?
- Будь спокоен. Когда что-нибудь узнаю точно, сразу сообщу.
- Ну давай, узнавай, - напутствовал меня Константин.
Я положил трубку. Посмотрел на часы. Почти десять. Таня либо получила перевод, либо - в процессе получения. Так или иначе, мне оставалось только ждать. Я зашел в ванную и, к приятному удивлению, обнаружил собственный "Жилетт" (лучше для мужчины - нет!), забытый вроде недавно. Побрился. Идя по следу, проложенному "Жилеттом", нашел свою туалетную воду, которую, следуя иностранным инструкциям для необразованных, употреблять следовало после бритья. Вышел на балкон. В доме напротив, на таком же балконе, копошилась какая-то старушка, при виде меня обомлевшая до ступора, из чего я заключил, что мужики в Таниной квартире долгое время не наблюдались.
Утро было ясное, с легкой прохладой в тени, рассекающей балкон на две неравные части, причем свет медленно побеждал. На солнце было уже жарко. Я зевнул и вернулся в комнату. Стол круглый и фанерный. Мебельная стенка, заработанная непосильным социалистическим трудом Таниных предков. Диван, не имеющий уже сил сдерживать седоков, потому распухающий в неожиданных местах. Бедность не порок, но ничего в ней хорошего нет.
В маломерной прихожей обе двери - в гостиную, где поселили меня, и та, где скрывалась на ночь Таня, - были рядом. Осторожно толкнув дверь, я вошел в её комнату и со странным чувством подростковой тайны долго смотрел на фотографию Лоуренса Оливье в роли Краса из фильма "Спартак", на тикающий будильник, старенький приемник-радиолу на ножках вблизи изголовья кровати, чтобы не вставая можно было включать музыку, на колготки, перекинутые через спинку стула и упругой памятью материала ещё помнящие Танино тело.
Я отыскал пачку сигарет, одну из расбросанных мной в первое посещение. Новая. Разодрав целлофан, пошел на кухню и сел в кресло. Закурил. Посмотрел на часы: двадцать две минуты одиннадцатого.
Ветер играл занавеской. На балкон напротив, где недавно копошилась оцепеневшая при моем появлении старуха, вышла прелестная речная нимфа с волосами, распущенными по спине, но в юбке и лифчике. Нимфа потянулась загорелым телом, обнажив сверкнувший на солнце светлый пушок под мышками и исчезла, скользнув блестящим глазом по моему окну. Ноги закинул на стул. Сигарета дотлела, и я потушил окурок в стеклянной пепельнице. Сонливость. Как всегда, на грани сознания и сна, всякое сумрачное отражение, блестя и звеня, лезет наружу: девушка напротив, поворотом головы и порывом ветра поправляя прическу, идет под руку с капитаном Кашеваровым, а Ленчик с раскольническим топором грузно сопит за углом дома. Хлопнула под ветром занавеска. Я поправил замлевшую ногу, и мурашки, не успевшие накопить нестерпимую силу, растерянно забегали... и в серебристо-острые волны, мягко и бесшумно вонзается легкая фигурка девочки, а мы, пацаны, сидя на борту ржавой полузатопленной барже, лениво, с чувством врожденного превосходства, разглядываем уже влезающую по сварной лесенке Таню, прикидывая, когда можно будет, не теряя мужского достоинства, прыгнуть самому. Вдруг, среди сверкающего звездным туманом ушедшего прошлого, серебром ударил телефонный звонок, и я, взмахивая слепой рукой, падаю ногами на пол... Звон оставался в голове, ещё ватно звучал, когда я, наконец, нащупал телефон.
- Алло! Это кто? Иван! - трубка отозвалась знакомым голосом Ловкача, и я едва не спросил о длинноволосой нимфе - и только тогда окончательно проснулся.
- Да, я слушаю.
- Иван! Я тут рядом, сейчас заеду. Есть важная новость. Татьяна с тобой?
- Нет, она отъехала.
- Ну ничего. Жди.
Я зажег газ, набрал воды в чайник и поставил его на огонь. Звонок в дверь. Заглянул в дверной "глазок"; силой оптики смятый со всех сторон, висел где-то в центре площадки Константин Кашеваров в форме. Фигурка махнула выросшей у "глазка" огромной ладонью: открывай!
Я открыл.
Мне в лицо смотрел зрачок автомата и, когда я отступил на шаг, со всех сторон полезли в дверь где-то прятавшиеся доселе вооруженные хари: как попался! Ленчик остервенело давил стволом "калашинкова" мне под подбородок.
- Ну что, гнида! - услышал я его хриплый голос (немедленно запахло помойкой!) - Ну что, кранты?
- Хватит, хватит! Оставь его, Ленчик! - спокойно сказал Семенов Юрий Леонидович, с ленцой наблюдая за нами.
Народ все заходил. Ловкач вошел последним и виновато улыбнулся.
- Сам знаешь, иногда приходится делать не то, что хотел бы.
Я думал, как предупредить Таню. Положение глупейшее, если не сказать больше. Я не был готов; мне было досадно и стыдно.
Ленчик толкал меня стволом. В большой комнате сидело человек десять-двенадцать (двенадцать, сосчитал я), незримо разделенные границей.
Когда я вошел, все посмотрели на меня, и выражение лиц немедленно выдало плохо скрываемо удивление. Впрочем, я давно уже привык к впечатлению, которое вызывает мое (в данном случае - полуобнаженное) тело.
- Привет, Иван! - услышал я знакомый голос. Ну да, - Аркадий, встреченный мною в сумраке ресторана в ту идиотскую ночь.
Со стороны Аркадия теснилось пять человек, столько же состояло при Семенове. Сходка, подумал я и вдруг, осененный догадкой, спросил:
- Аркадий! Так это ты Макар?
- Уже знаешь, - осклабился он.
Я вспомнил про Ленчика и повернулся к нему. Он, защищенный оружием, через занавеси синеватых век с усмешкой смотрел на меня. Эту усмешку я немедленно погасил, точно попав кулаком в центр его мясистого подбородка.
- Тихо! Спокойно! - одновременно закричали Макар с Семеном, утихомиривая собственные банды. Ленчик остекленело сползал по стене.
- Это тебе аванс, гнида! - отчетливо сказал я.
- Ну все, разрядился и хватит, - махнул рукой Аркадий. - Да закройте балкон, ничего не слышно, - рявкнул он кому-то из своих и - уже тише! обратился к Семенову: - Может, заберете у вашего громилы автомат. А то, знаете, очнется, сдуру палить начнет.
Наконец, успокоились. "Калашников" у Ленчика забрали, мне предложили сесть. Комната была все та же, что и недавно, когда здесь ещё присутствовала Таня. Это было странно: та же мебель, те же слоники на серванте, бледно-голубой рисунок обоев на потолке. Я не допущу, чтобы она вновь попала в чужие руки! Но как предотвратить? Сердце, только что разрывавшееся от гнева, стало успокаиваться. В таком составе не будут похищать: много чести для нас, я думаю. В таком составе проводят "стрелки".
- Что вам надо? - спросил я.
- Не накаляйся, Иван, - добродушно посоветовал Аркадий. - Мы пришли как друзья. А что до спецэффекта, - кивнул он на лежащего у стены, но уже понемного приходящего в себя Ленчика, - так это его личная инициатива. Мы его не уполномачивали. Он свое получил. Забыли? - миролюбиво предложил он.
- Хорошо, - согласился я. - Но я не услышал ответа на мой вопрос.
- Отвечаю. Мы пришли с миром. Коллега, - он указал на Семенова, - тебе уже все рассказал, когда ты был у него в гостях. Если хочешь, я могу повторить.
- Повтори, - согласился я.
- Как хочешь. Итак, мы обладаем неким количеством товара, который планируем сбыть. Здесь, в Нижнем Новгороде, проводят экспериментальные продажи. Очень успешные. В некотором роде товар принадлежит и нам, и казанским коллегам. Но товара столько, что выгоднее не войну вести за полное обладание, а проводить политику сотрудничества. Пока я доступно излагаю?
- Не этим ли товаром мне в ресторане мозги промыли?
- Мы этого не планировали, - быстро сказал Аркадий и кивнул на группу Семенова. - Они тоже отказываются.
- Тогда кто?
- Понимаешь, - сказал он и, поднявшись, подошел к серванту, - товара столько, что можно удовлетворить всю Россию, а потом ближнее и дальнее закрубежье.
Он замолчал и взял в руки самого большого слоника.
- У меня в детстве такие были. Надо же! - Аркадий покачал головой, поставил слоника на место и повернулся. - Так я говорю, что вполне могут быть издержки. Я, конечно, не могу утверждать, что - вот, хотя бы он, Аркадий кивнул на тупо моргавшего Ленчика, - захотел тогда с тобой эксперимент произвести. Но это вне нашей генеральной политики. За всем не уследишь. Это уже издержки бизнеса. Прими это так.
Я поднялся со стула и, придерживая простыню на бедрах, прошел на кухню, не обращая внимания на последовавших за мной двух громил из противоположных лагерей. Я взял пачку сигарет, зажигалку и вернулся на место. Прикурив и выпустив дым (они терпеливо ждали), я кивнул, разрешая говорить:
- Хорошо, дальше.
- Дальше, так дальше. Дело в том, что пока мы с нашими казанскими друзьями договаривались, время шло. Мы и здесь-то уже почти две недели. Сбывать договорились через твоих бывших корефанов. Они, кстати, о тебе жутко любопытного мнения. Ну а тут кто-то стал твоих земляков мочить. У нас, понятно, сразу возникли подозрения. А разве можно совместно работать, если партнеров подозреваешь? Семен подозревает меня, я - его.
- Основания? - спросил я, против воли заинтересовавшись.
- Оснований, честно говоря, полным полно. Может, вы хотите что сказать? - подчеркнуто вежливо спросил Аркадий Семенова.
- Что же, сказать можно, - издал сухой смешок Юрий Леонидович. - Как упомянул коллега, оснований больше, чем достаточно. Во-первых, хотя у нас и достачно фракции...
В этот момент Аркадий немедленно кашлянул, неловко прерывая его. Семен запнулся, посмотрел на него и продолжал:
- Я думаю, это не такая уж большая тайна. Мы сами заявили, что имеем суперпартию товара. И не в цистернах же мы его храним.А фракция в количественном, вернее, объемном измерении вмещается в полиэтиленовом пакете. Мы отвлеклись, - заметил он и продолжил. - Каждая из сторон в принципе желает сохранить тайну и количество посвященных в эту тайну. Но расширение круга осведомленных избежать не удастся. Организация сбыта таких огромных партий все равно требует подключения сотен, нет, тысяч людей. На данном этапе у многих может возникнуть соблазн взять все под личный контроль. Хоть это и не совсем умно, но возможно. Поэтому я, вполнее доверяя партнеру Макару, все же могу подозревать его.
- Аналогично, - кивнул головой Аркадий.
Я подумал, что они похожи на пауков-тарантулов в банке, которых мы в детстве вылавливали из норок на шарик битумной смолы, прикрепленный к нитке. Вонзив жвалы в смолу, пауки уже не могли разжать челюсти и на этом ловились. В этом мои гости тоже походили на пауков: вцепившись в добычу уже не могли расстаться. Но главное, помещенные в банку, тарантулы начинали через некоторое время борьбу нена жизнь, а на смерть, разрывая на части и пожирая друг друга. Здесь тоже собрались люди-пауки, в принципе не имеющие сил жить в мире, потому что движет ими только желание жрать.
- Я продолжу, - невозмутимо сказал Семен. - Испытательная продажа небольшой партии прошла исключительно удачно. Твои друзья, выбранные нами как изначально вполне организованная группа, начали продажу товара два месяца назад. Результат был таким, что мы должны были приехать сами. Ошеломляющий успех! Следовало разобраться на месте, не случаен ли этот результат.
Он замолчал и улыбнулся:
- И тут начались эти убийства.
- Не то страшно, что убивают наших людей, - вмешался уже Аркадий, людей найдем, люди будут: хуже всего незнание, отсутствие информации, наконец. Кто? Почему?.. Создается впечатление, что некая третья сила контролирует не только ситуацию, но и нас с ними (кивок на Семена и его группу). Этого нельзя допустить, это оскорбительно, наконец.
"Мне-то что за дело!" думал я, мечтая лишь о том, чтобы Таня задержалась где-нибудь в недрах банковских помещений или в магазинных подвалах, где для меня выписанный и оплаченный костюм лежал, зажатый рядами запечатанных полиэтиленовых пакетов с одеждой. Надо только решить вопрос с Таней; немедленно при упоминании её имени во мне поднимается и растет безграничное, как в раю, тепло, где мои беды тают и растворяются, - сердце ноет и разрывается, как бывало в торопливо накатывающих снах, где мерещилось, что я могу потерять её, как это может случиться сейчас, наяву.
Сначала нагромождение чего-то на чем-то и пестрая дышащая полоса, идущая вверх, казались нечетким обманом продолжающихся грез, и от этого бессмысленного собрания ярких пятен трепет родился в душе: проснулся на плоту посреди моря, или на операционном столе, как было раз, когда не хватило в полевых условиях наркоза. Но что-то в мозгу повернулось, мысль осела, поспешила сойтись с реальностью, - и я понял, что смотрю на занавеску полураскрытого окна, на стул перед окном, где покоятся вконец замлевшие ноги: таков договор с рассудком, - маскарад земной обыденности, рамки текущего времени. Я поднял голову, уже не пытаясь нагнать уплывающие тени пригрезившихся бандитов, пошарил рукой и нашел, конечно же, никуда не относимую пачку "Кэмел" и только тут понял, что звонок, сотрясающий задворки сознания более реален, чем тот мир, в котором я частично, все ещё пребывал. Телефон!
Черт знает что! Так уснул, что звонок Ловкача, перед тем реально прозвучавший, контрабандой протащил в лабиринты продолжившигося сна мои прошлые разговоры с Семеном и Аркадием, а кроме того, собстенные догадки об особенностях организованной здесь бандитской пирамиды. Но как же все во сне казалось реальным! Я вновь потряс головой, уже наяву прогоняя остатки сна, и поднял трубку. Звонила Таня.
- Да, это я, - сказал я и посмотрел на часы: десять тридцать.
- Ваня! Я все купила: джинсы, туфли, рубашку и пиджак. Все, что говорил. Чуть не забыла купить тебе трусы, представляешь? Хорошо вспомнила, - слышно было, как она усмехнулась.
- А как прошло с банком?
- Все очень быстро и четко. Я не ожидала даже. Слушай, у тебя такой странный голос. Что-нибудь случилось?
- Ну что ты, крошка. Ничего не случилось. Приезжай, я жду.
- Я буду минут через десять-пятнадцать. Меня Костя подвезет. Кашеваров... Алло! Ты куда пропал?
- Я здесь. Приезжайте. Я жду.
ГЛАВА 19
УЛИЧНЫЙ ОБСТРЕЛ
Они приехали быстро. Я едва успел выкурить сигарету. Я увидел в призме дверного "глазка" их искаженные улыбки и поспешил впустить.
- Здравствуй, Иван! - оглядел меня Ловкач и ухмыльнулся. - Это ты в таком виде по городу шастал?
- Хуже, гораздо хуже. Да вот свидетель, - кивнул я на Таню. - Она может подтвердить.
- Посмотрел бы ты на него вчера! - содрогнулась Таня. - Звонит. Вижу, что-то непонятное. А голос - его. Открываю - бр-р-р!.. Какой-то голый мясник. А сейчас уже ничего. Смотри, что мы тебе привезли.
Последовал отчет; я осмотрел покупки и похвалил. А ещё через несколько минут вышел из ванны вполне цивилизованным человеком.
Таня протянула мне пакет.
- Здесь твои деньги и сдача в рублях. Я поменяла двести долларов.
- Так мало? - поразился я.
- Мало?! - удивилась в ответ Таня, и я ухмыльнулся.
В половине двенадцатого мы вышли из подъезда.
- Ты на чём? - спросил я Константина. Он кивнул на синий милицейский "жигуль".
- Ладно, - решил я. - Поедешь на своей тачке, а мы на своей следом за тобой..
Я открыл правую дверцу и помог сесть Тане. Она была в шелковой блузке, коротенькой юбочке и, когда села, слишком круто (для меня!) оголившиеся ножки шелковисто задели мне сердце. Я понял, что недавние испытания отошли в прошлое, а, возможно, просто хорошо отдохнул.
Усевшись, сунул ключ в гнездо и включил зажигание. На Танины скрещенные ножки старался не смотреть. Она, видимо, что-то почувствовала, потому что просунула ладонь мне под руку и положила голову на плечо. Потерлась щекой. Завитки её волос приятно щекотали мне шею. Я ничего не имел против, хотя пожалел, что ещё не вечер.
Ловкач что-то замешкался в своем служебном авто. Наконец тронулся. Я последовал за ним. Чтобы не мешать, Таня немножко отодвинулась, и я сразу пожалел, потому что она мне не мешала.
Солнце исправно обжаривало нас, несмотря на относительную защиту тонированных стекол. Я опустил боковое стекло со своей стороны.
Константин свернул в переулок, скорее всего, желая сократить путь. Я вспомнил недавний сон и предательство Ловкача в нем, но тут же забыл, следуя за его машиной. Таня огляделась:
- Чего это он сюда свернул? Хотя, какая разница, так даже ближе.
Я увидел, как впереди на край тротуара вышла черно-белая кошка и, игнорируя машины, примерилась спрыгнуть с бордюра на проезжую часть. В зеркале заднего вида за мной следовали несколько легковых машин. Не знаю почему, но я решил испугать кошку, надеясь, что она не захочет рисковать, перебегая дорогу. До машины Ловкача было метров двадцать пять; я резко газанул и одновременно нажал звуковой сигнал.
Все произошло как-то одновременно: мой "Мерседес" рванулся, кошка, повернувшись, опрометью бросилась к подвальному окошку, откуда показались три-четыре пестрых котенка, и где-то в стороне, но близко и громко захлопали автоматные выстрелы.
Вскрикнула Таня, "жигуль" Константина впереди резко затормозил, преградив нам путь, ветровое стекло моей машины, раскололось, просыпалось между нами сверкающим бисером. Отчаянным усилием я до отказа повернул руль в сторону, и шины задних колес завизжали, скребанув по асфальту, после чего нас подкинуло в воздух и, наконец, машина встала как вкопаная. Таню бросило за мою спину. Лицо её было исцарапано осколками стекла, а из-под выреза блузки по груди сочилась тонкая струйка крови. Я застонал от отчаяния и рванул её блузку. Мелкие пуговички, словно недавние осколки стекла, брызнули во все стороны, края блузки разошлись, моя рука шарила у неё по груди в поисках пулевого ранения: я ничего не нашел. Я все ещё оттирал кровь, но на её груди, не прикрытой, кстати, лифчиком, не было даже синяка. В исступлении я замысловато выругался, посылая всех и вся в такие дали, что дальше некуда.
Она открыла глаза и прошептала:
- Надеюсь, мой милый, ко мне это не относится?
ГЛАВА 20
СОВЕЩАНИЕ У ПОЛКОВНИКА СЕРГЕЕВА
В общем, из-за неё я не бросился сразу к кошачьему подъезду, откуда и стреляли по нам. А сейчас было уже поздно. Я был чертовски счастлив от того, что Таня оказалась цела и невредима. Судя по всему, Таню это покушение не очень испугало. Придерживая рукой отворот блузки, она чему-то улыбалась. Я подумал, что, возможно, это последствия шока.
Прибежал встревоженный Костя.
- Все целы? Все? А я уж подумал...
Я вышел из машины, жалея, что под рукой нет оружия. Впрочем, сейчас оно уже не было нужно. Мы подошли к подъезду. Константин достал свой "макаров". Внутри, почти при входе, лежал брошенный израильскуий "узи". Странно, почему стреляли по машине из такой хлопушки? Однако я был рад находке.
- Надо сдать, - нерешительно сказал Костя.
- Еще чего. Найду свою пушку, тогда эту сдам. Я без оружия словно голый. Ты ничего не видел, а я от тебя скрыл.
Ему пришлось согласиться. Мы прошли подъезд просто ради соблюдения формальности. Второй выход был, конечно, открыт. Во дворе - пусто. Ни киллера, ни машины, на которой незадачливый исполнитель удачно скрылся.
Подъезжали вызванные кем-то машины милиции. Константин, помахивая своим удостоверением, уже вводил оперативников в курс дела. И все-таки, понадобилось вмешательство полковника Сергеева, чтобы нас, быстро сняв показания, отпустили. Все равно потеряли минут пятнадцать.
Все это время Таня не покидала машины, общаясь с операми через опущенное стекло. Она сидела, прикрывая порванную мною блузку скрещенными на груди руками. И время от времени мне страшно хотелось сделать то же самое: скрестить руки на её груди.
Когда мы освободились, я, сломив нерешительное сопротивление Тани, подрулил к магазину женской одежды. Мы вошли в торговый зал и немедленно вызвали переполох. И верно, мы представляли интересное зрелище: девушка, видимо, подвергнувшаяся насилию, звероподобный мужик (это я, хотя мои знакомые женщины никогда не решались назвать меня зверюгой) и конвоирующий их (то есть нас) милиционер. То есть Ловкач.
Я поборол нерешительность пышной дамы-директрисы видом решительным и властным. А когда я позволил не стесняться в средствах (это было приятно!), слабо упирающуюся Таню немедленно и шумно утащили. Вслед я шепнул на ушко черноволосой хозяйке зала некоторые пожелания... В общем, полковник Сергеев Петр Леонидович дожидался нас ещё сорок минут; ответственность я брал на себя.
Пока я ждал Таню, Костя успел куда-то смотаться. Он отсутствовал минут двадцать.
- Еще не вышла? - удивленно спросил он. - Что они там с ней делают? Мерку снимают? Нас же полковник сожрет.
- Перебьется, - ухмыльнулся я. - Есть дела и поважней.
- Ну, как знаешь. А я пока съезжу предупрежу полковника, что вы задерживаетесь. Если не вернусь, приезжайте прямо к нему. О'кей?
- Ладно.
Когда он уехал, я вытащил пачку сигарет и некоторое время сидел в машине, уставившись невидящим взором в лобовой проем, совсем недавно прикрытый стеклом. Черт! Стекло надо поставить. Закурил сигарету. Дела идут просто великолепно, подумал я. За эти несколько дней меня успели отравить наркотиком, несколько раз избить, даже заживо похоронить! А вот теперь ещё и покушение со стрельбой. И это все, чего я достиг. Впрочем, одно было ясно: теперь я знал, что меня, несомненно, боятся, следовательно, я приобрел статус важной персоны. Судя по всему, для многих я являюсь настолько неприятной фигурой, что меня нужно либо заставить убраться из города, либо просто убить. Причем было совершенно ясно, что вначале предпочитали первое. Я не мог понять, почему со мной так долго носились, прежде чем решились убрать физически? Почему попытки убить меня стали предприниматься только в последние сутки?
Зачем понадобилось отстреливать ребят из моей дивной детской команды, ежели в наше время столько народа согласны были бы их заменить. Еще понятно, если бы это сделал конкурент или конкуренты - группа, захотевшая стать единственным сбытчиком наркоты. Но откуда тогда этот классный киллер? Я не мог поверить и в возможность появления самородка на здешнем дне: слишком мала вероятность появления такого бриллианта, оказавшегося незамеченным для глаз больших и малых боссов, которые бы не пожелали немедленно приобрести его.
Я вошел в магазин. Полупустой зал. Когда же?..
Тут она вышла...
Когда Таня вышла ко мне... Ах ты, Боже мой! Что делают с нами хорошие шмотки! Особенно, если есть что украшать. А у Тани было это "что" - вне всякого сомнения.
- Крошка! - невольно воскликнул я, и девчонки продавщицы весело переглянулись: Таня была явно выше всех присутствующих дам.
- Крошка! Я потрясен! Но как ты все-таки влезла в эту штуку? поинтересовался я, разглядывая её платье, которое, казалось, должно треснуть по швам, если до него дотронешься.
- Ах! - сказала она, и я понял, что служебная её половина стечением обстоятельств уже окончательно побеждена.
Во всяком случае, в данный момент.
Однако, несмотря ни на что, надо было ехать. Полковник заждался.
Таня, счастливо и сомнамбулически улыбаясь, взялась за ручку дверцы, но вдруг вспомнила:
- Надо же расплатиться! - сказала она испуганно.
Я повернулся к полнокровной Венере-директрисе, уже ожидавшей меня с чеком на семьсот пятьдесят условных единиц. Что ж, подумал я со вздохом, красота требует жертв. А управительница (тонкий психолог) правильно истолковав мой вздох, злорадно усмехнулась:
- Заходите еще. Мы вас очень любим (имелось в виду - покупателей).
Добрались на сей раз без происшествий. Я въехал во дворик и припарковал машину возле синеньких "Жигулей" Ловкача. Подхватив Таню под руку, я повел её к двери. Отворив тяжелую дверь, мы вошли в фойе. Контролер - бедный лейтенант - засмотрелся на мою спутницу, видимо, спутав её с собственными караульными грезами. В последний момент, однако, преградил путь:
- Предъявите пропуск. Вы к кому?
- Начальство надо в лицо знать, малыш, - сказал я, нагло натянул ему фуражку на нос и потянул Таню за собой.
Впрочем, зная горячий норов ребят из конторы, все же оглянулся.
- Позвони Сергееву. Петр Леонидович нас ждет.
Мои слова его остановили, а наглость, сногсшибательный вид Татьяны, а также всякие новые времена в здешних провинциях, вынудили его позвонить, и нам позволили беспрепятственно подняться на второй этаж сквозь знакомые мне по первому посещению и по годам службы казарменные затхлые запахи военучреждения.
Полковник и Ловкач одновременно повернули головы, когда мы без стука вошли. На лице начальника угадывался вопрос: как мы смогли войти без доклада? Ответ был проще простого: когда подошли к его двери, нас встретил пустой стол дежурного. Сам денщик, видимо, отлучился мыть руки.
Словом, полный бардак.
Сергеев пригласил нас сесть и некоторое время молча рассматривал. Не люблю, когда кто-то за мой счет выдерживает паузу.
- Я так понимаю, нам есть что обсудить, - нарушил я общее молчание.
- Еще бы, - охотно подхватил полковник, - два новых трупа, чем не повод.
Я озадаченно взглянул на него. Хотя что-то немедленно забрезжило в сознании.
- Лом? - предположил я. - И тут же пояснил. - Никодимов Олег?
- Откуда вы знаете? - с новым проснувшимся интересом спросил Сергеев.
- Приснилось, - честно признался я, но, понимая, что для сугубого практика это не ответ, пояснил. - Чингиз... Марат Карамазов не чета усопшим. Если кому ещё суждено погибнуть, я думаю, он будет последним.
- Ну, ну, - сказал полковник и было не понятно, принимает ли он мои объяснения, или нет.
- А второй? Надеюсь, все-таки, это не Марат? - спросил я.
Сергеев переглянулся с Ловкачом и затем оба уставились на меня. Ловкач был бесстрастен, просто смотрел, а у полковника в ехидном удивлении поползли вверх брови.
- Второго-то вы точно должны помнить, - сказал Сергеев и тут же добавил: - Впрочем, все забываю, что для вас случившееся могло быть незначительным эпизодом.
- Итак, - сказал он, извлекая из папки и кладя перед собой машинописный листок и вчитываясь в него, - итак, погибший - Лукьянов Михаил Федорович, пятьдесят пятого года рождения, русский. Смерть наступила в результате перелома седьмого шейного позвонка, предположительно из-за сильного удара головой о твердый предмет, возможно, стену. Труп найден по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом семь, квартира сорок три.
Черт! Это же тот самый костлявый подонок, оставленный после похищения Тани переговоры со мной переговаривать. Надо же! Я не думал, что он сдохнет.
- Это же у меня дома! - воскликнула Таня.
- Да, у вас дома, - подтвердил Сергеев.
Таня в недоумении посмотрела на меня.
- Ну не сдержался, - с досадой подтвердил я. - Он стал мне условия ставить по поводу тебя. Вот я его об стену и шарахнул. А потом напрочь забыл.
- Ладно, это мы замнем, - сказал полковник. И продолжал, просматривая листок. - Здесь описание второго трупа. Никодимов Олег Витальевич, семьдесят первого года рождения. Смерть наступила в результате проникающего ранения в мозг через глазные впадины. Нож типа финки принадлежал покойному и найден рядом с трупом. Отпечатков пальцев не обнаружено. Удары нанесены с большой силой, мягкие ткани лица в области глазных впадин разбиты упорами на ноже, когда лезвие входило в мозг.
Сергеев посмотрел на нас, поочередно переводя взгляд с одного на другого, взглянул в окно и задумчиво добавил:
- Судя по всему, это не просто убийство. Если бы не было предыдущих смертей, я бы решил, что здесь, как говорится, ритуальное убийство. А так... ничего не понятно.
- А теперь, - изменил он тон, - теперь вернемся к вам. Доложите, что произошло за прошедшее с нашей последней встречи время. Начнем с вас, кивнул он мне.
И я рассказал. Рассказ мой занял семнадцать минут, потому что, опуская нюансы, рассказывал суть. Впрочем, и этого было достаточно. Даже Таня, уже слышавшая от меня первую версию, вновь сопереживала - я видел.
Свои криминально-мистические сны я, конечно, опустил. Если и касался сведений о партнерско-конкурентных группах Семенова и Макарова, то при этом делал многозначительное лицо и замечал: "по неподтвержденным данным".
- Да, - вздохнул Сергеев, когда я закончил, и тут же задвигался Константин. - Да, приключеньице.
- Это все? - спросил Сергеев.
- Вроде бы все.
- Может, что упустили?
- Да нет, не думаю, Петр Леонидович.
Я, не спрашивая разрешения (привилегия свободы!), достал пачку сигарет, предложил присутствующим. Петр Леонидович отказался, а Константин поколебался, но быстро взглянув на Сергеева, махнул мне рукой - не надо, мол. Я закурил один. Пододвинул к себе девственно чистую пепельницу и курил, пока Таня рассказывала о своих мытарствах.
- Я думаю, можно подвести итоги, - сказал я, когда Таня закончила свой рассказ и выпустил в сторону от сидящих струйку дыма. - Но лучше вы, - я кивнул полковнику. - Со стороны виднее.
Полковник Сергеев наклонил голову в знак согласия и вытащил-таки свою пачку "Мальборо". Ловкач на этот раз не отказался от предложенной сигареты. Мы дымили все трое. Лейтенант Соколова, конечно же, не испытывала неудобств.
- Так вот, товарищи, - сказал полковник, - сейчас нам необходимо выяснить две вещи. Кто совершает убийства членов организованной группы распространителей наркотика Икс, - предлагаю в дальнейшем так его именовать, - и в какой связи с этими убийствами находится активизациядеятельности криминальных структур, организовавщих сбыт наркотика в Нижнем Новгороде. Благодаря оперативным сведениям, мы знаем, что в город съехались две группы: из Казани, возглавляемая Семеновым Юрием Леонидовичем (кличка Семен) и из Екатеринбурга, возглавляемая Макаровым Аркадием Николаевичем (кличка Макар). К казанцам присоединилась местная группировка, возглавляемая Леонидом Александровичем Бурлаковым (кличка Ленчик). В сферу деятельности упомянутых групп попалась синтезированная в России фракция наркотика Икс, достаточная для производства сверхбольшого количества товарного наркотика. По нашим оперативным данным, фракция в домашних условиях - повторяю, в домашних условиях! - была синтезированна в городе Казани неким студентом третьего курса химического факультета Казанскогоуниверситета. Но ещё раньше упоминание о формуле нового наркотика по Интернету было прочитано другим доморощенным гением, тоже студентом химического факультета, но уже Екатеринбургского университета, приятелем казанца. Екатеринбуржец теоретически нашел возможность создания наркотика в домашних условиях. Его казанский приятель, с которым они познакомились ещё школьниками на межреспубликанской олимпиаде по химии, дома синтезировал фракцию наркотика Икс. Оба гения уже арестованы, но фракция успела попасть в руки криминальных структур. Грубо говоря, из-за нашего научного потенциала над Россией (пока над Россией!) нависла угроза. Мы уже имеем некоторые статистические данные из больниц города: возросло количество поступающих подростков в состоянии комы. Большое количество летальных исходов. И все из-за того, что какие-то идиоты упомянули по Интернету о наркотике, который, по их ученому мнению, возможно синтезировать только на базе государственных предприятий, да и то в мизерных количествах. Этим, конечно, занимаются. Наша задача, вернее, задача вашей группы выяснить, кто - конкурент или иной мститель? - внедряется в систему наркобизнеса с этими убийствами. Честно говоря, я ожидал большего эффекта от нашей совместной работы. Прошло уже больше четырех суток, а мы имеем только потери. Плюс ещё два трупа, один из которых на вашей совести, - кивнул он мне. - И теперь я даже не знаю, стоит ли продолжать наше расследование. Я имею в виду наш полуофициальный состав.
- Если вы закончили, - вмешался я, - то хотел бы заметить, что к расследованию я лично ещё не приступил. Только в первый день ознакомился с делом, а наутро нас уже похитили. Кроме того, нас с лейтенантом Соколовой в первый же день рассекретили. У вас тут хорошо налажено сотрудничество с криминальными структурами, как вы говорите. Леонид Бурлаков тут же заявил, что мы милицейские ищейки. Это первое. А второе, мне не нравится, что, прося меня помочь в раскрытии нескольких убийств, вы не поставили меня в известность, что стоит за этими убийствами. Мне пришлось на собственной шкуре - я имею в виду свою кровь, - выяснять то, о чем вы были хорошо осведомлены: о наркотике Икс. И в-третьих, мне не нравится, что вы продолжаете по каким-то причинам скрывать от меня детали, известные вам. Тем самым подставляя меня.
Полковник Сергеев, уже пытавшийся прервать меня, наконец-то смог это сделать.
- Иван Михайлович! Откуда у вас эти подозрения?
- Откуда? Из "Белого дома". Из дома правительства в Москве. Вот откуда. А ещё из-за той охоты, которая была немедленно устроена на меня и здесь, и в Москве. И я думаю, что вы не можете не знать об этом. Я думаю, здесь не просто две мелкие банды; здесь задействованы люди совсем другого веса и статуса. Именно поэтому я утверждаю: вы меня используете по каким-то своим мотивам и причинам. Что, не так?
Полковник Сергеев, тяжело набычившись, смотрел на меня. Широкое лицо его покраснело, но пока он сдерживался. Мне же хотелось довести его до такого состояния, когда он может сорваться. Он мог бы проговориться, если бы что знал. Что-то мне не нравилось во всей этой ситуации, в которую меня загнали чужие, противоречивые интересы.
- Это не вы, случайно, позвонили Ленчику или Семену, что на них натравили новую овчарку, - я ткнул себя в грудь большим пальцем.
- Ах ты!.. Салабон! - проговорил-таки полковник. - Ах ты!..
Я с интересом слушал, сохраняя вид рассерженный и злобный.
- Да знаешь ли ты, сколько людей хотят спустить это дело на тормозах! Знаешь ли ты, почему я не создаю официальную группу? Почему мне пришлось уговаривать человека со стороны? Если кое-кто наверху узнает о том, что я препятствую этим Ленчикам, Семенам и Макарам, то я отправлюсь дослуживать на Камчатку! Меня может спасти только то, что формально меня интересует лишь убийство наркораспространителей, то есть тех, чьи смерти мешают работе этих казанско-свердловских бандитов!
Он замолк так же резко, как и начал, когда взорвался от моих слов. Я был внутренне доволен, хотя вида не показывал. Вообще-то радоваться было нечему. Как я и предполагал, возможность поживиться в крупных масшатабах, причем при минимальных затратах, привлекала многих шакалов.
- Мне-то от ваших сложностей не легче, - кротко заметил я.
Полковник взял себя в руки и, хоть и жалел о своей вспышке, но - я видел - испытывал и облегчение. Конечно, каждый честный человек при виде вопиющей несправедливости испытывает чувство крайнего возмущения. А когда оказывается, что несправедливость и есть система, в которой протекает наша жизнь и жизнь нашего великого и могучего государства, тогда остается лишь таиться. Вспышка возмущения в ответ на мои слова стала положительной эмоциональной разрядкой, вроде тех, что в Японии вызывается лупцеванием резиновых кукол в образе начальника: в обеденный перерыв с двенадцати до двенадцати тридцати. И только в это время.
Все в кабинете были заняты собой: полковник смотрел в папку, Ловкач в окно, Таня в сумочку, я на кольца дыма, старательно мною же выдуваемые.
- Возможно, вы и правы, Иван Михайлович. Возможно, мне следовало вас сразу ввести в подробности всего дела. Возможно, мне надо просить вас прекратить ваши действия на свой страх и риск и предоставить расследование уже назначенным специалистам.
Я ухмыльнулся.
- Насколько могу понять, я завяз в этом деле глубже, чем хотелось бы. Чем даже вы думаете. Никто - ни здесь, ни в Москве - не поверит, что я так легко бросил начатое дело. Не в моих правилах. Поэтому и бросать нет резона. А кроме того, у нас честная сделка: если я что-то выясню, вы устраиваете мне "зеленую улицу" с охранным филиалом вашего банка. Ведь так?
Полковник кивнул и тут же помотал головой.
- Я понимаю вас, Иван Михайлович, я понимаю ваши чувства. Конечно, с филиалом будет все улажено, все сделано, что в моих силах. Но поймите меня. Я не желаю, чтобы... с вами что-нибудь случилось. Лейтенанта Соколову я отстраняю от этого дела. Вы с завтрашнего дня уходите во внеплановый двухнедельный отпуск для лечения... Вы меня поняли, лейтенант? - повернулся он к Тане.
- Так точно, товарищ полковник.
- Вы свободны. Можете идти. Вы тоже свободны, капитан, - сказал он Косте. - Можете идти. А вы задержитесь ещё на минуту, - обратился он ко мне.
Таня поднялась и, проходя мимо меня, легко коснулась рукой плеча. От полковника не ускользнул этот жест.
- Я тебя подожду у дежурного, - нагнулась ко мне Таня и вышла.
Ловкач тоже вышел.
- Ничего ведь не изменится, - сказал вдруг полковник Сергеев. Ничего, ничего не изменится. Столько лет!..
Я молчал, потому что у каждого свой ад, и каждый воюет с ним в одиночку. Со своим я справился, как мог, а чужой мне не нужен.
- Что делать? Что делать?.. - вопросил полковник пустоту и не получил ответа, а потому собрался. Через секунду передо мной сидел прежний полковник Сергеев Петр Леонидович, которого я увидел четыре дня назад.
- Так вы решительно будете продолжать расследование?
- Конечно, - удивился я. - Я же сказал.
И вдруг в голове из отдельных кусочков стала складываться ясная картина убийств, но я предпочел пока все держать при себе. Поднявшись со стула, я добавил:
- А знаете, это мысль. Пусть никто, кроме нас с вами, не подозревает, что я буду продолжать барахтаться в этом дерьме. А в случае чего, вы меня негласно прикроете. И ещё одна просьба. Можете побыстрее по своим каналам найти мне адреса Макарова, Чингиза, то есть Карамазова Марата, и последнее - адрес семьи моего папаши. Надо мне их тоже навестить, кое-что вспомнить, братца повидать, если он ещё здесь живет.
Сергеев вскинул на меня глаза.
- Мало ли чего, - пояснил я. - То, се...
Он сам проводил меня до двери.
- Надеюсь, когда-нибудь вы вернетесь к нам в ГБ? - спросил он, крепко пожимая мне руку.
- Пока все идет, как идет - не дай Бог, - ответил я и вышел.
Тане я велел ехать домой, хорошенько запереться и не открывать никому, кроме меня. Может, в тоне я и перегнул палку, потому что она было фыркнула, но... развитие событий было мною вовремя пресечено.
- Ты, малышка, нужна мне живой и невредимой.
Это её успокоило, и она пошла к автобусной остановке и... может, новое платье, облегающее её круглые ягодицы словно перчатка, может, мой взгляд, но в каждом движении ощущался явственный ритм танца, не знаю какого, то ли усопшей ламбады, то ли ещё чего, а скорее всего - ритм всех танцев любви.
Я повернулся; Ловкач с непонравившимся мне выражением лица смотрел ей вслед.
- Классная девочка! - заметил он и причмокнул.
Я решил его несколько отвлечь.
- Слышь, Ловкач, ты не боишься, что этот шустрый извращенец доберется и до тебя?
- Какой извращенец?
- Киллер, который убивает всех наших.
- С какой стати? - вдруг озлобился он. Я решил, что подобная мысль уже мелькала в его ловкой голове, а иначе почему бы ему так волноваться?
- Пошли, - вместо ответа я хлопнул его по плечу. - Мне нужна твоя помощь.
- Нет, с какой стати? Скорее тебя ухлопают. Ты ведь был нашим главарем.
- Когда это было!..
- Я, знаешь, тоже давно по другую сторону баррикад. И потом, ясно ведь, что инициатор бойни либо Макар, либо Семен. Словом, тот, кому важно затормозить кампанию продажи этого наркотика Икс.
- Ты думаешь? - сказал я. - Может, у тебя какие-то ещё соображения на этот счет?
- Какие ещё могут быть соображения? Все достаточно просто: приезжают две банды, находят сбытчиков, проводят удачную операцию, срывают огромный куш... Тут бы и дело дальше развивать, но кто-то вмешивается. Кто-то прерывает основную пока цепочку между поставщиком и потребителем. Это может быть только конкурент. Причем глупый конкурент.
- Почему глупый? - спросил я и вытащил сигареты. Мы продолжали стоять возле машин во дворике. Сквозь ограду я видел, как Таня, до невозможности округлив и так совершенную окружность задика, впорхнула в автобус. Какой-то водила из черной "Волги" недалеко от нас с любопытством поглядывал в нашу сторону.
- Почему глупый? - повторил я, протягивая Ловкачу сигареты. Он взял одну, прикурил и выдохнул в выгоревшее от солнца безоблачное голубое небо.
- Ты сам понимаешь, что в этом деле заинтересованы большие люди, не нам чета. Сам видишь, какое это бесперспективное дело, раз Сергеев и не пытается особенно влезать в него. Какая разница, каким образом собирать денежки с народа? Если народ хочет дохнуть, пусть дохнет. Суммы могут быть сказочными. Поэтому я и говорю, что только дурак может влезать в эту схему. Если понадобится, на стороне Макара и Семена с Ленчиком и Комитет выступит, и МВД и Минобороны.
- Смеешься?
- Какой тут смех! Посмотри, что в стране делается, мы же живем, как при оккупации. С нас же дань берут, а когда все соберут, то оставят подыхать.
- Ладно, не смешивай. Здесь конкретное дело...
- Эх ты, бизнесмен! - он с сожалением посмотрел на меня. - А может, действительно, бросишь это гнилое дело? И полковник советует, и твой второй вице-премьер (это надо же, куда все тянется!). Уезжай, друг Оборотень. Оборотись снова честным охранником, охраняй кого следует от кого не следует...
Помолчав, он сказал как-то даже сокрушенно:
- Все озверели. Все готовы стать преступниками. Потому что иначе у тебя одно право: дохнуть с голоду...
Я докурил. Слушать его было интересно, конечно, но время не хотелось тратить. Да и к тому же все это пройденный этап. Кто надо - давно уже понял, что Россией могут править лишь два типа людей: хозяева или воры. Причем один тип органично перетекает в другой. Дай только время. Виноваты, разумеется, наши необъятные просторы, именно потому так трудно насытить всю широту русской души, стоит лишь ей войти во власть. Впрочем, с хозяином жить - свои проблемы.
- Послушай, - сказал я. - Есть у тебя знакомые в автосервисе? Не могу же я с пустым стеклом разъезжать? Неудобно, сам понимаешь.
- Ладно, поехали, - сказал вмиг успокоившийся Ловкач, которого чуть не выбила из равновесия судьба России.
- Я поеду на своей тачке, а ты следом.
Минут через пятнадцать мы были в автосервисе, обосновавшимся в глубине закрытого гаражного хозяйства. Константин сходил куда-то в глубь большого каменного сарая, где несколько мужиков в полумраке суетились возле безногой "Вольво". Вышел парень лет двадцати пяти, обычно, как видно, вертлявый, а сейчас сдержанный и солидный.
- Я поеду. И так уже время потерял, - сказал Константин. - Если понадоблюсь, ты знаешь, как со мной связаться.
Мы попрощались. Костя кивнул мастеру, сел в "Жигули" и уехал.
- Ветровое стекло? - спросил парень после того, как поздоровался со мной за руку ("Саша!" - и энергично пожал мне кисть. - "Ваня!" - в тон ему ответил я и тоже встряхнул уже ставшую вялой ладонь).
Он обошел вокруг моего "мерса", покосился на единственную пулевую дырку в дверце, хотел смолчать, но все же спросил:
- Здесь рихтовать или заплату ставить?
- Что побыстрее. Мне машина как воздух нужна.
- За скорость добавишь, хозяин?
- Ну о чем речь?.. - подтвердил я.
Саша взглянул на часы, подумал:
- Сейчас почти два. Часам к шести подойдет?
- Подойдет.
Я огляделся, пожалев, что Ловкач уже смылся.
- Такси здесь водятся?
- Как выйдете, направо и вверх по улице до перекрестка. Там уже легче поймать.
В последний момент я подумал, что надо из-под сиденья извлечь "узи", но что я буду с ним делать: он неудобен в носке. Да и документов у меня с собой не было, а каждый раз звонить полковнику Сергееву не хотелось. Ладно, решил я, мастера все равно обыскивать машину не станут, а ежели все-таки станут и найдут автомат, то побоятся, конечно, брать: зачем лишние разборки?
Я пошел к выходу между рядами гаражных ворот. Автоаллея - длиной метров семьсот - была усыпана мелким щебнем. У ворот дремала свора разнокалиберных и разномастных собак, лохматых и пыльных. Когда я проходил, все как-то одинаково приоткрыли по одному глазу, проводили меня щелкой взгляда и вновь погрузились в дневную сиесту.
Действительно жарко. По моему хребту, частично впитываясь тканью рубашки, стекали капли пота. Я свернул направо, как сказал мне мастер Саша. Солнце брызнуло прямо в глаза, я услышал сзади звук торопливых шагов, пахнуло помойкой... и в следующее мгновение яркий свет - словно тысячи солнц! - вспыхнул перед глазами, а голова, казалось, взорвалась от страшного удара, будто сверхновая звезда. Теряя сознание, я подумал, что так, вероятно, выглядит смерть...
ГЛАВА 21
НЕ УДЕРЖАЛ
Если это и была смерть, то она ничем не отличалась от моей жизни: было темно, пыльно и крайне неудобно... Здесь я почувствовал, что лежу на чем-то мало напоминающем ложе и с головой укрыт чем-то грубым, плотным и жестким. Тут же сознание вернулось полностью и ориентировка на местности завершилась сама собой: завернутый в коврик, я покоился на дне машины и чьи-то садистски грубые ноги старательно попирали мои бока.
За шумом двигателя и, главное, из-за коврика не разбирал слабо доносящихся до меня слов. Однако какой же неровный пол у легковых машин! В ребра упирался округлый, но крайне неудобный валик. Я закашлялся: в нос, вместе с воздухом, втянулась какая-то сухо пахнущая пыль. Немедленно, вперемежку с пинками, на меня посыпались ругательства - их я тут же разобрал.
Через некоторое время - я почувствовал это своими боками, - асфальт сменился грунтовой дорогой. Тряска продолжалась не менее получаса, и я всерьез испугался за свои ребра. К этому моменту вдруг (к немалому своему удивлению!) понял, что мои руки свободны. То есть, буквально свободны: ни наручников, ни веревок. Это меня насторожило, но потом я подумал, что похитители не обязательно должны были знать меня и мои возможности, а может, были просто дилетантами...
Дальше я просто крепился, дабы выдержать эту пытку неудобной, тряской езды. А прислушиваясь, заодно понял, что в салоне машины, не считая меня я был, в данный момент, грузом, - едут всего два человека: водитель впереди и пассажир, попирающий меня ногами.
Взревев последний раз от натужного рывка, машина стала. Тишина. Хлынул свежий воздух; открыли дверцу. Кто-то тянул мои наконец-то распрямившиеся ноги: меня грубо выволакивали. Я начинал раздражаться.
Меня поставили на ноги и с головы стали разматывать рогожу, в которую я был упакован, словно мясная начинка голубцов в капустный листок. Солнце в глаза...
Я не успел рассмотреть окрестности, как тут же получил жестокий удар чем-то металлическим в висок. Я не упал - меня поддержали, но ноги заплетались, когда несколько метров волокли, по пути освобождая от обертки.
Бросили на колени. Я воспринимал все мутно... все плыло... медленные водовороты, словно находился в омуте, утонуть в котором наступил и мой черед. Громкие голоса... два силуэта... Один из них вдруг с размаха ударил меня ногой в подбородок. Удар подбросил вверх и странным образом отрезвил; я мгновенно узнал своих похитителей.
Это оказались недавние знакомцы по ДТП - дорожно-транспортному происшествию в столице: одноухий и тот молодой, что ползал у меня на капоте. Морда молодого только начала подживать, но все ещё была болезненно припухшей - это я отметил с удовольствием. Плотного коротышку продолжала (как и на трассе, где меня гаишники оформили в морг) украшать белая марлевая повязка. Он с автоматом на плече стоял в трех-четырех шагах и злобно целил мне в живот. Молодой примеривался снова лягнуть меня куда побольнее.
- Не надо!.. - сказал я то, что они и ожидали. - За что?..
Они громко заржали. Так обычно, несколько натужно, хохочут перед убийством или инымм насилием, - взбадривая себя для дела.
Мы стояли на холме, полого спускающимся к березовой роще, которая была метрах в трехстах от нас. Еще ниже угадывалась деревушка, а к нам, хорошо заметный сверху, тянулся след от примятой травы, - прямо под задние колеса синего джипа, на котором и приехали.
Я быстро приходил в себя. В небе, несколько болезненно для моей избитой головы, пронзительно высвистывал песенку жаворонок. Ему вторили кузнечики, ещё какие-то шуршащие твари; было ярко, пряно от трав и душно. Молодой бандит отошел на пару шагов и, коротко разбежавшись, прыгнул ногой мне в грудь. Это был, скорее, толчок.
Я перехватил его ступню под мышку, быстро, всем телом дернулся влево, тут же с удовлетворением услышав громкий хруст мелких косточек пясти, вернее щиколотки (может, все вместе). Он заорал, падая передо мной, но я, помня об устремленном на меня автомате, сгреб парня в охапку, поднял, развернул щитом, придерживая правой рукой за шею, а левой лоб и затылок. Тут пальцы мои нащупали его глазницы и... не знаю, раздражение... может, недавние его удары... но я выдавил ему оба глаза.
По пальцам горячо брызнуло, раздался душераздирающий вой, нервы коротышки не выдержали, и я услыхал... нет, почувствовал своим ещё живым щитом удары: пули с хлюпаньем входили в тело; я бросил парня на коротышку, сбил с ног и - это было не сложно - разоружил.
Как всегда, основное действие прошло мгновенно. Одноухий продолжал барахтаться под телом друга, выбраться ему мешали вывихнутые пальцы правой руки: я неловко выдирал автомат и повредил их.
- Сволочь! Сволочь! - твердил одноухий.
Я огляделся; шагах в пяти-шести была вершина холма. Повернувшись к похитителю, я вытащил его из-под товарища. Коротышка подвывал и ругался, держа перед собой кисть, словно невесть какое сокровище. Я ощупал его, нашел пистолет в плечевой кобуре и пристегнутую к поясу "лимонку". Очень хорошо.
Молодой парень, уже успевший отойти в мир иной (окровавленные глазницы пусто смотрели прямо на солнце), одарил меня кастетом, складной опасной бритвой и ещё одним пистолетом. Вместе с автоматом - целый арсенал.
Оставив коротышку стонать и ругаться, я прошел на вершину холма.
Чувствовал же!.. Это был обрыв. Холм - вернее скала - совершенно отвесно падал вниз. Метрах в тридцати ниже, прямо подо мной, росло чахлое деревце, распялив обе свои ветви в немой мольбе о спасении. Мне так виделось.
Впрочем, наверное, деревцу там, на скале, неплохо жилось. Пропасть низвергалась ещё метров на тридцать пять. Глядя вниз, я понял, почему усопший молодой пинал меня ногами: хотел спихнуть таким образом с обрыва.
Будет вам обрыв!
Я подошел к коротышке. За это время он, оказывается, пришел в себя. Это проявилось в резком рывке мне навстречу; мужик ткнул меня левым кулаком в нос и тут же (я света белого не взвидел!) ударил ногой в пах.
Больно было так... как всегда бывает в таких случаях. Кто не испытывал, тому не объяснишь.
Я разозлился, как редко даже со мной бывает. Все ещё согнувшись, я увидел его ноги совсем рядом и повторил его удар, но не ногой, а кулаком. Попал. Одноухий с воем нагнулся. В радостной злобе я тут же поймал его здоровое ухо и с памятным треском отодрал.
Для симметрии.
Схватив его за шиворот, подтащил к обрыву. За всей этой потасовкой ведь даже не допросил. Перекрывая его скулеж, я рявкнул:
- На кого работаешь, паскуда?
- Сволочь! Сволочь! - это я разобрал.
Стукнул стволом автомата по ребрам.
- Кто устроил на меня охоту?
- Сволочь! Ублюдок! - и, - Покойник! - это я тоже разобрал.
Еще раз ударил.
- Кто убивал распространителей наркоты?
Последний вопрос я задал просто так, навскидку. Мужик продолжал ругаться. Я сбил его с ног и, помня Шварценеггеровскую забаву, за ногу вознес бандита над бездной.
- Что за киллер орудует в городе? Кто начал войну? Зачем охотятся за мной?
- Ты, сволочь! Ты! - завопил вдруг перетрусивший мужик.
- Что? - не понял я.
- Ты - киллер! Поэтому и приказано тебя замочить.
- Кто приказал?
- Не знаю. Нам передал приказ Семен.
Мужик весил килограмм восемьдесят, и рука моя стала уставать. Я крепче сжал его щиколотку и продолжил.
- Вы начали первыми. Я убил всего одного. Да и то случайно.
- Всех! Всех ты!
Я начал понимать.
- Вы что, думаете, это я убрал всех ваших распространителей? Зачем?
- Не знаю. У нас считают, ты хочешь все взять в свои руки. Все распространение.
- Зачем?
- А бабки? Отпусти меня! Что ты из себя строишь? Да за такие бабки?!.
В этот момент что-то так ужалило меня в шею!.. Я дернулся, огромный слепень улетел,.. но и мужик тоже...
Не удержал.
Я смотрел, как вопя и вращаясь, падает безухий почти вплотную к скале прямо в воду. Река делала здесь поворот, и это был внутренний берег, так что, можно было надеяться на большую глубину. Несмотря на высоту, мой летун мог выжить.
Увы!
Он напоролся на деревце. Так неудачно!.. Пролетев сквозь ветки, попал головой в развилку, и в воду упали уже отдельно туловище и оторванная голова.
Ладно.
Я обыскал труп молодого бандита ещё раз. Бумажник. Водительские права. Сухов Александр Леонидович. Пластиковая банковская карточка. Доллары. Доллары - это хорошо. Я насчитал почти две тысячи. И около тысячи рублей.
Александра Леонидовича я тоже сбросил вниз, чтобы не привлекать пытливых следопытов.
В джипе, в бардачке лежал "узи", аналогичный моему в "Мерседесе", и два рожка с патронами к "калашникову". Оружием я был обеспечен. Я подсчитал: один "калашников" с запасными рожками, два израильских пистолета-пулемета, два "макарова" и мелочь типа кастета, бритвы ипрочего. Чего уж там, пригодится.
Я распихал оружие по всем углам, сел в машину. Ключи оказались на месте, а то я в последний момент испугался, что упустил их вместе с безухим коротышкой. Нет, все о'кей.
Я доехал до деревни и никого не встретил вплоть до самого "Сельпо". На крыльце магазина сидело двое: невероятных размеров кавказоид - лохматый, грязный и, по неуловимым признакам, с примесью безродной крови какой-то местной дворняги, - а рядом с собакой, прислонившись к её могучему плечу, сидела беленькая босая девчонка.
- Девочка! - ласково обратился я к ней. - Я тут заблудился. Не подскажешь, как доехать до города?
Кавказец немедленно встал и лениво, но всем видом выражая дружелюбие, подошел к машине, каким-то образом ухитрившись засунуть чудовищных размеров голову мне в окно.
- Вы его прогоните, - посоветовала аборигенка. - А то блох напустит. По морде его, или по носу - он этого не любит.
- Зачем же?.. - льстиво сказал я. - Животных нельзя обижать.
- Попрошайничает, ой, попрошайничает, - по-старушечьи посетовала девочка.
Она подошла к собаке и дернула её за шерсть. Кавказец вздохнул и покорно убрался из окошка.
- Езжайте сейчас вот по этой дороге, мимо церкви и никуда не сворачивайте. Километров пять будете ехать пока не приедите к асфальтовой дороге. Тогда поворачивайте направо и езжайте прямо до города.
- Долго ехать-то? - поинтересовался я.
- Километров двадцать пять.
- Спасибо, девочка, - поблагодарил я. - Жаль, у меня нет ничего для твоего друга.
- Для друга? А... - девочка посмотрела на собаку, уже валявшуюся в пыли возле крыльца. - Перебьется. И так жрет ведрами, тунеядец.
Следуя указаниям девочки, ехал без хлопот.
День близился к концу. Я думал, сейчас часов пять-шесть. Мерзавцы, паковавшие меня в склеп, сняли даже часы. Хотя почему "даже"? Часы швейцарские, я отдал за них три тысячи баксов.
В кармане обнаружил помятую пачку сигарет. Закурил. Дела идут как-то слишком шустро, подумал я. Меня с самого прилета в Нижний не оставляет смутное ощущение, что за мной кто-то следит. Кто-то очень ловкий и очень наглый. Наглый, потому что наверняка зная, кто я, все равно осмеливается следить, да и действовать весьма эффективно. Этот некто опережает меня на шаг, даже на полшага. Как только я сюда прилетел, начались убийства. Гешу-Нюхача пришили почти у меня на глазах. Видимо, требовалось наверняка связать мою личность с этими смертями.
Какой-то "Опель", обгоняя на встречной полосе "Жигули" восьмой модели, чуть не вылетел мне навтречу. Идиот! Поймать бы и надрать уши! Я ухмыльнулся, вспомнив безухого, за два дня ухитрившегося потерять не только уши, но и голову. Царство небесное, ханжески подумал я.
Пригород. Еще через полчаса будет центр. Когда меня накачали наркотиками, в ту ночь убили Лома. Я смутно помнил, что встречался с ним. Значит, нашу встречу проследили, зафиксировали, и Лома убрали. Те, кого пришил я, не в счет. Хотя почему не в счет? Все это штрихи к образу убийцы-садиста, каким должен выглядеть я. Остался один Чингиз. Это в том случае, если ограничиться нынешними связями, кои сразу бросаются в глаза. А если копнуть глубже, туда, в подростковые глубины, то прихватят и Ловкача.
Меня осенила догадка, от которой все похолодело внутри: Таня. Для извращенцев, решившихся на все, она прекрасный объект для грязных целей.
Я должен их опередить. Я во что бы то ни стало должен их опередить. Но кого? Я даже не подозревал, кто та тень, что преследует меня? Кто?..
Я решил ехать к Тане.
В Нижнем (я невольно сравнивал с Москвой) на дорогах было, конечно, пустовато. Выехав на проспект Семенихина, я уже сворачивал на улицу Михайлова, когда во встречном синеньком милицейском "жигуле" увидел капитана Кашеварова, то бишь, Ловкача. Он куда-то сосредоточенно гнал казенную машину. Пользуясь относительной пустотой движения, я резко развернулся и скоро прижал - гудком и маневром, - Константина к обочине.
Ловкач в упор не видел меня, пока я сам не выпростался из джипа. Видимо, оставив меня так недавно в автосервисе с "Мерседесом", не мог связать с чем-то другим. Так бывает.
- Ты чего? А "Чироки" откуда? - удивленно спросил он.
Костя был поражен даже сильнее, чем я думал.
- Почему ты здесь? Что случилось?
- Успокойся, капитан! - сказал я, хлопнув его по плечу. - Все нормально. Машина - это боевой трофей.
- Какой такой трофей?! Разве ты не в автосервисе?..
- Как видишь. Но возле твоего автосервиса меня и похитили.
- Как похитили?! Кто?
- Те же самые, кто меня в морг засунул. Еще раньше в Москве мы с ними в ДТП познакомились.
- Это о ком ты рассказывал? С кем столкнулся на дороге?
- Вот-вот. Они меня привезли за город и хотели с обрыва столкнуть.
- Ну и?.. - Константин напряженно ждал.
- Что? Конечно, упали они.
- Ты их убил?
- Одного. И то случайно. А второго свой прихлопнул. Нервы не выдержали и дал очередь..
Я рассказал Косте подробности, но он плохо слушал. Мысли его были заняты чем-то другим. Я прямо спросил, о чем он так задумался?
- Что мне теперь делать? Я обязан доложить.
- Кому? Ты что - совсем? - сказал я, когда иссяк запас моих ругательств. - Что ты будешь докладывать, если я тебе ничего не говорил? Я тебя сейчас не слышал, ты мне ничего не говорил. И наоборот.
Все-таки я начинал уставать от всех этих беспрерывных военных действий.
- Не вздумай рта открыть. В крайнем случае, позвони полковнику. Кстати, у тебя мобильный телефон с собой? Мне Сергееву надо позвонить.
Он дал мне свой телефон. Очень неудобно без телефона. В который раз со злобой помянул напавших мнимых гаишников, лишивших меня в числе прочего и телефона.
- Это Фролов. Я звоню по поводу адресов. Еще не выяснили?
Полковник умел работать. И, просительно помахав в воздухе пятерней, я уже брал у Ловкача ручку и листок. Стал записывать. Листок с адресами я аккуратно сложил и спрятал в карман.
- Новости есть? - спросил меня полковник, когда с делом было покончено.
- Как сказать... - я решил опередить Ловкача. - Было ещё одно покушение.
- Когда? На кого? - воскликнул Сергеев.
- На меня. Часа два назад. Двое. Еще из тех, с кем в Москве позавчера познакомился.
- Ну и...
- Несчастный случай. С обоими. Я вам потом доложу при встрече. Или капитан Кашеваров доложит. Он как раз здесь. Я по его телефону звоню.
Наконец, заверив, что буду держать его в курсе, я отключился.
- Не мог бы ты мне одолжить свой телефон? - нагло спросил я Ловкача и получил отказ.
- Тогда я ещё сделаю пару звонков, - сказал я.
Сначала я позвонил Тане. У неё все было хорошо. Я сообщил, что стою с Константином на улице Михайлова и скоро заеду к ней.
Ловкач стоял рядом и слушал, поэтому я закончил сурово.
- Приготовь мне, крошка, что-нибудь пожрать. Жрать хочу, как собака.
Она усмехнулась перед тем, как положить трубку:
- Солдафон!
Потом я набрал номер своего офиса в Москве.
- Охранная фирма "Цербер", - пропела трубка голоском Лены и тут же, узнав меня, взвизгнула от радости.
- Скоро, скоро буду, - ответил я ей и приказал: - Соедини меня с Ильей.
- Щас. А у нас тут такое!.. Соединяю.
Илья поднял трубку.
- Ало!
- Илья! Это я, Фролов. Я хотел...
- Иван! - перебил он меня. В голосе чувствовалась некоторая нервозность. - Иван! Что ты там творишь? Сегодня утром звонили из администрации. Ты что, не понимаешь, чем это может кончиться? Мне прямо сказали, что если ты немедленно не вернешься, будут применены адекватные меры.
Я понял, что в его голосе звучала не нервозность, а то, чего раньше не слыхивал от своего всегда спокойного зама: злоба.
- Остынь! - приказал я.
- Как же остыть, когда нас прихлопнут, как мух! Мне дали время до завтрашнего полудня. И звонить ты должен отсюда, из Москвы. В противном случае, нами немедленно займутся.
- Я говорю, остынь! До завтра ещё есть время. Кто звонил? Салимханов или Кузнецов?
- Кузнецов.
- Это хуже, но не смертельно. На всякий случай, подготовься к экстренной эвакуации. Ну, сам знаешь. Завтра я тебе позвоню. Или сам приеду. Давай. До завтра.
Он положил трубку. Ловкач внимательно смотрел на меня.
- Значит, телефончик не даешь? - спросил я.
Он мигнул и напряженное выражение сошло с его лица.
- Нет, конечно, я же материально отвечаю.
- А я тебе залог дам. До завтра.
Он вновь мигнул, и я уже прятал телефон.
- Вот тебе пятьсот долларов в залог. Если я потеряю твой телефон, доллары твои. Если завтра возвращаю телефон в целости и сохраности, твои здесь только двести баксов.
Конечно, согласился. Что ему ещё оставалось?..
Седьмой час.
Я сел в машину, и скоро Ловкач, в нерешительности смотрящий мне вслед, уменьшился и исчез за поворотом.
Через десять минут я уже вбегал на четвертый этаж к Тане. Странное чувство ощущал я к этой девушке, чувство, которого я ранее никогда не испытывал. Казалось, что у меня внутри появился какой-то сильный источник, который разливал тепло по телу, как только я видел её, думал о ней, или стремился к ней, как сейчас.
И это было приятное чувство...
ГЛАВА 22
В ГОСТЯХ У ЛЕЩИХИ
Я был дома. Дом там, откуда тебе не хочется уходить. Дом - это стены и люди, без которых, конечно, о стенах и говорить не стоит. И ещё запахи, которые не замечаешь, но если где в другом месте или в другой обстановке учуешь, сразу отзываешься душой.
Впрочем, в данный момент пахло очень даже явственно и столь восхитительно, что меня, словно веревкой, потянуло на кухню. На сковороде что-то шипело, шкворчало и подпрыгивало; мясо и где-то еще, я чуял, жаренная картошка, а на столе соленые огурчики, какой-то салат, и рядом Таня, на свое убийственное платье надевшая белоснежный фартучек с кружавчиками.
От всего этого божественного вида у меня, видимо, стало глупое лицо. Во всяком случае, Таня не выдержала, рассмеялась.
- Садись, Аника-воин. Уже все готово.
Таня достала из холодильника запотевшую бутылку водки.
И это было хорошо!
Странно, но нигде и никогда я не чувствовал такого уюта, как здесь. Вечер подрумянил небо, и желто-оранжевые косые лучи, попеременно отражающиеся от окон противоположного дома, обливали нас обоих светом и теплом. И, как это бывало со мной, - очень редко, но в этот раз глубже, чем когда-либо, - я внезапно почувствовал, погружаясь в это золотистое вечернее марево, странность жизни, странность её волшебства, будто на миг все кусочки мозаичных проявлений сложились в сезамное заклятие, и медленно открылись тяжелые глухие врата неведомых, затаившихся до поры пещер души. Совсем близко - рукой дотронуться - её нежно-розовое лицо и прозрачное сияние синих глаз, когда она окидывала меня ласкающим быстрым взором. Говорили же мы о всяких мелочах и лишь для того, чтобы вообще говорить. Ужин закончили черным кофе. Наливая себе вторую чашку, Таня сказала:
- Когда я была девочкой, для меня сама мысль заманить тебя к себе вот так, наедине, казалась из области грез.
- Тогда никто не мог бы заподозрить тебя в таких девчоночьих мыслях.
- Мы, женщины, в любом возрасте можем вас обмануть. Во всяком случае, скрыть мысли.
- Так ли?
- Уверяю тебя. Как быстро течет время. Я отлично помню, как бегала за тобой и хотела играть вместе с вами. Только иногда игры у вас были страшными. Особенно, когда появлялся Лютый. Ты казался и был добрее. И знаешь, когда Лютый делал вид, будто собирается снять с меня скальп, или резать ремни из кожи моей спины, или загонять иголки под ногти - а ведь он это мог и кое-что делал - я была согласна. Глупый детский мазохизм, но вы были такие сильные...
Она улыбнулась, глядя куда-то далеко в прошлое затуманенным взором, а я чувствовал, как поднимается во мне волна глухого недоумения.
- Неужели ты до сих пор веришь в существование Лютого? - я старался, чтобы голос не выдал то, что я чувствовал, и мне это удалось.
- Конечно, - она недоуменно взглянула на меня. - Ты опять?
- Что? - переспросил я.
- Неужели ты серьезно? Конечно, был Лютый, и был ты. Мы всегда думали, что это у тебя бзик на личной почве. Ты так яростно отбивался от его существования, что мы решили: это из-за твоего отца.
- При чем тут отец?
- Он же вас бросил. Еще когда жил с вами у него была вторая семья, дети. А потом он окончательно перешел к той женщине. Вот ты и возненавидел своего отца и своих сводных братьев и сестер.
- Откуда вы это все взяли?
- Лютый говорил. Он тебя, наоборот, очень любил. Посмеивался, конечно. Он даже одеваться старался, как ты. Вначале мы просто предполагали, что это ты нам голову морочишь, когда появился с Чингизом под новой кличкой. Но вас, конечно, нельзя было спутать: слишком вы разные.
Впервые за эти годы... я почувствовал, как категоричный запрет этой темы несколько ослаб; удивление, испытанное мной, приглушило гнев и нестерпимый протест.
- Ну хорошо. Расскажи мне... о нас с ним, - я нерешительно пробирался сквозь дебри слов.
- Конечно, если ты действительно не помнишь... Я не понимаю. Если ты говоришь правду, значит, это что-то с твоей памятью, или подсознанием. Ты же знаешь, можно внушить себе что угодно.
- Можно, - сказал я, и она быстро взглянула на меня. И ещё раз. Помолчала.
- Вы были просто два разных человека. Он - прирожденный убийца, хладнокровный, расчетливый, сильный. Для него это было естественно убивать. Он существовал в других системах нравственных координат. Его словно выдернули из каменного века, из дикого племени. Его племенем стали мы. Он нас даже как-то любил. Тебя особенно. Все другие просто не были для него людьми: ни сострадания, ни жалости, даже мысли об этом не возникало. И страха - тоже. Зверь в чистом виде. А внешне вы были похожи, но он как-то крупнее, больше, взрослее.
- Хватит! - сказал я. - Довольно!
Наблюдая за Таней, я видел: тщательно подбирая слова, она старалась свои воспоминания как можно точнее облечь в слова. Но её слова (которым я не мог не верить) так противоречиво отдавались во мне, поднимая такой протест в душе!..
- Хватит! - повторил я и готов был сказать еще... но тут, одним ударом сметая мой гнев, грянул телефонный звонок.
Таня облегченно вздохнув, взяла трубку.
- Да, слушаю.
Сдвинулись брови. Отняла трубку от уха.
- Это опять Буратино. Тебя.
- Ало! Фролов? - Я тоже узнал этот писклявый раскатистый голос. Молчишь? Значит, ты.
Все повторялось. И вновь опережали меня. Во всяком случае, я это так воспринимал. Душила ярость.
- Тебя же предупреждали, живчик, что начнем с бабы. Ты не рад, что она ещё жива? Ты хочешь, чтобы мы её на твоих глазах кончили? Нет? Тогда открывай свои вонючие уши и слушай внимательно...
Я нажал на кнопку сброса, но трубку положил рядом с аппаратом. Налил ещё рюмку водки, выпил. От ярости боялся смотреть на Таню.
Наконец, успокоился немного.
- Пойду пройдусь. Через полчаса или час, в крайнем случае, вернусь. Никому не открывай, крошка. У тебя пистолет есть?
Она кивнула.
- Вот и хорошо. Не бойся, до этого не дойдет, это я просто так спросил.
- Что он сказал? - с тревогой спросила она.
- Ничего. Угрожал.
Я чувствовал, что вечер, так хорошо начавшийся, испорчен окончательно. Посмотрел на настенные часы: шесть пятнадцать.
- Может, не пойдешь? Ты куда?
- Я быстро. В магазин зайду.
Поцеловав её на прощание (это вышло просто и естественно), я ещё раз предупредил её об осторожности и вышел.
Ниже этажом на ступеньках сидел Пашка-Сатана.
- Ты чего тут торчишь? - спросил я. - Послал кто?
Он вскинул на меня глаза и покраснел.
- Я не "шестерка", чтобы меня посылали. Я просто сижу.
Положим, я ему не совсем поверил. Вернее, инстинктом въевшееся в мою плоть и кровь постоянное профессиональное недоверие к людям (ко всем без исключения!), оставляло место подозрениям. Однако, в отличие от некоторых своих бывших коллег, недоверие не превратилось во мне в банальную шизофрению, коей страдает большинство гэбэшников на пенсии. Почему бы пацану не захотеть увидеть кумира своих детских грез, разбуженных рассказами матери?
Я понимал.
- Почему не зашел? Знаешь же квартиру.
- Так вы же не один, - пояснил он и отвернулся.
- Ну вот еще, сложности какие. Мы же с тобой друзья?
- Друзья, - нерешительно сказал он.
- Тогда вот что. Ты сейчас свободен?
- Конечно.
- Пойдем со мной. Мне нужен магазин, где продают электронику и телефоны. Срочно, понимаешь, нужен телефон. Знаешь, где поблизости может быть такой магазин?
- Конечно. Минут десять ходьбы, через улицу.
- Вот и отлично. Пойдем.
По дороге он понемногу оттаял. Сообщил даже, что передал мой привет матери. И как это её обрадовало. Все это он высказал сурово, без эмоций, как и подобает мужчине. И, как ни банально это звучит, я в нем увидел себя. Еще, вспомнив себя в его возрасте, я подумал, что у меня-то не было кумира, мужчины, которому я хотел бы подражать. Киношные герои не в счет.
Я положил ему руку на плечо.
- Где ты живешь? Далеко?
- Да вон в том соседнем доме.
- Вот что, Павел. Сейчас в магазин зайдем, а потом к тебе в гости. Приглашаешь в гости? Мы ненадолго.
- Конечно. Только...
- Мама дома?
- Дома.
- Вот мы ей и сделаем сюрприз. Все время хотел твою маму повидать, мы ведь выросли вместе.
Мальчишка был рад, я видел. И я понимал, как может ему запомниться мой визит. Время много не потеряю, решил я.
В магазине я быстро выбрал модель телефона помощнее. Мне тут же в кассе демонстративно подсчитали, сколько я должен заплатить рублей вместо двухсот двадцати условных единиц и взяли, однако, доллары. Аппарат и чек сунули в пакет.
Пашка проводил меня и в продовольственный магазин. Я купил коробку конфет, торт, килограмм апельсинов и бутылку шампанского.
- Пошли к маме. Она рада будет?
- Конечно! - едва не возмущенно вскинулся он.
Я, однако, не был так уверен. Но ради пацана надо было идти. Я видел, как тревожно и радостно сияло его лицо.
Он что-то уронил по дороге. Шарик. Быстро поднял.
- Что это? - поинтересовался я.
- Так, ничего, - он странно смутился.
- А все-таки? Можно посмотреть?
Поколебавшись, он протянул мне предмет. Стеклянный шарик сантиметров трех в диаметре с наплавленными внутри звездочками.
- Красиво, - сказал я. - Для чего он?
Пашка внимательно посмотрел на меня.
- Это мой талисман. Он меня не раз выручал. С детства, - серьезно добавил он.
- Хорошая вещь, - похвалил я. - У меня такого не было никогда.
Я благоговейно отдал ему сей талисман.
Однако мы пришли.
По стандартно-пустому, стандартно-вонючему подъезду, разрисованному по стенам первобытно-стилизованными изображениями женских плодородных форм и родственно-ритуальных слов (все многократно замазывалось и тут же мистически проступало вновь), мы поднялись на второй этаж.
- Вспомнил, - сообщил я Пашке. - Я здесь уже был. Мама твоя здесь и жила. А где твои дедушка и бабушка?
- Умерли. Мы с ней вдвоем живем.
- Ну, пришли, - сказал я. - Звони.
Дверь открылась. Женщина, стоявшая у входа, мало напоминала Лещиху. На улице я бы её не узнал. Но все же что-то смутно знакомое проглядывало сквозь обрюзгшие, оплывшие черты. И мое узнавание отразилось в её чертах: она медлено, словно протестуя или прикрываясь, вытянула ладонь.
- Нет!.. Лютый! - сказала она так, словно увидела привидение.
Этого мне ещё не хватало.
- Ма! - воскликнул Пашка, тревожно переводя взгляд с меня на мать. Это Оборотень! Фролов. Я же рассказывал.
- Оборотень! - выдохнула Лещиха. - Оборотень!.. А я испугалась, - с облегчением сказала она. - Открываю, а тут... Я как раз вспоминала... После того, как мне Паша сказал, - кивнула она на своего сына.
- Ма! Чего ты не впускаешь? Дядя Иван в гости пришел.
- Ох, заходите, конечно...
Через обрубок коридора - "обувь не снимать, не снимать!" - прошли в убогую комнату.
Я огляделся. Старые, кое-где отстающие обои, продавленный диван, кровать, небрежно застланная, стол, с подсыхающими объедками, и - Лещиха, располневшая, рыхлая. Волосы у нее, кстати, были совсем светлые, выкрашенные в цвет соломы, очень короткие.
- Иван! Ваня! Мне Паша говорил, что ты приехал, но я не думала, так неожиданно, - говорила она, тяжело дыша и вдруг прикрикнула на сына. - А ты чего?.. Ты почему не предупредил?
И лицо было раскрашено с какой-то небрежной яркостью... Но мокрая полоска, - след не удержавшейся на виске капли пота, - разъевшая розовый слой, но дрожащие, густые от краски ресницы, и размазалась резкая граница помады на изгибе губы... На ней был ситцевый, застиранный домашний халатик, из которого вырастали уже теряющие упругость конечности, а в углу, на гладильной доске, где ожидал раскаленный утюг, навзничь лежало выходное платье.
- Ну что, узнаешь? - сказала она, и поспешно добавила. - Я сейчас только переоденусь. Я мигом.
Она неловко подхватила платье и ушла в ванную. Однокомнатная квартира, нищета родного угла...
- Пашка! Давай стол освобождай, пока мама переодевается.
Мальчишка суетливо кинулся к столу, что-то схватил, что-то уронил, однако, подбадриваемый мною, справился, и когда Лена вошла, на столе красовался торт, в вазе лежали апельсины, а коробка конфет и шампанское дополняли праздник нашей странной встречи.
Мы сели за стол, я открыл шампанское, налил в пузатые бокалы, обнаруженные в серванте и немного плеснул Пашке.
- Немножко можно, - улыбалась Лещиха толстым лицом.
Конечно, можно, подумал я, вспоминая себя в его возрасте и то, какое количество спиртного втихомолку могли влить в себя...
- Ты надолго к нам? Сколько лет... Боже мой! Я прямо не верю глазам. А я думала, ты всех нас забыл. А помнишь?.. Расскажи о себе. Мы ведь с тобой не чужие. Я слышала... Рассказывай.
Чтобы заполнить мучительные лакуны её смущения, я стал, больше, впрочем, для пацана, рассказывать о себе, выуживая из калейдоскопа памяти особенно яркие самоцветики, которые я берег для таких вот застолий.
И у Пашки раскрывался рот от изумления и восторга.
И ещё я подметил: Лена была странно рассеяна, словно прислушивалась не к моим словам, а к чему-то постороннему, грозному и неизбежному... Я налил ещё шампанского, потом она сама рассеянно подлила себе...
Через полчаса я решил закругляться и, после завершения очередного смелого рейда в тыл чеченских "духов", я помолчал, давая возможность паузе изменить строй беседы. Пашкин рот медленно закрывался.
- Ну как ты? - спросил я, и Лена, как бы очнувшись, испуганно посмотрела на меня.
- Хорошо. Как же, лучше всех.
- Почему ты, увидев меня, сказала "Лютый"?
- Не знаю, в первый момент подумала, что это он. Не знаю, ты же слышал, что почти всех наших убили.
- Ты думаешь, это он? Но это же чушь!
- Почему? Ты всегда его избегал. Требовал, чтобы мы не упоминали при тебе его имени. А он просто смеялся, когда мы говорили с ним о твоей неприязни к нему.
- Ты серьезно?
Она непонимающе посмотрела на меня.
- Что?
- Ну, о Лютом?
- Конечно, я хорошо помню. Он называл тебя белоручкой, чистоплюем и неженкой. Но в общем-то к тебе он неплохо относился. Он же твой брат. Хотя жили вы, кажется, отдельно. Он с отцом, а ты с матерью. У вас, кажется, разные матери, да?
- Ты его, действительно, помнишь?
- Ну конечно. Когда сейчас дверь открыла и увидела тебя... Вы ведь так похожи, только он... зверь, а ты нет, ты добрый. Когда наших стали убивать, я подумала, что это Лютый приехал следы заметать. А что, с него станется. Для него человека убить проще, чем таракана раздавить.
Она посмотрела на бутылку и хихикнула.
- Давно не пила. Шампанское такое пьяное. Я ещё немного?..
- Конечно, - я поспешил разлить остатки. Ее пьяное кокетство печалью отозвалось в душе. В ней, как в зеркале, я увидел... не смерть, нет, просто время, с нестерпимым равнодушием обезобразившее когда-то нежные детские черты. Впрочем, Ленка никогда не была красавицей, а наше здоровое единение с ней объяснялось, разумеется, другими причинами.
Я поднялся. Пора. Рад был повидаться. Конечно, зайду. И сын у тебя замечательный.
- Проводишь меня, Павел?
Можно было не справшивать. Он даже не отдал мне пакет с телефоном, гордый тем, что может помочь.
ГЛАВА 23
ЗАМЕЛИ
Однако, уже вечер. Погода начала портиться, и сквозь душноватое предгрозовое затишье, уже кое-где прорывались резкие порывы ветра. На углу, под шатром цветущей липы, обдало нас буйным благоуханьем. Распяленные перья узких острых облаков покрыли небо, и где-то спрятавшееся уже солнце подкрашивало дальние, к горизонту крепящиеся концы в нежно-розовые цвета, быстро, однако, темнеющие. Ветер пронесся вдоль тротуара, слепо наткнувшись на нас, и задребезжал висящий на тросах красный диск "кирпича".
Я вытащил из кармана казенный телефон Ловкача и набрал номер Тани. Она схватила трубку почти мгновенно.
- Где ты? Что-нибудь случилось?
- Ничего не случилось, крошка. Я уже возле дома. Кстати, знаешь, кто меня провожает? Ни за что не догадаешься, - сказал я и подмигнул улыбнувшемуся Пашке.
- Костя?
- Ну, если бы он, то и гадать не надо было. Нет, Павел Лещев. Помнишь Лену Лещеву? Это сын её, тринадцати лет от роду. Крепкий парень, - добавил я специально для него. - Ну все, сейчас буду, - сказал я и нажал кнопку отключения.
Подошли к Таниному подъезду. Я поднялся на ступеньки и повернулся к Пашке, сейчас он останется здесь, внизу, среди крепнувших порывов ветра и стремительно падающей грозовой тьмы.
- Ну что, друг, прощаться надо. Мне пора.
- Да. Вот сумку не забудьте, - сказал он, протягивая мне пакет и заглядывая в глаза.
В этот момент глаза его округлились, причем выражение их не поспевало за мелькнувшим во взгляде ужасом; что-то веселое продолжало светиться на его лице, но мгновенно погасло.
- Дядя Иван! - завопил он, а я уже и сам действовал как автомат, рассудком не поспевая за тренировнными рывками тела; я выбросил вверх правую руку, поймав чужое предплечье... остро сверкнуло лезвие ножа!.. Я помог левой рукой и, продолжая убийственный замах по широкой дуге вниз, отправил лезвие за спину... Вопль, хрипенье...
Развернувшись, я отпихнул незнакомого мне мужчину, обеими руками схватившегося за рукоять, торчащего в брюхе ножа... На меня перли из подъезда два раздувающихся от быстрого передвижения рыла, словно щитом прикрывающих себя стволами: первый - пистолетом, второй - автоматом Калашникова.
В какой-то момент я испугался за Пашку, застывшего на линии выстрела, поэтому постарался не дать убийцам выстрелить; с быстротой молнии метнув правую руку вперед (это я умею!), уже с хрустом чужих пальцев вырывал пистолет и, откинувшись назад для риверса, прямым ударом ноги встретил третьего убийцу. Нога, задев твердое железо, тут же утонула в мягком теле. Пистолет я вырвал; обезоруженный мужик ревел, потряхивая кистью. Я заткнул ему глотку, сломав рукоятью пистолета нос. Последний из нападавших, после моего удара ногой пытался справиться на полу с автоматом. Я немедленно всем весом прыгнул на "калашникова" и, воткнув дуло пистолета в ощерившийся мне навстречу рот, дернул туда-сюда, с удовлетворением отмечая, как крошатся зубы.
В этот момент, ещё слабая и далекая, сверкнула молния, осветив драматическую сцену побоища. В мгновенном блеске, сразу погрузившем ещё светлый вечер в сумерки, я успел рассмотреть участников: забывшегося в позе эмбриона не известно каким сном первого из нападавших, свернувшегося вокруг рукояти ножа, и двух его "коллег", одинаково неловкими детскими движениями пытавшихся на полу выправить каждый свое: один - раздробленную переносицу, другой - окровавленный, полный обомков зубов рот.
Я оглянулся; Павел застывшим очарованным взором обозревал картину битвы. Блуждающий взгляд парнишки нашел меня, и я прочел - сквозь собственное неприятие и даже раздражение его реакцией - такую силу обожания и восхищения, что недовольство дешевизной так легко добытого уважения, тут же исчезло, смытое волной удовольствия.
Черт! Я почувствовал этот странный удар свинца в пол ещё до того, как понял, что, собственно, он означает. Звук рикошета, последовавший за ним, был искажен долетевшим-таки грозовым ударом. Стреляли, хоть и через глушитель, сверху.
Еще один выстрел, и новый неудачный рикошет поставил корявую точку на виске сидевшего рядом автоматчика.
- Спрячься где-нибудь! - крикнул я Пашке и тут же услышал торопливый топот по гулким бетонным лестничным пролетам: уцелевший киллер предпочел ретироваться. Я вспомнил, что чердачный выход открыт (в памяти промелькнула ушедшая уже в прошлое погоня за Пашкой), можно было надеяться, что убийца в первое мгновение заплутается на чердаке.
Четвертый этаж! Я почти пробежал мимо её двери, и тут, ударом распахнув её, - на площадку, с пистолетом в вытянутых руках, выскочила Таня. Дуло пистолета смотрело мне в лицо... и мгновенно нырнуло вниз.
- Вызови наряд! - крикнул я. - Внизу трое уже готовых. Попробую поймать последнего.
И прежде, чем она успела ответить, я помчался дальше наверх, перепрыгивая через ступеньки. Вряд ли у того, кого я преследовал, был среди жильцов сообщиник. Да я и не слышал, чтобы ещё кто-нибудь открывал двери, кроме Тани.
На верхней площадке, покрашенная красно-коричневой краской лестница на чердак. Распахнутый люк. Я поднялся до люка и, собравшись, рывком прыгнул вверх. Метнулся в сторону и замер. Тишина. Пыль. Светлые пятна чердачных окон. Только одно окно раскрыто. И, как в прошлый раз, - загромыхала жесть на крыше.
Я бросился к окну. Примерившись, прыгнул. Треск материи напомнил о гвозде, обнаруженном намедни. Хорошо, кожу не задел.
Вывалившись на плоскую крышу, откатился в сторону. И вовремя; пуля пробила просмоленный рубероид почти в том месте, где я только что был. Я лежал за вентиляционной будкой (полтора на полтора и два метра в высоту) и прислушивался. Было тихо.
Как часто играли мы здесь. Тут все было знакомо, и я вновь вспомнил, как мы использовали плоские крыши домов, гоняясь друг за другом, играя в наших и немцев, а чаще всего - в индейцев. Я снова почувствовал себя во главе своего племени - голые по пояс, за ухом воронье перо как атрибут свирепого индейского реквизита и дикие вопли, скопированные с идиотских завываний гэдээровских лубочных псевдодикарей. Тогда мы пускали друг в друга стрелы, чаще тупые, а иногда с заостренным гвоздем на конце, и они эффектно впивались в деревянные круглые щиты, выпиленные из фанерных сидений старых стульев. Но сейчас оружие было настоящее, и игра шла не на жизнь, а на смерть.
Я услышал звук его шагов и только начал определять местонахождение, как скрежет металла и сдерживаемое ругательство сказали мне все. Старая пожарная лестница в старых неремонтированных домах вещь ненадежная, и существует скорее для отчетности, нежели для спасения при пожарах. Я лично не помню случая, когда она бывала нужна. Вот ведь забавно, сейчас, когда евроремонтный ширпотреб захлестнул Москву и иные города, при пожарах стали гибнуть от того, от чего раньше было немыслимо: от продуктов горения. Наши бедные нищие "хрущевки", оголенные экономией строительства до состояния скелета, часто просто беленые изнутри известью, не могли никого удушить дымом. Сгорала мебель, тряпье - люди благополучно сходили вниз по бетонному голому подъезду - и никаких тебе отравлений, и пожарная лестница благополучно ржавела, истончалась, свободно болталась в кирпичной кладке. Снизу все выглядело довольно прочно, но это лишь до той поры, пока не используешь эту лестницу как путь к отступлению. Для этого надо быть либо идиотом, либо иметь чертовски крепкие нервы. Я услышал топот шагов и решил, что мой противник не обладает вышеозначенными качествами: он пытался отбежать в сторону, чтобы найти, вероятно, выход в другой подъезд. Я произвел предупредительный выстрел в воздух. Человек быстро обернулся в мою сторону, и рядом со мной в стене будки появилась отметина от пули. Показалось даже, я услышал щелчок выстрела. Потом мой противник схватился за прутья пожарной лестницы и исчез с крыши.
Я бросился за ним, недоумевая, кто больший дурак: он или я. Если у него был на крыше сообщник, то в дураках оказывался я, в противном случае спускаться под прицелом по ненадежной лестнице с пятого этажа было не очень умным ходом. Я бежал зигзагами, поминутно прикрываясь то вентиляционными будками, то телевизионной антенной, то непонятного назначения трубами. Вскоре я без помех подскочил к тому месту, где он исчез.
Он поднял голову в тот момент, когда я взглянул вниз. Увидев меня, он потянулся рукой к поясу, куда, видимо, сунул пистолет. Я прицелился в него, не зная еще, буду ли стрелять. И тут нога его соскользнула, он выронил пистолет и схватился за перекладину, которая от рывка очень легко согнулась. Он ещё попытался перехватиться рукой, ещё раз... и я услышал душераздирающий вопль. Сперва это был лишь вскрик удивления, который почти сразу перешел в вопль ужаса, а потом внезапно смолк. Он летел примерно с уровня третьего этажа и в полете успел зацепиться ногой за перекладину, что лишь развернуло его головой вниз. Я услышал глухой удар тела об асфальт внизу. И так неудачно, головой - шмяк! хрясть! - даже смотреть не хотелось.
Теперь я мог не торопиться. Я спустился обратно в окошко чердака, прошел в пыльном сумерке к люку, потом спустился по железной лестнице на площадку пятого этажа и - вниз. Навстечу с пистолетом наготове поднималась моя храбрая малышка. Я поспешил успокоить её.
- Труп, - сказал я, изгибом кисти сыметировав полет с крыши.
Напряжение отпустило её. Она вздохнула.
- А я наряд вызвала.
- Тут где-то пацан был. Надо не забыть телефон взять. Я с определителем купил. Надо у тебя поставить.
Она стояла с пистолетом в опущенной руке. Устала, наверное. Все эта катавасия кого угодно вымотает.
Я слегка ущипнул её за щечку.
- Не дрейфь, парень, все будет хорошо.
И она благодарно улыбнулась.
- Пойду посмотрю, что там внизу. И надо встретить ребят, - сказал я.
Я, не торопясь, спустился на первый этаж. Кое-кто из жильцов выглядывал из дверей, но не торопился выходить. Я их понимал.
Мужик с ножом в брюхе был ещё жив. Я не стал вытаскивать нож, чтобы не спровоцировать кровотечение. Второго навеки успокоил рикошет дружеской пули - имеется в виду, что пулю послал его друган.
На всякий случай я вызвал "Скорую помощь". Наряд все равно побеспокоится, но чем раньше, тем лучше. Дежурная, механически уточнив адрес, потребовала номер моего телефона. Я сказал, что звоню с мобильного, номер которого не знаю.
- Нужен номер телефона, - упрямо повторила коммутаторша.
Я дал номер Таниного телефона, тем успокоив хорошо проинструктированную служащую.
После этого я пошел за угол дома к пожарной лестнице. Мужик лежал на спине, неподалеку от бака с мусором. Рядом валялся пистолет с глушителем, а на мертвом, незнакомом мне лице застыло выражение ужаса.
Я поднял его пистолет. Вдалеке послышалось завывание милицейских машин - ближе, ближе. Одни трупы, подумал я. Трупы и больше ничего. Я теперь знаю, вокруг чего кружится этот кровавый беспредел, знаю, как много заинтересованных людей - больших и малых, но одинаково алчущих денег наблюдают за здешним спектаклем. Но я так и не напал на след реального убийцы. Можно, конечно, предположить, что нити тянутся к Семену и моему старому знакомцу Макару. Это все равно надо проверить. Кажется, подумал я, наступило время нанести визит в особняк Ленчика, так сказать, выступить в роли жука в муравейнике, дабы, растревожив наших насекомых, заодно всех и засветить.
- Брось оружие! - услышал я совсем близко...
Оглянулся. Широкая от бронежилетов милицейская гвардия грозно целила в меня автоматами.
- Брось оружие! - ещё громче заорал высокий толстомордый старший лейтенант, лицом и формой иксообразных ног смутно напомнившего мне Ленчика.
Я выполнил его приказ буквально, выронив на асфальт звякнувший пистолет.
Далее все завертелось по заведенному спецназовскому порядку: налетели, стали совать кулаки в морду (мою!), бросили к стене, лупили по ногам, ощупали все мои интимные места и наконец уложили на асфальт. Причем не только не слушали моих объяснений, но и тут же забивали слова обратно в глотку, отчего губы мои немедленно стали негроидными - лишнее доказательство того, что и Лысенко, и доктор Моро были не совсем уж неправы, игнорируя генетику - есть способы метаморфоз более быстрых.
Ладно, мне ничего не оставалось, кроме как подшучивать над собой. Тем более, что Таня рядом, тем более, что Ловкач, если что, подсобит, а полковник Сергеев распорядится... Надо только подождать.
Меня пинком под ребра заставили подняться. Подогнали машину и запихнули на заднее сиденье, тут же пристегнув наручниками за скобу к стойке двери.
Странно, Таня не спустилась. Жильцы, осмелев от многолюдства, издали тыкали пальцами в меня. Один раз увидел стоявшего в тени Пашку, напряженно всматривающегося в мою сторону. Я на всякий случай незаметно ткнул пальцем вверх, в окно Тани. Пашка исчез. Я все ещё ждал, чтобы меня кто-нибудь выслушал. Заболел затылок. Я попробовал - мокро. Кровь. Кто-то саданул прикладом.
Появился давешний старший лейтенант, так ловко разоруживший меня. Что-то сказав на ходу майору, тоже сильно суетящемуся, направился ко мне, пальцем на расстоянии зацепив сержанта, как оказалось - водителя.
Старлей сел впереди, рядом с водителем. Еще один сержант плюхнулся рядом со мной, и мы немедленно поехали.
Привезли в неизвестное мне отделение. В комнату завели понятых и обыскали. Пистолет с глушителем. Пистолет без глушителя. Тысяча двести долларов. Телефон. Ключ от машины.
Я порывался объяснить, меня не слушали. Составили протокол. Понятые расписались и удалились. Я просил дать мне позвонить. Лейтенант посмотрел на меня и ничего не сказал. Я ещё раз попросил позвонить.
- Может, тебе ещё и бабу сладенькую предоставить? А самим постоять на стреме?
Меня ответ удовлетворил, хоть и прозвучал в форме вопроса. Попробовал ещё раз объяснить, кто я. Меня не слушали.
Вывели из кабинета. Шли по коридору, потом вниз по лестнице в подвал. Побеленные бетонные стены, железная дверь. Мне все начинало не нравиться.
Зашли в комнату с единственным столом и стулом. Нет, ещё один стул в центре. Меня усадили на него и левую руку пристегнули наручниками к стулу, оказавшемуся привинченным к полу. Лейтенант сел за стол, оба сержанта стояли за моей спиной.
- Итак, - сказал лейтенант, - признаешься в убийстве двух человек и покушении на убийство ещё одного гражданина? - он заглянул в листок перед собой и добавил, - покушение посредством ранения в живот холодным оружием.
- Признаю.
- Тогда тебе не стоит отпираться в других убийствах.
Я подумал, что Ловкач все же доложил, мерзавец, о сброшенных с горы мужиках. Ответил уклончиво.
- Возможно.
Лейтенант обрадовался. Два амбала за моей спиной шумно переступили с ноги на ногу.
- Сейчас оформим чистосердечное признание и отпустим тебя домой. Конечно, с подпиской о невыезде. И свободен.
Было все разыграно так глупо, неубедительно, дилетантски... Хотя это мне так кажется. А если бы тут сидел простой российский гражданин, да попавшийся первый раз... Я-то помню ещё кое-что из теории допросов, учили в свое время. То, что кажется глупо-наивным со стороны, в нужной обстановке действует безотказно. Даже я, зная наверняка, что никогда не отпустят после чистосердечного признания, в какую-то секунду подумал: а вдруг?
- Сам будешь писать или диктовать начнешь?
- Что диктовать?
- Как что, чистосердечное признание, - наивно удивился толстомордый лейтенант. Он все более и более напоминал мне Ленчика. Я так и представлял, как слетит эта наивность, когда придет время закусить удила, то бишь взяться за меня по-настоящему.
- В чем?
- В убийствах своих прежних друзей-товарищей. Мы знаем, что приехал ты несколько дней назад, точнее пять дней назад, и сразу занялся мокрухой. За тобой числятся Минин Валерий Иванович по кличке Колобок, Никодимов Олег Витальевич по кличке Лом, Селиверстов Петр Леонидович по кличке Профессор, Вершков Георгий Сверидович по кличке Нюхач, Костомаров Сергей Витальевич покличке Костолом. Сегодня ещё двое, личность которых устанавливают.
- Кто числит? - спросил я.
- Не понял, - вскинулся старлей.
- Кто числит за мной эти убийства?
Лейтенант устало вздохнул и развел руками.
- Гражданин домой не хочет.
- Почему не хочу? Хочу. Но прежде я хочу, чтобы позвонили полковнику Сергееву в ФСБ. Он вам ответит на ваши вопросы.
- Мужики! - обратился лейтенант к амбалам за моей спиной. - Он над нами издевается, сладенький наш.
- Саня! - сказал кто-то из двоих. - Че мы с ним канителимся?
- И то правда, - согласился лейтенант Саня. - Давай.
Кто-то сразу так долбанул по шее, что меня выбросило из стула и, если бы не пристегнутая рука, лететь бы к самому столу.
Меня тут же подняли, усадили и повторили удар, а я повторил свой прежний полет. Били ребром ладони, удар подлый, следов обычно не оставляет, но сознание мутнеет и на нетренированного человека действует ошеломляюще.
Меня вновь подняли и усадили. Я едва не вывихнул пристегнутую наручниками левую руку.
- Почему меня бьют, лейтенант? - спросил я толстомордого, уже выходящего из-за стола.
- Подпишешь чистосердечное признание?
- Это глупо, лейтенант. Конечно, ничего не буду подписывать.
- Молчать! Молчать! - заорал он.
Удары подействовали, и я плохо себя контролировал. Вместо того, чтобы действительно молчать и перетерпеть экзекуцию, я продолжил:
- Лейтенант! Новую звездочку захотелось? А может быть, - тут меня осенила догадка! - может, Ленчик попросил?
Отдаленное сходство, не знаю, возможно, навело меня на мысль. А скорее всего просто злоба не имела выхода и прорвалась в предположении, оказавшимся впоследствии истиным.
Лейтенант, словно боясь слов, что вот-вот ещё прозвучат, нанес удар. Я почувствовал, как увлажнился и заплыл глаз: бровь разбил...
- Понятно, - сказал я, не имея сил сдерживаться, - понятно... купили тебя с потрохами... лейтенант...
- Молчать! а то... - рявкнул он, снова замахиваясь.
- Может, не кулаком, - предложил кто-то за моей спиной.
Лейтенант не слышал. Два, три, четыре, пять ударов менее чем за минуту изменили мне лицо.
- Давай, давай, шкура, - кажется, я ещё что-то там пытался...
- Санек! Санек! Спятил, ты его кончишь! - вмешался один из заплечных мастеров.
- Нет, нет! Я заставлю эту тварь... Он оскорбил мундир, милицию, ему это так не пройдет... Сука! Сволочь! - И, орудуя уже не кулаком, который натрудил, а ногами - ботинками, коленями - он бил уже куда попало, не целясь никуда специально, повторяя при каждом ударе глухим голосом: - ... милицию... органы... сволочь... так тебя...
А я был уже далеко, спасительный шок сначала отдалил лейтенанта, ослабил голоса до шепота, снял боль от ударов - так, мягкие толчки, - а потом и вовсе лишил сознания... Падаль... оскорбил органы правопорядка... сгною...
ГЛАВА 24
ВСЕ МЫ ИЗ РАЗНЫХ ПЛЕМЕН
Свет, процеженный через паутину беспамятства, время от времени проникал ко мне, согласуясь с ритмом, природу которого я не уловил. Возможно, периодически наступающее прояснение сознания давало иллюзию рассвета или... Да не в этом дело, а в том, что впервые за много времени, потеряв связь с задачами сиюминутными, потребностями телесными - наесться, напиться, полюбить, наказать - я вдруг оказался за той гранью, где биохимия организма перестала владеть мною; то, что раньше имело безусловную ценность, потеряло перестало быть таковым. Да что там, сама жизнь, сама жизнь стала сверхценностью лишь потому, что кому-то показалось необходимым вложить инстинкт самосохранения в тела тварей земных. И уже по философичности подобных мыслей мне представилось, что путешествие мое по тропе, ведущей по ту сторону бытия, достаточно продвинулось. О! Временами я чувствовал, как меня вновь обступали люди, задавали вопросы, били, требовали, и я в свою очередь что-то отвечал, и выл, и терял сознание...
В один из светлых промежутков, рядом с лейтенантом, мучавшим меня постоянно, появился человек, профессию которого я безошибочно определил: врач. Собственно, это было нетрудно понять из разговоров; все дело в том, что понимание чего-либо требовало усилий, которое, как и плоды этих усилий, уже теряли свою цену... Это был врач и, конечно, из числа знакомых моих палачей, если судить по атмосфере беседы, центром которой был я. Врач дружески пенял Сане (старшему лейтенанту) за грубоватое обращение с материалом (то есть, со мной), что материал (все ещё я) этак может не выдержать, да и стоит ли овчинка выделки, стоит ли пачкаться лишний раз...
- Нет, ты мне приведи его в чувство. А то бревно бревном, ничего не соображает, скотина.
- Ты с ним, милок, так наработался, что, боюсь, мужик не выдержит инъекции.
- Не наша забота. Сдохнет, так и черт с ним. Спишем на тех идиотов, которых он замочил. Кто там будет разбираться!.. - искренне удивился лейтенант. - Мало ли у нас сейчас дерьма по матушке России болтается. Спишем, - убежденно закончил он.
Я почувствовал, как меня колят иглой, и с этого момента, нарушенная было связь с реальностью, стала медленно восстанавливаться. Меня оставили в покое, мне было даже приятно, я лежал на бетонном полу и думал, думал... Общая направленность мыслей не могла, конечно, оторваться от действительности, в которой я продолжал пребывать, однако была в моих рассуждениях некоторая абстрактность. Мне вдруг стала интересна мысль чрезвычайно интересна, до непреличия, - почему одни русские люди готовы бить, пытать, унижать других русских людей? Абстрактный вопрос, но так смешно! - я живо представил шеренгу омоновцев, лупящих дубинками учителей, вышедших в пикетах требовать свою недополученную зарплату - так смешно! Однажды на некоем дворянском рауте имел беседу с князем Голициным восторженным маленьким старичком, счастливо дожившим до детской гармонии в породистом сознании. Он сказал вещь, тогда мною непонятую, но запавшую в сознании, как часто происходит со всякой мудрой формулой, через восхищенные умы накопившей безусловную ценность и вес; он сказал, что мы, православные, не можем быть убийцами, не способны совершить преступление перед человеком; все это потому, что, убивая, мы, русские, убиваем не человека, а нелюдя. Мы не грабим, мы отбираем вещи у нелюдей. Князь Галицын петушком скакал передо мной, всем видом демонстрируя вневременную тренированную живость и одновременно энергию своей правды.
- Не понимаю, - сказал я, - А если уголовник убивает хорошего человека?
- Тогда он уже не православный, - гордо поставил печать князь.
Но я его попытался добить примером из Достоевского, где на постоялом дворе, польстившись на деньги, мужик, истово крестясь, режет купца. Ловкий и юркий старичок ускользнул тогда, не сумев объяснить мне, в сущности, простую вещь, но, наверное, для того, чтобы сейчас присесть рядом и продолжить беседу.
- На самом деле все мы язычники, носители первобытно-общинного сознания, когда ценностью в мире являются твои родные, семья, община, а остальные - просто враги, в лучшем случае - вещи, сродни животным, траве, насекомым. Убить, сжечь, съесть - выбор за тобой, никаких человеческих, никаких моральных категорий к чужим отнести нельзя.
У меня заболела рука - отлежал. Со стоном попытался повернуться на другой бок. Князь помог.
- А как же органы... та же милиция? - спросил я. - Мы же русские, все... почему одни готовы убить других... за деньги, по приказу... Или мы все попрятались, каждый в свое племя? Кто тебя кормит, тот и отец, кто тебе платит - тот и вождь... Не платят на заводе зарплату потому, что рабочие лишь средство производства... Зимой отключают электроэнергию потому, что электричество уже принадлежит кому-то, а мерзнущие люди лишь статистический реквизит...
- Ты заговариваешься, у тебя жар...
- Конечно, - ворочался я на полу, потому что другая рука тоже болела. - Это раньше мы были православными, теперь, кроме общего языка, нас ничего не объединяет: распалось русское племя, рассовали нас по мелким племенам. Да и то, что мне какой-то безденежный ученый, может, он изобрел эту дубинку, которой меня охаживали сегодня, или слезоточивый газ, или нейтронную бомбу... Какое мне дело до умирающих детей Африки, или Поволжья, или Урала, Сибири, Дальнего Востока - все они дальнего племени, вещи, сродни насекомым...
- Он бредит, - сказал князь кому-то и заплакал. Слезы его капали на меня, и это было неприятно. Меня увлекала мысль, которую я все ещё крепко держал...
- Значит, нас, все же, победили. Лишив большого объединяющего начала, лишив православия, раскинули по норам городов, деревень, общин... Бери голыми руками!.. Значит, власть всегда найдет опричников - к каким бы войскам они ни принадлежали, - чтобы давить протестующих, которые родом из чужой норы... Потому-то у нас и тюрьмы переполнены, потому-то у нас продолжают пытать...
- Держите его, мне не хватает сил, - сказал чей-то очень знакомый голос, но точно не князя, который куда-то запропастился...
- Мой дорогой, успокойся, все позади, - сказала Таня и в ту же секунду спала пелена (может, подействовало снадобье того гестаповского эскулапа), и я узнал её, мою хорошую, и полковника Сергеева - красного, возмущенного, злобного - тоже поддерживающего меня на ногах.
- Сам идти сможешь? - спросил он.
- Попробую, - бодро ответил я и сделал шаг. - Кажется, нетрудно.
- Мерзавцы! Что вы тут у себя устроили? - это уже относилось не ко мне. Это уже он кричал обоим переминающимся у стены сержантам. - Я до вас доберусь!
А лейтенанта нигде не было.
- Мы его таким привезли, - ответил один из моих палачей (главного нет, но ещё не вечер, подумал я и обрадовался - выздоравливаю).
- Что ты врешь, мерзавец! Доберусь, доберусь я!..
- Мы тут ни при чем...
Передо мной, не совсем ещё очнувшимся, проносились обрывки сновидений: сам я в судейской мантии восседал за длинным столом, и вздыхал, щурился, вглядывался в вереницу маленьких - не больше мизинца, - лилипутиков, чередой следующих передо мной; каждый с биркой, которую я старался прочесть: рабочий, крестьянин, студент, профессор, бандит, банкир... И каждого я с размаха накрывал тяжелым судейским деревянным молотком: хрясть! хрясть! хрясть!.. - ни крови, ни костей, ни тел - синие оттиски печати с буковками внутри: рабочий, крестьянин, студент...
А когда мы вышли - по-прежнему втроем, - и чудный ясный вечер мягким ветерком освежил мне щеки, спутанные мокрые пряди волос, все мои, облитые тюремным потом и уже начавшие крепнуть мышцы... Боже мой! Какое я испытал чувство!.. Пролетевшая ласточка, электрический треск сорвавшейся троллейбусной дуги, Танина рука, красный взволнованный полковник: лицо мое мокро от слез, душа разрывается от счастья, и я знаю, что это счастье лучшее, что есть на земле.
ГЛАВА 25
БУРАТИНО
Я сидел на кухне в мягком кресле, ноги привычно забросил на стул и курил сигарету. Только что позавтракал, обнаружив изрядный аппетит. Впрочем, чему удивляться, отсутствием аппетита я никогда не страдал. Можно было бы удивиться другому: что после всех перипетий прошедших суток я не только сносно себя чувствую, но - и это наглядно продемонстрировало утреннее зеркало в ванной - физиономия имеет вполне допустимый вид; ссадины, разбитая бровь и бледные синяки под глазами говорили о моей живучести или мастерстве старшего лейтенанта Александра, умеющего причинять жуткую боль без видимых последствий.
Так или иначе, я сидел на кухне, курил, наслаждался мгновением и думал, что уже, где-то в глубине души, начинаю находить очарование в семейной жизни, вернее, в той её ипостаси, что наклевывалась у нас с Таней. Меня несколько беспокоила целомудренность наших отношений, но и в этом была своя нежданная прелесть; как говорится, за началом всегда маячит призрак конца, так что торопиться никогда не стоит.
Таня ушла в магазин за продуктами, которые с моим вселением исчезали мгновенно, я, как уже сказано, курил в облаках дыма и аромате кофе из близстоящей под рукой чашки, находя почти турецкий кайф... и в этот момент зазвонил телефон. С большим удовольствием наблюдая за пару раз вздрогнувшими, но тут же утвердившимися цифрами исходного номера на шкале нового телефона (Пашка передал, конечно), я снял трубку.
Ноги мои немедленно слетели на пол, я подобрался, ибо в ухо мне вновь ввинтился знакомый детский голосок:
- Это Фролов? Ты ещё живой, подонок? Теперь ты уберешься, или нам за бабу твою приниматься?
- Я вот заеду к тебе, друг Буратино, и мы с тобой обсудим... перспективы. Боюсь, полено ты слабо тесанное, больше у тебя не будет причин так о других заботиться. У тебя вообще забот не станет.
Ладно, хватит. Бросил трубку, переписал номер и тут же позвонил Сергееву. Он был на месте, но строг, даже свиреп.
- За каким хреном?.. Тебе же сказано лежать, жрать и лечиться. Ты что же это?.. А где Татьяна? Почему она за тобой не может уследить? Другую сиделку надо?..
- Петр Леонидович! Товарищ полковник! Все хорошо, и сиделок не надо. Последняя просьба: звонит все время кто-то измененным голосом, угрожает, понимаешь. Я телефончик определил, не дадите адресок? Просто любопытно. Перед тем, как уеду, хотелось бы познакомиться.
Мне удалось его уломать. Полковник сам заинтересовался.
- Жди, сейчас перезвоню.
И точно. Минут через пятнадцать раздался звонок, номер телефона Сергеева помигал, я снял трубку.
- Алло! Фролов? Записывай.
Я записал адрес: Вторая Судостроительная улица, дом тринадцать, квартира двадцать шесть..
- Кто там живет? Случайно не выяснили?
- Не знаю. Судя по твоей настырности, я думаю сам выяснишь. Ну все. Больше не попадайся, а то следующий раз могу не успеть.
- Постараюсь, товарищ полковник. Большое вам спасибо.
Я положил трубку и с удовольствием разглядывал адрес. Решил ехать прямо сейчас, чего там тянуть.
Но прежде было ещё одно дело.
Я нашел продиктованные на днях полковником номера телефонов и адреса Чингиза и семьи почившего папаши. Позвоню родственникам.
- Слушаю, - отозвался скрипучий неприветливый женский голос.
Я, поздоровавшись, представился. Судя по голосу, это была сухая, выдубленная жизнью и шалостями моего папы женщина - вспыльчивая и злобная.
- Что вы хотели?
- Я бы хотел приехать, поговорить. Понимаете, проездом, решил заглянуть.
Она помолчала, видимо, соображая, грозит ли ей мое посещение хотя бы потерянным временем. Я поспешил сломать лед её недоверия.
- У меня для вас немного денег, ещё отец просил передать.
- Какие такие деньги? Откуда у него были деньги?
Я невольно возбудил её подозрительность. Надо было выпутываться.
- Я продал кое-что из мебели, мне эти деньги не нужны, подумал, пригодится родственникам.
- Родственникам? - сомнения её были понятны, ибо ни я, ни она никогда не видели и не горели желанием видеть друг друга.
- Хорошо, приезжайте.
- Я сегодня и заеду. Может, днем, может, попозже.
- Приезжайте, - и трубка с грохотом легла на рычаг.
Чингиза не было дома. Ну и ладно, успею. Сейчас меня заботит посещение Буратино.
Таня успела привести в порядок мою одежду. Вполне прилично. Нашел кобуру, а потом и пистолет, трофейный, конечно. Оставил записку, сам удивляясь себе: "...Постараюсь вернуться, как освобожусь. Хочу и к Чингизу ещё заехать. Не беспокойся и не скучай, детка".
Так я закончил, положил записку на видное место, взял ключи от джипа и спустился вниз.
Судостроительную улицу я помнил и тринадцатый дом нашел достаточно быстро: девятиэтажная башня из тех, что в бытность мою здесь считалась местожительством приличным, во всяком случае, более приличным, нежели "хрущевки".
Два подъезда. Вошел в первый, вызвал лифт и нажал кнопку восьмого этажа. Промахнулся. Надо было спуститься на этаж. На ходу проверив пистолет, пошел пешком. У люка мусоропровода стояло забытое помойное ведро, пустое, правда. Тараканы. Разбитое стекло в окне.
Вот и дверь. Я огляделся; ещё три двери на этом этаже, причем две железные, покрытые кустарной маскировкой: дерматин, деревянные планки. Нужная мне двадцать шестая дверь была самая обшарпанная, давно не крашенная, неухоженная, одним словом. И единственная без "глазка".
Я позвонил и скоро услышал шаги. Чей-то странно знакомый голос спросил, кто пришел. Я сыметировал мокрый хриплый голос Ленчика.
- Открывай, открывай, свой.
Имитация прошла удачно; после некоторого нерешительного молчания, щелкнул замок, ещё один - я приготовился выдавить освобожденную дверь, но что-то звякнуло тяжело, может, засов и, наконец - вход свободен.
Пистолет я не стал доставать, дабы не мешал и, едва убедившись, что дверной цепочки не предвидится, стремительно просочился к хозяину, притиснув его к стене и...
...Не веря глазам своим, я разглядывал перепуганного вторжением Ловкача. То бишь, Кашеварова Контантина Анатольевича, капитана милиции, а по совместительству телефонного "Буратино". Это я тут же понял, потому что по мере узнавания, испуг в его глазах не исчез. А впрочем, я не мог понять... Странное выражение... Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы сообразить... Да и то усомнился; медленно, медленно его испуг сменялся... даже не ужасом, а его крайней формой, за которой уже нет страха - наступает спасительный шок. Все это мне знакомо, и пару раз я был свидетелем подобного аффекта, заложенного в человеке изначально, видимо, для облегчения последнего перехода в мир иной. Но здесь-то ситуация была другая!
- Э-э-э! Ловкач!
- Лютый! - выдохнул он без всякого выражения, просто смиренно констатируя, и мне пришлось его встряхнуть.
- С ума сошел? Это же я, Фролов, Оборотень.
- Оборотень, - безучасно повторил он, и вдруг лицо его стало живым, озарившись радостью и вслед за тем, - мгновенно! - озабоченностью и злобой - очень интересное сочетание. Было и ещё что-то: угадываемая за крысиным страхом ненависть.
Однако я терял инициативу, запутавшись в расшифровке его эмоций. Я отпустил Ловкача и огляделся.
- Что же, гостя не приглашаешь?
- Гостя?! - он сумел вложить в вопрос все, что чувствовал, все читаемое на его лице, что пока представляло для меня некую загадку.
Однако уже и прихожая-холл вызвала у меня вопросы. Задавать их я, конечно, не стал, но мне бросился в глаза высокий итальянский фонтан с мелкими русалками и прочей пошлой дребеденью, чрезвычайно эффектно подсвеченный, картина на стене, шелковые обои, небольшая люстра чувствовалась во всем рука профессионального дизайнера.
- Ладно, пошли, разговор есть, - сказал я, закончив изучение коридорного интерьера. - Проходи вперед. Давай, давай!
Он подчинился.
Стоя на пороге, я присвиснул. Конечно, контраст с замызганной входной дверью был разителен. И при всем при том ничего не было лишнего: диван, кресла, ковер, столик, обязательный телевизор с встроенным видео, музыкальный центр... Общее впечатление - быт на высоте! Не знаю, чем создавался эффект, но комнаты словно бы сияли изнутри - жемчужно-розовым с голубоватым отливом.
- Садись! - приказал я и только тут вытащил пистолет. Просто для внушительности, не более, чтобы соответствовать роли праведника, несправедливо обиженного лучшим другом.
- Ну, выкладывай, - предложил я, севшему напротив Ловкачу.
В общем-то мне и так все было понятно. Я вспомнил, как он подставил меня под пули, когда ехали переулком к полковнику, после моего последнего возвращения из Москвы. И как меня ждали у автосервиса сразу, едва он отъехал, распрощавшись со мной. Все время он докладывал обо всем Ленчику или Семенову, или обоим.
- Что выкладывать? - злобно спросил он. - Что тебе ещё надо?
- Ай-яй-яй! - посетовал я. - Как же ты, ловкий Ловкач, не учел, что я могу тебя засечь? Телефоны с определителем продают на каждом углу. Думать надо, Ловкач.
- А не пошел бы ты!.. - с прежней злобой выкрикнул он. - Что тебе надо? Что ты здесь вообще делаешь? Москвы тебе мало, Оборотень?
- Почему, мало? Хватает. И что же, мне теперь домой нельзя наведаться? В гости заехать?
- Можно. Только зачем людям кровь портить? - с горечью вопросил он. Пафос, видимо, был реакцией на неожиданность моего визита.
- Ладно, - сказал я. - Кончим об этом. Выкладывай-ка лучше все, что ты знаешь: с кем связан, явки, пароли.
- Нет, не кончим! - никак не желал успокаиваться Ловкач. - Прав был Профессор, когда предложил подождать связываться с тобой. Как чувствовал. С твоим приездом все и пошло наперекосяк. А как все было хорошо! Зеленые сами шли. Кого ты с собой притащил? Кому нужны наши смерти? Зачем ты нас засвечивал?
- Так ты тоже все-таки в деле?
- А ты думал! Устроился у себя в Москве, банкиров охраняешь. Одних воров от других. Конечно, у вас там в Москве хорошо, у вас там не только российский, у вас там мировой сход воров, есть где присосаться к долларовому ручейку. А нам что делать?
- Хватит! - рявкнул я. - Ты спятил, капитан? При чем тут это?
- А ты о нас подумал, когда в гору пошел? Как мы тут... в нищете живем. Все же друзья были. Мог бы и порадеть. Может, тогда мы и не стали бы работать с наркотой.
- Я же и виноват! - развел я руками. Такой поворот даже позабавил. Я, значит, виноват, что вы связались с Ленчиком и Семеном?
- Ты тоже, - внезапно успокоился Ловкач. - Ты виноват, как и все, кто жиреет на народе.
- Ага! - согласился я. - Ты ещё вспомни голодных детей Африки.
- Плевать я хотел на детей Африки! Мне важно то, что ты был нашим вожаком. Ты и оставался для нас вожаком, пока не прибыл сюда - "новый русский", твою мать! А о нас даже не вспомнил. А может, и вспомнил, почему же все наши погибли! Может, ты нас специально засвечивал. Ты ведь со всеми встречался, кого уже кончили? - вдруг хитро и злобно прищурился он. Остались всего я, Чингиз, да твоя шлюшка Танька. Лещиха не в счет, спившийся элемент.
- Таня? - не сдержался я.
Ловкач непонимающе посмотрел на меня, но потом догадался и махнул рукой.
- Конечно, нет. Она недавно приехала, да и не стали бы мы связываться с ней. Она у нас была всегда на особых ролях, - усмехнулся он и добавил. Адъютант неприкасаемых. Но она же тоже входила в нашу банду. Детство детством, а делов мы там натворили. Если бы нас тогда повязали, мы бы уже век свободы не увидели.
Я молчал, потому что загадка этих последних убийств вновь встала передо мной. Постоянно отвлекаемый, я так ничего и не смог узнать. Но был же ведь кто-то? Хладнокровный, ловкий, быстрый! Мне, конечно, следовало бы заняться только этой проблемой. Однако в том тумане, в котором я пребывал, верный путь мог оказаться где угодно, хоть бы и у Ленчика, к примеру. А Чингиза я должен посетить. Вдруг ещё какой-нибудь сюрприз, вроде нынешнего с Ловкачом.
- Как Чингиз? - спросил я. - Не изменился?
- Все мы уже не те, - буркнул Ловкач. Он уже пришел в себя, что-то, вероятно, подсчитал в уме, свел дебет с кредитом и на глазах успокаивался.
- А точнее?
- Злобный он стал, людей не любит. Помнишь сам, он и раньше зверь зверем был, а теперь вообще. - Ловкач махнул рукой, демонстрируя, насколько плохи дела с Чингизом. - У нас он прикрытие осуществлял. Черная работа не для него. Ну там, если конкуренты могли объявиться. Я занимался официальным прикрытием, а он - теневым, так сказать. Еще Сладенький Санька - тот лейтенант, что тебя на всякий случай обработал. Дурак, кстати. Говорил я ему, что с тобой шутки шутить не стоит, да ведь молодой, борзый. Новое поколение, говорит, пришло. Он тоже прикрытием занимался. Он сводный брат Ленчика, как ты с Лютым.
Меня словно обожгло.
- Лютый! Мой брат?!
Ловкач удивленно посмотрел на меня. Кивнул понимающе.
- Ну да, у тебя же до сих пор бзик с Лютым.
Он потянулся к стеклянному столику и взял сигареты. - Будешь?
Я пошарил по карманам, не нашел своих и взял у него сигарету. Ловкач дал мне прикурить, сам закурил.
- Лютый не Лютый... Кабы не твои закидоны, то и проблем бы не было. Какая разница: ты или Лютый? Ты уходил, Лютый приходил - вместе вы не встречались. Лютый тоже не очень распространялся на ваш счет. По поводу вас обоих. Но уж очень вы были похожи. Точно близнецы. И одевались почти одинаково. Впрочем, как и все мы. Если бы не манера поведения - он был какой-то более хищный, - ни за что бы не отличить. Ты, будто волк, а он тигр. Волк тоже не подарочек, но от тигра не спасешься. Знаешь, кошки смотрят на тебя, а что у них там в голове: то ли мяукнет, то ли глаза выцарапает, никто не знает. Зверь.
- Зверинец, в общем, - рассеянно сказал я.
- Во-во! - заржал Ловкач. - Точно, зверинец. Все мы были зверенышами.
- Почему Сладенький? - спросил я, думая одновременно (по аналогии с проблемой сводных братьев) о семействе своего папашки.
- Сладенький? А, ты о Саньке, Ленчиковом братухе. Да потому... Слушай, - перебил он сам себя, - ты коньячок будешь? По рюмашке. Нервы успокаивает.
Он встал, подошел к стене (я направил в его сторону пистолет), открыл настенный бар, ловко замаскированный эстампом с лесным пейзажем, среди сияющих рядов бутылок взял одну и вернулся к столику.
- Сладенький он потому, что любит этак приговаривать, когда девок трахает. Или хочет трахнуть. Ни одну юбку никогда не пропустит. Сволочь ещё та. А зачем?... - он посмотрел на меня и усмехнулся. - Не завидую Саньку, когда ты до него доберешься. А вообще, остерегись его. Зверюга. И Таньке скажи, чтобы покрепче запиралась. Я ведь вам звонил по приказу Ленчика.
- Ленчика? - переспросил я. - А я думал, что всем распоряжаются Семен и Макар.
Ловкач, согревая рюмку в руке, отхлебнул коньяк. Закашлялся, видимо, попало не в то горло. Справившись, наконец, ухмыльнулся.
- Они стратеги. А Ленчик - грубая сила. Он, да и Санька. Кстати, и Семен, и Макар потеряли к тебе интерес, поэтому ты, так сказать, отдан на усмотрение Ленчика.
- Это почему же? - живо спросил я.
- Что?
- Почему потеряли интерес?
- Как тебе сказать, - раздумчиво проговорил Ловкач и посмотрел на меня сквозь прозрачную желтизну рюмки. Он окончательно оклемался и впрямь ощущал себя хозяином, принимающим гостя. - Как тебе сказать?.. Когда ты приехал сюда и наших стали вычищать, они думали, что это твоих рук дело. Мол, кое-кто в Москве решил подмять под себя выгодное дело, - а дело выгодное, тут пахнет сотнями миллионов долларов, - послали тебя, ты привез специалиста, тот начал бойню и так далее, и так далее. Семен и Макар забеспокоились, доложили боссам, те тряхнули тебя. Ничего. Кроме того, и я подтвердил, что за тобой никого нет. Все.
- А Ленчик?
- А Ленчик как раз и занимается случайными одиночками. Вроде тебя.
- А кто убил наших?
Ловкач помрачнел и налил себе еще. Качнул бутылкой в мою сторону, жестом предлагая налить, но я отрицательно замотал головой.
- Вот это и непонятно. И никакой зацепки. Прямо мистика какая-то.
- Но кто же это все-таки такой ловкий?
Я встал и подошле к окну. За окном был обширный застекленный балкон-лоджия: кресла, столик с пепельницей, ковер на полу, кадка с большим разлапистым растением.
- Хорошо устроился, - похвалил я. - Это твои хоромы?
- Мои, - хмуро отозвался Ловкач.
- Не беспокойся, это я просто любопытствую. На последние заработки купил?
- А то!.. На бабулю оформил и дарственную уже поимел.
- Ловкач, - сказал я, имея в виду сообразительность и быстроту понимания собственных интересов, за которую когда-то Костя и получил свою кличку.
Я вернулся к креслу, сел и, глядя на него поверх соединенных кончиками пальцев рук, сообщил:
- Дело у меня к тебе имеется.
Я выдержал паузу. Ловкач, насторожившись, мучительно ожидал. Я вдруг почувстввал легкое недомогание. Наверное, слишком просто думал отойти от вчерашнего. Утренний заряд бодрости уже начинал иссякать.
- Нарисуй-ка мне план Ленчикова логова. Я имею в виду его усадебку. Где содержали меня и Татьяну. Поподробнее, пожалуйста. И не говори, что ты ничего не знаешь, что ни разу не был...
- Почему, - все более оживлялся он по мере того, как скисал я. - Был. Не везде, но вход-выход помню.
Он принес лист бумаги, ручку и, поминутно поглядывая на меня, чтобы понять, улавливаю ли я его объяснения, стал рисовать.
Уже ближе к концу, когда общий план был у меня в голове, он вдруг осекся и, медленно подняв голову, взглянул на меня. Мы молча смотрели друг на друга. Мне стало ещё более муторно.
- Ну как?.. - первым нарушил молчание Ловкач. И было в его вопросе что-то заведомо подлое, что-то из дальних лет, когда даже садясь на привычное место в привычном подвале, мы инстинктивно шарили руками под собой - не подложили ли не ровен час кнопку под зад, а то и ещё что похуже!
- Не бойся, - успокоил его я. - На что мне это?
Я демонстративно спрятал в кобуру забытый к тому времени пистолет.
- А других на что? - не успокаивался он, мелко бегая глазами.
- Не сходи с ума! - брезгливо сказал я. - Все вы тут сумасшедшие. Надоело мне! Да и какой резон?
- Резон? - переспросил он. - Резон всегда можно найти. Ты можешь думать, что я сразу буду звонить Ленчику, закладывать о тебе.
- А ты будешь?
- Вот видишь. Конечно, нет. Зачем? Мне это совсем не надо, - со всей убежденностью, как-то по-детски искренно, добавил он.
- Верю, - рассеянно сказал я.
- Ты же мне друг, а он кто? Сволочь он со своим Сладеньким. Что я, дурак? Они тебя все равно не достанут, я знаю, а ты их замочишь, если захочешь. Какой мне резон быть на их стороне? А деньги? На деньги я плюю, сказал он и для большей убедительности смачно плюнул на ковер. - Сегодня есть, завтра нет.
- Тут ты прав, - я свернул план и сунул листок в карман.
Стало мне вдруг тошно и - усталость ли? простуда? а скорее всего, начала оказывать воздействие сырость вчерашнего застенка, - захотелось отправиться домой, к Тане, в уют, тоже плюнуть на все...
Я поднялся, вышел в коридор. На пороге обернулся: Ловкач затравленно смотрел на меня
- Крыса ты, и все вы тут крысы. Глаза бы мои не смотрели.
В коридоре отодвинул засов и вышел, громко хлопнув бутафорской дверью.
ГЛАВА 26
ОЖИВЛЕНИЕ ПРИЗРАКА
В машине нашел свой "Кэмел". Закурил. Может, действительно, простыл? Сутки, считай, на бетоне. Ох! Доберусь я до этого "сладенького"... Дальше я не стал развивать... дабы мечта, оформив билет в материальный мир, не смогла провалить реальность... которая, я надеялся, может и превзойти миражи воображения.
Пора. Я выбросил окурок, едва не дотлевший до фильтра, и включил зажигание. Пора познакомиться с женщиной, чарами своих прелестей сделавшей меня сиротой при живом отце.
Дом их был далеко. Я ни разу там не был, и только помнил по давнему неясному ощущению, что район этот отодвинут на край света, туда, где, возможно, начинаются подступы к преисподней.
Оказалось - совсем рядом, что в общем-то порадовало: давно, видимо, хотелось навести порядок в детском, доставшемся мне по наследству, хаосе.
Может, я когда-нибудь и был здесь. Вот высоченный серебристый тополь, источник мешающей дышать пушистой метели, уже пришел и стал, где, казалось, и должен расти - у высокой дореволюционной кирпичной стены. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как кроличьи клетки, железные балконы. Там и сям распределяются по двору заржавелый турник; от безысходности опущенные, каждая сама по себе штанги качелей, давно потерявших где-то в одной из точек веселой траектории совместное сиденье; легкая тень листвы; мусорный бак и красная крышка гроба, прислоненная к стене у подъезда. Кто-то умер, предполагаю я и, в доказательство верности моей режиссерской интуиции, из подъезда выходят одетые преимущественно в черное скорбящие родственники.
Я вздрогнул; кто-то монетой стучит мне в окно. Важная дама в черном платке. Уйдя в тень мыслей, не заметил её черного приближения. Я опустил стекло.
- Товарищ! Вы не могли бы немного отъехать, сейчас гроб будут выносить.
Конечно, могу. К моему и её удовлетворению припарковываюсь в стороне от чужого горя и, превозмогая болезненную усталость, иду к нужному мне соседнему (от кипевшего ритуальной энергией подъезда) входу.
Третий этаж. Тридцать вторая квартира. Я нажал кнопку звонка, вызвав быструю соловьиную или ещё там какую-то птичью трель. И после недоверчивого обмена паролями ("Кто там?" "Это я." "Кто я?" "Я вам звонил.") дверь открылась.
- Венера Федоровна? - спросил я, понимая, что мое воображение на сей раз дало маху, по голосу реконструируя внешний облик его владелицы; громадная седая женщина с толстыми босыми ногами проявилась из сумерек коридора и без улыбки на расплывчатом бледном лице (все черты, даже глаза, были как-то смазаны - безысходностью, унынием, бог знает чем), скрипуче подтвердила мою догадку.
- А вы, значит, Иван? - спросила она, затем повернулась, даже не предложив мне само собой разумеющееся - пройти в квартиру, - и двинулась в затененную глубь коридора. Я последовал за ней, прикрыв за собой входную дверь.
Я попал в комнату, низкую и темную, с каким-то мало понятным расположением голых стен, задрапированных ковриками, занавесками, тряпочками и кое-где прикрытых шкафом, там - тумбочками, ещё чем-то: была она, в общем, полна бутафорской рухлядью бедности.
- Присаживайтесь, - проскрипела Венера Федоровна и махнула рукой в сторону потертого дивана, а сама продолжила прерванное моим приходом дело, возясь на столе с чем-то, что-то чистя... ножом... на газете, что-ли... Я не имел желания рассматривать. Наоборот, атмосфера ли, может, мое состояние, но мне хотелось побыстрее закончить то, с чем я пришел. Тем более что чувствовал я себя все более и более худо... Хотя нет, не то, мною все более овладевала какая-то странная лихорадка, что-то гнало меня, заставляло быстрее покончить со всей этой непонятной мне каруселью; временами даже быстрая дрожь трогала мышцы, тут же выходя на поверхность кожи. В общем, состояние - дрянь.
Мне с размаху на лоб села муха, я согнал её. Мух здесь было довольно много, но большинство, с маниакальным упорством, кольцами вились вокруг люстры.
- Вот, пришел познакомиться, - нарушил я молчание. - Вернее, долг главное, но заодно, может, когда что... кто знает... то да се...
Молчание, нарушаемое лишь звонко работающими мухами, да треском хозяйкиной возьни - что-то она чистила съедобное, из овощей, - объясняло, возможно, мое косноязычие.
- Так что он там удосужился передать, муженек мой? - сказала Венера Федоровна, нажимом фразы заявляя свои безусловные права как на память, так и на любую собственность покойного.
- В основном, вещи, мебель. Нам-то все это уже не нужно, - пояснил я, имея в виду и сестер, - а вам, другое дело. Немного, конечно, однако деньги не бывают лишними.
- Это же сколько удалось выручить? - поинтересовалась она, впервые выпрямляясь над столом.
- Около пяти тысяч рублей. Немного, но больше не удалось выручить, сказал я, невольно оправдываясь.
Что-то со мной, действительно, происходило необъяснимое, я становился многоречив, да и странный клубок мыслей и ощущений продолжал виться в моей душе. "Зачем я здесь? И что я хочу выведать у этой бывшей Венеры, жены моего отца? То, что Лютый, действительно, существует и всегда сущестовал? Не может этого быть. Я уверен. Тогда зачем я здесь? Для чего я ломаю эту комедию с мнимым завещанием? Для чего, для чего? - спрашивал я себя. - Да, конечно, я чего-то ожидаю, что-то надеюсь узнать..." И мне опять в сотый раз припомнилось, как, постоянно раздражаясь, я пресекал все разговоры на тему... "Лютый". Любое упоминание о нем приводило в ярость. Тот вакуум вокруг Лютого, который я создавал, в конце концов оправдал себя, - я вроде бы забыл о нем. Но нет, на самом деле я знал, я всегда чувствовал его присутствие где-то рядом: просто лгал самому себе. Я вздрогнул, словно пронзенный: "Да, я это всегда знал, это правда! Я не хотел слышать о нем, потому что знал!.. Но почему?.. Я боялся. Ни разу не повидав, я сразу почувствовал в нем зверя более свирепого, более страшного и жуткого, чем был я, чем старался казаться и никогда не смог бы стать!"
- ...Мне пригодятся. Есть же люди, для которых пять тысяч рублей немного! Что б им всем сдохнуть! Это я не о вас, - сердито скрежетала огромная Венера Федоровна. - Ну, где они? Где эти ваши рубли?
Я вытащил заранее отложенные купюры и протянул ей.
- Вот, значит, последний привет от муженька!.. Не ждала, не гадала...
Она взяла деньги, отошла к большому шкафу, открыла дверцу и, покопавшись в стопке белья, вернулась пустая. Сев на прежнее место, она вновь принялась за работу.
- Тут такое дело... - начал было я, но Венера Федоровна перебила.
- Конечно, дело. Я все жду, не может быть, чтобы просто так такие деньги давали. Не может - и все. Только вы уже сами сказали, что деньги Михаила, а значит, мои. Нет у меня ничего, а деньги мои.
- Вы не поняли...
- А чего тут не понять. Вам что-то надо, вот поэтому и побеспокоились, вещи продавали. Ну, так что?
- Да нет. Просто жили рядом, а ни разу не виделись. Я вот вашего сына ни разу не видел. Даже на фотографии. И не представляю, как он выглядит. Брат, все же...
- Степан? А чего его представлять? - она подняла голову и, прищурившись, оглядела меня. - На себя в зеркало посмотрите, вот и познакомитесь со Степаном. Одна кровь. Отец один, и все дела. Вы тоже, наверное, из зоны? Или сидели, разницы никакой. - Она вновь смерила меня взглядом. - Только мой побольше. Вы тоже крупный мужчина, а он побольше. И лицо... Вы добрый (эка новость! подумал я), а он зверюга, век бы ему воли не видеть, прости меня, Господи!
- Нельзя ли посмотреть фотографию.
- Откуда? Были фотографии, да. Но как его взяли, все тут перерыли. Фотографий-то было всего две-три. Где ему было фотографироваться? Папаша ваш и мой разлюбезный муж пил по-черному. Оттого и сгинул. Сначала руку потерял, а потом сам спился. Степан и сбился с дороги. Как школу закончил, так сразу в тюрму попал. Убийца мой сынок.
- А чего это вы о нем, да о нем? - подозрительно сощурилась она. - Тут на днях приходили из милиции, все расспрашивали, глазами зыркали. Может, вы тоже из милиции? Сбежал он, что ли? То-то я ещё тогда подумала. Так я ничего не знаю, сюда он не приходил. Сидеть ему ещё лет пять, амнистия по его статье не положена. Может, правда сбежал, а мне не говорите?
- Венера Федоровна! Хотите паспорт посмотрите. Вот, Фролов Иван Михайлович.
- Не нужны мне ваши документы, я не отдел кадров. А если и Фролов, то все равно можете в милиции работать.
Стал я уставать. Мое лихорадочное возбуждение усилилось. Я старался сдерживаться. Да и делать мне здесь больше было нечего. Я ещё раз осмотрелся; у стула треснула спинка... фарфоровая ваза на столе с явно подклеенным куском...
- Я помню у вас дочь была, - рассеянно сказал я. - Она с вами живет?
- Как же! Пущу я ее! В Москве, шлюха, устроилась. С иностранцами путается, вот эти самые доллары зашибает. Пущу я её, пусть не надеется! перешла она на крик, надеясь, видно, голосом покрыть расстояние до Москвы. - Мне не нужна дочь проститутка, - напоследок выкрикнула она, и я понял, что мне пора.
- Венера Федоровна! Время. Я должен идти.
- Уже уходите? А то я вот, обед приготовлю... У меня и на стол сейчас нечего поставить. А может, чаю хотите?..
- Если что, приходите опять, - говорила она, явно обрадовавшись моему скорому уходу.
Я тут же попрощался и вышел.
Я быстро сбежал вниз. За то время, что я провел в гостях у старухи, что-то изменилось. Я думал, мне станет легче на воздухе - не тут-то было. С деревьев, кустов, не знаю ещё с каких трав стекали разные дурманящие запахи, а в небе набухала душная мгла. У соседнего подъезда строилась колонна провожающих, возглавляемая небольшой группой наемников-музыкантов. В стороне, окруженный скорбным частоколом мрачных старух, на табуретках расположился гроб. Еще больше потемнело; вдруг ветер нежданно налетел, расталкивая всех - зашумели деревья, звякнули литавры, рявкнули трубы, поднялся гроб, и тотчас же в темно-лиловом небе тронулась, покатилась глухая груда - отдаленный гром.
Я поспешил к машине. Едва спрятался, как забарабанило каплями по крыше, залило стекла косами ручейков, и я, вынув сигарету из пачки, с наслаждением закурил, чувствуя легкими сухое, упругое прикосновение дыма.
Достал листок с адресами. Чингиз. Должно быть, где-то недалеко, я смутно помнил, как некогда связывал его район с местом обитания отца. Но спросить было некого, пока я курил и пережидал грозу. Приспустив стекло, благо козырек не позволял каплям проникать внутрь, я думал, что шествие на кладбище придется отложить и, действительно, в просветах воды, сквозь дикое, бледное блистанье молний, увидел машину и прикрытый крышкой гроб в кузове с откинутыми бортами. Больше не было никого, ибо широко и шумно шедший дождь загнал всех обратно в подъезд.
Я закурил новую сигарету и сидел, откинувшись на спинку сиденья, чувствуя, как с расслабленных мышц уходит болезненной волной ломота.
Дождь вдруг перестал. Я открыл дверцу и вышел в томный тающий туман. Кругом, в сероватом оглушенном громом воздухе плавали кусты, деревья, блестящая крыша моего джипа. Снова выходил народ.
Я уточнил, как мне лучше доехать, и тронул с места машину. Осторожно обогнув заново строящуюся процессию, выехал на дорогу и через десять минут уже искал пятнадцатый дом на улице Пешкова.
ГЛАВА 27
ЧИНГИЗ
Мне открыла дверь сонная, татарского покроя девица в пестреньком домашнем платьице, причем столь коротеньком, что посетитель невольно (даже если вовсе и не собирался), за легким трепетаньем ткани ловил взглядом инородный материал трусиков либо натуральных прелестей.
Я, во всяком случае, оказался в роли такого любопытного; девица же, едва открыв дверь, молча повернулась и пошла в комнату, словно поросенка морковкой увлекая меня за собой. Я встряхнулся, только заметив её лукавую усмешку, но она мне уже протягивала один из наполненных стаканов, который я с благодарностью принял.
По вкусу это был джин с тоником. Я отпил половину и впервые голосом нарушил наше почти интимное общение.
- Вы всегда так принимаете гостей?
- Нет, только если они мне нравятся, - ответила она, с наивным бестыдством разглядывая меня чуть косящим колдовским взором.
- А если нарветесь на слишком активного любителя сладкого?
- Я знаю лишь одного любителя сладенького, но даже и он здесь не опасен.
Я на всякий случай спросил:
- Вы имеете в виду Александра, лейтенанта милиции и брата Ленчика?
- О! - она с интересом посмотрела на меня, потом подошла к двухэтажному столику на колесиках и дополнила свой стакан. Потом и мой.
Усевшись в кресло, она пригласила меня сесть напротив.
- Вы, оказывается, всех знаете. Почему же я вас, такого красавчика, не видела раньше?
- Я недавно приехал. Меня зовут Иван, - представился я, и переждав ответное - Роза, продолжил: - Я старый друг Чингиза... Марата. Все время сбиваюсь на детские прозвища, - извинился я.
- Что вы, его и сейчас так зовут. Но если вы его знаете, тогда понимаете, что даже этот козел Сладенький здесь не опасен. - Я подружка Марата, - скромно пояснила она и потупилась, а мне в этот момент удалось разглядеть (это было нетрудно, хотя я и сопротивлялся), что под платьем у неё ничего нет.
Она усмехнулась (понятливая оказалась девица), поставила стакан и, закинув руки за голову, потянулась сладострастно, как кошка.
- Люблю дергать тигров за усы. Только там, где витает дух Марата, все тигры ручные. Или я ошибаюсь, - с надеждой вопросила она и, подняв стакан, лизнула край розовым язычком. - Хотите?
- Что? - улыбнулся я.
- Еще выпить, - засмеялась она. - А вы что подумали?
- Я это и подумал. Нет, к сожалению. Боюсь расслабиться.
Я огляделся, ибо до этого момента ловкая подружка Марата профессионально управляла моим вниманием.
Квартира была в состоянии несколько небрежном, но состоятельность хозяина сомнений не вызывала. И чувствовалось присутствие подружки, а не хозяйки-жены. В открытом дверном проеме соседней комнаты на резиновом коврике лежала штанга. Здесь на стене висела большая фотография Чингиза; голый по пояс, напряженный, он готовился выскочить сквозь рамку: тонкая кожа обтягивала сухие литые мышцы, а взгляд был все тот же, знакомый мне издавна - яростный, беспощадно орлиный...
- Мне здесь он очень нравится. Правда хорош? - спросила подружка оригинала.
Я кивнул. От спиртного мне несколько полегчало, но безотчетная тревога росла и давила.
- Где мне найти Марата?
- Где? - она удивленно взглянула на настенные часы. Четырнадцать сорок пять. Довольно много, мне казалось, должно было быть меньше.
- В это время он всегда в спортзале. Форму поддерживает.
- Как мне туда добраться?
- Как? Очень просто. Вы на машине? Я так и думала почему-то. Езжайте по набережной, найдете ресторан "Чайка" и сворачивайте на улицу Жукова. Сразу слева увидите кинотеатр "Слава". Там Марата и найдете.
Я поблагодарил и ушел, игнорируя её приглашение задержаться насмешливое, сексуальное и безнадежное.
Кинотеатр пустовал. В гулком звонком вестибюле попадались, правда, какие-то целеустремленные личности обоего пола, но тут же исчезали бесследно. Наконец я поймал длинного прыщавого юнца, который с готовностью, - то краснея, то бледнея от желания выглядеть не тем, что он есть, - провел меня сначала вниз по лестнице, а затем по множеству почему-то кафельных коридоров, к неприметной двери.
Здесь.
Я вошел в полутемное помещение с пунктиром слабых ламп в круглых плафонах на потолке. Зал, метров тридцать в длину, был ярко освещен только с одной стороны, где располагались большие цветные мишени,как для стрельбы из лука. Чингиз стоял ко мне спиной в середине зала возле столика, на котором лежали ножи. Несколько ножей уже торчало в мишенях.
Чингиз повернулся на звук открываемой двери и, взвешивая в руке нож, всматривался в мой силуэт, возникший на фоне освещенного дверного проема. Чингиз был одет в широкие темные штаны из мягкой ткани и светлую плотную рубашку. Я подошел ближе.
- Здравствуй, Чингиз!
Он узнал меня, недоверчиво ухмыльнулся и в первое мгновение даже как будто сробел. Во всяком случае, я именно так определил тень, мелькнувшую на его лице. Но это было лишь мгновение, тут же сменившееся маской обычного для него спокойствия.
- Здравствуй! - спокойно поздоровался он.
Чингиз не был взволнован, но татарские узкие глаза его, казалось, на что-то намекали. Не дождавшись от меня вопросов, он повернулся и, прицелившись, метнул нож.
Нож воткнулся сантиметров в пятнадцати выше от центра мишени.
- Хочу с тобой поговорить, - сказал я и, подойдя к столу, стал перебирать ножи. Они были одинаково тяжелыми и отлично отбалансированными. Я бросил нож. Он воткнулся в центральный круг сантиметров в пяти-семи от центра.
- Почему бы и не поговорить, - равнодушно сказал Чингиз - Тебя, я слышал, в ментовке обработали, - прибавил он снисходительно, как бы поощряя на разговор сконфуженного приятеля.
- Да, брат Ленчика постарался... Это так... Хочу до конца разобраться во всем бардаке.
Чингиз метнул ещё один нож, воткнувшийся почти рядом с моим.
- Еще бы... - усмехнулся он.
- Ты чего ухмыляешься? Больше всех понимаешь, что тут творится? буркнул я в каком-то озарении.
Чингиз передвинул пальцем оставшийся на столе нож.
- Разве трудно? Еще когда ясно было. Только откуда же сообразить... если чужая душа потемки?
- Чья душа? - быстро спросил я.
- Убийцы, - спокойно ответил он.
Я вдруг рассердился.
- Ты со мной тут шутки не шути. Если что знаешь, должен немедленно мне все рассказать, я с собой шутить не позволю!
Я взял оставшийся нож и изо всех сил метнул его прямо в центр мишени.
- Хороший бросок, - похвалил он.
- Зачем мне с тобой шутить, если на тебя только и осталось надеяться, как на Бога или дьявола, - проговорил Чингиз, все так же спокойно. И добавил: - Пойдем ножи возьмем.
Мы пересекли зал и повытаскивали ножи из мишеней. Потом вернулись к рубежу, то есть к столу.
- Во-первых, - нарушил я молчание, - если кто и может знать в городе об убийствах, так это ты, Чингиз.
- Ты мне льстишь. Это профессионал знает все, что имеет отношение к его профессиональной деятельности. Откуда мне знать об убийствах? - с ухмылкой спросил он.
- Хватит кривляться! - вспылил я. - Нам с тобой нечего друг другу мозги пудрить. Кое-что друг о друге знаем.
- Да что мы можем такое знать? - не спеша протянул Чингиз, примериваясь к броску. Бросил. Нож с мягким стуком вонзился почти рядом с центром мишени. - Можешь ли ты вспомнить хоть один случай, когда я принимал участие в убийстве? - он, задавая вопрос, повернулся и смотрел на меня с каким-то пристальным вниманием.
- Да ты что?! - вскричал я. - А как же!.. - я замолчал, осознавая, что ни один эпизод, где бы учавствовал Чингиз, да и я, нельзя было отнести к убийству. Как же так, если я всю жизнь был убежден в обратном! Мне казалось, что ни один, ни два... Мне никогда не хотелось считать... Но сейчас ничего не приходило на память.
Чингиз продолжал с каким-то пристальным насмешливым вниманием вглядываться в меня.
- То-то, - отвернулся наконец он. - Откуда же мне знать? Если бы я что узнал о том, кто убивает наших, думаешь, не отомстил бы? Мы же работали в одной связке, и теперь, потеряв друзей, мне будет трудно жить. Надо вновь думать о заработке. Если только ты не поможешь, - вновь ухмыльнулся он. - А от гибели наших я сам пострадал больше всех, - добавил он.
- Неужели ты думаешь, что я могу тебя подозревать? - как-то слишком явно возмутился я. - Ни за тем же я пришел!
- Конечно, не за тем. Только я думал, что ты обо всем уже догадался.
- Да о чем же!
- Ну, кто убил всех.
- Ты же только что говорил, что не знаешь... Как же я могу? волновался я. - При чем тут догадки - тут знать надо. А откуда, если никто даже не предполагает. Я вот сейчас ездил знакомиться с семьей отца, хотел повидать Лютого...
- Лютого! - быстро повернулся Чингиз и твердыми черными глазами уперся в меня.
- Ну да, - растерянно проговорил я. - Вы же сами мне всегда твердили, а я не верил. Если бы не эти убийства, я бы все равно не поверил, а тут приходится, сам понимаешь...
Чингиз отвернулся и бросил нож, вонзившийся ещё ближе к центру, но с другой стороны окружности.
- Познакомился? - спросил он.
- Нет. Он давно в зоне. Хотя, кажется, сбежал недавно. Так что скорее всего он в городе, и это его рук дело.
- Лютый на тебя похож? Ты хотя бы фото смотрел?
- Нет ни одной фотографии. Но вы же сами всегда говорили, что Лютый и я - одно лицо...
Чингиз бросил на меня взгляд. Он вообще старался на меня не смотреть, лишь по необходимости, изредка.
- Кажется, все сходится: твой брат Лютый бежит из тюряги, чтобы повидать родные края. По приезде возобновляет связи и убивает своих старых корефанов. Может, за деньги, может, из-за детских обид. Мало ли что в детстве накопить можно? Ему же приходилось делить с тобой власть над нашей бандой. Может, он тебя боялся? - Чингиз даже воодушевился. - Может, так и есть: это мы думали, что он сильный, а самым сильным был у нас ты. Не Лютый, а ты, Оборотень, изгнал само упоминание о нем. Знаешь, как в детстве это может быть больно. А тут побег, все кончено с этой цивильной жизнью, остается только оборвать последние нити, свести, так сказать, счеты, наказать... Мы ведь тебя, как-никак, предпочитали. Он был редкий гость... Но меткий, - добавил он и кинул последний свой нож, вонзившийся снизу, сантиметрах в десяти от центра.
Я был, признаюсь, поражен последним доводом Чингиза. Мне не приходило в голову... Наконец, все улеглось по местам.
Я думал об этом, машинально прицеливаясь ножом в мишень. Метнул.
- Всегда ты был самым лучшим, - безнадежно закивал головой Чингиз.
И то, все три ножа торчали в самом центре, вплотную друг к другу... Чушь какая!.. А если Лютый захочет убить меня, или Таню?!.
- А ты не боишься? - спросил я.
- Может быть. Но может, он оставит мне жизнь? - ухмыльнулся он и взглянул мне прямо в лицо. - Как ты думаешь? Я единственный, кто был ближе всех к нему.
Он ещё больше сощурил узкие татарские глаза и мечтательно произнес:
- Помнишь Крокодила? Детдомовца? Он нам ещё здорово досаждал. Мы его как-то с Лютым подстерегли... Поединок был честный: Лютый и он. Бились железными арматуринами. Крокодил тоже был не трус, но куда ему!.. Он Лютому руку отключил, не перебил, просто по нерву попал и уже завопил от радости. Рано праздновать вздумал, сам тут же по черепу получил. Это уже потом мы добивали его вдвоем, когда уже все было ясно, кто сильнее. Потрудились на славу. Как его потом узнали, неизвестно - мы его в месиво превратили.
- Слушай, - сказал я, неприятно пораженный его воспоминанием и прерывая разговор, - мне надо идти. А что зашел к тебе - это хорошо. Ты мне подсказал, кто убийца. Надо теперь Таню охранять.
- Даже так? Хотя я слышал, что вы сошлись. Это, впрочем, ожидалось.
- Пойду я. Тебе я тоже советую Лютого поберечься. Нельзя ему доверять, он уже из другого мира, - вдруг проговорил я почему-то.
- Конечно. Только теперь, после твоего посещения, мне не о чем беспокоиться...
Тут я вышел и, только пройдя уже шагов десять по коридору, вдруг почувствовал, что в последней фразе Чингиза заключен какой-то обидный смысл. Я хотел было вернуться, но это только мелькнуло, и проговорив: "Чепуха!" - я поскорее вышел из кинотеатра. Главное, я чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что мифический Лютый обрел, наконец, плоть, и из области ночных сновидений впервые вышел на дневной свет. А обитателей дня мне бояться не пристало. Пускай меня боятся, успокоенно думал я, садясь в машину и заводя мотор. Я знал, куда мне ехать. Надо было утвердиться в подозрениях, надо было окончательно в деталях восстановить уже восстановленный из кошмаров облик Лютого. В общем, надо было вновь ехать к Ловкачу.
ГЛАВА 28
ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ТРОЕ
До Ловкача я добрался мигом. Когда ехал, меня охватили сомнения: а ну если все ложь, и попытка воскресить Лютого лишь уловка моих друзей-приятелей. Я даже хотел остановиться, но тут новая догадка заставила продолжить путь: что это за сумасшествие - видеть во всем столь сложную интригу, когда дело не стоит выеденного яйца; мне надо хорошенько допросить Ловкача, может быть, Лещиху, Таню, наконец, и все станет ясно. Нельзя отвергать гипотезу только потому, что это противоречит твоему естеству. Ведь правда чаще всего там, куда твой здравый смысл и заглядывать не хотел. То есть, никому не верь, все проверяй. Лично к тебе это тоже относится.
Так я думал, подходя к маскировочно-бедненькой двери Ловкача и уже был готов звонить... как вдруг застыл на пороге.
Что-то было не то... И этим "что-то" оказалась едва заметно приоткрытая дверь. Прошлый раз, ожидая, когда ещё неизвестный мне "Буратино" откроет дверь, я зацепился взглядом за старый отлуп краски на притолоке рядом с гранью закрытой двери; сейчас эта выщерблина была больше, значит, дверь была приоткрыта.
Я медленно вытащил пистолет, встал сбоку к стене и очень мягко стволом подтолкнул дверь.
Она поддалась.
Я прислушался: тихо. Я не улавливал ни движения, ни чужого дыхания. Я ещё раз толкнул дверь, и она открылась.
В коридоре горела люстра и светилась подстветка фонтана. Я быстро переводил ствол пистолета: бурые пятна на светлом ворсе ковровой дорожки, грязно-бурые следы пальцев на обоях... Мне было все ясно, собственно... А впрочем, я не думал ни о чем; мягко ступая, дошел до конца коридора, быстро выглянул, спрятался, успев мгновенно осматреть помещение. Кажется, никого нет. Разумеется, кроме Ловкача.
Я вошел в комнату все ещё настороже, хотя уже понимая, что пистолет не понадобится. Уже просто для очистки совести осмотрел квартиру: спальню (сюда "гости" не заглядывали), ванную, туалет, балкон - все спокойно.
Да, спокойно, можно сказать, - мертвое спокойстие, ибо Ловкачу, наконец-то, изменила ловкость, а то, что развалилось в кресле, которое уже ему никогда не понадобится, на общепринятом языке называлось просто трупом.
Увы, наступила очередь Кости Кашеварова, и уже одно это подкрепляло слова Чингиза, потому что, судя по ужасу, который здесь царил, сделать такое мог лишь один человек - Лютый.
Я едва не наступил на скальп, нагнулся, поднял клочок кожи со стриженными милицейскими волосами и как мог тщательнее приладил на голую тонзуру головы. Увы, вставить вырезанные ножом глаза (по глазницам были видны следы соскобов лезвием по кости) я не мог, как не мог приладить отрезанный нос и язык и вернуть обратно жизнь, вытекшую из перерезанной глотки... Хотя какое мне дело, вдруг подумал я, с болезненным отвращением реагируя, наконец, на свою глупую, неуместную сейчас сентиментальность.
Я подошел к стулу, кажется, чистому на первый взгляд, сел и потянулся к телефону на столе.
- Петр Леонидович?
- Я слушаю.
- Тут, товарищ полковник, такое дело. Я вам звоню из той квартиры, из которой мне угрожали по телефону. Вы мне адрес ещё узнали.
- Я помню.
- Эта квартира капитана Кашеварова.
- Да?.. - спокойно удивился полковник.
- Да, и он убит.
- Еще раз и подробнее.
- Я говорю, что эта квартира оказалась принадлежащей капитану Кашеварову. Я к нему заезжал ещё утром. Он тоже был связан с торговлей наркотиками. Сейчас я второй раз заехал и нашел его труп. Убит зверски, смотреть тошно. Я вам первому звоню. Милиции ждать не буду, у меня ещё дела, боюсь опоздать. Все.
- Понял. Хорошо, я распоряжусь. Что-нибудь ещё узнал?
- Кажется, напал на след. Вечером свяжусь с вами.
- Смотри не рискуй. И еще...
- Да?.
- Позвони к себе в контору. Я имею в виду твою фирму. Не хочу тебя огорчать, но, кажется, у тебя неприятности.
Неприятности... Я положил трубку и ядовито ухмыльнулся. Неприятности... Неприятности у Ловкача. Пока я жив, неприятности могут быть у тех, кто мешает мне, черт их побери!
Подумав, я все же позвонил к себе в Москву.
- Охранная фирма "Цербер".
- Лена! Это я, Иван. Будь добра...
- Извините, Иван Михайлович, но мне приказано с вами не разговаривать, - вдруг огорошила меня моя секретарша.
- Ты спятила, детка? Кто приказал?
- Ох, Ванечка! Тут такое!.. Тут... Извините, - вновь механически зазвенела она, оборвав приглушенный шепот, - мне запрещено говорить с вами. Переключаю на главу фирмы.
Вот те на! Это кто же является главой моей собственной фирмы?
- Алло! - сказал голос Ильи. - Кто говорит?
- Это Фролов, - сказал я. - А ты, значит, глава фирмы?
- Да, теперь я глава и хозяин. Ты не выполнил просьбу ответственных людей, поэтому тебя вынуждены были отстранить.
- Вам там всем жить надоело? Что за идиотизм?
- Перестань! Ты до сих пор не понимаешь, с кем связался? Все у нас тут было сделано за утро, мне просто сообщили, у меня выбора не было. Я из двух зол просто выбрал меньшее.
Я сжал трубку, злоба и ошеломляющее чувство несправедливости!.. У Ловкача вот-вот упадет изо рта отрезанный и небрежно вставленный обратно язык. Я пальцем засунул его поглубже.
- Ты, подонок, неужто надеешься, что я до тебя не доберусь? - сказал я.
- Иван! Ты совсем глупый, или у тебя шарики стало заедать только в последние дни? Пойми, ты не просто шестеренку механизма застопорил! Тебя же в порошок сотрут и никто не почувствует. Ты где вообще живешь? В каком мире? Я последний раз говорю с тобой как друг и последний раз советую исчезнуть, вообще в Москве не показываться на время. Я даже говоря сейчас с тобой, рискую, все ведь прослушивается. Уезжай, прошу тебя.
Короткие гудки мерно отдавались в голове. Или это кровь от бешенства? Я осторожно положил трубку. Мертвец весело показывал кончик языка, насмехался, сволочь!
Ничего, выживем.
ГЛАВА 29
НЕЛЬЗЯ КРОВЬЮ СМЫТЬ КРОВЬ
Я машинально обтер платком телефонную трубку, спинку стула, кожаные подлокотники кресла, даже рюмку... все ещё валявшуюся на столе. Это на всякий случай. Посмотрел на настенные часы: без пятнадцати шесть.
В коридоре кровавая полоса на стене пререходила на зеркало. Я остановился, это были слова. "Еще остались трое". Было ещё какое-то слово, но высыхающие пальцы не смогли дописать. Значит, трое. Я вышел.
В подъезде - тишина. Я постоял, прислушиваясь. За всеми железными дверями было тихо. Без приключений вернулся в машину, сел на водительское сиденье и тут вспомнил о сигаретах. Закурил. Какое острое, дикое наслаждение вот так закурить в подобную минуту! Я заскрежетал зубами от этой смеси удовольствия и ненависти - вспомнил Лютого. Какая-то тюремная вошь путается у меня под ногами со своими остаточными комплексами!.. Ничего себе комплексы! - нервно расхохотался я, продолжая продумывая свои дальнейшие ходы.
Я завел мотор и выехал на дорогу. Отжал педаль газа и, пользуясь тем, что машин было не так уж и много, помчался куда глаза глядят.
А мысли не отпускали. Все время одно и то же. Чингиз и я - двое. Оставалось ещё двое: Таня и Лещиха. Но на зеркале было ясно написано "трое". Кто-то один: либо Таня, либо Лещиха. И я склонен думать, что Лещиха. Именно она была полноправным членом нашей банды. Таню мы всегда держали в стороне.
Потом вдруг обнаружил себя лежащим на баранке руля: мотор выключен, машина стоит возле какого-то киоска. Хотел что-то купить? Сигарет?..
В конце аллеи я заметил телефонную будку. Включил мотор и бросил машину вперед. Автомат оказался, как я и надеялся, бесплатный. Набрал Танин номер, и после третьего гудка с облегчением вздохнул.
- Алло!
- Это я.
- Где ты пропадал весь день? - встревоженно, но с милым старанием говорить спокойно, спросила она.
- Не беспокойся, котенок, все нормально. Только хоть и нормально, никому не открывай. Если что, стреляй сквозь дверь, - посоветовал я.
- Ты меня успокоил! - усмехнулась она. - Я и так с оружием не расстаюсь.
- Все правильно, девочка. Костю убили.
- Не может быть!!!
- И это, скорее всего, Лютый.
- Теперь ты веришь?
- Приходится. Я был у Чингиза и у матери Лютого. Лютый в бегах, где-то в городе. Так что на всякий случай запрись покрепче и никому, кроме меня или полковника Сергеева, не открывай. Усвоила, крошка?
- Усвоила. Ты сам не рискуй.
- Хорошо. Сейчас без десяти или без пяти шесть, я буду...
- Сейчас половина седьмого.
- Так много? Не может быть. Я только что смотрел время - было без пятнадцати шесть. Куда-то сорок пять минут делись. Хотя скорее всего часы отставали. Ну все, я погнал. Часов в восемь-девять буду.
- Я жду, - сказала она и, вешая трубку, я думал, как же приятно, иной раз, услышать эти простые слова: "я жду".
Я выбросил из головы телячьи нежности. Расслабляться нельзя. Итак, оставались три потенциальные жертвы: я, Чингиз, Лещиха. Чингиз пока здоров, я тоже. Отжимая сцепление, я уже знал, куда еду. Надо проведать Лену.
К её дому я подъехал вовремя. Если можно так сказать в данном случае, ибо небольшая, встревоженно галдящая толпа под её окнами заставила меня, даже не заглушив двигатель, кинуться сквозь круг обывателей к центру, куда было обращено общее внимание.
Лещиха лежала на газоне и широко раскрытыми глазами смотрела сквозь обступивших её людей в вечернее серое небо. Судя по всему, она была мертва, и это меня удивило, учитывая третий этаж и относительно мягкий газон. Я наклонился к самому её лицу. Перегар. Едва заметный, легкий запах перегара, давал надежду: она дышала. Дыхание её было почти незаметно, лишь мелкое непроизвольное подергивание тела показывало - Лена не хотела умирать.
Я наклонился ещё ниже и, расправив складку халата, нашел входное отверствие пули, окрасившее и так красно-пеструю ткань халата. Да, кровь была почти незаметна, а Лещиха умирала.
Увидев, как дрогнули её губы, я наклонился ещё ниже.
- Лена, это я, Иван.
Она прошептала мое имя.
- Кто это сделал... Лена?
Шепот, слетавший с её губ, почти невозможно было разобрать. Я жестом и мимикой заставил заткнуться окружающих.
- Я его узнала сразу, он не изменился, только стал страшнее. Он ужасен... это чудовище... он даже... - она замолчала и лишь глаза раскрывались все шире, словно бы тот, кого она видела в воспоминаниях, предстал наяву. Через несколько секунд её губы вновь шевельнулись:
- Он сказал, что пощадит меня, убьет сразу... и выстрелил...
- Кто? Кто это был, Лена?
Она вернулась в реальный мир из своих воспоминаний, и глаза её обрели осмысленное выражение. Она с усилием попыталась разглядеть меня. Я схватил её за руку, но она тотчас же испуганно отдернула её. Тело её дернулось, она открыла рот, словно собираясь закричать, но крика не получилось. Она так и умерла с лицом, искаженным от ужаса, и с широко раскрытым ртом. Глаза её также остались широко раскрытыми, точно она повстречала смерть и сейчас продолжала смотреть на нее.
Я поднялся и огляделся. Все смотрели на меня с обычным в таких случаях выражением. Впрочем, они не знали, как соотнести убитую алкоголичку и меня. Я вспомнил о своей побитой физиономии - вид ещё тот.
- "Скорую" вызвали?
Вызвали. И "Скорую" они вызвали и милицию. И хорошо. Расталкивая народ, я пошел к машине. Тут вспомнил о Пашке. Стремительно повернулся, отчего толпа отшатнулась почему-то.
- Сына её не видели?
Никто не видел.
Сел в джип. Мотор рокотал. Быстро, мерзавец, действует, подумал я о Лютом.
Остались Чингиз и я. Попробую успеть к Чингизу. Я рванул машину с места и, с визгом стираемой об асфальт резины, понесся на набережную к кинотеатру "Слава".
А вечер, между тем, все серел, и мелкий дождь, неутомимо сыпавший на асфальт, дома, деревья, стекла моей машины, время от времени усиливался; тогда шумно налетал ветер, и некоторое время ливень бодрыми косыми струями размывал город.
Зал, где метал ножи Чингиз, был закрыт. Мне пришлось искать замену тому прыщавому знатоку, что прошлый раз навел меня на след Марата.
На сей раз подошли ко мне; бывший борец или боксер, после завершения спортивной карьеры мгновенно раздувшийся по периметру телес, загородил мне дорогу.
- Что мне надо? - переспросил я. - Чингиз мне нужен. Час-полтора назад я его оставил внизу, он кидал ножи.
Бурдюк с прежними мышцами и нынешним жиром смерил меня взглядом и крохотные глазки показали, что я не признан субъектом опасным и вредным.
- Чингиз в тренажерном зале.
- Мне срочно надо его повидать, - сказал я утомленно. - Это в его интересах.
Охранник сопроводил меня до двери, за которой, среди разного рода железяк и находился Чингиз.
Чингиз в спортивном костюме устроился на сиденье тренажера, отдыхая, видимо, после подхода к снаряду. Когда я вошел, он медленно поднял голову, пристально посмотрел на меня, а потом равнодушно и непонятно махнул рукой: то ли приглашая меня, то ли отпуская моего провожатого. И все-таки главное, что бросилось мне в глаза, так это взгляд Чингиза: злобный, неприветливый и даже надменный. Он словно бы вопрошал, нет, корил меня за бесполезные посещения, так мне показалось.
Как же я себя плохо чувствовал!
Я сел на лавку у стены. Чингиз настороженно наблюдал за мной. Однако я начал не со своих кровавых новостей, а неожиданно спросил совсем о другом.
- Слушай, Чингиз, что это ты имел в виду, когда сказал, что после моего посещения тебе ничего не грозит? Ты опять что-то от меня скрываешь? Предупреждаю, дело слишком серьезно, чтобы секреты разводить.
Я сказал это намеренно грубо, с напором, все ещё находясь под свежими впечатлениями от недавней смерти Лещихи. Сказав, я посмотрел на него. Глаза Чингиза в тот же миг злобно сверкнули, сузились в щелочки, но голос его был сдержан и тих:
- Ничего я не имел в виду, кроме того, что поймет любой: ты меня предупредил, что Лютый в городе, значит, я буду начеку. Да и ты, наверное, будешь союзником, какой резон тебе подставлять меня? Тебе самому надо расправиться с Лютым больше, чем всем нам.
- Это почему же? - заинтересовался я.
- А потому, друг ты наш ситцевый, что Лютый тут такого наворочал, что его должны были давно, как Фреди Крюгера, подпалить. Понял? - спросил он так злобно и нагло-вызывающе, что меня оторопь взяла.
- Ты чего это?! Какая связь? - вскричал и я. - Что это все значит? При чем тут Фреди Крюгер?
Чингиз молчал и тем же наглым взглядом продолжал осматриваться.
- Говори, при чем тут Лютый и то, что я должен хотеть его смерти?
- А разве смерть товарищей детства не вызывает в тебе желания отомстить, - спросил он, презрительно усмехаясь.
- Так ты это имел в виду? Нет, тут что-то другое!.. - лихорадочно соображал я. - Что-то другое...
- Как же ты не понимаешь, - с расстановкой, медленно и все так же презрительно сказал Чингиз, - что Лютый и ты фактически один и тот же человек. Чтобы ни совершил Лютый, его вина может стать твоею из-за вашего сходства. Тебе этого мало? Ведь умный же человек, а в какую яму себя загнал! - в сердцах воскликнул он и отвернулся, но тут же, вновь повернувшись, продолжал с такой же исступленной ненавистью.
- Тем, что ты всегда отвергал даже факт его существования, ты его поступки принимал на себя. Ты не понимаешь, что значит жить в тени другого, когда - чтобы ты ни сделал! - все принадлежит другому, все автоматически приписывается другому. Сейчас Лютый уничтожает свидетелей своей второстепенности, но и тебе надо уничтожить Лютого, чтобы ненароком (да что там, вполне сознательно) он не уничтожил тебя. Тогда не будет ни свидетелей, ни второй половины, а будет один человек. А он ли, ты - это уж как судьба решит... А ты, кажется, болен. Осунулся весь, в зеркало вон посмотри, - кивнул он на стену, сплошь в зеркалах.
Я посмотрел: желто-лиловые разводы синяков, заклеенная бровь.
- Ну у тебя и рожа, как говорил Высоцкий Шарапову, - заметил Чингиз. Тебе отлежаться надо, а ты скачешь, куда не надо.
- Ловкача и Ленку Лещиху убили, - сказал я, отвернувшись, наконец, от созерцания своего изменившегося лика.
- Что?!! - взвился Чингиз. - Когда?
- А вот за последние два часа. Я к Ловкачу приехал, он уже остыл. А Лещиха у меня на руках умерла. Кстати, у Ловкача на зеркале было написано, что ещё трое остались. Теперь, после Ленки - двое.
- Как двое? - вскричал он.
- А так, ты да я. Я и ехал тебя предупредить, а ты тут цирк устраиваешь.
- Ах ты, подонок! - Чингиз с безумной ненавистью смотрел на меня.
- Ты это о ком? - спросил я. - О Лютом?
- О Лютом? О Лютом тоже. О Лютом и о тебе. Оба вы мерзавцы, оба одним миром мазаны.
- Оба? - переспросил я, и от его тона что-то вдруг стронулось у меня в мозгу, и меня затрясло противной дрожью. - Что ты мелешь? - вскричал я.
- А то, что глупо убивать, чтобы смыть с себя кровь. Будто можно кровью смыть кровь. А ты соучастник всему - если бы тогда, давно, не прятался от Лютого, не было бы и соперничества, не было бы и крови.
- Вот как ты заговорил, - злобно усмехнулся я. - Выходит, во всем я же и виноват. И в том, что Лютый убийца, я тоже виноват?
- А ты сомневаешься?! - заорал Чингиз. - Так знай, мне сам Лютый это говорил.
- Когда? - похолодел я.
- Дня три назад. На днях, в общем.
Я вскочил и схватил его за плечо.
- Так ты с ним встречался! А ну рассказывай.
Чингиз вдруг стряхнул мою руку и с безумной ненавистью посмотрел мне в глаза.
- Чего это ты тут кино крутишь? Все свои, посторонних нет. Не прикидывайся. Хоть бы вы сожрали друг друга, так нет, норовите других с собой прихватить. Так вот, - крикнул он, - меня он трогать не собирался, так что остались вы двое: ты и Танька!
Я прислонился к зеркальной стене спиной. В голове было пусто, я продолжал дрожать. Все во мне помутилось в тот же миг, как Чингиз сказал про Таню, и чувствовал я... чувствовал я, как нечто страшное, безумное прет из меня, заставляя мутиться рассудок.
- Да неужели ты и вправду ничего не знал? Ну что за человек! всплеснул он руками. Всю его монголо-татарскую (часто наигранную) сдержанность, как рукой сняло. - Лютый мне так и говорил, что ты до последнего будешь все отвергать, пока и исправить будет ничего нельзя.
- Это мне снится, ты мне тоже снишься, - нелепо прошептал я.
- Вот-вот! Он это и имел в виду, - сказал Чингиз. Он продолжал пытливо следить за мной. Он никак не мог победить своего недоверия, это было написано на его лице. А я в том состоянии усталости, болезни, дурноты, что овладели мной, никак не мог уяснить, что же в действительности происходит? Почему злится и так недоверчив Чингиз? Почему Лютый и я оказались друг против друга на арене, откуда спастись может только один. И вдруг мысль о том, что пока я сижу и предаюсь словоблудию, Лютый уже... Таня!..
Я вскочил, меня качнуло назад так, что стукнулся головой о зеркало, и с ужасом посмотрел на Чингиза. Я был растерян, потрясен, но все же пытался сообразить... Чингиз внимательно, с недоверием следил за мной. Не совладав с дрожью, я сел и то, что придется снова вставать, куда-то идти - привело меня в ярость. В исступлении я закричал:
- Всех! Всех уничтожу! Если с неё один волос!.. Всех!
Тут я бросился к двери и побежал по коридору, потом через вестибюль; мне навстечу попался охранник, которого я отшвырнул как котенка, и пока тот скользил спиной по гладким плитам пола, я следил за ним мутными от ярости глазами.
ГЛАВА 30
ОНИ ВАС УБЬЮТ
Быстрая езда освежила; ветер, дождь, сумерки врывались в салон поверх опущенного стекла. Как поздно, подумал я. Свисток вслед - пропал позади. Ее дом! Ступеньки, третий этаж... еще...
На ступеньках перед приоткрытой дверью Таниной квартиры скорбно сидел Пашка, о котором я напрочь забыл. А он ведь остался совсем один! - обожгла неуместная мысль. Я должен был думать о другом.
- Где? Где она?
- Ее забрали.
- Где?.. Кто? Кто забрал?
- Ленчик и Сладенький.
- Давно?
- Уже с час, наверное. Я вас ждал, они меня не видели, я хотел...
- Пошли, - сказал я, и за плечо увлек его в квартиру.
Замок открыт, но не работал, пулевых отверствий в двери не было.
- Ее не ранили? - спросил я. Все волнение, вся дрожь, пустота в голове - все испарилось: я был собран, деловит, холоден.
- Нет. У Сладенького были ключи или отмычка. Они вошли, а тетя Таня даже не услышала. Я прятался здесь на пятом этаже.
- Ладно. Сейчас пойдешь домой... Так надо! - с нажимом сказал я. Будешь ждать меня или тетю Таню. Все будет хорошо. Ты же мне веришь? Я все знаю о маме. Но ты мужчина, и у тебя есть мы, ведь правда?
Он кивнул сквозь слезы. А я уже думал: что? как? откуда? с какой стороны пробраться в особняк Ленчика?..
Впрочем, думать над этим сейчас не имело смысла. На месте разберусь. Надо было только убедить Пашку идти домой, потому что оставаться здесь, в квартире с выбитой дверью было опасно. И даже если бы замок работал, он бы не стал помехой Лютому, пожелай он ворваться к Тане. Оставит ли он мальчишку в живых, не найдя свою жертву на месте, не знал никто.
- Ты понял? - спрашивал его я. - Ты понял?
Он кивал, широко открытыми глазами наблюдая за моими сборами; я нашел сумку и складывал туда трофейное оружие, ранее рассованное здесь по углам: "узи", запасную обойму, "калашников", два запасных рожка, навинчивающийся глушитель, граната...
Я сел на стул. В правом виске болезненно пульсировал сосуд.
- Ты понял, где будешь нас ждать?
- Да, дома, - ответил он.
- Тогда все. Тогда пошли.
Я прикрыл за нами дверь. Потом мы сошли вниз: в левой руке я нес сумку, правую положил на плечо мальчишке.
- Никуда не уходи, никому не открывай, - напутствовал я его.
- Они вас убьют, - безнадежно сказал Пашка. - Их много.
- Вот еще! - пренебрежительно сказал я. - Мы в огне не горим, в воде не тонем. Для нас главная опасность - медные трубы.
- Чего? - удивился он.
- Что? - переспросил я. - А-а-а. Это так говорят, потом объясню. Ну все, беги. Хотя подожди, - остановил его я. - Вот возьми. Завтра мне отдашь. Знаешь, как обращаться?
- Знаю, - сказал он, принимая от меня "макаров".
- Это на всякий случай. Мало ли...
Он вдруг неловко обхватил меня обеими руками и всхлипнул. - Ну все, все, - сказал я и похлопал его по плечу.
ГЛАВА 31
НАДО БЫЛО ПРИКОНЧИТЬ ОХРАНУ
Дождь продолжал моросить. Уже стемнело, тускло горели фонари, а в небе, стремительно рассекая тучи, бледным пятном летела луна...
Машину я остановил за квартал перед Ленчиковой усадьбой. Попадались прятавшиеся под зонтиками прохожие. Потом дорогу мне перебежала крыса, еще. А когда подошел к каменной стене ограды, ясно прозвучало полусонное карканье устраивавшихся на ночлег ворон.
Здесь было темно; иллюминирован был дом и частично сад за оградой. Главное, проникнуть внутрь. Я ясно вспомнил чертеж, рисованный мне Ловкачом - как давно, Боже мой!
Недалеко от ограды росла огромная липа, перекинувшая в сад нижний могучий сук. Я быстро влез на дерево и, особенно не скрываясь, во весь рост прошел по ветке к кирпичной ограде в сад.
На ограде я замер и прислушался Мне мешала возня ворон, время от времени разражавшихся безумными воплями.
Решившись, я прыгнул вниз, крепко прижимая к себе сумку, чтобы не звякнули железки. Потом вновь долго стоял, тщетно пытаясь что-либо разглядеть или услышать.
Здесь сад не казался столь густым, как со стороны. Деревья, подстриженная трава, кустики кое-где. Наконец глаза мои освоились со слабым освещением. Сначала увидел желто-красную точку сигареты, потом пахнуло дымом, и тут же контур охранника прояснился. Стоял он в тени, а за углом мне было хорошо видно, - ярко освещенный фонарем над дверью, сидел на ступенях крыльца второй охранник.
Я ещё немного подождал. Минут через пять-семь из-за угла, стараясь держаться темных мест, вышел ещё один патрульный.
Мне мешала сумка с оружием. Я тихо раскрыл "молнию", стараясь не звякнуть металлом, вытащил "узи" и приладил его к плечу на ремне. Запасную обойму сунул в карман. Все иное оставил под деревом.
Между тем охранник, в обязанности которого входил обход территории, скрылся за углом. Я поспешил обойти дом с другой стороны. Очень большой, кстати, дом. Я сворачивал за третий угол (а сколько их всего было!), когда услышал встречные шаги. Вернулся за угол и затаился.
Совсем рядом раздалось приглушенное ругательство. Под моими ногами с противным писком пронеслась какая-то тварь. Крыса, конечно. На ветвях вновь загомонили вороны. Запах сигаретного дыма стал явственнее.
Когда патрульный проходил мимо меня, я, особенно не сдерживаясь, ударил его ногой в висок. Он без звука рухнул на мягкую землю. Теперь будет долго отдыхать. Быстро оттащил тяжелое тело в темноту под деревья.
Начало удачное. Чувствовал я себя просто великолепно. И как хорошо дышалось! Воздух, освеженный дневной грозой и нескончаемым дождиком, прохладой вливался в легкие: запах листвы, запах цветов, запах пробудившейся жизни!..
Я быстро обыскал охранника. У него нашелся пистолет-пулемет "кондор" с навинченным глушителем и две запасные обоймы. Насчет глушителя очень разумно: если приходится поднимать стрельбу, то зачем привлекать внимание посторонних.
Еще порадовался хорошему острому ножу.
Теперь следовало имитировать действие патрульного. Я вытащил сигарету, закурил и неторопливо пошел вокруг дома, совсем не стараясь двигаться бесшумно.
Моя тактика, конечно, оправдалась; когда я завернул за очередной угол, сидящий в тени охранник не обратил на меня никакого внимания. Когда я оказался рядом, он как раз затягивался своей сигаретой, тем самым почти ослепив себя. Я, не мудрствуя лукаво, повторил прием, которым отправил отдыхать первого патрульного: нога моя со свистом рассекла воздух и встретилась ступней с очередным виском. Хрипя, парень ещё подергался, но тут же и утих, потеряв сознание. Я уложил неудачника вдоль стены, а сам пошел дальше.
Парень на крыльце, бесполезно обитая в аквариуме из света фонаря и собственных грез, не обращал на меня ни малейшего внимания. Даже когда я попал в конус света, он продолжал пялить глаза куда-то во мрак собственной мечты. Так мне представилось, ибо перспективы всех противников, на мой взгляд, были мрачными. Однако посмотрим.
Метрах в пяти от парня, рядом с центральным входом находилась дверь караульного помещения, где и обитала охрана. Это я знал из чертежа Ловкача, и шуметь в такой близости от многих ушей не пристало. Когда глаза мечтателя обратились ко мне и сознание стало прояснять затянутые поволокой дремы зрачки, я навел на него ствол пистолета-пулемета, и крик, готовившийся вырваться из округлившегося от ужаса рта, так и остался неозвученным. И это хорошо, потому что я готов был стрелять.
Я поднял парня взмахом ствола и, медленно протянув руку, снял у него с плеча типовой здесь пистолет-пулемет "кондор". Парень, подталкиваемый в спину, подошел к двери караулки и замер.
Чувствовал я себя отлично. Был я собран, холодно весел и, словно грязную одежду сбросив болезнь, ощущал силу и бодрость. Конечно, все это скажется, и на внутреннем допинге пошедший вразнос организм завтра будет ныть каждой клеткой. Но это завтра. А сейчас злоба моя, силой накала перейдя черту, хлестала через край и... я не завидовал тем, кому ещё уготована встреча со мной сегодня ночью.
Я заранее испытывал к ним какую-то животную ненависть. Мне хотелось колотить, бить, кромсать!..
Еще не вечер, как говорится, ещё только начало.
Взяв на изготовку "кондор" с навинченным на дуло глушителем и не спуская глаз с парня, я подошел к двери охраны и прислушался. Коридора, судя по всему, здесь не было и сразу за дверью начиналась комната. Я услышал гул голосов, стук, легкий звон, возможно, бутылочного стекла короче, люди приятно проводят время.
Я тронул дверь. Она была не заперта. Тогда я взмахом ствола и кивком головы приказал пленному войти. Он толкнул дверь и вместе со мной вошел, причем я остался у двери, а он прошел дальше, к товарищам.
Задымленная вонючая атмосфера... шесть мужиков в камуфляжной форме за столом играли в карты, один спал на диване у стены, ещё один наливал из-под крана воду в чайник. Электроплитка рядом на маленьком столике, чашки, объедки. Жужжащий вентилятор в углу на тумбочке, приемник, очередной каламбур Фоменко из "Русского радио" (трое в лодке не стесняясь собаки), оборотившиеся ко мне застывшие в одинаковом выражении лица-маски, не успевшие сменить черты веселья на гримасы ужаса.
- Спокойно, мужики! - сказал я и, благо окон не было, если что, можно не опасаться за стекла, со звоном рассыпающиеся в подобных случаях, - обвел всех стволом.
Парень у крана отпустил чайник, с грохотом обрушившийся в раковину, и прыгнул к дивану, возле которого лежал "калашников", но схватил оружие уже начиненный свинцом труп.
Даже не хлопки выстрелов, очень негромкие, а скорее грохот упавшего чайника разбудил спящего; парень вскочил и мгновенно все понял:
- Не стреляй! - не обращая ни на кого внимания, сказал он, словно бы, кроме нас двоих, не было никого. И по большому счету был прав.
Тишина, шум воды из-под крана, громкая возня, не обращавших внимание на игры людей грызунов под диваном, и неизменный грай ворон за стеной сторожки.
И тут все едва не пошло наперекосяк. Я уже было закрыл дверь, как вдруг она, прикрыв меня собой, резко распахнулась. Все взгляды обратились на вошедшего с выражением такого напряженного желания передать ему беззвучный сигнал тревоги, что в иной ситуации я бы рассмеялся.
- Что уставились? - раздался хриплый басок невидимого мне гостя, тут же обратившего внимание на распростертого на полу любителя чая. - А этот что, нажрался, скотина?
Говоря, он прошел вперед к столу, и лица охранников выразили разочарование и злость на человека, у которого был шанс, а он им не воспользовался. Я прикрыл ногой дверь, убедившись, что больше желающих войти нет. Вошедший, оказалось, один из охранников, судя по камуфляжному костюмчику, - повернулся и застыл, гдядя на меня.
- Очень медленно, за ремень, одним пальцем снимай автомат и опускай на пол, - сказал я ему и ухмыльнулся.
Он всмотрелся мне в лицо и послушно выполнил приказ. Потом подтолкнул ногой автомат ко мне.
- Всем руки на стол, - приказал я. - Не шевелиться.
Ты, - кивнул я выспавшемуся воину, - подходи по очереди к каждому, вынимай из брюк ремень и связывай руки за спиной. Я потом проверю. Если замечу, что халтуришь, пристрелю тут же. Понял? - спросил я по-армейски в нос, чтобы было доходчивее.
Он понял. Через пятнадцать минут я связал последнего.
Конечно, разумнее было бы кончить их на месте, но ребятки в принципе ничего мне плохого не сделали, так что я ограничился тем, что перед уходом стукнул каждого рукоятью пистолета по темечку. Тот, что сдуру пришел проведать товарищей, инстинктивно дернул головой в момент удара, и я лишь содрал ему кожу за ухом. Его я немедленно успокоил ударом в висок, понадеявшись, что не убил.
Впрочем, все равно.
В этой возне я потерял полчаса. Где-то здесь Таня, и мне надо спешить.
Дверь, ведущая в дом из сторожки, оказалась не заперта на замок. Я приоткрыл створку и заглянул в холл. Вспомнилось недавнее посещение этого "гостеприимного" притона, и я тут же пожалел, что только пристукнул церберов, стоявших на страже покоя хозяев. Меня немного стали тревожить скачки настроения, но, в очередной раз приписав их своему недомоганию, я успокоился и вошел в устланную огромным ковром, прихожую.
Здесь никого не было. Широкая, прямо-таки дворцовая лестница вела на второй этаж. Там-то и обитали местные вожди.
Я поднялся наверх, так никого и не встретив. Я поднимался: в ушах звучали слова охранников - Таня здесь. Здесь и все "руководство". Охранники имели в виду Семена, Макара и Ленчика с братом. Людей в доме было человек двадцать пять, тридцать. Это только приезжих из Казани и Екатеринбурга. Охрана была местная, наемники Ленчика. Меня уверяли, что один я никак не справлюсь. Лучше, мол, сразу стреляться, но я взглянул на выскочку так, что он мгновенно заткнулся. Идиот!
Однако, когда я спрашивал о Тане, у меня сжалось сердце. Я даже готовился к худшему.
Нет, пока все шло нормально.
Я поднялся на второй этаж. И вспомнил: в левом крыле держали нас с Таней, а в правом - я уже мысленно сверялся с планом, - жили сами хозяева.
Пока мне везло, и тут я никого не встретил. Все было ярко освещено: горела большая люстра, а по стенам одинаково торчали светильники, а-ля свечи в подсвечниках.
В коридоре правого крыла, куда я направился, все было выдержано в тревожно-красных тонах; толстые ковровые дорожки, обои, розовый потолок. Вкус ещё тот, отстраненно подумал я. Проходя мимо дверей, прислушивался, и двигался дальше. Я шел к апартаментам Ленчика, справедливо рассчитывая найти там тех, кого искал.
И нашел. Нашел!..
ГЛАВА 32
УБЕЙ ИХ! УБЕЙ!
Комната типа гостиной. Дверь в сеседнее помещение приоткрыта. И оттуда донеслись сдавленные крики Тани, - там находилась спальня.
И я лишился рассудка. Вернее то, что как-то держало меня в рамках рассудка, роли освободителя, предусматривающей контроль, пусть и неполноценного, но все же гуманизма, исчезло напрочь. В голых тушах Ленчика и Сладенького Александра я видел элементарных жирных, наглых, обезумевших от похоти хряков.
На фоне слабо освещенного интерьера спальни возник сначала во весь свой рост возмущенный появлением непрошеного гостя Ленчик.
- Сладенькая! Сладенькая моя!.. - услышал я помимо ритмичных стонов Тани голос этого подонка, самозабвенно плющившего всей тушей мою бедную девочку...
Ленчика я завалил ударом ноги в рожу, сделав над собой нечеловеческое усилие, чтобы тут же не разрядить в него обойму.
Эта мгновенная внутренняя борьба вынудила меня потерять секунды. Сладенький, несмотря на свое занятие, оценил ситуацию мгновенно и тут же скатился к своим шмоткам.
К счастью для меня, под руку ему попался нож... нет, бритва. Я краем глаза уловил острый блеск, перехватил его руку и завернул за спину. Энергией прыжка его унесло вперед; споткнувшись о толстый ворс ковра, он упал. Мне продолжало везти.
Когда он со сломаной рукой ткнулся мордой в ковер, ворс толстым кляпом забил ему рот - заорать он просто не смог.
- Убей их! Убей! - услышал я голос Тани.
Она сидела на постели и яростными глазами смотрела на меня, но я уже находился по ту сторону простых эмоций. Я даже не отозвался.
Привычно стукнув легавого по черепу, я добавил ботинком в лицо ползающему кругами на четвереньках Ленчику. Только потом метнулся к Тане.
- Цела?
- Если не считатьдевственности, - безумно пошутила она.
Мне некогда было сочувствовать её уже не девичьим, а женским бедам. Я бросил ей одежду.
- Одевайся! Быстро!
Я лихорадочно метался по спальне в поисках веревок, ремней. Два брючных ремня из штанов братишек... Догадавшись, я рванул створку платяного шкафа, где висел целый набор надежных ремней, десятка два, не меньше.
Братья зашевелились. Я со всей осторожностью - не дай Бог серьезно повредить! - пристукнул их ещё разок.
Связал руки и ноги, а потом ещё и подтянул за спиной ступни к кистям.
Эх жаль не было скотча! Пришлось забить банальные кляпы в их пасти.
Перед уходом затащил обоих под кровать, чтобы не мозолили глаза случайным посетителям.
Тане я передал американский "кондор", и она хищно схватилась за оружие.
- Осторожнее, - сказал я. - Нам шуметь не следует.
Мы вышли в коридор. Несмотря на ранний час - было всего часов одиннадцать, по моим подсчетам, - все по норам занимались своими делами. Нам это было, разумеется, на руку. Только когда подошли уже близко к выходу на лестницу, вдруг, едва не стукнув меня по носу, шумно и пьяно распахнулась последняя дверь. Мы услышали бессвязное хмельное бормотание, а затем возглас: "Сволочь! Сволочь!" Затем последовал звук льющейся воды, я осторожно выглянул из-за угла.
Вдрызг пьяный малый, оттопыривая мокрую нижнюю губу, сосредоточенно мочился прямо на ковровую дорожку.
- Сволочь! - ещё раз пригвоздив кого-то, парень упал обратно в комнату, зацепив за собой и дверь.
Обойдя быстро впитывающуюся лужу, мы пошли дальше и, уже без приключений, спустились вниз.
На всякий случай заглянул и в караулку.
- Это ты их? - восторженно шепнула за спиной Таня.
Я взглянул в её горящие задумчивой ненавистью глаза и кивнул.
Мы пошли к воротам. Я помнил, там была калитка. И действительно, была. Причем, закрыта не на замок, а на большой засов. Я стал открывать.
- Чего это вы тут возитесь? - раздался рядом голос.
"Вот незадача! Эти церберы тут везде понатыканы", - подумал я и шагнул к парню.
- Ты меня знаешь! - с хамской интонацией угрозы сказал я.
- Чего? - начал отступать охранник, понимая, что перед ним свой.
Он ошибся. Я воткнул ему кулак в живот, а когда его согнуло, ребром ладони ударил в основание черепа. Этот тоже некоторое время будет тихим.
Открыл калитку. И мы вышли.
- Пойдешь в ту сторону, - махнул я рукой, - увидишь мой джип, садись и дуй до Лещихи. Знаешь, где она живет? Вот и хорошо. Третий этаж, квартира тридцатая. Бери ключи.
- Зачем?.. А ты? - спросила она.
- Я позже.
- Но почему к Лещихе?
- Ее сегодня убили. Там один Пашка с пистолетом. А у тебя замок выбили и Лютый может заявиться. Уяснила обстановку?
- Да. А ты?
- Мне надо ещё задержаться. Сама понимаешь...
- Я тоже хочу, - порывисто сказала она.
- Давай, давай, - веско и нетерпеливо махнул я рукой.
Она почувствовала мою непреклонность и пошла к машине. Я смотрел ей вслед. Она шла с автоматом в опущенной руке. Я ухмыльнулся, представив себе ощущение случайного прохожего, столкнувшегося с разгневанной валькирией, и потихоньку свистнул. Она оглянулась. Я показал ей ладонь, и она, сразу сообразив, заметалась взглядом, а затем беспомощно посмотрела на меня. Действительно, не под юбку же прятать!
Махнув рукой на прощание, я нырнул в тишину и покой Ленчикового сада.
Еще раз заглянул в караулку. Тот, кто зашел последним, и кого я явно неудачно оглушил, очнулся и пытался ползать по полу. Я подошел к нему. Мужик, лет тридцати пяти и, видимо, главный в этой охранной банде, сейчас с ненавистью смотрел на меня.
- Никак не успокоишься? - посетовал я.
Он продолжал сучить ногами по полу. Я вспомнил, что Ловкач, рисуя план, крестиком отметил предполагаемое местопребывание Семена. Точно не был уверен, но, будучи как-то здесь, видел выходящего из этой двери казанского мафиози.
Надо спешить, я теряю время. Приподняв голову главаря за волосы, я сильно ударил его в челюсть. Глаза его тут же остекленели, он утих. Я обвел взглядом остальных; все лежали мирно. И вдруг столкнулся взглядом с бывшим спящим. Тот широко раскрытыми глазами следил за мной. Отдохнул и никак отключиться не может... Глупые мысли. Парень вдруг замотал головой, и я его понял.
- О'кей! - сказал я, согласившись. - Главное, веди себя тихо.
Он сразу закивал.
Прежде чем уйти, я обыскал всех мужиков. И нашел, что искал. Семь штук гранат. Семь счастливое число. Это меня обрадовало.
Я вышел, надеясь, что не сглупил, оставив парня в сознании.
Быстро поднялся наверх. У Ленчиковой двери прислушался. Тихо. Зайти, проверить наличие присутствия? Нет времени, ладно. Двинулся дальше. Вот и нужная мне дверь. Надеюсь, Семен здесь.
Дверь была заперта. Я осторожно стукнул. Потом ещё раз.
- Кто? - спросил знакомый голос.
- Открой! - сказал я, пытаясь подражать жирному голосу Ленчика.
- Что тебе надо? - спросил Семен.
- Открой! - повторил я с напором.
За дверью подумали, потом щелкнул замок. Едва дверь приоткрылась, я сильно надавил и скользнул внутрь. Инерция бросила меня на Семена, прижавшего ладони к лицу. В одной руке он зажал пистолет. Я схватил ствол, с хрустом вывернул и - благо дистанция позволяла - коленом, что есть силы саданул промеж ног. Наш рафинированный мафиози с нутряным негромкий воем клубочком свернулся на полу.
Еще одна дверь. Бросился туда. Заглянул.
Напряженно вытянув шею, смотрел на меня Макар. Вдруг натянутая кожа на его лице стала расслабляться.
- О! Это ты? - приветливо сказал он. - Я шум слышу, думаю, кто там? А это ты. Вот и хорошо.
Он стоял возле круглого стола, на котором лежал большой пластмассовый чемодан на колесиках с распахнутой крышкой. Что там - не видно. Может, оружие?
- Ты ведь не обидишь старого друга? Думаешь, мне это больно надо? неопределенно мотнул он головой.
Я молчал, пытаясь понять, нет ли здесь ещё кого? Но что-то подсказывало: кроме двух главарей больше никого нет.
- На, возьми. Все бери, - сказал Макар, демонстрируя широту натуры. И только утрированная льстивость тона и подчеркнутое дружелюбие работали против него - выдавали его страх и напряженную работу мысли. Конечно, он искал выход из западни, в которую угодил.
Пути спасения было.
- На, бери. Все бери, - Макар зашел за стол (я тут же прицелился) и закрыл чемодан. - Вот, смотри, закрываю. И вот ключ.
Он поставил чемодан на идеально блестящий паркет и легко толкнул ко мне. Чемодан, скрипя колесиками, подъехал.
- И ключ бери. Лови, - великодушно сказал Макар и бросил мне ключ, который я машинально поймал и так же машинально сунул в карман.
- Руки вверх! - раздалось за спиной. - Оружие бросай, не то я стреляю.
Я повернул голову. Все ещё скрюченный от боли в меня целился из "калашникова" Семен. Я опустил руку и выронил пистолет.
- Руки вверх! - тут же скомандовал Семен.
Я стоял перед ним - одна рука опущена, другая все ещё в кармане с ключом от чемодана, - и думал, как глупо я попался, думал, что следовало бы всех кончать на месте, а теперь дело дрянь. А частью остраненного сознания пытался определить назначение круглого твердого предмета, лежащего в моем кармане. Это не могла быть граната, шар был слишком мал, самое большее сантиметров пять... Я схватил шарик и, вытаскивая руку, швырнул его в Семена. Шарик попал в глаз, вызвав замешательство. И короткую очередь поверх голов. Но мгновение было мне подарено.
Этого мне хватило. Сейчас я был в ударе: быстр, ловок и находчив.
Вновь вспыхнула злоба. Скрипнули зубы. Я вырвал автомат и ударил прикладом в лицо Семена. Он упал. Сзади раздался щелчок. Я повернулся; Макар, как в кошмарном сне, наводил на меня гранатомет "муху", где-то тщательно припрятанный доселе. Падая на пол, я понимал, что с партизанской тишиной в доме покончено.
Впрочем, выстрелил первым я. Мелкие пули со смещенным центром тяжести вошли в грудь моего давнего приятеля и, произведя хаотические разрушения тканей организма, убили его на месте. Однако он тоже успел выстрелить. Конечно, уже не в меня, да и целиться он уже не мог.
Граната мерзко взвизгнула, метнулась в дверной проем и, ткнувшись в стену другой комнаты, проделала ещё один выход в коридор.
Я выстрелил Семену в неповрежденный глаз и нагнулся, чтобы поднять тот шарик, что, фактически, спас мне жизнь. И сразу узнал. Это был талисман Пашки. Когда он успел положить его мне в карман? Перед расставанием? Да, да, когда обнимал меня на прощание.
Меня спас этот пацан!
Я сунул талисман в карман и бросился к выходу.
Для выхода я выбрал, почему-то, не дверь, а брешь в стене. Впрочем, все равно. Выглянув, я немедленно спрятался обратно. Весь дом мгновенно ожил - словно Охотный Ряд вечером. Екатеринбургско-казанские мужички очумело бурлили в коридоре. Когда я выглядывал, кто-то заметил меня и тут же пустил мне вдогонку пулю. Хорошая реакция; да и подход к делу я одобрил: сначала стрелять, потом разбираться.
Но тем не менее мужик в меня не попал, и я кинул ему в ответ гранату. Потом ещё одну.
Тишина все равно нарушена.
Два взрыва прогремели один за другим. Я выглянул. Теперь выстрелили с другой стороны коридора - я вновь ответил гранатой и бросился в коридор. По мне не стреляли. Из последней двери выскочил все тот же обормот, что недавно перепутал сортир с коридором. Сейчас он со зверской рожей потрясал трубой гранатомета. Я крикнул:
- Сзади!
Ни капли не успевший протрезветь боец повернулся и лупанул по двери на лестницу. Огонь, шипение, грохот - Бах! трах! - все атрибуты войны. Я, пробегая, ударил прикладом автомата гранатометчика по голове.
Терпеть не могу пьяных в любом деле!
Из левого крыла выскочили четверо. Я срезал их короткой очередью. больше никто оттуда не показывался Но я, подскочив к выходу, кинул на всякий случай в левое крыло гранату.
Тишина, пыль, чье-то тело. Ладно, мне и нужно было только относительное спокойствие, да немного времени.
Быстро побежал обратно в правое крыло. Кто-то скребся за одной из дверей. Я, пробегая, резанул на звук очередью.
Дверь Ленчика. Я заскочил в комнату и захлопнул дверь. Накладной замок. Я заперся изнутри.
Как же я жалел, что эта громкая война, перебудившая весь дом, лишила меня получаса тишины, на которые я так рассчитывал. Да что полчаса - хотя бы пять минут.
И я их буду иметь! Жизненный опыт убедил меня, что время - понятие физическое и, конечно, относительное. Удлинять или укорачивать секунды умение благоприобретаемое. Я твердо рассчитывал превратить эти несколько минут в часы.
Не для себя. Для Ленчика и Сладенького.
- Убей их! - кричала во мне Таня. Я до сих пор слышу её крик.
И сердце мое пело от радости: хоть пять минут, но у меня будет.
Я за ноги выволок обоих из-под кровати. Оба уже были в сознании и одинаково кровавым взглядом испепеляли меня.
Я вытащил из кармана бритву легавого братца и с наслаждением дал возможность обоим любителям сексуальных удовольствий оценить твердое сияние полированной стали.
Что-то есть фатально-ужасное в опасных бритвах! И что-то восхитительное! Наверное, это зависит от точки зрения.
А они ещё не понимали, чего я хочу.
Но вскоре поняли. Впрочем, ни вспоминать то, что произошло дальше, ни тем более облекать это в слова нет у меня ни малейшей охоты. То, что естественно в минуты аффекта, неприемлемо в спокойной обстановке. И то, что мы проделывали на войне (и что с нами проделывали!), никогда не станет достоянием гласности. По разным причинам. И, однако, я ни о чем не жалею, и если бы случай вернул меня назад, в этот спальный ад, я все повторил бы сначала.
Однако как ни был я увлечен в тот момент процессом, краем уха услышал какое-то движение в коридоре. Мне очень хотелось сделать все помедленнее ("Убей их!"), но время... И оставлять братьев подольше помучиться в этаком виде не хотелось, ибо чего-чего, но хирургия в нашей бедной стране из-за большого количества материала, поставляемого беспрерывными войнами, достигла значительных высот. Вполне могли вылечить. А этого допускать было никак нельзя.
Я и не допустил!
В дверь уже пытались ворваться. Я издали крикнул что-то ленчиковым голосом, мол, сейчас выйду. И действительно, скоро открывал замок.
В образовавшуюся дверную щель я выбросился сам.
Четверо молодцов, уцелевших в прежнем бою, ожидая увидеть Ленчика, тупо уставились мне в лицо, в ступоре ожидания приказов.
Вместе с сомнениями я лишил их и жизни, коротко расстреляв из "калашникова".
И тут на меня обрушилась тишина. Я стоял в коридоре среди мертвых тел, где-то капала кровь, жужжали разбуженные мухи, привычно пахло порохом, мочой, смертью. И пищали по всем углам постоянно мерещившиеся мне нагло-торжествующие крысы: будет чем поживиться, как же!.. Но, прерывая все случайные звуки, ровно и мощно доносился со двора вороний грай.
"Я должен идти, - подумал я. - Меня ждут. Меня ждут Таня и Пашка".
Где обходя, а где перешагивая через тела, я прошел до выхода. Остановился в раздумье, не зная, как лучше выйти: через дежурку или в главный вход, как шли с Таней. Вышел через главный вход.
И как же орали вороны!
Дождь все ещё моросил. Было темно, мокро и только размытые туманные круги света собирались вокруг фонарей.
За воротами первые шаги прошел бодро, но вдруг меня стало шатать. "Это опять простуда", - подумал я равнодушно. Какая-то тоска сошла теперь в мою душу. Я почувствовал, как все зря, как все глупо и ненужно. И тут же с радостью подумал, что Таню я все-таки спас. Я вдруг споткнулся и едва не упал. К моему удивлению, сразу прошедшему, впрочем, оказалось, что помешал мне идти тот злополучный чемодан на колесиках, что отдал мне Макар. Я нащупал ключ в кармане пиджака рядом с Пашкиным талисманом, спасшем мне сегодня жизнь, и решил немедленно открыть чемодан, посмотреть, что там внутри. К чему тащить такую тяжесть, если... Но было очень темно, поэтому я нашел в стене, вдоль которой шел, какую-то нишу, может быть, арку сейчас закрытых ворот, только узкую. Да, возможно, арку для калитки. Там я поставил чемодан и сел отдохнуть, потому что почувствовал страшную усталость.
Попискивая, подбежала крыса и часто-часто задышала. Из темноты проявились красные глазки величиной с горошинку, не меньше, а за ними и все совершенно-мерзкое тельце.
Мимо, освещая улицу фарами и голося сигнальными сиренами, пронеслись несколько милицейских машин. Как я понимаю, дождались окончания бойни в усадьбе Ленчика и теперь ехали составлять протоколы. "Крысы!" подумал я.
Я встал, схватил чемодан и, шатаясь, продолжил свой путь. "И все-таки я победил, - подумал я с наслаждением. - Я победил всех этих Ленчиков, Макаров, Семенов, Лютых, Сладеньких мусоров и прочих плохих и совсем плохих людей!" Тут вдруг я остановился, потому что подумал: "Как же я могу утверждать, что победил Лютого, если я его ещё не встретил ни разу?" И тут вся радость, все удовольствие от победы прошло вмиг. Я понял, что ничего ещё не кончено и мною вновь овладело мучительное состояние отвращения и ненависти, а с ними вернулась решимость обязательно, немедленно довести дело до конца.
И тут же реальность со всей остротой вернулась ко мне шумом работающих где-то рядом моторов милицейских машин, шелестом дождя по темной листве и поблескивающим лакированным силуэтом джипа, остановившегося рядом. Это подъехала Таня, вместе с ликующим Пашкой. Не дождались в квартире...
Вот и славно!
ГЛАВА 33
КОШМАР КОНЧИЛСЯ НАВСЕГДА
Мы доехали быстро. За рулем сидела Таня, Пашка не отрывал от меня взгляда. Я же отнекивался в ответ на их расспросы, сказав только, что бандиты все до единого убиты, и, приписав мою заторможенность усталости (частично так и было), они продолжали радоваться - уже и за меня.
Таня спросила, куда едем? Я сказал, что к Паше.
- Может, ко мне? - переспросила она, глазами молча указывая на пацана: мол, такое горе! зачем напоминать лишний раз...
- Нет, к нему.
Она больше не возражала.
Мы остановились у подъезда, вышли. Чемодан продолжал тяжело бить по ногам.
- Что там? - полюбопытствовала Таня.
- Не знаю, - равнодушно ответил я. - Макаров дал... перед смертью.
Таня быстро взглянула на меня. А Пашка вообще смотрел, не отрывая от меня восторженных глаз.
Подошли к дому. Вошли в квартиру.
Тут я и объявил, что некое дело требует моего обязательного присутствия. С ходу пресек их бурные возражения... Что-то я хотел, дай бог памяти?.. Ну конечно! Зашел в ванную и там, во встроенном стенном шкафчике, нашел задвинутый за бутылку мебельного лака пистолет и закатившийся в уголок глушитель. Все оружие, кроме "калашникова", я, вместе с отпечатками пальцев, оставил в доме у Ленчика.
Впрочем, ничто меня уже не тревожило. Тем более я надеялся на полковника Сергеева. Были и другие резервы... если бы я ещё захотел оправдаться.
Однако, пора. Я быстро простился с ними, не желая вызвать подозрение... Нет, они не должны были пока догадаться, что наше расставание затянется...
- Может быть, задержусь до утра, - сказал я, вышел и захлопнул дверь.
Продолжал моросить дождь. Желтые фонари, поникшие, набухшие от влаги деревья, одинокие троллейбусы... Если троллейбусы ещё ходят, значит, нет ещё часа ночи.
Я сел в машину, включил мотор. Дворники мягко заходили по стеклу. Время от времени сухая дрожь пронизывала мое тело. Я знал, что силы на исходе, и эта непонятная болезнь, терзающая меня больше суток, готова подточить мою решимость сделать то, что я обязан. Для себя я все решил, это был единственный выход. Я знал, где наверняка найду Лютого, и где нам наверняка никто не помешает.
Почему я был уверен? Не знаю. Когда я понял, кто на самом деле Лютый, кто все эти бесконечные годы терзал мою душу, решение пришло само собой.
Я отжал сцепление, дал газ и неторопливо поехал по дороге, которую не успел забыть.
На самом деле я всегда был уверен в реальности существования Лютого. Да, я это знал, но окончательно понять все помогла Ленка Лещева, наша безотказная Лещиха. Умирая, она не могла мне сказать все, но и невысказанное было гораздо красноречивее, чем все слова в мире. Она сказала, в сущности, то, что мне говорили всегда, - то, чего я не хотел слушать и потому оставлял без внимания.
Какая на душе тревога!..
Вот и приехал. Выключив мотор, я достал сигарету и закурил. Спешить мне некуда. Я посмотрел сквозь лобовое стекло наверх, на темные окна квартиры. Холодный дождь, воспользовавшись остановкой дворников, маслянисто заливал стекло.
Тревога моя имела много причин. Во-первых, я впервые так серьезно заболел. Во-вторых, меня вновь, - и как всегда неожиданно, - затопила ненависть к этому глухому, заплесневелому миру. В-третьих, в глубине души мне было жаль своей бедной молодости, с бешеной тоской восставшей в сердце вместе с неизменным запахом вчерашних щей, табачного дыма и нищеты.
Сидя в машине, припаркованной в тени огромной акации, я курил свою очередную сигарету и поглядывал через дорогу на корявый многоквартирный барак, как и все временные строения, переживший, вероятно, и своих торопливых строителей.
Ветер, тоскливо воя, разметал ветки над машиной, и пестрые лезвия светотени от ближайшего фонаря, пробились вниз и быстро пробежались по темному салону моей машины, по моим коленям и по моей печали...
Как же я ненавидел этот отвратительный дом и особенно ту квартиру, что сейчас уставилась слепыми темными окнами в косые струи дождя за стеклом!
И все-таки идти было надо. По сути, мой приезд сюда несколько дней назад уже фактом своим фатальным образом предопределил исход: очень скоро, там, за мертвыми стеклами ненавистной квартиры, я убью своего брата...
Там, на втором этаже, я разом покончу с прошлым, с тем миром, что до сих пор корнями своими прочно держится за темное дно моего сознания. Там я наконец смогу обрести покой.
Я проверил, насколько свободно выскальзывает из кобуры пистолет.
Хлопнул дверцей машины, закрыл на ключ... Крупные капли прохладно освежили лицо. Некуда торопиться. Я вновь закурил, потому что несмотря на твердую решимость поставить на всем точку, спешить было некуда.
Не нужно обладать сверхвоображением, чтобы увидеть его обмякшим в деревянном скрипучем кресле с синеватой дырой между глаз и развороченным затылком, - слишком многие с вожделением ожидают моего прибытия в небесах с подобными отметинами на головах.
Слишком многие...
Сигарета дотлела до фильтра. Я отбросил окурок. Пиджак промок. Скрипнула всегда наполовину приоткрытая дверь... скрипучие ступени... Одна, вторая, третья... В этом месте из неведомо каких щелей дохнуло затхлой атмосферой подвала, где зимними вечерами, забившись по зябким сырым углам, мы, подростки, сообща выкуривали свое одиночество... И там, вместе с нами, незаметно подросла Таня...
Площадка второго этажа. Три двери. За двумя, ненужными мне, тускло шевелилась жизнь. Мне же нужна была эта, темная и ненавистная дверь в прошлое...
Нет, уже в настоящее.
Я извлек ключ из кармана и осторожно, стараясь не щелкнуть замком, открыл дверь. Темный коридор и темная гостиная впереди. Тишина.
Я вытащил пистолет. Навинтил глушитель. Тихо щелкнул предохранитель.
Скоро.
За соседней дверью тонко и сердито закричал женский голос.
И тут меня вновь охватило чувство нереальности происходящего. И как же все было безнадежно...
Я вспомнил, как все началось. Совсем недавно, и очень давно; с моего приезда сюда несколько дней назад и ещё раньше - с первых проблесков осознания себя в этом маленьком приволжском городке.
И тут вдруг - вместе с молнией за стеклом подъезда - ощущение простоты и ясности с необыкновенной силой заполнило мне душу. Мне стало понятно все, связанное недавно с банальной чертовщиной: мой приезд, глупо оправданный важностью переговоров (о которых я тут уже напрочь забыл!), смерти знакомых мне людей, темный силуэт ужасного убийцы, перепрыгиваюшего, - как лев на арене цирка с тумбы на тумбу, - сначала в лютого братца-двойника, а затем сюда, в мою квартиру, с детства бывшую для меня не домом, а так, скорее ночлежкой. И словно бы краткое упоминание детства обрело материальность, я так ясно почуял когда-то привычную вонь застарелой нищеты: мусор, прокисшие щи, гниющие отбросы... Боже мой! Теперь, когда пелена спала с глаз моих, я уже понимал, что и вонь, и вороны, и эти вечные крысы лишь материальное воплощение того ада, что я ношу в себе с первых моих нежных дней, и что Лютый, ожидающий меня в гостиной, тоже явился искоренить саму память... нет, зеркало, в котором и он, и я обречены видеть каждый себя: садиста, насильника и убийцу.
Держа пистолет наготове, я тихо прошел коридор, подождал секунду и заглянул в комнату.
Омытое дождем оконное стекло враз посветлело, и желтый фонарный свет за окном высветил навалившегося плечом на столешницу, глядевшего прямо на меня Лютого.
- Привет Лютый! - спокойно произнес я.
Все это было так непередаваемо буднично, словно бы мы, вопреки всему, попали-таки в зазеркалье и, - как два призрака, сквозь которые можно просунуть руки и пошевелить пальцами, - встретились, уже ничего не боясь и ничего не желая.
- Привет, Оборотень! - сказал он, и в оконном слабом свете я смог разглядеть какую-то дикую, смутно знакомую (больше, по собственным ощущениям) усмешку.
Я сел в мягкое, продавленное кресло, не глядя протянул руку и дернул шнур торшера, сразу согнавшего негатив ночи: окно густо почернело, захватив на уличную сторону собственный световой абрис, углы рамы, просветлев, проявили давнюю войлочную пыль, а возле шкафа заискрилась большая ажурная паутина с черной точкой затаившегося хозяина.
- Теперь можно и закурить, - сказал Лютый, одновременно со мной вытаскивая сигареты. И, видя в большом настенном зеркале собственное отражение, я невольно сравнивал; были мы страшно похожи, особенно сейчас, при слабом красноватом свете цветного абажура.
- Зачем было их убивать? - спросил я.
Он весело осклабился.
- Это ты себя спрашиваешь, или меня?
Я промолчал, и он нахмурился.
- Что тут спрашивать? Они мертвы, потому что ближе них для нас не было никого. Мы с тобой всегда жили надеждой, что вот-вот, ещё немного, и эта гнусность вокруг исчезнет, жизнь настанет светлая, чистая, и такие же светлые, умные, добрые люди радостно возьмут нас за руку и поведут в такое же светлое будущее. Мучались и зверели в детстве, мучались и зверели потом, и сейчас, и нет этому ни конца ни края.
Он со злобой отбросил окурок, обжегший пальцы. Мы опять одновременно закурили по новой сигарете.
- Ну и что? - задумчиво проговорил я. - При чем тут наши друзья?
- Да погоди ты! - досадливо отмахнулся Лютый. - Ты лучше скажи, чем мы хуже всех этих людишек, которые живут, смеются там, плодятся, как крысы, и счастливы притом? Денег у них нет, ни черта нет, а счастливы?
- Где ты таких видел? - ухмыльнулся я.
- Заткнись ты! - ненавистно проскрежетал Лютый. - Сам знаешь, о чем я говорю. Есть же люди, к которым можно повернуться спиной и быть уверенным в собственной безопасности! Есть же люди, которые не ожидают друг от друга смерти, надувательства, измены, а сами готовы идти за других на смерть! Где-то же они есть! Почему с самого детства нас окружает злоба, зависть, насилие, обман?..
- Как ты, так и они к тебе, - отрезал я.
- Черта с два! - убежденно, с каким-то лихорадочным огнем в глазах сказал Лютый. - Ты же сам пробовал относиться к другим, как к самому себе. Пробовал? Ведь пробовал. Ну, - насмешливо допытывался он, - чем кончились твои попытки? За дурака принимали? Обмануть пытались, как простофилю? Сознавайся.
- Было дело, - вынужден был согласиться я. - Но ведь надо понять наше окружение: бизнесмены, убийцы, политики... Не хочешь же вернуться вновь, как отцы, к борьбе за светлое будущее всего человечества?..
- Если бы можно было!.. Не за бабки, не за эту зеленую мразь!..
- Поэтому ты и начал со своих друзей? Так сказать, искоренять истоки, - ухмыльнулся я. - Мол, перебью тех, кто меня знает, и сразу все наладится: не зная меня, все меня полюбят.
- Почему бы и не начать с них? Людишки так себе, - криво усмехнулся Лютый. - Сдохли, и дышать легче стало. И потом, ты же сам знаешь, что мир нейтрален: не плох и не хорош. Все зависит от твоего подхода, от взгляда, так сказать.
- Поэтому, чтобы ничего не мешало твоему внутреннему обновлению, ты и перебил всю нашу банду?
- Ну конечно! - с воодушевлением вскричал Лютый. - Зачем заниматься самогипнозом, когда проще помочь своему обновлению материальным способом.
- А если тебя так?
- О-о-о! - поскучнел Лютый. - Если бы, да кабы... Пока мертвы другие. Да и потом, разве ты сам не чувствуешь облегчения от того, что я их кончил? Разве тебе не надоела эта мразь: крысы, запахи помоек, вечное жулье на всех уровнях?
- Ты тоже? - спросил я, имея в виду и крыс.
- А то как же! - вскричал он. - Это же шизофрения! Мы же с тобой шизофреники ещё с детства! Разве можно долго жить здесь и не стать шизиком? Телевизор включи...
Что-то опять со мной стало происходить нехорошее: тяжесть в груди, тяжелый озноб, мысли возникали и расплывались, словно чернильные капли в воде; теряясь, я что-то усиленно пытался сообразить.
- Послушай, спроси любого... Тебе любой скажет... Можно же просто хорошо относиться к людям... Любить людей, наконец...
- Да пошел ты!..
И словно подчиняясь моему грозному окрику, медленно стал таять - и вот исчез призрак, моя лютость. Думаю, исчез навсегда.
Остались в полутемной пыльной красным абажуром освещенной комнате лишь я, да мое отражение в большом зеркале, намертво привинченном к стене.
Не было никогда никакого Лютого. был один я и - теперь это яснее ясного - болезнь, расколовшее мое сознание на две половины, одна из которых брала на себя исполнение самых диких моих желаний. Лютый возникал во мне, когда я пытался закрывать на все глаза, отрешаясь от ненавистной действительности, когда хотел мстить...
То, что Лютого нет, я знал, наверное, всегда. И остатки моей чистоты сопротивлялись появлению все грехи берущего на себя двойника. Однако раскаяние, да и страшные кровавые срывы, случавшиеся все чаще, способствовали чуду: и медленно утвердился призрак детского ужаса - мой двойник Лютый.
Интересно, что лишь первое время я осознавал эту игру в призрак с самим собой; сознание - штука коварная, а шизофреническое зазеркалье рядом, в постоянной засаде, как вот этот пыльный призрак моего отражения в зеркале напротив.
Ничего не проходит бесследно, я это понял давно, как и то, что платить приходится всегда. Страшнее всего, что счет предъявляют тогда, когда ты не готов.
Жизнь моя в большом мире, полная, надо сказать, прежней лютости, была - спасибо перестройке! - оправдана: убивают все, и я знаю многих своих прежних товарищей, которые довольны возможностью отправлять в небытие новых воров, получая притом хорошие бабки за виртуозность исполнения.
Может, я другой, а, возможно, у каждого существует лимит этой самой лютости, после которой хочется стать другим, вернуться к истокам добропорядочности, уважения, покоя.
Все это очень трудно! Возможно, я устал, а скорее всего наш сумасшедший мир диктует и решения, невозможные при застое. В общем, попав сюда, в родной город, я немедленно и неосознанно стал исправлять свой собственный мир, в котором я был обречен пребывать: стал отстреливать одного за другим свидетелей своего детского раздвоения.
И нельзя ничего от себя скрывать бесконечно... А может, Лещиха стала, так сказать, последней каплей, переполнившей сосуд моего падения, и её предсмертный ужас узнавания, смыл пелену с глаз?..
Увы, остался один путь, наверняка расставляющий точки над i. Правда, разумеется, хороша, но лишь в том случае, когда встреча с ней не происходит поздно, когда ещё есть силы и надежды на новую жизнь.
Нет, я слишком легко нажимал на спусковой крючок, слишком многие мстительно ожидают меня в аду. Я, подобно тому нашему крысиному льву, сотворенному убийцей, который уже не может жить, не убивая... Хотя...
Нет, я должен убить себя сам!
Что-то давило мне в бок. Поменяв позу, я не смог избавиться от неудобного... Сунув руку в карман пиджака, я вдруг нащупал круглую стекляшку Пашкиного талисмана. И я так ясно представил его сегодняшнее, пораженное горем лицо после известия о смерти матери! Сейчас, убив себя, я лишу его последней надежды. А он и по возрасту (да и по многим другим признакам) вполне мог быть моим сыном.
И Таня, которая настрадалась так из-за меня!
Я заколебался, и вдруг мне забрезжила надежда.
Верша суд над собой, я был готов к смерти, но жить!.. Если бы можно было, действительно, начать новую жизнь без груза совести?..
Итак, Таня и Пашка, которым я сейчас необходим, чтобы жить, - это с одной стороны. И вся та кровь, которая окрашивает мои следы, - с другой.
Что еще? Что ещё можно поставить на чашу весов?
И я вспомнил. Вновь вспомнил крысиного короля. Вспомнил, как неожиданно кончился наш тогдашний бизнес и карьера убийцы нашего фаворита.
Однажды он исчез. Лишь недели через три появился вновь. Мы сидели в полном составе на своем обычном месте сбора, недалеко от старого судна, где и вершился эксперимент с крысиным королем, и где он пропал последний раз.
Не помню, кто его увидел первым... Наш Рембо, похудевший, но гордый, радостно попискивая, шел к нам. А за ним, пугливо, но подчиняясь главе, шло его новое семейство: изящная худенькая самочка и восемь маленьких глупых пацанов-крысят.
Так завершилась карьера Рембо, ибо, обзаведясь семейством, он отказался убивать. Превратился в рядовую, хоть и полуручную крысу.
В чем-то ведь мы похожи. И он, и я были брошены в нечеловеческие (если можно так сказать!) условия, созданные, впрочем, людьми. И он, и я стали лучше. А стать лучше в нашем нынешнем мире - это уметь лучше всех убивать, опережая других.
Но ведь сумела же простая крыса стать отличным семьянином и выйти из порочного круга преступлений!
Мне вдруг стало весело. Чтобы жить, мне надо убедить себя, что я могу быть не хуже крысы.
Я ухмыльнулся. И все-таки надо пустить себе пулю в лоб. Надо поставить точку, которая завершит повесть о Лютом и обо мне, стыдливо прятавшимся за раскол собственной личности.
Я оттянул затвор, прицелился и выстрелил. Пуля попала точно между глаз, и моё лицо в зеркале напротив рассыпалось, исчезло, умерло!
Я облегченно вздохнул и понял, что искус окончен.
Как просто! Как все оказалось просто! Достаточно было осознать... нет, осудить себя, сбросив тем самым тяжесть с плеч, о которой не хотел знать, думать, в реальность которой не верил. Поставленный диагноз уже давал надежду, что больше я не выпущу джина из бутылки - мой двойник умер навсегда!
Я встал, пошел к коридору и на пороге обернулся, с улыбкой оглядев место моего зарождения и символической казни.
Вот и все.
Выходя и закрывая на ключ дверь, я уже знал, что больше сюда не приду.
Я вышел из подъезда. Утро. В легкой синеве неба, ещё не потеплевшей после ночи, висели розовеющие с краю облака, и было что-то не по-земному изящное в их удлиненном очерке. Равномерные шорохи от размашистой метлы рачительного дворника особенно чисто звучали в пустынном воздухе, а за домом простуженно рычал и никак не мог прокашляться остывший за ночь автомобиль. Девочка в маленькой телогрейке, возможно, дочь дворника, автоматически орудующего метлой, прошла мимо, толкая перед собой тележку с большим ящиком для мусора: старая, вынянчившая, возможно, не одного младенца детская коляска, рассталась с качающейся колыбелью, а на оси её и был водружен ящик, олицетворяющий новую работу, новую заботу, новую жизнь.
С черных после дождя веток, покрытых глянцевыми мокрыми листьями, вспархивали с воздушным шорохом воробьи и садились на мокрый асфальт тротуара, торопясь выклевать что-то среди неубранного ещё мусора.
Я подошел к машине, открыл дверцу и сел на водительсткое сиденье. Не закрывая дверцу, чтобы прохладный чистый воздух свободно вливался в салон, я закурил.
Как же мне было хорошо!
Появились, хлопая дверьми подъездов, первые труженики. Розовый воздух. Дома казались новыми - чистыми, словно рисованными. И так же, как солнце постепенно поднималось выше, а тени постепенно укорачивались, чтобы исчезнуть в свое время, - точно так же, при этом трезвом свете, та жизнь, которой я жил последние дни, становилась тем, чем она и была, - далеким прошлым.
Я выбросил окурок и, заведя мотор, стронул машину с места. Как хорошо! Шины с мягким хрустом раскатились по асфальту, быстрее - я уже мчался домой, к Тане и Пашке, тоже участовавшим в моем ночном спасении.
Солнце поднималось все выше, равномерно озаряя город; улицы оживали, заполняясь машинами и людьми. Я ехал все быстрее, чувствуя себя обновленным, сильным, готовым на новую борьбу. И то, что я замечал с какой-то свежей любовью, - и постового милиционера на перекрестке, ежащегося от утренней прохлады в своем толстом мундире, и мгновенный золотой жар окна во встречном доме, и кошку, переходящую улицу строго по переходу, предупреждающе высоко подняв хвост, - все это и было тайным поворотом, пробуждением моим.
Я остановился у Пашкиного подъезда, заглушил мотор и вытащил пачку "Кэмел". Последняя сигарета. Закурил.
Я смотрел на голубое чистое легкое небо, на эту панельную пятиэтажку, которую больше не увижу никогда - и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что кошмар кончился навсегда. Он длился всего несколько дней и всю мою жизнь, но теперь я до конца исчерпал и его, и воспоминания, до конца перегорел ими, и образ моего дикого детства ушел вместе с умершими, в мир теней, уже став сам воспоминанием.
Я поднялся наверх и, обнимая своих, обнимая Таню и Пашку, свою новую семью, наслаждался свободой, счастьем...
Кстати, они так и не сумели открыть тот чемодан, хорошие были в нем замки. Мы вместе открыли и там оказалось то, что я подсознательно ожидал: доллары в аккуратных пачках. Сто купюр по сто долларов в каждой пачке. Всего двадцать шесть миллионов долларов и ещё мешочек с фракцией их знаменитого наркотика в заваренном полиэтиленовом пакете впридачу.
Что еще?.. Свой "Мерседес" я оставил полковнику Сергееву, потому что продавать не было времени. Мы спешили уехать. Ему сдал и пакет с наркотиком. Пусть орден получит.
А чемодан с долларами, чтобы особенно не возиться, послали в подарок в Министерство финансов России, инкогнито, разумеется, и с припиской, что деньги надо справедливо распределить между членами руководящего кабинета.
Вот и все.
ЭПИЛОГ
Мы сняли виллу на берегу океана недалеко от Майами, штат Флорида. Сначала хотели поближе к цивилизации, но при ближайшем ознакомлении эту идею оставили; российский провинциализм, смущенный обилием этой самой цивилизации, потянул всех нас на символическую периферию, и вот, почти в шестидесяти километрах от места отдыха тутошних миллионеров, пятый месяц обитаем и мы.
Пока нам нравится... Пока. Здесь вокруг - и у пристани, и у виллы, растут пальмы. Они отражаются в воде, и кажется, что из моря выползают змеи.. А в тихую погоду, вдалеке, за волнами можно увидеть Кубу, словно большого альбатроса, сидящего на воде.
Так говорят местные на ломаной - испано-русско-английской - смеси, стараясь донести до нас свои сонные грезы.
Мы уже обжились, хотя лично мне до сих пор все здесь кажется слишком: много солнца, красок, лени и нестерпимой неги, если можно так сказать.
Иногда мы втроем выходим в море. Тане все нравится на этом вечном курорте, а уж о Пашке и речи нет - вытянулся, загорел и под тонкой кожей гладкой волной уже бродят мышцы.
Лодка иглой врезается в волны, горизонт уходит все дальше, а из воды там и сям высовываются акульи морды и хвосты. В тихой воде, под тихим небом акулы кажутся безобидными, словно наши дельфины.
Солнце раскаленным свинцом заливает окрестности, все выжигая вокруг нашей усадьбы. Мелкая живность, задыхаясь от зноя, выползает подышать на песок пляжа, поросший давным-давно высохшей травой. Местные мальчишки ловят их, швыряют с пристани и хохочут по-латиноамерикански, глядя как мыши и ящерицы падают в чистую сине-зеленую воду, прозрачную до той глубины, где фосфоресцирует затаившийся гигантский кальмар, и откуда медленно всплывают акулы.
Здесь есть два-три негра, которые устраивают бой с акулой. Не за деньги, а просто так. Брать за это деньги - плохая примета, они и так перед прыжком сереют от сосредоточенности и страха и ещё сильнее по-негритянски пахнут. Говорят, перед этим запахом не может устоять ни одна белая женщина, но Таня искренне воротит от них свой расистский носик.
Зрелище - лучше не придумаешь. Негры и акулы, окруженные алмазами пузырьков, скользят в изумрудно-жемчужной воде совсем рядом - руку протяни, - и никогда не касаются друг друга. Иногда акула, словно бы на арене, разворачивается, нервно подхлестывая себя хвостом, и кидается в атаку. Темное рыбье туловище двигается как-то тупо по сравнению с лакированными черными телами, и, зачарованный зрелищем, Пашка все порывается сигануть в глубину к сверкающим танцорам.
Иной раз я и сам замечаю, как сводит зубы от желания самому броситься вниз, - пусть даже кровь, но лишь бы разорвать это гладкое напряжение внизу. Но, точно выбирая момент, выныривают и начинают сверкать белыми зубами негры, а одураченные рыбы кидаются из стороны в сторону, прочерчивая пенную спираль, и медленно тонут в темнеющей бездне.
По вечерам местные, черно-белой толпой (тела сливаются с густым тропическим мраком, лишь сверкают зубы, да белки глаз) приходят к щедрым миллионерам, то бишь к нам и, если мы не прочь, устраивают гитарные посиделки. Таня уже ловко пляшет разные дикие танцы, а возле Пашки вовсю крутятся малолетние девичьи личики. Он на диво вытянулся, от солнца и здешних витаминов как-то сразу повзрослел, и девчонки уже тащат его в ближайшие рощи, как я подозреваю, на постель из листьев и тьмы, источающей пот и воду.
А возвращаясь к недавнему прошлому, хочу сказать, что главной сложностью оказалось как-то оформить Пашку. Пришлось нам с Таней его быстро-быстро усыновлять, самим быстро-быстро жениться, и уже через неделю мы летели в Гватемалу, а оттуда, через Мексику, в Майами.
Кружной путь оказался самым коротким.
И конечно же, все, что касается посылки чемодана с долларами в Минфин, есть веселая шутка.
Пусть дураки жертвуют свои деньги.
Когда самолет взлетел из Шереметьево, и облака надолго скрыли землю, я со злобой (тогда ещё у меня оставалась злоба) подумал: "Будь оно все проклято!"
Я не знаю, что? Я не знаю, что я имел тогда в виду?
А теперь забыл окончательно, потому что за эти месяцы банальнейшая русская хандра, ещё точечно, разведкой, начинает прощупывать мои нервы. Да что там, иной раз даже в самые неподходящие минуты ловлю себя на этом самом мурлыканье "...во поле березонька стояла...", ещё там какие-то русские поля!.. И думается мне, не пора ли домой? Ведь дел непочатый край! Да и разобраться кое с кем не мешает.
Может быть, может быть...
Я поднимаю голову. Ярко сияет семизвездный треугольник Большой Медведицы. И все небо усыпано огромными нерусскими звездами. Кто-то ловит мой взгляд и путанно объясняет, что там, наверху, вечно мчатся огненные колесницы по бесконечным дорогам, опоясывающим землю.
КОНЕЦ
Столяров Кирилл Анатольевич
ИЗОЛЯТОР
1
— Боже мой, какой кошмар! — сокрушался Игорь Петрович, сидя на нарах, держась за голову и раскачиваясь в бессильном отчаянии. Он, интеллигентный человек, врач, кандидат наук, оказался на самом дне — в тюремной камере. И тюремщики специально посадили Игоря Петровича с этими типами, чтобы сломить его волю и добиться столь нужного им признания. Но он не поддастся! Нет!
Игорь Петрович перестал раскачиваться, сел прямо и незаметно взглянул на соседей. Ну и типы, нарочно не придумаешь! А рожи, рожи-то у них какие! Ужас! Вон напротив, у окна, не мигая уставился в одну точку убийца Седенков. Тупое лицо со скошенным лбом без единого признака мысли, короткопалые руки с волосатыми фалангами и квадратными загнутыми ногтями! Типичные руки душегуба! Такой бандит ночью прикончит соседа по нарам и заснет как ни в чем не бывало. Что ему за это будет? Ничего! Его так и так должны расстрелять, семь бед — один ответ! Прошлой ночью, когда Седенков зашевелился у себя наверху и упруго, точно большая кошка, спрыгнул на пол, Игорь Петрович сжался в комок и приготовился защищаться до последней капли крови, но все обошлось. Седенков пошел в угол к унитазу, а потом так же по-кошачьи прыгнул на нары.
Игорь Петрович скосил глаза влево и увидел Хамалетдинова, как изваяние застывшего уокна в позе орла. Угрюмый татарин напомнил ему царя пернатых не только этой позой, но и величавой «неподвижностью. Бесстрашное бронзовое лицо Чингисхана, платиновый блеск седой шевелюры и мертвые зрачки, смотревшие вперед. Если что-либо привлекало внимание Хамалетдинова, он сразу поворачивал голову на сорок пять или же на девяносто градусов. Посмотрит секунду и тут же вернет голову на место, в первоначальное положение. Точь-в-точь как орел. И молчит Хамалетдинов, как форменный истукан. С таким встретишься с глазу на глаз в темном переулке, так сам за милую душу отдашь часы и кошелек!
Игорь Петрович в ужасе закрыл глаза и громко застонал. Сидевший рядом Перчик отложил в сторону старую газету и подозрительно уставился на Обновленского.
— Что с вами, Игорь Петрович?
— Душно, Аркадий Самойлович, дышать нечем, — пожаловался Обновленский, подавленный, кроме всего прочего, густым запахом остывшего табачного дыма, человеческих испражнений и потеющих ног. — Нельзя ли открыть форточку?
— Нельзя, — ласково ответил Перчик. — За это, мон шер, дают пять суток карцера.
— Почему? Для чего же тогда сделана форточка?
— Чтоб вы знали, Игорь Петрович, если очень захотеть, то через форточку можно переговариваться с теми, кто сидит в соседних камерах, — объяснил Перчик. — А администрации следственного изолятора, сами понимаете, это не по душе.
— Но, согласитесь, духота невозможная.
— Придется терпеть, — утешил Перчик. — По расписанию в десять у нашей камеры полуторачасовая прогулка, вот тогда подышите чистым воздухом, а цирик тем временем проветрит камеру.
— Простите, как вы сказали?
— Цирик, — повторил Перчик и сочувственно улыбнулся Обновленскому. — Так у нас, чтоб вы знали, называют надзирателя... Изолятор — это особый мир, Игорь Петрович, здесь все не так, как на воле. И язык тоже особый. Вообще-то надзиратели официально именуются контролерами, что, сами понимаете, звучит приличнее, но...
Обновленский провел свою первую ночь в камере и ничего не знал о здешнем быте. Да и откуда ему было знать, если еще сутки назад он ни сном, ни духом не ведал, что окажется за решеткой? Неприятности, правда, начались еще в августе, но кто тогда мог подумать, что он попадет в следственный изолятор?
Все началось с обыкновенной милицейской повестки. Его вызвали на допрос. Допрашивал мальчишка-лейтенант с короткими усиками.
— Игорь Петрович, у меня к вам всего один вопрос, — сказал он после того, как заполнил бланк протокола с анкетно-биографическими данными свидетеля и под расписку предупредил Обновленского об ответственности за дачу ложных показаний или за отказ от дачи показаний. — Часто ли вы берете с больных деньги за производство абортов?
— Никогда такого рода делами не занимался, — твердо ответил похолодевший Обновленский и тотчас достал из кармана пачку сигарет «Кент». — Э, у вас курят?
— Пожалуйста, курите. — Лейтенант пододвинул к нему мятую пачку «Краснопресненских» и продолжал писать.
— Благодарю, предпочитаю свои, — сказал Обновленский, щелкая японской зажигалкой «Принц».
— Значит, денег ни разу не брали? — переспросил лейтенант. — Так и писать, Игорь Петрович?
— Так и пишите, товарищ лейтенант.
Деньги Обновленский, разумеется, брал, причем делал это многие сотни или даже тысячу раз. Все берут. Вымогательством он никогда не занимался, об этом не могло быть и речи, но если люди сами дают и к тому же просят, чтобы он взял деньги, то почему, собственно, не брать? Не на облаке живем и не в безвоздушном пространстве, а в суровых условиях денежного обращения. Если, скажем, обладающая достатком женщина хочет, чтобы ей сделал аборт талантливый хирург-гинеколог с ученой степенью и обширной практикой, а не какой-то дежурный коновал с руками холодного сапожника, что в этом плохого? Ровным счетом ничего. Игорь Петрович со спокойной совестью брал деньги за свой труд, знания и, если хотите, за мастерство, и никто от этого не страдал — ни другие врачи, ни больные, ни государство. С точки зрения врачебной этики это выглядело, конечно, не лучшим образом, но этика — штука растяжимая и к милицейскому аппарату прямого отношения не имеет. И милиционеры тоже хороши— теряют время на ерунду, отвлекаясь от действительно важных проблем беспощадной борьбы с преступными элементами, раздраженно думал Обновленский, с растущей неприязнью рассматривая склоненную над протоколом голову следователя.
— Часто ли вы производите аборты лицам, не проживающим на территории района, который обслуживает ваша больница? — спросил лейтенант, приглаживая усики.
— Такие случаи бывают, — спокойно ответил Обновленский. — Не часто, но бывают. А что вы находите в этом крамольного?
— Ничего не нахожу... Игорь Петрович, расскажите о том, как это происходит? Если можно, то со всеми подробностями.
— Время от времени с такого рода просьбами ко мне обращаются мои коллеги, друзья и, наконец, просто знакомые, что, принимая во внимание мою, так сказать, профессиональную квалификацию, вполне естественно, — снисходительным тоном произнес Обновленский. — Когда у нас есть свободные места, что, кстати, бывает сплошь и рядом, я беру у просительницы направление из районной консультации, иду к Анне Иосифовне, которая заведует нашим гинекологическим отделением, и прошу ее разрешения положить пациентку. Она пишет резолюцию на направлении, и все — вопрос, так сказать, исчерпан.
— Если я правильно понял, то без разрешения завотделением больных из других районов к вам не принимают?
— Разумеется. Анна Иосифовна у нас полная хозяйка.
Неужели Аннушку вызовут в милицию? — мелькнуло в голове Игоря Петровича, пока лейтенант записывал его слова в протокол. Ну и что это им даст? Когда он просил Аннушку поместить к ним ту или иную пациентку, она это делала из чистой любезности, потому что старушка его уважает и дорожит им. Кроме них двоих, сложные операции делать больше некому, и Аннушка крепко за него держится. Пусть допрашивают старуху хоть до страшного суда, только время зря потратят. Тут Игорь Петрович окончательно успокоился и аккуратно погасил окурок.
— Вы случайно не помните, сколько больных из других районов поместили в отделение по вашим просьбам с 1 января текущего года? — осведомился лейтенант. — Пять, десять, сорок?
— Случайно не помню, но полагаю, что человек двадцать пять.
— Фамилии не подскажете?
— Увы, товарищ лейтенант, на фамилии у меня память дырявая.
На этом допрос закончился. Игорь Петрович, не читая, в трех местах подписал протокол и уехал в платную поликлинику, где консультировал дважды в неделю с шестнадцати до восемнадцати часов. Он надеялся, что больше не встретится с усатым лейтенантом, однако его надеждам не суждено было сбыться.
Его вызвали снова через три дня, потом, с интервалом в неделю, еще дважды, а в середине октября лейтенант объявил Игорю Петровичу постановления о возбуждении против него уголовного дела и о предъявлении обвинения по признакам части 2 статьи 173 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающей ответственность за неоднократное получение должностным лицом лично или через посредников, в каком бы то ни было виде, взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или могло-совершить с использованием своего служебного положения.
— Вы что, не в своем уме? — воскликнул Обновленский. — Я же не должностное лицо и отродясь таковым не был!
— Напрасно горячитесь, — сказал лейтенант. — Если вы действительно невиновны, вам опасаться нечего. Вы меня поняли?
— Не понял и не желаю понимать! Я обыкновенный хирург, а не какой-нибудь начальник!
— Все совсем не так просто, как вам сейчас кажется, — возразил лейтенант. — Получение вами дополнительного денежного или иного вознаграждения за ваш труд в виде добровольных подарков благодарных пациентов не образует состава преступления. По долгу службы я ограничился бы тем, что сообщил указанные факты по месту вашей работы для принятия мер дисциплинарного или общественного воздействия. Но на предыдущем допросе вы сами подтвердили, что с 16 января по 24 апреля, а также с 1 по 29 июня текущего года замещали заведующую отделением Анну Иосифовну Косолапову. Показать вам протокол?
— Какое имеет значение, что я замещал Анну Иосифовну? Разве это что-либо меняет?
— Многое меняет, Игорь Петрович... — Лейтенант покачал головой. — В данный период вы, хотите того или нет, были должностным лицом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теперь поняли?
— Ваши действия попахивают произволом, оскорбляющим честь и достоинство советского врача! — взорвался Обновленский, тотчас сообразивший, что под ним горит земля. — Я этого так не оставлю!
— Вы, Игорь Петрович, вправе жаловаться куда угодно, — невозмутимо ответил лейтенант. — Если вы невиновны, то, повторяю, бояться вам нечего, а если виновны, то суд учтет ваше чистосердечное признание при определении меры наказания за содеянное... Поверьте, правда всегда лучше.
— Мне признаваться не в чем! — крикнул Обновленский. — Вы, очевидно, считаете меня преступником, но я честный человек!
— Не надо патетики!..
Следователь задал ему несколько, в сущности, второстепенных вопросов и отпустил на работу, взяв у Игоря Петровича в качестве меры пресечения подписку о невыезде. А три дня спустя начались очные ставки, которые вскоре закончились. Причем не просто так, а бесславно для усатого пинкертона. Две больные — Волынская и Добронравова, краснея от стыда, подтвердили, что передавали Игорю Петровичу за помещение в больницу и производство аборта деньги в сумме соответственно пятьдесят и семьдесят рублей, а третья — Григорьева, которую Обновленский вообще не запомнил, расплакалась и заявила, что отказывается от ранее данных показаний. Никаких денег доктору она не давала и выдумала все это под подсказку следователя, напугавшего ее угрозой сообщить о неискреннем поведении в комсомольскую организацию по месту работы. Она — девушка и как огня боится огласки истории с абортом.
Игорь Петрович презрительно взглянул на лейтенанта, в растерянности дергавшего свои усики, ушел, не простившись с ним, а вечером по совету ближайшего друга, Бориса Борисовича Бархатова, написал жалобу на следователя. Через десять дней его вызвал к себе хмурый пожилой человек в штатском и сообщил о том, что жалоба рассмотрена, следователь лейтенант Кормилицын от ведения дела отстранен, и оно передано ему — капитану Кабанову Ивану Михайловичу. Капитан куда-то торопился и в тот день вопросов не задавал, что было на руку Обновленскому. Дело в том, что Игорь Петрович не терял времени даром, по регистрационным документам восстановил в памяти фамилии всех пациенток, от которых получал деньги в печальный период пребывания должностным лицом, установил их адреса, а также людей, рекомендовавших этих женщин, побывал у каждой с предостережением насчет возможного вызова в милицию и с предложением вернуть гонорар. Противная, прямо скажем, процедура возвращать деньги, но в его положении это был лучший выход из игры. Пациенток оказалось пятьдесят восемь, и за эти дни он сумел встретиться с тридцатью двумя. Напугались все без исключения, но обратно взяла деньги только одна женщина со странной фамилией Фабрикат. Одиннадцать из них рассказали Игорю Петровичу, что уже побывали у лейтенанта Кормилицына, однако ни в чем не признались, а пятеро, безутешно рыдая и ломая руки, поведали, что у них не хватило мужества и они предали доктора. Правда, две поклялись, что на очной ставке откажутся от своих показаний, а остальные — Лазаренко, Рябинкина и Мишкевицер — ревели, как белуги, и Обновленский так и не понял, как они поведут себя в дальнейшем. Итак, из тридцати четырех (включая сюда Волынскую и Добронравову) максимум пятеро подтвердят факт передачи денег (из них три пока под вопросом). Оставались еще двадцать четыре пациентки, но увидеться с ними он, увы, не успел.
Вчера капитан Кабанов вызвал его на допрос к десяти утра и после двухчасовой, бесполезной для обеих сторон беседы сообщил Игорю Петровичу об изменении меры пресечения. Поскольку, мол, обвиняемый И. П. Обновленский, находясь на свободе, своими действиями препятствует установлению истины по делу, он, капитан милиции Кабанов, на основании статей 89 и 96 УПК РСФСР выносит постановление об изменении меры пресечения и о заключении его с санкции районного прокурора под стражу. От неожиданности Игорь Петрович растерялся, а хмурый капитан вызвал конвой, и Обновленского отвезли в следственный изолятор. Его долго оформляли и привели в камеру как раз перед ужином. Есть он не стал и все время находился в трансе. Как будто сквозь сон он слышал обрывки разговоров Перчика с Седенковым и понял, что Седенков — убийца, а позднее, после отбоя, всю ночь напролет пролежал без малейших признаков сна и думал о беде, свалившейся буквально как снег на его голову. Утром Игоря Петровича подняли на ноги в шесть часов. Он кое-как умылся и съел ту бурду, которую дали на завтрак. Бурда, разумеется, была приготовлена не на сливочном масле и вызвала изжогу, но, как ни странно, ему все равно жутко хотелось есть.
— Черт знает что! — раздраженно подумал он. Издеваться над ним вздумали, что ли? Мало того, что его, точно какого-нибудь бандита, швырнули за решетку, так пытаются еще и морить голодом? Нет, этого он просто так не оставит. Наступит такой час, когда капитан Кабанов пожалеет, что появился на свет!
Обновленский гордо поднял голову и осмотрелся по сторонам. Убийца Седенков по-прежнему сидел неподвижно, Хамалетдинов спустил воду и застегивал штаны, а Перчик уткнулся в газету и вполголоса мурлыкал себе под нос: «Две гитары за стеной, но не в этом дело...»
— Скажите, пожалуйста, Аркадий Самойлович, когда у них обед? — поинтересовался Обновленский.
— В двенадцать, Игорь Петрович.
— Дают такую же бурду?
— Примерно.
— Как же вы можете ее есть? — воскликнул Обновленский.
— Так и едим, Игорь Петрович. — Перчик нагнул голову и с добродушной усмешкой посмотрел на собеседника поверх очков с толстыми стеклами. — Между нами, девочками, говоря, голод не тетка, еще не то станете есть... И с каким аппетитом!
— Но это же черт знает что!
— Мон шер, к чему так волноваться? — мягко произнес Перчик. — Чтоб вы знали, на питание подследственных положена определенная сумма, и, как мне кажется, администрация изолятора еще ни разу ничего к ней не добавляла из своей зарплаты...
— Как же вы живете? — поразился Обновленский.
— Как видите, живем и помирать не торопимся, — рассмеялся Перчик. — Хлеба вдоволь, так что жить можно. Кроме того, нашему брату передают продуктовые передачи от родственников. А если у вас есть деньги — можете кое-что выписать в нашей лавочке.
— Это уже лучше! — обрадовался Обновленский, подумав о том, что мама наверняка возьмет на себя заботу о его пропитании. Неплохо, если для начала она сообразит переслать ящик «Боржоми» и приличный ломтик запеченной телятины.
— Чтоб вы знали, Игорь Петрович, вам крупно повезло, что вы попали именно в нашу камеру, — заметил Перчик. — Народ у нас приятный, и, главное, все получают посылки с воли. Так что вам у нас понравится.
— Почему вы так думаете?
— Я не думаю, Игорь Петрович, я это знаю, — с некоторым апломбом ответил Перчик. — Если в камере получает посылки только один человек, лучше не получать их совсем.
— Почему? — Слова Перчика озадачили Обновленского.
— Все отнимут и съедят на ваших же глазах. А вам, между нами, девочками, говоря, ни крошки не достанется.
— На каком основании?
— Без всякого основания, Игорь Петрович. Это и-з-о-л-я-т-о-р, а не институт благородных девиц. Здесь, чтоб вы знали, все наоборот.
— Что вы подразумеваете, Аркадий Самойлович? Объяснитесь...
— А что ни возьмите, Игорь Петрович. Вот, к примеру, наш цирик. Вы заметили, что он обращается ко мне с несравненно большим почтением, чем ко всем остальным? Как вы думаете, почему?
— Понятия не имею.
— Чтоб вы знали, только потому, что я сижу здесь четвертый раз! — с гордостью произнес Перчик и иронически поклонился Обновленскому. — На воле это, сами понимаете, недостаток, а в изоляторе — достоинство... Опытный заключенный, порядки изучил назубок, надежная опора администрации.
— За что вы попали сюда? — спросил пораженный Обновленский.
— Улыбнитесь, Игорь Петрович, — в ответ попросил Перчик.
Обновленский растянул губы в улыбке.
— У вас хорошие зубы, такие зубы, сами понимаете, надо беречь, — посоветовал Перчик. — Будете задавать глупые вопросы — выбьют их к чертовой матери... Как вы думаете, почему вас поместили на нижнюю полку?
— Понятия не имею. Там было свободно, вот и поместили.
— Если бы! — Перчик усмехнулся. — Чтоб вы знали, Игорь Петрович, у нас в почете верхние полки. Они достаются людям в прямой зависимости от тяжести совершенных ими преступлений. Вы, если не ошибаюсь, взяточник?
— Нет, я, к вашему сведению, честный человек! — неожиданно для себя сорвался Обновленский. — Из меня хотят сделать взяточника, но этот номер у них не пройдет!
— Ну-ну, распетушился! — примирительно воскликнул Перчик. — Приберегите свой запал для следователя и судей, а мне, сами понимаете, плевать на это с высокой елки... Раз вы хотите быть честным, будьте им, это ваше личное дело. Однако, мон шер, статья у вас, чтоб вы знали, барахло, в изоляторах и в колониях взяточников не жалуют. Хуже, пожалуй, только тем, кто злоупотреблял служебным положением, а также растлителям малолетков и педерастам...
— Что же здесь котируется? — спросил Обновленский.
— Только тяжкие преступления, — вполголоса ответил Перчик и подмигнул, забавно дернув лысой головой. — Такова традиция. Вот Коля Седенков, к примеру, вне конкуренции. А из оставшихся — Хаким Абдрашитович Хамалетдинов.
— Почему?
— Хаким Абдрашитович проходит по статье 93-прим!
— Что это за статья?
— Плохая статья, Игорь Петрович, очень плохая... Хищение социалистической собственности в особо крупных размерах, то есть свыше десяти тысяч рублей и, сами понимаете, до многих миллионов.
— Кто же он такой? — прошептал Обновленский.
— Он артист, — с завистью ответил Перчик. — Известный артист-мотоциклист. Гонки по вертикальной стенке, разве не слышали?
— Нет, не слышал.
— Вы не шепчите, а говорите нормально, — посоветовал Перчик. — У нас, чтоб вы знали, шептаться не модно. Это здесь не любят.
— Извините меня, Аркадий Самойлович!
— А я не в претензии, Игорь Петрович. Важно, чтобы другие сокамерники на вас не обиделись.
— Я больше не буду, — по-мальчишески сказал Обновленский, которому все больше и больше нравился Аркадий Самойлович. — Вы позволите мне задать вам вопрос, Аркадий Самойлович?
— Задавайте, мон шер, — ответил Перчик, явно польщенный вежливостью Обновленского.
— По какой статье вы здесь проходите?
— У меня — 92, часть 3.
— Простите, а что это значит?
— Хищение социалистической собственности в крупных размерах, Игорь Петрович, — сокрушенно пояснил Перчик. — А крупные размеры, чтоб вы знали, начинаются от двух тысяч пятисот рублей и кончаются на десяти тысячах. Дальше — 93-прим...
— Так сколько же вы... того? — не удержался Обновленский.
— Это сложный вопрос, Игорь Петрович. На меня вешают три тысячи шестьсот семь рублей с копейками, а я признаю только две сто сорок пять. Остальные суммы у нас со следователем в разногласиях.
— Какой смысл в этих разногласиях? — простодушно полюбопытствовал Обновленский.
— Большой смысл, Игорь. Петрович, громадный смысл, — задумчиво ответил Перчик. — В этом, чтоб вы знали, вся моя жизнь...
— Аркадий Самойлович, как, по-вашему, стоит признаваться? — уловив изменение в настроении собеседника, Обновленский переменил пластинку. — Это выгодно?
— Как вам сказать, Игорь Петрович?.. И да, и нет. С одной стороны, согласно пункту 9 статьи 38 УК РСФСР чистосердечное признание, явка с повинной, а также активное способствование раскрытию преступления признаются обстоятельствами, смягчающими ответственность, а с другой стороны, Фрайштадт утверждает, что добровольно признаются, сами понимаете, только полные идиоты. Он считает, что признаться никогда не поздно.
Обновленского подмывало спросить, кто такой Фрайштадт, но он вспомнил совет Перчика по поводу сбережения зубов и спросил о другом:
— Аркадий Самойлович, а вы юридический кончали?
— Я закончил восемь классов в 1941 году и с тех пор, к несчастью, нигде не учился. Бессистемно работал над собой всю сознательную жизнь, а вот учиться мне не доводилось.
— Откуда же вы досконально знаете уголовное право?
— Много читаю, Игорь Петрович, и, повторяю, работаю над собой. Между нами, девочками, говоря, здесь изумительная библиотека, рекомендую воспользоваться. Сейчас я читаю Мельникова-Печерского, а на прошлой неделе — Дюма-сына.
— Непременно воспользуюсь вашим ценным советом, Аркадий Самойлович, непременно... Кстати, вы не угостите меня сигаретой? Я, знаете ли, попал к вам совершенно неожиданно, так сказать, экспромтом и, как назло, остался без сигарет.
— Курите, Игорь Петрович, — ответил Перчик, протягивая пачку «Примы». — Вы новичок, и мой долг помочь вам на первых порах.
— Благодарю вас, Аркадий Самойлович, — сказал Обновленский, с удовольствием вдыхая непривычно горький дым дешевой сигареты. — Вы очень любезны.
— Человек, Игорь Петрович, и в изоляции, сами понимаете, должен оставаться человеком.
— Я из тех, кто помнит добро и кто отвечает сторицею, — назидательным тоном произнес Обновленский. — Подождите, моя мама узнает, где я, и засыплет нас посылками. Вот тогда я вас щедро отблагодарю, Аркадий Самойлович.
— Ишь какой быстрый! — Перчик усмехнулся и почесал морщинистую щеку. — Нам разрешают одну передачу в месяц весом до пяти килограмм, и деликатесами там не пахнет. Передают лук, чеснок, сахар, курево, сало, сыр, твердую колбасу, — словом, товар, который не портится. Холодильника тут не держат, потому что мало места.
Обновленский расстроился из-за того, что надежда на домашнее питание лопнула, можно сказать, в зародыше.
— Ничего, скоро вы, Игорь Петрович, к нашей жизни привыкнете. Это, чтоб вы знали, диалектика. Маркса, небось, начисто позабыли?
— Что вы подразумеваете?
— Я говорю вам о вторичности сознания.
— Ах, это... — Обновленский махнул рукой. — Аркадий Самойлович, давно вы здесь?
— В камере? — уточнил Перчик. — С четырнадцатого мая одна тысяча девятьсот семьдесят четвертого года от рождества Христова...
Пять месяцев и шесть дней, мысленно подсчитал Обновленский и с восхищением посмотрел на собеседника. Ведь как держится —- точно молодой бог! А между тем человеку явно за шестьдесят, виски седые, плешь громадная, морщин тьма-тьмущая, под глазами темные мешочки (почки, по-видимому, далеко не в идеальном состоянии), а выражение лица и особенно глаз — задорное, дружелюбное.
— И сидеть мне еще долго, — помолчав, продолжал Перчик. — Следствию конца-края не видно. А про суд я и думать боюсь, еще на год работы.
— Как же так? — вновь ничего не понял Обновленский, помнивший, что Нюрнбергский процесс занял куда меньше времени.
— А вот так, мон шер. Даже я со своим немалым опытом такого дела не помню. И, чтоб вы знали, подозреваю, что Фрайштадт тоже не помнит. Если сравнить наше уголовное дело с мировым океаном, то я не дельфин и даже не треска, а мойва. Не пробовали мойву? И не пробуйте, а ну ее к чертовой матери! Что вас еще интересует, Игорь Петрович?
— Многое, уважаемый Аркадий Самойлович, — признался Обновленский. — Вы такой изумительный собеседник!
— Ладно, будем считать, что я наповал сражен вашим комплиментом. Короче, что вы хотите узнать обо мне?
— Неужели вы уже трижды судились?
— Почему вы так думаете? — Перчик подозрительно сощурился.
— Вы же сами сказали, что сидите четвертый раз, — смущенно объяснил Обновленский. — Так ведь?
— Правильно, я здесь в четвертый раз, однако судили меня пока единожды.
— А два раза вас отпускали? — оживился Обновленский. — Так и не сумели доказать вашу виновность?
— Нет, мон шер, доказать-то они доказали, но мне тогда крупно подфартило... — Перчик усмехнулся. — Я, чтоб вы знали, везучий: дважды попадал под амнистию и, сами понимаете, отделался легким испугом... А когда меня все-таки осудили, то дали условный срок, и я быстренько оказался дома, под башмаком у жены...
— За что же вас столько раз сажали?
— Я, чтоб вы знали, узкий специалист, моя «родная» статья — 92. Был случай, когда меня привлекали по 147 за мошенничество, но это ерунда, грехи молодости. Фрайштадт считает, что в наше время бурного научно-технического прогресса каждый умный человек должен быть узким специалистом, то есть знать что-то одно, но, сами понимаете, на уровне Академии наук... В своей жизни я хватался за разные дела и горел на этом, как шведы под Полтавой. Первый раз я едва не сгорел в артели, где мы на пару с великим Яковом Борисовичем Гонопольским что хочешь делали из импортной пряжи, второй раз я горел тоже в артели, где мы выпускали «левое» мулине, а третий раз я крупно горел в лечебно-производственных мастерских при психиатрической больнице, где сумасшедшие под моим мудрым руководством производили бигуди из полиэтилена. Это была самая лучшая работа за всю мою головокружительную карьеру...
— Почему? — спросил Обновленский.
— Сумасшедшие — самые добросовестные работники, — убежденно произнес Перчик. — Работают без всяких перекуров, не занимаются болтовней и делают все по первому требованию. Если бы меня не посадили, я, сами понимаете, ни за что бы оттуда не ушел... А теперь я сгорел дотла, но об этом как-нибудь в другой раз. Вы, наверное, думаете, отчего вдруг оптимист Перчик повесил свой длинный нос? Имейте в виду, Игорь Петрович, что мне скоро пятьдесят лет, я инвалид Отечественной войны. Сколько мне будет, когда я вернусь к жене и к детям? А?.. Не знаете? Я тоже этого не знаю. Кому я понадоблюсь через десять лет? Кто возьмет в солидное дело больного и хромого старика? Вы возьмете?
— Возьму, — твердо ответил Обновленский.
— Вы добрый человек, Игорь Петрович, но вы не деловой человек, — с грустью констатировал Перчик, сопроводив слова тягостным вздохом. — Ладно, будем считать, что я облегчил себе душу. А пока давайте-ка сделаем перерыв. До прогулки мне надо кое-что обдумать, да и вам полезно потренировать мозги.
Перчик — это удача! — решил ободрившийся Обновленский. В пиковом положении чрезвычайно важно иметь рядом опытного советника, которому можно довериться. Стоп!.. Игорь, ты сошел с ума! А если он провокатор? Нет, это чушь собачья! Но не следует забывать, что слепо доверяться малознакомым людям могут лишь круглые дураки. Он, Обновленский, использует Перчика где только можно, а выворачиваться перед ним наизнанку поостережется. К чему откровенничать с Перчиком? Подчеркнуто вежливо обратившись к нему и получив в обмен на одного «Аркадия Самойловича» залп из трех «Игорей Петровичей», Обновленский быстро распознал слабость старого махинатора, который оказался падким на церемонное обращение. Правда, у Перчика нет-нет да и прорывается наружу донельзя шпанистая вульгарность, но, исходя из сугубо практических соображений, придется закрыть глаза на это... Игорь Петрович обязан быть дипломатом, от этого у него не убудет. А пока надо внимательнейшим образом обдумать расположение фигур на шахматной доске. После хода белых он попал в камеру, и его позиция заметно ухудшилась, но еще не все потеряно. Поэтому надо без спешки подсчитать все ресурсы защиты и готовиться к отпору.
Прежде чем глубоко уйти в свои мысли, Обновленский снова посмотрел по сторонам. Сквозь слоистую пелену табачного дыма вырисовывался силуэт Перчика, сидевшего на унитазе с сигаретой в зубах, а напротив — бесстрастная маска Чингисхана. Седенков по-прежнему смотрел в окно, где виднелся крошечный кусочек неба, а на его лице блуждала бессмысленная улыбка.
— Блаженный! — презрительно подумал Обновленский. От страха, вероятно, сдвинулся по фазе и стоит на полпути к той мастерской, где Перчик организовал выпуск пластмассовых бигуди!
По натуре Игорь Петрович добр и отзывчив, так все говорят, но ему нисколько не жаль Седенкова. Наш мир прекрасен и в то же время чертовски жесток, в нем выживают только сильные личности, а всякая шваль живет лишь постольку, поскольку не пробил ее час. Как, скажем, насекомые, резво порхающие над магистральным шоссе. Разные там жучки, бабочки, стрекозы и прочие летающие твари. И так до тех пор, пока не промчится сверкающий автомобиль, который протаранит сотню или даже тысячу этих козявок и оставит их подыхать на асфальте с выпущенными наружу кишками. Чего же, спрашивается, их жалеть? Все равно они либо пойдут на обед птицам, либо дружно передохнут с наступлением осени. Такова жизнь... Поэтому лучше сосредоточиться на своих заботах.
Итак, первое — как раздобыть информацию о позиции тех двадцати четырех пациенток, с которыми он не успел встретиться? Это, пожалуй, ключевая проблема, ибо Игорю Петровичу пока неизвестно точное число проходных пешек, находящихся в распоряжении капитана Кабанова. Думай, Игорь, думай, от того, как ты сумеешь разгадать эту загадку, зависит многое, слишком многое...
2
Седенков уже четвертый месяц содержался в следственном изоляторе, был старожилом и как-то пообвык. Привыкнуть к камере никак невозможно, а вот приспособиться человек может, считай, к любым условиям. Первый месяц молчал, как пень, на второй сделался разговорчивым, а на третий, как следствие закончилось, Колино настроение менялось по нескольку раз на дню. То тоска одолеет так, что тянет выть по-собачьи, то отпустит душу на часок-другой, и тогда видится ему июльский теплый денек, когда они семьей на огород ходили. Сам Николай в одних трусах, босой и пропотевший, окучивает картошку, Тоня в беленьком платочке полет грядки с клубникой и огурцами, а дочурка Настенька на крылечке сторожки с куклой своей играется. Земля с ночи как следует еще не прогрелась и приятно холодит ноги, а на сердце, считай, птицы поют на разные голоса, и работается в охотку, легко и сноровисто. А как припечет к полудню, они с Тоней друг дружку обливают из шланга. Настенька тоже смеется и под струю водяную залезть норовит. Да, было это и нет этого...
Прежде он боялся суда настолько, что отнимались ноги. Страшил его не приговор, а люди. В суде ведь тьма народу, а народ на него обозливши. На свидании — следователь Михаил Максимыч, спасибо ему, дозволил разок встретиться до суда — Тоня сказывала, что пенсионер Фадеич из квартиры напротив, тихий такой старичок, после того как побывал у них дома понятым при обыске, вконец рассвирепел и подбил народ писать самому главному судье, чтобы его, Колю Седенкова, расстрелять как бешеную собаку. А помимо того, сказывала Тоня, Настенька приходит из школы вся в слезах. Дети в классе с ней знаться не хотят, а Витя Головкин, Федора Сергеича из шестого сборочного сынок, плюнул ей в лицо и отсел за другую парту. Не желаю, дескать, с тобой рядышком сидеть, потому как папка твой палач и фашист... Тоня мыслила напрочь забрать Настеньку из той школы, да учительница Ирина Германовна отговорила. Дети — это дети, вскоре они, мол, все позабудут. Оттого-то все дни и ночи, сидя в камере, он жалел Тоню, а еще больше — Настеньку. Восемь годов девочке, кто ей папку заменит?
Про расстрел он много не мыслил. Сначала было не до того, а потом следователь Михаил Максимыч сам поведал Николаю, что статья ему выходит не расстрельная. Возбудили против него уголовное дело по статье 102, пункт «а», за умышленное убийство из корыстных побуждений, где наказание — смертная казнь или срок от восьми до пятнадцати, но на поверку вышла ему другая статья — 103, по которой срок положен до десяти годов. А защитник, Матвей Филиппыч Цыпкин, когда дело вместе читали, совсем успокоил Николая, заверив, что суд во все вникнет и переквалифицирует его на статью 104, как бы специально про него, Колю Седенкова, писанную. В той статье желанной речь идет об умышленном убийстве, совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. По 104-й статье наказание не в пример мягче — до пяти годов лишения свободы. С той поры Николаю захотелось, чтобы суд скорее прошел, и судьба его верно определилась. Он хотел побыстрее получить срок, очутиться в колонии и ударно работать, чтобы раньше на волю выпустили. А там взять Тоню с Настенькой и завербоваться куда-нибудь на дальнюю стройку, где никто про них не слыхал и где они заживут наново. Эх, сколько бы ни дали, лишь бы скорее.
Суд начался на прошлой неделе. Первый день Николай сидел, низко опустив голову, и в зал ни разу не глянул. На судей поглядел, а в зал — ни-ни. Двое судей ему понравились, а один — инвалид однорукий, слева сидевший, — показался чересчур злым и привередливым. Однорукий сидел, насупившись и глядел на Николая хмуро, а когда Матвей Филиппыч расспрашивал свидетелей — щурился и мотал головой. Зато двое других — седой мужчина посередке и пожилая врачиха из горбольницы, принимавшая у Тони роды и сейчас сидевшая справа от главного, — были, по всей видимости, люди добрые и справедливые. На другой день он начал потихоньку как бы ненароком поглядывать в зал, увидел Тоню, Люсю Фокину из цехкома, ребят из третьей сборки и цельную кучу пенсионеров. Те глядели на Николая, с укоризной, а знакомые ребята — обыкновенно, как на человека, а не на волка тамбовского.
Николай долго мыслил, что же сказать в своем последнем слове. Матвей Филиппыч твердой установки ему не дал, а только посоветовал высказаться короче, от сердца, чтобы судьи поняли, что творится у него на душе. Но когда подошел черед его слову, главный судья объявил перерыв на три дня, а с выходными — все пять суток получилось. Николай, ясно, испугался, а Матвей Филиппыч, спасибо ему, успокоил. Закон такой имеется, что в конце процесса, после слов обвиняемого, суд должен удалиться в совещательную комнату и заседать там до тех пор, пока приговор не вынесет. А приговор — документ серьезный, каждая, считай, буковка на своем месте должна стоять. Оттого-то судья прослушает дело, объявит перерыв и загодя напишет приговор, чтобы потом не мучиться и тот закон не нарушать. По смыслу, мол, все правильно, потому как после прений сторон дело суду ясное и без последнего слова подсудимого. Соль в том, что миг этот единственный и самый удобный — как только последнее слово прозвучит, перерыв уже не объявишь, не положено.
Объяснение Матвей Филиппыча Николай своим умом понял, но ум — одно, а сердце — другое. Муторно на душе, и состояние такое, будто грибов поганых наелся. Ни с кем словом не перемолвится и сокамерников не замечает, словно их нет вовсе. И без устали перебирает прожитую жизнь, чтобы от приговора как-то отвлечься...
Детство Николай вспоминать не любит. Рос он в сельской местности, войны и оккупации по малолетству не запомнил, рано осиротел и, будучи подростком, мыслил только об одном — как бы скорее призвали в армию. Когда подошел срок, к своей большой радости, Николаи попал в громадный по его тогдашнему понятию город Ярославль, служил в автомобильном батальоне и выучился там на слесаря. А в увольнении спервоначалу терялся, потому как все городское было ему в диковинку: народ друг с дружкой на улице не здоровается, трамваи грохочут по-страшному, и заводы, заводы, заводы. Не было в Николае той развязной городской бойкости, без которой там и делать-то нечего, он чурался людей и в одиночку ходил то в кино, то в цирк. Потом мало-помалу пообвыкся, притерся, и появились у него городские женщины, не имевшие, считай, ничего общего со своими деревенскими товарками.
В армии Николай сдал за семилетку и определился, что в деревню ни под каким видом не вернется. Жить он станет в городе, женится на городской и поступит на производство. Выбор куда как богатый: каждую неделю к ним в часть вербовщики с разных мест наведываются, на заводы и стройки манят и всякие блага наперебой сулят. И общежития благоустроенные, и квартиру в течение пяти годов, и заработок подходящий. Не жизнь, а сказка: отопление — от радиатора, вода горячая — в кране, на кухне — газ, а в магазине — что твоя душа пожелает. Перво-наперво скопит на мотоцикл, потом зимнее пальто справит, и тогда, елки-палки, жениться можно. Выберет он себе жену видную, сдобную и чтобы в конторе работала, на счетах считала счетоводом, а бывает, и на арифмометре. За приданым он не охотник, но хотелось бы, чтобы у невесты шуба имелась, белье разное, матрас чтоб был и подушек много. Больших две, средних тоже две, малых две и совсем маленьких две. Становить чтоб их на кровать горками: одна горка в изголовье, другая — в ногах. И покрывало чтоб было с кистями...
Демобилизовали его в шестьдесят третьем, и поехал Николай под Ленинград, на большущий заводище, где шагающие экскаваторы делают. Поселился он в общежитии, месяца три походил в учениках, а потом сдал на разряд и стал рабочим третьего сборочного цеха. Зарабатывал подходяще, приоделся и за полтора года почти что скопил на мотоцикл, но вышла тут ему судьба жениться не так, как мыслилось.
Напротив ихнего заводского общежития стояло общежитие стройтреста, два подъезда мужских, а два — женских. Вот из того общежития гулял Николай с Тоней, которая штукатуром работала. Гулял просто так, для своего мужского баловства и провождения времени, планов не планировал и расписываться с ней не намеревался. Тоня на три года старее Николая и мужиков, видать, поимела будь здоров сколько. Но, должно, умом бабьим дошла, что к своему краю надобно прибиваться, и вцепилась в Николая, как клещ лесной. А ему-то невдомек, что Тоня намертво лепится, он про то и в голову не брал. Сама она маленькая, шустрая такая, мордашка подмалеванная, и нрава веселого. А нашему брату чего надобно? Наше дело не рожать...
Отгуляли они весну, лето и осень, а к ноябрьским дням Тоня возьми и скажи: «Так, мол, и так, жду, мол, ребенка. И тебя, Николай Васильич, ни в чем не неволю. Хочешь взять меня в жены — бери, пойду с радостью и буду тебе верным другом до смертного часу. Не захочешь — сделаю аборт, и, считай, разговор наш не начинался. Словом, твой верх, как скажешь, так оно и будет».
Призадумался тогда Николай, крепко призадумался — на неделю с гаком. Что болтали про Тоню, он на то плевать хотел! Мало чего люди треплют промеж себя, языкастый нынче народ, а вот насчет совести у них у самих не больно-то богато. Ежели всем им верить, мысли перепутаются и круговерть в мозгах пойдет. Жить надо с оглядкой на людей, однако своим умом. Это раз! Что Тоня не городская, это, считай, нам тоже не в убыток. Городские к городским лепятся, как свояк к свояку, а на тебя, на деревенского, сверху вниз поглядывают, будто на коровью лепешку. Ежели на такой цаце жениться, так она, бывает, запряжет тебя в сани и давай погонять почем зря. Пускай нынче женщин хоть в директоры берут или даже в министры, дело хозяйское, он не против, а в своей семье Николай набольший, и точка. Тут вроде с Тоней промашки не выйдет. Это два! Что ребеночка, считай, в подоле притащила, — нате вам, Николай Васильич! — так оно, ежели поразмыслить, не беда. Ему двадцать четвертый пошел, ей двадцать семь стукнуло, — когда же детей рожать, как не сейчас? Самые года подходящие. Это три! А что Тоня телом не сдобная, так и в том особой беды нету. Разродится, и, даст бог, дородность в ней проявится. Ежели белого хлеба с парным молоком ей побольше скармливать и горох почаще тушить на нутряном сале, так она живо вес наберет. Это четыре! А что еще? Вроде бы все к тому, чтобы идти расписываться!
И взял Николай Тоню в жены. Расписались они под рождество, в июне народилась Настенька, а к Дню строителя дали им квартиру в новом доме. Тоня в тресте как-никак восемь лет отработала, на красной доске висела, и от постройкома ей прямо в больницу ордер принесли. Ордер, понятно, ордером, а дом заселили чуток погодя, недоделки устранивши. Квартира им вышла двухкомнатная, двадцать шесть метров жилой площади, с балконом, кухня еще пять метров, ванна и нужник вместе, полы везде крашеные — не квартира, а чистое загляденье. Деньги его, на мотоцикл скопленные, все ушли на мебель, а посуду, спасибо ребятам из цеха, им на свадьбу поднесли. В общем, живи и радуйся!
Так они и зажили, в тепле, в достатке и в душевном согласии. Днем Настенька в яслях, а они — на работе. Придут с работы, помоются, поиграются с Настенькой, убаюкают ее и садятся телевизор глядеть. А в выходной ему к обеду маленькая припасена или пара пивка. И не сам Николай ее покупает, а Тоня про то заботится, чтоб муж дома довольный был и к дружкам не лепился насчет выпивки. Когда жена мужа понимает, так та жизнь счастьем называется...
В шестьдесят седьмом, как раз когда про два выходных постановили, дали им на семью от завода шесть соток под огород. Рядышком от дому, всего с полчаса пешим ходом через посадку идти. Инженеры там домиков понаставили навроде дачек и деревца насажали для тени, а Николай с Тоней всю ту землю вскопали, камешки из нее выбрали, унавозили, потом смочили, и земля та стала как масло — жирная и щедрая. Вдоль забора Николай посадил малину, смородину и крыжовник, а на участке — картошку, огурцы, клубнику, лук, редис, морковь и свеклу. Чтоб куда инструмент сложить и, бывает, часок покемарить, он из тарной дощечки бросовой сколотил сторожку три на два с половиной метра. Можно было и просторнее ту сторожку сколотить, материала сколько хочешь за магазином валяется, бери — не жалко, но не пожелал Николай даром землю тратить. У кого руки до труда охочие, того земля напоит и накормит!
В первый год ягоды только принялись, а овощ дал такой урожай, что на всю зиму хватило с избытком. Своя картошка рассыпчатая не ровня магазинной, мелкой да морозом прихваченной — и вкус другой, и сытость не та. А соленые огурцы! Чего об том говорить — умный с полслова ухватит, а дураку год втолковывай, все одно без пользы.
Другой год огород силу набирать стал и урожай дал не чета прошлому. Ягоду Тоня в Ленинград свозила, на Кузнечный рынок, а вместе с цветами, которые они завели по совету знающих людей, выручили Николай с Тоней шестьсот сорок рубликов. И еще себя на зиму запасом подперли — тоже подспорье немалое. Николай купил-таки мотоцикл «Ява» с коляской! А на третий год огород им тыщу рублей принес, да и за зиму они кое-что поднакопили: Николай на круг двести двадцать домой приносит, а Тоня— рублей сто—сто пятьдесят. Принялся тогда Николай мыслить над покупкой «Москвича», но судьба вышла ему другая.
В осень семьдесят первого начала Тонятосковать и с лица осунулась. Николай до поры молчал, а потом как бы ненароком:
— Чего такое с тобой деется?
— С отцом плохо.
— Помирает, должно, старый?
— Нет, Коля, хуже... Соседка его, Карповна, с месяц назад письмо прислала, что он слепой совсем, беспомощный и обиходить сам себя никак не может. Понимаешь?
— Ясное дело. А что у старика с глазами-то? Бельмы?
— Карповна пишет, будто глаукома.
— Глаукома? — удивленно произнес Николай. — Первый раз слово такое слышу... Новая какая болезнь, что ли?
— Откудова новая? — Тоня всхлипнула. — Темная вода это!
— Так бы сразу и сказывала.
— Разве в названии соль? Ничего, бедненький, не видит, только свет различает.
— Жаль старого — промолвил Николай. — Чего мыслишь делать?
— Не знаю, Коля, — плача, ответила Тоня. — Как вспомню, что он в деревне один-одинешенек, так кусок в горле застревает... Я ведь тайком от тебя с каждой получки ему десятку на пропитание посылала. Он без пенсии, все обещались, а похлопотать некому: Карповна сама едва ковыляет, а бригадир пьет без просыпу.
— Вот что, Антонина Прокофьевна, утри слезы и слушай сюда... — Николай почесал затылок и прищурился. — В субботний день на зорьке сядем на мотоцикл и махнем к старому. На месте оно видней, там и порешим...
Тесть Прокофий Иваныч жил от них за триста километров, под городом Опочка Псковской области. Выехали Николай с Тоней в четыре утра, а добрались до места в час пополудни, потому как дорога кое-где ремонтировалась да листьев мокрых на асфальте сила, захочешь — не разгонишься. А перед деревней полста километров не ехали, а, считай, по проселку из лужи в лужу переваливались. Известное дело — глина. А как добрались, так у Николая сердце защемило: деревенька маленькая, часть домов заброшенная, деревьев совсем почти нету, а какие остались, с них лист облетел, косой дождик хлещет, и все живое по избам да сараюшкам попряталось. А тестева изба — хуже не бывает, чистая развалюха, вся грязью заросла, хлам по полу раскиданный, а сами полы, должно, с год не мытые. Лежит старик Прокофий Иваныч на кровати, постельного белья в помине нету, а из тюфяка вата торчит, будто штыками его прокалывали.
Тоня, ясно, в слезы, у старого тоже глаза на мокром месте, а Николай огляделся и сразу про себя все порешил.
— Поедешь к нам, Прокофий Иваныч, — сказал он тестю. — Не на время, а насовсем, дошло?
— Дошло, Миколай, как не дойти, — радостно прошамкал старик. — Одному мне невмоготу — зиму нипочем не пережить... Я тебе в тягость не стану, ем... как воробушек. Черпачок супцу, хлебушка мягонького да чайку с сахарком. Зубов-то давно нету.
Посадили Николай с Тоней старого в коляску, укутали чем могли и покатили обратно. А приехавши домой, зажили они душа в душу. Старичок Прокофий Иваныч, хоть морщинистый весь и на глаза негодный, а веселый человек на поверку вышел, тихий и приветливый. Тоня, должно, повадкой в него пошла. Николай с Тоней, ясно, днем на работе, Настенька — в детском садике, а Прокофий Иваныч целый день на кухне у окошка сидит и знай чаи гоняет. Приноровился газ зажигать и чайник на плиту становить не хуже зрячего, так его не оторвешь — с десяток стаканов за смену выдувает. Пьет вприкуску, внакладку не уважает, и знай хлебушек наворачивает, буханки ему не хватает. Ну и на здоровьичко, нам не жалко. Чай и хлеб копейки стоят, а Прокофий Иваныч — родня, как-никак тестем считается.
По пятницам Николай брал старого в баньку, а в выходные, бывало, выводил во двор, где народ пенсионный собирается. Сам Николай с ребятами в «козла» забивает, а Прокофий Иваныч лясы с народом точит. Про войну вспомянет и про то, как колхоз у них становили, об чем хочешь потолковать способный. И домой потом топает довольный, что с народом наговорился досыта. Старушки кой-какие на Прокофия Иваныча поглядывали, а одна — из седьмого дома бабка вдовая — так все и норовила сесть с ним рядышком, под его бочок.
— Ты, Прокофий Иваныч, гляди! — упреждал тестя Николай. — Не ровен час, захомутает тебя бабка и сведет из дому!
— А мне что, Миколай, я на то согласный, — смеялся Прокофий Иваныч. — Мне годов не так чтобы много — шестьдесят три всего, я на это самое еще годный!
Так вот они жили-поживали, а к маю семьдесят третьего вышла им беда. Вернулись как-то Николай с Тоней с огорода, а дома не узнать: все вверх дном переворочено, и вещи ни одной цельной нету. Стулья переломанные, зеркала побитые, занавески с окошек сорванные, посуда — в черепки, пух из подушек по комнатам летает, и телевизор — вдребезги! А Прокофий Иваныч на полу валяется и знай хохочет дурным смехом. Сам зрачки закатил, одни бельмы торчат, и кругом рта — пена. Николай сей же миг докторов призвал, кольнули они Прокофия Иваныча, он и оклемался. Денек отлежал носом в стену, а к вечеру повинился:
— Виноватый я кругом, Миколай, не будет мне твоего прощения... Бес в меня, бывает, войдет, и крушу я все почем зря. Ты, зятек, наживал, а я, старый хрыч, тебя в разор пустил... Вези меня в деревню помирать на родимой сторонке.
Старик на оттоманке сокрушается, Тоня на кухне слезами умывается, а Николай по дому ходит, курит и про себя мыслит. Старика ежели в деревню вернуть, лето он как-то перемается, а зимой нипочем не выжить Прокофию Иванычу. По-людски это будет?.. А большой ли убыток он нанес? Мебель, считай, никуда не годная стала, потому как Настенька забывала на горшок проситься и обивку обделала, телевизор «Рекорд», в комиссионном купленный, тоже пора менять, а всякие там подушки и вовсе недорого обновить. Хрен с ним, с добром этим! Живы будем — наживем!
Призвал он с кухни Тоню и сказал им свое хозяйское слово:
— Обидел ты меня, Прокофий Иваныч, но чего не бывает между своими. Живи с нами, коли слово дашь, что чудить боле не станешь.
Тоня слезы уняла и по-доброму заулыбалась, а старик с оттоманки слез и в ноги ему трижды поклонился.
— Век не забуду доброту твою, Миколай. Ты, зятек, не сумлевайся — перебесивши, год, а то и два я смирный.
Сказано — сделано: старье Николай частью выкинул, частью привел в божеский вид и перетащил на огород, в сторожку, а накупили они с Тоней все новое, одно другого краше. Мебельный гарнитур взяли чешский, «Кармен» названье ему, тыщу двести девяносто отдали. Оттоманка большущая, зеленая, и кресла два мягкие, что твой пух. Стулья, правда, хлипкие больно, зато шкафы вместительные, на ногах на железных, и дерево на них доброе, не чета фанере. И телевизор «Рубин» тоже на ножках, любо-дорого глядеть. Деньги скопленные, однако, почти все размотали, но лето выдалось пригожее, и огород подмог, тыщу триста с гаком с него сняли.
В тот же год, в октябре, Прокофий Иваныч все наново переломал. Стулья все, считай, на дрова приспособил, оттоманку с креслами ножиком искромсал, шкафы изуродовал и стекла высадил все до единого, а телевизор распотрошил так — прямо не узнать, что за машина в том ящике была. А сам обратно хохотом заходится.
Тоня как на побоище взглянула, так глазами сверкнула и криком закричала:
— Не отец он мне, видеть его не могу! Коленька, заводи мотоцикл и вези его куда хочешь! Враг он нам злой!
Николай сгоряча ничего делать не стал, а скорей призвал доктора. Доктор — средних лет женщина — привела Прокофия Иваныча в нормальный вид. Увидел старый, что поднаворотил, и жалобно распустил нюни. А Николай вывел докторшу на кухню и пытать у ней начал: нельзя ли Прокофия Иваныча куда определить, где старики, умом тронутые, дни свои доживают?
— Зачем же так поступать? — с чего-то обозлилась докторша. — Вы представляете себе, что будет, если каждый захочет избавиться от своих родителей? Нам тогда ни домов для престарелых, ни психиатрических лечебниц не хватит!
— Как же с ним быть, доктор? — спросил Николай.
— Ухаживать за ним надо, а не думать о том, как спровадить старого и слепого человека с глаз долой, — строго наставляла его докторша. — Дважды в день — утром и на ночь — давайте лекарства, которые я прописала, и тогда он будет спокойным.
Докторша ушла, Прокофий Иваныч заснул, а Николай с Тоней целую ночь не смыкали глаз и решали, как по-справедливому поступить со стариком. На дворе холода, в деревню его везти — на смерть верную, но и в доме держать негоже, раз он такой бесноватый. Поутру старик наново повинился, но Николай тех слов покаянных и слушать не пожелал, запер его в ванной и пошел на завод. Так прошло с недельку, а потом явилась в голову к Николаю задумка дельная — как с Прокофием Иванычем по совести обойтись и свое добро уберечь. Увидал он на дворе старого дружка, Ваньку Долбичкина, сварщика строительного, и попросил его:
— Вань, а Вань, свари мне из восьмерки клетку. Я чертежик прикинул, по нему аккурат и свари. Магарыч, ясное дело, за мной!
— Сварить-то оно недолго... — Долбичкин глянул в бумажку и сдвинул кепку на затылок. — А для чего тебе клетка, Николай?
— Кролей намереваюсь развесть, — ответил Николай и закурил от смущения. — Приспособлю ее к сторожке на огороде.
— Для кроликов толстовата будет из восьмерки, — усомнился Долбичкин. — Может, потоньше материалу взять?
— Лучше бы восьмерку, дольше простоит.
— А на кой леший такая большая дверца?
— Чтоб чистить сподручней было. Так сваришь?
— Ладно, за недельку сварганю, — пообещал Долбичкин и запрятал чертеж в карман телогрейки.
За недельку Долбичкин не управился, а на десятый день исполнил Николаев заказ, и клетку они, как водится, обмыли. Неподъемная вышла клетка, Николай но что здоровый, а едва-едва втащил ее ночью в дом, взмок весь и спину наломал. На другой день он прошелся по ней шкуркой, потом за два раза покрыл краской-серебрянкой, чтобы нарядней та клетка сделалась, замонолитил ее в стену и стал держать в ней Прокофия Иваныча. Как им с Тоней на работу идти время подходит, садят старого в клетку на табуретку, дадут ему чайник, сахару, хлебушка и амбарный замок вешают, а как вернутся домой — Прокофия Иваныча оттуда выпускают. И все довольные: старичок знай посмеивается, в клетке ему способней, чем в ванной комнате отсиживаться, и Николай с Тоней спокойные — не учудит старый чего худого и добро ихнее не потратит. Клетку Николай прикинул метко, Прокофию Иванычу в ней просторно, ноги запросто вытягивает и для рук маневре хватает. Мыслил Николай там горшок поставить, да Тоня отговорила. Потерпит, мол, старый черт, зачем в комнате вонищу разводить. Вон у соседа собака дог мышиного цвета, цельный день одна дома, так она скорей лопнет, чем напакостит. Старик, мол, ненамного дурей собаки, тоже не без понятия.
Тоня жуть как обозлилась на Прокофия Иваныча, дать ей волю — держала бы старого на хлебе и воде, а сам Николай нутром помягче — в баньку тестя все одно по пятницам водил и на двор в выходной, чтоб языком почесать досыта. Как-никак живой человек Прокофий Иваныч, а без баньки и без разговору — разве это жизнь?
Телевизор «Рубин» им пришлось вовсе выкинуть, ну а мебель Николай как сумел подправил. Из шести стульев вышло четыре, в шкафах стекла вставил новые и царапины зашпаклевал. Получилось вроде неплохо, но, ясное дело, вид не тот, глянешь — как ножиком острым резанет в животе... Тоня тоже постаралась — у оттоманки и у кресел обивку заштопала зелеными нитками, чтобы в глаза не бросалось, но как глянет, так в слезы. Своего, горбом нажитого, ох как жалко, жальче и быть не бывает... Телевизор, однако, новый взяли, в кредит. Как нынче без телевизора? Заразная штука этот телевизор, хуже семечек. Ежели присох к нему, нипочем не отсохнуть!
Чтоб карман подправить, принялся Николай разводить аквариумных рыбок живородящих. Умный человек один ему подсказал, что наваристое оно дело, рыбок тех на рынке продать можно, и в зоомагазинах за них хорошую цену дают. Завел Николай три аквариума, подсветку в них сделал, градусники поставил и трубки провел, чтоб воздух через них булькал. Стали те рыбки плодиться, и возни с ними оказалось куда как много. Мальков надобно отсаживать от папки с мамкой, не то сожрут их запросто, да молодь от малька вовремя отделить. Но Николаю рыбки крепко полюбились за доходность и красу, а Настенька — та по ним прямо с ума сходила. К маю Николай первый приплод продал и все расходы на рыбок зараз оправдал, а в июле от другого приплода сто сорок рубликов в сберкассу отнес.
Старик же, Прокофий Иваныч, вину свою помнил и не раз совестился, да какой от этого толк? Денег у него отродясь не водилось, а на его утешение мебели им не продадут.
— Ты, Миколай, потолкуй с народом, — как-то предложил старик. — Может, меня кто купит?
— Прокофий Иваныч, ты что, вконец умом рехнувши? — подивился Николай. — Посуди сам, кому ты нужен?
— На дворе давеча брехали, будто трупы покупают в музей какой-то, запамятовал названье, мудреное вроде... На руки хорошие деньги дают, а как помрешь — приходют и забирают. Так я, Миколай, на то согласный. Ты отыщи музей и продай меня, а то совесть меня гложет, что в разор вас пустил.
— Иди-ка ты, дед, к такой-то матери! — ответил Николай. — Еще чего не хватало!.. Трупами пускай мазурики торгуют, а нам не пристало. Живи пока живется, а потом, как смерть примешь, панихиду по тебе справим по православному обычаю и предадим земле.
Зима прошла сиротская, слякотная, а по весне Николай с Тоней огородом занялись пуще прежнего, чтоб деньжат поднакопить. И все хорошо шло до того злого августовского дня, когда приключилось с ними горе горькое...
В тот день ихняя бригада сверхурочно работала, и попал Николай домой в седьмом часу, когда Тоня с Настенькой давно на огород ушли. В полдень легкий дождик попрыскал, а вечер стоял тихий и ясный, для работы на огороде сильно пригожий. Взошел Николай в дом рыбкам корму задать и обомлел: клетка пустая, а Прокофий Иваныч наново учинил разгром почище прежних двух. Должно, Тоня впопыхах замок не заключила или что другое стряслось, но выбрался старик на волю и покрушил все дотла. От оттоманки память одна осталась, стулья—в щепу, у шкафов дверки — напрочь, а кругом — тарелки битые. Сам Прокофий Иваныч лежит на полу и ящик телевизионный расколотый к себе прижимает. Аквариумы тоже разбитые, а рыбки все передохли и ногой растоптанные. А их-то за что?!
— Доколе ж ты измываться надо мной будешь, зараза? — криком закричал Николай.
А старик глянул на него и развеселился, слюни пускает и знай похихикивает. Тут кровь Николаю в голову кинулась, круги в глазах поплыли, и зарябило так меленько. Схватил он ящик телевизорный, швырнул его Прокофию Иванычу на грудную клетку, а дальше Николай ничего не запомнил. Как пришел в себя — видит, что лежит Прокофий Иваныч побелевши весь и не дышит. Закурил Николай, помотал головой от беспросветной тоски и двинулся в милицию — сам на себя заявлять. И вот завтра ему приговор будет.
3
Вскоре после того, как он скомкал так приятно начатый разговор с доктором Обновленским, съежившийся Перчик распрямил спину, поднялся с нар и, припадая на искалеченную ногу, заковылял в угол камеры, где не без усилий взгромоздился на толчок и предался размышлениям. Надо признаться, что его чрезвычайно обрадовало интеллектуальное пополнение и он надеялся славно скоротать время, болтая с высококультурным собеседником о всякой всячине, однако первая же попытка закончилась идиотским срывом. Зачем он брякнул лопоухому пузану, что считает себя везучим? Кто тянул его за язык?
Перчик сплюнул с досады, крепко зажмурился и мысленно представил себе тот пятилетний отрезок времени, который отделял последнюю его посадку от предпоследней. Увы, подлинная роль Аркадия Самойловича в лечебно-производственных мастерских психиатрической больницы не имела ничего общего с тем, что он наболтал доверчивому гинекологу. В действительности Перчик был там всего-навсего мастером по ремонту и эксплуатации оборудования и понятия не имел о том, откуда брали сырье, куда и как сбывали «левый» товар, каким образом делили между собой доходы, и так далее. Фрайштадт ежемесячно подкидывал ему с барского стола жалкую сотню только за то, что Перчик добросовестно ухаживал за оборудованием и не совал свой нос куда не следует. Короче, Перчик наверняка избежал бы ареста, если бы не ввязался в одну идиотскую авантюру. Человек ненасытен: ему, видите ли, показалось мало зарплаты, пенсии по инвалидности и дотации Фрайштадта, и он очертя голову принялся таскать бигуди и с помощью знакомых торгашек сбывать их населению. В первый месяц получил 380 рублей, во второй — ровно 600, в третий — без малого 850, а на четвертый засыпался в подсобке галантерейного магазина, и, сами понимаете, угодил в изолятор. Их лечебно-производственная лавочка запылала синим огнем, большинство заправил выловили и осудили к различным наказаниям, а Перчик снова отделался легким испугом. Суд установил, что он не был причастен к крупным хищениям социалистической собственности и — очень важный довод в его пользу! — не состоял в преступном сговоре с основными обвиняемыми, инкриминировал ему лишь один эпизод на сумму 370 рублей, и приняв во внимание первую судимость, чистосердечное раскаяние на следствии, положительную характеристику с места работы и полученное на фронте увечье, определил ему наказание по части 2 статьи 92, с применением статьи 44 УК РСФСР в виде пяти лет лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.
Предварительное следствие по крупному хозяйственному делу длится месяцами, суд тоже тянется долго, поэтому все вместе (включая срок кассационного рассмотрения в Москве) заняло в общей сложности восемнадцать месяцев, и Перчик вернулся домой лишь в сентябре 1970 года. Его жена Ася оформила отпуск, получила ссуду в кассе взаимопомощи и увезла Перчика в Сочи, где они отдыхали дикарями. Красивого отдыха, однако, не получилось, потому что Ася взяла Перчика в клещи. Перчик ворчал, негодовал и лез на стену, но Ася была неумолима и пошла всего на одну уступку — раз в неделю покупала ему коньяк. Так, сами понимаете, стало чуточку легче, но ничуть не веселее. А по возвращении домой начались трудовые будни.
Памятуя об испытательном сроке, Перчик не пошел на поклон к Фрайштадту и устроился слесарем на фабрику мебельной фурнитуры, где честно отработал целых тринадцать месяцев и девять дней. Чтобы вы знали, он остался бы там и на более продолжительный срок, благо коллектив в бригаде подобрался надежный — все люди пожилые, основательные, а бестолковых — раз, два и обчелся, да и платили прилично, однако как нарочно с лета началась у него жуткая невезуха в домино, и он по уши погряз в долгах. Партнеры у Перчика постоянные, очень интеллигентные, денежные, они долго терпели, но, сами понимаете, кредит портит отношения. Однажды в выходной день — дело было то ли в октябре, то ли в ноябре, — когда они, как обычно, забивали «козла» под грибком у детской площадки в проходном дворе на улице Софьи Перовской, Перчик допустил оплошность, после «яиц» нерасчетливо сделал «рыбу» и нарвался на скандал. Игравший с ним в паре доцент Окропирашвили позеленел от злости, обозвал его «вшивым дегенератом», швырнул на стол две «красненькие» и с расстройства раньше времени ушел обедать в «Кавказский», а завмаг Тулумбасов набычился и понес околесицу насчет долга чести и мордобоя. Короче, его с позором выставили со двора, он медленно поплелся к Конюшенной площади, и тут на его пути оказался Фрайштадт.
— Как жизнь? — осведомился он после обмена рукопожатиями. — Как здоровье?
— А! — Разгоряченный скандалом Перчик в отчаянии махнул рукой. До получки оставалось три дня, в кармане бренчала медь на автобус, а его подмывало выпить. — Разве это жизнь!
— Туговато приходится? — не без ехидства спросил Фрайштадт.
— Имеешь деловое предложение? — с надрывом произнес Перчик, сдвигая шапку на затылок. При мысли о больших деньгах его прошиб пот. — А?
— Вот что, Аркаша, — издалека начал Фрайштадт, — ты немало страдал, и я надеюсь, что суд кое-чему научил тебя. Может быть, хватит совать голову в петлю?
— Мне вот так хватит! — Большим пальцем Перчик провел черту в районе переносицы. — Ася поклялась жизнью Гришеньки и Беллочки, что если я не завяжу, то она разведется со мной!
— Вот видишь, и Ася говорит почти то же самое. — Фрайштадт закивал головой. — Мы знакомы с первого класса, и все эти годы ты меня поражаешь... На бигуди ты имел хороший кусок хлеба и спокойно доработал бы там до пенсии, но тебе во что бы то ни стало захотелось положить в карман больше, чем ты заслуживал. Вспомни, к чему это привело?.. Ты с треском сел в тюрьму, провалил замечательно налаженное дело и вместо прибыли принес мне убыток.
— Извини, Изя, я погорячился, — проникновенным голосом сказал Перчик. — Чтоб ты знал, мне до сих пор стыдно!
— Твое раскаяние в рубли не превратишь, — философски заметил Фрайштадт. — Но это дело прошлое, не будем его ворошить. Хочешь жить как нормальный человек?
— Хочу! Изя, будь другом, помоги встать на ноги!
— Допустим, я помогу, а ты опять начнешь по-идиотски ловчить за моей спиной?
— Чтоб я так жил с кем хотел! — Перчик ударил себя кулаком в грудь.
— Смотри, Аркаша, я еще раз поверю тебе на слово, — смилостивился Фрайштадт. — А теперь слушай и не перебивай. Ты плохо выглядишь, тебе надо подлечиться. Здоровье дороже денег... Бери расчет, и я организую тебе путевку в хороший санаторий. А там посмотрим.
Перчик тайком от Аси уволился с фабрики, а дома с апломбом соврал, что получил в фабкоме соцстраховскую путевку. Фрайштадт снабдил его деньгами на карманные расходы и отправил в санаторий «Черная речка», где Аркадий Самойлович наконец-то всласть попил коньячку и с головой ушел в преферанс, быстро восстановив в памяти правила и приемы этой увлекательнейшей игры. А в середине декабря Перчик и Фрайштадт снова встретились на улице Желябова и во время прогулки детально обсудили вопрос о том, где и как дальше работать Аркадию Самойловичу. На сей раз Фрайштадт без обиняков перешел к делу и посвятил Перчика в чертовски любопытную историю.
Несколько месяцев назад два предприимчивых молодых человека — Алик и Юра — оба 1944 года рождения, беспартийные, с незаконченным высшим образованием и недюжинной алчностью, организовали в одном из совхозов близ Всеволожской подсобное производство галантерейных изделий под янтарь, наняли рабочих и приготовились делать деньги. Однако с первых же практических шагов многообещающее начинание столкнулось со значительными трудностями, так как упомянутые молодые люди были не в ладах с технологией переработки пластмасс и допускали брак, а торгующие организации не брали низкокачественный товар. Юные бизнесмены быстро проели оборотные средства, сели на финансовую мель и в срочном порядке вызвали из Риги папу Алика, имевшего такое же «дело» в каком-то рыболовецком колхозе на северном побережье Латвии. Папа Алика незамедлительно прибыл в Ленинград и вник в существо бед лжеартели, но, против ожидания, категорически отказал в денежной помощи, посоветовав привлечь на паях кого-то из местных деловых людей. Так, «янтарная компания» попала в поле зрения Фрайштадта и стала объектом пристального изучения. Выяснилось, что совхоз входит в крупную свиноводческую фирму, штат которой укомплектован животноводами, абсолютно некомпетентными в галантерейном, производстве. Вместо того чтобы создавать у себя подсобные цеха по переработке сельскохозяйственной продукции, свиноводы с восторгом откликнулись на заманчивое предложение выпускать дешевые перстни и броши, причем их энтузиазм, как догадывался Фрайштадт, имел очевидную экономическую подоплеку: свинина может давать как прибыли, так и убытки, а галантерейное производство в умелых руках приносит гарантированную прибыль, способную создать видимость благополучия всему совхозу. Кстати говоря, он, Фрайштадт, всесторонне изучил экономику сельского хозяйства и пришел к выводу, что будущее подпольной частнопредпринимательской деятельности не в городе, а на селе. Словом, Фрайштадт в принципе готов вложить деньги в это дело, но прежде он должен внедрить в галантерейный цех своего человека. Там имеется вакантная должность старшего механика, и если Перчик согласен, то может завтра же приступить к работе. Условия: кроме зарплаты, Фрайштадт ежемесячно выдает Перчику 200 рублей, а Перчик, со своей стороны, обязуется не лезть ни в какие дела как с молодыми людьми, так и помимо них. Даже если лжеартель лопнет и вся компания попадет в цепкие лапы милиционеров, им обоим ничего не грозит: Фрайштадт — посторонний человек, не имевший ничего общего ни с производством, ни с торговой сетью, а с Перчика взятки гладки — он занимался только обеспечением работы технологического оборудования. Все ясно?
Перчик согласился, не колеблясь ни минуты. Перспектива получать подходящие деньги почти без всякого риска взволновала его мятущуюся душу, а трудности не пугали — с оборудованием по переработке полистирола и полиэтилена Перчик был на «ты».
Приход Перчика буквально открыл эру благоденствия подсобного цеха свиносовхоза. Свиноводы не кумекали в поделках под янтарь и послушно расписывались там, где им указывали; никто не вел учета выпуска деталей по операциям; нормы расхода металла и пластмасс отсутствовали; рабочие наряды составлялись халтурно, лишь бы кое-как подогнать зарплату, и в довершение всего, чтобы обезопасить себя, Алик и Юра систематически переводили рабочих с одной операции на другую, а недовольных тут же отправляли на полевые работы, богатея не по дням, а по часам. Перчика они тоже не забывали и от себя доплачивали ему еще 150 рублей. А в благодарность им Перчик так наладил работу оборудования, что брак сократился до минимума, а сам он попал на Доску почета.
Вместе с зарплатой и жалованьем от Фрайштадта ему доставалось не так уж мало, но, как говорят умные люди, жадность фраера сгубила. На свою беду, Аркадий Самойлович был ненасытным, а точнее, инициативно-денежно-блудливым и, начисто позабыв о данном Фрайштадту слове, с головой влез в заманчивую авантюру. Как-то в воскресенье, сразу же после блистательной победы над чванливым завмагом Тулумбасовым и его прыщавым сыночком (Перчик на пару с доцентом Окропирашвили облегчил их на «зелененькую»), он шел по Невскому, чтобы промочить горло в подвальчике у Садовой, и случайно обратил внимание на лоток, с которого продавали какой-то ходовой товар. Он из любопытства приблизился и увидел — что бы вы думали? — их брошь «вишню». У лотка толпился, что называется, и стар, и млад, и «вишня» шла нарасхват. И тут Перчика осенило: а что ему стоит собирать эти броши у себя дома и отдавать их верным торгашкам из числа тех, кто в свое время безаварийно продавал его бигуди? Кто в здравом уме и твердой памяти откажется от лишних денег? Ему, Аркашке Перчику, они не помешают!
Не откладывая в долгий ящик, Аркадий Самойлович принялся таскать домой заготовки, обзавелся паяльником, молотком, бойком и круглогубцами, выбрал время, когда Аси не было дома, и изготовил несколько сот брошей «вишня». Знакомые торгашки тоже не ударили лицом в грязь и за полгода реализовали 1300 «вишен», выручив 3120 рублей, из которых 2/3 отчислились Перчику. Короче, до августа 1972 года все шло как по маслу, а дальше начались осложнения. Вдруг ни с того ни с сего мелкооптовая база оштрафовала свиносовхоз на 15 630 рублей за недопоставку галантерейной продукции, и разгневанные свиноводы предъявили юным бизнесменам ультиматум: или те каким угодно способом добьются снятия штрафных санкций, или подсобный цех будет немедленно закрыт! Когда Алик, Юра и Перчик засели за документы и разобрались с реализацией брошей, то схватились за головы — непомерное увлечение «левым» товаром привело к тому, что они провалили поставку главному потребителю! Юра в панике кусал пальцы, Алик порывался бежать на почту, чтобы дозвониться до Риги и вызвать отца, а Перчик сохранял хладнокровие и предложил рассказать все Фрайштадту. Тот, сами понимаете, по головке не погладит, зато даст мудрый совет. Так и поступили. Сперва Фрайштадт взъерепенился и пригрозил, что выйдет из дела, затем сменил гнев на милость и велел написать письмо мелкооптовой базе, указав, что совхоз сорвал поставку из-за перебоев в снабжении сырьем. Такая отписка сама по себе дешево стоит, поэтому надо подобрать ключи к одному из руководителей базы, сквозь зубы процедил Фрайштадт. Придется дать небольшую взятку.
Два дня спустя Алик с письмом и деньгами отправился на мелкооптовую базу и отсутствовал целый день. Уже стемнело, и Перчик начал беспокоиться, не случилась ли беда, но тут под окном лихо притормозил ярко-красный «Жигуленок», и в контору вбежал Алик.
— Полный успех! —закричал он, доставая из портфеля «дипломат» коньяк и лимоны. — Замдиректора базы дал трещину!
— Значит, он «берет на лапу»? — восторженно завопил Юра.
— Берет, как слепая лошадь!
— Ура-а! — Юра закружился в обнимку с Перчиком и чуть было не уронил его на пол. — Аркадий Самойлович, мы победили!
Корыстолюбивый замдиректора базы за 500 рублей и бутылку «Рижского бальзама» согласился снизить штраф до 2507 рублей, цех, сами понимаете, был спасен, однако до конца года пришлось делать только «правую» продукцию и временно отказаться от побочных доходов. Впрочем, заработки Аркадия Самойловича от этого не уменьшились, так как ни Фрайштадт, ни мальчики не сняли его с дотации. Что же касалось его надомной самодеятельности, то ее пришлось отложить до лучших времен. Можно было, конечно, потихоньку таскать заготовки, и никто бы этого не заметил, но, чтоб вы знали, не таков Аркадий Перчик, чтобы подводить товарищей!
В январе дела вошли в нормальную колею, «левый» товар снова пошел полным ходом, и Перчик предложил знакомым торгашкам крупную партию новейших брошей «жук», однако те на сей раз отвергли его предложение. Их магезины перестали получать в плановом порядке галантерейную продукцию свиносовхоза, а без документированного поступления части товара они не захотели рисковать головой.
— Ладно, нет, так нет! — решил Перчик и до поры до времени спрятал «жуков» дома, на антресоли. — Пусть пока полежат, а в удобный момент пустим их в продажу.
Незаметно пролетел еще год, а в декабре их цех внезапно проверили люди из районного комитета народного контроля. До истины контролеры не докопались, но обнаружили беспорядок с учетом деталей и полуфабрикатов, вследствие чего совхоз получил предписание в двухмесячный срок закрыть галантерейный цех. Алик и Юра не догадались о том, что контролеры дали соответствующий сигнал милиции, а Перчик обязан был догадаться, но, к сожалению, прохлопал ушами и поплатился за это.
Ни Алика, ни Юру факт закрытия цеха уже не волновал. Оба успели плотно набить карманы, сами решили покончить все дела со свиноводами и, не мешкая, принялись за организацию производства сногсшибательных брошей типа «сердце» под гостеприимным кровом другого совхоза в Волосовском районе.
Потеряв интерес к делу, Алик и Юра лишь изредка появлялись в свиносовхозе, и Аркадий Самойлович вынужденно возглавил комиссию по ликвидации галантерейного производства. Он демонтировал и продал оборудование ходокам из других совхозов, слетевшимся, как вороны на падаль, и с грустью смотрел на пустые помещения, где недавно вовсю пульсировала жизнь, а теперь было мертвым-мертво. Так прошли февраль и март. В начале, апреля Юра выехал во Львов, чтобы сбыть последнюю партию «левых» брошей «жук», а Алик отправился в Москву развлечься и заодно договориться насчет заказа на брошь «сердце», поручив Перчику отрегулировать взаимоотношения с магазином «Тысяча мелочей». Поскольку прежде Перчик не имел ни малейшего касательства к сбыту продукции, Алик на ходу дал ему соответствующие пояснения:
— Разыщите там исполняющую обязанности заведующей электрогалантерейной секцией Надежду Дмитриевну Мишакину и скажите, что вы мой сотрудник. У них, по ее словам, около семисот бракованных «жуков» без булавок, с отвалившимися лапками, выпавшими головками и другими дефектами. По-хозяйски осмотрите товар и решите, как с ним поступить. Если можно отремонтировать, то организуйте это дело, благо деталей у нас навалом, а если нельзя, то составьте акт. Наплевать. Пусть отправляют броши обратно и выставляют счет.
Перчик, сами понимаете, не стал говорить Алику, что знаком с Наденькой Мишакиной, и тут же задумал всучить ей тех «жуков», которые залежались у него на антресоли.
Надя приняла Перчика как родного отца.
— Аркадий Самойлович, дорогой, сколько лет, сколько зим? — радостно воскликнула она, обнимая и целуя Перчика.
— Да, давненько не виделись, Наденька... Как время летит!
На заре их знакомства ей не было и двадцати пяти, а теперь Надя превратилась в солидную даму. Пополнела, покрасилась, и морщинки вокруг глаз появились. Да, жизнь летит на всех парусах: не успеешь оглянуться, как все позади и ты стар, точно земная кора! Раньше Надя Мишакина служила старшим продавцом в другом магазине, неплохо подработала на продаже «левых» бигуди и, должно быть, дрожала, как осиновый лист, когда Перчик погорел и угодил за решетку. Но он ее не выдал.
— Я так рада, что вы зашли! — тараторила Надя, усаживая Перчика в своем закутке и доставая из шкафа коньяк и стопки. — Не смотрите на меня, Аркадий Самойлович, я не так давно овдовела и еще не пришла в себя.
— Как же так? — участливо спросил Перчик.
— Муж обожал рыбную ловлю и прошлой весной провалился под лед на Вуоксе... — Надя всхлипнула. — Тело нашли только через четыре месяца... Ему и сорока не исполнилось!
— Ай-яй-яй, какое несчастье, — сокрушенно заметил Перчик и поднял стопку. — Вечная ему память!..
— Какими судьбами в наши края? — поинтересовалась Надя, когда они выпили по второй. — Случайно или по делу?
— Чтоб ты знала, милая, я работаю старшим механиком в свиносовхозе, где, сама понимаешь, делают броши.
— У Алика? — мигом оживилась Надя. — Что ж вы раньше не приходили? Ведь через мою секцию прошли десятки тысяч ваших «вишен» и «жуков».
— Не знал, Наденька, даже не догадывался... А теперь вот пришел потолковать насчет нашего брака.
Надя показала Перчику бракованный товар и попутно поставила его в известность о том, что директор магазина — жуткая сволочь и кровопийца, присосавшийся к ней, будто пиявка.
— Не поверите, Аркадий Самойлович, он мне дырку в голове проел, почему я договорилась с Аликом на условиях — треть нам, а две трети вам. Надо, говорит, брать пополам, иначе нечего связываться с «леваком», — жаловалась Надя. — Он такой алчный, что, когда я даю его долю, весь светится, дрянь проклятая!
Стоило Перчику заикнуться о своих «жуках», как Надя спросила:
— Сколько штук в партии?
— Тысяча восемьсот пятьдесят, — сообщил Перчик.
— Годится! — Надя довольно причмокнула. — Это мимо Алика?
— Ага.
— Тогда и мой кровосос перебьется, — решительно заявила Надя. — Пусть это останется между нами.
На следующий день Перчик взял Асину хозяйственную сумку и в четыре захода доставил товар в «Тысячу мелочей», честь по чести получив от Нади 1394 рубля 25 копеек из расчета 65% полной стоимости 1100 брошей, а 750 бракованных «жуков» отнес домой, договорившись о том, что быстренько приведет их в порядок и тогда полностью получит причитавшиеся ему деньги.
14 апреля во Львове взяли с поличным Юру, а дальше началась кошмарная бомбардировка. 16 апреля арестовали Алика и опечатали склад галантерейного цеха, 26 апреля ухватили за пышные бока Надю Мишакину, а 14 мая подошел черед самого Перчика. В течение недели его допрашивали с утра до вечера, но вскоре бригада следователей, по-видимому, пришла к выводу, что он не принадлежит к числу центральных фигур, и Перчика надолго оставили в покое. Только в июле за него активно взялся некий майор Пахомов, который, как догадался Перчик, раскручивал торговых партнеров свиносовхоза. Сперва Перчик полностью отрицал свое участие в хищениях продукции галантерейного цеха и какое бы то ни было касательство к преступной деятельности Алика и Юры, но после очных ставок с Надей Мишакиной, подтвердившей факт получения 1850 брошей «жук», и с сотрудницами ее секции, опознавшими в Перчике того хромого гражданина с палкой и хозяйственной сумкой, который неоднократно появлялся в магазине в первой декаде апреля и уединялся с Мишакиной, Аркадий Самойлович изменил показания, но сделал это не так, как хотелось майору Пахомову. Когда Перчик понял, что уличен в эпизоде с брошками в «Тысяче мелочей», он мысленно произвел кое-какие расчеты и с ходу признался в хищении 1100 «жуков» на сумму 2145 рублей. Зачем отрицать то, что очевидно и без твоего признания? Он, разумеется, дурак, но не настолько, чтобы смешить публику в судебном заседании. Пусть этим занимаются толстощекие маменькины сыночки вроде Игоря Петровича, а ему, Аркадию Перчику, это ни с какой стороны не пристало. Что же касается 750 ломаных брошек на сумму 1462 рубля 50 копеек, найденных при обыске у него на квартире, то это совсем другой компот. Во-первых, те брошки — явный брак, устранить его в домашних условиях почти невозможно, это любой эксперт подтвердит. А во-вторых, обязанность доказывать вину у нас в государстве возложена на следствие, майор Пахомов за это зарплату получает, и Перчик, сами понимаете, ему не помощник. Поэтому Аркадий Самойлович бился с Пахомовым, как нубийский лев, утверждая, что не собирался похищать те брошки, а просто не успел сдать их на склад. В глубине души Перчик надеялся, что майор Пахомов подумает, подумает и плюнет на тех «жуков» с высокой елки. Майор — мужчина солидный и, пожалуй, не пойдет на то, чтобы втиснуть в обвинительное заключение сомнительный эпизод. Зачем ему это? Если бы Перчик ни в чем не признался, тогда, сами понимаете, Пахомов бы землю носом рыл, чтобы сколотить как минимум два эпизода его преступной деятельности, а сейчас майору в самом деле наплевать на все. Еще бы, виновность Перчика установлена, а 1100 «жуков» вполне достаточно для обвинительного приговора... Если бракованные «жуки» отпадут, то действия Перчика переквалифицируют с части 3 статьи 92 на часть 2, где наказание мягче и нет конфискации имущества. Ущерб в сумме 2145 рублей с него, разумеется, взыщут солидарно с Надей Мишакиной, но это семечки по сравнению с конфискацией. Дело не в том, что у него накоплены какие-то богатства, ни золота, ни бриллиантов у Перчика сроду не водилось, но не отберут хоть то немногое, что сумели создать Ася и сын Гриша... Как бы в дальнейшем не сложилась его, Аркашки Перчика, беспутная жизнь, им-то за что страдать?
Избранная Перчиком тактика поведения на следствии казалась ему наиболее разумной в той сложной позиции, в какую он, жалкий старый идиот, попал по своей же дурацкой привычке хапнуть столько, сколько не проглотить. Ведь не раз мудрый Фрайштадт разъяснял ему эту азбучную истину и даже приводил в пример какого-то зверька, забыл название, который, прежде чем сожрать добычу, подносил ее к собственной попке и прикидывал, сможет ли она впоследствии выйти оттуда! Да, не зря говорят, что если человек дурак, то это надолго... Но сейчас не время посыпать голову пеплом, надо думать только о том, как спастись.
Была у Перчика одна затаенная мысль, а точнее — надежда, о которой он боялся думать и тем не менее думал ежедневно и ежечасно. Почему он в камере дни считает и весну ждет, как соловей лета? Суть в том, что через каких-нибудь полгода весь народ будет отмечать тридцатилетие Победы над фашизмом и не может случиться такого, чтобы не объявили амнистию. Всем, сами понимаете, не простят их вину, а фронтовикам должны бы простить или по крайней мере скостить срок хотя бы наполовину. В этом смысле часть 2 статьи 92 куда лучше, чем часть 3, она скорее всего попадет под амнистию. Перчик, чтоб вы знали, не привык похваляться своим военным прошлым, однако отвоевал молодцом, получив три ранения и шесть наград. И вышел из войны инвалидом II группы, что тоже, сами понимаете, не подарок...
В разговоре с забавным новичком Игорем Петровичем, который вел себя как настоящий салажонок, Перчик не удержался и кое в чем прихвастнул, рассказывая о своем уголовном деле. Ну, может быть, не столько прихвастнул, сколько приукрасил. Между тем ничего из ряда вон выходящего в его деле не было, а все персонажи, в сущности, ничем не отличались от любых заурядных расхитителей социалистической собственности: сначала запирались, потом признавались, изобличая себя и других, затем отказывались от показаний и вновь отрицали очевидные факты, ссылаясь на провалы в памяти, через некоторое время давали новые чистосердечные признания, отличные от первоначальных, пытаясь по скупым информационным данным очных ставок выявить степень осведомленности следствия и, признаваясь, не наговорить лишнего.
«Подумаешь, герои! — Перчик с презрением сплюнул сквозь зубы. — Куда им, макакам, до великих людей прошлого! Взять, к примеру, покойного Якова Борисовича Гонопольского. Вот был человечище, не чета нынешним слюнявым дельцам. Ни разу в жизни ни одного человека не выдал, хотя сам в полном смысле слова рисковал головой. А эти гниды? Тьфу! Впрочем, и я, Аркашка Перчик, тоже хорош! В моем положении надо сидеть и помалкивать, а я взял и, как хвастливый сопляк, затараторил о своей безотказной везучести. Тьфу!»
4
Ни на прогулке, ни в обед, ни после обеда Игорь Петрович так и не сумел выработать рациональную тактику защиты в единоборстве с капитаном Кабановым, потому что ему вновь изменило хладнокровие. Мощным толчком к очередному всплеску оскорбленного самолюбия послужила прогулка, куда выводили строем, заставляя держать руки за спиной.
«Вот жлобы! — думал Обновленский, с лютой ненавистью глядя на попадавшихся навстречу людей с красными погонами. — Что, интересно, изменится, если я буду держать руки не за спиной, а вдоль тела? Убегу я отсюда, что ли? Нет, не убегу. Значит, это делается нарочно, чтобы продемонстрировать полноту их власти. Как же иначе, раз они здесь начальники, а мы для них — ничтожества!»
Игорь Петрович рассчитывал, что на прогулке он установит контакт с интеллигентной публикой, но, как по пути объяснил ему всезнающий Перчик, обитателей каждой камеры выводят в тесные отсеки внутреннего дворика таким образом, чтобы они ни при каких обстоятельствах не могли увидеть соседей. А для того чтобы из отсека в отсек не перебрасывали записки или какие-либо предметы, поверх глухих кирпичных стен была натянута мелкая железная сетка.
«Оголтелое издевательство! — разъярился Обновленский. — Нет, я этого так не оставлю, они у меня заплачут горькими слезами!»
Он принялся расхаживать по отсеку, однако ходьба не принесла облегчения. Во-первых, ему мешали Хамалетдинов и Седенков, двигавшиеся настолько медленно, что Обновленскому постоянно приходилось укорачивать шаг, чтобы не наступать им на пятки, а во-вторых,косо срезанные голенища резиновых сапог быстро натерли кожу под коленками. Игорь Петрович пожалел, что на нем нет кальсон, и, хмурясь, остановился подле Перчика.
— Какой воздух! — взволнованно произнес Перчик, задрав лысую голову к сумрачному ленинградскому небу. — Между нами, девочками, говоря, прямо медовый... Как вы находите, Игорь Петрович?
— Воздух как воздух, — с брезгливой миной буркнул Обновленский.
— С Невы прохладой тянет...
— Э, вы случайно не знаете, почему у меня отобрали нормальную обувь и взамен выдали эти безобразные чеботы? — подворачивая брюки, кисло осведомился Обновленский. — Чтобы еще болезненнее унизить мое человеческое достоинство, да?
— Зачем вы так, Игорь Петрович? — мягко возразил Перчик и перевел взгляд на собеседника. — В изоляторе есть устав, а в уставе записано, что положено и что не положено.
— Ну, допустим, я кое-как понимаю, что при желании можно повеситься на брючном ремне или на галстуке, но при чем тут обувь или часы? — гневно вопрошал Обновленский. — Скажите, вы хоть раз слышали, чтобы кто-то покончил жизнь самоубийством с помощью ботинка?
— Наивный вы юноша! — Перчик добродушно усмехнулся. — Еще как слышал... Чтоб вы знали, мон шер, в обуви имеется специальная металлическая стелька, называемая супинатором. Она обеспечивает жесткость изгиба подошвы в районе каблука. Это известно даже детям.
— Вот как?.. Ну и что из этого?
— А то, что, если супинатор заточить, им можно зарезать не только себя, но и кое-кого из персонала. Администрации это не по душе, она, сами понимаете, обязана заботиться об охране труда.
— А часы? — не сдавался Обновленский. — В них тоже есть колюще-режущие части? Всякие там колесики и пружинки?
— Часы — это ценность, — с готовностью пояснил Перчик. — Их занесли в вашу личную карточку и...
Обновленский не дослушал до конца и снова зашагал по отсеку. Перчик — жалкий человек, о чем с ним говорить? Да и зачем? Что у них общего? Ровным счетом ничего. Пройдет несколько дней или, в самом худшем случае, недель, правда неизбежно восторжествует, справедливость будет восстановлена, и Игорь Петрович вернется домой целым и невредимым. Здесь он немного похудеет, но это пойдет на пользу. Он уже три года вновь холост и питается у мамы, которая потрясающе готовит. Настолько вкусно, что не оторваться. В свое время его бывшая жена Инна кормила семью второсортными полуфабрикатами, этого добра, как известно, много не съешь, а за маминым столом чертовски трудно удержаться от добавки... Обновленский проглотил обильную слюну и поморщился. Промелькнувшее воспоминание об Инне изменило первоначальное направление его мыслей. Нет, к черту, он теперь не женится на самой Мирей Матье, даже если та ему в ножки поклонится. Зачем? Женщин у него больше чем достаточно, а разнообразие куда приятнее, чем нудное постоянство. Инна никогда не понимала Игоря Петровича и пыталась наложить вето на его мелкие шалости, чего он, конечно, допустить не мог и поэтому после очередной размолвки демонстративно хлопнул дверью. Лучше платить алименты, чем всю жизнь страдать от диктаторских замашек Инны. Сперва его выбор пал на стоматолога Таню, которая страшно надоела ему фантастической разговорчивостью, а месяц спустя он познакомился с Тамарой и вскоре понял, что нашел свой идеал. У Тамары была умопомрачительная фигура, потрясающая физиономия, шелковистые волосы цвета льна и чудный характер. Она работала манекенщицей, и говорить с нею было не о чем и, главное, незачем. От Тамары он ждал иных радостей и, надо честно признаться, получал все, что называется, полным рублем. Обновленский вспомнил запах волос Тамары, и у него запершило в горле. Хотел бы он знать, как Тамара отнеслась к тому, что его посадили за решетку. Заплакала?
Раздражение постепенно сошло на нет, и к концу прогулки Обновленский минут десять взвешивал все «про» и «контра», а по возвращении в камеру на него снова пыльным мешком навалилась черная меланхолия. Господи, за что он, подлинный интеллигент, должен испытывать физические и нравственные страдания? Всю жизнь помогал людям, а его, как паршивого пса, взяли за шкирку и швырнули в застенок! Где справедливость? Где в конце концов правда?.. Совершенно ясно, почему взят под стражу Седенков. Он отнял жизнь у другого человека! Так же ясно, почему здесь очутился Перчик. Пусть он симпатичный человек, но он что-то крал! И Хамалетдинов крал! А Обновленский? Он ни разу в жизни не брал даже копейки чужих денег! Однажды он нашел на лестнице в платной поликлинике чей-то кошелек с деньгами и без колебаний отдал его в регистратуру. И после этого у них хватило наглости запихнуть его в одну камеру с матерыми преступниками, для которых нет ничего святого! Кошмар! А что будет с его бедной мамой? Об этом кто-нибудь подумал?
Во время обеда Игорь Петрович быстро проглотил миску жидкого варева, почти не ощутив его вкуса, и принялся за кашу. Его соседи ели, не обращая внимания друг на друга. Хамалетдинов громко чавкал и заедал кашу ломтем хлеба с колбасой, Седенков машинально подносил ложку ко рту, а Перчик время от времени отставлял миску и, довольно мурлыкая, натирал хлеб чесноком. Раздражение разгорелось в Игоре Петровиче с новой силой.
«Разве это люди?! — мысленно воскликнул он. — Жрать и ничего не предложить товарищу?! Где у них стыд и совесть?»
В этот момент Перчик протянул Игорю Петровичу одно печенье. Но это было все равно, что слону дробина. Продолжительное время Игорь Петрович с переменным успехом охолаживал себя и примерно к двум часам обрел наконец способность хладнокровно оценить сложившееся положение.
Итак, пока что он сидит в камере и лишен возможности активно влиять на ход дела. Это, конечно, плохо, но не трагично, так как список с адресами и фамилиями всех больных есть у Бориса Борисовича Бархатова. Позавчера они определенно условились, что Боря уговорит свою жену Зину сходить домой к тем больным, которые признались лейтенанту Кормилицыну. Ее задача сводится к тому, чтобы пробудить у малодушных больных забытое чувство благодарности к доктору и помочь перебороть страх перед милицией. Если Зинины доводы окажутся недостаточно эффективными, они решили пустить в ход легенду о бедной старушке матери Игоря Петровича, а если и это не подействует — выложить на стол последний козырь. Дело в том, что если доктора Обновленского все-таки привлекут к уголовной ответственности за взятки, эти женщины тоже не останутся в стороне. Раз Игорь Петрович взяткополучатель, то они взяткодатели, а их знакомые, рекомендовавшие Обновленского, — посредники и подстрекатели к взяточничеству. Когда Зина выложит им всё это, они, надо полагать, запоют по-другому. Еще бы, мало того, что загремят сами, так потащат за собой ни в чем не повинных людей, которые по доброте душевной порекомендовали им хорошего врача... Должна же быть у них совесть? Даже если нет, мужья или родители им быстро вправят мозги!
Гм, хорошо... А теперь продумаем ситуацию с другой стороны, по существу обвинения. Итак, взятками считаются только те деньги, которые он брал у больных в период временного исполнения обязанностей Анны Иосифовны, когда старушенция болела, а потом уходила в отпуск. Неужели они думают, что, замещая завотделением, Игорь Петрович брал деньги за помещение в больницу? Если это так, то все складывается не худшим образом. Во-первых, всех больных, плативших ему деньги, он всегда оперировал сам, это точно. А во-вторых, Анна Иосифовна подтвердит, что ни разу не отказывала Обновленскому в том, чтобы помещать в отделение его больных. Иными словами, он брал деньги как лекарь за свое мастерство, а не как чиновник, торгующий чем-то, обусловленным его служебным положением должностного лица... Ну-ка, ну-ка, что-то, похоже, вырисовывается. Судьи, надо надеяться, не такие тупоголовые ослы, как капитан Кабанов, и если все это изящно преподнесет знаменитый адвокат — настоящий мастер юриспруденции, то они, конечно, ни за что на свете не осудят Игоря Петровича. И, наконец, самое последнее. Даже если он, Обновленский, нарушил какой-то закон, то сделал это нечаянно, а не нарочно. Он же не знал, что нельзя было брать деньги в тот период, когда ему поручили замещать Анну Иосифовну. Как это раньше не пришло ему в голову? Надо поскорее найти себе адвоката, который разорвет паутину беззакония, сплетенную мерзким тарантулом — капитаном Кабановым!
Игорь Петрович поднял голову и посмотрел на соседей. Седенков и Хамалетдинов застыли, как истуканы, а Перчик читал книгу и вполголоса мурлыкал куплеты на тему о двух гитарах.
— Скажите, Аркадий Самойлович, у вас хороший адвокат?
— У меня нет адвоката, Игорь Петрович. Да и зачем он мне?
— Как зачем? — удивился Обновленский. — Он же... Хотя вы все законы назубок знаете не хуже профессионалов.
— Суть не в том, Игорь Петрович. Просто-напросто адвокаты появляются на сцене только по завершении следствия. А вам, между нами, девочками, говоря, требуется юридический совет?
— Э, может быть, — уклонился от прямого ответа Обновленский. — Вы знаете всех знаменитых адвокатов?
— Знаю, — с достоинством ответил Перчик. — Кое-кого лично, а некоторых понаслышке... Хотите заблаговременно подобрать себе адвоката из «золотой десятки»? Что же, мысль правильная.
— Что это за «золотая десятка»? — полюбопытствовал Обновленский, заинтригованный загадочным термином.
— Так в пятидесятых годах называли самых лучших адвокатов города. Чтобы вы знали, даже не самых лучших, а лучших из лучших. С тех пор, сами понимаете, много воды утекло, кое-кто умер, но по сей день, к примеру, работают Бобровский, Колодизнер, Кизелов, Панхасик, Браунталь, Трофимов и, кажется, Милославский... — Перчик уставился в потолок и задумчиво загибал пальцы правой руки.
— Кого же из них вы намерены пригласить? — уточнил Обновленский.
— Кто я такой, Игорь Петрович? — доверительно спросил Перчик. — Чтоб вы знали, я маленький человек, мелкая сошка. Зачем мне Бобровский или Кизелов? Чтобы меня ненароком приняли за другого? Или чтоб моя Асечка громче плакала, слушая его душещипательную речь?.. Коля, кто тебя защищает?
Услышав свое имя, Седенков вздрогнул и тут же ответил:
— Матвей Филипыч Цыпкин.
— Вот его и я приглашу. Кто слышал о Цыпкине? Никто не слышал. Такой адвокат для меня сущее золото. Вам понятно?
— Понятно, Аркадий Самойлович. А кого вы мне посоветуете?
— Вам бы я посоветовал пригласить Колодизнера. Он дока по части любых дел о взяточничестве, будь то дача или брача взятки. Что вас еще интересует, мон шер?
— Скажите, Аркадий Самойлович, если, допустим, какой-то человек совершил нечто противозаконное, даже не подозревая о том, что за это судят, он ведь не считается преступником?
— К сожалению, считается... Незнание закона, Игорь Петрович, не освобождает от ответственности. При вынесении приговора суд принимает во внимание степень осознанности действий обвиняемого, но от этого преступление не превращается в проступок. Я, кажется, огорчил вас своим ответом?
— Да, прямо скажу, не обрадовали... — Обновленский вздохнул. — Угостите меня сигаретой, Аркадий Самойлович?
— Между нами, девочками, говоря, это уже одиннадцатая!
Ну и жмот этот Перчик, брезгливо поморщился Обновленский, каждую сигарету считает. Вот пачка вонючей «Примы» стоит четырнадцать копеек, а он трясется над ней, точно Плюшкин. Эх, люди, люди, кто вас придумал такими?.. Нет, он, Обновленский, долго не выдержит в этом, если так можно выразиться, изысканном обществе. Как бы от них избавиться? Идея! Игорь Петрович потребует, чтобы ему предоставили отдельную камеру, и, таким образом, избавится от необходимости лицезреть этих подонков общества. Скучно ему не будет, ибо он воспользуется здешней библиотекой и посвятит досуг изучению иностранных языков. Он давно собирался отправиться в туристическую поездку, чтобы побывать в Монте-Карло, а с активным знанием языка можно понять в сто раз больше, чем с помощью одной затурканной переводчицы на двадцать пять любопытных туристов. Что же касается трудностей, то Игоря Петровича они не пугают. Он где-то читал, что революционеры в царских застенках укрепляли дух неустанной работой над собой...
— Вы не подумайте, что я пожалел сигарету, — после паузы заметил Перчик. — Для меня курево важнее хлеба. На выписку я беру пятьдесят пачек в месяц и едва-едва укладываюсь.
— Я ваш неоплатный должник, Аркадий Самойлович, — любезным тоном ответил Обновленский. — Не представляю, что бы я делал без вашей помощи... Вы случайно не знаете, большой этот изолятор?
— Очень большой, Игорь Петрович, в нем 999 камер.
— Интересно, почему, не тысяча?
— Говорят, строили на тысячу, но по окончании строительства автора проекта замуровали в одной из камер.
— Черт знает что! — Обновленский вздрогнул от ужаса. — Что хотят, то и творят! Возмутительно!
— Да, мон шер, возмутительно, — спокойно согласился Перчик. — Человек строил, старался угодить заказчику, а вместо благодарности нашел свою смерть. Фрайштадт прав: часто мы надеемся на одно, а получаем совсем другое...
— А что же семья? — перебил Обновленский. — Неужели не протестовала, не писала в Москву и не подняла всех на ноги?
— Кто их знает? — Перчик пожал плечами. — Давно это было. Ведь тюрьма построена при Александре II!
— И все камеры одинаковые?
— Примерно одинаковые, Игорь Петрович. В мужских сидят по четыре — шесть человек, в женском корпусе по-другому — двадцать пять в камере. А что?
— Так, ничего... Значит все камеры общие, отдельных нет?
— Есть и одиночки...
— Не знаете, кому подать заявление?
— Этого, думаю, будет маловато, — Перчик засмеялся. — Когда вас приговорят к смертной казни, после суда сразу получите одиночку.
— Меня казнить? — дико взвизгнул Обновленский. — За что? Я честный человек!
— Ну-ну, распетушился... Вы что, шуток не понимаете?
— Ничего себе шутки! — не сразу успокоился Обновленский. — От подобных шуток с ума сойдешь.
— Это у вас с непривычки, — дружелюбно объяснил Перчик. — Так вернемся к теме беседы. Одиночки, мон шер, в нашем дорогом изоляторе являются привилегией смертников. Там они ждут решения своей участи.
— Аркадий Самойлович, у вас не найдется писчей бумаги? — спросил Обновленский, пытаясь изменить направление разговора. — Хочу, знаете ли, набросать несколько писем друзьям и родственникам.
— Мон шер, о чем вы говорите? — Перчик сокрушенно покачал головой. — Какие тут письма? Чтобы вы знали, подследственные в изоляторе правом свободной переписки не пользуются. Понятно?
Обновленский сухо кивнул и посмотрел в окно. Итак, идея с отдельной камерой лопнула, надежда на помощь адвоката откладывается на неопределенный срок, и в довершение всех бед его полностью лишили связи с внешним миром. Черт бы побрал Бархатова с его дурацким советом написать жалобу на усатого лейтенанта! Не сделай он такой несусветной глупости, все осталось бы по-прежнему, и Игорь Петрович спокойно довел дело до логического конца. Страшно подумать... Что же с ним будет? Значит, незнание закона не освобождает от ответственности. Хорошо, что он никогда не называл определенной суммы и брал деньги только в конвертах. Каждая больная платила ему от пятидесяти до ста рублей в зависимости от того, сколько называли знакомые. Платили вперед, но может ли это иметь значение? Причем платили ему добровольно, понимаете, д-о-б-р-о-в-о-л-ь-н-о! Никто никогда не докажет, что доктор Обновленский хотя бы единожды принудил больную к даче подарка. Кстати, массу подарков, правда не в денежном, а в натуральном выражении, он получил от совершенно незнакомых больных и от их родственников. Ну что в том плохого? Ведь у него золотые руки. Почему он не должен принимать подарки? Ведь берут все! И берут не от нужды, а потому что так принято...
А может быть, все-таки не надо было брать? Его отец и мать — тоже прекрасные медики — и не брали. Но ведь жили они при других порядках, ютились в переполненной коммунальной квартире, по утрам выстаивали очередь в уборную, перебивались с хлеба на квас, нюхали цветочки на загородных массовках и не помышляли о большем. Теперь другие времена. Игорь Петрович, слава богу, узнал жизнь на уровне мировых стандартов. Чего ради он должен влачить жалкое существование и отказываться от элементарных радостей жизни, от автомобиля, фирменной одежды, женщин, ресторанов, дорогих курортов и прочих светских развлечений? Что он — монах? Черт возьми, почему начальству не приходит в голову, что для разных людей должны быть и разные правила жизни? Пусть те, кто умеет довольствоваться малым, живут на зарплату и не берут того, что само плывет в руки, это их личное дело. А он брал, потому что нуждался. На каком основании шофер автобуса после шестимесячных курсов зарабатывает намного больше кандидата медицинских наук? Должны же, наконец, понять эту несуразность! А если не понять, то по крайней мере учесть данное обстоятельство... Но главное, пожалуй, не в этом. Скольким тысячам людей он оказывал помощь без всякой надежды на вознаграждение? Их и сосчитать невозможно. Они живы, здоровы, счастливы, работают, рожают детей и со слезами на глазах вспоминают Игоря Петровича, которому обязаны буквально всем. Это ли не лучшее подтверждение того, что сам доктор Обновленский — человек на своем месте, полезный член общества, по заслугам окруженный уважением коллег и признательных пациентов? Разве бывают на свете абсолютно безупречные люди? Чушь собачья, таких нет в помине! Каждый из нас состоит как бы из двух половинок: одна хорошая, а другая — плохая. Суть, конечно, не в конструкции человеческой личности, а в том, что мы, порой не отдавая себе отчета, одновременно творим добро и зло. Но когда рано или поздно наступает момент расплаты за все, нами содеянное, кто-то обязан подытожить не только зло, но и добро. Разве не так? Почему в древности правосудие изображалось в виде весов? Именно поэтому, здесь не может быть двух мнений. Надо полагать, древние были не глупее нас. Они бы ни за что не посадили Игоря Петровича в следственный изолятор вместе с Седенковым, Хамалетдиновым и Перчиком. Интересно, как бы они с ним поступили? Очень просто: отобрали бы незаконно полученные деньги и выпороли бы, как Сидорову козу, чтобы впредь не совершал глупостей. Разве не так? И отправили бы на прежнее место работы, раз он, Обновленский, признанный мастер своего дела. В результате у Игоря Петровича пострадали бы только карман и попенгаген, а это, если задуматься, сущий пустяк по сравнению с тем, что готовит ему капитан Кабанов. Ему невдомек, что люди раскошеливаются не от широкой души, а желая получить товары и услуги высшего качества. Боже, как он ненавидит этого дурня! Если Игорю Петровичу повезет и ему попадутся интеллигентные судьи, они, надо полагать, поймут, что он ни в чем не виноват. Ну, а в самом наихудшем случае он учтет точку зрения Перчика и авторитетного мыслителя по фамилии Фрайштадт, Признаться ведь никогда не поздно...
— Аркадий Самойлович, будьте добры, дайте мне еще одну сигаретку, — попросил Обновленский. — Это будет двенадцатая.
5
Хаким Абдрашитович Хамалетдинов как в детстве, так и во взрослом состоянии не брал в руки ни газет, ни книг, читал только афиши, в обыденной обстановке, мягко выражаясь, не страдал многословием, а его творческая работа вообще не требовала произносить какие-либо слова. Следователь, на свою беду принявший к производству его уголовное дело, вначале удивлялся, затем негодовал, подозревая Хамалетдинова в тонком коварстве, а позднее смирился и мало-помалу привык к Хакиму Абдрашитовичу, за три месяца их знакомства говорившему только «да» или «нет». В конце предварительного следствия Хаким Абдрашитович ни с того, ни с сего выговорил целое предложение: «Шайтан попутал!», чем привел следователя в неописуемый восторг.
Элементарное мышление свойственно всем без исключения высшим животным, суть только в том, на каком уровне и в каких формах оно проявляется. Мышление Хамалетдинова осуществлялось, бесспорно, на биологическом уровне и носило в основном чувственные формы, сводясь к ощущениям, восприятиям и представлениям.
Наиболее часто Хамалетдинову виделся аттракцион «Мотогонки на вертикальной стене», вместе с которым он тридцать лет кочевал из города в город, подобно Дзампано из кинофильма Феллини «Дорога». Сам по себе аттракцион снаружи походил на балаганчик, но в действительности общим у них было только шапито — разборная конструкция, состоявшая из мачты, лебедки, тросов, креплений и брезента. Основной частью аттракциона служила деревянная бочка диаметром 10,4 метра и высотой 5 метров, в которой происходили мотоциклетные гонки. Когда труппа прибывала в очередной город, она оформляла разрешение на установку аттракциона (обычно или на рынке, или в городском парке культуры и отдыха) и тут же приступала к сборке. Сперва на землю укладывались мощные лаги, затем из пятнадцати секций собирали бочку, стягивали ее специальными металлическими болтами и тросами, после чего внутри настилали дощатый пол, а напоследок — маленький трек шириной всего-навсего 75 сантиметров. Когда эта работа заканчивалась, в центре бочки устанавливали мачту с лебедкой и переходили к творческо-коммерческой деятельности. С помощью магнитофона и громкоговорителей в аттракцион зазывали зрителей и давали представление. По лестнице, у которой стоял контролер, отбиравший входные билеты, зрители поднимались на галерею, расположенную вокруг бочки, где они могли стоять в три ряда, не мешая друг другу, ибо сама галерея была ступенчатой конструкции. Когда собиралось достаточно народа, открывалась наружная дверь, в бочку входил конферансье, объявлявший о начале аттракциона, и представлял зрителям рядового артиста-мотоциклиста. Артист раскланивался, заводил мотоцикл, делал круг по полу, круг на треке и взлетал на вертикальную стену, где ездил между белой и красной линиями, время от времени отрывая руки от руля мотоцикла. Заезд продолжался примерно тридцать секунд, после чего артист слезал с мотоцикла, выключал зажигание и снова раскланивался под рев и аплодисменты публики. Затем конферансье объявлял выступление художественного руководителя аттракциона, который взлетал на стену с ходу, миновав лишь половину длины трека, ездил вообще без рук, вставал во весь рост на полном ходу, перекидывал ногу через мотоциклетную раму и проделывал ряд других манипуляций, демонстрируя ошеломленным зрителям виртуозную технику езды и завидное бесстрашие. Художественный руководитель выступал чуть меньше минуты, раскланивался, и тут же конферансье объявлял о начале мотогонок. Рядовой артист выезжал первым, а вслед за ним стартовал художественный руководитель, который в отличие от своего помощника ехал не по прямой, а делал «горки» и «бочки», имитируя набор скорости, после чего обгонял его, что и служило кульминацией зрелища. Все представление занимало не более десяти минут, но за свои тридцать копеек зрители получали массу удовольствий и острых ощущений: мотоциклы работали без глушителей, из выхлопной трубы непрерывно вылетал сноп пламени, поражавший воображение не только подростков, но и взрослых обывателей, над бочкой стоял адский треск и грохот, а когда художественный руководитель делал "горку", публика в ужасе ахала, пребывая в твердой уверенности, что артист непременно убьется насмерть и за компанию прихватит с собой два-три десятка местных граждан.
Труппа обычно бывала немногочисленной и состояла из семи-восьми человек, живших тесным, обособленным мирком. Кроме художественного руководителя, конферансье, контролера и рядового артиста-мотоциклиста, в нее входили механик, шапитмейстер, администратор и кассир, а уборщицу и рабочих на сборку и разборку аттракциона, как правило, нанимали на месте. Администратор занимался внешними сношениями, механик мыл и чистил мотоциклу, а шапитмейстер непрерывно ходил вокруг бочки, подтягивал болты крепления секций и в оба глаза следил за тем, чтобы мальчишки не забивали в конструкцию гвозди. Что касается функций кассира, то они были традиционными и в комментариях не нуждаются.
Хамалетдинов смолоду попал в одну из таких трупп и прошел в ней путь от шапитмейстера до художественного руководителя и владельца представления. Работая шапитмейстером, а впоследствии механиком, Хаким Абдрашитович получал сущие гроши, но цепко держался за место, ибо желал во что бы то ни стало разбогатеть. Через десяток лет он стал рядовым артистом-мотоциклистом и его заработок возрос в пять раз, но он по-прежнему дрожал над каждой копейкой и без устали копил денежки, терпеливо дожидаясь своего часа. И дождался. Однажды его шеф с похмелья сел на мотоцикл, чего делать ни в коем случае не следовало, на приличной скорости потерял ориентировку, сорвался со стены и покинул бренную землю в машине «скорой помощи» по дороге в больницу. Дело есть дело, и после похорон Хамалетдинов за десять с половиной тысяч рублей новыми деньгами выкупил у вдовы аттракцион со всеми потрохами. Бочка была далеко не новой, хотя и в рабочем состоянии, брезент шапито никуда не годился и в дождливую погоду пропускал воду (что противоречило элементарным требованиям техники безопасности), а мотоциклы, костюмы и обе бытовки, в которых жили и питались члены труппы, оставляли желать много лучшего, но выбора у Хакима Абдрашитовича не было — желающих приобрести аттракцион хоть отбавляй, и, не используй он своего преимущественного права на покупку, не видеть бы ему вожделенного богатства до самой смерти.
Сделавшись безраздельным хозяином, Хаким Абдрашитович вздохнул полной грудью и повел дело по-своему. В первый же год он по сватовству женился на миловидной девушке, по имени Халида, бывшей на двадцать один год моложе его, и взял в качестве помощника своего сына Халима, который после армии работал на заводе, учился в вечернем техникуме и прежде не помышлял о мотоциклетно-артистической деятельности. За два месяца он научил Халима ездить по вертикальной стене, купил за полторы тысячи 240 квадратных метров брезента и начал гастроли.
Аттракцион заработал на всех парах, и доходы Хакима Абдрашитовича подскочили до внушительной суммы — две тысячи рублей ежемесячно. Любопытная подробность: при норме 10 сеансов в день он умудрялся делать 15—18, работал без выходных и за свои выступления получал в среднем семьсот рублей, а остальное шло к нему в карман в виде амортизации аттракциона, исчисляемой в зависимости от количества отработанных сеансов.
Казалось бы, любой нормальный человек удовлетворится подобным вознаграждением, но Хаким Абдрашитович был патологически жаден, ему всегда и всего было мало. Он оформил свою жену кассиром, а жену сына — контролером и развил бурную деятельность с так называемыми «обратными билетами».
Согласно действующей инструкции контролер зрелищного предприятия, пропуская публику на представление, обязан порвать предъявленный входной билет и бросить обрывки в урну, но невестка Хамалетдинова стала поступать иначе — половину билетов рвала, а половину сминала. В конце дня содержимое урны тщательно сортировалось, и целые билеты ночью разглаживались горячим утюгом, после чего продавались заново. По плану на каждом сеансе должно было присутствовать 100 зрителей, вместимость же галереи позволяла одновременно запускать туда втрое больше. Поэтому труппа Хамалетдинова не только перевыполняла финансовый план вследствие дополнительных сеансов, но и давала владельцу за счет «обратных билетов» регулярный доход, размер которого колебался от трех до четырех тысяч в месяц.
Примечательно, что все члены семьи Хамалетдинова не имели от этого ни копейки, а сам Хаким Абдрашитович купил двухэтажный дом в Сиверской и продолжал копить деньги. В сберкассы он никогда не верил и прятал свои богатства в потаенных местах, точных координат которых не знала ни одна живая душа. Халиду он считал идиоткой, а Халима презирал, ненавидел и боялся. Тот читал книги, ходил в кино и пытался вслух рассуждать о смысле жизни и предназначении человека, чего Хаким Абдрашитович понять, разумеется, не мог.
Несмотря на свою несомненно мужественную профессию, Хаким Абдрашитович трусил и всерьез опасался, что Халим может убить его и завладеть богатством. Как это ни странно на первый взгляд, страшила Хамалетдинова не смерть, а утрата денег. Поэтому уже через год они с сыном жили в разных вагончиках и питались раздельно.
Так труппа работала больше пяти лет — до тех пор, пока на ее горизонте не возникла импозантная фигура тридцатипятилетнего красавца Насруллы Хидиятуллина, двоюродного брата Хакима Абдрашитовича по материнской линии. Одетый с иголочки во все импортное и дочерна загоревший под лучами жаркого бакинского солнца, родственник попросился в труппу и был зачислен на должность шапитмейстера, для чего его предшественника уволили за нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в полуторамесячном запое. Приступив к выполнению новых обязанностей, остроглазый Насрулла мгновенно постиг сущность мотоциклетного бизнеса и месяц спустя внес ценное предложение, обратив внимание владетельного кузена на не совсем приятное обстоятельство: после термообработки утюгом «обратные билеты» приобретают ненужный блеск и при внезапной проверке кассы могут пустить под откос все предприятие Хамалетдинова. Для повышения безопасности аттракциона Насрулла предложил укладывать «обратные билеты» между двумя обрезками струганых досок, а сами обрезки на ночь зажимать в тиски. Идея в тот же день получила практическое осуществление, а Насрулла стал любимцем Хакима Абдрашитовича.
Прошло еще полгода, и Насрулла, быстро понявший, что при надлежащем размахе аттракцион «Мотогонки на вертикальной стене» ни в чем не уступит хорошему золотоносному участку, предложил Хамалетдинову проект коренной реорганизации дела. Во-первых, пора кончать с «обратными билетами» и переходить на «левые», каковые он, Насрулла, берется доставать в любом количестве. Во-вторых, уважаемый Хаким напрасно экономит на переездах, работая в городах, утративших активный зрительский интеpec к мотоциклетному шоу. Если быстро перемещаться с места на место, сборы поднимутся, а милиция не успеет принюхаться к бродячим артистам. Все равно переезды оплачивает филармония, под чьей вывеской они работают, а небольшие побочные расходы — мелочь, которой выгодно пренебречь. В-третьих, уважаемый Хаким старомоден и не смыслит в рекламе: его афиши клонят в сон, а громкоговорители — недостаточно эффективное средство привлечения публики. Насрулла предлагает завести обезьян, которых нужно держать около зазывательного мотоцикла, а еще лучше — в положении за рулем. Тогда все идиоты, а их несметное количество, будут уверены в том, что обезьяны принимают непосредственное участие в мотогонках, чего нет даже у великого Филатова. И еще одно: надо резко уменьшить численный состав труппы, чтобы там не осталось чужих глаз.
Хаким Абдрашитович понял — будет большой навар! — и без промедления согласился на все при следующем условии: помимо заработной платы и амортизационных отчислений, он получит две трети чистого дохода, а Насрулла — одну треть. Реорганизация началась — из труппы были уволены администратор, конферансье и механик, сам Хаким Абдрашитович по-прежнему исполнял обязанности художественного руководителя аттракциона, Насрулла стал администратором и в то же время шапитмейстером, Халим — рядовым артистом-мотоциклистом и по совместительству механиком, его жена — контролером-уборщицей, а Халида превратилась в кассира-диктора. Дабы не возбуждать недовольства нещадно эксплуатируемых низов, Насрулла тайком от Хакима Абдрашитовича разрешил женщинам возобновить манипуляции с «обратными билетами» с условием, что дополнительные доходы они будут делить с ним пополам. В итоге «вне игры» остался только Халим, по-прежнему проводивший все свободное время за книгами.
Случилось так, что аттракцион в начале 1974 года попал в поле зрения правоохранительных органов. Поверхностная проверка его хозяйственной деятельности очевидных нарушений финансовой дисциплины не выявила, ибо Насрулла, предвидевший такую опасность, был готов к ней, однако кое-какие сомнения остались, и отныне вслед за труппой из города в город шла милицейская ориентировка. В Смоленской области голубое небо над головами мотобизнесменов заволокло тучами, в Псковской послышались отдаленные раскаты грома, а в Ленинградской разразилась буря, потопившая пиратский бриг предприимчивых актеров. Милиция с помощью представителей общественности в течение двух недель держала аттракцион под своеобразным микроскопом, скрупулезно сосчитала число зрителей, сопоставила полученные данные с рапортичкой Насруллы и объявила хамалетдиновцам шах и мат. Ничего не подозревавшие Хаким Абдрашитович и Халида были взяты под стражу, а чуткий Насрулла сумел ускользнуть от ареста и с тех пор находился в бегах. Еще в начале смоленских гастролей его что-то встревожило, он приказал приостановить фокусы с «обратными билетами» и тем самым вывел из-под обстрела жену Халима.
В следственном изоляторе Хамалетдинов оставался самим собой, и на его настроение никак не повлияли ни ход следствия, ни даже его крайне неблагополучное окончание. А следователь сумел-таки размотать почти всю катушку и до конца разоблачить аферу с «левыми» билетами, установив близкий к истинному размер материального ущерба, нанесенного государству лихими артистами мотоциклистами и их пособниками с момента реорганизации аттракциона и превращения Насруллы во всесильного администратора-шапитмейстера.
Хамалетдинов никогда не придавал существенного значения пище и бытовым условиям, а суд, наказание и все, так или иначе связанное с этим, его нисколько не страшили. В камере Хакима Абдрашитовича угнетало вынужденное безделье, отсутствие обезьян и любимого мотоцикла «Индиан» с красной рамой и белым бензобаком. Но вскоре он приспособился к новой среде обитания и был всем доволен. В те дни, когда его не водили на допросы, он с открытыми глазами неподвижно сидел на нарах, курил и мысленно воспроизводил то, что обычно делал на воле: заправлял «Индиан» бензином и маслом, регулировал зажигание, подтягивал ослабевшие элементы крепежа, менял покрышки и подолгу носился на вертикальной стене, чтобы как следует их «прикатать». Зрителям ведь невдомек, что «на новых покрышках артист-мотоциклист не может выполнить ни одного сколько-нибудь сложного трюка до тех пор, пока они не приработаются к доскам бочки. Незаметно наступал ужин, после которого Хаким Абдрашитович видел аттракцион в действии. После отбоя ему виделись деньги, много денег. Плотные пачки, тщательно упакованные в полиэтиленовые мешочки, были сложены в старинный, окованный железом сундучок. Этот сундучок, где лежало ровно восемьдесят тысяч рублей, он в июле прошлого года зарыл неподалеку от собственного дома, но не на своем земельном участке, а в густом перелеске. Место было песчаное, сухое, поросшее сосняком, так что деньги не отсыреют и будут в полной сохранности. При аресте и последовавшем за ним обыске милиция обнаружила в его матрасе и в бочке аттракциона (между полом и наклонными досками трека) почти семнадцать тысяч рублей, однако с этой потерей Хаким Абдрашитович кое-как примирился. Пропавших денег не вернешь, но остальное шакалы никогда не найдут!
Правда, иной раз Хамалетдинов испытывал некоторое беспокойство. «Как там мои обезьяны?» — спрашивал он себя и недовольно хмурился. Когда по рекомендации Насруллы они завели двух обезьян-макак, Хаким Абдрашитович моментально подружился с ними. Обе обезьяны — Садык и Сальман — были приветливыми, в меру застенчивыми и в отличие от остальных членов труппы неболтливыми. Они быстро привыкли к молчаливому владельцу аттракциона и почитали его, как своего вожака. Вскоре Хаким Абдрашитович стал уделять обезьянам практически весь досуг: с ними он вдруг почувствовал себя по-новому, полностью раскрепощенным. Сидя втроем по вечерам, они подолгу молчали и смотрели в глаза друг другу, без лишних слов понимая сложную структуру нашего мира, отраженную в сознании каждого по-своему. И теперь в камере следственного изолятора перед ним то и дело возникали честные глаза Садыка и Сальмана, безмолвно вопрошавшие о том, почему их разлучили. Хамалетдинов еще больше хмурился и начинал ворочаться с боку на бок. Причина беспокойства художественного руководителя аттракциона объяснялась тем, что в наших широтах обезьян не страхуют, а их смерть усложнит и без того запутанное дело. Тревожило его и то, что аттракцион могут отобрать. Однако это опасение прошло после знакомства с адвокатом, принявшим на себя защиту интересов Хакима Абдрашитовича. Халим поручил вести его дело Бобровскому, который при первой же встрече мимоходом поставил своего клиента в известность о том, что сын обратился в народный суд с гражданским иском о разделе имущества. Сперва Хаким Абдрашитович недобро сверкнул глазами, но вежливый Бобровский незамедлительно дал понять, что это единственная реальная возможность спасти аттракцион и жилой дом от конфискации. Если исковое заявление Халима удовлетворят, то по приговору суда подлежать конфискации будет только часть имущества, принадлежащая лично Хакиму Абдрашитовичу и его супруге. Причем скорее всего не в натуральном, а в денежном выражении, поскольку Халим — артист аттракциона, а у его семьи нет другого жилья. Иначе говоря, аттракцион и дом уцелеют, а Хаким Абдрашитович отделается мизерной потерей, ибо его доля в аттракционе и в жилом доме будет исчисляться в процентах не от реальной стоимости, а от их страховой суммы.
И он спокойно засыпал без всяких сновидений.
6
После ужина доктор Обновленский уселся нога на ногу и отвернулся от сокамерников, тогда как Перчика прямо-таки подмывало всласть почесать языком. Второй разговор с новичком доставил ему море удовольствия, хотя Аркадию Самойловичу приходилось напряженно следить за своей речью, чтобы не ударить лицом в грязь и в должной мере соответствовать высокому интеллекту собеседника.
Перчик искоса посматривал на Обновленского и томительно выжидал, надеясь, что тот обратится к нему с каким-нибудь вопросом, но через полчаса его терпение иссякло, и он пошел на хитрость.
— Игорь Петрович, угостить вас сигаретой?
— Благодарю вас, Аркадий Самойлович! — Обновленский церемонно поклонился Перчику. — Вы очень любезны. Это будет, если не ошибаюсь, девятнадцатая?
— А, мелочь! — похвала воодушевила Перчика. — Чтоб вы знали, Игорь Петрович, мой принцип — выручать людей в трудную минуту!
— Вы благородный человек, Аркадий Самойлович...
Повторное употребление имени и отчества, равно как и констатация его благородства, настолько размагнитили Перчика, что он разомлел от наслаждения и чуть было не отдал Обновленскому только что начатую пачку «Примы». Однако разговор не завязался.
— Как вы нашли хряпу? — после непродолжительной паузы поинтересовался Перчик.
Он заметил, с какой скоростью новичок опорожнил миску, и не сомневался, что эта тема увлечет собеседника. Что требуется для задушевного разговора? Главное, чтобы нашлась подходящая затравка, а дальше все пойдет как по маслу!
— Что вы подразумеваете? — не понял Обновленский.
— Как что подразумеваю? Я говорю с вами об овощном рагу.
— Корм для свиней! — брезгливо отозвался Обновленский.
— Не скажите... Между нами, девочками, говоря, к весне капуста бывает с гнильцой, а эта... — Перчик проглотил слюну, — сегодня это деликатес!
— Помои! — бросил Обновленский.
Странная реакция обычно вежливого доктора слегка обескуражила Перчика, но не настолько, чтобы отбить охоту к словопрениям.
— Кстати, я давно собираюсь спросить вас. — Перчик подался вперед. — Играете ли вы в «козла»?
— В какого еще «козла»? Гм, это в домино, что ли?
— Точно! Мы могли бы отлично постучать до отбоя!
— За кого вы меня принимаете?
«Тоже мне, цаца мордастая!» — Перчик отодвинулся подальше от Обновленского. Из-за досадного афронта его разом прошиб пот.
— Я играю только в шахматы и в покер, — обиженно произнес Обновленский.
Перчик не удостоил его ответом. Более того, ему захотелось демонстративно плюнуть под ноги Обновленному, но он пересилил себя. А ну его к чертовой матери! Тут Аркадий Самойлович вспомнил доцента Окропирашвили и горестно вздохнул. Вот это настоящий человек, не чета зазнавшемуся гинекологу! Доцент Окропирашвили тоже кандидат наук, а без «козла» он сам не свой, ни одного выходного не пропускает и первым приходит под «грибок». И, чтоб вы знали, Бондо Автандилович Окропирашвили кандидат не каких-нибудь второсортных, а философских наук, которые, сами понимаете, по меньшей мере вдвое выше гинекологии, так как связаны с головным мозгом!
Несколько минут спустя он кое-как успокоился, но настроение было безнадежно испорчено, и его мысли закрутились хороводом вокруг собственной незадачливой судьбы. Да, с какой стороны ни посмотреть на жизнь Аркадия Самойловича, все равно, как говорят бухарские евреи, одно жидкое дерьмо. Через год ему стукнет полтинник, а много ли хорошего он видел? Постоянно рвался к чему-то, а выходил пшик и, сами понимаете, очередное короткое замыкание.
Как известно, социалистической собственности у нас черт те сколько и, чтоб вы знали, охраняется она далеко не лучшим образом. Значит ли это, что есть прямой смысл посвятить свою жизнь ее расхищению? Это не простой вопрос даже в теоретическом отношении, а теория без практики, сами понимаете, дешево стоит. Возьмем, к примеру, самого Перчика и сосчитаем как его актив, так и пассив. Нажил он преступным путем... дай бог памяти... на мулине шестнадцать тысяч рублей старыми деньгами, на трикотажных фокусах-покусах и вообще на побегушках у Якова Борисовича Гонопольского... округленно семьдесят тысяч рублей, на бигуди у сумасшедших — около двух тысяч новыми... и на брошках примерно три с половиной тысячи. В пересчете на новые деньги все это в общей сложности составляет четырнадцать-пятнадцать тысяч. А просидел он... грубым счетом почти тридцать четыре месяца. Если скинуть возмещение ущерба по приговору и расходы на адвокатов, то среднемесячный доход невелик. Даже если на сей раз он отделается, предположим, пятью годами лишения свободы, то тогда на круг получится меньше сотни в месяц. Анекдот! Это с его-то руками и головой! Это при том, что он, несмотря на инвалидность, на любом производстве, где есть трикотажные машины или оборудование по переработке пластмасс, никак не меньше двухсот заработает!
Может,кто-нибудь думает, что он, Аркадий Перчик, горел там, где другой вышел бы сухим из воды? Чтобы вы знали, искать корень надо не в счастье или несчастье того или иного расхитителя соцсобственности, а в закономерностях общего характера. Можно один раз украсть и не попасться, можно два раза, все это верно, однако тот, кто занимается этим постоянно, изо дня в день, рано или поздно, но, увы, неизбежно попадает в мышеловку и дожидается прихода немногословных людей с постановлением на арест и обыск. Поверьте опыту Перчика, нет и не может быть такой системы подпольного бизнеса, которая была бы надежно застрахована от краха.
Возьмем, к примеру, ту историю с бигуди. Пусть Фрайштадт даром не треплется, что пожар случился из-за маленькой хитрости Перчика, тайком от хозяина открывшего дополнительный рынок сбыта. Ведь по-настоящему беда началась с другого. Все, повторяю, предусмотреть немыслимо, и никто не мог знать, что вдруг уйдет в декрет ревизорша из горздрава, проверявшая их лечебно-производственные мастерские все предыдущие годы. Эта кривобокая кикимора была страшнее атомной войны, но, сами понимаете, своя в доску. Так вот, вместо нее будто с неба свалился новый, не бравший денег и, как на грех, заковыристый ревизор, заметивший кое-какие неполадки в учете готовой продукции. Он даже не стал отмечать их в акте ревизии, а сразу же капнул куда следует. В итоге они, сами понимаете, попали под колпак, а конец был скорым и, увы, обычным... Может быть, некоторым кажется, что надо разок как следует хапнуть и затаиться? Ха-ха! Между нами, девочками, говоря, это гениальная идея на уровне младшей группы детского сада! Если, к примеру, ты вдруг увел целую корову, то неизбежно поднимется хай, а если три ее соска будут работать на государство, а четвертый — на твой интерес, то какое-то время все будет шито-крыто. Корове, сами понимаете, все едино, а начальству тем более, лишь бы план выполнялся! Ясно? Но это еще не все. Чтоб вы знали, никто не ворует на покупку автомашины, мебели, кооперативной квартиры с тем, чтобы потом завязать и до конца дней стать честным человеком, честным членом нашего общества. Кто занимается хищениями, тот крадет на жизнь, на изобильную жизнь и уже не может остановиться до тех пор, пока его не посадят. Он, Перчик, проверил данный вывод на многих сотнях людей и убедился в его универсальности. Увы, ни один делец не может миновать тюрьмы. Даже вступая в сговор с властями предержащими, он может лишь отсрочить посадку, но не избежать ее... Кто-нибудь желает возразить? А? К примеру, возьмет и сошлется на Фрайштадта, не сидевшего ни разу в жизни. Говорит ли это о том, что в подполье можно работать безаварийно? Раньше Перчик тоже так думал, однако практика внесла спои коррективы в теорию...
Сорок один год назад они вместе поступили в школу. Тогда Фрайштадт был хилым, сплошь, усыпанным веснушками рыжеволосым очкариком, вечно болел то ангиной, то воспалением среднего уха, имел освобождение от физкультуры и смотрел на ловкого Перчика снизу вверх. В старших классах у Фрайштадта обнаружились способности к точным наукам, и Перчик списывал у него домашние задания, а затем пути их разошлись: в начале войны Перчик пошел на завод, а чуть позднее — в армию, в то время как Фрайштадт эвакуировался в Среднюю Азию, поступил на физико-математический факультет университета и стал образованным человеком. Его отец, старый ювелир, умер в середине пятидесятых годов, оставив сыну вполне приличное наследство, после чего молодой Фрайштадт плюнул на математику с высокой елки. Для виду он оформился в часовую мастерскую, что позволяло свободно распоряжаться своим временем, и несколько раз подряд успешно финансировал фарцовщиков, которые скупали у иностранцев крупные партии женских часов-браслетов, известных в те времена под товарным названием «крабы», а год спустя осторожно приступил к кредитованию мелких лжеартелей, производивших галантерейные товары. Фрайштадт никогда не страдал избытком откровенности, но слухами земля полнится, и Перчик от кого-то услышал, что Изя финансировал талантливого изобретателя часового ремешка с календарем и еще две шарашкины конторы по изготовлению пластмассовых прищепок для сушки белья и булавок для галстуков с цанговым зажимом. Короче, именно так, действуй из-за угла, Фрайштадт мало-помалу превратился в фигуру первой величины.
После страшной бури, разметавшей и почти полностью уничтожившей крупный трикотажный бизнес, Аркадий Самойлович пришел на поклон к однокласснику и стал его служащим: Фрайштадт дал указание, и Перчик был направлен в психиатрическую больницу. Перчик много чего видел в своей жизни, однако с такой структурой делового предприятия столкнулся впервые. Не только он сам, но и все остальные работники мастерских (исключая, сами понимаете, бедных психов) отвечали лишь за выпуск бигуди, а связь между поставщиками сырья, производителями товара и торгашами осуществлял один из бывших фарцовщиков, ставший ассистентом и телохранителем Фрайштадта. Лихо? Раньше Перчик тоже так думал, а позднее все же догадался, что Фрайштадт хоть и паучьего племени, однако ума у него вовсе не палата. Почему? Да хотя бы потому, что сам метод у него дурацкий — держать дельцов на твердых окладах. На воле постоянно некогда, там всегда что-то отвлекает, а в изоляторе времени хоть отбавляй, поэтому за лето с помощью учебника политэкономии Перчик уяснил себе суть принципиальной ошибки Фрайштадта. Чтоб вы знали, каждому способу производства должна гармонично соответствовать система распределения материальных благ, а любой человек будет работать с полной отдачей только тогда, когда его вознаграждение зависит от количества и качества труда. Оклад, сами понимаете, стимулирует нас лишь первое время, пока к нему не привыкнешь, а потом люди начинают ловчить и класть в карман то, что плохо лежит. И, чтоб вы знали, не один Фрайштадт не ведает об этом, много есть и повыше его, кому невдомек такая, казалось бы, азбучная истина. Именно поэтому все хитромудрые схемы Фрайштадта одна за другой опровергались жизнью, а он сам рассорился с бывшими фарцовщиками, пошел на прямой контакт с Аликом и Юрой и, сами понимаете, засветился. На последнем допросе майор Пахомов сперва исподволь, а потом в открытую допытывался у Перчика, что ему известно о гражданине по фамилии Фрайштадт. Аркадий Самойлович признал факт давнего знакомства с Фрайштадтом, но, разумеется, ни словом не обмолвился о его причастности к брошечному бизнесу. Чтоб вы знали, Перчик прошел выучку у Якова Борисовича Гонопольского и еще никого не выдавал! И не выдаст, хоть режь его на куски! Но, между нами, девочками, говоря, Фрайштадту это поможет, как мертвому банки. Майор Пахомов — солидный мужчина с тонким нюхом, он разговорит Алика или Юру...
Может быть, кто-нибудь решил, что Перчик по злобе и зависти радуется беде Фрайштадта? Если бы! От чужого горя твое собственное меньше не становится. Да, если говорить начистоту, Перчик никогда не любил Фрайштадта. За что, спрашивается, любить его, когда он бессовестный эксплуататор? И помогал он Перчику не по доброте душевной, а по трезвому расчету. Фрайштадту как воздух нужны такие вот Перчики, без них он, сами понимаете, ноль без палочки. Деловых людей старой закалки год от года все меньше и меньше, вот потому-то он за свой счет и отправлял Перчика в санаторий!.. Чтоб вы знали, человеколюбия и разной гуманности у Фрайштадта не больше, чем у мусороуборочной машины. Одно слово — паук!
Перчик с отвращением сплюнул и по контрасту вспомнил покойного Якова Борисовича Гонопольского. Вот это был делец, а точнее, не делец, а прирожденный вождь дельцов. Не так давно Перчик прочитал в изоляторе роман одного итальянца про Спартака. Фамилии автора не запомнил, больно уж заковыристая, а сама вещь сильная, каждому стоит прочитать. Так Спартак точь-в-точь похож на Якова Борисовича или, если вам так больше нравится, Гонопольский точь-в-точь похож на Спартака. А что? Всегда в бою, причем не где-нибудь, а в первых рядах сражающихся, да и в остальном молодец... А какой широкий был человечище: если кто-то из компаньонов попадал за решетку, Яков Борисович заботился о его семье лучше отца родного... Эх, были люди, не чета нынешним сморчкам!
Перчик горестно вздохнул и подумал о том, что раз таких, как незабвенный Яков Борисович, теперь не осталось, то, пожалуй, лучше быть честным голодранцем, чем ишачить на пауков вроде Фрайштадта. Больше Перчик никому не станет таскать каштаны из огня! Хватит!
— Аркадий Самойлович, можно с вами посоветоваться? — спросил чем-то озабоченный новичок.
Первым естественным побуждением Перчика было переадресовать толстенького гинеколога к чертовой матери, но он не сделал, этого, понимая, что человек в беде.
— Отчего же нельзя, Игорь Петрович? Раз надо, то давайте советоваться.
— Как вы полагаете, суду достаточно, если, допустим, против вас дали показания два свидетеля?
— В каком смысле достаточно? — по-деловому уточнил Перчик. — Чтобы признать вас виновным и осудить?
— Именно это я и подразумевал, Аркадий Самойлович.
— Видите ли, Игорь Петрович, доказательства виновности бывают разные. Все, сами понимаете, зависит от характера преступления. Против нас — расхитителей соцсобственности — доказательств, как правило, черт-те сколько, а вот вашему брату-взяточникам, по-моему, не в пример легче, поскольку...
— Простите, Аркадий Самойлович, я уже ставил вас в известность о том, что я не взяточник, — сдерживая негодование, перебил Обновленский. — Я честный человек!
«Он держит меня за фраера, — беззлобно подумал Перчик. — Да если бы те люди, которым поручено следствие, хоть капельку сомневались, что ты брал взятки, тебя бы никогда не взяли под стражу до приговора. Кому охота даром нарываться на неприятность?»
— Не спорю, мои шер, не спорю. Я не хотел обижать вас, Игорь Петрович. Но, поскольку вас, как я понял, интересуют прежде всего ситуации, связанные со статьей 173 Уголовного кодекса РСФСР, я вынужден оперировать соответствующей терминологией. Согласен, с непривычки она режет слух, поэтому предлагаю впредь именовать взятку «презентом» или, если хотите, «сувениром», взяткодателя — «клиентом», а взяткополучателя — «сеньором». Надеюсь, так вас больше устроит?
— Совершенно верно, — с облегчением подтвердил Обновленский.
— Вот и хорошо. — Перчик улыбнулся. — Я, чтоб вы знали, люблю все делать к взаимному удовольствию. Итак, в чем вас обвиняют?
— Представьте себе, Аркадий Самойлович, они имеют наглость утверждать, будто я, временно исполняя обязанности зав. отделением, брал «презенты» за то, что производил аборты!
— Ай-яй-яй! — Перчик покачал головой. — Как некрасиво.
— Что вы подразумеваете?
— Я, чтоб вы знали, противник абортов, Игорь Петрович. Я стою за то, чтобы женщины больше рожали... Но это, сами понимаете, не относится к теме нашей беседы. У обвинения много свидетелей?
— Точно не знаю.
— Это хуже... Надеюсь, в вашей больнице клиенты вручают «сеньорам» свои «презенты» с глазу на глаз, не при всем честном народе? Другими словами, факт передачи денег или их эквивалентов посторонними лицами не фиксировался?
— Боже упаси!
— Тогда уверен, что два свидетеля вам не страшны.
— Почему?
— Ваш Колодизнер потому и приобрел славу, что он виртуозно работает со свидетелями обвинения, — пояснил Перчик. — Он выдаивает их не хуже, чем цыган приблудную козу. Между нами, девочками, говоря, два свидетеля — это для него сущий пустяк!
— Вы предполагаете, что все закончится благополучно?
— Не знаю, Игорь Петрович, вам виднее... Лично я не очень-то верю, чтобы следователь передал дело в суд с двумя свидетелями обвинения. Думаю, что их будет пять-шесть, не меньше.
— И что тогда? — побледнел Обновленский.
— Если они выстоят под пулеметным огнем Колодизнера и не откажутся от показаний, данных ими на предварительном следствии, то супруге придется сколько-то лет посылать вам передачи...
— Я не женат!
— Это еще хуже, — грустно проговорил Перчик. — Не знаю, как для кого, а для меня мои родные — свет в окне.
— У вас большая семья? — машинально поинтересовался Обновленский.
— Нет, Игорь Петрович, жена и двое детей. Сын Гриша — ученый, физик, а дочка Беллочка учится в музыкальном училище.
— Сколько же лет вашему сыну?
— Гришеньке двадцать семь, но он уже кандидат наук, — потеплевшим голосом ответил Перчик. — Чтоб вы знали, у моего мальчика большой талант! Он занимается лазерами... Слышали вы о лазерах? Между нами, девочками, говоря, это такие машинки, что не дай бог! «Гиперболоид инженера Гарина» читали? Страшное оружие, бьет тепловым лучом. Гришенька божится, что у лазеров большое будущее. Он что-то изобрел, и ему присудили кандидата наук без всякой защиты. Может быть, не целый лазер, но какую-то его часть придумал именно мой мальчик, сын Аркадия Перчика! Представляете?
— Ваш сын, по-видимому, одаренный человек, — бесстрастно заметил Обновленский. — Как, по-вашему, имеет значение то, что «презенты» делались до, а не после оказания услуг клиентам?
— Для суда это безразлично, — отвлеченный мыслями о сыне, Перчик замешкался и ответил с задержкой. — Первый вариант они именуют взяткой-подкупом, второй — взяткой-вознаграждением.
— Знаете, Аркадий Самойлович, сейчас я почему-то вспомнил, как впервые взял деньги. Их принесла женщина... Есть люди, которые панически боятся боли, и она умоляла, чтобы я дал ей наркоз. В конверте оказалось пятьдесят рублей: четыре свежих, не бывших в обращении десятирублевки и одна грязная, с надорванным углом, кое-как склеенная папиросной бумагой. У мамы был день рождения, и я... — У Обновленского задергались губы. — Мне захотелось подарить маме что-нибудь ценное, и я поехал на Невский, в ювелирный магазин, рядом с Малым залом консерватории...
— Был такой магазин, как же, — с улыбкой подтвердил Перчик. — Помню, помню. Потом его сломали к чертовой матери, когда строили станцию метро «Гостиный двор»... Это же мой район. Чтоб вы знали, я живу в двух шагах от Невского и помню каждый камень в округе.
— Я выбрал, наверное, самую бесполезную вещь, — продолжал Обновленский, пропустив мимо ушей реплику Перчика, — Конфетницу, хрусталь в серебре... Из тех, что годами пылятся в сервантах. Мама была так тронута, что расплакалась. И я... У меня тоже глаза были на мокром месте... — Он с отвращением помотал головой, отчего щеки и валик жира под подбородком затряслись мелкой дрожью. — Черт возьми, чушь собачья лезет в голову!
— А во второй раз? — полюбопытствовал Перчик.
— Без сентиментальностей, — сухо ответил Обновленский, устыдившийся проявленной слабости.
— Уже не отказывались от денег?
— Куда там! У меня появился эдакий спортивный интерес, даже азарт, что ли. Беру конверт и на ощупь пытаюсь определить, сколько в нем. Беседую с пациенткой, а пальцы — на конверте, и ощущение в точности такое, как в покере перед прикупом...
Перчик, прищурился и с состраданием смотрел на Обновленского, почти не сомневаясь, что на первом же серьезном допросе гинеколог расколется, как сухое полено. Но, сами понимаете, лишь при том условии, что следователь сумеет установить с ним психологический контакт. Гонора у гинеколога черт те сколько, толковать с ним на басах бесполезно — наглухо замкнется и закусит удила. Если же прикинуться сочувствующим — а, чтоб вы знали, опытные следователи и не то умеют! — и поиграть с ним мягкой лапой, как сытый кот с мышью, Игорь Петрович мигом расколется.
— Заметьте, я никогда не спешил и не обрывал разговора, — с увлечением продолжал Обновленский. — Напротив, подробно расспрашивал больных и отвечал на все их вопросы, подчас пустые. Причем не потому, что, заплатив мне, они как бы получали право на повышенное внимание... Как вы думаете, Аркадий Самойлович, с какой целью я оттягивал время?
— Ну-ну. — Перчик поторопил собеседника.
— Чтобы продлить удовольствие, — признался Обновленский.
— Очень остроумно! — Перчик сделал вид, что он восхищен. — Если бы мне давали взятки, я бы точь-в-точь... Взятку, сами понимаете, нельзя равнять с получкой. Эта идет автоматом, а та сюрпризом.
Упоминание о взятке привело к тому, что Обновленский моментально пригорюнился.
«Определенно расколется, это видно невооруженным глазом!» — Перчику стало жаль наивного любителя конвертов с денежными подношениями, и он решил подбодрить товарища по несчастью:
— Чтоб вы знали, мон шер, не каждый «презент» может быть признан взяткой. К примеру, если кто-то из ваших клиенток в порядке расчета за услугу вступал с вами в половую связь, то взяткой это не считается, и вы можете смело сознаваться.
— Благодарю вас, Аркадий Самойлович, — после короткой паузы сумрачно произнес Обновленский. — Я подумаю над тем, что вы мне любезно подсказали.
Обновленский еще что-то говорил, а мысли Перчика вернулись к семье, и сердце Аркадия Самойловича защемила тоска. Семья у него есть и в то же время ее нет. Почему? Возьмем, к примеру, детей. Когда его Гришенька был подростком, он врал своим товарищам по школе, что папа у него геолог (хромой геолог?) и месяцами живет вне дома, чтобы открыть новые месторождения полезных ископаемых. Сын с ним почти не общался, и Перчик узнал об этом от Аси. А что говорила об отце Беллочка, он побоялся спрашивать... Как же они к нему относятся теперь? Внешне более или менее сносно, хотя и слепому видно, что отчужденно, а в душе? Презирают? Вряд ли. Скорее стесняются, даже стыдятся того, что они дети Аркадия Перчика. Гришенька скоро женится на своей Валечке и, чтоб вы знали, готовится к свадьбе. А что? Приличная девушка, из профессорской семьи. Перчик видел ее перед арестом — очкастенькая такая, но в целом славненькая... А его Гришенька из какой семьи? Кто мальчика хорошо знает, тот, сами понимаете, про родителей расспрашивать не станет, а другие, малознакомые люди? Начнутся всякие шепотки, охи да ахи и целая куча разговоров о том, что семья невесты проявила беспечность, согласившись на брак с воровским отродьем. Яблоко от яблони, дескать, далеко не падает, и все такое прочее...
Перчик болезненно сморщился и нетерпеливо закурил.
— Аркадий Самойлович, не угостите меня вашей «Примой»? — робко попросил Обновленский. — Я слежу: это будет двадцать третья.
Перчик протянул гинекологу пачку и с ужасом подумал о том, что же будет, когда дети создадут свои семьи. Пока они жили вместе, Гришенька и Беллочка пусть вынужденно, но терпели его, а что потом? На порог дома не пустят... Теперь взаимоотношения людей определяются не столько родством, сколько культурным уровнем, совпадением жизненных интересов и положением в обществе. А каково общественное положение Аркадия Перчика?.. Ну, а Ася? Когда-то, в радостном сорок пятом, он, Перчик, поклялся восемнадцатилетней Асе, что сделает ее самой счастливой в мире, а вышло что? Когда он сгорел в первый раз, Ася не дрогнула, понимая, что жизнь прожить не поле перейти. Асе ума не занимать, да и любила она Перчика так, как в хороших книжках об этом пишут. А когда Перчика арестовали по трикотажному делу, у Аси появился зубной техник. После зубного техника был трубач из симфонического оркестра, о котором ненароком проговорился Гришенька, и, вероятно, были другие мужчины. Однако разводиться с Перчиком она не захотела. То ли не встретила подходящего человека, то ли ее не брали. Не так уж много желающих взять женщину с двумя маленькими детьми... А когда он вернулся после амнистии, что-то в ней опять пробудилось, и девять лет они прожили всем на загляденье... Пока не накрылись лечебно-производственные мастерские психиатрической больницы.... Но и тогда, и теперь Ася носит ему передачи. Что будет дальше? Этого Перчик, увы, не ведает. Если, дай боже, весной будет амнистия и он выйдет на волю, может быть, стоит попробовать жить по-иному? А? Вот у них в изоляторе повсюду лозунги «Только порвав с преступлением, ты станешь счастливым!». Тепло в паровозе! Тоже мне, Америку открыли! Дело, сами понимаете, вовсе не в лозунгах. Плевал он на них с высокой елки! Дело в том, что дальше так тошно жить. Тошно — это, пожалуй, мягко сказано... Скоро ему пятьдесят, это, чтоб вы знали, еще не старость. Еще есть время. Короче, надо подумать. Давать зарок на безгрешную жизнь он еще обождет, такие решения с бухты-барахты не принимаются... Вообще-то Ася в принципе права: теперь, когда дети оперились и встали на ноги, ей с Перчиком на двоих много не надо. Но, между нами, девочками, говоря, должны у него водиться подкожные деньги на домино и выпивку? А что тут такого? Для того коньячок и продают, чтобы люди пили. А как прожить без домино? С пустым карманом под грибком делать нечего, завмаг Тулумбасов заклюет насмерть. Тут и доцент Окропирашвили не спасет... Да, чтоб вы знали, честная жизнь на голую зарплату не райская жизнь, не надо их путать. Но, в конце концов, на зарплате свет клином тоже не сошелся! Живут же люди по-другому? Возьмем, к примеру, Сему, который работал вместе с Перчиком у Якова Борисовича Гонопольского. После отсидки Сема не стал искать своего Фрайштадта, а открыл в бывшем каретнике на заднем дворе маленькую мастерскую по ремонту автомобильных камер и сборке колес. Все про все — двадцать квадратных метров, один электромотор, один стенд и один компрессор, а в сезон Семе очищается от шестисот до семисот рубликов в месяц. Он тоже инвалид войны, поэтому его не облагают налогом, и Семе нет нужды ловчить и обманывать государство. Летом к нему постоянная очередь — два-три автолюбителя. Кому в наше время охота потеть и мараться, вручную монтируя и накачивая покрышки? А у Семы все быстро и без хлопот: выложи целковый и через пять минут забирай свое колесо в самом лучшем виде!.. Короче, Сема живет как человек! Может быть, Перчику стоит открыть такую же мастерскую? А? С каждым годом машин у населения прибавляется, так что один Сема, пожалуй, не справится. Над этим надо подумать, основательно подумать... Сколько кому из нас жить отпущено, этого, сами понимаете, никто не знает, но если ему, Аркашке Перчику, суждено ковылять по земле, к примеру, еще лет десять, то наверняка не следует повторять пройденный путь. Прошлого, увы, не вернешь, а над будущим стоит-таки подумать. Не в колонии же Перчику концы отдавать?
В отличие от прошлой, практически бессонной ночи, Игорь Петрович забылся сразу после отбоя. Сперва он просто-напросто отключился от омерзительного бытия и словно провалился в темноту, а спустя некоторое время в его мозгу начали возникать всяческие сновидения кошмарно-отталкивающего свойства. Обновленский испуганно вздрагивал, просыпался, хватался за голову и вытирал холодный пот, но стоило ему вновь задремать, как все повторялось в еще более жутком виде.
Словом, до какого-то момента сны были препаршивые, а затем дело пошло на лад. Игорь Петрович увидел себя на прогулке в отсеке внутреннего двора следственного изолятора и не сразу обратил внимание на то, что его сокамерники уставились на небо и рассматривали загадочный предмет, снижавшийся с высокой посадочной скоростью. Обновленский прищурился, и от избытка чувств его глаза наполнились слезами: на двор садился громадный воздушный шар, в просторной гондоле которого вместе с двумя незнакомыми людьми находился его ближайший друг Борис Борисович Бархатов! Киль гондолы легко прорезал металлическую сетку, перекрывающую отсек, чья-то добрая рука в лайковой перчатке сбросила вниз веревочную лестницу, а Бархатов взволнованным голосом крикнул:
— Старик, мы за тобой!
С невесть откуда взявшейся ловкостью Игорь Петрович взобрался по лестнице и минуту спустя очутился в жарких объятиях.
— Жозеф, трогай! — приказал Бархатов, прижав к своей груди трепетавшего Игоря Петровича.
Маленький смуглый человек в кожаном пиджаке кивнул головой, переключил рычаги, и на глазах у остолбеневших часовых воздушный шар взмыл под облака.
— Опасность позади, теперь можно знакомиться: Игорь Петрович Обновленский — братья Монгольфье! — торжественным тоном сказал Бархатов. — Прошу любить и жаловать... Тот, что за рулем — Жозеф, а который у печки — его младший брат Этьен!
Братья Монгольфье галантно поклонились Игорю Петровичу, а он с достоинством пожал им руки.
— Между прочим, они хоть и французы, но на удивление славные мужики! — во весь голос продолжал Бархатов. — Вообрази: как только сведения о незаконном аресте кандидата медицинских наук Обновленского просочились в парижскую прессу, Жозеф тут же примчался на мою дачу в Тарховку и предложил дерзкий план твоего спасения. Зина засомневалась, а я решил рискнуть.
— Куда мы летим? — поинтересовался Игорь Петрович.
— Как куда? — Бархатов расплылся в улыбке. — В Монако, старик, в славное Монте-Карло! Туда, где играют в рулетку и где все красивые женщины не работают, а развлекают мужчин!
— А как же ты? — озабоченно спросил Обновленский. — Могут быть неприятности...
— За меня не волнуйся, — успокоил его Бархатов. — Я оформил отгул за работу на овощной базе... Эх, до чего же охота искупаться в Средиземном море! Ура, Монте-Карло!
Игорь Петрович взял у Бархатова подзорную трубу и увидел рассвеченный разноцветными огнями реклам город своей мечты.
Воздушный шар приземлился в аэропорту в сопровождении эскадрильи истребителей-бомбардировщиков «Мираж» с вертикальной посадкой. Обновленский и Бархатов дружески простились с Жозефом и Этьеном и по ковровой дорожке направились навстречу группе государственных деятелей княжества Монако и сопредельных государств. Среди них, к сожалению, не было генерала де Голля, потому что он уже умер, а вместо него присутствовал такой же длинноносый генерал, который произнес приветственную речь. В ответном слове, неоднократно прерывавшемся бурными, продолжительными аплодисментами, Игорь Петрович тепло поблагодарил монакский и французский народы за проявленное радушие.
Дорога от Монте-Карло до Ла-Кондамина, где находилась резиденция Обновленского, была сплошь усыпана розами и фиалками, а толпа восторженных женщин скандировала «Виват, доктор!» вслед кортежу машин, окруженному эскортом из тридцати полицейских на белых мотоциклах.
Наутро Обновленский и Бархатов всласть искупались в изумрудной воде Средиземного моря, после плотного завтрака прошвырнулись по Монте-Карло и, само собой разумеется, на часок завернули в казино, где попытали счастья в рулетку (азартный Бархатов быстро просадил все вплоть до последнего су, а расчетливый Игорь Петрович, напротив, выиграл восемь тысяч франков!). Вечером, на торжественном ужине, данном в честь Обновленского главным гинекологом княжества Монако, длинноносый генерал предложил Игорю Петровичу посетить Францию, посулив ему право политического убежища и должность заведующего отделением католического госпиталя в Ницце. Неожиданно для гостеприимных хозяев Обновленский категорически отказался принять столь лестное предложение.
— Дамы и господа! — сказал Игорь Петрович в ответном тосте. — Мы с моим верным другом кандидатом химических наук Борисом Б. Бархатовым погостим у вас неделю, а затем нам предстоит проститься. Предвидя возражения, я заранее спешу уведомить вас, что хотел бы проститься не навсегда, а всего лишь до лета будущего года. Если вы действительно готовы вновь принять меня, я с радостью прилечу в Монте-Карло по гостевому приглашению. Договорились? Чудно! А теперь позвольте мне поднять бокал за ваше счастье и дальнейшее процветание!
Все были поражены блеском и изяществом тоста, а длинноносый генерал тут же сообщил Игорю Петровичу, что по дипломатическим каналам уже получена специальная депеша из Ленинграда. Какой-то неизвестный во Франции злодей, капитан Кабанофф, взят под стражу и почему-то помещен в ту камеру следственного изолятора № 1, где прежде содержался доктор Обновленский, а самого Игоря Петровича с распростертыми объятиями ждут в его родном городе.
Неделя была до отказа наполнена бурными развлечениями и, как всегда в лучшие периоды жизни, промчалась незаметно, а затем наступил день отъезда. Проводы, как и следовало ожидать, вылились во всенародную манифестацию, со слезами, поцелуями, объятиями и взаимными уверениями в вечной и нерушимой дружбе свободомыслящих интеллигентов всех стран и континентов, после чего Игорь Петрович прибыл в Ленинград. В аэропорту Пулково его встретили отцы города, весь Ленгорздрав и наиболее видные представители творческой интеллигенции. Простоволосая Тамара с криком бросилась ему на грудь. Игорь Петрович сдержанно успокоил ее и перепоручил Бархатову. Сперва надо покончить с делами, а уже потом ехать домой или в «Асторию», и он выразил желание прежде всего побывать в следственном изоляторе.
Вместе с ним в машину сел симпатичный милицейский полковник, и они направились к набережной Невы.
— Что лучше сделать с бывшим капитаном Кабановым? — без обиняков спросил Игоря Петровича полковник. — Может, расстрелять?
— Да, пожалуй, — подумав, согласился Обновленский. — Человечеству он совершенно не нужен.
— Более того, он вреден! — подтвердил полковник. — А с его семьей как посоветуете поступить?
— А что семья? Семья не виновата, что он антисоциальное явление... По-моему, семье надо установить небольшую пенсию.
— Замечательная мысль! — Полковник чрезвычайно обрадовался и сделал пометку в записной книжке. — Обязательно дадим пенсию. Вы представить не можете, как я рад, что вы оказались настолько справедливым и гуманным! Гора с плеч!.. Я, откровенно сказать, слегка побаивался за его семью.
— Как вы смели так думать? — возмутился Обновленский.
— Виноват, Игорь Петрович. Я ведь раньше не знал, что вы...
— Теперь будете знать. Полковник, вы мне нравитесь, поэтому запишите мой домашний телефон. Вероятно, я буду полезен вашей жене... Меня легче всего застать утром, с восьми до половины девятого... Поняли?
— Так точно, Игорь Петрович! — с чувством произнес полковник. — Я человек военный, противник многословия, и скажу просто: вы — настоящий интеллигент!
Когда они прибыли в следственный изолятор, все его обитатели находились в клубе, где проходил концерт художественной самодеятельности. Капитан Кабанов стоял на сцене и в сопровождении Аркадия Самойловича Перчика, исполнявшего партию гитары, пел старинный романс «Вернись, я все прощу, упреки, подозренья, мучительную боль невыплаканных слез...». Увидев Игоря Петровича, Кабанов изменился в лице и бросился ему в ноги, а Обновленский брезгливо отстранился и сухо сказал:
— Поздно, Кабанов, поздно. Как видишь, я вернулся, но о прощении не может быть и речи. Я не злопамятный, но, будучи представителем трудовой интеллигенции, обязан действовать в интересах общества...
...А Аркадию Самойловичу Перчику снилась Москва. В солнечное свежее майское утро они с Асей выходили из «Красной стрелы» на перрон Ленинградского вокзала. Ехали они в двухместном купе спального вагона, за что Перчику, чтоб вы знали, досталось от жены на орехи. Перчик подал Асе руку и попытался взять у нее чемодан, но она отмахнулась, и Аркадий Самойлович понял, что спорить бесполезно, глубоко вздохнул и поплелся вслед за женой, хромая и тяжело опираясь на палку.
Когда они вошли в холл гостиницы «Ленинградская», у окошка дежурного администратора никого не было. Администратор — красивая блондинка с неприступным лицом — раскрыла удостоверение инвалида Отечественной войны, сердечно улыбнулась Перчику и проворковала:
— Уважаемый Аркадий Самойлович, свободных номеров у нас нет, но вас мы устроим обязательно. Только придется подождать или, еще лучше, подойти ко мне ближе к вечеру.
— Неужели у вас действительно ничего нет?
— Есть только один свободный люкс, а обычные двойные номера освободятся не раньше двенадцати.
— Сколько стоит ваш люкс?
— Одиннадцать рублей в сутки.
— Беру! — важно заявил Перчик. — Выписывайте.
— Аркадий, ты опять сходишь с ума? — громко сказала Ася. — Ты понимаешь, что такое одиннадцать рублей в сутки? Кончай пижонить, а то мы живо вылетим в трубу!
— Асечка, миленькая, ради праздника умоляю тебя не устраивать гармидер, — попытался утихомирить жену Перчик. — Кто знает, может быть, мне повезет, и я встречу кого-нибудь из друзей. Представляешь?
— Ты снова напьешься как сапожник и станешь городить несусветную чушь точно так же, как позавчера у Люси и Немы!
— Что ты за человек, — зашипел Перчик. — Клянусь тебе, приму двести граммов и завяжу!
— Аркадий, ты неисправим!
— Асечка, солнышко, сегодня мой праздник, и ты должна пойти мне навстречу, — с мольбой в голосе сказал Перчик. — Клянусь тебе, буквально с завтрашнего дня я буду делать все, как ты захочешь!
В роскошном трехкомнатном люксе Перчик быстренько побрился, брызнул на себя цветочным одеколоном и принялся торопить Асю, возившуюся около полураспакованного чемодана.
— Ты хочешь пойти без пальто? — спросила она. — С ума сошел! Ты видел, какой сегодня ветер?.. И почему ты оставил палку?
— Асечка, ты должна понять!
И она поняла, потому что бог дал ему в жены умную женщину.
На Комсомольской площади они сели в трамвай и поехали в Сокольники, где у Центрального выставочного павильона ровно в десять ноль-ноль была назначена встреча ветеранов той самой Четвертой ударной армии, в рядах которой сражался он, Аркадий Самойлович Перчик.
Проехав две остановки, Перчик неожиданно попросил Асю сойти с трамвая.
— В чем дело, Аркадий? — набросилась на него Ася. — До Сокольников еще ехать и ехать. Что ты опять придумал?
— Курить захотелось, — смущенно признался Перчик. — Прямо невтерпеж... Это от волнения. Ведь я не видел однополчан с 1944-го...
У входа в Сокольники толпился народ. Видно, здесь встречались бойцы и других соединений, решил Перчик, и невольно приосанился. Он шел под руку с Асей и опирался на нее, потому что без палки было трудновато. Но в такой день палка ни к чему, в такой день забываешь не только об искалеченной ноге, о своем возрасте, но и о всех ошибках, которые совершил в жизни!
Шедшие им навстречу и стоявшие на главной аллее военные с почтением смотрели на Асю и Перчика, а некоторые даже отдавали честь. И Перчик, давным-давно привыкший к тому, что все военнослужащие внутренних войск независимо от звания глядели на него, как на сосуд с дерьмом, сегодня ничуть не удивлялся. А почему бы и не отдавать им честь? Идет инвалид с гвардейским значком, двумя орденами и четырьмя медалями, а рядом — его подруга жизни и мать его детей, всю войну еще девочкой проработавшая на эвакуированном заводе «Арсенал». Неважно, что они маленькие, старые и бедно одетые. Чтоб вы знали, сегодня обращают внимание не на это!
Услышав звуки замечательной песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!», Перчик почувствовал забытый холодок в позвоночнике и мигом вспомнил райвоенкомат летом 1941 года, откуда его трижды выгоняли, когда он безбожно врал по поводу своего возраста в тщетной надежде, что его возьмут добровольцем.
Примерно за полчаса Ася и Перчик добрались до центрального павильона, обошли вокруг, но среди множества радостных лиц Перчик не увидел ни одного сколько-нибудь знакомого.
— Аркадий, не дергайся, — успокаивала его Ася. — Может быть они задержались.
— Зачем же мне дергаться, Асечка? — воскликнул Перчик, подталкивая жену к сувенирному киоску, возле которого стояли молодые военные в плащ-палатках. — Да вот они!
Их было трое: его ротный — капитан Платонов, старший сержант Белоусов и ефрейтор Однополенко, — и они в отличие от Аси и самого Перчика остались в точности такими же, какими были в сентябре 1944 года, перед его последним ранением.
— Товарищ гвардии капитан! — срывающимся от волнения голосом доложился Перчик. — Гвардии младший сержант Перчик прибыл по вашему приказанию!
— Ребята, гляньте, Перчик! — обрадованно закричал Белоусов.
Перчика обнимали, целовали, хлопали по плечам, по спине, а он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и изо всех сил стремился сохранить равновесие, потому что от нахлынувшего счастья вовсю закружилась голова. Шляпа Аркадия Самойловича свалилась на землю, и ветер трепал остатки его волос.
— Где же ты пропадал столько лет, Перчик? — спрашивал капитан Платонов.
— Так уж случилось... — Перчик смутился и отвел глаза. — Неприятности были, товарищ гвардии капитан, сами понимаете...
— Да что об этом толковать! — вмешался веснушчатый великан Однополенко. — Главное — мы сейчас вместе! Из всей роты в живых осталось четверо, Перчик... Ты, браток, крепко держись за нас!
— Я буду, — преодолевая спазм в горле, ответил Перчик. — Я так крепко буду, вот увидите... Ни за что от вас теперь не отстану...
И тут он вспомнил, что пришел не один, а с Асей.
— Товарищ гвардии капитан, разрешите представить вам мою супругу, Асю Соломоновну!
Капитан снял пилотку, подошел к Асе и поцеловал ее маленькую сухую руку.
«А что? — мелькнуло в голове у Перчика. — Капитан Платонов — настоящий русский интеллигент, до войны в университете учился, он перед женщиной лицом в грязь не ударит... И Белоусов тоже, и Однополенко. Все они настоящие, не то что я, Аркашка Перчик...»
Потом они впятером стояли обнявшись, слезы катились по их светлым лицам, а кругом бушевала музыка: «День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек, были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках...»
Он ждал этой встречи больше тридцати лет и не мог понять лишь одного: у всех слезы скатывались вниз, а у него почему-то назад, за уши. Между тем все объяснялось просто: Перчик спал, лежа на спине...
...Если Обновленский, Перчик и Хамалетдинов лучше или хуже, но все-таки спали, то Николай Седенков в эту ночь не смыкал глаз. Он знал, что после оглашения приговора больше не вернется сюда, потому что, согласно правилам следственного изолятора, осужденных в обязательном порядке переводят в другую камеру, где они содержатся до вступления приговора в законную силу. Поэтому Николай с вечера собрал свой немудреный скарб, без лишних слов простился с сокамерниками и ждал пяти часов утра, когда с лязгом откроется дверь, прозвучит его фамилия и раздастся команда: «С вещами на выход!». Знал он и то, что последует дальше. Подсудимых, которых надлежит доставить в суд, поднимали за час до общего подъема, отводили в «собачник» (так сами постояльцы изолятора испокон веков называли помещение, где они ожидали отправки), брили, снабжали сухим пайком, ибо содержащиеся под стражей лица в судах не обеспечиваются горячим котловым питанием, и разбивали на партии в соответствии с предполагаемыми маршрутами специального транспорта, укомплектованного конвоем. Чаще всего они попадали в суд примерно к девяти часам, хотя собственно дорога занимала не более тридцати — сорока минут. Но правила есть правила, и, кроме того, нельзя забывать, что за решеткой ты сам себе не хозяин. А покамест Николай лежал на спине и в который уже раз размышлял о том, что скажет людям в своем последнем слове.
Жаль, не выучен Николай складно говорить, а то сказанул бы так, что народ сразу же скумекал и от доброго сердца присоветовал, как ему теперь жизнь наново становить. Думка такая в Николаевой голове колобродит, будто не в огороде и не в золотых рыбках смысл жизни запрятан. По всему выходит, что тот огород с аквариумами вместе что-то первейшее ему застил. А вот что именно, Николай пока не уяснил. Маловато еще, видать, осмыслил...
Ну, а за смерть тестеву никогда не выйдет Николаю прощения. От народа, может, не будет вечного укора, а от совести своей куда укроешься? Любую, считай, ноченьку Прокофий Иваныч к Николаю является и не про то сказывает, что сгубил его зять, а с улыбкой ласковой в баньку сходить призывает, труп обратно продать уговаривает и в ноги кланяется за Николаеву хлеб-соль и заботу. Чем далее Прокофий Иванычевский смертный час отходит, тем добрей тесть в Николаевых снах проявляется. И от снов тех все горше и горше душа болит.
Людей-то одних на других переменять человек в силе, а вот совесть свою нипочем не перекрутишь...
За ним пришли ровно в пять.
Константин Афанасьевич Тенякшев
Прошлое бросает тень
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ШЕЛ ЧЕЛОВЕК ПО ГОРОДУ
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Все было знакомо Ивану и в то же время - незнакомо. Изменились за эти три года улицы города, появилось много новых домов, магазинов. Там, где раньше стояли низенькие унылые домишки, поднялось высокое здание кинотеатра, а у подъезда спрашивают: «Нет лишнего билетика?»
Правда, у Ивана не спросили. В помятом хлопчатобумажном костюме, кепчонке нашлепкой и пыльных башмаках, он мало походил на обладателя лишнего билета.
Солнце клонилось к закату. Косые лучи его отражались пожаром в оконных стеклах. Деревья, шеренгами протянувшиеся вдоль улиц, стояли тихие и какие-то покорные. «Осень скоро»,- подумал Иван.
На душе у него было неважно. Не от того, что приближалась осень, грязная и скучная. Сегодня он, как и вчера, и позавчера, и три дня назад, не нашел работы.
Люди требовались везде. В отделах кадров его встречали приветливо, кое-где даже руки потирали, будто собирались с ним поздороваться. А потом, заглянув в его документы, человек сразу скучнел, барабанил по столу пальцами или вздыхал. Затем опускал глаза и говорил, возвращая ему бумаги:
- Понимаешь, пока не требуется нам … Вот через месяц-другой …
Иван молча забирал документы и выходил на улицу. Конечно, он понимал. Тут и объяснять было нечего.
Дойдя до вокзала, он с минуту постоял, обдумывая, что предпринять дальше. Возвращаться домой не хотелось. Опять увидеть глаза жены, смотрящие на него с надеждой, опять услышать робкое: «Ну, как? .. » - Никак,- вслух сказал Иван и даже рукой махнул. Проходивший мимо милиционер взглянул на него и он торопливо свернул в вокзальный скверик. Одна из маленьких аллеи кончалась тупиком. Здесь, среди густых кустов запыленной акации, стояла одинокая скамейка. Иван тяжело опустился на нее. Потом достал последнюю сигарету. Прикурил. Дым показался особенно вкусным, и он тянул сигарету до тех пор, пока не начало жечь губы. Потом долго сидел на скамейке, вытянув усталые ноги.
В конце аллеи появилась фигура пожилого мужчины в шляпе. Он не спеша приблизился, деликатно выбрасывая перед собою легкую тросточку.- Хм … Никак Вихрастов?
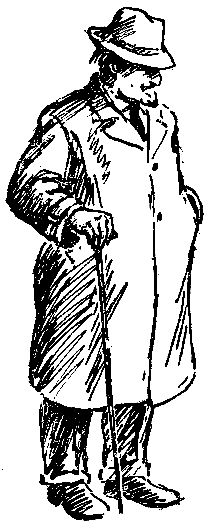 Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
 - Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»
- Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»
ДНИ МИНУВШИЕ
Иван стоял на мосту, нависшем над железнодорожными путями. Отсюда хорошо был виден ярко освещенный вокзал, поблескивала внизу серебряная паутина рельсов; красные, зеленые, фиолетовые сигнальные огни перемигивались вдали; небольшой маневровый электровоз, разрывая тонкими гудками ночную тишину, подталкивал цепочку товарных вагонов к темным громадам пакгаузов. Иван пристально посмотрел туда.
Пакгаузы. Огромные пристанционные склады. Чего там только нет! Тысячи, десятки тысяч различных товаров наполняют их объемистое чрево: яблоки и велосипеды, гвозди и свиные туши, станки, холодильники, ящики с шоколадом. Несколько лет назад он работал там грузчиком, и все эти товары проходили через его сильные руки.
Здесь, на этом самом мосту, стоял он однажды с девушкой . В больших влажных глазах ее отражались, как звезды. станционные огни. И не было лучше ее на всем белом свете.
А потом она стала его женой. Любящей, приветливой, преданной- настоящей подругой жизни. Правда родители Маши возражали против ее выбора: молод, мол, неопытен, заработки не ахти какие, квалификации никакой вообще. Ивана и самого мучили сомнения -понимал, что не совсем он пара для Маши. У нее торговый техникум за плечами, место неплохое: продавщица крупного отдела в универмаге, родительский дом.
А что он может ей предложить? Сам-то живет в холостяцком общежитии. Будущее тоже представлялось туманным. Звезд с неба Иван никогда не хватал, талантов особых за собой не наблюдал тоже, а за плечами - всего-навсего восьмилетка. Но Маша сказала твердо:пусть старики ворчат, если им нравится, но жить-то ей, а не им.
Тогда справили скромную свадьбу, купили половину небольшого дома и переселились под свою крышу. Иметь свой! кров нужно каждому, истина общеизвестная, да только Ивану эти полдома обошлись дорого. Они с Машей! истратили все сбережения да еще влезли в крупные долги. Получка за получкой! словно в прорву проваливались. Они ограничивали себя во всем, но долги уменьшались крайне медленно. К тому же и в доме у них почти ничего не было - только кровать, стол да пара старых стульев, оставшихся от прежних хозяев. На новое жительство перебирались летом, а когда наступили холода, выяснилось, что у них и топить нечем. Снова идти на поклон к родителям, которым они и без того сильно задолжали, Маша не захотела. Тайком от Ивана она продала одно из своих платьев и привезла дрова. Узнав об этом, он помрачнел, но промолчал. Ну что он мог сделать?!
«Не хмурься, Ванюша, не надо!- шептала она, обхватив его шею теплыми ласковыми руками.- Обожди немножко. Вот расплатимся с долгами, мебель купим, приоденемся … А пока - потерпим … »
Но у него не хватало терпения. Его, привыкшего в холостой! жизни не считать денег, сейчас стала необходимость держать на учете каждую копейку. По утрам он ел картошку с растительным маслом, запивая чаем и уходил на работу. На обед Маша давала ему рубль, но он брал в столовой! суп без мяса, самое дешевое второе-кашу или надоевшее пюре- и экономил полтинник на следующий день. Хотел даже бросить курить, но был слишком сердит на постоянные ограничения, и из этого ничего не вышло. Однажды они грузили в вагоны мясо. Зимний день быстро померк. Уставшие к концу смены грузчики в полутьме развешивали на крючьях вагона-ледника огромные куски бычьих туш.
Мясо … Почему-то на миг в мозгу Ивана промелькнула соблазнительная картина: Маша стоит около их маленькой, жарко пылающей плиты, а перед нею вместо чугунка с осточертевшей картошкой аппетитно пышет паром большая эмалированная кастрюля с наваристыми щами … Оглянувшись, Иван заметил, что он один в вагоне. Голос кладовщика доносился из пакгауза, где рабочие нагружали тележки. Иван решился. Вытащил из кармана складной нож и, отхватив большой кусок от висевшей на крюке туши, сунул его за пазуху.
Сердце билось. Раньше он замечал, что некоторые из грузчиков таскают из складов кое-что по мелочам, но сам никогда не занимался: стоит ли пачкать руки!
И вот…
«Ну и черт с ним,- подумал Иван.- Авось, сойдет. Обыскивать никто не будет».
Рабочий день близился к концу. Окончив погрузку, бригада пошла в пакгауз на перекур. Иван устроился поодаль от всех на перевернутом ящике. Неожиданно к нему подсел Рыжий - так называли этого развязного парня грузчики за его огненную шевелюру. О нем поговаривали, что весьма нечист на руку, но доказательств не было.
Рыжий достал помятую пачку вытащил папиросу. прикурил. Потом сказал негромко кривя губы в усмешке:
- Когда тянут мясо, то завертывают в тряпку и суют под ремень. А за пазухой! прячут зеленые воробьи. Там только слепой не увидит!
Он смотрел в сторону. Иван чувствовал себя оплеванным.
- Опыт в нашем деле - великая вещь!- так же тихо добавил Рыжими, как ни в чем не бывало, встал и пошел к другим грузчикам.
Дома Иван объяснил: грузили, кусок упал, в темноте не заметили, вот он потом и подобрал. Подобрал -только и всего.
Маша посмотрела на мужа внимательно. Видимо поверила, улыбнулась и сварила вкуснейший суп, заправив его картошкой и луком …
Лиха беда, говорят, начало. Постепенно при погрузке стало «падать» все больше. Правда, домой!
Иван приносил далеко не все «упавшее»: стеснялся жены. Но зато теперь частенько, приходя с работы, выкладывал на стол три-шесть рублей: подработал на лесоскладе, дрова грузил …
А на деле выглядело так. Вскоре после памятного случая Рыжий, присмотревшись к Ивану, затянул его в компанию, в которой было еще двое грузчиков. Все они «работали по мелочам». Взятое из пакгаузов забирал Рыжий, уносил куда-то, а потом являлся с водкой и деньгами. Первое время Иван пить отказывался, и всю его «долю» отдавали наличными. Потом Рыжий прижал его:
- Компанию не уважаешь? А знаешь пословицу: с волками жить - по волчьи выть? Мотай на ус!
И Иван стал частенько являться домой! навеселе: мол, ходил в «Гортоп», опять подработал - брикет грузили, вот заказчик и угостил, взял бутылочку, погрейтесь, сказал, ребята, холодно нынче …
Маша прощающе улыбалась, ерошила ему волосы:
- Только ты, Ванюша, не очень увлекайся этим … согревательным.
Он и сам понимал, что все это к добру не приведет, но успокаивал себя: вот вылезут из долгов, и он поставит точку.
А пока … да что тут особенного? Подумаешь, кружок колбасы или что-нибудь в этом роде! Во все времена грузчики прихватывали от того, что грузили. Можно сказать - это их незаписанное право. Даже старший кладовщик, поймав однажды с поличным Петьку, дружка Рыжего, ничего не сказал начальству, только выругался и отобрал взятые из разбитого ящика плитки с шоколадом.
Но однажды Рыжий предложил Ивану большое «дело». Он обещал «уладить товар» сам с дружками, а ему, Ивану, оставалось только постоять «на стреме» - постеречь, пока они переправят через забор с территории складов несколько рулонов мануфактуры. Он заколебался. Возможность разом покончить с долгами была соблазнительна. С другой стороны, это, конечно, было опасно. О том, что он должен стать соучастником в краже, Иван уже не думал.
А потом был провал, за ним - арест, суд … И взгляды сотен людей, и мучительный стыд, и горечь запоздалого раскаяния. Потом еще хуже: редкие свидания с Машей, ее жгучие молчаливые слезы, скудные продуктовые посылки, на которые она отрывала от жалкой суммы, остававшееся после расплаты с долгами.
Как прожила она эти три года? Только легкие морщинки, что появились у нее между бровями и в уголках глаз, говорили о том. Маша, Машенька …
Дорогая женушка, милая подружка!
… Иван тряхнул головой, отгоняя воспоминания, слегка оттолкнулся от перил и торопливо зашагал по акведуку.
Сегодня он скажет жене: ничего особенного, но появилась надежда. Ведь Маша так переживает, что его нигде не берут.
УТРО НОВОГО ДНЯ
На душе было смутно и тревожно, когда он подходил к телефонной будке. И сама будка, и улица, на которой она стояла, были новыми. Их построили, когда он был далеко отсюда.
Он нерешительно открыл стеклянную дверцу, шагнул внутрь. Трубка молчала. Он понял, что в волнении сделал что-то не так, и начал старательно изучать инструкцию -как пользоваться автоматом. Было такое ощущение, что он звонит из какого-то старого мира в новый, незнакомый ему мир.
Наконец в трубке женский голос сказал:
- Вас слушают.
Он заторопился:
- Я… мне… Там у вас работает товарищ Грачев …
- Да, да, Викентием Лукичом зовут.- От волнения на лбу у Ивана выступил пот, и он вытер его широкой ладонью. Вот сейчас решится его судьба!- Викентии Лукич? Здравствуйте, Викентии Лукич. Это Вихрастов к вам звонит… Да я, Иван, мы еще на квартире с вами разговаривали … Приезжать? Спасибо, Викентии Лукич! Большое вам спасибо!..
По дороге в университет Иван взглянул на уличные часы. Было уже десять. На одиннадцать его вызвал начальник горотдела милиции Колосов. А вдруг в университете придется задержаться? Устроиться на работу- не пирожок съесть, на это время требуется. Как же быть?
Иван остановился в раздумье. С милицией шутки плохи. Туда лучше не опаздывать. С другой стороны, опять же, времени в обрез, а тут целый час ждать … А может, все-таки зайти? Часом раньше?
Он свернул к милиции.
В приемной начальника никого не оказалось. Перед дверью с табличкой он нерешительно потоптался, потом постучал.
- Войдите!- донеслось из кабинета.
Он вошел и остановился.
- Я, гражданин … простите, товарищ начальник …
- Недавно оттуда?- поднял седую голову полковник.-Проходи, садись.
Иван опустился на стул, стоявший перед столом.
- Правильно угадали, товарищ полковник, недавно.
- Здорово ж ты обучился … Ну, по какому делу пожаловал? Хотя, постой,- он заглянул в настольный календарь.- Иван Вихрастов? Ага, на одиннадцать я тебя, братец, вызывал. По вопросу трудоустройства. Так как же у тебя с работой обстоит?
Иван замялся. Сказать или не сказать? Скажешь, а начальник запретит? Вполне возможно …
Полковник ждал, поглядывая на посетителя. Иван кашлянул, будто прочищал горло. Ответил:
- Да вот сегодня обещали устроить. Сейчас еду. И куда? В университет …
По ученой части, значит, решил пойти?- не то недоуменно, не то с иронией осведомился Колосов.
- Да нет, что вы!- смутился Иван.- Работать буду … так, вроде служащего. Сам еще толком не знаю.
Полковник помолчал, постукивая карандашом по столу.
- Что ж, ладно. Если устроишься сам, это тоже неплохо.
Но запомни: чтобы на какой угодно работе у тебя комар носа не подточил. Лекций читать не буду, ты сам уже ученый, понимаешь. Будет трудно с работой -приходи, всегда поможем, если твердо решил человеком стать. Все. Иди.
С чувством большого облегчения Иван покинул кабинет начальника милиции.
Еще до звонка Вихрастова утром этого же дня к проректору университета по хозчасти Троицкому зашел озабоченный главбух Грачев.
- Здравствуйте, Николаи Иванович …
Троицкий, как всегда, был в отличном настроении.
- А, Викентии Лукич! Здравствуй, здравствуй. Что такой задумчивый? Баланс, что ли, не сходится?
- Баланс в порядке … У меня к вам, так сказать, как бы это поточнее выразиться … дело несколько щекотливого свойства.
Проректор хмыкнул.
- Выкладывай свое щекотливое дело. Да ты садись,- он приготовился слушать.
- Так вот,- начал Грачев,- есть у нас вакантная должность коменданта …
- Есть такая,- подтвердил проректор.- Никак не подыщем человека-ставка, сам понимаешь, низковата.
Грачев пощипал клинышек бородки, помолчал, словно решая, говорить ему или не говорить.
- Так вот,- повторил он,- знаю я одного парня, который на эту должность согласен.
- Так в чем же дело?
- А в том, что парень этот из заключения вернулся. Сидел за … драку. По молодости, по глупости, как говорится. А вообще-то неплохой. Образование незаконченное среднее имеет, сирота, работать рано пришлось. Жена у него есть. Сам энергичный, разворотливый. Помочь бы ему надо на ноги встать. Как вы думаете, Николаи Иванович?
Троицкий потер подбородок, ответил осторожно:
- Положение, действительно щекотливое. Но!Принять … А тем более на подобную должность. Чуть что - за него отвечать придется. Ты вот, например, ручаешься за него?- Проректор в упор посмотрел на Грачева.
- Я?.. Да, пожалуй… Иначе бы и не пришел к вам.
- Что ж, это уже другой поворот. Тогда последний вопрос: какие у тебя причины за него хлопотать?
Грачев развел руками.
- Из, так сказать, соображении человеколюбия.
- Кроме того, и парень стоящий А ошибок в молодости кто не делает? К тому же, говорят: за битого двух небитых дают.
Главбух умолк. Проректор сказал задумчиво:
- Пословица-то верна. И гуманность-вещь в нашей жизни необходимая. Даже неизбежная… Но оставим пока этот вопрос философам. Сдается мне, что ты о чем-то умалчиваешь. Так? Давай уж начистоту. Родня он тебе, что ли?
- Что ж, пусть будет начистоту,- вздохнул Грачев.- Дело тут, Николаи Иванович, гораздо сложнее и упирается в вопросы не философии, а морали … Хлопец этот мне не родственник. Когда его судили, я, как свидетель этой неприглядной истории, о которой рассказывать не хочется, давал показания. И… э-э… малость переборщил. В общем, парень получил несколько больше того, чем заслуживал. Я такого поворота не ожидал, но было уже поздно … - Главбух сокрушенно развел руками и заключил:- Так что я перед ним в большом долгу,
Николаи Иванович!
- Вот это похоже на истину,- Троицкий стукнул костяшками пальцев по столу, словно поставил точку.-Ну, ладно, согласен. Веди своего парня. С отделом кадров я поговорю. О судимости, конечно, распространяться не стоит, а то парень будет чувствовать себя не в своей тарелке.
- И я так думаю,- быстро согласился главбух.- Так он скорее привыкнет тут, осмотрится, пооботрется … а там видно будет.
- Решено.
- Ну, как?
Иван глянул в ожидающие глаза жены и широко улыбнулся.
- Все в порядке, Машенька! Приняли.
На сердце у нее потеплело, а в глазах сразу защипали слезы. Может быть, оттого, что впервые за последние годы увидела она, как муж улыбается, а может, от его ответа, такого долгожданного.
Он молча привлек ее к себе, сказал чуть укоризненно:
- Тут радоваться надо, а ты в слезы!
Маша подняла лицо:
- Смешной! Это же я от радости …
Не отпуская, он поцеловал ее в щеку, посмотрел на легкие морщинки у переносья, подумал: «Это - из-за меня … Так настрадалась».
- Теперь все будет хорошо, Машенька. Заживем спокойно, как все люди. Будет у нас сын. Потом домишко поправим … Или продадим, другой купим, получше. А пока деньги будем понемножку откладывать. Правильно я говорю?
Жена прижалась к его крепкой груди, прошептала:
- Все правильно, Ванюша. Ведь должно же и у нас быть свое счастье. Ну, хоть небольшое, но свое! Я тебя так ждала, так ждала!.. Боюсь только - должность теперь у тебя ответственная, вдруг опять что-нибудь случится? И сам не будешь виноват, а другие подведут.
Брови его строго сошлись.
- Этого не случится. Хватит с меня. Раз пролетел, второго не надо.
- Ну, не будем больше об этом,- жена мягко высвободилась из его объятий,- давай ужинать, ты ведь, наверно, и не обедал сегодня?
- Нет,- признался Иван.- Как-то не до этого было.
ГОРЯЧИЕ ДНИ
В работу ему пришлось впрягаться сразу. Троицкий сам объяснил новому коменданту круг обязанностей . Он водил Ивана по всему главному корпусу университета, показывал аудитории, комнаты для занятий, лабораторные помещения, говорил:
- Вот, Иван Никифорович, наше с вами хозяйство. Как видите, немалое. И наша задача - держать все это, как говорится, в боевой готовности, чтобы хватало оборудования, мебели, не протекали потолки, не дуло в окна, не сыпалась штукатурка. Следите. Работы много, конечно, но вы не бойтесь. Есть поговорка: глаза страшатся - руки делают. Так-то … Что понадобится-обращайтесь к снабженцу или, в край нем случае, приходите ко мне.
Для начала Иван принял склад, навел в нем порядок. Там хранились в основном строительные материалы: щиты сухой штукатурки, цемент, алебастр, доски. Троицкий мягко предупредил:
- Старайтесь вести строгий учет. При приеме и выдаче материалов документацию оформляйте сразу, а то задним числом сделать это иногда бывает очень трудно.
- Хорошо, Николай Иванович,- ответил Вихрастов.-Только в документации-то я как раз слабоват. Никогда не приходилось с этим дело иметь …
Проректор улыбнулся:
- Ничего в этом сложного нет. Выберите вечерок-другой как-нибудь на днях, попросите Викентия Лукича потренировать вас. Он ведь, кажется, вам благоволит?-Троицкий хитровато глянул на завхоза.
Иван смутился, не зная, что ответить.
- Ну-ну!- ободрил проректор по хозчасти.- Нечего стесняться… В общем, в документации вы обязаны разбираться.
После «тренировки» Иван почувствовал себя значительно уверенней.
Учиться новому делу пришлось на ходу. Приближалось начало занятий!, а часть аудиторий! еще не была отремонтирована до конца: когда старый комендант по болезни неожиданно вышел на пенсию, работы кое-где были приостановлены из-за отсутствия материалов. Теперь Иван снова вызвал штукатуров и маляров и возобновил ремонт.
Работа в гуще людей захватила его, и молодой комендант частенько брался не за свое дело. Так, однажды Троицкий застал его со стеклорезом в руке и покачал головой:
- Иван Никифорович!- он сокрушенно крякнул.-Похвально, что вы принимаете близко к сердцу стекольное дело, но у вас внизу целая бригада штукатуров простаивает - ждет материалов. Так что вы, дорого И, распорядитесь там … А стеклорез вручите кому-нибудь из подсобников, кто потолковее.
Совету Вихрастов последовал, однако и после этого попадался Троицкому то с водопроводной трубой на плече, то с ящиком известки, то проректор видел его за переноской батареи парового отопления.
Ему отвели отдельный кабинет, где помещались шкафы с архивами и оставалось достаточно места для большого стола и двух стульев. Предметом особой гордости Ивана стал телефон. На звонки он отвечал сначала так: «Комендант университета Вихрастов Иван Никифорович у телефона…» Потом Маша, не раз звонившая ему с работы, посоветовала сократить эту пышную формулу до простого: «слушаю».
Одним из первых посетителей кабинета был Грачев. Войдя, он осмотрел обстановку, затем обратился к Вихрастову:
- Ну-с, мои дорогой, как устроился?
- Спасибо вам, Викентии Лукич. Устроился замечательно.
- Работа нравится? Бежать не собираешься?
- Что вы, что вы!- замахал руками Иван.- Лучше и не придумать. Только трудновато с непривычки.
- Ну-ну,- пробормотал Грачев и, не сказав больше ни слова, вышел.
Часто заходил сюда Троицкий, всегда начинавший разговор с вопроса: «Как настроение?.. » По утрам появлялись в кабинете временные рабочие.
Постоянно окруженный людьми, Иван быстро втягивался в жизнь большого университетского коллектива. И поэтому, может быть, он, как и все административные работники, ощутил такую приподнятость настроения, когда первого сентября широко распахнулись двери главного корпуса и шумный поток студентов ворвался в здание. Это были не смирные, тихонькие абитуриенты, безмолвными тенями скользившие недавно по коридорам.
Нет, это была совершенно другая публика: шумливая, своевольная, самонадеянная. На первых порах Иван даже побаивался ее, пока не сошелся со студентами поближе и не узнал их лучше. А случай такой представился ему довольно скоро.
ТРОИЦКИЙ ДАЕТ СОВЕТ
У проректора по хозчасти была привычка записывать в настольном календаре все дела, намеченные на день, а вечером проверять - все ли выполнено. Вот и сегодня, собираясь идти домой, он заглянул в календарь, испещренный пометками, расшифровать которые мог только он сам.
Все было в порядке. И вдруг внимание проректора привлекла написанная в самом уголке фамилия: «Вихрастов». Он хмыкнул, потер лоб, затем решительно взялся за телефонную трубку:
- Иван Никифорович? Поднимись-ка ко мне на минутку …
Он быстро переходил с людьми на «ты». Скоро комендант уже входил в кабинет.
- Присаживайся,- указал на стул Троицкий.- Рассказывай, как дела идут. Сегодня мы с тобой не виделись, так?
Сам он тоже сел - не за стол, а напротив Вихрастова -вытащил портсигар, закурил. Начался обычный разговор о хозяйственных делах, о нехватке некоторых материалов, необходимых для завершения ремонта, об установке нового оборудования в лабораториях. Поглядывая на коменданта, Троицкий изучал его наружность. На вид Вихрастову можно было дать года двадцать три. Ладно скроенный, широкоплечий, с крепкими рабочими руками, он производил довольно приятное впечатление.
Лоб у него был большой!, чуть выпуклый!, глаза смотрели прямо, но несколько застенчиво, что как-то не вязалось с пудовыми кулаками коменданта. «Смущается немного,- решил проректор.- Улыбка у него хорошая». Мысли не мешали Троицкому внимательно слушать коменданта, вставлять замечания. Он умел думать о многих вещах одновременно.
- Слушай,- неожиданно прервал он Вихрастова на полуслове,- где твой отец?
Комендант смешался, удивленно посмотрел на проректора.
- Отца у меня нет. И матери тоже. Она еще в сорок пятом умерла. Я у сестры воспитывался, она тогда здесь жила, потом уехала с мужем на Урал - завербовались. И я с ними. Как шестнадцать лет исполнилось, сюда вернулся, в грузчики пошел… вернее, сначала разнорабочим, а потом уж и грузчиком стал.
- Вон откуда у тебя такие кулачища!- протянул Троицкий .- То-то я смотрю - на силушку не жалуешься … Отец не на фронте погиб?
- На фронте, в Отечественную. В сорок третьем.
- Ясно … Вот что, Иван Никифорович, образование у тебя какое?
- Восемь классов. Да все перезабыл уже …
- Вспоминать не собираешься?
Комендант вздохнул.
- Поздновато.
Это ты зря. Десятилетку тебе надо кончать непременно. Детей пока нет? Будут, наверное,-смущенно улыбнулся Иван.
- Так вот, пока нет - торопись учиться. Поступай снова в восьмой, а там подгонишь. Я могу попросить кое-кого из студентов, чтобы взяли над тобой шефство. Они бы тебя живо подтянули … Как ты думаешь?
Вихрастов долго молчал, потом признался:
- Трудно мне сразу решить, Николай Иванович.
- Не думал над этим как-то.
- Ну, а теперь? Можешь подумать?
- Хорошо, Николай Иванович.
- Значит, договорились.- Троицкий положил руку ему на плечо.- Завтра или послезавтра скажешь, что надумал. Сам пораскинь мозгами, с женой посоветуйся.
- Идет?
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Осень стояла чудесная: с многоцветным листопадом, под светлым нежарким солнцем и синим прозрачным небом.
Студенты спешили использовать последние ясные дни: волей больная площадка во дворе главного корпуса не пустовала с утра до вечера. Однажды, проходя мимо нее, Иван остановился посмотреть на игру. Кто-то тронул его за рукав. Оглянувшись, он увидел преподавателя физкультуры Залесного.
- Нравится?- указал тот кивком головы на площадку.
- А как же! Красиво.
- Есть игра еще красивее,- заговорщически сказал Залесный .- Теннис. Могли бы вы построить нам теннисный корт?
- За деньги все можно,- уклончиво ответил Иван. Коркин, Солодовников!- крикнул преподаватель, и от группы болельщиков отделились два студента.
Залесный представил их Ивану:- Вот - оба ярые теннисисты. Покою мне не дают. А это - наш комендант, ребята, он может вам помочь, так что договариваетесь. Ну, я пойду.
Студенты объяснили, что им требуется.
- Многовато,- сказал Иван.- Площадку, конечно, можно выкроить. Здесь, рядом с волейбольной. А что до остального, то кроме столбов, ничего нет. И денег в бухгалтерии тоже: ремонт все съел.
Теннисисты приуныли. Ивану стало жалко ребят.
Вот что, пойдемте-ка к проректору по хозчасти.-предложил он.- Там и посоветуемся.
Вскоре они уже стояли перед Троицким. Иван изложил просьбу студентов.
- Теннис?- переспросил Николаи Иванович.-Неплохая игра. Я бы даже сказал - изящная.
- Так ведь денег нет.
- Над этим я как раз и думаю … Вот что, Иван Никифорович, свяжитесь с нашим шефствующим заводом. По его профилю сетка там вполне может оказаться, а это главное.
- Когда они уже собрались уходить, Троицкий остановил всех троих.
- Иван Никифорович, а как у тебя с учебой? Решил, наконец?
Вихрастов помялся.
- Трудный вопрос-то, Николаи Иванович. Ну, литературу или там историю с географией я еще подгоню, а уж математику с физиков, их просто никак не одолеть …
Проректор кивнул, потом спросил веснушчатого студента:
- Вы ведь с физмата? По-моему, я там вас встречал. Второй курс?
- С физмата. Только третий курс,- поправил студент.- Коркин моя фамилия. - Вот и отлично. Можно обратиться к вам с просьбой? Вот наш комендант, товарищ Вихрастов, собирается в вечернюю школу поступать, и ему нужны наставники по физике и математике. А вы будущие преподаватели. Почему бы вам ему не помочь, а? Вроде практики, так сказать?
Студенты переглянулись.
- Разве что пополам с Солодовниковым,-сказал, кивнув на приятеля, веснушчатый .- А то одному трудно.
- Ладно,- согласился немногословный Солодовников.- Поможем. Но теннисный корт - с вас.
- Идет,- слегка хлопнул ладонью по столу Троицкий . - Отныне, Иван Никифорович, это - твои кураторы, «заботники» в переводе на русский . А ты хоть лоб разбей, но корт им поставь!
…Когда Иван приехал на завод к шефам, там развели руками: «Да где же мы вам возьмем эту сетку? » Тогда он обратился в завком. Член завкома, седой неторопливый токарь, сам сводил его к начальнику снабжения, долго и напористо доказывал тому, что завод может оказать помощь студентам. Но хитрый начснаб сумел доказать обратное. Уходя ни с чем, токарь сказал Вихрастову:
- И вообще не стоило заходить сюда. Пройдохи они все, эти снабженцы.
Иван вздохнул:
- Я ведь тоже, можно сказать, снабженец, но, понимаешь, изворотливости никакой .
- Совесть, значит, на месте,- буркнул старый рабочий и потянул коменданта.- Зайдем-ка на кислородную станцию, спросим ребят, из чего они ограждения делают.
«Из сетки, конечно,- ответили им там.- Где берем? Известно, со склада».
На складе оказались сотни метров сетки, из которой изготовляли ограждения для станков, высоковольтного и другого оборудования.
- Ну и запасец!- сказал токарь.- После этого и верь снабженцам. Идем к директору.
Директор оказался человеком деловым.
- Конечно, просто подарить новый материал мы вам не можем. Но можем продать. Денег нет? Это хуже. Поищем другие пути … В ваших силах организовать, скажем, субботник в пользу завода? Тогда мы вам выпишем деньги, потом продадим за них сетку- и строите на здоровье.
Иван разыскал «своих» студентов, изложил им результаты поездки на завод.
- Субботник? Устроим,- кратко сказал веснушчатый Коркин.
Через неделю корт был готов, и Коркин с Солодовниковым на правах зачинателей дела первыми взялись за ракетки. А Иван… пошел домой, посмотрев всего одну игру - теннис ему не понравился: вот футбол -это да! Но он шел и улыбался. Приятно все-таки сознавать, что и ты сделал что-то для людей…
ЖИЗНЬ ВХОДИТ В КОЛЕЮ
Минули месяц, другой. После долгой и сухой осени зима наступила неожиданно. В каких-то два дня резко похолодало, подул северный ветер, посыпалась сухая снежная крупа. Иван купил шапку-ушанку и валенки. На пальто пока еще не накопили, пришлось ходить в старом. Но это не особенно его огорчало. Главное -настроение было отличное. К работе своей он привык, и теперь в главный корпус университета, где на первом этаже помещался его кабинет, входил как к себе домой. Хозяйским глазом осматривал стены и окна коридора, заглядывал в пустые аудитории, проверяя -нет ли ломаной мебели, не текут ли батареи парового отопления.
Заметив неполадки, шел к Троицкому посоветоваться, что предпринять. Немало времени уходило на поиски различных материалов, в его же обязанности входило заботиться о снабжении котельной углем.
Едва ли не больше сил, чем работа, требовали занятия в вечерней школе, куда он все-таки поступил, а учеба давалась с громадным трудом: он еще только-только догонял остальных. И когда получил первую четверку -по литературе,- радости его не было конца.
Все дни у Ивана теперь заняты были настолько плотно, что он с помощью Солодовникова и Коркина составил себе нечто вроде универсального графика, где буквально по часам были расписаны работа и уроки в вечерней школе, домашние дела, занятия самостоятельные и с шефами. Лишь в воскресенье удавалось ему выкроить часок-другой, чтобы сходить с Машей в кино или просто прогуляться по улице.
Иногда, вернувшись из школы часу в одиннадцатом, а то и в двенадцатом, он снова садился за учебники и засиживался далеко за полночь. Маша звала его спать, он отмахивался:
- Ну обожди же! Понимаешь, уравнение такое хитрое попалось, никак ответ не сходится,- и снова погружался в дебри иксов и игреков, пытаясь уловить ускользающий ход решения алгебраической задачи.
Жена в ночной сорочке неслышно подходила сзади, склонялась над его тетрадкой, прижимаясь к крепкому плечу мужа, старалась припомнить, чему ее учили, вздыхала:
- Перезабыла все …
Иван, не поднимая головы от тетради, вразумлял ее.
Вот готовься сейчас, а на будущий год сдавай в наш университет, на вечернее или на заочное … И будет у нас ученая семья.
Она смеялась:
- Не слишком ли много ученых для одной семьи?
- Ученье не вредит. И сам малость умнее становишься, и заработок потом повышается. В общем, прямой расчет,- солидно говорил Иван.
- Кем же ты сам-то хочешь стать?
- Понимаешь, еще не решил. Что-нибудь по электрике бы … Интересная профессия и нужная … Я вот подумаю, может, в какой-нибудь электротехнический техникум заочно поступлю, а то очень уж долго учиться … Надо же кому-то из нас и деньги поприличнее зарабатывать.
- Главное - сам учись, с деньгами уж как-нибудь обойдемся.
- Спать ложись, тебе говорят!- закричал вдруг Иван, спохватившись.
По воскресеньям приходили студенты. Объясняли материал они превосходно, только, на Машин взгляд, им не хватало терпения: готовы были за один присест проштудировать со своим подопечным весь учебник физики или геометрии. После занятии Маша обязательно усаживала «шефов» за стол и кормила скромным, но плотным обедом. Студенты обычно долго отказывались, но ели всегда с завидным аппетитом.
Иногда, когда не было срочных дел в университете,
Ивану удавалось выкроить время для занятии и в рабочий день. Тогда он подкарауливал Солодовникова или Коркина, и, если хоть один из студентов был свободен, они, запершись на часок в его кабинете, решали задачи или разбирались в тонкостях физических законов. По немецкому с Иваном занималась студентка с литфака Катя Степанова. С нею его познакомил шеф. Катя, в отличие от Солодовникова с Коркиным, была очень терпелива и усидчива. Она могла сто раз возвращаться к одному и тому же, пока Иван, наконец, не усваивал необходимого правила. Это она заставила его ежедневно выписывать по десять немецких слов и заучивать их с утра. Поднявшись с постели, он умывался и перед завтраком сидел за коротеньким списком, а потом по нескольку раз в день вытаскивал из кармана контрольный листок и проверял, правильно ли заучены слова. Случалось, что, сидя в бухгалтерии или проходя по коридору университета, он бормотал: «Дас фэн-стэр - окно, хэльблау - голубой, ди фрюлинг - весна … »
Это неясное бормотание услышал однажды, спускаясь по лестнице, Троицкий . Не поняв сразу, в чем дело, он подошел к коменданту, стоявшему на площадке, тронул его за плечо.
- Это ты о чем, Иван Никифорович?
Тот, углубившись в свое занятие, ответил не сразу.
Увидев проректора, улыбнулся.
- Слова зубрю, Николаи Иванович, немецкие … Степанова заставила.
- Вон как! А я уж думал - не заболел ли ты, что сам с собою разговариваешь!- Троицкий засмеялся.- Давай, продолжай, не буду мешать.
«Смотри ты, как пошел парень,- думал проректор, спускаясь по лестнице.- Просто не узнать … ». Он вспомнил, каким пришел Вихрастов: неловко смущающимся. И много ли прошло с тех пор - всего месяца четыре! Великое дело -приставить человека к месту да не забывать поправлять …
О том, что в этом и его заслуга, Николай Иванович не подумал. Не умел считать своих заслуг.
А Иван остался стоять на площадке. Смотрел в окно безумными глазами, зубрил без мятежно немецкие слова. И не знал, что готовит ему впереди жизнь.
ТУЧА НА ГОРИЗОНТЕ
Зимняя сессия. Студенты собирались группами, вели разговоры об экзаменах и экзаменаторах, подолгу задерживались в библиотеке, выстраивались в очередь у кабинета иностранных языков: спешили сдать «хвосты» -задолженность по домашнему чтению. А кое-где в уголках уже весело обсуждали план встречи Нового года.
Лишь у Ивана Вихрастова настроение было хуже некуда. И на то были свои причины.
… На днях он пришел домой нетрезвый. Пришел, молча разделся, сел на стул в кухоньке, отгороженной от их единственной комнаты тонко фанерной переборкой, и стал смотреть в темный угол, не зажигая света. Маша, ласковая, заботливая Маша, подошла, привычно взъерошила его волосы, ждала, когда он заговорит. Но он, казалось, даже не заметил ее присутствия.
- Ну, что такой хмурый ? С какого горя выпил?-не выдержала она.- Нездоровится?
Иван тяжело вздохнул, отрицательно помотал головой . Жена встревожилась.
- Неприятности на работе или еще что-нибудь приключилось?- снова спросила она. Муж не отвечал, и она повторила настойчивее:- Что же случилось?
- Отстань,- сказал он неожиданно грубо, как ни разу еще после своего возвращения не говорил. Затем, видимо, почувствовав, что сделал неладно, слегка привлек ее к себе и тут же отпустил.
В школу в этот вечер он не пошел. Разделся и лег на кровать, закинулруки за голову и - думал, думал о чем-то… Лишь ночью, когда жена, потушив свет, прилегла рядом, не выдержал, рассказал.
…С некоторых пор он начал замечать на себе любопытные взгляды сослуживцев, особенно женщин. Он поправлял лацканы старенького пиджака, проверял ворот рубашки - может, пуговица отлетела? Нет, его не переставали разглядывать исподтишка, хотя костюм был в полном порядке: Маша всегда вовремя бралась за иглу или утюг. И притом рассматривали так, будто видели впервые. Немного времени прошло, и Иван почувствовал, что отношение к нему на работе в чем-то изменилось. Внешне это проявлялось хотя бы уже в том, что разговаривать с ним стали стесненнее, торопливее, будто собеседнику не терпелось срочно закончить какое-то очень нужное дело. «С чего бы это?-терялся в догадках Иван.- Может, я маху какого то дал в работе?..»
Сегодня он спросил одну из машинисток:
- Ты что это меня изучаешь? Постарел я или помолодел?
На шутливо заданный вопрос та сразу не ответила, неожиданно вспыхнула, смутилась. Потом пролепетала:
- Да просто так …
Ивана это не удовлетворило, а потому, поймав в коридоре Викентия Лукича, он поделился своими наблюдениями.
- Повышение тебе, наверное, предстоит,- развел руками главбух,- а женщины, как водится, первыми пронюхали, вот и разглядывают.- И он засмеялся, не разжимая тонких губ. Потом похлопал Ивана по плечу.
- Ты не обращай внимания: женщины - они и есть женщины. Им всегда пища для любопытства нужна. Сегодня тебя рассматривают, завтра - меня, а там кого-нибудь еще. Знаю я этих сплетниц…
Главбух ушел. Иван махнул рукой и тоже пошел заниматься своими делами. Весь день, вызвав три самосвала, возил со станции уголь к котельной главного корпуса. И лишь когда начало темнеть, с последним рейсом вернулся, чтобы оформить документы. В здание он вошел со двора-так было ближе. Поднявшись на второй этаж, где помещалась бухгалтерия, он остановился в маленьком коридорчике, проверяя в последний раз накладные перед тем, как сдать их. И вдруг услышал голоса, доносившиеся из-за угла,-коридорчик делал в этом месте поворот. Разговаривали две женщины. Он не обратил бы на это внимания, если б одна из них не упомянула его фамилию. Тогда Иван невольно прислушался.
- Уж мне вы можете поверить, милочка, из самых надежных источников! Я даже поинтересовалась в отделе кадров - там же моя подруга работает, вы знаете. Подняли тихонечко его личное дело, заглянули. И вы представляете - все годы отмечены, а трех в его трудовой книжке как не бывало!
По голосу Иван узнал Аиду Прокофьевну, бухгалтера, носатую женщину неопределенных лет, с которой ему приходилось сталкиваться почти ежедневно: все наряды, накладные и другие его документы проходили через ее руки. У Ивана все внутри замерло и похолодело. Вот оно, чего он так боялся! Узнали, раскопали…

 А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ
Маша сказала:
- Что бы там ни говорили, а падать духом все равно нельзя. Если будешь хорошо работать, так к чему они будут придираться? А что узнали о судимости,- может, даже лучше. Ведь где бы ты ни работал, узнать все равно узнали бы. Уж лучше сразу перетерпеть. Тебя ведь увольнять никто не собирается!
Увольнять его действительно никто не собирался. Главное - Троицкий ничего не говорит, Викентии Лукич поддерживает по-прежнему. Так чего же ему паниковать?
К такому выводу пришел Иван утром, когда холодная вода из умывальника и крепкий чаи освежили его. И вообще Маша права: стоит ли вешать нос из-за какой-то старой сплетницы.
До университета было вдвое дальше, чем до магазина, в котором работала Маша, поэтому Иван всегда уходил первым. Вот и сегодня, одевшись, он встал у порога, когда жена только еще убирала со стола посуду. Берясь за ручку двери, оглянулся:
- Ладно, Машенька. Не такое пережили.- И вышел. Еще по дороге подумал, что первым делом надо будет сдать вчерашние накладные в бухгалтерию. Однако стоило ему вспомнить о пепельных буклях и внушительном носе Аиды Прокофьевны, как мужество покинуло его. Если уж она ведет такие разговоры с библиотекаршей, то в бухгалтерии наверняка все давно известно, недаром на него там в последнее время все глаза пялят. Хорошо хоть, что там Викентии Лукич сидит - он наверное приструнивает их немножко …
Оттягивая неприятный момент, Иван долго сидел в своем кабинетике. Потом придумал дело: его просил зайти проректор по хозчасти, так почему бы и не сходить к нему с утра?
Но именно там он и столкнулся с Аидой Прокофьевной. Пятясь задом, она выходила из кабинета Троицкого, что-то договаривая на ходу. Последнюю фразу Иван услышал ясно:
- Я вас предупредила, Николаи Иванович, потому что считала себя обязанной
Она повернулась и, очутившись лицом к лицу с Вихрастовым, испуганно зажала рот рукой. Затем мгновенно исчезла из приемной.
- Прикрыв за нею дверь, Иван вошел в кабинет проректора, поздоровался, спросил хмуро:
- Это насчет меня она приходила, Николаи Иванович?
Троицкий секунду подумал и утвердительно кивнул головой
- Неважные дела, Иван Никифорович. Узнали в университете о твоей судимости. Теперь мне проходу не дают… Тебе, наверное, тоже не сладко приходится?
- Да, я вчера слышал об этом. От нее же,- Иван махнул рукой на дверь, в которую вышла бухгалтер.- Случайно услыхал.
- Аиде Прокофьевне только на зуб попади!
Что же мне теперь делать, Николаи Иванович?- Иван мял шапку в руках, вопросительно глядя на проректора.-Раз все известно?
Тот откинулся в кресле, побарабанил пальцами по столу, переложил с места на место несколько предметов.
- Делай то же, что и раньше. Работник ты неплохой, к делу серьезно относишься, стало быть, и рассуждать нечего. А болтовня эта постепенно затихнет.
Перемелется - мука будет, как говорит народ… Теперь вопрос: ты в самом деле сидел за кражу?- Троицкий испытующе посмотрел на Ивана.
Вихрастов покраснел. Отпираться было нельзя.
- Да,- тихо ответил он и опустил голову.
- Почему же скрыл?
- Да ведь иначе вы меня не приняли бы … А меня и так нигде не принимали.
Проректор молчал долго. Так долго, что даже через плотно закрытые двери кабинетного тамбура стало слышно, как где-то в глубине коридора разговаривают и смеются студенты. Иван ждал, не поднимая глаз. Сейчас решалась его судьба.
- Ладно, иди,- сказал наконец Троицкий.- Иди и помни, что я на тебя надеюсь. Не подведешь?
Иван облегченно вздохнул: отлегло- от сердца.
- Не подведу, Николаи Иванович!
Побродив по коридору и успокоившись, Вихрастов поднялся на второй этаж, в бухгалтерию.
Увидев его, Аида Прокофьевна порозовела, как девочка. Однако тон ее был сух, движения остались сдержанными. Не глядя на коменданта она приняла отчетные документы, долго и придирчиво рассматривала их. Казалось, будь у нее микроскоп, она не поленилась бы изучить с его помощью каждую букву. Иван не выдержал: - Все, что ли?
- Вы свободны,- нехотя выдавила бухгалтер.-Запомните: теперь угля должно хватить до конца отопительного сезона.
- До конца и хватит,- спокойно ответил Иван.
- Сомневаюсь,- сказала вдруг Аида Прокофьевна зловеще.
В кабинете наступила тишина. Иван понял, что подразумевала под последним словом бухгалтер, и почувствовал, как все, сидящие здесь, настороженно ожидают его ответа. Лицо коменданта потемнело. Стиснув зубы, он процедил:
- Напрасно сомневаетесь. Углем я не торгую!- И вышел, хлопнув дверью.
В кабинете воцарилась тишина.
Весь день работа валилась у него из рук. Он брался за одно, бросал, принимался за другое, и опять не клеилось. В половине четвертого в кабинет зашла Катя Степанова, как всегда спокойная, аккуратно причесанная, с ученическим портфелем в руке. Неторопливо пристроив на горке деловых бумаг шапочку-колпачок, села перед Иваном, раскрыла портфель.
- И так, что у нас на сегодня? Ага, плюсквамперфект. Надеюсь, вы не заняты сейчас? Кажется, не заняты, только немножко кисловато выглядите. Но времени у нас в обрез -к пяти мне на зачет,- так что доставайте бумагу, берите ручку и слушаете.
Деловитость девушки подействовала на него успокаивающе, как голос врача на больного. Иван потер лоб, вытащил чистую тетрадку. Виновато признался:
- Вы уж простите, Катя, только слова я сегодня не выучил …
- Это неизвинительно,- педантично поджала губки студентка, но тут же, не выдержав тона, рассмеялась:-Ставлю вам неуд. Поехали дальше. Плюсквамперфектом называется одна из временных форм немецкого глагола. Она выражает действие, которое совершилось в прошлом раньше другого действия …
Студентка так обстоятельно объяснила ему, что значит « прошедшее в прошедшем», что когда он уже все понял, она еще продолжала объяснения. Не желая ее перебивать, Иван делал вид, будто слушает, сам же думал о своем. Когда она закончила, он вдруг спросил ее задумчиво:
- Скажите, Катя: «До того как стать преступником, он был честным человеком … »- это плюсквамперфект?
Она удивленно вскинула пушистые реснички:
- Ну и пример!- Чуточку подумав, сказала:-Вообще, это предложение с временным придаточным. Но оттенок плюсквамперфекта, безусловно, есть: сначала «был», потом «стал», одно действие предшествовало другому и оба - в прошлом.
- Оба - в прошлом?- неожиданно заинтересовался Иван.- Хм … А что же сказать об этом человеке сейчас?
- Не знаю,-пожала плечиками Катя.- Ваш пример об этом не говорит. И вообще, перестаньте отвлекаться …
Она постучала карандашом.
Урок продолжался.
Придя домой, Иван сказал жене:
- Ты знаешь, кто я? Я - плюсквамперфект: сначала - «был», потом - «стал», а что сейчас из себя представляю - никто не знает.
Маша улыбнулась:
- Я знаю. Ты - хороший.
… И ПОЛГОДА СПУСТЯ
Отошли зимние метели, от звенели морозы. Потом под улыбчивым весенним солнцем журчали ручьи и распускались первые, клейкие и пахучие, листья на деревьях Затем они стали крепкими, широкими, темно-зелеными, густой тенью прикрыла и городских пешеходов от яркого июньского солнца.
Иван Вихрастов работал и учился, учился и работал так, что не знал ни остановки, ни передышки, словно хотел наверстать потерянные три года. Да он и в самом деле желал этого.
Конец июня знаменовал для него окончание восьмого класса и прибавку хлопот по работе. С завершением сессии студенты должны были вот-вот разъехаться на каникулы, они ждали только выплаты стипендии. А Иван уже снова взялся за ремонт помещении главного корпуса. В эти дни он помогал заведующему лаборатории маркировать и укрывать оборудование перед ремонтом. Малярные работы уже начались. Часть маляров приходила во вторую смену. Иван допоздна задерживался с ними, как говорил Маше, «для хозяйского глазу». Вот и вчера задержался.
В бухгалтерию он теперь забегал чаще, чем прежде: требовалось выписать то одно, то другое, больше по мелочам. Там его неизменно встречал холодный взгляд Аиды Прокофьевны. Но Иван уже привык не придавать этому взгляду значения: шут с ней, с этой недоверчивой бухгалтершей, когда-нибудь сменит же гнев на милость!
Для других работников бухгалтерии острота неожиданного открытия, видимо, сильно ослабла. Они уже не изучали его пытливо, выжидающе, будто он был злым чародеем, который вот-вот должен выкинуть какую-то коварную штуку. Нет, просто смотрели как на всякого другого человека. Так же обстояло и со всеми другими сослуживцами. И душа его успокоилась, хотя втайне он продолжал ждать какой-нибудь неприятности.
Однако сегодня все раздумья, опасения, служебные заботы отодвинулись внезапно на самый задний план. В блаженном ослеплении шагал он на работу. Лучи утреннего солнца отражались в окнах домов. Мелкий ветерок играл в листве пихт и тополей, с шуршанием проносились по асфальту автомашины. А Иван ничего не замечал
…Весь вчерашний вечер Маша была рассеянна. Она бродила по дому какая-то отсутствующая, обычную свою домашнюю работу делала механически, не стараясь, что уж никак на нее не было похоже. Потом долго сидела на стуле, беспричинно улыбалась, смотрела на мужа странными глазами - будто зрачки у нее были повернуты внутрь. И только поздно вечером, когда он - по привычке - занимался, вдруг села рядом, прижалась теплой грудью к его руке, спросила:
- Ванюша, ты любишь детей?
Он нехотя оторвался от чтения.
- Детей? .. Не знаю. А что?
Она облизнула полные губы кончиком языка, прижалась еще крепче.
- Хотел бы ты иметь собственного … ребенка?
- Что за вопрос!- Иван пожал плечами.- Детей всем положено иметь, стало быть и мне, и тебе, нам.
Маша долго молчала, потом притянула его голову и прошептала на ухо:
- У нас будет ребенок.
… Вот и шел сегодня Иван, глядя прямо перед собой, ничего не замечая по сторонам. Никогда он ровно не отличался особым воображением, но сейчас одна за другой проходили перед его внутренним взором картины будущего. Они идут с Машей по улице и несут его ребенка- большой кокон одеяльце. Несут с доброй улыбкой!…. Или идет он - с сыном. Сын держится за руку, спрашивает, скажем: «Пап а почему птица летает?», а он, Иван, отвечает: мол птица потому летает,что опирается на воздух, и дальше в том же духе. Или они на демонстрации и сын сидит на плече с флажком в руках красным. Или… Эх ты, уже пришел. Ну, ладно.
Иван миновал вестибюль, глянул по дороге на часы. Они показывали, что рабочий день начался семь минут назад. «Эка, размечтался,-подумал он.- Даже от служебного времени прихватил». Впрочем, это его не обеспокоило. За ним никто не проверял - когда он приходит на работу, когда покидает здание университета. С него спрашивали только за дело.
Когда он поднимался по лестнице, навстречу застучали дробные женские шаги. Он поднял голову. Сверху, стремительно считая ступеньки, спотыкаясь, бежала Лидия Николаевна - старший кассир. Он поздоровался и освободил ей дорогу. Она не ответила, пронеслась мимо метеором. Только и успел заметить Иван, что на ней, что называется лица не было. Покачал головой: на такой скорости и голову запросто можно свернуть!
Интересно, куда это она так несется? Да, сегодня же день получки, а у студентов стипендия. Наверно, ключ от кассы дома позабыла. А обычно такая аккуратная …
Посмотрев ещё раз вниз, Иван добродушно усмехнулся, снова покачал головой и пошел в бухгалтерию.
Дверь была приоткрыта, и оттуда доносились непривычно громкие голоса. Кто-то из женщин торопливо рассказывал:
- … выскочила из кассы - лицо белое, стала дверь закрывать - руки трясутся, никак ключом в скважину не попадет.
- Факт, что-то случилось.
И уже входя в бухгалтерию, Иван услышал в дверях последнюю фразу:
- Может кража? ..
В большой комнате повисла гнетущая тишина. В ней явственно стали слышны шаги Ивана, и все разом повернулись к вошедшему. Но тут же опустили глаза. Однако на приветствие ответили.
Он обвел бухгалтерию взглядом. Женщины сбились стайкой около столов молодых счетоводов - Полосовой и Строкиной. Лишь за столом главбуха одинокой старой птицей, нахохлившись, сидел Викентии Лукич.
- Мне надо выписать алебастр, на складе ни крошки не осталось,- негромко сказал Иван, обращаясь к Аиде Прокофьевне.
Та секунду молчала и вдруг, вся передернувшись, выкрикнула ему в лицо:
- Ничего я вам не выпишу!- Запахнувшись в широкий серый шарф, она проскочила мимо него в открытую дверь.
Лицо Ивана потемнело. Он шагнул к главбуху:
- Мне нужен алебастр для ремонта!
Викентии Лукич посмотрел впереди себя отсутствующим взглядом, ответил деревянным голосом.
- Этим вопросом ведает Аида Прокофьевна. Когда комендант выходил из бухгалтерии, ему показалось, будто пол под ним качается…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРЕРВАННОЕ СЛЕДСТВИЕ
КРАЖА
Полковник Колосов находился в командировке в одном из глубинных районов, когда ему сообщили о случившемся.
- Действуйте, не ожидая моего приезда,- сказал он в телефонную трубку и тут же вызвал своего шофера:-Коля, заводи. Срочно возвращаемся в город.
Однако по дороге им не повезло. Поднялся ветер, нагнал клубящиеся тучи, хлынул ливень. «Газик» мотало в грязи, как суденышко в шторм. На подъезде к небольшому селу у них оборвалась тяга рулевого управления. Пока Коля обегал село в поисках механизаторов, пока узнал, где можно отремонтировать, наступила ночь. Правда, ливень скоро стих, но в город они все равно смогли попасть лишь к рассвету. Непогода здорово задержала их.
Домой заезжать не имело смысла.
- В отдел,- кратко сказал Колосов.
Шофер кивнул, и через десять минут «газик» остановился перед городским отделом милиции. Отпустив машину, Колосов прошел в свои кабинет, сел за стол, потер рукой затылок, крякнул: «И-эх!» Затем, придирчиво осмотрев себя в маленькое карманное зеркальце, спрятал его и велел вызвать нужных -сотрудников.
Вскоре они сидели в его кабинете. Полковник обвел их взглядом. Все были хорошо знакомы ему. Вот начальник следственного отделения старший лейтенант Роев. Высокий стриженный «ершиком», с умным и очень замкнутым лицом. Этот себе цену знает. Деловит и исполнителен. Неподалеку от него сидит на стуле бочком, ноги под себя, майор Толстиков, следователь. Скоро уйдет на пенсию. Весь он какой-то сонный вяловатый но это только кажется. Толстиков - старый волк, хватка у него крепкая. Только грубоват, грубоват… А вот лейтенант Дубов. Тоже следователь. Всего два года, как пришел работать в отдел, окончил юридический институт. Молод, но толков, успел себя зарекомендовать. Этому можно доверить любое дело…
- Разрешите доложить, товарищ полковник?-поднялся с места Роев.
- Докладываете,- кивнул головой начальник милиции.
- В общих чертах суть дела такова. В университете из сейфа старшего кассира Сидоркиной похищена крупная сумма: Это зарплата преподавателей и стипендия студентов за июнь. О краже Сидоркина заявила вчера утром, лично явившись к дежурному милиции. На место происшествия срочно была отправлена группа в составе следователей майора Толстикова и лейтенанта Дубова, с ними - оперативник и эксперт по сейфам. Служебную собаку брать не сочли нужным: бесполезно, университет - место очень людное, следы затоптаны.
Осмотр помещения кассы ничего не дал. Замки двери (вход в кассу из бухгалтерии) и сейфа в полном порядке. На сейфе обнаружены только отпечатки пальцев кассира, а это ни о чем не говорит, кроме того, что преступник мог принять меры предосторожности. На полу тоже лишь следы кассира, которая утром подходила к сейфу.
Документальная ревизия показала, что бухгалтерский учет в полном порядке. Кстати, об этом же свидетельствует и заключение ревизии, произведенной по инициативе финорганов и законченной позавчера. По их, так сказать, вине деньги не были выплачены и в нарушение инструкции остались лежать в сейфе до следующего дня.
У следователей сложились определенные версии о личности преступника…
- Вот и послушаем самих следователей,- остановил Роева полковник.- Начнем с Алексея Николаевича. Прошу,- повернулся Колосов к майору Толстикову.
Тот гулко крякнул, прочищая горло, и заговорил:
- По-моему, товарищ полковник, дело не особо сложное.
- Полагаюсь на ваш большой опыт,- с ноткой иронии отозвался Колосов.- Но деньги еще не найдены, и о легкости дела судить рановато. Продолжаете, Алексеи Николаевич.
- Хорошо,- согласился следователь.- Так… По свидетельству банка деньги были вручены Сидоркиной около одиннадцати часов утра позавчера, в четверг. Установлено, что она положила их в сейф, установлено также, что днем вынести их было невозможно. Значит, кража произошла несколько позднее - вечером или даже в ночь на пятницу.
Таковы предварительные выводы.
Преступник мог выйти только через главный! ход, и вот почему. Я осмотрел все окна первого и второго этажей. Выбраться из здания через окна невозможно: они глухие, двух рамные и лишь вверху имеют для вентиляции … ну, как их… фрамуги, очень узкие. С третьего этажа прыгать - голову сломать… Черный ход вахтер лично закрыл !В шесть вечера. Замок двери в полной сохранности - к моменту осмотра его еще не открывали, да и выйти бесшумно через этот ход преступник не мог, там вахтеру все слышно.
Вахтер мною допрошен. Старик не особенно разговорчив. Все его показания можно свести к следующему. Студенты уходили из здания весь вечер: библиотека до восьми работала, кто еще экзамены пересдавал, профком заседал и так далее. После студентов ,минут через десять-пятнадцать ушли рабочие, лабораторию они красили. В руках ничего не несли (вахтер за этим специально присматривает), кроме двух-трех сеток с остатками ужина.
Маляров я опрашивал на месте, по отдельности. Все как один утверждают, что весь вечер никто из лаборатории не отлучался больше чем на пять-шесть минут. Они из разных бригад, так что войти, так сказать, «в содружество» вряд ли успели - работают вместе всего три дня. Да и сама одежда маляра, грязная, обувь очень уж неподходящая для такой операции… В общем эта версия, по-моему, отпадает.
После маляров, по показаниям вахтера, до утра никто больше не показывался, ничего он больше не видел и не слышал, но уверяет, что не спал. Раза три-четыре за ночь поднимался на второй этаж, но точное время назвать не может. Ничего подозрительного при обходах не заметил …
- Как вы думаете, мог вахтер со своего места услышать скрип двери бухгалтерии?- спросил внимательно слушавший Колосов, воспользовавшись паузой в докладе следователя.
- Хм… В пустом, тихом здании - пожалуй, да. Бухгалтерия довольно близко к парадной лестнице расположена. Конечно, если у старика хороший слух.
- Замок двери вы, конечно, осматривали. А скрипит она?
- Днем было шумно, товарищ полковник. Во всяком случае, сильно она не скрипит, я бы это заметил.
- Разрешите?- подался вперед лейтенант Дубов.
- Прошу.
- Шарниры двери хорошо смазаны, товарищ полковник. Даже масло наружу протекло.
- Что из этого следует?
Лейтенант немного подумал.
На мои взгляд, это еще ни о чем не говорит, если
и все другие двери тоже смазаны. Но проверить этот момент я упустил из виду. Спешили мы очень … А ваша мысль понятна: если преступник заранее готовился пойти «на дело» ночью, то должен был принять меры. Вряд ли он знал, какой слух у вахтера.
- В общем, уточнить эти детали не мешает,-подытожил Колосов.- Проверьте Алексеи Николаевич. Толстиков откашлялся.
- Немного о вахтере. Показания он давал довольно неохотно, несмотря на мою настойчивость. У меня сложилось впечатление, что старик кое о чем умолчал. Подозревать его я не подозреваю, но поговорить с ним еще раз не мешает.
- Далее. Денежный сейф, по заключению экспертизы, был открыт ключом, а не отмычкой . Ключ от сейфа всегда хранится у старшего кассира Сидоркиной Одно предположение о том, что с ключа был кем-то сделан слепок, было разбито самой Сидоркиной. Когда я ей задал такой вопрос, она в первый момент согласилась со мной , но потом стала категорически отвергать эту версию. Она прямо заявила, что никогда и нигде не оставляла и не теряла своих ключей. Когда я стал подробно интересоваться, где она была вечером в день совершения хищения, то есть в четверг, она категорически отказалась отвечать. Мне кажется, это главное звено, за которое сейчас следует взяться, и поэтому …
- Простите, майор,-прервал Колосов.- А какая сумма была похищена в кассе?
- Двенадцать тысяч рублей.
- Осталось в кассе хоть что-нибудь?
- Сорок четыре рубля мелкой купюрой и много мелочи серебром.
- Интересно … Вор-профессионал забрал бы и мелкую купюру. Особенно если дело происходило ночью спешить было некуда … Или же это человек, для которого воровство - занятие необычное?
- Вот именно, Александр Петрович. Чувствуется, что кража произведена не профессионалом,- оживился Толстиков.
- Возможно, вы и правы,- в раздумье заметил Колосов, - может быть, действительно Сидоркина имела прямое или косвенное отношение к краже…
- Обязательно. И только так,- Толстиков энергично встал. От его сонного вида не осталось и следа.- Ее необходимо немедленно арестовать. Колосов поднял руку: - Подождите майор, не спешите. Вы уже давно порывались ,сделать такой вывод. Но окончательные выводы делать еще рано. Нужно все проверить, тщательно проверить … Ну, а что вы нам скажете?-обратился полковник к Дубову.- Какая вами проделана работа?
- Сделать удалось еще очень немного, товарищ полковник. Майор Толстиков поручил мне подробно изучить кассира Сидоркину. Этим я и занимался вчера. Сидоркина Лидия Николаевна - вдова, тридцати девяти лет, муж - майор Советской Армии, танкист, геройски погиб в 1944 году на фронте в районе Будапешта. От него осталась маленькая дочь. По специальности Сидоркина счетовод. Работала на кондитерской фабрике, в строительном тресте, потом перешла в университет. Замуж не вышла, хотя по словам дочери, предложения ей делали несколько человек.
- Вы успели даже с дочерью познакомиться?-удивленно спросил Колосов.
Дубов отрицательно качнул головой:
- Нину Сидоркину я знал еще раньше, товарищ полковник. С ней меня познакомил мой старый школьный товарищ Олег Кухарев. Он дружит с ней . Когда я просматривал личное дело Сидоркиной и узнал, что у нее есть двадцатилетняя дочь, сразу вспомнил о своем знакомстве. Но уверенности в том, что моя знакомая Нина Сидоркина - дочь Лидии Николаевны, у меня, естественно, не было. Навел справки -она. Это хорошая, развитая девушка, спортсменка, увлекается гимнастикой . Работает воспитательницей в детском саду N 14 по Московской улице. Учел это обстоятельство и пошел «невзначай » встречать свою знакомую с работы. Пришлось, конечно, притвориться, что ничего не знаю о случившемся. Она сама рассказала: мать очень переживает из-за кражи, но надеется, что деньги найдут. Очень осторожно попытался выяснить, где Лидия Николаевна была в четверг вечером, но девушка сразу замкнулась. Впрочем, я особенно и не настаивал: пока она не знает, где я работаю, и раскрывать это нецелесообразно.
Проводив девушку до дома, я решил побывать у них в квартире под предлогом, что хочу пить. Да и в самом деле хотелось. Она пригласила зайти. Как я и рассчитывал, Лидия Николаевна оказалась дома. Что-то не то шила, не то чинила. При нашем появлении она быстро с вернула свою работу и положила в шифоньер. Но я успел заметить, что это была мужская рубашка. Вначале не придал этому значения, но после, когда шел домой, вспомнил о ней Мужская рубашка - для кого? Почему она спрятала ее и спрятала поспешно?
Все это, конечно, интересные вопросы, но разрешить их пока не удалось … Квартира у них небольшая, уютная. Состоит из двух маленьких комнат по 12-14 метров и кухни. Обставлена небогато, но со вкусом -чувствуется, что хозяева любят свои угол. Встретили очень хорошо. Пригласили на чай Я отказался. Выпил воды и ушел … У меня все.
- Вот вы познакомились с семьей Сидоркиной Как вы считаете, могла такая женщина совершить преступление?- опросил Колосов и внимательно посмотрел на Дубова.- Я попрошу вас дать оценку тем впечатлениям, которые сложились у вас в результате беседы.
Дубов посмотрел на Толстикова, потом на полковника, некоторое время покусывал губу, затем осторожно начал:
- Мне трудно сейчас ответить на этот вопрос. Ряд обстоятельств, о которых докладывал товарищ майор, дают основание ее подозревать если не в совершении преступления, то в соучастии в нем. С другой стороны, она никак не похожа на человека с нечистой совестью. Вчера вечером при всем своем радушии она не могла скрыть чувства огорчения. Да, именно чувства огорчения случившийся. Но никакой настороженности в ее поведении я не заметил.
Лейтенант умолк. Подполковник понял, что окончательного вывода молодой! следователь делать не будет.
- Значит, вы склонны думать, что Сидоркина не имеет никакого отношения к преступлению?-подытожил Колосов.
- Скорее всего. Трудно подумать, что она участвовала в краже, а вчера просто хорошо сыграла роль,- развел руками лейтенант.
Подполковник сказал задумчиво:
- Ну, что ж… Вы, Дубов, продолжаете проверку версии о виновности Сидоркиной. Установите во что бы то ни стало владельца рубашки, которую чинила Сидоркина. Если она действительно совершила кражу, то у нее обязательно должен быть сообщник, а скорее все-го инициатор преступления. Сама она решиться на такой шаг едва ли смогла бы. Узнать, что это за человек, нужно быстро. Выясните, где она находилась вечера в день совершения кражи. Раз она скрывает - значит, имеет веские причины. Возможно, это существенно подвинет дело. Преступник мог просто воспользоваться женской доверчивостью. Абсолютно посторонний человек совершить такую кражу не мог … Так, значит, вахтер ничего существенного вам не рассказал?-обратился Колосов к Толстикову.
- Тяжелый он человек, товарищ полковник. Относится к той категории людей, которые придерживаются правила «моя хата с краю»,- в тоне майора прозвучала нота досады.
- Тогда придется мне самому поговорить с ним,-решительно сказал Колосов.- Пригласите его на завтра ко мне. Сами займитесь сбором сведении о нем и о всех работниках бухгалтерии: только они знали, что в сейфе хранится крупная сумма денег … Обо всех собранных материалах сразу же информируете.
НИТЬ ОБРЫВАЕТСЯ, НО…
- Ну, что Шерлок Холме, обдумываешь очередной сверхтонкий! ход?- с грубоватой иронией спросил Толстиков, входя в кабинет Дубова. Кабинеты их были рядом, следователи довольно часто навещали друг друга.
- Приходится и думать,- суховато ответил Дубов, задетый «Холмсом». Но мысли тут же вернулись к делу.-Понимаешь, липовое положение создается. Самому мне к Сидоркиной идти нельзя: вчера отметился, а повторение нежелательно, даже очень. Послать оперативника, чтобы соседей опросил, тоже не выход: дом двухэтажный, жильцы наверняка о краже знают, а тут вдруг если милиция интересоваться начнет. Навредить можно людям ни за грош. Сплетни - они такое на человека понавешают, что полжизни отмываться придется. Стыдно будет перед той же Сидоркиной, если она не виновата. А я вот просто сердцем чувствую, что это так …
Толстиков к этому времени уже прочно обосновался на диване и имел привычно полусонный вид. Когда его молодой коллега кончил, он приоткрыл один глаз по шире.
- Сентименты, сентименты… «чувства», как говорит Аркадии Райкин. А в общем - молодо-зелено, товарищ Дубов. - Майор открыл второй плаз, полез в карман, вытащил бумажку и показал её лейтенанту.- Вот. Ты видишь, что такое? Это заключение экспертизы о том, что сейф был открыт тем ключом, которым его обычно открывают. Иными словами, ключом Сидоркиной . Что ты на это скажешь?
«Ключ все время находился у Лидии Николаевны, она сама это подтвердила,- мелькнуло в голове у Дубова.-Значит … Эх! Не может быть … Или кто другой им воспользовался, а она не знала?»
- В нашем деле главное -факты и еще раз факты,-продолжал, не дождавшись ответа, довольный Толстиков. - Найдешь их, найдешь и преступника. Он полностью вырисовывается на фоне фактических данных. А так он может и милым быть,-мне уж всяких доводилось видывать,- и обстановочку скромную и со вкусом заводить, но появился факт, как говорится, упрямая вещь, и весь этот маскарад уже ни шиша не стоит.
В общем, Алексеи Николаевич, ты хочешь сказать, что характер подозреваемого, его склонности, все окружающее не заслуживают внимания?- не выдержал Дубов.
Толстиков неопределенно хмыкнул.
- Видите ли, Коля … Теоретически я с вами согласен. Все это нужно. Практика призывает к другому. Мы должны найти преступника и передать его в суд. Это наша первейшая задача. По тому, как мы справимся с этой работой судят о нас самих. А что из себя представляет тот или иной тип, так сказать, психологически, изучать лучше не на работе, а в свободное время, на досуге. Нарушил закон - понеси наказание прежде всего … Ну, а если ты станешь поднимать всю сеть причин какого-нибудь преступления, пока будешь нянчиться с одним жуликом или бандитом да разбираться во всех тонкостях его психологии, то десять других такое отчебучат …
- А если человек невиновен?
Толстиков пожевал губами.
- Извинишься задним числом - и только. Все мы люди и у нас ошибки бывают.
- Неприятно это - задним числом извиняться,-хмуро сказал Дубов.
- Что поделаешь?-вздохнул майор и снова принял сонный вид.- У нас, Коля, план. Как на производстве, хоть и ненормированный!. И его надо тянуть. До ста процентов раскрытых преступлении.
Лейтенант отвернулся к открытому окну, за которым еле слышно шелестели тополя. Помедлив, резюмировал:
- При большой спешке есть риск выполнить этот план и на сто десять … за счет подозреваемых.
В кабинете некоторое время было тихо. Потом Толстиков решительно встал.
- Ну, вот что, Николай Дебаты в сторону, хотя и остаюсь при своем мнении: лучше сто десять процентов, чем скажем, восемьдесят … А сейчас займись Сидоркиной вплотную. Задание у тебя - яснее некуда. Я пойду в университет, мне еще там копать да копать …
Майор направился к двери. Уже на пороге его настиг вопрос Дубова:
- Обожди секунду, Алексеи Николаевич. Ты о данных экспертизы докладывал?
Толстиков приостановился. - Конечно.
- Ну и что шеф?
- Да что … Велел вернуть на повторное заключение.
- Вот видишь!- несколько облегченно и с ноткой укора сказал Дубов.
- Не радуйся. Это ничего не изменит. Заключение будет прежним.
Дверь за Толстиковым закрылась. Лейтенант остался один. Разговор ему не понравился, но задание есть задание, и мысль снова переключилась на него.
На оперативника в этом случае полагаться не приходилось, значит, надо было идти самому. Явиться к Сидоркиной на квартиру и побеседовать с -нею откровенно, на прямую? Глупость. А что если она и в самом деле непосредственно замешана в краже! .. Поговорить с Ниной так, мол и так, положение можете спасти только вы, ради матери вы должны … Нет, не подходит…
Время приближалось к часу дня. Еле заметный ветерок, дувший с утра, теперь окончательно стих. Под палящими лучами солнца поникли широкие листья тополей. Даже воробьи, вечно возившиеся в кустах сирени, и те куда-то исчезли, пережидая жару.
Одна из ветвей тополя почти прикасалась к верхнему наличнику, и тени листьев лежали на нагретом подоконнике. Дубов обвел одну из этих неподвижных теней красным карандашом и тут же, вытащив из стола резинку, принялся стирать контур. «Тьфу, черт, опять это мальчишество сказывается… -пронеслось в голове и сразу же механически подумалось:- Ну и жарища! Хоть бы какая плевая тучка навалилась, что ли…»
Дубов старался думать о деле, насильно принуждал себя решать вопрос, а память подсказывала совсем другое: то как дождь хлестал в окна их класса во время последнего выпускного экзамена - веселый июньский дождь, то как он после экзамена потчевал мороженым толстушку из 10-то «Б», то как они после купания в речушке лежали на сыпучем, мелком песке с другом, Олегом Кухаревым …
«Олег! Вот кто может выручить!- лихорадочно заработала мысль. Дубов сразу забыл и о жаре, и о свежей прохладной речке.- Если его попросить, он может сходить к Сидоркиным. Ведь это же в его, черт возьми интересах выяснить, что представляет из себя его будущая … Э-э, как ее, теща. Во имя дружбы и справедливого дела … Нет, не должен отказать. Не должен».
Лейтенант быстро скинул надоевшие полуботинки ( «Чудо! И как раньше не догадался?!»), сунул ноги в легкие сандалеты, подумав, прихватил с собой парусиновую куртку и радостно щелкнул дверным ключом.
Домик, в котором жила семья Олега Кухарева, утопал в зелени. Плотной стеной обступали его огромные кусты жасмина и сирени, за ними почти не было видно невысоких окон с чисто вымытыми стеклами и резными наличниками. Над красной железной крышей поднималась труба, увенчанная жестяным прокопченным петухом. Петух когда-то, как помнил Николай, поворачивался на манер флюгера, но теперь он заржавел и застыл в одном положении, чуть свалившись набок. Да и сам дом тоже осел и как-то покосился. Весной и ранним летом воздух вечерами здесь был густо настоен на аромате цветущей сирени, а позднее - жасмина. Когда-то Николаи, бывало, дня не пропускал, чтобы не побывать у друга. В саду за домом они играли, готовились к экзаменам, толковали, как водится, о девчонках … Олег был его лучшим другом. А теперь вроде бы и не ссорились, а встречаются все реже и реже. Странно получается, стоит переехать в другой район города, и дружба вроде бы меркнет. Много все-таки зависит от того, насколько часто люди встречаются.
Дубов взглянул на часы. Начало второго. Олег, наверное, еще на заводе, придется подождать … Он толкнул знакомую калитку, прошел к крыльцу мимо окон, выходивших во двор. Навстречу ему из сада вышла мать Олега - пожилая дородная женщина.
- Ох ты, господи! Никак, Николаи?
- Сколько лет, -сколько зим, Ольга Васильевна!
- Здравствуйте!
- Да где ж ты запропал? Раньше, бывало, палкой вас не разгонишь, а теперь - на тебе и носа не кажет.
- Работа, Ольга Васильевна, работа. Заела совсем,-развел руками Дубов.- Олега, наверно, нет? Не сообразил я как-то сразу …
- Да в саду он. Во вторую смену ходит. Сын!- крикнула она, повернувшись в сторону сада.- Встречай! гостя!
Из густых зарослей вишенника вылез заспанный Олег. Они крепко обнялись, похлопывая друг друга по спине.
- Ты что это дрыхнешь средь бела дня?
Олег махнул рукой, предложил:
- Пройдем-ка в сад … Мама, готовь нам что-нибудь съестное. Лучше всего окрошечки холодненькой.
- Да ладно уж, знаю,- отозвалась та.- В такую жару разве другое пойдет.
Они сели за низенький самодельный столик, врытый в землю под густой старой яблоней. Олег потер заспанные глаза, лицо у него приобрело озабоченное выражение.
- Слушай, Коля у меня неприятность большая. Почему и спал: чуть не до утра с Ниной по улице ходили, говорили. Тебе конечно, известно, что у ее матери на работе крупная кража была?
Отказываться не имело смысла. Дубов кивнул:
- Знаю.
Вот и пришлось мне Нину успокаивать. Обнадеживать-то я ее обнадеживал: наедут мол вора, новедь тут, сам понимаешь, дело сложное. Все от вас зависит …
Втайне Николаи даже обрадовался, что друг в курсе событии. Это избавляло его от необходимости подготовительного разговора. Он решил идти напрямую.
- Видишь, Олег, какое дело … Я не только знаю о краже, но и веду сейчас по ней следствие. Так что ты уж извини, но именно поэтому я и пришел. Ты можешь мне здорово помочь.
Остатки сна улетучились из глаз Олега. Широко открыв их, он внимательно смотрел на Николая, ждал, что тот скажет дальше.
- В общих чертах: на Лидию Николаевну падает подозрение, что она причастна в какой-то мере к преступлению … Я тебя хорошо знаю,- отговорился он,- и думаю, ты понимаешь, это должно остаться между нами. Дубов замолчал, выжидая.
- Понимаю,- подтвердил Олег. Потом откинул светлую челку, падавшую на лоб.- Можешь быть уверен во мне, как в себе. Ну?
- Так вот. Моя точка зрения: сама она кражи не совершала, просто у нее абсолютно никаких данных для этого нет … Но ее, скажем, простодушием или неосторожностью мог воспользоваться кто-нибудь другой -возможно, близкий к ней человек. Тут уж я прошу тебя: может, знаешь круг ее знакомств? Для следствия и, в частности, для тебя лично это имеет большое значение. Ведь ты, по-моему, имеешь серьезные виды на Нину?
Олег долго и сосредоточенно думал. Потом осведомился:
- Надеюсь, люди не пострадают от того, что я назову их тебе? - Если невиновны, разумеется.
Друг понимающе «угукнул» и рассказал все, что знал о знакомых Лидии Николаевны.
Дубов внимательно выслушал, сказал задумчиво:
- Значит, все знакомые ее мужчины - это мужья ее подруг. Тогда ,кому же она может шить или чинить рубашки? Ведь она не портниха, чтобы шить на заказ!
- Что ты на это скажешь?
Олег отвел глаза. После паузы ответил:
- Понимаешь, в чем дело … Неудобно как-то выдавать чужую тайну, да и сдается мне, что ничем это тебе не поможет … Но ладно. В общем, Нина мне рассказала по секрету, что мать ее дружит с преподавателем университета Залесных . Он холостяк, связаны они уже много лет… предложение Лидии Николаевне делал, по словам Нины, и не раз, а та не соглашается … Из-за дочери, наверно, я так думаю… Как его зовут, не знаю, но это ты и сам сможешь узнать, если тебе интересно.
Он на кафедре физкультуры работает. Встречаются они раз в неделю, по четвергам, я это потому знаю, что часто Нина меня к себе приглашает в этот день - матери дома, -как правило, не оказывается. А в остальные дни она всегда дома. Ясно?
… Толстиков сидел за столом, разглядывая свои красные мясистые пальцы. Завидев входящего в кабинет Дубова, привычно прикрыл глаза:
- Ну?
Дубов бросил куртку на диван, налил в стакан воды, выпил.
Вот так: версия Сидоркиной провалилась. Толстиков приоткрыл глаз.
- Возможно,-протяжно произнес он.- Что добыл? Дубов сел на диван, положил ногу на ногу.
Сидоркина в четверг была у преподавателя физкультуры Залесного. Связь тарная, но давным-давно известная. Не нам, конечно. Живет отлично: двухкомнатная квартира, холостяк, доход приличный . Характеристика: не жаден, не пьет, живет один, сдержан. Жена умерла пять лет назад. С тех пор ни с кем, кроме Лидии Николаевны, не замечен.
- А рубашка какого размера?
- Пятьдесят второго. С плеча Залесного.
Майор повертел большими пальцами. Причмокнул губами - сладко, как во сне. Сказал, раздумывая:
- Эта рубашка еще к одному плечу подходит. Проверял я сегодня смазку дверей и могу тебе задачку подкинуть. Шарниры дверей во всем здании давно не смазывались, а вот в бухгалтерии и у коменданта главного корпуса - фамилия его Вихрастов - смазаны. Обрати внимание: смазка идентичная. Особое масло … А Вихрастов отсидел три года за кражу. Недавно вышел. Однако … комендант. Как? Подойдет рубашка?
Дубов долго качал ногой.
- Не верится. Связи не вижу.
Но Вихрастова придется проверить. Кстати, и все работники бухгалтерии указывают на него.
Займись: Иван Никифорович Вихрастов. Вот адрес,-майор вырвал страничку из записной книжки и протянул ее Дубову.- Главное: существует ли связь Сидоркина -Вихрастов.
Толстиков снова принял сонный вид, только большие пальцы рук медленно вращались один вокруг другого.
За окном вечерний ветерок шевельнул листья тополя, они зашелестели.
ОГОНЬ ПО СВОИМ
Зазвонил телефон. Полковник Колосов, просматривавший корреспонденцию, поднял трубку.
- Товарищ полковник,- послышался голос майора Толстикова,- пришел университетский вахтер. Вы хотели поговорить с ним.
- Проводите его ко мне,- ответил полковник и начал убирать документы со стола в сейф.
…В дверь постучали. За майором вошел небольшого роста старичок с редкими седыми волосами, в старом, но опрятном костюме черного цвета и коричневой рубашке. В руках он держал серую кепку, которая в этот момент ему очень мешала, и старик непрерывно перекладывал ее из одной руки в другую. На вид ему было уже лет под семьдесят.
- Проходите, проходите, отец, не стесняетесь,-
Колосов встал и вышел из-за стола. -А вы, Алексей! Николаевич, можете идти, мы здесь вдвоем потолкуем. Старик, прихрамывая, прошел вперед.
- Ну, давайте познакомимся,-сказал полковник, протягивая ему руку.- Ваше имя, кажется, Яков Сидорович? Мое -Александр Петрович. Садитесь, пожалуйста.
Колосов усадил посетителя в мягкое кожаное кресло перед столом, сам опустился в кресло напротив. Вахтер, видимо, не ожидал такого приема. Чувствовалось, что он несколько растерялся: заметно дрожащие пальцы выдавали его волнение. Но он старательно скрывал свое состояние за безразличным, намеренно спокойным видом.
- Ногу-то, наверно, на фронте повредили?-спросил полковник, давая возможность собеседнику привыкнуть к обстановке.
- На ней. Да это еще в первую мировую, на германском …
- Отцу моему после первой мировой тоже пришлось из строевых выбыть. Потерял от газа половину легких, приобрел - Георгия,- сказал Колосов.
- Оно и я ведь - кавалер Георгиевского креста,- старик взбодрился, глаза его потеплели. Неожиданно он вздохнул и, прищурившись, начал неспешный рассказ, как бы подчеркивая наклоном головы некоторые особенно важные фразы:- Мешала нашим позициям одна деревенька, занятая немцем. Очень мешала. Как заноза в ступне. Коли мешает- надо удалить. Было приказано сделать это нашей роте. Вот с рассвета мы и поднялись.
И так хорошо у нас получилось: быстро и почти без шума. Заняли деревеньку и ждем. А наши-то, видно, не разобрались, или помог кто не разобраться,-посчитали, что у нас не получилось ничего,- взяли да и лупанули по деревеньке со всех батарей!. Значит, по своим. Хорошо лупанули. После, конечно, нам всем по Георгию дали, только немного их потребовалось … Там вот и ногу задело.
Старик мгновение помолчал, как бы размышляя, стоит ли продолжать, но потом все-таки добавил:
- А крест до сих пор храню: как амулет- чтоб свои не били,- он склонил голову набок и с открытой простоватостью посмотрел прямо в глаза Колосову.
«Ох, ты какой! Молодец!»- мелькнуло в голове у полковника. Он понимающе улыбнулся и спросил:
- Ну, а с деревней что?
- Опять пруссаки заняли,-флегматично ,ответил старик и привычно наклонил голову. Колосов подвинулся к вахтеру.
- Да, Яков Сидорович, много такого бывало и тогда, и в более поздние времена. Бывало, но не должно больше быть. Короче, вы должны нам помочь, Яков Сидорович. Человек вы поживший, опытный и важность момента, я полагаю, понимаете. Теперь, с вашего позволения, перейдем к делу … Обстоятельства вам, полагаю, известны, так что не будем терять времени.
Эти слова явно пришлись старику по душе. Он даже выпрямился и с готовностью, как бы извинясь за предыдущий суховатый тон, быстро заговорил:
- Да я всегда от всего сердца рад. Ежели чем могу помочь, посчитаю за честь. Нам, старикам, справедливость дороже всего.
- Вот и прекрасно. Припомните, пожалуиста,-только получше припомните,- что вы делали в тот день, когда была совершена кража, с кем встречались, разговаривали, особенно -кто в конце рабочего дня входил или выходил из университета. Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного?
Вахтер, окончательно успокоившись, свободно положил кепку на стол, уселся поудобнее, спросил разрешения закурить. Пыхнув дымком, начал:
- Понятно. Что я делал в тот день?.. Сменщик один у нас в отпуске, так что я за двоих дежурю. Посему вернулся я утром домой, дров старухе наколол для плиты, два ведра воды принес, чтоб не ворчала. Позавтракал - и на боковую: в четыре снова на смену заступать.
Старик рассказывал не спеша. Колосов его не перебивал мерно кивал седой головой, внимательно слушал. Вахтер добрался, наконец, до самой сути. Полковник насторожился.
- …И вот ушли эти самые маляры … - Старик замолчал. Потом долго поглядывал на начальника милиции из-под густых, нависших над глазами бровей . Неожиданно спросил:- Извините, Александр Петрович, а вот этот товарищ, что меня сюда привел, часом не в начальниках ходит?
- Майор Толстиков? Да нет, не в особых. Он старший следователь. А что?
Вахтер помялся.
- Да как сказать … Нерасполагающий какой-то человек. Больно уж настырный. Вот так возьми да всё ему и выложь.- Старик внимательно посмотрел на Колосова, поднял тонкий сухой палец:- Главного он не берет во внимание: душу человеческую тоже в учет надо принимать. Так-то … Не сказал я ему, а тебе, Александр Петрович, скажу. Последним из университета в тот день ушел комендант наш, Вихрастов Иван Никифорович. А промолчал я вот почему. Судимый он. За кражу какую-то сидел. Но я вот и нюхом, и духом, что называется, чую, что парень тут ни при чем. Душевный он, простои. Опять же: и работает, и в школе вечерней учится. На такое не каждый способен. Семья у него все-таки …
Потолковать вам с ним не мешает. Может, он что и делал и слышал в тот вечер.
Полковник записал на листке фамилию Вихрастова, переспросил имя и отчество. Припомнив, сказал:
- Знаю я этого парня, на работу хотели мы его устроить … Комендантом, говоришь, работает, Яков Сидорович? Н-да … А во сколько же он ушел с работы?
Да минут через пятнадцать после маляров. И в руках ничего не было?
- Нет. Это я хорошо помню. Посидел он еще со мной, закурить дал, поговорили с ним. Радовался, что в другой класс перешел… Потом домой заторопился: Жена, сказал, заждалась, наверно.
- Ну, а как он выглядел? Спокойный был?
Вахтер покачал головой
- Значит, подозреваешь его все-таки, Александр Петрович?- он вздохнул.- Вот этого-то я и боялся …
- Наше дело такое, Яков Сидорович,- прямо ответил Колосов.- Проверять приходится многих, чтобы найти, кого нужно. Да ты не беспокойся- безвинный не пострадает,- успокоил он старика.
- Дай бог, как говорили в старину… Выглядел-то Иван Никифорович нормально. Спокойный был. Он завсегда такой Характер у него неторопливый
Полковник задал еще несколько вопросов и отпустил вахтера. Прощаясь, тот напомнил:
- Очень я тебя, Александр Петрович, прошу: смотри, чтобы огня по своим не получилось.
- Итак, на горизонте появилась новая фигура: комендант университета…
Колосов приостановился, обдумывая мысль.
- Вихрастов, товарищ полковник?- быстро опередил майор Толстиков.
- Совершенно верно,- подтвердил Колосов. Поинтересовался:- А ты откуда знаешь, Алексеи Николаевич?
Следователь подробно рассказал о работе, проведенной за день.
- Что ж, и это урожаи,- подвел итог полковник.- А я о Вихрастове услышал от твоего вахтера. Плохо ты с ним поговорил, в общем, что-то в обиде на тебя старик, Алексеи Николаевич!
Толстиков потупился, прикрыл глаза.
- Да очень уж он неразговорчивый Так, нес все разную ерунду … ну, а я поторапливал, время не терпит.
Колосов нахмурился.
- Не тебя учить, Алексеи Николаевич. Но поторапливать надо умеючи, да и не всякого. Повнимательней будь к людям, поменьше о пенсии вспоминай… Рановато ты начал о легкой жизни думать,-жестко заключил полковник.
Майор виновато выпрямился на стуле, но глаз не поднимал. Походив по кабинету, Колосов сел за стол.
- Ладно, выводы сделаешь … Теперь давай-ка наметим план действии на ближайшие дни.
И ВДРУГ…
Комендант учебного корпуса Никитин оказался совсем не таким, каким представлял его Дубов. Это был сутуловатый, высокого роста человек с впалой грудью. Говорил он тихо, внимательно прислушивался к собеседнику. Дубов чувствовал себя неловко.
- Так вы давно знаете Вихрастова?
- Нет. С тех пор, как он к нам поступил. Меньше года.
- Ничем таким… особенным он не привлекал вашего внимания?
- Обыкновенный парень. Правда, излишне старательный, я бы сказал, будто угодить хочет. А в общем ничего, с таким работать можно.
Следователь подошел с другой стороны.
- Семью его знаете?
- Нет. Не ровесники.
- Так … О судимости его слыхали?
- Слухи ходят. Сам не проверял - ни к чему, если человек старательно работает … Могу даже прибавить:
Приходил он однажды к Троицкому, попросил разрешения взять немного алебастра, цемента и извести -ремонтировался. Тот, конечно, разрешил. Другой на его месте спрашивать бы не стал, и без того все под рукои. Прежние коменданты с такими просьбами не заходили.- Никитин положил на стол руки с длинными узловатыми пальцами, потрогал чернильницу.- В общем, товарищ следователь, о Вихрастове ничего больше сказать не могу. Если уж по-честному - как бы лишнего не наговорить на человека.- Он встал, и Дубов понял, что разговор лучше кончить.
Они пошли по пустому гулкому коридору, запачканному известкой. «Надо посмотреть и на главное действующее лицо»,- подумал Дубов.
- Вы не могли бы показать мне этого Вихрастова издали так, чтобы он сам не видел?
- Это можно. Вон, во дворе.
Никитин указал в окно. Перед раскрытыми дверями склада двое рабочих лениво сгружали с машины бумажные мешки с цементом. Третий, одетый в простецкие брюки и серую рубашку с расстегнутым воротом, помогал им: подхватывал мешки и укладывал в штабель. Лица этого человека лейтенант издали не рассмотрел. «Пятьдесят второго размера дядя,- вспомнил он слова майора Толстикова.- Пожалуй мои старик не ошибся…» Вслух сказал:
- О чем говорили, пусть останется между нами. Пока, извините, не прощаюсь. Возможно, придется и встретиться.
- Ваше дело такое,- осторожно отозвался комендант.-Мне что - можно идти?
- Да, уж извините за беспокойство!
Дубов долго ходил по коридору, сторонясь забрызганных известкой стен, поглядывал в окна. Взгляд его неизменно приковывала одна фигура. Вот разгрузка окончилась. Рабочие в кузове машины присели на борта покурить. Тот, за которым наблюдал лейтенант, подошел к шоферу, отметил ему какую-то бумажку. Дубов усмехнулся: нюх не обманул, третий и есть комендант.
Надо действовать. Но как? Кто еще может прибавить слово-другое к характеристике Вихрастова? Весь корпус пуст, рано еще, людей почти нет. Как в Сахаре…
 Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
 А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.
А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.

- Вот и все.- И отдал мешок Толстикову.
Щеку коменданта дергал нервный тик, и от этого лицо его странно кривилось, будто он вот-вот собирался заплакать.
В кабинете коменданта разложили на столе множество разноцветных денежных пачек. Все стояли молча, лишь Толстиков, фундаментально устроившись на стуле, монотонно считал, аккуратно надрезая облатки:
- … двадцать один, двадцать два, двадцать три … сорок шесть, сорок семь, восемьдесят один … девяносто девять, сто. Правильно. Кладем сто пятерок.- Он щелкал счетами и надрезал следующую пачку.
Потом оформили протокол изъятия. Дубов писал, а Толстиков диктовал, расхаживая по кабинету:
- «… в присутствии понятых … укажи фамилии, имя, отчество … заявил, что предъявляет добровольно деньги в сумме двенадцати тысяч рублей…»
Когда официальная часть была закончена, майор обратился к присутствующим:
- Все свободны, а вам, гражданин Вихрастов, придется поехать с нами.
- Я и не сомневался,- ответил комендант. Он уже, заметно успокоился.
В коридоре библиотекарша, поравнявшись с ним, не выдержала:
- А я так верила, товарищ Вихрастов, что вы стали честным человеком!
Он покосился на светлую голубоглазую девушку, но ничего не сказал.
ДОПРОС
Толстиков явился в кабинет спустя минут пять, протянул записку: «Понятых на всякий случаи предупредил, чтобы не распространялись». Дубов кивнул- ясно. Майор опустился на диван и привычно полузакрыл глаза. Это означало, что протокол придется вести Дубову. Лейтенант поморщился, но с тарным вздохом все-таки полез в ящик стола, извлек пачку синеватой бумаги и разложил перед собой Покосившись на окно, около которого устроился с его разрешения Вихрастов, подумал, что хорошо бы закончить снятие показании до обеда. А то позднее июньское солнце опять накалит небольшое помещение, и кабинет обратится в чертово пекло. Он перевел взгляд на Вихрастова. Тот безотрывно смотрел в густую листву тополя. Лицо его выражало полное безразличие. Лейтенанту это не понравилось. Он решительно придвинул к себе чистый лист бумаги, вынул авторучку.
Начнем. Ваши фамилия, имя, отчество?
Да вам все известно,- отозвался Вихрастов.- Год рождения тысяча девятьсот тридцать седьмой родился здесь, в городе, рос на Урале, потом вернулся, сирота. Женат. До последнего времени работал комендантом в университете и так далее… Ишь ты, какой прыткий,-беззлобно подал голос с дивана Толстиков.- У нас так не делается. Ты уж давай по порядочку, как положено. Обученный ведь, знаешь, не впервой тебе.
«Благодушествует,- с неприязнью подумал лейтенант.-Конечно, что ему теперь: деньги в сейфе, остальное не уйдет… А зря он насчет прошлого ему намекнул».
- Что ж, спрашивайте, а я отвечать буду,- равнодушно сказал Вихрастов.- Все равно ведь захомутаете …
- Вот что, -прервал его Дубов,-петь панихиду рано, Иван Никифорович, или Иван, если хочешь, ты еще молодой. Виноват - ответишь, не виноват -ничего с тобой не случится. Еще спасибо скажешь. Так что оставим пока твою биографию, и начинай сразу по порядку. Где ты был в день кражи?
Деловой тон лейтенанта возымел действие. Вихрастов начал рассказывать:
- Когда была кража, я не знаю. Знаю только, что утром в пятницу пропажу обнаружила Лидия Николаевна, наш старший кассир. А знаю потому, что с тех пор все на меня как на зачумленного смотрят. И вам на меня не зря указали - все уверены, что это я украл деньги из сейфа.
- А почему ты в четверг вечером самый последний с работы уходил? - тихо спросил Толстиков.- Ты ведь здорово тогда задержался после всех.
- И вовсе не здорово. Весь день я на людях был, это вам подтвердят. К вечеру - с малярами. Там, в лаборатории, где они работали, шкафы стоят с дорогими приборами, так что приходилось присматривать.
- Допустим, так,- кивнул Толстиков.- Но за чем ты присматривал после того, как маляры ушли? Или проверял - не осталось ли кого?
- Зачем мне было проверять? - усмехнулся Вихрастов.-Это дело не мое. Запер я лабораторию, вниз спустился, к себе в кабинет. У маляров краска кончалась, так чтобы не забыть утром, я требование выписал и на краску, и на белила. И на олифу еще. Потом домой пошел.
- И никуда не сворачивал по дороге?
- Никуда. Да и поздно уже было. Точно не знаю, но часов, вроде, десять, а может, и больше.
- Пришел домой и …
- Поужинал и спать лег.
- А утром?
- Утром?.. - Вихрастов замолчал.
Дубову, который сидел к нему лицом, показалось, что глаза у Вихрастова затуманились. Но, видимо, это только показалось.
- Утром, как всегда, пришел на работу. А там кража. И все знают, что я срок отбывал за кражу. Так чего тут вора искать - на меня чуть не пальцем показывают.
- Поэтому ты и решил деньги вернуть? - подался вперед Толстиков.
- Нет, не поэтому,- зло сказал Вихрастов, повернувшись к майору.- Не знаю, как вас зовут, только с провокацией ко мне не лезьте! Посадите, черт с вами. Ясно? Но уж я сначала расскажу, как дело было, а вы потом разбирайтесь и говорите все, что вам угодно!
- Без нервов, Иван, без нервов,- успокоительно постучал ручкой по столу Дубов, укоризненно взглянув на майора.- Давай, рассказывай как к тебе попали деньги. Только поподробнее. Больше тебя перебивать не будем. Начинай с самого интересного, на твои выбор. А мы - молчок,- он покосился в сторону дивана.
- Ладно.- Вихрастов посмотрел на зеленые листья за окном, нехотя повернулся снова лицом к Дубову. Опустил глаза, раздумывая, потом снова поднял их на следователя.
- В общем, так было дело … Денег я этих не крал, и никто их мне на тарелочке не приносил. Это вы запишите … Только тут еще немножко и о себе сказать надо сначала …
- Давай, давай,- подбодрил лейтенант.- Мы не спешим.-Он демонстративно отложил ручку в сторону. Толстиков поерзал на диване, но промолчал. Дубов оценил это.
- Знаете,- медленно подбирая слова, начал Вихрастов,-случается, бегает по деревенской улице собака -и никто ее не трогает: своя, на этой улице у кого-то живет. И вдруг смотрят - чужая заявилась. В такую и камнем бросить не грех, а то и палкой огреть по хребту. А уж если у кого курица пропала, то никто не сомневается: эта самая собака и утащила. Тут ей совсем плохо приходится, хоть она и не виновата.
Так попал я в положение этой собаки. Как ни прихожу на работу, даже разговаривают со мной еле-еле. От и до, как говорится. Ну что мне остается делать? Только и ждать: вот-вот милиция за мной заявится. Ждал я и в пятницу уже, и в субботу, и в воскресенье. А все нет. В понедельник прихожу на работу снова. Опять, как на волка, смотрят … Да хуже, чем на волка. Того хоть за силу уважают. И тут взяла меня злость. Ну, думаю, в гробу я всех вас видел! Плевать, уйду с работы - и все, чем такая наука. А понадоблюсь милиции - она меня всегда найдет: из города я не сбегу …
Сел даже заявление в отдел кадров писать. И тут-то и случилось… - Вихрастов помолчал, развел руками.- Как хотите, понимаете, но не люблю я мусор после себя оставлять, С детства приучен так. Обвел я тогда взглядом свои кабинетик. Ремонтом корпуса все занимался, порядок везде наводил, а у себя - пылищи целый воз. Накопил. Отложил я заявление. Принес тряпку, стал прибираться: ведь после меня другой человек придет.
- Вытер я пыль с окна, заглянул и на шкаф. Там папки толстенные архивные лежат со времен царя Гороха. Одну стопку протер, другую. Вы пишите, товарищ следователь, сейчас самое дело будет … Взялся за третью, отодвинул чуть-чуть - сумка какая-то … Да вы ее в свои сейф положили, видели. Так вот она самая. И вид у нее совсем свежий, что меня удивило. Ведь в мой кабинет никто, кроме меня, не ходит, а при мне никто ничего не клал. Вот и открыл я сумку, заглянул, а там - деньги, каких я и жизнь не видел.
Вихрастов остановился, попросил разрешения напиться из графина, потом, вытерев платком лицо, продолжил:
Понял я сразу, что это за деньги. Кто украл, тот их там и спрятал. Расчет хитрый пока сыр-бор горит, никто их там искать не догадается, а после за ними придти можно. А если меня заподозрят, опять-таки обыск дома будут делать, а не на работе. И уж в любом случае дело мне можно пришить. И вот, чтобы эти деньги вору не достались, сунул я их вместе с сумкой, не считая,- слово даю, даже не считал!- в грязный этот мешок, мешок - в бочонок из-под извести и отнес туда, куда видели. Мучился я после этого немало. Ведь отдать вам - сесть снова. Ну, чем я докажу, что не крал этих денег? Небось, вы вот меня слушаете, а сами думаете: врешь мол, голубчик,- тысячи с неба в руки не падают. Факт?
Факт.
Следователи промолчали. Вихрастов продолжал:
А не отдать денег - совесть не позволяет. Да если б и все хорошо обошлось, не взяли бы вы меня - все равно не принесли бы мне эти деньги счастья. У меня счастье другое… Вихрастов умолк и помрачнел. Добавил тихо:
- Я ведь понимаю: не придет вор за деньгами - они как улика против меня будут. Чем я докажу, что не крал? А его только уж нет! Напугался он. И не придет. Я подумывал сам на него засаду устроить, да только все напрасно.
Когда Вихрастов расписался под своими показаниями, Дубов предложил ему посидеть в коридоре.
- Как бы не сбежал. Любишь ты рисковать, Николаи!-озабоченно сказал Толстиков.
- Бежать ему ни к чему. И если на то пошло - ему в тысячу раз было выгоднее скрыться раньше.
- Ладно, давай к делу. Ты веришь в эту версию? Лейтенант некоторое время безучастно вертел ручку, словно вопрос его совершенно не касался. Однако ответ прозвучал твердо:
- Да, конечно, детали он мог и приукрасить, прибавил кое-где «чувства», как ты, Алексеи Николаевич, любишь выражаться, но в целом он, по-моему, рассказал все честно.
- Где гарантия? Мог и сочинить!
Дубов хмыкнул.
- А вот в это уже не верится.
- Ну, ты как хочешь.- Толстиков легко встал с дивана.-Надо его задержать, хотя бы временно. Ведь преступник неизвестен … Я пишу постановление на арест, ты идешь к прокурору за визой. Разделение труда. Затем я сообщаю по месту работы, что он задержан по поводу хищения денег. Ход тебе ясен? Затем вызываю оперативников, вечером организую засаду. Жду три-четыре дня, и если за это время на горизонте никого не оказывается, значит этот парень врал.
Выйдя из-за стола, Дубов заложил руки за спину и принялся крупными шагами мерить кабинет из угла в угол. Потом, остановившись перед Толстиковым, потер ладонью лоб, сказал задумчиво:
- Только вот в чем дело, Алексеи Николаевич … Если мы задержим настоящего вора, стыдно нам будет перед… -он кивнул головой в сторону коридора, где ожидал Вихрастов.
- Чудак ты, Коля,-потрепал его по плечу Толстиков.- Мальчик. Это же в любом случае в интересах дела! Иначе вор может не придти, будет отсиживаться в кустах. Лейтенант поморщился.
- Дело делом, но мне не хочется оказаться свиньей. Так что дай-ка мне его, Алексеи Николаевич, так сказать, на поруки. Слух об аресте мы распространим. А Вихрастова я в закрытой машине увезу в район к знакомым. Пусть там поживет деньков пять. Идет?
Брови у Толстикова поползли вверх, сминая мясистый лоб в жирные складки, из горла вырвались булькающие звуки: майор смеялся. Потом, неожиданно посерьезнев, спросил:
- Берешь на себя полную ответственность?
- Ага.
- И полковнику так скажешь?
Дубов утвердительно кивнул:
- И полковнику так скажу.
Хм … хм … Идет, Коля. Занимался своей - как ее? -филантропией. Иди к Колосову и проси выдать тебе этого рецидива на перевоспитание. А я его пока покараулю … То-то будет смеху, когда он сопрет что-нибудь у твоих знакомых и смоется!
Лейтенант ткнул пальцем в сейф:
- Эти деньги, что у нас в шкафу, «спереть» ему было куда выгоднее, но тем не менее он их вернул … Э, да о чем тут говорить!
БУРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Он начал с ходу:
- Я, как честный! советский! гражданин, возмущен этим произволом! Ни с того ни с сего меня хватают и, не говоря ни слова, толкают за решетку. И вдобавок ко всему еще подвергают унизительному обыску. Будто я последний жулик! Нет, вы мне скажите, где же тут неприкосновенность личности?! Или для милиции законы не писаны? Для чего, спрашивается, тогда существует Конституция? Или, может быть, ее отменили? Прошу объяснить. И знайте: я буду жаловаться во все инстанции, пока виновные в незаконном задержании не понесут наказания! Я требую извинении!
Полковник Колосов с невозмутимым видом ждал конца гневной тирады.
- У вас все? - спокойно спросил он, когда Грачев заметно выдохся.- Тогда разрешите задать вам несколько вопросов. Если вы ответите на них удовлетворительно, мы принесем вам извинения и уж, конечно, накажем виновных.
- Я к вашим услугам.- Грачев откинулся на спинку стула. Светлые детские глаза его смотрели на полковника выжидающе.
- Так … Начнем хотя бы с того, что нас интересует, где вы были вечером в прошлый четверг. Желательно указать место точно. Товарищ лейтенант, прошу фиксировать ответы подследственного.
- У меня склероз. Я не запоминаю всех дней своей жизни,- высокомерно ответил бухгалтер.
- Склероз при вашей профессии опасен,- заметил полковник.- Помогу вам освежить память: утром в пятницу стало известно о краже. Чем вы занимались накануне вечером?
- Я был дома. Потом гулял по улице у парка. Потом вернулся обратно домой.
- Во сколько?
Грачев выкинул перед собой худую нервную руку:
- Какое это имеет значение? Я не помню точно. Может быть, в десять, может, и в одиннадцать вечера.
- Но уж никак не позднее, конечно? - тихо спросил полковник.
- Не позднее.
Полковник перелистал бумаги.
А вот ваш сосед испытывал нужду в деньгах и поджидал вашего возвращения на скамейке у подъезда дома до половины двенадцатого как минимум. Хотел занять у вас денег.
- Это Стукалов, больше некому. Как вы можете ему верить? Это же горький пьяница!
- В тот вечер он был трезв, что подтверждается его женой. Дальше: оставив скамейку, он поднялся на лестничную площадку и ждал еще минут десять.
Грачев потеребил бородку.
- Ничего не могу сказать. В конце концов я мог вернуться и в двенадцать.
Полковник покачал головой
- Для вашего возраста поздновато … Хорошо. Еще вопрос: дети никогда не посещали вашей квартиры?
- К чему эти неуместные шутки? Мне уже поздно заниматься детьми.
- Ну, а скажем, лепкой вы не увлекаетесь?
- Нет!
- Для чего- же тогда вы держите в своей квартире пластилин?- Колосов выложил на стол коробку.
Грачев вскочил:
- Вы обшарили не только мои карманы, но и мою квартиру?! Я протестую!
- Спокойнее. Садитесь, пожалуйста… Не можете ли сказать, на что вы использовали две недостающие здесь палочки?
Коробка медленно открылась. Грачев отвернулся.
- Не помню. Когда-то я купил пластилин для замазки окна. Возможно, промазал им какую-нибудь щель в квартире. И вообще я требую прекратить эту комедию! Колосов покачал головой:
- Боюсь, что эта комедия рискует затянуться, если вы будете и дальше давать уклончивые ответы. Следующий вопрос: для чего вы купили вот это масло? -он показал Грачеву небольшой пузырек.
- По-моему, ясно. В каждом доме должно быть машинное масло! Оно идет на смазку всего железного!
- Вы немного ошибаетесь. Вместо машинного масла вы, очевидно, по незнанию или в спешке приобрели костное. Оно имеет ценность только для механизмов, которых в вашей квартире нет. Можете назвать хоть одну вещь, которую вы смазали?
Грачев начал нервничать.
- Я смазал им свои старые ботинки! А потом выкинул их на помойку, потому что это плохое масло! Вам понятно?! Какое все это имеет отношение к делу? И главное -какое право вы имели лезть в чужую квартиру?!
- Обыск произведен с санкции прокурора,-холодно сказал Колосов.- И по всем правилам: в присутствии понятых, с составлением соответствующих документов и так далее. За него мы несем полную ответственность перед законом … Далее: вы богатый человек? Неожиданный вопрос застал Грачева врасплох. Ответ последовал не скоро.
- Я не крез. Я счетный работник.
Бровь полковника вопросительно выгнулась:
- Тогда откуда у вас такие суммы? Здесь восемь сберегательных книжек на общую сумму в двадцать с лишним тысяч рублей. Правда, кассы в разных городах: Горький, Москва, даже Киев. Фамилии тоже разные: Граи, Греков, Гречиха и так далее. Это, очевидно, потому, что вы не хотели разучивать новые росписи или боялись забыть их, а потому пользовались своей настоящей росписью?
- Это не мои книжки. Не старайтесь приписать мне что-то!
- Рад бы поверить,- вздохнул полковник, потирая свои седой «ежик»,- но вы забываете о существовании фототелеграфа. Мы уже получили несколько образчиков вашей росписи. Показать?
- Не надо.- Грачев отвернулся и стал смотреть в угол.
Он сник, сгорбился на стуле. Бородка у него заметно вздрагивала.
- Так откуда у вас эти деньги? И почему вы прятали сберкнижки в сарае, когда другие люди хранят их дома?
- Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
- Хорошо, зададим другие. Что вы делали в кабинете коменданта университета, когда вас задержали?
- Я искал в архиве нужную мне папку. В тот вечер я работал, чтобы перед отпуском привести дела в порядок.
- Искали в темноте? И вдобавок в перчатках?
- Мне показалось, что выключатель испорчен …
- Но вы к нему и не прикасались. К. вашему сведению, мы его для контроля испачкали краской… А перчатки к чему?
Там очень пыльно, а мне не хотелось пачкать руки.
- Не хотелось пачкать руки?- с трудом, сквозь смех, спросил полковник, тряся седой головой- Вам, Грачев? Бухгалтер хмуро молчал. Колосов немного успокоился, достал платок, вытер слезящиеся глаз.
- Нет, Грачев. Тот, кто имеет такие, как у вас, грязные руки, уже не рискует их запачкать. Хватит путаных обходных и наивных ответов. Вы для этого слишком давно вышли из детского возраста. Я тоже. Теперь я вам расскажу, как было дело. А вы слушаете.
…Итак, деньги вы начали сколачивать давно. Однако жадность помешала вам остановиться. И вы решились на крупное дело: взяли на прицел университетский сейф. Но, будучи в этом деле недостаточно опытным, решили сначала, так сказать, приобрести некоторую квалификацию. Накупили кучу книг детективного характера, особенно таких, где речь идет о вскрытии и ограблении сейфов: у вас в квартире хранится солидная библиотечка книг именно на эту тему. Но это деталь. Следующим этапом стали проблемы отмычки, дрели или ключа. В первых двух вы ничего не смыслили, и выбор, естественно, пал на ключ. Далее вы идете по примитивному пути. Приобретаете коробку пластилина, уличаете момент, когда кассир забывает ключ, и снимаете с него слепок. Глядите сюда: вот ваш пластилин, а вот контрольная коробка. Как видите, не хватает в вашем наборе палочек двух цветов - розовой и коричневой А вот заключение экспертизы о том, что ключ кассира Сидоркиной носит на себе следы пластилина соответствующих цветов…
Готовясь идти на преступление, вы запасаетесь женскими перчатками из гладкой ткани, которые в вашем возрасте, а тем более при вашем холостяцком положении совершенно не нужны вам. Приобретаете костное масло и заранее смазываете двери бухгалтерии и кабинета Вихрастова. Кстати, пятна этого масла остались в карманах вашего костюма, в общем вполне приличного. Скажите, кто станет носить флакон с техническим маслом в кармане хорошего костюма? Да никто, кроме человека, подобного вам. Далее вы запасаетесь всем необходимым для уничтожения следов преступления. Ключ к этому времени уже готов: вы заказали его одному слесарю-кустарю в местечке под Львовом, где проводили свои прошлогодний отпуск. Кстати, он опознал вас по фотографии. Но дальше.
Несколько ранее вы устраиваете на работу Вихрастова, отбывшего срок за кражу,- уж это-то отлично вам известно! Для того, чтобы отвести от себя подозрение после ограбления сейфа.
Предпоследний этап: вы совершаете это ограбление. Деньги прячете с довольно хитрым расчетом, тут вам в уме не отказать: как только возьмут Вихрастова,- а в этом вы были почти уверены, ибо сами информировали работников бухгалтерии о его судимости,- останется только забрать украденное, переправить в другое место и потом, улучив момент, скрыться.
Могу вас информировать: Вихрастов оказался порядочным человеком. Случайно обнаружив деньги, он передал их нам. Вам ведь знакома эта вещь? - полковник положил перед Грачевым холщовую сумку.
- Хватит,- устало прервал бухгалтер.- Вы схватили меня за горло, и мне просто не выдержать … Годы, годы … Дайте мне закурить. Я расскажу все сам. Учтите чистосердечное признание.
Полковник открыл портсигар, протянул папиросы Грачеву и, повернувшись к Дубову, сказал как-то совсем по-домашнему:
- Николаи, будь добр, сбегай за стенографисткой …
ЖИЗНЬ ВРАГА
- Я родился во Львове в очень обеспеченной семье. Моя подлинная фамилия не Грачев, а Дзиековский, в моих жилах течет кровь последних польских панов… За давностью времени мне ведь не вменят в виду перемену фамилии. Печальный факт, но я совершил за свою жизнь две непоправимые ошибки. Всего две…
Бывший бухгалтер сидел, закинув ногу на ногу. На первый взгляд поза у него была не принужденная, но стоило немного вглядеться, и становилось ясно, что он просто играл сейчас аристократа так же, как до этого скромного советского служащего. Только роль аристократа плохо получалась у него: ему было страшно. Он снова попросил закурить, и в светлых глазах его мелькнуло что -то рабское, умоляющее.
В кабинете, кроме Колесова и стенографистки, были и Толстиков с Дубовым. Лейтенант старательно вносил в протокол каждое слово бывшего бухгалтера.
- До прихода Красной Армии к нам, на Западную Украину, жизнь моя складывалась так, что вам может даже снится. Мой отец был пусть не магнатом, но значительным землевладельцем. И даже это тогда не было главным для меня, так как я с делал свою карьеру. Пятнадцать прекрасных лет, с двадцати до тридцати пяти, я убил на то, чтобы войти в хорошее общество. Служа в одном из крупнейших банков Львова, я приобрел отличное реноме…
Надеюсь Вы понимаете значение этого слова.- Дзиековский криво усмехнулся.
- С французского- это репутация, но вы ее бесповоротно потеряли пан.- подал реплику Дубов.
Бухгалтер понял, что зарвался. Он посмотрел на Дубова грустными глазами, затянулся в последний раз и бросил окурок в пепельницу.
- Да, теперь уже все потеряно. Точнее - было потеряно еще тогда, с приходом на Украину ваших солдат … Я был помолвлен с прекрасной девушкой - дочерью магната. Пять лет хитро умнейших интриг должны были дать мне место директоракоммерческого банка. А это все! Понимаете, это все: свобода и роллс-ройсы, почет, уважение и пикантные женщины, Ницца, Савойя и тончайшие вина мира … - все земные блага! .. - Хищный блеск зажегся в глазах Грачева-Дзиековского.- Скажите, полковник, скажите, вы знаете, что такое Ницца?
- Вы большой человек тут, но вы были когда-нибудь в Ницце?!
Колосов покосился на свои погон, выпрямился на стуле.
- Да, Дзиековский, еще до воины. Через нее я ехал в Испанию драться с фашистами … Но это не касается дела. Здесь не салон, и мы не развлекаемся, а ведем расследование уголовного преступления. Продолжайте, пожалуйста, без лирических отступлений
Бухгалтер потух, осунулся и упавшим голосом продолжал:

- Я понимаю вас, полковник, но двадцать с лишним лет молчания… Это было смыслом моей жизни. А потом все полетело к чертям. Тогда немногие успели убраться за границу. Я не хотел позорить свою фамилию - и стал Грачевым. В тогдашней неразберихе сделать это было нетрудно. Поступил на мелкий завод в Киеве бухгалтером. Если бы вы знали, что у меня было на душе! .. Но вас не интересуют эмоции. Я постараюсь говорить по существу … Когда началась воина с Германией я воспрянул духом, но события развивались с такой быстротой что я не сумел быстро скрыться и был эвакуирован с заводом на Урал. Причем на Северный Урал - это была еще та Ницца!.. Прикажете ковать для вас победу?
Пожалуйста. И я ковал,-в тоне бывшего пана мелькнула насмешка.- А что мне оставалось делать? .. Жил я скромно. Правда, там во Львове, оставляя родной дом, успел прихватить кое-какие ценности. Но я никогда не притрагивался к ним, оглядываясь на будущее. Лишь года два назад я обратил все деньги и положил их на те сберкнижки, которые теперь у вас в руках… Но что бы прочно расстаться с вашим образом жизни, денег этих было недостаточно.
Дзиековский передохнул. Его никто не торопил.
- Мысль сразу взять крупную сумму появилась у меня давно, но окончательно оформилась прошлым летом. Осенью я встретил Вихрастова и помог ему устроится в университете. Думал сделать из него компаньона, но потом убедился, что парня крепко обработали и он никуда не годится.
Слепок с ключа я снял, когда Сидоркина однажды зазевалась. Момент для «операции», по-моему, был выбран удачный - между ревизией и выдачей денег. Пришлось подождать, пока все удалятся из здания. Спрятал в малом актовом зале, так как там шел ремонт и никто туда после четырех не заглядывал. После того, как деньги оказались в руках, я отправился в кабинет Вихрастова (ключ подобрал заранее) и спрятал деньги на шкафу, куда тот никогда не заглядывал. Выходить мимо вахтера было нельзя, вылезать через окно -невозможно. Пришлось остаться в здании… Вы заметили правильно: я почти все рассчитал. Подозрение в первую очередь падает на кассира, что должно было отнять у вас массу времени. Во вторую очередь я постарался подмочить авторитет Вихрастова через Аиду Прокофьевну и уборщицу - их двоих хватило бы на дюжину Вихрастовых. Если бы вы сами нашли деньги у Вихрастова, то я бы остался чистым… Итак, мне пришлось просидеть в университете всю ночь, а утром, как ни в чем не бывало, явиться на рабочее место.
- Где же вы провели ночь?
- В кабинете Вихрастова.
- Но утром он приходит на работу!
- Пришлось выйти пораньше и два часа … черт возьми, неприятно вспоминать … просидеть в туалете.
- Для аристократа недурно,- не удержался Дубов. Дзиековский метнул на него злой взгляд и продолжал:
- Теперь торопиться мне было некуда. Я решил подождать, пока все окончательно успокоится, а потом уже вынести деньги - я же не был уверен, что за университетом не установлена слежка. Но когда вами был взят Вихрастов, я решил, что время не ждет, так как, хоть с него и толку нет, вы могли провести обыск в его кабинете. И вот я остался в университете, но ни черта у Вихрастова на шкафу не нашел. Остальное вы знаете лучше, чем я…
Грачев-Дзиековский умолк. Еще какое-то время он сохранял независимый вид. Поняв, что больше он ничего не скажет, полковник спросил:
- Как вы собирались распорядиться похищенной суммой?
- Хо! Какой вопрос! - Дзиековский оживился.- Уж я-то понимаю в деньгах толк, я сумел бы ими распорядиться! Годок-другой высидел бы в этом дрянном городишке, а потом - Ницца! Советские бумажки с удовольствием обменяет на доллары любой заграничный банк.
- Как же вы перебрались бы за границу?
- За деньги все можно.
- Сомнительно, пан.
- Уж я рискнул бы,- вздохнул бухгалтер. Видимо, сознание собственного положения только сейчас начало по настоящему доходить до него. Он тихо спросил:
- Сколько, по-вашему, мне дадут?
- Сколько дадут? .. - Колосов закурил и положил портсигар в карман.- Это решит суд. Ну, а на мои взгляд -лет пятнадцать с конфискацией всего имущества.
- Даже учитывая мое раскаяние?!-прошептал бухгалтер, хватаясь за сердце.
- Вы поздно раскаялись, Дзиековский.
- Пятнадцать лет! Для меня это - что пожизненно … Дзиековский побледнел, закрыл глаза и тихо сполз со стула.
ЭПИЛОГ
Шел человек по городу. Счастливый человек.
Солнце заливало зеленые шумные улицы, плавилось в огромных витринах магазинов, сверкало в никеле проносившихся мимо автомашин.
Шли навстречу люди. Радостные и озабоченные, смеющиеся и деловые, нарядные и в рабочей одежде. Улыбался им Иван Вихрастов. И многие улыбались ему в ответ просто так, беспричинно.
На одном углу он купил мороженое, и оно сладко и прохладно таяло во рту. На другом углу взял у лоточницы букет веселых, пестрых летних цветов и пошел дальше. Некоторые оглядывались ему вслед, гадая, чему он улыбается - солнцу или своему букету.
А Иван улыбался потому, что шел и думал: хорошо жить на свете!
Константин Афанасьевич Тенякшев
Прошлое бросает тень
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ШЕЛ ЧЕЛОВЕК ПО ГОРОДУ
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Все было знакомо Ивану и в то же время - незнакомо. Изменились за эти три года улицы города, появилось много новых домов, магазинов. Там, где раньше стояли низенькие унылые домишки, поднялось высокое здание кинотеатра, а у подъезда спрашивают: «Нет лишнего билетика?»
Правда, у Ивана не спросили. В помятом хлопчатобумажном костюме, кепчонке нашлепкой и пыльных башмаках, он мало походил на обладателя лишнего билета.
Солнце клонилось к закату. Косые лучи его отражались пожаром в оконных стеклах. Деревья, шеренгами протянувшиеся вдоль улиц, стояли тихие и какие-то покорные. «Осень скоро»,- подумал Иван.
На душе у него было неважно. Не от того, что приближалась осень, грязная и скучная. Сегодня он, как и вчера, и позавчера, и три дня назад, не нашел работы.
Люди требовались везде. В отделах кадров его встречали приветливо, кое-где даже руки потирали, будто собирались с ним поздороваться. А потом, заглянув в его документы, человек сразу скучнел, барабанил по столу пальцами или вздыхал. Затем опускал глаза и говорил, возвращая ему бумаги:
- Понимаешь, пока не требуется нам … Вот через месяц-другой …
Иван молча забирал документы и выходил на улицу. Конечно, он понимал. Тут и объяснять было нечего.
Дойдя до вокзала, он с минуту постоял, обдумывая, что предпринять дальше. Возвращаться домой не хотелось. Опять увидеть глаза жены, смотрящие на него с надеждой, опять услышать робкое: «Ну, как? .. » - Никак,- вслух сказал Иван и даже рукой махнул. Проходивший мимо милиционер взглянул на него и он торопливо свернул в вокзальный скверик. Одна из маленьких аллеи кончалась тупиком. Здесь, среди густых кустов запыленной акации, стояла одинокая скамейка. Иван тяжело опустился на нее. Потом достал последнюю сигарету. Прикурил. Дым показался особенно вкусным, и он тянул сигарету до тех пор, пока не начало жечь губы. Потом долго сидел на скамейке, вытянув усталые ноги.
В конце аллеи появилась фигура пожилого мужчины в шляпе. Он не спеша приблизился, деликатно выбрасывая перед собою легкую тросточку.- Хм … Никак Вихрастов?
 Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
 - Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»
- Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»
ДНИ МИНУВШИЕ
Иван стоял на мосту, нависшем над железнодорожными путями. Отсюда хорошо был виден ярко освещенный вокзал, поблескивала внизу серебряная паутина рельсов; красные, зеленые, фиолетовые сигнальные огни перемигивались вдали; небольшой маневровый электровоз, разрывая тонкими гудками ночную тишину, подталкивал цепочку товарных вагонов к темным громадам пакгаузов. Иван пристально посмотрел туда.
Пакгаузы. Огромные пристанционные склады. Чего там только нет! Тысячи, десятки тысяч различных товаров наполняют их объемистое чрево: яблоки и велосипеды, гвозди и свиные туши, станки, холодильники, ящики с шоколадом. Несколько лет назад он работал там грузчиком, и все эти товары проходили через его сильные руки.
Здесь, на этом самом мосту, стоял он однажды с девушкой . В больших влажных глазах ее отражались, как звезды. станционные огни. И не было лучше ее на всем белом свете.
А потом она стала его женой. Любящей, приветливой, преданной- настоящей подругой жизни. Правда родители Маши возражали против ее выбора: молод, мол, неопытен, заработки не ахти какие, квалификации никакой вообще. Ивана и самого мучили сомнения -понимал, что не совсем он пара для Маши. У нее торговый техникум за плечами, место неплохое: продавщица крупного отдела в универмаге, родительский дом.
А что он может ей предложить? Сам-то живет в холостяцком общежитии. Будущее тоже представлялось туманным. Звезд с неба Иван никогда не хватал, талантов особых за собой не наблюдал тоже, а за плечами - всего-навсего восьмилетка. Но Маша сказала твердо:пусть старики ворчат, если им нравится, но жить-то ей, а не им.
Тогда справили скромную свадьбу, купили половину небольшого дома и переселились под свою крышу. Иметь свой! кров нужно каждому, истина общеизвестная, да только Ивану эти полдома обошлись дорого. Они с Машей! истратили все сбережения да еще влезли в крупные долги. Получка за получкой! словно в прорву проваливались. Они ограничивали себя во всем, но долги уменьшались крайне медленно. К тому же и в доме у них почти ничего не было - только кровать, стол да пара старых стульев, оставшихся от прежних хозяев. На новое жительство перебирались летом, а когда наступили холода, выяснилось, что у них и топить нечем. Снова идти на поклон к родителям, которым они и без того сильно задолжали, Маша не захотела. Тайком от Ивана она продала одно из своих платьев и привезла дрова. Узнав об этом, он помрачнел, но промолчал. Ну что он мог сделать?!
«Не хмурься, Ванюша, не надо!- шептала она, обхватив его шею теплыми ласковыми руками.- Обожди немножко. Вот расплатимся с долгами, мебель купим, приоденемся … А пока - потерпим … »
Но у него не хватало терпения. Его, привыкшего в холостой! жизни не считать денег, сейчас стала необходимость держать на учете каждую копейку. По утрам он ел картошку с растительным маслом, запивая чаем и уходил на работу. На обед Маша давала ему рубль, но он брал в столовой! суп без мяса, самое дешевое второе-кашу или надоевшее пюре- и экономил полтинник на следующий день. Хотел даже бросить курить, но был слишком сердит на постоянные ограничения, и из этого ничего не вышло. Однажды они грузили в вагоны мясо. Зимний день быстро померк. Уставшие к концу смены грузчики в полутьме развешивали на крючьях вагона-ледника огромные куски бычьих туш.
Мясо … Почему-то на миг в мозгу Ивана промелькнула соблазнительная картина: Маша стоит около их маленькой, жарко пылающей плиты, а перед нею вместо чугунка с осточертевшей картошкой аппетитно пышет паром большая эмалированная кастрюля с наваристыми щами … Оглянувшись, Иван заметил, что он один в вагоне. Голос кладовщика доносился из пакгауза, где рабочие нагружали тележки. Иван решился. Вытащил из кармана складной нож и, отхватив большой кусок от висевшей на крюке туши, сунул его за пазуху.
Сердце билось. Раньше он замечал, что некоторые из грузчиков таскают из складов кое-что по мелочам, но сам никогда не занимался: стоит ли пачкать руки!
И вот…
«Ну и черт с ним,- подумал Иван.- Авось, сойдет. Обыскивать никто не будет».
Рабочий день близился к концу. Окончив погрузку, бригада пошла в пакгауз на перекур. Иван устроился поодаль от всех на перевернутом ящике. Неожиданно к нему подсел Рыжий - так называли этого развязного парня грузчики за его огненную шевелюру. О нем поговаривали, что весьма нечист на руку, но доказательств не было.
Рыжий достал помятую пачку вытащил папиросу. прикурил. Потом сказал негромко кривя губы в усмешке:
- Когда тянут мясо, то завертывают в тряпку и суют под ремень. А за пазухой! прячут зеленые воробьи. Там только слепой не увидит!
Он смотрел в сторону. Иван чувствовал себя оплеванным.
- Опыт в нашем деле - великая вещь!- так же тихо добавил Рыжими, как ни в чем не бывало, встал и пошел к другим грузчикам.
Дома Иван объяснил: грузили, кусок упал, в темноте не заметили, вот он потом и подобрал. Подобрал -только и всего.
Маша посмотрела на мужа внимательно. Видимо поверила, улыбнулась и сварила вкуснейший суп, заправив его картошкой и луком …
Лиха беда, говорят, начало. Постепенно при погрузке стало «падать» все больше. Правда, домой!
Иван приносил далеко не все «упавшее»: стеснялся жены. Но зато теперь частенько, приходя с работы, выкладывал на стол три-шесть рублей: подработал на лесоскладе, дрова грузил …
А на деле выглядело так. Вскоре после памятного случая Рыжий, присмотревшись к Ивану, затянул его в компанию, в которой было еще двое грузчиков. Все они «работали по мелочам». Взятое из пакгаузов забирал Рыжий, уносил куда-то, а потом являлся с водкой и деньгами. Первое время Иван пить отказывался, и всю его «долю» отдавали наличными. Потом Рыжий прижал его:
- Компанию не уважаешь? А знаешь пословицу: с волками жить - по волчьи выть? Мотай на ус!
И Иван стал частенько являться домой! навеселе: мол, ходил в «Гортоп», опять подработал - брикет грузили, вот заказчик и угостил, взял бутылочку, погрейтесь, сказал, ребята, холодно нынче …
Маша прощающе улыбалась, ерошила ему волосы:
- Только ты, Ванюша, не очень увлекайся этим … согревательным.
Он и сам понимал, что все это к добру не приведет, но успокаивал себя: вот вылезут из долгов, и он поставит точку.
А пока … да что тут особенного? Подумаешь, кружок колбасы или что-нибудь в этом роде! Во все времена грузчики прихватывали от того, что грузили. Можно сказать - это их незаписанное право. Даже старший кладовщик, поймав однажды с поличным Петьку, дружка Рыжего, ничего не сказал начальству, только выругался и отобрал взятые из разбитого ящика плитки с шоколадом.
Но однажды Рыжий предложил Ивану большое «дело». Он обещал «уладить товар» сам с дружками, а ему, Ивану, оставалось только постоять «на стреме» - постеречь, пока они переправят через забор с территории складов несколько рулонов мануфактуры. Он заколебался. Возможность разом покончить с долгами была соблазнительна. С другой стороны, это, конечно, было опасно. О том, что он должен стать соучастником в краже, Иван уже не думал.
А потом был провал, за ним - арест, суд … И взгляды сотен людей, и мучительный стыд, и горечь запоздалого раскаяния. Потом еще хуже: редкие свидания с Машей, ее жгучие молчаливые слезы, скудные продуктовые посылки, на которые она отрывала от жалкой суммы, остававшееся после расплаты с долгами.
Как прожила она эти три года? Только легкие морщинки, что появились у нее между бровями и в уголках глаз, говорили о том. Маша, Машенька …
Дорогая женушка, милая подружка!
… Иван тряхнул головой, отгоняя воспоминания, слегка оттолкнулся от перил и торопливо зашагал по акведуку.
Сегодня он скажет жене: ничего особенного, но появилась надежда. Ведь Маша так переживает, что его нигде не берут.
УТРО НОВОГО ДНЯ
На душе было смутно и тревожно, когда он подходил к телефонной будке. И сама будка, и улица, на которой она стояла, были новыми. Их построили, когда он был далеко отсюда.
Он нерешительно открыл стеклянную дверцу, шагнул внутрь. Трубка молчала. Он понял, что в волнении сделал что-то не так, и начал старательно изучать инструкцию -как пользоваться автоматом. Было такое ощущение, что он звонит из какого-то старого мира в новый, незнакомый ему мир.
Наконец в трубке женский голос сказал:
- Вас слушают.
Он заторопился:
- Я… мне… Там у вас работает товарищ Грачев …
- Да, да, Викентием Лукичом зовут.- От волнения на лбу у Ивана выступил пот, и он вытер его широкой ладонью. Вот сейчас решится его судьба!- Викентии Лукич? Здравствуйте, Викентии Лукич. Это Вихрастов к вам звонит… Да я, Иван, мы еще на квартире с вами разговаривали … Приезжать? Спасибо, Викентии Лукич! Большое вам спасибо!..
По дороге в университет Иван взглянул на уличные часы. Было уже десять. На одиннадцать его вызвал начальник горотдела милиции Колосов. А вдруг в университете придется задержаться? Устроиться на работу- не пирожок съесть, на это время требуется. Как же быть?
Иван остановился в раздумье. С милицией шутки плохи. Туда лучше не опаздывать. С другой стороны, опять же, времени в обрез, а тут целый час ждать … А может, все-таки зайти? Часом раньше?
Он свернул к милиции.
В приемной начальника никого не оказалось. Перед дверью с табличкой он нерешительно потоптался, потом постучал.
- Войдите!- донеслось из кабинета.
Он вошел и остановился.
- Я, гражданин … простите, товарищ начальник …
- Недавно оттуда?- поднял седую голову полковник.-Проходи, садись.
Иван опустился на стул, стоявший перед столом.
- Правильно угадали, товарищ полковник, недавно.
- Здорово ж ты обучился … Ну, по какому делу пожаловал? Хотя, постой,- он заглянул в настольный календарь.- Иван Вихрастов? Ага, на одиннадцать я тебя, братец, вызывал. По вопросу трудоустройства. Так как же у тебя с работой обстоит?
Иван замялся. Сказать или не сказать? Скажешь, а начальник запретит? Вполне возможно …
Полковник ждал, поглядывая на посетителя. Иван кашлянул, будто прочищал горло. Ответил:
- Да вот сегодня обещали устроить. Сейчас еду. И куда? В университет …
По ученой части, значит, решил пойти?- не то недоуменно, не то с иронией осведомился Колосов.
- Да нет, что вы!- смутился Иван.- Работать буду … так, вроде служащего. Сам еще толком не знаю.
Полковник помолчал, постукивая карандашом по столу.
- Что ж, ладно. Если устроишься сам, это тоже неплохо.
Но запомни: чтобы на какой угодно работе у тебя комар носа не подточил. Лекций читать не буду, ты сам уже ученый, понимаешь. Будет трудно с работой -приходи, всегда поможем, если твердо решил человеком стать. Все. Иди.
С чувством большого облегчения Иван покинул кабинет начальника милиции.
Еще до звонка Вихрастова утром этого же дня к проректору университета по хозчасти Троицкому зашел озабоченный главбух Грачев.
- Здравствуйте, Николаи Иванович …
Троицкий, как всегда, был в отличном настроении.
- А, Викентии Лукич! Здравствуй, здравствуй. Что такой задумчивый? Баланс, что ли, не сходится?
- Баланс в порядке … У меня к вам, так сказать, как бы это поточнее выразиться … дело несколько щекотливого свойства.
Проректор хмыкнул.
- Выкладывай свое щекотливое дело. Да ты садись,- он приготовился слушать.
- Так вот,- начал Грачев,- есть у нас вакантная должность коменданта …
- Есть такая,- подтвердил проректор.- Никак не подыщем человека-ставка, сам понимаешь, низковата.
Грачев пощипал клинышек бородки, помолчал, словно решая, говорить ему или не говорить.
- Так вот,- повторил он,- знаю я одного парня, который на эту должность согласен.
- Так в чем же дело?
- А в том, что парень этот из заключения вернулся. Сидел за … драку. По молодости, по глупости, как говорится. А вообще-то неплохой. Образование незаконченное среднее имеет, сирота, работать рано пришлось. Жена у него есть. Сам энергичный, разворотливый. Помочь бы ему надо на ноги встать. Как вы думаете, Николаи Иванович?
Троицкий потер подбородок, ответил осторожно:
- Положение, действительно щекотливое. Но!Принять … А тем более на подобную должность. Чуть что - за него отвечать придется. Ты вот, например, ручаешься за него?- Проректор в упор посмотрел на Грачева.
- Я?.. Да, пожалуй… Иначе бы и не пришел к вам.
- Что ж, это уже другой поворот. Тогда последний вопрос: какие у тебя причины за него хлопотать?
Грачев развел руками.
- Из, так сказать, соображении человеколюбия.
- Кроме того, и парень стоящий А ошибок в молодости кто не делает? К тому же, говорят: за битого двух небитых дают.
Главбух умолк. Проректор сказал задумчиво:
- Пословица-то верна. И гуманность-вещь в нашей жизни необходимая. Даже неизбежная… Но оставим пока этот вопрос философам. Сдается мне, что ты о чем-то умалчиваешь. Так? Давай уж начистоту. Родня он тебе, что ли?
- Что ж, пусть будет начистоту,- вздохнул Грачев.- Дело тут, Николаи Иванович, гораздо сложнее и упирается в вопросы не философии, а морали … Хлопец этот мне не родственник. Когда его судили, я, как свидетель этой неприглядной истории, о которой рассказывать не хочется, давал показания. И… э-э… малость переборщил. В общем, парень получил несколько больше того, чем заслуживал. Я такого поворота не ожидал, но было уже поздно … - Главбух сокрушенно развел руками и заключил:- Так что я перед ним в большом долгу,
Николаи Иванович!
- Вот это похоже на истину,- Троицкий стукнул костяшками пальцев по столу, словно поставил точку.-Ну, ладно, согласен. Веди своего парня. С отделом кадров я поговорю. О судимости, конечно, распространяться не стоит, а то парень будет чувствовать себя не в своей тарелке.
- И я так думаю,- быстро согласился главбух.- Так он скорее привыкнет тут, осмотрится, пооботрется … а там видно будет.
- Решено.
- Ну, как?
Иван глянул в ожидающие глаза жены и широко улыбнулся.
- Все в порядке, Машенька! Приняли.
На сердце у нее потеплело, а в глазах сразу защипали слезы. Может быть, оттого, что впервые за последние годы увидела она, как муж улыбается, а может, от его ответа, такого долгожданного.
Он молча привлек ее к себе, сказал чуть укоризненно:
- Тут радоваться надо, а ты в слезы!
Маша подняла лицо:
- Смешной! Это же я от радости …
Не отпуская, он поцеловал ее в щеку, посмотрел на легкие морщинки у переносья, подумал: «Это - из-за меня … Так настрадалась».
- Теперь все будет хорошо, Машенька. Заживем спокойно, как все люди. Будет у нас сын. Потом домишко поправим … Или продадим, другой купим, получше. А пока деньги будем понемножку откладывать. Правильно я говорю?
Жена прижалась к его крепкой груди, прошептала:
- Все правильно, Ванюша. Ведь должно же и у нас быть свое счастье. Ну, хоть небольшое, но свое! Я тебя так ждала, так ждала!.. Боюсь только - должность теперь у тебя ответственная, вдруг опять что-нибудь случится? И сам не будешь виноват, а другие подведут.
Брови его строго сошлись.
- Этого не случится. Хватит с меня. Раз пролетел, второго не надо.
- Ну, не будем больше об этом,- жена мягко высвободилась из его объятий,- давай ужинать, ты ведь, наверно, и не обедал сегодня?
- Нет,- признался Иван.- Как-то не до этого было.
ГОРЯЧИЕ ДНИ
В работу ему пришлось впрягаться сразу. Троицкий сам объяснил новому коменданту круг обязанностей . Он водил Ивана по всему главному корпусу университета, показывал аудитории, комнаты для занятий, лабораторные помещения, говорил:
- Вот, Иван Никифорович, наше с вами хозяйство. Как видите, немалое. И наша задача - держать все это, как говорится, в боевой готовности, чтобы хватало оборудования, мебели, не протекали потолки, не дуло в окна, не сыпалась штукатурка. Следите. Работы много, конечно, но вы не бойтесь. Есть поговорка: глаза страшатся - руки делают. Так-то … Что понадобится-обращайтесь к снабженцу или, в край нем случае, приходите ко мне.
Для начала Иван принял склад, навел в нем порядок. Там хранились в основном строительные материалы: щиты сухой штукатурки, цемент, алебастр, доски. Троицкий мягко предупредил:
- Старайтесь вести строгий учет. При приеме и выдаче материалов документацию оформляйте сразу, а то задним числом сделать это иногда бывает очень трудно.
- Хорошо, Николай Иванович,- ответил Вихрастов.-Только в документации-то я как раз слабоват. Никогда не приходилось с этим дело иметь …
Проректор улыбнулся:
- Ничего в этом сложного нет. Выберите вечерок-другой как-нибудь на днях, попросите Викентия Лукича потренировать вас. Он ведь, кажется, вам благоволит?-Троицкий хитровато глянул на завхоза.
Иван смутился, не зная, что ответить.
- Ну-ну!- ободрил проректор по хозчасти.- Нечего стесняться… В общем, в документации вы обязаны разбираться.
После «тренировки» Иван почувствовал себя значительно уверенней.
Учиться новому делу пришлось на ходу. Приближалось начало занятий!, а часть аудиторий! еще не была отремонтирована до конца: когда старый комендант по болезни неожиданно вышел на пенсию, работы кое-где были приостановлены из-за отсутствия материалов. Теперь Иван снова вызвал штукатуров и маляров и возобновил ремонт.
Работа в гуще людей захватила его, и молодой комендант частенько брался не за свое дело. Так, однажды Троицкий застал его со стеклорезом в руке и покачал головой:
- Иван Никифорович!- он сокрушенно крякнул.-Похвально, что вы принимаете близко к сердцу стекольное дело, но у вас внизу целая бригада штукатуров простаивает - ждет материалов. Так что вы, дорого И, распорядитесь там … А стеклорез вручите кому-нибудь из подсобников, кто потолковее.
Совету Вихрастов последовал, однако и после этого попадался Троицкому то с водопроводной трубой на плече, то с ящиком известки, то проректор видел его за переноской батареи парового отопления.
Ему отвели отдельный кабинет, где помещались шкафы с архивами и оставалось достаточно места для большого стола и двух стульев. Предметом особой гордости Ивана стал телефон. На звонки он отвечал сначала так: «Комендант университета Вихрастов Иван Никифорович у телефона…» Потом Маша, не раз звонившая ему с работы, посоветовала сократить эту пышную формулу до простого: «слушаю».
Одним из первых посетителей кабинета был Грачев. Войдя, он осмотрел обстановку, затем обратился к Вихрастову:
- Ну-с, мои дорогой, как устроился?
- Спасибо вам, Викентии Лукич. Устроился замечательно.
- Работа нравится? Бежать не собираешься?
- Что вы, что вы!- замахал руками Иван.- Лучше и не придумать. Только трудновато с непривычки.
- Ну-ну,- пробормотал Грачев и, не сказав больше ни слова, вышел.
Часто заходил сюда Троицкий, всегда начинавший разговор с вопроса: «Как настроение?.. » По утрам появлялись в кабинете временные рабочие.
Постоянно окруженный людьми, Иван быстро втягивался в жизнь большого университетского коллектива. И поэтому, может быть, он, как и все административные работники, ощутил такую приподнятость настроения, когда первого сентября широко распахнулись двери главного корпуса и шумный поток студентов ворвался в здание. Это были не смирные, тихонькие абитуриенты, безмолвными тенями скользившие недавно по коридорам.
Нет, это была совершенно другая публика: шумливая, своевольная, самонадеянная. На первых порах Иван даже побаивался ее, пока не сошелся со студентами поближе и не узнал их лучше. А случай такой представился ему довольно скоро.
ТРОИЦКИЙ ДАЕТ СОВЕТ
У проректора по хозчасти была привычка записывать в настольном календаре все дела, намеченные на день, а вечером проверять - все ли выполнено. Вот и сегодня, собираясь идти домой, он заглянул в календарь, испещренный пометками, расшифровать которые мог только он сам.
Все было в порядке. И вдруг внимание проректора привлекла написанная в самом уголке фамилия: «Вихрастов». Он хмыкнул, потер лоб, затем решительно взялся за телефонную трубку:
- Иван Никифорович? Поднимись-ка ко мне на минутку …
Он быстро переходил с людьми на «ты». Скоро комендант уже входил в кабинет.
- Присаживайся,- указал на стул Троицкий.- Рассказывай, как дела идут. Сегодня мы с тобой не виделись, так?
Сам он тоже сел - не за стол, а напротив Вихрастова -вытащил портсигар, закурил. Начался обычный разговор о хозяйственных делах, о нехватке некоторых материалов, необходимых для завершения ремонта, об установке нового оборудования в лабораториях. Поглядывая на коменданта, Троицкий изучал его наружность. На вид Вихрастову можно было дать года двадцать три. Ладно скроенный, широкоплечий, с крепкими рабочими руками, он производил довольно приятное впечатление.
Лоб у него был большой!, чуть выпуклый!, глаза смотрели прямо, но несколько застенчиво, что как-то не вязалось с пудовыми кулаками коменданта. «Смущается немного,- решил проректор.- Улыбка у него хорошая». Мысли не мешали Троицкому внимательно слушать коменданта, вставлять замечания. Он умел думать о многих вещах одновременно.
- Слушай,- неожиданно прервал он Вихрастова на полуслове,- где твой отец?
Комендант смешался, удивленно посмотрел на проректора.
- Отца у меня нет. И матери тоже. Она еще в сорок пятом умерла. Я у сестры воспитывался, она тогда здесь жила, потом уехала с мужем на Урал - завербовались. И я с ними. Как шестнадцать лет исполнилось, сюда вернулся, в грузчики пошел… вернее, сначала разнорабочим, а потом уж и грузчиком стал.
- Вон откуда у тебя такие кулачища!- протянул Троицкий .- То-то я смотрю - на силушку не жалуешься … Отец не на фронте погиб?
- На фронте, в Отечественную. В сорок третьем.
- Ясно … Вот что, Иван Никифорович, образование у тебя какое?
- Восемь классов. Да все перезабыл уже …
- Вспоминать не собираешься?
Комендант вздохнул.
- Поздновато.
Это ты зря. Десятилетку тебе надо кончать непременно. Детей пока нет? Будут, наверное,-смущенно улыбнулся Иван.
- Так вот, пока нет - торопись учиться. Поступай снова в восьмой, а там подгонишь. Я могу попросить кое-кого из студентов, чтобы взяли над тобой шефство. Они бы тебя живо подтянули … Как ты думаешь?
Вихрастов долго молчал, потом признался:
- Трудно мне сразу решить, Николай Иванович.
- Не думал над этим как-то.
- Ну, а теперь? Можешь подумать?
- Хорошо, Николай Иванович.
- Значит, договорились.- Троицкий положил руку ему на плечо.- Завтра или послезавтра скажешь, что надумал. Сам пораскинь мозгами, с женой посоветуйся.
- Идет?
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Осень стояла чудесная: с многоцветным листопадом, под светлым нежарким солнцем и синим прозрачным небом.
Студенты спешили использовать последние ясные дни: волей больная площадка во дворе главного корпуса не пустовала с утра до вечера. Однажды, проходя мимо нее, Иван остановился посмотреть на игру. Кто-то тронул его за рукав. Оглянувшись, он увидел преподавателя физкультуры Залесного.
- Нравится?- указал тот кивком головы на площадку.
- А как же! Красиво.
- Есть игра еще красивее,- заговорщически сказал Залесный .- Теннис. Могли бы вы построить нам теннисный корт?
- За деньги все можно,- уклончиво ответил Иван. Коркин, Солодовников!- крикнул преподаватель, и от группы болельщиков отделились два студента.
Залесный представил их Ивану:- Вот - оба ярые теннисисты. Покою мне не дают. А это - наш комендант, ребята, он может вам помочь, так что договариваетесь. Ну, я пойду.
Студенты объяснили, что им требуется.
- Многовато,- сказал Иван.- Площадку, конечно, можно выкроить. Здесь, рядом с волейбольной. А что до остального, то кроме столбов, ничего нет. И денег в бухгалтерии тоже: ремонт все съел.
Теннисисты приуныли. Ивану стало жалко ребят.
Вот что, пойдемте-ка к проректору по хозчасти.-предложил он.- Там и посоветуемся.
Вскоре они уже стояли перед Троицким. Иван изложил просьбу студентов.
- Теннис?- переспросил Николаи Иванович.-Неплохая игра. Я бы даже сказал - изящная.
- Так ведь денег нет.
- Над этим я как раз и думаю … Вот что, Иван Никифорович, свяжитесь с нашим шефствующим заводом. По его профилю сетка там вполне может оказаться, а это главное.
- Когда они уже собрались уходить, Троицкий остановил всех троих.
- Иван Никифорович, а как у тебя с учебой? Решил, наконец?
Вихрастов помялся.
- Трудный вопрос-то, Николаи Иванович. Ну, литературу или там историю с географией я еще подгоню, а уж математику с физиков, их просто никак не одолеть …
Проректор кивнул, потом спросил веснушчатого студента:
- Вы ведь с физмата? По-моему, я там вас встречал. Второй курс?
- С физмата. Только третий курс,- поправил студент.- Коркин моя фамилия. - Вот и отлично. Можно обратиться к вам с просьбой? Вот наш комендант, товарищ Вихрастов, собирается в вечернюю школу поступать, и ему нужны наставники по физике и математике. А вы будущие преподаватели. Почему бы вам ему не помочь, а? Вроде практики, так сказать?
Студенты переглянулись.
- Разве что пополам с Солодовниковым,-сказал, кивнув на приятеля, веснушчатый .- А то одному трудно.
- Ладно,- согласился немногословный Солодовников.- Поможем. Но теннисный корт - с вас.
- Идет,- слегка хлопнул ладонью по столу Троицкий . - Отныне, Иван Никифорович, это - твои кураторы, «заботники» в переводе на русский . А ты хоть лоб разбей, но корт им поставь!
…Когда Иван приехал на завод к шефам,там развели руками: «Да где же мы вам возьмем эту сетку? » Тогда он обратился в завком. Член завкома, седой неторопливый токарь, сам сводил его к начальнику снабжения, долго и напористо доказывал тому, что завод может оказать помощь студентам. Но хитрый начснаб сумел доказать обратное. Уходя ни с чем, токарь сказал Вихрастову:
- И вообще не стоило заходить сюда. Пройдохи они все, эти снабженцы.
Иван вздохнул:
- Я ведь тоже, можно сказать, снабженец, но, понимаешь, изворотливости никакой .
- Совесть, значит, на месте,- буркнул старый рабочий и потянул коменданта.- Зайдем-ка на кислородную станцию, спросим ребят, из чего они ограждения делают.
«Из сетки, конечно,- ответили им там.- Где берем? Известно, со склада».
На складе оказались сотни метров сетки, из которой изготовляли ограждения для станков, высоковольтного и другого оборудования.
- Ну и запасец!- сказал токарь.- После этого и верь снабженцам. Идем к директору.
Директор оказался человеком деловым.
- Конечно, просто подарить новый материал мы вам не можем. Но можем продать. Денег нет? Это хуже. Поищем другие пути … В ваших силах организовать, скажем, субботник в пользу завода? Тогда мы вам выпишем деньги, потом продадим за них сетку- и строите на здоровье.
Иван разыскал «своих» студентов, изложил им результаты поездки на завод.
- Субботник? Устроим,- кратко сказал веснушчатый Коркин.
Через неделю корт был готов, и Коркин с Солодовниковым на правах зачинателей дела первыми взялись за ракетки. А Иван… пошел домой, посмотрев всего одну игру - теннис ему не понравился: вот футбол -это да! Но он шел и улыбался. Приятно все-таки сознавать, что и ты сделал что-то для людей…
ЖИЗНЬ ВХОДИТ В КОЛЕЮ
Минули месяц, другой. После долгой и сухой осени зима наступила неожиданно. В каких-то два дня резко похолодало, подул северный ветер, посыпалась сухая снежная крупа. Иван купил шапку-ушанку и валенки. На пальто пока еще не накопили, пришлось ходить в старом. Но это не особенно его огорчало. Главное -настроение было отличное. К работе своей он привык, и теперь в главный корпус университета, где на первом этаже помещался его кабинет, входил как к себе домой. Хозяйским глазом осматривал стены и окна коридора, заглядывал в пустые аудитории, проверяя -нет ли ломаной мебели, не текут ли батареи парового отопления.
Заметив неполадки, шел к Троицкому посоветоваться, что предпринять. Немало времени уходило на поиски различных материалов, в его же обязанности входило заботиться о снабжении котельной углем.
Едва ли не больше сил, чем работа, требовали занятия в вечерней школе, куда он все-таки поступил, а учеба давалась с громадным трудом: он еще только-только догонял остальных. И когда получил первую четверку -по литературе,- радости его не было конца.
Все дни у Ивана теперь заняты были настолько плотно, что он с помощью Солодовникова и Коркина составил себе нечто вроде универсального графика, где буквально по часам были расписаны работа и уроки в вечерней школе, домашние дела, занятия самостоятельные и с шефами. Лишь в воскресенье удавалось ему выкроить часок-другой, чтобы сходить с Машей в кино или просто прогуляться по улице.
Иногда, вернувшись из школы часу в одиннадцатом, а то и в двенадцатом, он снова садился за учебники и засиживался далеко за полночь. Маша звала его спать, он отмахивался:
- Ну обожди же! Понимаешь, уравнение такое хитрое попалось, никак ответ не сходится,- и снова погружался в дебри иксов и игреков, пытаясь уловить ускользающий ход решения алгебраической задачи.
Жена в ночной сорочке неслышно подходила сзади, склонялась над его тетрадкой, прижимаясь к крепкому плечу мужа, старалась припомнить, чему ее учили, вздыхала:
- Перезабыла все …
Иван, не поднимая головы от тетради, вразумлял ее.
Вот готовься сейчас, а на будущий год сдавай в наш университет, на вечернее или на заочное … И будет у нас ученая семья.
Она смеялась:
- Не слишком ли много ученых для одной семьи?
- Ученье не вредит. И сам малость умнее становишься, и заработок потом повышается. В общем, прямой расчет,- солидно говорил Иван.
- Кем же ты сам-то хочешь стать?
- Понимаешь, еще не решил. Что-нибудь по электрике бы … Интересная профессия и нужная … Я вот подумаю, может, в какой-нибудь электротехнический техникум заочно поступлю, а то очень уж долго учиться … Надо же кому-то из нас и деньги поприличнее зарабатывать.
- Главное - сам учись, с деньгами уж как-нибудь обойдемся.
- Спать ложись, тебе говорят!- закричал вдруг Иван, спохватившись.
По воскресеньям приходили студенты. Объясняли материал они превосходно, только, на Машин взгляд, им не хватало терпения: готовы были за один присест проштудировать со своим подопечным весь учебник физики или геометрии. После занятии Маша обязательно усаживала «шефов» за стол и кормила скромным, но плотным обедом. Студенты обычно долго отказывались, но ели всегда с завидным аппетитом.
Иногда, когда не было срочных дел в университете,
Ивану удавалось выкроить время для занятии и в рабочий день. Тогда он подкарауливал Солодовникова или Коркина, и, если хоть один из студентов был свободен, они, запершись на часок в его кабинете, решали задачи или разбирались в тонкостях физических законов. По немецкому с Иваном занималась студентка с литфака Катя Степанова. С нею его познакомил шеф. Катя, в отличие от Солодовникова с Коркиным, была очень терпелива и усидчива. Она могла сто раз возвращаться к одному и тому же, пока Иван, наконец, не усваивал необходимого правила. Это она заставила его ежедневно выписывать по десять немецких слов и заучивать их с утра. Поднявшись с постели, он умывался и перед завтраком сидел за коротеньким списком, а потом по нескольку раз в день вытаскивал из кармана контрольный листок и проверял, правильно ли заучены слова. Случалось, что, сидя в бухгалтерии или проходя по коридору университета, он бормотал: «Дас фэн-стэр - окно, хэльблау - голубой, ди фрюлинг - весна … »
Это неясное бормотание услышал однажды, спускаясь по лестнице, Троицкий . Не поняв сразу, в чем дело, он подошел к коменданту, стоявшему на площадке, тронул его за плечо.
- Это ты о чем, Иван Никифорович?
Тот, углубившись в свое занятие, ответил не сразу.
Увидев проректора, улыбнулся.
- Слова зубрю, Николаи Иванович, немецкие … Степанова заставила.
- Вон как! А я уж думал - не заболел ли ты, что сам с собою разговариваешь!- Троицкий засмеялся.- Давай, продолжай, не буду мешать.
«Смотри ты, как пошел парень,- думал проректор, спускаясь по лестнице.- Просто не узнать … ». Он вспомнил, каким пришел Вихрастов: неловко смущающимся. И много ли прошло с тех пор - всего месяца четыре! Великое дело -приставить человека к месту да не забывать поправлять …
О том, что в этом и его заслуга, Николай Иванович не подумал. Не умел считать своих заслуг.
А Иван остался стоять на площадке. Смотрел в окно безумными глазами, зубрил без мятежно немецкие слова. И не знал, что готовит ему впереди жизнь.
ТУЧА НА ГОРИЗОНТЕ
Зимняя сессия. Студенты собирались группами, вели разговоры об экзаменах и экзаменаторах, подолгу задерживались в библиотеке, выстраивались в очередь у кабинета иностранных языков: спешили сдать «хвосты» -задолженность по домашнему чтению. А кое-где в уголках уже весело обсуждали план встречи Нового года.
Лишь у Ивана Вихрастова настроение было хуже некуда. И на то были свои причины.
… На днях он пришел домой нетрезвый. Пришел, молча разделся, сел на стул в кухоньке, отгороженной от их единственной комнаты тонко фанерной переборкой, и стал смотреть в темный угол, не зажигая света. Маша, ласковая, заботливая Маша, подошла, привычно взъерошила его волосы, ждала, когда он заговорит. Но он, казалось, даже не заметил ее присутствия.
- Ну, что такой хмурый ? С какого горя выпил?-не выдержала она.- Нездоровится?
Иван тяжело вздохнул, отрицательно помотал головой . Жена встревожилась.
- Неприятности на работе или еще что-нибудь приключилось?- снова спросила она. Муж не отвечал, и она повторила настойчивее:- Что же случилось?
- Отстань,- сказал он неожиданно грубо, как ни разу еще после своего возвращения не говорил. Затем, видимо, почувствовав, что сделал неладно, слегка привлек ее к себе и тут же отпустил.
В школу в этот вечер он не пошел. Разделся и лег на кровать, закинул руки за голову и - думал, думал о чем-то… Лишь ночью, когда жена, потушив свет, прилегла рядом, не выдержал, рассказал.
…С некоторых пор он начал замечать на себе любопытные взгляды сослуживцев, особенно женщин. Он поправлял лацканы старенького пиджака, проверял ворот рубашки - может, пуговица отлетела? Нет, его не переставали разглядывать исподтишка, хотя костюм был в полном порядке: Маша всегда вовремя бралась за иглу или утюг. И притом рассматривали так, будто видели впервые. Немного времени прошло, и Иван почувствовал, что отношение к нему на работе в чем-то изменилось. Внешне это проявлялось хотя бы уже в том, что разговаривать с ним стали стесненнее, торопливее, будто собеседнику не терпелось срочно закончить какое-то очень нужное дело. «С чего бы это?-терялся в догадках Иван.- Может, я маху какого то дал в работе?..»
Сегодня он спросил одну из машинисток:
- Ты что это меня изучаешь? Постарел я или помолодел?
На шутливо заданный вопрос та сразу не ответила, неожиданно вспыхнула, смутилась. Потом пролепетала:
- Да просто так …
Ивана это не удовлетворило, а потому, поймав в коридоре Викентия Лукича, он поделился своими наблюдениями.
- Повышение тебе, наверное, предстоит,- развел руками главбух,- а женщины, как водится, первыми пронюхали, вот и разглядывают.- И он засмеялся, не разжимая тонких губ. Потом похлопал Ивана по плечу.
- Ты не обращай внимания: женщины - они и есть женщины. Им всегда пища для любопытства нужна. Сегодня тебя рассматривают, завтра - меня, а там кого-нибудь еще. Знаю я этих сплетниц…
Главбух ушел. Иван махнул рукой и тоже пошел заниматься своими делами. Весь день, вызвав три самосвала, возил со станции уголь к котельной главного корпуса. И лишь когда начало темнеть, с последним рейсом вернулся, чтобы оформить документы. В здание он вошел со двора-так было ближе. Поднявшись на второй этаж, где помещалась бухгалтерия, он остановился в маленьком коридорчике, проверяя в последний раз накладные перед тем, как сдать их. И вдруг услышал голоса, доносившиеся из-за угла,-коридорчик делал в этом месте поворот. Разговаривали две женщины. Он не обратил бы на это внимания, если б одна из них не упомянула его фамилию. Тогда Иван невольно прислушался.
- Уж мне вы можете поверить, милочка, из самых надежных источников! Я даже поинтересовалась в отделе кадров - там же моя подруга работает, вы знаете. Подняли тихонечко его личное дело, заглянули. И вы представляете - все годы отмечены, а трех в его трудовой книжке как не бывало!
По голосу Иван узнал Аиду Прокофьевну, бухгалтера, носатую женщину неопределенных лет, с которой ему приходилось сталкиваться почти ежедневно: все наряды, накладные и другие его документы проходили через ее руки. У Ивана все внутри замерло и похолодело. Вот оно, чего он так боялся! Узнали, раскопали…

 А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ
Маша сказала:
- Что бы там ни говорили, а падать духом все равно нельзя. Если будешь хорошо работать, так к чему они будут придираться? А что узнали о судимости,- может, даже лучше. Ведь где бы ты ни работал, узнать все равно узнали бы. Уж лучше сразу перетерпеть. Тебя ведь увольнять никто не собирается!
Увольнять его действительно никто не собирался. Главное - Троицкий ничего не говорит, Викентии Лукич поддерживает по-прежнему. Так чего же ему паниковать?
К такому выводу пришел Иван утром, когда холодная вода из умывальника и крепкий чаи освежили его. И вообще Маша права: стоит ли вешать нос из-за какой-то старой сплетницы.
До университета было вдвое дальше, чем до магазина, в котором работала Маша, поэтому Иван всегда уходил первым. Вот и сегодня, одевшись, он встал у порога, когда жена только еще убирала со стола посуду. Берясь за ручку двери, оглянулся:
- Ладно, Машенька. Не такое пережили.- И вышел. Еще по дороге подумал, что первым делом надо будет сдать вчерашние накладные в бухгалтерию. Однако стоило ему вспомнить о пепельных буклях и внушительном носе Аиды Прокофьевны, как мужество покинуло его. Если уж она ведет такие разговоры с библиотекаршей, то в бухгалтерии наверняка все давно известно, недаром на него там в последнее время все глаза пялят. Хорошо хоть, что там Викентии Лукич сидит - он наверное приструнивает их немножко …
Оттягивая неприятный момент, Иван долго сидел в своем кабинетике. Потом придумал дело: его просил зайти проректор по хозчасти, так почему бы и не сходить к нему с утра?
Но именно там он и столкнулся с Аидой Прокофьевной. Пятясь задом, она выходила из кабинета Троицкого, что-то договаривая на ходу. Последнюю фразу Иван услышал ясно:
- Я вас предупредила, Николаи Иванович, потому что считала себя обязанной
Она повернулась и, очутившись лицом к лицу с Вихрастовым, испуганно зажала рот рукой. Затем мгновенно исчезла из приемной.
- Прикрыв за нею дверь, Иван вошел в кабинет проректора, поздоровался, спросил хмуро:
- Это насчет меня она приходила, Николаи Иванович?
Троицкий секунду подумал и утвердительно кивнул головой
- Неважные дела, Иван Никифорович. Узнали в университете о твоей судимости. Теперь мне проходу не дают… Тебе, наверное, тоже не сладко приходится?
- Да, я вчера слышал об этом. От нее же,- Иван махнул рукой на дверь, в которую вышла бухгалтер.- Случайно услыхал.
- Аиде Прокофьевне только на зуб попади!
Что же мне теперь делать, Николаи Иванович?- Иван мял шапку в руках, вопросительно глядя на проректора.-Раз все известно?
Тот откинулся в кресле, побарабанил пальцами по столу, переложил с места на место несколько предметов.
- Делай то же, что и раньше. Работник ты неплохой, к делу серьезно относишься, стало быть, и рассуждать нечего. А болтовня эта постепенно затихнет.
Перемелется - мука будет, как говорит народ… Теперь вопрос: ты в самом деле сидел за кражу?- Троицкий испытующе посмотрел на Ивана.
Вихрастов покраснел. Отпираться было нельзя.
- Да,- тихо ответил он и опустил голову.
- Почему же скрыл?
- Да ведь иначе вы меня не приняли бы … А меня и так нигде не принимали.
Проректор молчал долго. Так долго, что даже через плотно закрытые двери кабинетного тамбура стало слышно, как где-то в глубине коридора разговаривают и смеются студенты. Иван ждал, не поднимая глаз. Сейчас решалась его судьба.
- Ладно, иди,- сказал наконец Троицкий.- Иди и помни, что я на тебя надеюсь. Не подведешь?
Иван облегченно вздохнул: отлегло- от сердца.
- Не подведу, Николаи Иванович!
Побродив по коридору и успокоившись, Вихрастов поднялся на второй этаж, в бухгалтерию.
Увидев его, Аида Прокофьевна порозовела, как девочка. Однако тон ее был сух, движения остались сдержанными. Не глядя на коменданта она приняла отчетные документы, долго и придирчиво рассматривала их. Казалось, будь у нее микроскоп, она не поленилась бы изучить с его помощью каждую букву. Иван не выдержал: - Все, что ли?
- Вы свободны,- нехотя выдавила бухгалтер.-Запомните: теперь угля должно хватить до конца отопительного сезона.
- До конца и хватит,- спокойно ответил Иван.
- Сомневаюсь,- сказала вдруг Аида Прокофьевна зловеще.
В кабинете наступила тишина. Иван понял, что подразумевала под последним словом бухгалтер, и почувствовал, как все, сидящие здесь, настороженно ожидают его ответа. Лицо коменданта потемнело. Стиснув зубы, он процедил:
- Напрасно сомневаетесь. Углем я не торгую!- И вышел, хлопнув дверью.
В кабинете воцарилась тишина.
Весь день работа валилась у него из рук. Он брался за одно, бросал, принимался за другое, и опять не клеилось. В половине четвертого в кабинет зашла Катя Степанова, как всегда спокойная, аккуратно причесанная, с ученическим портфелем в руке. Неторопливо пристроив на горке деловых бумаг шапочку-колпачок, села перед Иваном, раскрыла портфель.
- И так, что у нас на сегодня? Ага, плюсквамперфект. Надеюсь, вы не заняты сейчас? Кажется, не заняты, только немножко кисловато выглядите. Но времени у нас в обрез -к пяти мне на зачет,- так что доставайте бумагу, берите ручку и слушаете.
Деловитость девушки подействовала на него успокаивающе, как голос врача на больного. Иван потер лоб, вытащил чистую тетрадку. Виновато признался:
- Вы уж простите, Катя, только слова я сегодня не выучил …
- Это неизвинительно,- педантично поджала губки студентка, но тут же, не выдержав тона, рассмеялась:-Ставлю вам неуд. Поехали дальше. Плюсквамперфектом называется одна из временных форм немецкого глагола. Она выражает действие, которое совершилось в прошлом раньше другого действия …
Студентка так обстоятельно объяснила ему, что значит « прошедшее в прошедшем», что когда он уже все понял, она еще продолжала объяснения. Не желая ее перебивать, Иван делал вид, будто слушает, сам же думал о своем. Когда она закончила, он вдруг спросил ее задумчиво:
- Скажите, Катя: «До того как стать преступником, он был честным человеком … »- это плюсквамперфект?
Она удивленно вскинула пушистые реснички:
- Ну и пример!- Чуточку подумав, сказала:-Вообще, это предложение с временным придаточным. Но оттенок плюсквамперфекта, безусловно, есть: сначала «был», потом «стал», одно действие предшествовало другому и оба - в прошлом.
- Оба - в прошлом?- неожиданно заинтересовался Иван.- Хм … А что же сказать об этом человеке сейчас?
- Не знаю,-пожала плечиками Катя.- Ваш пример об этом не говорит. И вообще, перестаньте отвлекаться …
Она постучала карандашом.
Урок продолжался.
Придя домой, Иван сказал жене:
- Ты знаешь, кто я? Я - плюсквамперфект: сначала - «был», потом - «стал», а что сейчас из себя представляю - никто не знает.
Маша улыбнулась:
- Я знаю. Ты - хороший.
… И ПОЛГОДА СПУСТЯ
Отошли зимние метели, от звенели морозы. Потом под улыбчивым весенним солнцем журчали ручьи и распускались первые, клейкие и пахучие, листья на деревьях Затем они стали крепкими, широкими, темно-зелеными, густой тенью прикрыла и городских пешеходов от яркого июньского солнца.
Иван Вихрастов работал и учился, учился и работал так, что не знал ни остановки, ни передышки, словно хотел наверстать потерянные три года. Да он и в самом деле желал этого.
Конец июня знаменовал для него окончание восьмого класса и прибавку хлопот по работе. С завершением сессии студенты должны были вот-вот разъехаться на каникулы, они ждали только выплаты стипендии. А Иван уже снова взялся за ремонт помещении главного корпуса. В эти дни он помогал заведующему лаборатории маркировать и укрывать оборудование перед ремонтом. Малярные работы уже начались. Часть маляров приходила во вторую смену. Иван допоздна задерживался с ними, как говорил Маше, «для хозяйского глазу». Вот и вчера задержался.
В бухгалтерию он теперь забегал чаще, чем прежде: требовалось выписать то одно, то другое, больше по мелочам. Там его неизменно встречал холодный взгляд Аиды Прокофьевны. Но Иван уже привык не придавать этому взгляду значения: шут с ней, с этой недоверчивой бухгалтершей, когда-нибудь сменит же гнев на милость!
Для других работников бухгалтерии острота неожиданного открытия, видимо, сильно ослабла. Они уже не изучали его пытливо, выжидающе, будто он был злым чародеем, который вот-вот должен выкинуть какую-то коварную штуку. Нет, просто смотрели как на всякого другого человека. Так же обстояло и со всеми другими сослуживцами. И душа его успокоилась, хотя втайне он продолжал ждать какой-нибудь неприятности.
Однако сегодня все раздумья, опасения, служебные заботы отодвинулись внезапно на самый задний план. В блаженном ослеплении шагал он на работу. Лучи утреннего солнца отражались в окнах домов. Мелкий ветерок играл в листве пихт и тополей, с шуршанием проносились по асфальту автомашины. А Иван ничего не замечал
…Весь вчерашний вечер Маша была рассеянна. Она бродила по дому какая-то отсутствующая, обычную свою домашнюю работу делала механически, не стараясь, что уж никак на нее не было похоже. Потом долго сидела на стуле, беспричинно улыбалась, смотрела на мужа странными глазами - будто зрачки у нее были повернуты внутрь. И только поздно вечером, когда он - по привычке - занимался, вдруг села рядом, прижалась теплой грудью к его руке, спросила:
- Ванюша, ты любишь детей?
Он нехотя оторвался от чтения.
- Детей? .. Не знаю. А что?
Она облизнула полные губы кончиком языка, прижалась еще крепче.
- Хотел бы ты иметь собственного … ребенка?
- Что за вопрос!- Иван пожал плечами.- Детей всем положено иметь, стало быть и мне, и тебе, нам.
Маша долго молчала, потом притянула его голову и прошептала на ухо:
- У нас будет ребенок.
… Вот и шел сегодня Иван, глядя прямо перед собой, ничего не замечая по сторонам. Никогда он ровно не отличался особым воображением, но сейчас одна за другой проходили перед его внутренним взором картины будущего. Они идут с Машей по улице и несут его ребенка- большой кокон одеяльце. Несут с доброй улыбкой!…. Или идет он - с сыном. Сын держится за руку, спрашивает, скажем: «Пап а почему птица летает?», а он, Иван, отвечает: мол птица потому летает,что опирается на воздух, и дальше в том же духе. Или они на демонстрации и сын сидит на плече с флажком в руках красным. Или… Эх ты, уже пришел. Ну, ладно.
Иван миновал вестибюль, глянул по дороге на часы. Они показывали, что рабочий день начался семь минут назад. «Эка, размечтался,-подумал он.- Даже от служебного времени прихватил». Впрочем, это его не обеспокоило. За ним никто не проверял - когда он приходит на работу, когда покидает здание университета. С него спрашивали только за дело.
Когда он поднимался по лестнице, навстречу застучали дробные женские шаги. Он поднял голову. Сверху, стремительно считая ступеньки, спотыкаясь, бежала Лидия Николаевна - старший кассир. Он поздоровался и освободил ей дорогу. Она не ответила, пронеслась мимо метеором. Только и успел заметить Иван, что на ней, что называется лица не было. Покачал головой: на такой скорости и голову запросто можно свернуть!
Интересно, куда это она так несется? Да, сегодня же день получки, а у студентов стипендия. Наверно, ключ от кассы дома позабыла. А обычно такая аккуратная …
Посмотрев ещё раз вниз, Иван добродушно усмехнулся, снова покачал головой и пошел в бухгалтерию.
Дверь была приоткрыта, и оттуда доносились непривычно громкие голоса. Кто-то из женщин торопливо рассказывал:
- … выскочила из кассы - лицо белое, стала дверь закрывать - руки трясутся, никак ключом в скважину не попадет.
- Факт, что-то случилось.
И уже входя в бухгалтерию, Иван услышал в дверях последнюю фразу:
- Может кража? ..
В большой комнате повисла гнетущая тишина. В ней явственно стали слышны шаги Ивана, и все разом повернулись к вошедшему. Но тут же опустили глаза. Однако на приветствие ответили.
Он обвел бухгалтерию взглядом. Женщины сбились стайкой около столов молодых счетоводов - Полосовой и Строкиной. Лишь за столом главбуха одинокой старой птицей, нахохлившись, сидел Викентии Лукич.
- Мне надо выписать алебастр, на складе ни крошки не осталось,- негромко сказал Иван, обращаясь к Аиде Прокофьевне.
Та секунду молчала и вдруг, вся передернувшись, выкрикнула ему в лицо:
- Ничего я вам не выпишу!- Запахнувшись в широкий серый шарф, она проскочила мимо него в открытую дверь.
Лицо Ивана потемнело. Он шагнул к главбуху:
- Мне нужен алебастр для ремонта!
Викентии Лукич посмотрел впереди себя отсутствующим взглядом, ответил деревянным голосом.
- Этим вопросом ведает Аида Прокофьевна. Когда комендант выходил из бухгалтерии, ему показалось, будто пол под ним качается…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРЕРВАННОЕ СЛЕДСТВИЕ
КРАЖА
Полковник Колосов находился в командировке в одном из глубинных районов, когда ему сообщили о случившемся.
- Действуйте, не ожидая моего приезда,- сказал он в телефонную трубку и тут же вызвал своего шофера:-Коля, заводи. Срочно возвращаемся в город.
Однако по дороге им не повезло. Поднялся ветер, нагнал клубящиеся тучи, хлынул ливень. «Газик» мотало в грязи, как суденышко в шторм. На подъезде к небольшому селу у них оборвалась тяга рулевого управления. Пока Коля обегал село в поисках механизаторов, пока узнал, где можно отремонтировать, наступила ночь. Правда, ливень скоро стих, но в город они все равно смогли попасть лишь к рассвету. Непогода здорово задержала их.
Домой заезжать не имело смысла.
- В отдел,- кратко сказал Колосов.
Шофер кивнул, и через десять минут «газик» остановился перед городским отделом милиции. Отпустив машину, Колосов прошел в свои кабинет, сел за стол, потер рукой затылок, крякнул: «И-эх!» Затем, придирчиво осмотрев себя в маленькое карманное зеркальце, спрятал его и велел вызвать нужных -сотрудников.
Вскоре они сидели в его кабинете. Полковник обвел их взглядом. Все были хорошо знакомы ему. Вот начальник следственного отделения старший лейтенант Роев. Высокий стриженный «ершиком», с умным и очень замкнутым лицом. Этот себе цену знает. Деловит и исполнителен. Неподалеку от него сидит на стуле бочком, ноги под себя, майор Толстиков, следователь. Скоро уйдет на пенсию. Весь он какой-то сонный вяловатый но это только кажется. Толстиков - старый волк, хватка у него крепкая. Только грубоват, грубоват… А вот лейтенант Дубов. Тоже следователь. Всего два года, как пришел работать в отдел, окончил юридический институт. Молод, но толков, успел себя зарекомендовать. Этому можно доверить любое дело…
- Разрешите доложить, товарищ полковник?-поднялся с места Роев.
- Докладываете,- кивнул головой начальник милиции.
- В общих чертах суть дела такова. В университете из сейфа старшего кассира Сидоркиной похищена крупная сумма: Это зарплата преподавателей и стипендия студентов за июнь. О краже Сидоркина заявила вчера утром, лично явившись к дежурному милиции. На место происшествия срочно была отправлена группа в составе следователей майора Толстикова и лейтенанта Дубова, с ними - оперативник и эксперт по сейфам. Служебную собаку брать не сочли нужным: бесполезно, университет - место очень людное, следы затоптаны.
Осмотр помещения кассы ничего не дал. Замки двери (вход в кассу из бухгалтерии) и сейфа в полном порядке. На сейфе обнаружены только отпечатки пальцев кассира, а это ни о чем не говорит, кроме того, что преступник мог принять меры предосторожности. На полу тоже лишь следы кассира, которая утром подходила к сейфу.
Документальная ревизия показала, что бухгалтерский учет в полном порядке. Кстати, об этом же свидетельствует и заключение ревизии, произведенной по инициативе финорганов и законченной позавчера. По их, так сказать, вине деньги не были выплачены и в нарушение инструкции остались лежать в сейфе до следующего дня.
У следователей сложились определенные версии о личности преступника…
- Вот и послушаем самих следователей,- остановил Роева полковник.- Начнем с Алексея Николаевича. Прошу,- повернулся Колосов к майору Толстикову.
Тот гулко крякнул, прочищая горло, и заговорил:
- По-моему, товарищ полковник, дело не особо сложное.
- Полагаюсь на ваш большой опыт,- с ноткой иронии отозвался Колосов.- Но деньги еще не найдены, и о легкости дела судить рановато. Продолжаете, Алексеи Николаевич.
- Хорошо,- согласился следователь.- Так… По свидетельству банка деньги были вручены Сидоркиной около одиннадцати часов утра позавчера, в четверг. Установлено, что она положила их в сейф, установлено также, что днем вынести их было невозможно. Значит, кража произошла несколько позднее - вечером или даже в ночь на пятницу.
Таковы предварительные выводы.
Преступник мог выйти только через главный! ход, и вот почему. Я осмотрел все окна первого и второго этажей. Выбраться из здания через окна невозможно: они глухие, двух рамные и лишь вверху имеют для вентиляции … ну, как их… фрамуги, очень узкие. С третьего этажа прыгать - голову сломать… Черный ход вахтер лично закрыл !В шесть вечера. Замок двери в полной сохранности - к моменту осмотра его еще не открывали, да и выйти бесшумно через этот ход преступник не мог, там вахтеру все слышно.
Вахтер мною допрошен. Старик не особенно разговорчив. Все его показания можно свести к следующему. Студенты уходили из здания весь вечер: библиотека до восьми работала, кто еще экзамены пересдавал, профком заседал и так далее. После студентов ,минут через десять-пятнадцать ушли рабочие, лабораторию они красили. В руках ничего не несли (вахтер за этим специально присматривает), кроме двух-трех сеток с остатками ужина.
Маляров я опрашивал на месте, по отдельности. Все как один утверждают, что весь вечер никто из лаборатории не отлучался больше чем на пять-шесть минут. Они из разных бригад, так что войти, так сказать, «в содружество» вряд ли успели - работают вместе всего три дня. Да и сама одежда маляра, грязная, обувь очень уж неподходящая для такой операции… В общем эта версия, по-моему, отпадает.
После маляров, по показаниям вахтера, до утра никто больше не показывался, ничего он больше не видел и не слышал, но уверяет, что не спал. Раза три-четыре за ночь поднимался на второй этаж, но точное время назвать не может. Ничего подозрительного при обходах не заметил …
- Как вы думаете, мог вахтер со своего места услышать скрип двери бухгалтерии?- спросил внимательно слушавший Колосов, воспользовавшись паузой в докладе следователя.
- Хм… В пустом, тихом здании - пожалуй, да. Бухгалтерия довольно близко к парадной лестнице расположена. Конечно, если у старика хороший слух.
- Замок двери вы, конечно, осматривали. А скрипит она?
- Днем было шумно, товарищ полковник. Во всяком случае, сильно она не скрипит, я бы это заметил.
- Разрешите?- подался вперед лейтенант Дубов.
- Прошу.
- Шарниры двери хорошо смазаны, товарищ полковник. Даже масло наружу протекло.
- Что из этого следует?
Лейтенант немного подумал.
На мои взгляд, это еще ни о чем не говорит, если
и все другие двери тоже смазаны. Но проверить этот момент я упустил из виду. Спешили мы очень … А ваша мысль понятна: если преступник заранее готовился пойти «на дело» ночью, то должен был принять меры. Вряд ли он знал, какой слух у вахтера.
- В общем, уточнить эти детали не мешает,-подытожил Колосов.- Проверьте Алексеи Николаевич. Толстиков откашлялся.
- Немного о вахтере. Показания он давал довольно неохотно, несмотря на мою настойчивость. У меня сложилось впечатление, что старик кое о чем умолчал. Подозревать его я не подозреваю, но поговорить с ним еще раз не мешает.
- Далее. Денежный сейф, по заключению экспертизы, был открыт ключом, а не отмычкой . Ключ от сейфа всегда хранится у старшего кассира Сидоркиной Одно предположение о том, что с ключа был кем-то сделан слепок, было разбито самой Сидоркиной. Когда я ей задал такой вопрос, она в первый момент согласилась со мной , но потом стала категорически отвергать эту версию. Она прямо заявила, что никогда и нигде не оставляла и не теряла своих ключей. Когда я стал подробно интересоваться, где она была вечером в день совершения хищения, то есть в четверг, она категорически отказалась отвечать. Мне кажется, это главное звено, за которое сейчас следует взяться, и поэтому …
- Простите, майор,-прервал Колосов.- А какая сумма была похищена в кассе?
- Двенадцать тысяч рублей.
- Осталось в кассе хоть что-нибудь?
- Сорок четыре рубля мелкой купюрой и много мелочи серебром.
- Интересно … Вор-профессионал забрал бы и мелкую купюру. Особенно если дело происходило ночью спешить было некуда … Или же это человек, для которого воровство - занятие необычное?
- Вот именно, Александр Петрович. Чувствуется, что кража произведена не профессионалом,- оживился Толстиков.
- Возможно, вы и правы,- в раздумье заметил Колосов, - может быть, действительно Сидоркина имела прямое или косвенное отношение к краже…
- Обязательно. И только так,- Толстиков энергично встал. От его сонного вида не осталось и следа.- Ее необходимо немедленно арестовать. Колосов поднял руку: - Подождите майор, не спешите. Вы уже давно порывались ,сделать такой вывод. Но окончательные выводы делать еще рано. Нужно все проверить, тщательно проверить … Ну, а что вы нам скажете?-обратился полковник к Дубову.- Какая вами проделана работа?
- Сделать удалось еще очень немного, товарищ полковник. Майор Толстиков поручил мне подробно изучить кассира Сидоркину. Этим я и занимался вчера. Сидоркина Лидия Николаевна - вдова, тридцати девяти лет, муж - майор Советской Армии, танкист, геройски погиб в 1944 году на фронте в районе Будапешта. От него осталась маленькая дочь. По специальности Сидоркина счетовод. Работала на кондитерской фабрике, в строительном тресте, потом перешла в университет. Замуж не вышла, хотя по словам дочери, предложения ей делали несколько человек.
- Вы успели даже с дочерью познакомиться?-удивленно спросил Колосов.
Дубов отрицательно качнул головой:
- Нину Сидоркину я знал еще раньше, товарищ полковник. С ней меня познакомил мой старый школьный товарищ Олег Кухарев. Он дружит с ней . Когда я просматривал личное дело Сидоркиной и узнал, что у нее есть двадцатилетняя дочь, сразу вспомнил о своем знакомстве. Но уверенности в том, что моя знакомая Нина Сидоркина - дочь Лидии Николаевны, у меня, естественно, не было. Навел справки -она. Это хорошая, развитая девушка, спортсменка, увлекается гимнастикой . Работает воспитательницей в детском саду N 14 по Московской улице. Учел это обстоятельство и пошел «невзначай » встречать свою знакомую с работы. Пришлось, конечно, притвориться, что ничего не знаю о случившемся. Она сама рассказала: мать очень переживает из-за кражи, но надеется, что деньги найдут. Очень осторожно попытался выяснить, где Лидия Николаевна была в четверг вечером, но девушка сразу замкнулась. Впрочем, я особенно и не настаивал: пока она не знает, где я работаю, и раскрывать это нецелесообразно.
Проводив девушку до дома, я решил побывать у них в квартире под предлогом, что хочу пить. Да и в самом деле хотелось. Она пригласила зайти. Как я и рассчитывал, Лидия Николаевна оказалась дома. Что-то не то шила, не то чинила. При нашем появлении она быстро с вернула свою работу и положила в шифоньер. Но я успел заметить, что это была мужская рубашка. Вначале не придал этому значения, но после, когда шел домой, вспомнил о ней Мужская рубашка - для кого? Почему она спрятала ее и спрятала поспешно?
Все это, конечно, интересные вопросы, но разрешить их пока не удалось … Квартира у них небольшая, уютная. Состоит из двух маленьких комнат по 12-14 метров и кухни. Обставлена небогато, но со вкусом -чувствуется, что хозяева любят свои угол. Встретили очень хорошо. Пригласили на чай Я отказался. Выпил воды и ушел … У меня все.
- Вот вы познакомились с семьей Сидоркиной Как вы считаете, могла такая женщина совершить преступление?- опросил Колосов и внимательно посмотрел на Дубова.- Я попрошу вас дать оценку тем впечатлениям, которые сложились у вас в результате беседы.
Дубов посмотрел на Толстикова, потом на полковника, некоторое время покусывал губу, затем осторожно начал:
- Мне трудно сейчас ответить на этот вопрос. Ряд обстоятельств, о которых докладывал товарищ майор, дают основание ее подозревать если не в совершении преступления, то в соучастии в нем. С другой стороны, она никак не похожа на человека с нечистой совестью. Вчера вечером при всем своем радушии она не могла скрыть чувства огорчения. Да, именно чувства огорчения случившийся. Но никакой настороженности в ее поведении я не заметил.
Лейтенант умолк. Подполковник понял, что окончательного вывода молодой! следователь делать не будет.
- Значит, вы склонны думать, что Сидоркина не имеет никакого отношения к преступлению?-подытожил Колосов.
- Скорее всего. Трудно подумать, что она участвовала в краже, а вчера просто хорошо сыграла роль,- развел руками лейтенант.
Подполковник сказал задумчиво:
- Ну, что ж… Вы, Дубов, продолжаете проверку версии о виновности Сидоркиной. Установите во что бы то ни стало владельца рубашки, которую чинила Сидоркина. Если она действительно совершила кражу, то у нее обязательно должен быть сообщник, а скорее все-го инициатор преступления. Сама она решиться на такой шаг едва ли смогла бы. Узнать, что это за человек, нужно быстро. Выясните, где она находилась вечера в день совершения кражи. Раз она скрывает - значит, имеет веские причины. Возможно, это существенно подвинет дело. Преступник мог просто воспользоваться женской доверчивостью. Абсолютно посторонний человек совершить такую кражу не мог … Так, значит, вахтер ничего существенного вам не рассказал?-обратился Колосов к Толстикову.
- Тяжелый он человек, товарищ полковник. Относится к той категории людей, которые придерживаются правила «моя хата с краю»,- в тоне майора прозвучала нота досады.
- Тогда придется мне самому поговорить с ним,-решительно сказал Колосов.- Пригласите его на завтра ко мне. Сами займитесь сбором сведении о нем и о всех работниках бухгалтерии: только они знали, что в сейфе хранится крупная сумма денег … Обо всех собранных материалах сразу же информируете.
НИТЬ ОБРЫВАЕТСЯ, НО…
- Ну, что Шерлок Холме, обдумываешь очередной сверхтонкий! ход?- с грубоватой иронией спросил Толстиков, входя в кабинет Дубова. Кабинеты их были рядом, следователи довольно часто навещали друг друга.
- Приходится и думать,- суховато ответил Дубов, задетый «Холмсом». Но мысли тут же вернулись к делу.-Понимаешь,липовое положение создается. Самому мне к Сидоркиной идти нельзя: вчера отметился, а повторение нежелательно, даже очень. Послать оперативника, чтобы соседей опросил, тоже не выход: дом двухэтажный, жильцы наверняка о краже знают, а тут вдруг если милиция интересоваться начнет. Навредить можно людям ни за грош. Сплетни - они такое на человека понавешают, что полжизни отмываться придется. Стыдно будет перед той же Сидоркиной, если она не виновата. А я вот просто сердцем чувствую, что это так …
Толстиков к этому времени уже прочно обосновался на диване и имел привычно полусонный вид. Когда его молодой коллега кончил, он приоткрыл один глаз по шире.
- Сентименты, сентименты… «чувства», как говорит Аркадии Райкин. А в общем - молодо-зелено, товарищ Дубов. - Майор открыл второй плаз, полез в карман, вытащил бумажку и показал её лейтенанту.- Вот. Ты видишь, что такое? Это заключение экспертизы о том, что сейф был открыт тем ключом, которым его обычно открывают. Иными словами, ключом Сидоркиной . Что ты на это скажешь?
«Ключ все время находился у Лидии Николаевны, она сама это подтвердила,- мелькнуло в голове у Дубова.-Значит … Эх! Не может быть … Или кто другой им воспользовался, а она не знала?»
- В нашем деле главное -факты и еще раз факты,-продолжал, не дождавшись ответа, довольный Толстиков. - Найдешь их, найдешь и преступника. Он полностью вырисовывается на фоне фактических данных. А так он может и милым быть,-мне уж всяких доводилось видывать,- и обстановочку скромную и со вкусом заводить, но появился факт, как говорится, упрямая вещь, и весь этот маскарад уже ни шиша не стоит.
В общем, Алексеи Николаевич, ты хочешь сказать, что характер подозреваемого, его склонности, все окружающее не заслуживают внимания?- не выдержал Дубов.
Толстиков неопределенно хмыкнул.
- Видите ли, Коля … Теоретически я с вами согласен. Все это нужно. Практика призывает к другому. Мы должны найти преступника и передать его в суд. Это наша первейшая задача. По тому, как мы справимся с этой работой судят о нас самих. А что из себя представляет тот или иной тип, так сказать, психологически, изучать лучше не на работе, а в свободное время, на досуге. Нарушил закон - понеси наказание прежде всего … Ну, а если ты станешь поднимать всю сеть причин какого-нибудь преступления, пока будешь нянчиться с одним жуликом или бандитом да разбираться во всех тонкостях его психологии, то десять других такое отчебучат …
- А если человек невиновен?
Толстиков пожевал губами.
- Извинишься задним числом - и только. Все мы люди и у нас ошибки бывают.
- Неприятно это - задним числом извиняться,-хмуро сказал Дубов.
- Что поделаешь?-вздохнул майор и снова принял сонный вид.- У нас, Коля, план. Как на производстве, хоть и ненормированный!. И его надо тянуть. До ста процентов раскрытых преступлении.
Лейтенант отвернулся к открытому окну, за которым еле слышно шелестели тополя. Помедлив, резюмировал:
- При большой спешке есть риск выполнить этот план и на сто десять … за счет подозреваемых.
В кабинете некоторое время было тихо. Потом Толстиков решительно встал.
- Ну, вот что, Николай Дебаты в сторону, хотя и остаюсь при своем мнении: лучше сто десять процентов, чем скажем, восемьдесят … А сейчас займись Сидоркиной вплотную. Задание у тебя - яснее некуда. Я пойду в университет, мне еще там копать да копать …
Майор направился к двери. Уже на пороге его настиг вопрос Дубова:
- Обожди секунду, Алексеи Николаевич. Ты о данных экспертизы докладывал?
Толстиков приостановился. - Конечно.
- Ну и что шеф?
- Да что … Велел вернуть на повторное заключение.
- Вот видишь!- несколько облегченно и с ноткой укора сказал Дубов.
- Не радуйся. Это ничего не изменит. Заключение будет прежним.
Дверь за Толстиковым закрылась. Лейтенант остался один. Разговор ему не понравился, но задание есть задание, и мысль снова переключилась на него.
На оперативника в этом случае полагаться не приходилось, значит, надо было идти самому. Явиться к Сидоркиной на квартиру и побеседовать с -нею откровенно, на прямую? Глупость. А что если она и в самом деле непосредственно замешана в краже! .. Поговорить с Ниной так, мол и так, положение можете спасти только вы, ради матери вы должны … Нет, не подходит…
Время приближалось к часу дня. Еле заметный ветерок, дувший с утра, теперь окончательно стих. Под палящими лучами солнца поникли широкие листья тополей. Даже воробьи, вечно возившиеся в кустах сирени, и те куда-то исчезли, пережидая жару.
Одна из ветвей тополя почти прикасалась к верхнему наличнику, и тени листьев лежали на нагретом подоконнике. Дубов обвел одну из этих неподвижных теней красным карандашом и тут же, вытащив из стола резинку, принялся стирать контур. «Тьфу, черт, опять это мальчишество сказывается… -пронеслось в голове и сразу же механически подумалось:- Ну и жарища! Хоть бы какая плевая тучка навалилась, что ли…»
Дубов старался думать о деле, насильно принуждал себя решать вопрос, а память подсказывала совсем другое: то как дождь хлестал в окна их класса во время последнего выпускного экзамена - веселый июньский дождь, то как он после экзамена потчевал мороженым толстушку из 10-то «Б», то как они после купания в речушке лежали на сыпучем, мелком песке с другом, Олегом Кухаревым …
«Олег! Вот кто может выручить!- лихорадочно заработала мысль. Дубов сразу забыл и о жаре, и о свежей прохладной речке.- Если его попросить, он может сходить к Сидоркиным. Ведь это же в его, черт возьми интересах выяснить, что представляет из себя его будущая … Э-э, как ее, теща. Во имя дружбы и справедливого дела … Нет, не должен отказать. Не должен».
Лейтенант быстро скинул надоевшие полуботинки ( «Чудо! И как раньше не догадался?!»), сунул ноги в легкие сандалеты, подумав, прихватил с собой парусиновую куртку и радостно щелкнул дверным ключом.
Домик, в котором жила семья Олега Кухарева, утопал в зелени. Плотной стеной обступали его огромные кусты жасмина и сирени, за ними почти не было видно невысоких окон с чисто вымытыми стеклами и резными наличниками. Над красной железной крышей поднималась труба, увенчанная жестяным прокопченным петухом. Петух когда-то, как помнил Николай, поворачивался на манер флюгера, но теперь он заржавел и застыл в одном положении, чуть свалившись набок. Да и сам дом тоже осел и как-то покосился. Весной и ранним летом воздух вечерами здесь был густо настоен на аромате цветущей сирени, а позднее - жасмина. Когда-то Николаи, бывало, дня не пропускал, чтобы не побывать у друга. В саду за домом они играли, готовились к экзаменам, толковали, как водится, о девчонках … Олег был его лучшим другом. А теперь вроде бы и не ссорились, а встречаются все реже и реже. Странно получается, стоит переехать в другой район города, и дружба вроде бы меркнет. Много все-таки зависит от того, насколько часто люди встречаются.
Дубов взглянул на часы. Начало второго. Олег, наверное, еще на заводе, придется подождать … Он толкнул знакомую калитку, прошел к крыльцу мимо окон, выходивших во двор. Навстречу ему из сада вышла мать Олега - пожилая дородная женщина.
- Ох ты, господи! Никак, Николаи?
- Сколько лет, -сколько зим, Ольга Васильевна!
- Здравствуйте!
- Да где ж ты запропал? Раньше, бывало, палкой вас не разгонишь, а теперь - на тебе и носа не кажет.
- Работа, Ольга Васильевна, работа. Заела совсем,-развел руками Дубов.- Олега, наверно, нет? Не сообразил я как-то сразу …
- Да в саду он. Во вторую смену ходит. Сын!- крикнула она, повернувшись в сторону сада.- Встречай! гостя!
Из густых зарослей вишенника вылез заспанный Олег. Они крепко обнялись, похлопывая друг друга по спине.
- Ты что это дрыхнешь средь бела дня?
Олег махнул рукой, предложил:
- Пройдем-ка в сад … Мама, готовь нам что-нибудь съестное. Лучше всего окрошечки холодненькой.
- Да ладно уж, знаю,- отозвалась та.- В такую жару разве другое пойдет.
Они сели за низенький самодельный столик, врытый в землю под густой старой яблоней. Олег потер заспанные глаза, лицо у него приобрело озабоченное выражение.
- Слушай, Коля у меня неприятность большая. Почему и спал: чуть не до утра с Ниной по улице ходили, говорили. Тебе конечно, известно, что у ее матери на работе крупная кража была?
Отказываться не имело смысла. Дубов кивнул:
- Знаю.
Вот и пришлось мне Нину успокаивать. Обнадеживать-то я ее обнадеживал: наедут мол вора, но ведь тут, сам понимаешь, дело сложное. Все от вас зависит …
Втайне Николаи даже обрадовался, что друг в курсе событии. Это избавляло его от необходимости подготовительного разговора. Он решил идти напрямую.
- Видишь, Олег, какое дело … Я не только знаю о краже, но и веду сейчас по ней следствие. Так что ты уж извини, но именно поэтому я и пришел. Ты можешь мне здорово помочь.
Остатки сна улетучились из глаз Олега. Широко открыв их, он внимательно смотрел на Николая, ждал, что тот скажет дальше.
- В общих чертах: на Лидию Николаевну падает подозрение, что она причастна в какой-то мере к преступлению … Я тебя хорошо знаю,- отговорился он,- и думаю, ты понимаешь, это должно остаться между нами. Дубов замолчал, выжидая.
- Понимаю,- подтвердил Олег. Потом откинул светлую челку, падавшую на лоб.- Можешь быть уверен во мне, как в себе. Ну?
- Так вот. Моя точка зрения: сама она кражи не совершала, просто у нее абсолютно никаких данных для этого нет … Но ее, скажем, простодушием или неосторожностью мог воспользоваться кто-нибудь другой -возможно, близкий к ней человек. Тут уж я прошу тебя: может, знаешь круг ее знакомств? Для следствия и, в частности, для тебя лично это имеет большое значение. Ведь ты, по-моему, имеешь серьезные виды на Нину?
Олег долго и сосредоточенно думал. Потом осведомился:
- Надеюсь, люди не пострадают от того, что я назову их тебе? - Если невиновны, разумеется.
Друг понимающе «угукнул» и рассказал все, что знал о знакомых Лидии Николаевны.
Дубов внимательно выслушал, сказал задумчиво:
- Значит, все знакомые ее мужчины - это мужья ее подруг. Тогда ,кому же она может шить или чинить рубашки? Ведь она не портниха, чтобы шить на заказ!
- Что ты на это скажешь?
Олег отвел глаза. После паузы ответил:
- Понимаешь, в чем дело … Неудобно как-то выдавать чужую тайну, да и сдается мне, что ничем это тебе не поможет … Но ладно. В общем, Нина мне рассказала по секрету, что мать ее дружит с преподавателем университета Залесных . Он холостяк, связаны они уже много лет… предложение Лидии Николаевне делал, по словам Нины, и не раз, а та не соглашается … Из-за дочери, наверно, я так думаю… Как его зовут, не знаю, но это ты и сам сможешь узнать, если тебе интересно.
Он на кафедре физкультуры работает. Встречаются они раз в неделю, по четвергам, я это потому знаю, что часто Нина меня к себе приглашает в этот день - матери дома, -как правило, не оказывается. А в остальные дни она всегда дома. Ясно?
… Толстиков сидел за столом, разглядывая свои красные мясистые пальцы. Завидев входящего в кабинет Дубова, привычно прикрыл глаза:
- Ну?
Дубов бросил куртку на диван, налил в стакан воды, выпил.
Вот так: версия Сидоркиной провалилась. Толстиков приоткрыл глаз.
- Возможно,-протяжно произнес он.- Что добыл? Дубов сел на диван, положил ногу на ногу.
Сидоркина в четверг была у преподавателя физкультуры Залесного. Связь тарная, но давным-давно известная. Не нам, конечно. Живет отлично: двухкомнатная квартира, холостяк, доход приличный . Характеристика: не жаден, не пьет, живет один, сдержан. Жена умерла пять лет назад. С тех пор ни с кем, кроме Лидии Николаевны, не замечен.
- А рубашка какого размера?
- Пятьдесят второго. С плеча Залесного.
Майор повертел большими пальцами. Причмокнул губами - сладко, как во сне. Сказал, раздумывая:
- Эта рубашка еще к одному плечу подходит. Проверял я сегодня смазку дверей и могу тебе задачку подкинуть. Шарниры дверей во всем здании давно не смазывались, а вот в бухгалтерии и у коменданта главного корпуса - фамилия его Вихрастов - смазаны. Обрати внимание: смазка идентичная. Особое масло … А Вихрастов отсидел три года за кражу. Недавно вышел. Однако … комендант. Как? Подойдет рубашка?
Дубов долго качал ногой.
- Не верится. Связи не вижу.
Но Вихрастова придется проверить. Кстати, и все работники бухгалтерии указывают на него.
Займись: Иван Никифорович Вихрастов. Вот адрес,-майор вырвал страничку из записной книжки и протянул ее Дубову.- Главное: существует ли связь Сидоркина -Вихрастов.
Толстиков снова принял сонный вид, только большие пальцы рук медленно вращались один вокруг другого.
За окном вечерний ветерок шевельнул листья тополя, они зашелестели.
ОГОНЬ ПО СВОИМ
Зазвонил телефон. Полковник Колосов, просматривавший корреспонденцию, поднял трубку.
- Товарищ полковник,- послышался голос майора Толстикова,- пришел университетский вахтер. Вы хотели поговорить с ним.
- Проводите его ко мне,- ответил полковник и начал убирать документы со стола в сейф.
…В дверь постучали. За майором вошел небольшого роста старичок с редкими седыми волосами, в старом, но опрятном костюме черного цвета и коричневой рубашке. В руках он держал серую кепку, которая в этот момент ему очень мешала, и старик непрерывно перекладывал ее из одной руки в другую. На вид ему было уже лет под семьдесят.
- Проходите, проходите, отец, не стесняетесь,-
Колосов встал и вышел из-за стола. -А вы, Алексей! Николаевич, можете идти, мы здесь вдвоем потолкуем. Старик, прихрамывая, прошел вперед.
- Ну, давайте познакомимся,-сказал полковник, протягивая ему руку.- Ваше имя, кажется, Яков Сидорович? Мое -Александр Петрович. Садитесь, пожалуйста.
Колосов усадил посетителя в мягкое кожаное кресло перед столом, сам опустился в кресло напротив. Вахтер, видимо, не ожидал такого приема. Чувствовалось, что он несколько растерялся: заметно дрожащие пальцы выдавали его волнение. Но он старательно скрывал свое состояние за безразличным, намеренно спокойным видом.
- Ногу-то, наверно, на фронте повредили?-спросил полковник, давая возможность собеседнику привыкнуть к обстановке.
- На ней. Да это еще в первую мировую, на германском …
- Отцу моему после первой мировой тоже пришлось из строевых выбыть. Потерял от газа половину легких, приобрел - Георгия,- сказал Колосов.
- Оно и я ведь - кавалер Георгиевского креста,- старик взбодрился, глаза его потеплели. Неожиданно он вздохнул и, прищурившись, начал неспешный рассказ, как бы подчеркивая наклоном головы некоторые особенно важные фразы:- Мешала нашим позициям одна деревенька, занятая немцем. Очень мешала. Как заноза в ступне. Коли мешает- надо удалить. Было приказано сделать это нашей роте. Вот с рассвета мы и поднялись.
И так хорошо у нас получилось: быстро и почти без шума. Заняли деревеньку и ждем. А наши-то, видно, не разобрались, или помог кто не разобраться,-посчитали, что у нас не получилось ничего,- взяли да и лупанули по деревеньке со всех батарей!. Значит, по своим. Хорошо лупанули. После, конечно, нам всем по Георгию дали, только немного их потребовалось … Там вот и ногу задело.
Старик мгновение помолчал, как бы размышляя, стоит ли продолжать, но потом все-таки добавил:
- А крест до сих пор храню: как амулет- чтоб свои не били,- он склонил голову набок и с открытой простоватостью посмотрел прямо в глаза Колосову.
«Ох, ты какой! Молодец!»- мелькнуло в голове у полковника. Он понимающе улыбнулся и спросил:
- Ну, а с деревней что?
- Опять пруссаки заняли,-флегматично ,ответил старик и привычно наклонил голову. Колосов подвинулся к вахтеру.
- Да, Яков Сидорович, много такого бывало и тогда, и в более поздние времена. Бывало, но не должно больше быть. Короче, вы должны нам помочь, Яков Сидорович. Человек вы поживший, опытный и важность момента, я полагаю, понимаете. Теперь, с вашего позволения, перейдем к делу … Обстоятельства вам, полагаю, известны, так что не будем терять времени.
Эти слова явно пришлись старику по душе. Он даже выпрямился и с готовностью, как бы извинясь за предыдущий суховатый тон, быстро заговорил:
- Да я всегда от всего сердца рад. Ежели чем могу помочь, посчитаю за честь. Нам, старикам, справедливость дороже всего.
- Вот и прекрасно. Припомните, пожалуиста,-только получше припомните,- что вы делали в тот день, когда была совершена кража, с кем встречались, разговаривали, особенно -кто в конце рабочего дня входил или выходил из университета. Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного?
Вахтер, окончательно успокоившись, свободно положил кепку на стол, уселся поудобнее, спросил разрешения закурить. Пыхнув дымком, начал:
- Понятно. Что я делал в тот день?.. Сменщик один у нас в отпуске, так что я за двоих дежурю. Посему вернулся я утром домой, дров старухе наколол для плиты, два ведра воды принес, чтоб не ворчала. Позавтракал - и на боковую: в четыре снова на смену заступать.
Старик рассказывал не спеша. Колосов его не перебивал мерно кивал седой головой, внимательно слушал. Вахтер добрался, наконец, до самой сути. Полковник насторожился.
- …И вот ушли эти самые маляры … - Старик замолчал. Потом долго поглядывал на начальника милиции из-под густых, нависших над глазами бровей . Неожиданно спросил:- Извините, Александр Петрович, а вот этот товарищ, что меня сюда привел, часом не в начальниках ходит?
- Майор Толстиков? Да нет, не в особых. Он старший следователь. А что?
Вахтер помялся.
- Да как сказать … Нерасполагающий какой-то человек. Больно уж настырный. Вот так возьми да всё ему и выложь.- Старик внимательно посмотрел на Колосова, поднял тонкий сухой палец:- Главного он не берет во внимание: душу человеческую тоже в учет надо принимать. Так-то … Не сказал я ему, а тебе, Александр Петрович, скажу. Последним из университета в тот день ушел комендант наш, Вихрастов Иван Никифорович. А промолчал я вот почему. Судимый он. За кражу какую-то сидел. Но я вот и нюхом, и духом, что называется, чую, что парень тут ни при чем. Душевный он, простои. Опять же: и работает, и в школе вечерней учится. На такое не каждый способен. Семья у него все-таки …
Потолковать вам с ним не мешает. Может, он что и делал и слышал в тот вечер.
Полковник записал на листке фамилию Вихрастова, переспросил имя и отчество. Припомнив, сказал:
- Знаю я этого парня, на работу хотели мы его устроить … Комендантом, говоришь, работает, Яков Сидорович? Н-да … А во сколько же он ушел с работы?
Да минут через пятнадцать после маляров. И в руках ничего не было?
- Нет. Это я хорошо помню. Посидел он еще со мной, закурить дал, поговорили с ним. Радовался, что в другой класс перешел… Потом домой заторопился: Жена, сказал, заждалась, наверно.
- Ну, а как он выглядел? Спокойный был?
Вахтер покачал головой
- Значит, подозреваешь его все-таки, Александр Петрович?- он вздохнул.- Вот этого-то я и боялся …
- Наше дело такое, Яков Сидорович,- прямо ответил Колосов.- Проверять приходится многих, чтобы найти, кого нужно. Да ты не беспокойся- безвинный не пострадает,- успокоил он старика.
- Дай бог, как говорили в старину… Выглядел-то Иван Никифорович нормально. Спокойный был. Он завсегда такой Характер у него неторопливый
Полковник задал еще несколько вопросов и отпустил вахтера. Прощаясь, тот напомнил:
- Очень я тебя, Александр Петрович, прошу: смотри, чтобы огня по своим не получилось.
- Итак, на горизонте появилась новая фигура: комендант университета…
Колосов приостановился, обдумывая мысль.
- Вихрастов, товарищ полковник?- быстро опередил майор Толстиков.
- Совершенно верно,- подтвердил Колосов. Поинтересовался:- А ты откуда знаешь, Алексеи Николаевич?
Следователь подробно рассказал о работе, проведенной за день.
- Что ж, и это урожаи,- подвел итог полковник.- А я о Вихрастове услышал от твоего вахтера. Плохо ты с ним поговорил, в общем, что-то в обиде на тебя старик, Алексеи Николаевич!
Толстиков потупился, прикрыл глаза.
- Да очень уж он неразговорчивый Так, нес все разную ерунду … ну, а я поторапливал, время не терпит.
Колосов нахмурился.
- Не тебя учить, Алексеи Николаевич. Но поторапливать надо умеючи, да и не всякого. Повнимательней будь к людям, поменьше о пенсии вспоминай… Рановато ты начал о легкой жизни думать,-жестко заключил полковник.
Майор виновато выпрямился на стуле, но глаз не поднимал. Походив по кабинету, Колосов сел за стол.
- Ладно, выводы сделаешь … Теперь давай-ка наметим план действии на ближайшие дни.
И ВДРУГ…
Комендант учебного корпуса Никитин оказался совсем не таким, каким представлял его Дубов. Это был сутуловатый, высокого роста человек с впалой грудью. Говорил он тихо, внимательно прислушивался к собеседнику. Дубов чувствовал себя неловко.
- Так вы давно знаете Вихрастова?
- Нет. С тех пор, как он к нам поступил. Меньше года.
- Ничем таким… особенным он не привлекал вашего внимания?
- Обыкновенный парень. Правда, излишне старательный, я бы сказал, будто угодить хочет. А в общем ничего, с таким работать можно.
Следователь подошел с другой стороны.
- Семью его знаете?
- Нет. Не ровесники.
- Так … О судимости его слыхали?
- Слухи ходят. Сам не проверял - ни к чему, если человек старательно работает … Могу даже прибавить:
Приходил он однажды к Троицкому, попросил разрешения взять немного алебастра, цемента и извести -ремонтировался. Тот, конечно, разрешил. Другой на его месте спрашивать бы не стал, и без того все под рукои. Прежние коменданты с такими просьбами не заходили.- Никитин положил на стол руки с длинными узловатыми пальцами, потрогал чернильницу.- В общем, товарищ следователь, о Вихрастове ничего больше сказать не могу. Если уж по-честному - как бы лишнего не наговорить на человека.- Он встал, и Дубов понял, что разговор лучше кончить.
Они пошли по пустому гулкому коридору, запачканному известкой. «Надо посмотреть и на главное действующее лицо»,- подумал Дубов.
- Вы не могли бы показать мне этого Вихрастова издали так, чтобы он сам не видел?
- Это можно. Вон, во дворе.
Никитин указал в окно. Перед раскрытыми дверями склада двое рабочих лениво сгружали с машины бумажные мешки с цементом. Третий, одетый в простецкие брюки и серую рубашку с расстегнутым воротом, помогал им: подхватывал мешки и укладывал в штабель. Лица этого человека лейтенант издали не рассмотрел. «Пятьдесят второго размера дядя,- вспомнил он слова майора Толстикова.- Пожалуй мои старик не ошибся…» Вслух сказал:
- О чем говорили, пусть останется между нами. Пока, извините, не прощаюсь. Возможно, придется и встретиться.
- Ваше дело такое,- осторожно отозвался комендант.-Мне что - можно идти?
- Да, уж извините за беспокойство!
Дубов долго ходил по коридору, сторонясь забрызганных известкой стен, поглядывал в окна. Взгляд его неизменно приковывала одна фигура. Вот разгрузка окончилась. Рабочие в кузове машины присели на борта покурить. Тот, за которым наблюдал лейтенант, подошел к шоферу, отметил ему какую-то бумажку. Дубов усмехнулся: нюх не обманул, третий и есть комендант.
Надо действовать. Но как? Кто еще может прибавить слово-другое к характеристике Вихрастова? Весь корпус пуст, рано еще, людей почти нет. Как в Сахаре…
 Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
 А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.
А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.

- Вот и все.- И отдал мешок Толстикову.
Щеку коменданта дергал нервный тик, и от этого лицо его странно кривилось, будто он вот-вот собирался заплакать.
В кабинете коменданта разложили на столе множество разноцветных денежных пачек. Все стояли молча, лишь Толстиков, фундаментально устроившись на стуле, монотонно считал, аккуратно надрезая облатки:
- … двадцать один, двадцать два, двадцать три … сорок шесть, сорок семь, восемьдесят один … девяносто девять, сто. Правильно. Кладем сто пятерок.- Он щелкал счетами и надрезал следующую пачку.
Потом оформили протокол изъятия. Дубов писал, а Толстиков диктовал, расхаживая по кабинету:
- «… в присутствии понятых … укажи фамилии, имя, отчество … заявил, что предъявляет добровольно деньги в сумме двенадцати тысяч рублей…»
Когда официальная часть была закончена, майор обратился к присутствующим:
- Все свободны, а вам, гражданин Вихрастов, придется поехать с нами.
- Я и не сомневался,- ответил комендант. Он уже, заметно успокоился.
В коридоре библиотекарша, поравнявшись с ним, не выдержала:
- А я так верила, товарищ Вихрастов, что вы стали честным человеком!
Он покосился на светлую голубоглазую девушку, но ничего не сказал.
ДОПРОС
Толстиков явился в кабинет спустя минут пять, протянул записку: «Понятых на всякий случаи предупредил, чтобы не распространялись». Дубов кивнул- ясно. Майор опустился на диван и привычно полузакрыл глаза. Это означало, что протокол придется вести Дубову. Лейтенант поморщился, но с тарным вздохом все-таки полез в ящик стола, извлек пачку синеватой бумаги и разложил перед собой Покосившись на окно, около которого устроился с его разрешения Вихрастов, подумал, что хорошо бы закончить снятие показании до обеда. А то позднее июньское солнце опять накалит небольшое помещение, и кабинет обратится в чертово пекло. Он перевел взгляд на Вихрастова. Тот безотрывно смотрел в густую листву тополя. Лицо его выражало полное безразличие. Лейтенанту это не понравилось. Он решительно придвинул к себе чистый лист бумаги, вынул авторучку.
Начнем. Ваши фамилия, имя, отчество?
Да вам все известно,- отозвался Вихрастов.- Год рождения тысяча девятьсот тридцать седьмой родился здесь, в городе, рос на Урале, потом вернулся, сирота. Женат. До последнего времени работал комендантом в университете и так далее… Ишь ты, какой прыткий,-беззлобно подал голос с дивана Толстиков.- У нас так не делается. Ты уж давай по порядочку, как положено. Обученный ведь, знаешь, не впервой тебе.
«Благодушествует,- с неприязнью подумал лейтенант.-Конечно, что ему теперь: деньги в сейфе, остальное не уйдет… А зря он насчет прошлого ему намекнул».
- Что ж, спрашивайте, а я отвечать буду,- равнодушно сказал Вихрастов.- Все равно ведь захомутаете …
- Вот что, -прервал его Дубов,-петь панихиду рано, Иван Никифорович, или Иван, если хочешь, ты еще молодой. Виноват - ответишь, не виноват -ничего с тобой не случится. Еще спасибо скажешь. Так что оставим пока твою биографию, и начинай сразу по порядку. Где ты был в день кражи?
Деловой тон лейтенанта возымел действие. Вихрастов начал рассказывать:
- Когда была кража, я не знаю. Знаю только, что утром в пятницу пропажу обнаружила Лидия Николаевна, наш старший кассир. А знаю потому, что с тех пор все на меня как на зачумленного смотрят. И вам на меня не зря указали - все уверены, что это я украл деньги из сейфа.
- А почему ты в четверг вечером самый последний с работы уходил? - тихо спросил Толстиков.- Ты ведь здорово тогда задержался после всех.
- И вовсе не здорово. Весь день я на людях был, это вам подтвердят. К вечеру - с малярами. Там, в лаборатории, где они работали, шкафы стоят с дорогими приборами, так что приходилось присматривать.
- Допустим, так,- кивнул Толстиков.- Но за чем ты присматривал после того, как маляры ушли? Или проверял - не осталось ли кого?
- Зачем мне было проверять? - усмехнулся Вихрастов.-Это дело не мое. Запер я лабораторию, вниз спустился, к себе в кабинет. У маляров краска кончалась, так чтобы не забыть утром, я требование выписал и на краску, и на белила. И на олифу еще. Потом домой пошел.
- И никуда не сворачивал по дороге?
- Никуда. Да и поздно уже было. Точно не знаю, но часов, вроде, десять, а может, и больше.
- Пришел домой и …
- Поужинал и спать лег.
- А утром?
- Утром?.. - Вихрастов замолчал.
Дубову, который сидел к нему лицом, показалось, что глаза у Вихрастова затуманились. Но, видимо, это только показалось.
- Утром, как всегда, пришел на работу. А там кража. И все знают, что я срок отбывал за кражу. Так чего тут вора искать - на меня чуть не пальцем показывают.
- Поэтому ты и решил деньги вернуть? - подался вперед Толстиков.
- Нет, не поэтому,- зло сказал Вихрастов, повернувшись к майору.- Не знаю, как вас зовут, только с провокацией ко мне не лезьте! Посадите, черт с вами. Ясно? Но уж я сначала расскажу, как дело было, а вы потом разбирайтесь и говорите все, что вам угодно!
- Без нервов, Иван, без нервов,- успокоительно постучал ручкой по столу Дубов, укоризненно взглянув на майора.- Давай, рассказывай как к тебе попали деньги. Только поподробнее. Больше тебя перебивать не будем. Начинай с самого интересного, на твои выбор. А мы - молчок,- он покосился в сторону дивана.
- Ладно.- Вихрастов посмотрел на зеленые листья за окном, нехотя повернулся снова лицом к Дубову. Опустил глаза, раздумывая, потом снова поднял их на следователя.
- В общем, так было дело … Денег я этих не крал, и никто их мне на тарелочке не приносил. Это вы запишите … Только тут еще немножко и о себе сказать надо сначала …
- Давай, давай,- подбодрил лейтенант.- Мы не спешим.-Он демонстративно отложил ручку в сторону. Толстиков поерзал на диване, но промолчал. Дубов оценил это.
- Знаете,- медленно подбирая слова, начал Вихрастов,-случается, бегает по деревенской улице собака -и никто ее не трогает: своя, на этой улице у кого-то живет. И вдруг смотрят - чужая заявилась. В такую и камнем бросить не грех, а то и палкой огреть по хребту. А уж если у кого курица пропала, то никто не сомневается: эта самая собака и утащила. Тут ей совсем плохо приходится, хоть она и не виновата.
Так попал я в положение этой собаки. Как ни прихожу на работу, даже разговаривают со мной еле-еле. От и до, как говорится. Ну что мне остается делать? Только и ждать: вот-вот милиция за мной заявится. Ждал я и в пятницу уже, и в субботу, и в воскресенье. А все нет. В понедельник прихожу на работу снова. Опять, как на волка, смотрят … Да хуже, чем на волка. Того хоть за силу уважают. И тут взяла меня злость. Ну, думаю, в гробу я всех вас видел! Плевать, уйду с работы - и все, чем такая наука. А понадоблюсь милиции - она меня всегда найдет: из города я не сбегу …
Сел даже заявление в отдел кадров писать. И тут-то и случилось… - Вихрастов помолчал, развел руками.- Как хотите, понимаете, но не люблю я мусор после себя оставлять, С детства приучен так. Обвел я тогда взглядом свои кабинетик. Ремонтом корпуса все занимался, порядок везде наводил, а у себя - пылищи целый воз. Накопил. Отложил я заявление. Принес тряпку, стал прибираться: ведь после меня другой человек придет.
- Вытер я пыль с окна, заглянул и на шкаф. Там папки толстенные архивные лежат со времен царя Гороха. Одну стопку протер, другую. Вы пишите, товарищ следователь, сейчас самое дело будет … Взялся за третью, отодвинул чуть-чуть - сумка какая-то … Да вы ее в свои сейф положили, видели. Так вот она самая. И вид у нее совсем свежий, что меня удивило. Ведь в мой кабинет никто, кроме меня, не ходит, а при мне никто ничего не клал. Вот и открыл я сумку, заглянул, а там - деньги, каких я и жизнь не видел.
Вихрастов остановился, попросил разрешения напиться из графина, потом, вытерев платком лицо, продолжил:
Понял я сразу, что это за деньги. Кто украл, тот их там и спрятал. Расчет хитрый пока сыр-бор горит, никто их там искать не догадается, а после за ними придти можно. А если меня заподозрят, опять-таки обыск дома будут делать, а не на работе. И уж в любом случае дело мне можно пришить. И вот, чтобы эти деньги вору не достались, сунул я их вместе с сумкой, не считая,- слово даю, даже не считал!- в грязный этот мешок, мешок - в бочонок из-под извести и отнес туда, куда видели. Мучился я после этого немало. Ведь отдать вам - сесть снова. Ну, чем я докажу, что не крал этих денег? Небось, вы вот меня слушаете, а сами думаете: врешь мол, голубчик,- тысячи с неба в руки не падают. Факт?
Факт.
Следователи промолчали. Вихрастов продолжал:
А не отдать денег - совесть не позволяет. Да если б и все хорошо обошлось, не взяли бы вы меня - все равно не принесли бы мне эти деньги счастья. У меня счастье другое… Вихрастов умолк и помрачнел. Добавил тихо:
- Я ведь понимаю: не придет вор за деньгами - они как улика против меня будут. Чем я докажу, что не крал? А его только уж нет! Напугался он. И не придет. Я подумывал сам на него засаду устроить, да только все напрасно.
Когда Вихрастов расписался под своими показаниями, Дубов предложил ему посидеть в коридоре.
- Как бы не сбежал. Любишь ты рисковать, Николаи!-озабоченно сказал Толстиков.
- Бежать ему ни к чему. И если на то пошло - ему в тысячу раз было выгоднее скрыться раньше.
- Ладно, давай к делу. Ты веришь в эту версию? Лейтенант некоторое время безучастно вертел ручку, словно вопрос его совершенно не касался. Однако ответ прозвучал твердо:
- Да, конечно, детали он мог и приукрасить, прибавил кое-где «чувства», как ты, Алексеи Николаевич, любишь выражаться, но в целом он, по-моему, рассказал все честно.
- Где гарантия? Мог и сочинить!
Дубов хмыкнул.
- А вот в это уже не верится.
- Ну, ты как хочешь.- Толстиков легко встал с дивана.-Надо его задержать, хотя бы временно. Ведь преступник неизвестен … Я пишу постановление на арест, ты идешь к прокурору за визой. Разделение труда. Затем я сообщаю по месту работы, что он задержан по поводу хищения денег. Ход тебе ясен? Затем вызываю оперативников, вечером организую засаду. Жду три-четыре дня, и если за это время на горизонте никого не оказывается, значит этот парень врал.
Выйдя из-за стола, Дубов заложил руки за спину и принялся крупными шагами мерить кабинет из угла в угол. Потом, остановившись перед Толстиковым, потер ладонью лоб, сказал задумчиво:
- Только вот в чем дело, Алексеи Николаевич … Если мы задержим настоящего вора, стыдно нам будет перед… -он кивнул головой в сторону коридора, где ожидал Вихрастов.
- Чудак ты, Коля,-потрепал его по плечу Толстиков.- Мальчик. Это же в любом случае в интересах дела! Иначе вор может не придти, будет отсиживаться в кустах. Лейтенант поморщился.
- Дело делом, но мне не хочется оказаться свиньей. Так что дай-ка мне его, Алексеи Николаевич, так сказать, на поруки. Слух об аресте мы распространим. А Вихрастова я в закрытой машине увезу в район к знакомым. Пусть там поживет деньков пять. Идет?
Брови у Толстикова поползли вверх, сминая мясистый лоб в жирные складки, из горла вырвались булькающие звуки: майор смеялся. Потом, неожиданно посерьезнев, спросил:
- Берешь на себя полную ответственность?
- Ага.
- И полковнику так скажешь?
Дубов утвердительно кивнул:
- И полковнику так скажу.
Хм … хм … Идет, Коля. Занимался своей - как ее? -филантропией. Иди к Колосову и проси выдать тебе этого рецидива на перевоспитание. А я его пока покараулю … То-то будет смеху, когда он сопрет что-нибудь у твоих знакомых и смоется!
Лейтенант ткнул пальцем в сейф:
- Эти деньги, что у нас в шкафу, «спереть» ему было куда выгоднее, но тем не менее он их вернул … Э, да о чем тут говорить!
БУРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Он начал с ходу:
- Я, как честный! советский! гражданин, возмущен этим произволом! Ни с того ни с сего меня хватают и, не говоря ни слова, толкают за решетку. И вдобавок ко всему еще подвергают унизительному обыску. Будто я последний жулик! Нет, вы мне скажите, где же тут неприкосновенность личности?! Или для милиции законы не писаны? Для чего, спрашивается, тогда существует Конституция? Или, может быть, ее отменили? Прошу объяснить. И знайте: я буду жаловаться во все инстанции, пока виновные в незаконном задержании не понесут наказания! Я требую извинении!
Полковник Колосов с невозмутимым видом ждал конца гневной тирады.
- У вас все? - спокойно спросил он, когда Грачев заметно выдохся.- Тогда разрешите задать вам несколько вопросов. Если вы ответите на них удовлетворительно, мы принесем вам извинения и уж, конечно, накажем виновных.
- Я к вашим услугам.- Грачев откинулся на спинку стула. Светлые детские глаза его смотрели на полковника выжидающе.
- Так … Начнем хотя бы с того, что нас интересует, где вы были вечером в прошлый четверг. Желательно указать место точно. Товарищ лейтенант, прошу фиксировать ответы подследственного.
- У меня склероз. Я не запоминаю всех дней своей жизни,- высокомерно ответил бухгалтер.
- Склероз при вашей профессии опасен,- заметил полковник.- Помогу вам освежить память: утром в пятницу стало известно о краже. Чем вы занимались накануне вечером?
- Я был дома. Потом гулял по улице у парка. Потом вернулся обратно домой.
- Во сколько?
Грачев выкинул перед собой худую нервную руку:
- Какое это имеет значение? Я не помню точно. Может быть, в десять, может, и в одиннадцать вечера.
- Но уж никак не позднее, конечно? - тихо спросил полковник.
- Не позднее.
Полковник перелистал бумаги.
А вот ваш сосед испытывал нужду в деньгах и поджидал вашего возвращения на скамейке у подъезда дома до половины двенадцатого как минимум. Хотел занять у вас денег.
- Это Стукалов, больше некому. Как вы можете ему верить? Это же горький пьяница!
- В тот вечер он был трезв, что подтверждается его женой. Дальше: оставив скамейку, он поднялся на лестничную площадку и ждал еще минут десять.
Грачев потеребил бородку.
- Ничего не могу сказать. В конце концов я мог вернуться и в двенадцать.
Полковник покачал головой
- Для вашего возрастапоздновато … Хорошо. Еще вопрос: дети никогда не посещали вашей квартиры?
- К чему эти неуместные шутки? Мне уже поздно заниматься детьми.
- Ну, а скажем, лепкой вы не увлекаетесь?
- Нет!
- Для чего- же тогда вы держите в своей квартире пластилин?- Колосов выложил на стол коробку.
Грачев вскочил:
- Вы обшарили не только мои карманы, но и мою квартиру?! Я протестую!
- Спокойнее. Садитесь, пожалуйста… Не можете ли сказать, на что вы использовали две недостающие здесь палочки?
Коробка медленно открылась. Грачев отвернулся.
- Не помню. Когда-то я купил пластилин для замазки окна. Возможно, промазал им какую-нибудь щель в квартире. И вообще я требую прекратить эту комедию! Колосов покачал головой:
- Боюсь, что эта комедия рискует затянуться, если вы будете и дальше давать уклончивые ответы. Следующий вопрос: для чего вы купили вот это масло? -он показал Грачеву небольшой пузырек.
- По-моему, ясно. В каждом доме должно быть машинное масло! Оно идет на смазку всего железного!
- Вы немного ошибаетесь. Вместо машинного масла вы, очевидно, по незнанию или в спешке приобрели костное. Оно имеет ценность только для механизмов, которых в вашей квартире нет. Можете назвать хоть одну вещь, которую вы смазали?
Грачев начал нервничать.
- Я смазал им свои старые ботинки! А потом выкинул их на помойку, потому что это плохое масло! Вам понятно?! Какое все это имеет отношение к делу? И главное -какое право вы имели лезть в чужую квартиру?!
- Обыск произведен с санкции прокурора,-холодно сказал Колосов.- И по всем правилам: в присутствии понятых, с составлением соответствующих документов и так далее. За него мы несем полную ответственность перед законом … Далее: вы богатый человек? Неожиданный вопрос застал Грачева врасплох. Ответ последовал не скоро.
- Я не крез. Я счетный работник.
Бровь полковника вопросительно выгнулась:
- Тогда откуда у вас такие суммы? Здесь восемь сберегательных книжек на общую сумму в двадцать с лишним тысяч рублей. Правда, кассы в разных городах: Горький, Москва, даже Киев. Фамилии тоже разные: Граи, Греков, Гречиха и так далее. Это, очевидно, потому, что вы не хотели разучивать новые росписи или боялись забыть их, а потому пользовались своей настоящей росписью?
- Это не мои книжки. Не старайтесь приписать мне что-то!
- Рад бы поверить,- вздохнул полковник, потирая свои седой «ежик»,- но вы забываете о существовании фототелеграфа. Мы уже получили несколько образчиков вашей росписи. Показать?
- Не надо.- Грачев отвернулся и стал смотреть в угол.
Он сник, сгорбился на стуле. Бородка у него заметно вздрагивала.
- Так откуда у вас эти деньги? И почему вы прятали сберкнижки в сарае, когда другие люди хранят их дома?
- Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
- Хорошо, зададим другие. Что вы делали в кабинете коменданта университета, когда вас задержали?
- Я искал в архиве нужную мне папку. В тот вечер я работал, чтобы перед отпуском привести дела в порядок.
- Искали в темноте? И вдобавок в перчатках?
- Мне показалось, что выключатель испорчен …
- Но вы к нему и не прикасались. К. вашему сведению, мы его для контроля испачкали краской… А перчатки к чему?
Там очень пыльно, а мне не хотелось пачкать руки.
- Не хотелось пачкать руки?- с трудом, сквозь смех, спросил полковник, тряся седой головой- Вам, Грачев? Бухгалтер хмуро молчал. Колосов немного успокоился, достал платок, вытер слезящиеся глаз.
- Нет, Грачев. Тот, кто имеет такие, как у вас, грязные руки, уже не рискует их запачкать. Хватит путаных обходных и наивных ответов. Вы для этого слишком давно вышли из детского возраста. Я тоже. Теперь я вам расскажу, как было дело. А вы слушаете.
…Итак, деньги вы начали сколачивать давно. Однако жадность помешала вам остановиться. И вы решились на крупное дело: взяли на прицел университетский сейф. Но, будучи в этом деле недостаточно опытным, решили сначала, так сказать, приобрести некоторую квалификацию. Накупили кучу книг детективного характера, особенно таких, где речь идет о вскрытии и ограблении сейфов: у вас в квартире хранится солидная библиотечка книг именно на эту тему. Но это деталь. Следующим этапом стали проблемы отмычки, дрели или ключа. В первых двух вы ничего не смыслили, и выбор, естественно, пал на ключ. Далее вы идете по примитивному пути. Приобретаете коробку пластилина, уличаете момент, когда кассир забывает ключ, и снимаете с него слепок. Глядите сюда: вот ваш пластилин, а вот контрольная коробка. Как видите, не хватает в вашем наборе палочек двух цветов - розовой и коричневой А вот заключение экспертизы о том, что ключ кассира Сидоркиной носит на себе следы пластилина соответствующих цветов…
Готовясь идти на преступление, вы запасаетесь женскими перчатками из гладкой ткани, которые в вашем возрасте, а тем более при вашем холостяцком положении совершенно не нужны вам. Приобретаете костное масло и заранее смазываете двери бухгалтерии и кабинета Вихрастова. Кстати, пятна этого масла остались в карманах вашего костюма, в общем вполне приличного. Скажите, кто станет носить флакон с техническим маслом в кармане хорошего костюма? Да никто, кроме человека, подобного вам. Далее вы запасаетесь всем необходимым для уничтожения следов преступления. Ключ к этому времени уже готов: вы заказали его одному слесарю-кустарю в местечке под Львовом, где проводили свои прошлогодний отпуск. Кстати, он опознал вас по фотографии. Но дальше.
Несколько ранее вы устраиваете на работу Вихрастова, отбывшего срок за кражу,- уж это-то отлично вам известно! Для того, чтобы отвести от себя подозрение после ограбления сейфа.
Предпоследний этап: вы совершаете это ограбление. Деньги прячете с довольно хитрым расчетом, тут вам в уме не отказать: как только возьмут Вихрастова,- а в этом вы были почти уверены, ибо сами информировали работников бухгалтерии о его судимости,- останется только забрать украденное, переправить в другое место и потом, улучив момент, скрыться.
Могу вас информировать: Вихрастов оказался порядочным человеком. Случайно обнаружив деньги, он передал их нам. Вам ведь знакома эта вещь? - полковник положил перед Грачевым холщовую сумку.
- Хватит,- устало прервал бухгалтер.- Вы схватили меня за горло, и мне просто не выдержать … Годы, годы … Дайте мне закурить. Я расскажу все сам. Учтите чистосердечное признание.
Полковник открыл портсигар, протянул папиросы Грачеву и, повернувшись к Дубову, сказал как-то совсем по-домашнему:
- Николаи, будь добр, сбегай за стенографисткой …
ЖИЗНЬ ВРАГА
- Я родился во Львове в очень обеспеченной семье. Моя подлинная фамилия не Грачев, а Дзиековский, в моих жилах течет кровь последних польских панов… За давностью времени мне ведь не вменят в виду перемену фамилии. Печальный факт, но я совершил за свою жизнь две непоправимые ошибки. Всего две…
Бывший бухгалтер сидел, закинув ногу на ногу. На первый взгляд поза у него была не принужденная, но стоило немного вглядеться, и становилось ясно, что он просто играл сейчас аристократа так же, как до этого скромного советского служащего. Только роль аристократа плохо получалась у него: ему было страшно. Он снова попросил закурить, и в светлых глазах его мелькнуло что -то рабское, умоляющее.
В кабинете, кроме Колесова и стенографистки, были и Толстиков с Дубовым. Лейтенант старательно вносил в протокол каждое слово бывшего бухгалтера.
- До прихода Красной Армии к нам, на Западную Украину, жизнь моя складывалась так, что вам может даже снится. Мой отец был пусть не магнатом, но значительным землевладельцем. И даже это тогда не было главным для меня, так как я с делал свою карьеру. Пятнадцать прекрасных лет, с двадцати до тридцати пяти, я убил на то, чтобы войти в хорошее общество. Служа в одном из крупнейших банков Львова, я приобрел отличное реноме…
Надеюсь Вы понимаете значение этого слова.- Дзиековский криво усмехнулся.
- С французского- это репутация, но вы ее бесповоротно потеряли пан.- подал реплику Дубов.
Бухгалтер понял, что зарвался. Он посмотрел на Дубова грустными глазами, затянулся в последний раз и бросил окурок в пепельницу.
- Да, теперь уже все потеряно. Точнее - было потеряно еще тогда, с приходом на Украину ваших солдат … Я был помолвлен с прекрасной девушкой - дочерью магната. Пять лет хитро умнейших интриг должны были дать мне место директора коммерческого банка. А это все! Понимаете, это все: свобода и роллс-ройсы, почет, уважение и пикантные женщины, Ницца, Савойя и тончайшие вина мира … - все земные блага! .. - Хищный блеск зажегся в глазах Грачева-Дзиековского.- Скажите, полковник, скажите, вы знаете, что такое Ницца?
- Вы большой человек тут, но вы были когда-нибудь в Ницце?!
Колосов покосился на свои погон, выпрямился на стуле.
- Да, Дзиековский, еще до воины. Через нее я ехал в Испанию драться с фашистами … Но это не касается дела. Здесь не салон, и мы не развлекаемся, а ведем расследование уголовного преступления. Продолжайте, пожалуйста, без лирических отступлений
Бухгалтер потух, осунулся и упавшим голосом продолжал:

- Я понимаю вас, полковник, но двадцать с лишним лет молчания… Это было смыслом моей жизни. А потом все полетело к чертям. Тогда немногие успели убраться за границу. Я не хотел позорить свою фамилию - и стал Грачевым. В тогдашней неразберихе сделать это было нетрудно. Поступил на мелкий завод в Киеве бухгалтером. Если бы вы знали, что у меня было на душе! .. Но вас не интересуют эмоции. Я постараюсь говорить по существу … Когда началась воина с Германией я воспрянул духом, но события развивались с такой быстротой что я не сумел быстро скрыться и был эвакуирован с заводом на Урал. Причем на Северный Урал - это была еще та Ницца!.. Прикажете ковать для вас победу?
Пожалуйста. И я ковал,-в тоне бывшего пана мелькнула насмешка.- А что мне оставалось делать? .. Жил я скромно. Правда, там во Львове, оставляя родной дом, успел прихватить кое-какие ценности. Но я никогда не притрагивался к ним, оглядываясь на будущее. Лишь года два назад я обратил все деньги и положил их на те сберкнижки, которые теперь у вас в руках… Но что бы прочно расстаться с вашим образом жизни, денег этих было недостаточно.
Дзиековский передохнул. Его никто не торопил.
- Мысль сразу взять крупную сумму появилась у меня давно, но окончательно оформилась прошлым летом. Осенью я встретил Вихрастова и помог ему устроится в университете. Думал сделать из него компаньона, но потом убедился, что парня крепко обработали и он никуда не годится.
Слепок с ключа я снял, когда Сидоркина однажды зазевалась. Момент для «операции», по-моему, был выбран удачный - между ревизией и выдачей денег. Пришлось подождать, пока все удалятся из здания. Спрятал в малом актовом зале, так как там шел ремонт и никто туда после четырех не заглядывал. После того, как деньги оказались в руках, я отправился в кабинет Вихрастова (ключ подобрал заранее) и спрятал деньги на шкафу, куда тот никогда не заглядывал. Выходить мимо вахтера было нельзя, вылезать через окно -невозможно. Пришлось остаться в здании… Вы заметили правильно: я почти все рассчитал. Подозрение в первую очередь падает на кассира, что должно было отнять у вас массу времени. Во вторую очередь я постарался подмочить авторитет Вихрастова через Аиду Прокофьевну и уборщицу - их двоих хватило бы на дюжину Вихрастовых. Если бы вы сами нашли деньги у Вихрастова, то я бы остался чистым… Итак, мне пришлось просидеть в университете всю ночь, а утром, как ни в чем не бывало, явиться на рабочее место.
- Где же вы провели ночь?
- В кабинете Вихрастова.
- Но утром он приходит на работу!
- Пришлось выйти пораньше и два часа … черт возьми, неприятно вспоминать … просидеть в туалете.
- Для аристократа недурно,- не удержался Дубов. Дзиековский метнул на него злой взгляд и продолжал:
- Теперь торопиться мне было некуда. Я решил подождать, пока все окончательно успокоится, а потом уже вынести деньги - я же не был уверен, что за университетом не установлена слежка. Но когда вами был взят Вихрастов, я решил, что время не ждет, так как, хоть с него и толку нет, вы могли провести обыск в его кабинете. И вот я остался в университете, но ни черта у Вихрастова на шкафу не нашел. Остальное вы знаете лучше, чем я…
Грачев-Дзиековский умолк. Еще какое-то время он сохранял независимый вид. Поняв, что больше он ничего не скажет, полковник спросил:
- Как вы собирались распорядиться похищенной суммой?
- Хо! Какой вопрос! - Дзиековский оживился.- Уж я-то понимаю в деньгах толк, я сумел бы ими распорядиться! Годок-другой высидел бы в этом дрянном городишке, а потом - Ницца! Советские бумажки с удовольствием обменяет на доллары любой заграничный банк.
- Как же вы перебрались бы за границу?
- За деньги все можно.
- Сомнительно, пан.
- Уж я рискнул бы,- вздохнул бухгалтер. Видимо, сознание собственного положения только сейчас начало по настоящему доходить до него. Он тихо спросил:
- Сколько, по-вашему, мне дадут?
- Сколько дадут? .. - Колосов закурил и положил портсигар в карман.- Это решит суд. Ну, а на мои взгляд -лет пятнадцать с конфискацией всего имущества.
- Даже учитывая мое раскаяние?!-прошептал бухгалтер, хватаясь за сердце.
- Вы поздно раскаялись, Дзиековский.
- Пятнадцать лет! Для меня это - что пожизненно … Дзиековский побледнел, закрыл глаза и тихо сполз со стула.
ЭПИЛОГ
Шел человек по городу. Счастливый человек.
Солнце заливало зеленые шумные улицы, плавилось в огромных витринах магазинов, сверкало в никеле проносившихся мимо автомашин.
Шли навстречу люди. Радостные и озабоченные, смеющиеся и деловые, нарядные и в рабочей одежде. Улыбался им Иван Вихрастов. И многие улыбались ему в ответ просто так, беспричинно.
На одном углу он купил мороженое, и оно сладко и прохладно таяло во рту. На другом углу взял у лоточницы букет веселых, пестрых летних цветов и пошел дальше. Некоторые оглядывались ему вслед, гадая, чему он улыбается - солнцу или своему букету.
А Иван улыбался потому, что шел и думал: хорошо жить на свете!
Тихонов Юрий
Следствием установлено…


ПРОСЬБА СТАРОГО ЗНАКОМОГО

Шел мокрый снег. Крупные снежинки стремительно летели на свет автомобильных фар. «Дворники» работали на полную мощность, но лишь бессильно размазывали грязь.
Пассажир автомашины рассеянно смотрел в залепленное снегом и грязью стекло. Уже два раза он не ответил на попытки шофера заговорить, и тот обиженно замолчал.
В этот хмурый мартовский вечер старший следователь областной прокуратуры Вячеслав Вершинин возвращался с осмотра места происшествия. Само происшествие, правда, случилось больше недели назад. Тогда выезжали другие — они, к сожалению, не очень-то позаботились о тщательном осмотре. И теперь, спустя столько времени, он получил дело, которое про себя определил как малоперспективное.
Вячеслав мысленно вновь вернулся к некоторым обстоятельствам дела.
На одной из привокзальных улиц у крыльца маленького продовольственного магазина сидел в самой грязи человек. Редкие прохожие торопились по своим делам, не обращая на него внимания. Наконец у одного из них вызвала подозрение неподвижная поза человека. Побежал на привокзальную площадь, остановил милицейскую машину. Подъехали к магазину. От сидящего изрядно пахло спиртным. Его отвезли в вытрезвитель. Там заметили кровоточащую рану под левой лопаткой. Хотя человек и не подавал признаков жизни, тело его было еще теплым. Вызвали скорую. Врач развел руками — поздно. Труп отвезли в морг. Место происшествия осмотрели только под утро, когда рассвело. К тому времени мимо продовольственного магазина прошло много народа, а дворник подмел и крыльцо, и тротуар вокруг.
Личность убитого установили на третий день. Им оказался девятнадцатилетний Василий Шестаков. Года полтора назад он с трудом окончил техническое училище, успел поработать на нескольких заводах, последний месяц бездельничал, слонялся по вокзалам, разъезжал в пригородных поездах с подозрительной компанией. За прошедшую зиму трижды побывал в вытрезвителе. В общем, личность, не вызывающая симпатии.
Вершинин поморщился, вспомнив четыре похожие друг на друга характеристики Шестакова. Разные их писали люди, в разное время, а слова одни и те же: лодырь, пьяница, хулиган. Теперь вот — нелепая смерть. Никто, правда, этому не удивился, не посочувствовал. А пенсионер один, с ним по соседству жил, тот напрямую: туда ему и дорога, незачем и виновных искать, беспокоиться, общество от его смерти не пострадало. Общество-то, может, и не пострадало, а убийцу искать нужно и, скорее всего, среди собутыльников Шестакова. Напились, потом пятак не поделили или обиду давнюю вспомнили и — в драку. У них это быстро. Может, и не знакомы вовсе были. Сошлись за углом «на троих», а потом — ссора и нож. Место для розыска сложное — вокзал рядом. Одни приезжают, другие уезжают, третьи во время стоянки поезда норовят успеть в магазин. В такой обстановке трудно искать свидетелей. Конечно, Шестакова наверняка видел в тот вечер на вокзале кто-нибудь из его знакомых: фигура-то довольно приметная. Удалось найти кое-кого из приятелей убитого, но ни один из них не встречался с ним в тот день. Придется возвращаться к вокзалу, с него начинать, а это все равно что искать иголку в стоге сена.
Вершинин машинально переступил порог своего кабинета.
Подняв телефонную трубку, набрал шестизначный номер. Услышал знакомый голос: «Капитан Стрельников» — и усмехнулся.
— Вольно, капитан, — сказал он.
— Слушаю тебя, старина… Знаю, теперь житья мне не дашь с убийством Шестакова.
Вячеслав разговаривал со своим старинным другом Виктором Стрельниковым — однокашником по юридическому институту.
Виктор стал для него тем человеком, с которым можно попросту поделиться самыми сокровенными мыслями. Стрельников после окончания института был направлен в органы внутренних дел, несколько лет работал следователем линейного отдела, но вот уже скоро год, как его назначили начальником уголовного розыска в райотделе. Теперь им предстояло вместе раскрывать убийство у вокзала. Виктор хотя и ворчал для виду и намекал на свою чрезмерную загруженность, а в душе был рад представившейся возможности.
— Покоя я тебе, конечно, не дам, — согласился Вершинин, — но и ты меня тереби почаще, приводи побольше очевидцев, пусть весь твой угрозыск на меня поработает.
— Ишь какой хитрый! Отдай тебе весь уголовный розыск. А я с чем останусь? Знаешь, сколько у меня мелких происшествий? Да еще профилактикой надо заниматься. Вот и выкраивай время для тебя, где хочешь. Ну-ну, не кипятись, — добавил он, почувствовав изменившееся настроение Вершинина, — шучу. Знаю: убийство в первую очередь. Десять минут назад отпустил одного гражданина приятной наружности. Он в тот злополучный вечер случайно обратил внимание на двух пьяных ребят, стоящих на перроне вокзала. Может, мимо прошел бы, да уж больно темпераментно один из них выругался и порвал на клочки какой-то документ.
— Дальше, дальше… — нетерпеливо перебил Вячеслав, — приметы их он описал?
— Описал, хотя весьма поверхностно. Конечно, может быть, эта история к нашей ни с какого бока не подходит, но мы все-таки то место осмотрели и, хотя прошло несколько дней, действительно отыскали клочок, похожий на обрывок удостоверения. Однако ни фамилии, ни других данных там нет, остались черточки, точки. Впрочем, к нашим делам он вряд ли имеет отношение.
— Я приобщу этот клочок на всякий случай к материалам дела и направлю его на экспертизу, однако сейчас самое главное для нас — связи Шестакова, и в первую очередь вокзальные.
Вячеслав чуть скосил глаза на дверь. Там послышался шум, затем в узкой щели мелькнул женский силуэт. Посетительница не решалась прерывать телефонный разговор и оставалась в коридоре. Вершинин не успел разглядеть женщину, уловив лишь неясные контуры ее фигуры. «Кто это под вечер?» — успел подумать он, но тут же забыл о ней и продолжал разговор со Стрельниковым.
— Мне нужны вокзальные завсегдатаи приблизительно такого же возраста.
— Многих мы допросили за эти дни!
— Я читал протоколы. Не то. Пока не натолкнулись.
За дверью вновь послышался шорох.
«Кто бы это мог быть?» — опять промелькнула мысль, и он машинально подвинул к себе настольный календарь, но там не оказалось никакой записи.
— Может, пройдемся вечерком, потолкуем? — предложил Вершинин.
— С удовольствием, — ответил Стрельников.
— Значит, в восемь или, как на железной дороге говорят, в двадцать ноль-ноль. Устроит?
— Вполне.
— Будь здоров.
В дверь постучали. Он подошел и распахнул ее. В коридоре стояла незнакомая женщина, одетая в модную шубку с коротким серебристым ворсом. С богатой шубой совсем не гармонировал простой серый пуховый платок, обрамлявший желтовато-землистого цвета лицо. Вершинин не раз видел такие лица у людей, больных раковыми или другими тяжелыми заболеваниями. Он присмотрелся повнимательней. Большие карие глаза выражали растерянность и отрешенность. «Ей лет сорок, не больше, — пришел к выводу Вячеслав, — она тяжело больна, у нее горе. Вероятно, арестовали сына, и она пришла просить за него, убеждать в невиновности».
— Вы ко мне? — спросил ее Вершинин.
— Да, к вам, Вячеслав Владимирович, — ответила женщина.
— Тогда проходите, — пропустил он ее вперед. — Какие беды вас привели?
— Я жена Игоря Арсентьевича Кулешова, — начала она, теребя пуговицу на шубе.
Вершинин удивленно поднял брови. Фамилия ему ничего не говорила. Женщина вспыхнула. Скудный румянец проступил сквозь желтизну.
— Мой муж — директор завода сельскохозяйственных машин Кулешов Игорь Арсентьевич, — заторопилась она. — Вы с ним знакомы, это было несколько лет назад.
Вершинин вспомнил.
— Ну как же, как же — Игорь Арсентьевич. Столько лет прошло, — виновато сказал он.
Женщина облегченно вздохнула.
Вершинин вспомнил Кулешова. Они познакомились года три назад, и тот произвел на него отличное впечатление. Моложавый мужчина с выхоленным лицом, безукоризненно одетый, умница. Современный тип крупного хозяйственного руководителя. Вячеслав работал в то время следователем в районной прокуратуре. Ему поручили дело о нарушении правил техники безопасности на заводе сельхозмашин. Сложное было дело, запутанное. В вечернюю смену обвалилась стена сборочного цеха. Погиб рабочий. Технический эксперт дал заключение, что это произошло в результате нарушений, допущенных по вине работников завода. Вывод серьезный, и его последствия еще серьезней. Директор доказывал обратное — нарушения есть, но несчастный случай произошел по другой причине. Месяца два пришлось корпеть Вершинину, прежде чем удалось установить истину. Экспертизу провели лучшие специалисты в области строительства. Оспаривать ее выводы было просто невозможно. Виноваты оказались строители. Стену в нарушение проекта поставили без учета полной нагрузки, которую она должна была нести после сдачи цеха в эксплуатацию. Год простояла, а потом не выдержала и рухнула. Строители пытались спорить. Вины не признавали, жаловались во все инстанции. Суд, однако, согласился с выводами следствия. Поспорили они еще, погорячились, но безрезультатно. Следователь разобрался обстоятельно. Кулешов спустя несколько месяцев встретил Вершинина и пригласил его зайти к нему в кабинет. Вершинин не отказался и не пожалел об этом.
Кулешов оказался интересным собеседником. Он так живо рассказывал о своих многочисленных зарубежных поездках, показывал дорогие замысловатые безделушки, до которых оказался большой охотник, что Вячеслав представлял наяву города и страны, известные ему только по учебникам. Мыслил Игорь Арсентьевич широко, перспективно, энергия била через край. Расстались они дружески, но больше встретиться не пришлось. Вершинин уехал на трехмесячные курсы усовершенствования, а когда вернулся — сразу окунулся в работу. Однажды пришла мысль позвонить, даже номер Кулешова набрал, но не застал. Так и оборвалось знакомство.
Вячеслав с любопытством рассматривал сидящую перед ним женщину. Несмотря на болезненный вид, усталое и озабоченное выражение лица, она сохранила черты прежней красоты.
— Как Игорь Арсентьевич поживает? — больше из вежливости поинтересовался он.
— Я пришла по его просьбе, — сказала Кулешова, — он очень хочет вас видеть. Ему надо с вами поговорить.
Вершинин удивился. Странным показалось желание Кулешова увидеться, переданное через жену.
«Он вполне мог бы зайти и сам», — подумал Вячеслав и про себя возмутился: «Неужели так обюрократился, что даже следователя к себе приглашает, как домашнего врача».
— В ближайшее время не получится, — сокрушенно развел руками Вершинин. — Я предельно занят.
— Игорь Арсентьевич сам прийти к вам не может, он в больнице, тяжело болен. У него инфаркт.
— Что вы говорите? — вырвалось у Вячеслава. — Инфаркт? Да ведь ваш муж молодой еще.
— Ему сорок два. Причем это случилось с ним второй раз за последние полтора года. Инфаркт сейчас помолодел…
— Как же так… — начал Вершинин, подбирая слова для утешения, но не закончил фразы. Слишком несовместимыми представлялись в его понятии грозная болезнь и Кулешов, каким он его запомнил.
— Я приду, я обязательно приду, — торопливо пообещал он, исправляя прежнюю ошибку, — скажите, где он лежит?
— Вот адрес больницы и номер палаты, — Кулешова вырвала из записной книжки листок и положила его на стол. — Можно зайти в любое удобное для вас время, кроме послеобеденного. Только… — у нее перехватило дыхание, — очень вас прошу, приходите побыстрей.
Вершинин проводил ее до выхода. Настроение совсем упало. Сколько раз ему приходилось слышать рассказы знакомых об инфарктах, но так непосредственно столкнулся впервые.
«Странно, — размышлял он. — Молодой, энергичный, спортом увлекался — боксом, борьбой и вдруг — инфаркт».
Он вспомнил своего приятеля — судебно-медицинского эксперта Седова с его мрачным юмором. Однажды, после вскрытия трупа «абсолютно здорового» тридцатилетнего мужчины, внезапно умершего на охоте от тромбоза сердца, тот веско сказал, складывая инструменты: «За каждым из нас смерть ходит с пистолетом».
Эта фраза прочно въелась в сознание Вершинина, но только сейчас он по-настоящему ее оценил.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА

Линейный отдел встретил Вершинина характерной сутолокой. В дежурной комнате постоянно толпились десятки людей с двух железнодорожных вокзалов, беспрерывно звонили телефоны. Дежурный едва успевал снимать трубки, докладывать осипшим голосом, давать справки, выяснять, где находится патрульная машина, и выполнять много других дел.
Вершинин коротко кивнул дежурному и прошел прямо в кабинет Стрельникова. Стрельников быстро взглянул на Вячеслава.
— С чего начнем? — спросил он.
— Покажи-ка мне обрывок документа, о котором говорил.
Стрельников передал ему перепачканный клочок картона вместе с протоколом осмотра. Вершинин долго изучал его, рассматривал на свету, нюхал, но потом тяжело вздохнул и спрятал в папку.
— Грязноват, да и обнаружен слишком далеко от места происшествия, однако на нашем безрыбье и это рыба. Будем проверять любой факт того дня, не укладывающийся в нормальный ритм жизни. А теперь прогуляемся по свежему воздуху, поболтаем.
— Бр-р-р, — поежился Стрельников, взглянув в окно.
Фонарь напротив раскачивался как маятник. Вокруг него ночными бабочками порхали снежинки.
— Ничего, ничего. К вечеру подморозило, и снежок стал посуше, не промокнем. На свежем воздухе думается лучше.
Они вышли на улицу. Вокзал светился огромными окнами. По площади сновали люди, к центральному входу подкатывали и отъезжали бесчисленные автомобили. Не сговариваясь, оба медленно направились в сторону улицы, на которой был обнаружен труп Шестакова. Когда дошли до ее начала, переглянулись.
— Смотри, какая синхронность мыслей, — заметил Стрельников. — Ноги сами ведут.
— Ничего удивительного. Мысль у нас с тобой и должна работать сейчас в одном направлении, — согласился Вершинин и спросил, указав на низенькие деревянные домишки, теснящиеся вдоль улицы: — Все жильцы опрошены?
— Все, но безрезультатно. Убийство произошло между двадцатью тремя и часом ночи, когда все спали. Хорошо, хоть знаем наверняка, что убит Шестаков именно здесь, а не в другом месте. С таким ножевым ранением в сердце он передвигаться не мог. Эксперт так утверждает.
— Это видно и по позе, — рассеянно согласился Вячеслав и снова вернулся к мучившему его вопросу: — Неужели в тот вечер не было никаких происшествий у вокзала или тут, на улице? Маловероятно. Должна была быть драка, ссора, потасовка или что-то, привлекающее внимание окружающих.
— Собираем сведения, но пока безуспешно. — Стрельников остановился у крыльца магазина и носком ботинка потрогал порожек. — Наверно, здесь, у магазина, произошла ссора, здесь и ножом ударили. Обрати внимание: от крыльца до ближайшего дома метров пятнадцать, чуть подальше такой же магазинчик, на противоположной стороне пустырь, а наискосок дом, до него метров сорок. Добавь, сюда ночное время, могли и не услышать. Да и вокзальный шум мешает. Слышишь, как он сюда доносится.?
Невдалеке визгливо скрипнула калитка. На улицу вышел высокий сутулый мужчина в наброшенной на плечи шинели. У подбородка светилась малиновым огоньком папироса. Мужчина с интересом наблюдал за ними.
— Пойдем отсюда, — сказал Вершинин. — Мы стали объектом внимания.
Они медленно двинулись по улице.
— Молодые люди, — окликнул их мужчина, едва они пошли.
Вячеслав оглянулся. Человек догнал их. Наброшенная на плечи шинель оказалась форменной железнодорожной. Литые галоши до щиколоток были одеты прямо на босу ногу.
— Вы случайно не насчет парня, которого убили неделю назад? — спросил незнакомец, дохнув резким запахом самосада.
Вершинин неопределенно хмыкнул.
— Да вы не подумайте чего, — засуетился тот, сконфуженный нелюбезной встречей. — Вас-то я знаю, — посмотрел он на Стрельникова. — Вы в линейном отделе работаете. Помните, меня еще допрашивали, когда хулиганье стоп-кран сорвало и люди пострадали от ушибов.
Стрельников внимательно всмотрелся в его лицо.
— Чеботарев?
— Точно, — расплылся тот в довольной улыбке. — Вышел подымить, вижу, вы у крыльца стоите, ну я и смекнул. Не поймали еще тех преступников?
— Ищем, — ответил Стрельников.
Чеботарев виновато улыбнулся.
— Я ведь не из простого любопытства спрашиваю: живу здесь, домой прихожу поздно, встретят еще такие. Ребята здоровые, остановят — не пикнешь.
— Вы, что же, их видели? — с иронией спросил Вячеслав.
— Видел, — повернулся к нему Чеботарев.
— Как видел? — изумился Вершинин.
— Так и видел. Семь ден назад это случилось. Вышел я из дома часов около одиннадцати вечера, до работы идти-то мне пять минут. Пошел туда, — показал он в сторону вокзала. — Слышу топот, как табун бежит. Смотрю, гонятся длинноволосые, человек пять-шесть, не меньше. Один вроде бы впереди, а остальные чуть поотстали, шага на три. Ну, думаю, куда бежать? Меня чуть с ног не сбили, хорошо успел посторониться, да к забору прижаться. Только и услышал — заорал кто-то: «Бей его один», потом еще раз. Посмотрел им вслед да пошел от греха подальше: ведь на смену заступать пора. Знать бы, конечно, такое дело, вступиться можно, а то вдруг просто поцапались, а мне бы ни за что, ни про что рога наломали. Потом двое суток меня не было дома.
Вершинин и Стрельников переглянулись.
— Почему же вы считаете, что речь идет именно об убийстве, — спросил Вершинин, — ведь на ваших глазах никакого убийства не произошло?
— На все сто уверен. Соседей моих и жену в прокуратуру вызывали, допрашивали. Они мне и рассказали потом. Смекнул сразу — по времени-то совпадает.
— Ничего себе «всех опросили», — вполголоса бросил Вершинин.
Стрельников сделал вид, что не слышит упрека.
— Не могли бы вы поточней сказать, сколько мимо вас пробежало парней? — спросил он.
— Сказал: пять-шесть. Нет… пять, точно пять. Один чуть впереди и четверо сзади.
— Опишите, пожалуйста, их внешность, одежду. Чеботарев задумался, вспоминая.
— Ну, например, — попытался помочь ему Вершинин, — может кто-нибудь из них был одет в светлое?
— В светлое, в светлое. — Чеботарев растерялся… — Не помню, честное слово, не помню. Промелькнули, как метеоры, где там разглядишь.
— Ну хоть какие на них были головные уборы?
— Не помню, — виновато ответил железнодорожник. — Кабы знать заранее, а то ведь… Драка и драка, мало ли их тут происходит.
— Печально, — с досадой пробормотал Вячеслав.
— Что знаю — выложил вам, как на духу, а врать зачем, я не из таких, — обиделся вдруг Чеботарев и пошел к дому.
— Как часто мы заблуждаемся в способности свидетеля или потерпевшего запомнить увиденное, — сказал Стрельников, когда железнодорожник ушел. — Сколько раз случалось слышать, как следователь допытывается у иного бедолаги: «Почему ты не заметил, как выглядит преступник, в чем он был одет, в каком направлении шел и так далее?» А тот только пыхтит и краснеет, да боится, что обвинят в укрывательстве. Что греха таить, и за самим такое водилось. А вот представь себя на месте Чеботарева. Спешишь на работу, мимо проносятся люди, миг, и все. Запомнишь ли их внешний вид? Где там!
— Это верно, — задумчиво отозвался Вершинин, — но спрашивать надо — вдруг в памяти свидетеля остались какие-то крохи, а через несколько дней он и их забудет. Сейчас Чеботарев вспомнил о выкрике, но через неделю мог забыть. Кстати, не кажется тебе странным этот выкрик: «Бей его один!»
— Какая странность? Бежит группа парней, преследуют друг друга, в запальчивости выкрикивают разные фразы.
— Правильно, может быть, и так. Но почему именно «бей его один». Ведь догоняют все, а бей один. Непонятно. Вот если бы просто: «бей его», тогда все понятно, но «один» не укладывается у меня в голове. Нет даже примитивной логики. Если бы один уже догонял жертву, а трое отстали, команда «бей его один» была бы понятна. Но ведь Чеботарев говорит, что четверо преследовавших бежали рядом, а тот, кто убегал, был впереди.
— Может, ошибается железнодорожник?
— Вряд ли. Он говорил убедительно. Стоит поразмышлять. Выкрик должен звучать или, как уже я сказал, просто «бей его» или «бей его, Витька, Колька или Сашка». Ладно, подумаем на досуге. Чуликова и Алпатьева детально проверили? — изменил Вершинин тему разговора.
— Да.
— Хорошо. Но все-таки пришли мне их завтра в прокуратуру, хочу сам поговорить. Как с вокзальными связями Шестакова?
— Каждый вечер у нас там задействованы оперативники и дружинники. Выявляем подозрительных, но пока безуспешно.
— А я берусь полностью выяснить окружение Шестакова в поселке, где он жил, в училище, у родственников. Твоя же задача, как и прежде, — вокзалы. Но смотреть там надо все тщательно, не так, как провели допрос жителей улицы.
— Да, тут действительно накладочка получилась, и я завтра спрошу кое с кого.
— Спрашивай, спрашивай. Ну, прощай, пора по домам.
ВСТРЕЧА С КУЛЕШОВЫМ

Визит к Кулешову Вершинин наметил на субботу. В вестибюле больницы он наткнулся на группу студентов в белых халатах. Из гардеробной выглянула рыхлая пожилая женщина с настороженным выражением лица.
— Мне к Кулешову в четвертую палату, — сказал Вершинин и протянул ей пальто.
— К нему нельзя, — безапелляционно заявила она и отодвинула пальто в сторону.
— Как это нельзя? — растерялся Вершинин.
— Нельзя и все. К нему не велено никого пускать. Только по разрешению врача.
В кабинете врача худенькая, остроносая женщина сосредоточенно делала какие-то пометки в журнале. Она вопросительно взглянула на вошедшего.
— Мне необходимо навестить Кулешова из четвертой палаты. Дайте указание пропустить меня, — тоном, не терпящим возражения, сказал Вячеслав.
— Это я запретила. Пока больного навещать нельзя, — она вновь склонилась к бумагам.
— Послушайте, я… — он уже хотел было сказать, кто он такой, и даже по привычке полез в карман за удостоверением, но вовремя спохватился: в такой ситуации удостоверение не поможет, а скорей помешает. Одно дело просто посетитель, а другое — следователь прокуратуры. — Послушайте, доктор, — тон его стал просительным, и женщина вновь подняла голову от стола. — Я прибыл сюда по личной просьбе Игоря Арсеньевича, переданной мне два дня назад. Он очень ждет моего прихода.
— Вы его родственник или знакомый? — поинтересовалась врач.
— Знакомый, хороший знакомый.
— Со вчерашнего дня мы не пропускаем к нему посетителей, за исключением жены: он в тяжелом состоянии.
— И все-таки я бы попросил вас пропустить меня.
— Хорошо, — сказала она. — Подождите минут пять, я сейчас вернусь.
Через некоторое время врач вернулась в сопровождении другой женщины. Лишь с большим трудом Вершинин узнал жену Кулешова.
— Игорь Арсентьевич ждет вас, — сказала она устало.
Вершинину принесли пропитанную больничным запахом накидку.
— Предупреждаю вас, — строго сказала врач. — Никаких разговоров на служебные темы. Больной тяжелый. В довершение к инфаркту у него начался отек легкого.
— О его службе я знаю не больше, чем он о моей.
— Ну и прекрасно. Инесса Владимировна, — показала она на жену Кулешова, — вас проводит.
У дверей палаты № 4 Кулешова остановилась и, глядя куда-то вниз, произнесла:
— Я останусь здесь, а вы заходите. Он ждет вас.
Вячеслав вошел в палату. Внутри стояли две кровати, но занятой оказалась лишь одна. Другая была чуть смята, и на ее спинке он заметил пуховый платок, без сомнения принадлежащий Инессе Владимировне. Больной лежал на спине, сухой профиль резко вычерчивался на фоне коричневой больничной стены. Кожа на скулах была туго натянута, тонкогубый рот чуть приоткрыт. Поверх одеяла неподвижно замерли желтые руки старика с выпукло выделявшимися на них фиолетовыми венами. Вершинин не узнал в лежащем Кулешова и беспомощно огляделся по сторонам. Человек медленно повернулся и чуть улыбнулся. Улыбка получилась вымученной, но именно в ней промелькнул прежний жизнерадостный Кулешов.
— Игорь Арсентьевич! В чем дело? Весна на дворе, а вы в такое время, здесь…
Тот в ответ вяло махнул длинной кистью, дав понять, что уловки ни к чему. Знаком он показал гостю на стул. Вершинин, стараясь не шуметь, осторожно уселся.
Кулешов с трудом разлепил сухие губы:
— Удивляетесь, Вячеслав Владимирович?
— Конечно, удивляюсь. Вы — и тут! Где-нибудь в горах на Чегете или Домбае я бы не удивился, но в больнице…
— Лежу десятый день на спине. Ощущение такое, словно она чужая: ватная и нечувствительная Впрочем, так стало сейчас, а сначала была невыносимая боль и желание любой ценой хоть секунду полежать на боку. Теперь этого желания нет, — тихо закончил он. — Человек привыкает ко всему.
— Понимаю, — отозвался Вячеслав, хотя таких ощущений не испытывал.
На некоторое время в палате повисло молчание. Кулешов отдыхал от длинной фразы, а Вершинин не знал, о чем говорить. Молчание нарушил больной.
— Второй раз со мной такая штука приключается. Год назад, правда, было значительно легче.
— Я бы никогда об этом и подумать не мог, — удивился Вячеслав.
— Когда мы с вами познакомились, я еще был здоров как бык и не знал, с какой стороны у меня сердце, а потом в течение последних полутора лет — микроинфаркт, а теперь вот, валяюсь тут, как покойник, — Кулешов опять замолчал, собираясь с силами, и закрыл глаза.
На минуту Вершинину показалось, что он уже не откроет их, и тогда он тронул больного за плечо. Веки у того вздрогнули. Вячеслав с недоумением думал, зачем он все-таки понадобился. Однако проявлять любопытство не стал и напряженно сидел, наблюдая за беспокойным лицом больного.
— Потревожил вас в выходной день, Вячеслав Владимирович, — начал так же неожиданно, как замолчал, Кулешов, — уж извините. Посоветоваться хотелось.
— Какие могут быть извинения, Игорь Арсентьевич. Располагайте мной. Мне, правда, трудно понять, чем я могу вам быть полезен.
— Можете. Я ведь здесь не случайно.
Вершинин оторопел. Ему даже показалось, что он ослышался.
Тот сразу поправился:
— Я хотел сказать, что мой инфаркт — следствие деятельности кое-каких лиц, а не просто слабого состояния здоровья.
«О каких лицах он говорит?» — насторожился Вячеслав и тут же сообразил, что Кулешов, скорее всего, имеет в виду начальство. Ему стало неловко за этого прежде такого сильного человека, который теперь будет винить в своей болезни всех и вся.
— Мои беды начались с анонимки, — прервал его мысли больной. — С замызганного клочка бумаги со множеством орфографических ошибок. Какой-то «доброжелатель», он себя называл «искренне болеющий за интересы производства», сообщал начальству в объединение, что, мол, я и вор, и пьяница, изгоняю неугодных, окружаю себя подхалимами, раздаю им квартиры, нарушаю финансовую дисциплину и трудовое законодательство и так далее, и тому подобное.
Кулешов помолчал, собираясь с силами, а потом с вызовом продолжил:
— А завод, между тем, второе место в объединении занимал: план производства всегда перевыполнялся, построили новую столовую, поликлинику, два восьмидесятиквартирных дома.
Здесь он снова прервался, пытаясь уловить реакцию собеседника.
— Прислали из объединения комиссию во главе с главным инженером. Месяц проверяли, ревизию провели… Смотрели на меня, как на преступника. Сигналы, конечно, не подтвердились, но никто не извинился. Решил я сам анонимщика найти и… попал в фельетон, который назывался «Криминалист с сельмаша». Потом опять анонимка и снова комиссия. Тут я свалился в первый раз… Едва оправился от болезни, снова то же самое — содержание почти идентичное, и опять комиссия.
— Позвольте, Игорь Арсентьевич, — перебил его Вершинин, — еслисигналы не подтверждались, почему же вы все принимаете так близко к сердцу?
— Да поймите же вы, ради бога, — тихо произнес Кулешов, — у нас ведь как: если пишут на руководителя, считается: нет дыма без огня. Я это почувствовал на себе. Мой «доброжелатель» указывает на кое-какие мелкие факты, которые подтверждаются.
— Какие, например?
— Ну, в частности, дал я команду механосборочному цеху работать в конце квартала в субботу, а с завкомом не согласовал. Потом намеки да недомолвки на какие-то мои взаимоотношения с одной работницей завода…
Кулешов замолчал и довольно продолжительное время лежал с закрытыми глазами.
— Извините, Игорь Арсентьевич, — осторожно коснулся его плеча Вершинин, — какие же непосредственно события предшествовали вашему теперешнему заболеванию?
— Завод все это время лихорадило, пошли неурядицы с планом. Вызвали меня на коллегию, а там один товарищ и говорит: «План он заваливает, видимо, правильно о нем сигнализируют». Выговор мне объявили, но я не по этому поводу переживаю. Раз план не тянешь, значит плохой руководитель. Обидно другое. Не будь анонимок, все шло бы иначе. А получается что? Все видят — явная клевета, но ты уже попал под подозрение. Вот и присылают комиссию за комиссией, а моему тайному «доброжелателю» только того и надо.
Больной тяжело замолчал. Дыхание вырывалось у него с хрипом.
— Насколько я понял вас, Игорь Арсентьевич, — осторожно заметил Вершинин, — вы хотите прибегнуть к моей помощи в розыске автора писем.
— Да, да, да. Вы правильно меня поняли. Я очень рассчитываю на вашу помощь, но не из-за желания отомстить. Нет. Вы должны, вы понимаете, вы обязаны разыскать этого человека, чтобы у других отбить охоту пачкать людей. Такие «доброжелатели» — страшные люди, ибо вредят мне не просто как человеку, а и как директору, что отрицательно сказывается на работе завода в целом. Но ведь не я один такой, ведь анонимки — явление нередкое. Вам наверняка приходилось сталкиваться с ними?
— Как вам сказать? В таком виде, как вы мне рассказали, не приходилось, а вообще-то бывало. Пишут. Иногда пишут правду.
— Часто подтверждается?
— Трудно сказать, так как чаще всего это набор из полуправды. С этой-то полуправдой обычно сложней всего разобраться.
— А проверяете всегда?
— Почти.
— Помогите мне. Я знаю, вы человек цепкий, если захотите помочь, безусловно поможете. Да не так это и трудно, если учесть, что ваши поиски будут ограничены рамками завода.
— Вы ошибаетесь. Поиски автора могут выйти далеко за пределы завода, но не это меня останавливает.
— А что же еще? Скажите.
— Прежде чем искать автора, мне надо убедиться, что в анонимках только клевета, но даже убедившись, я не всегда вправе заниматься расследованием.
— Почему же? — удивился Кулешов. — Я думал, следователь прокуратуры обязан пресечь любое, ставшее ему известным преступление. Во всяком случае так записано в законе, — с горечью закончил он.
— Правильно. Закон обязывает следователя пресекать преступления, но, к сожалению, считается, что клевета носит сугубо личный характер.
Произнося эти слова, Вячеслав, между тем, лихорадочно обдумывал, как поступить. Кулешов внушал ему доверие своей искренностью. Да и результат анонимок носил не только личный характер — срыв работы предприятия, серьезное заболевание директора.
— Здесь не только личное, — заволновался Игорь Арсентьевич. — Тут затронуты интересы производства, и меня оскорбляют не только как человека, но и как руководителя. Должна же за это существовать ответственность.
— Ответственность за клевету и оскорбление предусмотрена уголовным кодексом. Должность здесь не имеет значения.
— Меня совершенно не интересует мера наказания. Главное — вытащить мерзавца на свет божий, показать людям. Посмотрите, мол, какое пакостное насекомое. И тогда каждый рядом стоящий задумается и поймет, что клеветой заниматься небезопасно.
— Все правильно, Игорь Арсентьевич. Мысль ваша правильна, но есть еще одна загвоздка: клевета и оскорбление — дела частного обвинения. Понимаете?
Кулешов посмотрел на него с недоумением.
— Частного обвинения? — переспросил он. — Значит я сам должен идти в суд и обвинять. Но кого же? Я ведь не знаю кого, поэтому и обратился к вам.
— Смысл вы уловили правильно. Дела о клевете и оскорблении возбуждаются по жалобе потерпевших непосредственно судом. В жалобе обычно указывается виновное лицо. Суд возбуждает дело и приходит к определенному выводу: наказать или оправдать. Во всех случаях нужно указать, кто клеветник, сам суд его разыскивать не будет.
— Назвать виновного я не могу, боюсь ошибиться, оговорить человека, — больной заволновался, задвигался, еще больше побледнел. — Выходит, прокуратура в стороне?
— Не совсем. Прокурор по своему усмотрению может, конечно, возбудить любое дело, в том числе и такое, если оно имеет особое общественное значение.
— Я могу написать заявление на ваше имя или на имя прокурора Николая Николаевича Аверкина. Боюсь только коряво у меня получится сейчас, руками еще не совсем владею.
— Пока не спешите, не сегодня. Продумайте все. Если решитесь, пришлите мне заявление с женой.
— Считаете, передумаю? Напрасно. Для себя я решил окончательно и бесповоротно. Я понимаю — придется все поднимать, ворошить и грязное белье, но все равно не передумаю.
— Хорошо, — уступил Вершинин. — Допустим, я попытаюсь предпринять кое-какие шаги, посоветуюсь с прокурором, но вы-то хоть ориентировочно скажите, кого подозреваете. Это существенно облегчит мою задачу.
Кулешов замолчал и ушел в себя. Лицо его застыло, и только у виска пульсировала тонкая жилка. Вскоре он отрицательно качнул головой.
— Не могу. Один раз ошибся, второй — нельзя. Есть у меня подозрения, но боюсь толкнуть вас на неверный путь. Прочитайте фельетон в газете, я скажу жене, она вам принесет, поспрашивайте на заводе, там подскажут, кто у нас способен на такое, думаю и тот, кого я подозреваю, окажется в их числе.
Вершинин задумался. Разговор измотал и его. К определенному выводу он еще не пришел, однако расстраивать больного категорическим отказом не стал.
— Все письма можно взять в объединении вместе с материалами проверок, — пояснил Кулешов, принимая молчание Вершинина за согласие. — Они хранятся в архиве. Мое заявление жена принесет вам завтра.
Дверь бесшумно распахнулась. Легкое движение воздуха слегка шевельнуло слипшиеся волосы больного. Вошла врач. Взяв его руку, она нащупала пульс и поморщилась. Потом приладила на краю кровати тонометр и часто заработала резиновой грушей. Когда ртутный столбик дошел до конца шкалы, чуть повернула колесико у груши. Послышалось характерное шипение. Вячеслав перегнулся через спину женщины и заметил, как столбик конвульсивно дернулся на отметке 190. Кулешов дремал или просто от слабости не мог поднять веки.
— Уходите, — шепотом сказала врач, — ему стало хуже.
У выхода он оглянулся. Кулешов напоминал покойника.
«А ведь он может умереть, вполне может, — с горечью подумал Вершинин, — и тот самый «доброжелатель» будет потирать от удовольствия руки».
Инесса Владимировна стояла в коридоре и с отсутствующим видом смотрела в окно. Он не стал утешать ее и поторопился покинуть больницу.
ПОТЕРПЕВШИЙ ШЕСТАКОВ

Фотография была выполнена профессионалом, но скорее всего плохим. Одним из тех, кто равнодушным взглядом встречает надоевшего посетителя. Такой фотограф не учитывает особенностей человека — все у него одинаковы, для всех заранее избрана одна поза. Щелчок — и получи через несколько дней три фотографии девять на двенадцать, которые трудно разыскать в толстой пачке среди других.
Вершинин вертел в руках фотографию Шестакова. Лицо непримечательное: маленькие глаза, напряженная, словно приклеенная, улыбка, нос с широкими ноздрями и прилипший ко лбу редкий чубчик. Никаких броских черт, разве что широкие ноздри. О характере парня по фотографии судить трудно. Вячеслав положил ее на стол.
«Кто же и за что тебя убил?» — думал он, пристально рассматривая лицо Шестакова. Потом покопался в столе, достал фотографии, которые поступили вместе с заключением судебно-медицинского эксперта, сравнил их между собой.
Смерть слегка изменила лицо парня, но не обезобразила его. Казалось — человек просто заснул в неестественной позе и вот-вот откроет глаза. Обе фотографии: и эту, и прижизненную предъявили для опознания железнодорожнику Чеботареву, но безуспешно. Он так и не смог сказать, похож ли человек, изображенный на них, на кого-либо из тех ребят, которые пробежали мимо него в тот вечер.
— Когда же, товарищ следователь, убивцев найдете? — прервала раздумье Вершинина, одетая в черное маленькая пожилая женщина с темным морщинистым лицом, до этого молча сидевшая на одном из стульев у стены. — Ведь вторая неделя идеть, как мово кормильца нет, вторая неделя пошла, как сгубили его злодеи, а все ходят по белу свету, да над моим горем посмеиваются.
Подслеповатые глаза требовательно уставились на следователя.
— Ищем, Пелагея Дмитриевна. Поверьте мне, ищем всеми возможными способами, — Вершинин встал, подошел к ней, присел рядом.
У него не поворачивался язык возразить убитой горем женщине, сказать ей, что Василий был далеко не кормильцем, а наоборот, по словам соседей, порой отнимал у нее рубли, полученные за уборку лестницы, и пропивал их. Вершинин не сказал этого, ибо он понимал, что перед лицом смерти все плохое начисто стерлось в ее памяти. Для нее Василий стал теперь идеалом сына — доброго, любящего, единственного защитника, которого она выпестовала одна, без мужа, подавшегося в незапамятные времена на заработки, да так и забывшего вернуться. Она не лгала, она просто заблуждалась, мысленно создав для себя после похорон совсем другой образ.
Вячеслав решил выяснять все исподволь, полегоньку, чтобы поменьше травмировать материнское чувство.
— Мы обязательно найдем убийцу, обязательно, — утешал он ее, — но и вы постарайтесь нам помочь. Кто лучше вас знает Василия?
— В чем подмога-то моя, не пойму? Давеча я все рассказала другому следователю, записал он, расписалась, как смогла. Чего же еще надобно?
— С кем он встречался? Кто приходил к нему домой? Кто расспрашивал о нем уже после смерти?
— Я про все рассказала на первом допросе, а больше ничего не знаю. Приходили там разные, но откуда, неведомо.
— Дома-то он с приятелями частенько выпивал?
— Нет, — сразу насторожилась Шестакова. — Разве иногда бутылку красненького.
— Бывает, бывает, — успокоительно заметил Вершинин. — А друг дружку-то как они между собой называли?
— Запамятовала я, милок. Разные имена были.
— Может, вам приходилось слышать из их разговора кличку «Ханыга»?
— Ханыга? Впервой слышу, — ответила женщина.
— Вашему сыну такую кличку его приятели дали. Она известна всем, даже соседи его только так и называют.
— Соседи, соседи. Подумаешь, соседи. Врут они. Мало как убивцы обозвать могут.
Шестакова снова забеспокоилась, и Вершинин решил не разъяснять значение этого слова, хотя и был уверен, что ей уже приходилось его слышать. Василия Шестакова называли так все — от мала до велика. Спрашиваешь: «Вы знали Шестакова?» — пожимают плечами, скажешь: «Ханыга» — сразу ясно.
«Вот ведь как приклеилась, — подивился Вячеслав, — да оно и понятно — вымогатель, попрошайка, любитель поживиться за чужой счет».
Он собрался с духом и спросил:
— Пелагея Дмитриевна! Откуда Василий брал деньги на жизнь, ведь он же почти не работал?
— Работал, он все время, почитай, работал, а деньги мне отдавал, кормилец мой, — упрямо возразила она.
— Ладно, — терпеливо согласился Вячеслав. — После окончания профтехучилища он устроился на комбайновый, два месяца поработал и уволился. Знаете вы об этом?
— Мастер ему плохой попался. Вася пойдет покурить, а он придирается, обижает, проходу не дает. Один раз сынок чуть выпил после работы, он ему прогул поставил. Чай, с устатку-то можно выпить.
— С устатку можно после работы, но выпил-то он в середине рабочего дня, где-то часа в два. И причем на протяжении последнего месяца работы раз шесть выпивал. Вот и уволили.
— Вранье, все вранье. Напраслину на него возводят. Какой он пьяница? Ну, может, выпил раз… два, а они и рады наговорить.
— Возможно. Потом он на ремонтный попал, и там всего месяц проработал.
— Знаю про то. Ребята ящики в раздевалке обчистили, а на него свалили. Он и ушел, не захотел с такими товарищами работать.
— А потом?
— Еще где-то работал, без работы не сидел.
— Вы уверены, что он действительно работал?
— А как же. Каждый день на работу уходил, деньги у него бывали.
— Ах, так! — Вершинин начал терять терпение. — На работу уходил, деньги у него бывали, а известно ли вам, что он самым бессовестным образом обчистил своих товарищей по цеху? Его уволили и из жалости материалы в товарищеский суд направили. Потом он еще в трех местах работал, а в общей сложности за год набрал месяцев пять-шесть стажа. На чьих же харчах он сидел?
— На твоих что ли? — взвилась мамаша. — На своих сидел, работал все время. Неведомо мне, что там написано. Наговор все, и вы тем же занимаетесь. Вы преступников искать должны, которые его жизни решили, а не грязью имечко его бедное поливать, — Шестакова уткнулась лицом в ладони, костлявые плечи ее затряслись от рыданий. — Я к прокурору жаловаться пойду, — закричала она сквозь слезы. — Погубителей искать надо, а вы чем занимаетесь? Я пойду, я докажу на вас.
— Успокойтесь, пожалуйста, Пелагея Дмитриевна. Обидеть вас я не хотел. Поймите, я так же, как и вы, заинтересован в поимке убийцы, но для этого мне надо больше знать о вашем сыне: его привычках, друзьях, образе жизни. Иначе убийцу найти трудно. Вы обязаны мне помочь, рассказать откровенно, а вы принимаете мои вопросы в штыки. Я правду говорю.
— Правду, правду. Знаю я вашу правду. Будь у меня большой заступник, убийцу давно нашли бы и меня так не забижали бы. А то, кто я есть — нищая! — Она снова заплакала.
Вершинин вытер со лба пот.
«Вот поговори с ней, — с досадой подумал он. — Вместо пользы сплошная нервотрепка».
— Знаете, ведь знаете, кто мово Васеньку убил, — опять закричала Шестакова, — а не трогаете, боитесь.
— Не понимаю, о чем вы, — удивился Вершинин.
— Понимаете. Не хуже меня понимаете. Клавки — кладовщицы с овощной базы сын Витька убил, да она покрыла, сунула, сколько надо, вот и не найдете.
— Вы что, меня имеете в виду? — покраснел Вячеслав.
— Тебя, не тебя, почем я знаю, а ходит он на свободе, а мой-то в могилке лежит.
— Выбирайте выражения, а то… — начал было с угрозой Вершинин, но тут же спохватился, заставил себя успокоиться и спросил:
— Какой Витька? Какой Клавки? Кто вам рассказал?
— Вам надо знать, какой, и не от меня, а от других. Бабка у нас одна на поселке живет, по фамилии Бруткина. Вот повстречала она меня вчера и рассказала, как Клавкин Витька пьяный еще раньше хвастал, что сделает он моему сынку. Потом, когда Васеньку убили, Витька сказал: «Ханыга получил за дело. За мной не заржавеет». Вся улица знает, а вы в стороне.
— Действительно не знаем, — признался Вершинин, — чего не знаем, того не знаем.
Минуту он колебался, а затем набрал номер телефона Стрельникова. Виктор отозвался сразу.
— Пока ничего, старина, — не дожидаясь вопроса, сказал он.
— Витя, сейчас же подъезжай сам или подошли кого-нибудь к дому Шестакова.
— Что случилось?
— Не по телефону. Минут через десять я буду там с его матерью, она сейчас у меня.
— Добро. Я тоже немедленно выезжаю.
Бабка Бруткина оказалась согнутой в дугу старушенцией с крупной родинкой на переносице, из которой, словно кошачьи усы, торчали длинные седые волосы. Незнакомого гостя она рассматривала хмуро, исподлобья. Едва Вершинин завязал разговор, в дверь резко постучались и на пороге появился Стрельников. Вершинин поблагодарил его взглядом за быстрый приезд и пригласил подойти поближе. Виктор с любопытством разглядывал убогую обстановку комнаты. При виде второго посетителя бабка боязливо забилась в угол.
— Товарищ из милиции, — пояснил ей Вячеслав, успевший представиться хозяйке.
— Што мне милиция, — прошамкала та, показав единственный желтый клык. — Мы люди честные, бояться нам нечего.
Однако вид ее говорил совсем о противоположном.
— Вы, бабуся, Клавку-кладовщицу знаете? — спросил Вершинин, — опасливо присаживаясь на скрипучий стул.
— Клавку-то? Глухову? Кто ее не знает. Все знают.
— Хороший, наверно, Глухова, человек?
— Мне-то откель знать. Человек как человек, плохого про нее не слышала, хорошего не ведаю.
— А Витька, сынок ее, какой парень? Не балует?
— Почем я знаю. Играюсь с ним, что ли? Знамо только, насмешник большой. Старость не уважает. Из длинной трубки горохом в старух стреляет, когда те в церкву идут. А более про него мне неизвестно.
— Может, чего похуже творит?
— Похуже? А чего похуже? — она выжидательно уставилась из своего угла на сидящих.
Те промолчали. Тогда Бруткина пожала плечами, словно не понимая вопроса.
— Рассказывают тут некоторые, — продолжил Вершинин, — будто угрожал Витька Шестакову Ваське или еще кому-то.
— Не слыхала, — отрезала старуха.
— Как не слышали, ведь вы Шестаковой сами рассказали об этом. Мол, Витька Глухов угрожал убить ее сына.
— Ничего такого я не говорила. Поссорятся, помирятся. Народ всякого наболтает. Один — одно, другой — другое. Откель мне знать про эту шантрапу, не ровня они мне. Да и в мирские дела я не лезу, молюсь богу денно и нощно, — она истово перекрестилась на образа.
— Значит, ничего Шестаковой не говорили? Ни про Витьку, ни про Ваську? Выдумала, значит, Пелагея Дмитриевна? — медленно произнес Вершинин.
Старуха промолчала и забормотала под нос непонятные слова. Она явно отказывалась поддерживать дальнейший разговор. Поймав взгляд Вершинина, Стрельников подмигнул ему и показал головой на выход.
— Мы еще вернемся к этому вопросу, — подчеркнуто многозначительно пообещал Вячеслав, вставая.
Согнувшись под низкой притолокой почти вдвое, он вышел вслед за Стрельниковым на улицу.
— Бабуля явно крутит. Чего-то не договаривает, — убежденно заметил Стрельников, хотя и не знал, что пытался выяснить у нее Вершинин.
— Конечно, крутит, слышала, наверно, звон, да не знает, где он, — заметил Вячеслав и вкратце пересказал ему содержание разговора с матерью убитого.
— Интересно, — задумался тот. — Возможно, Бруткина наслушалась сплетен, а когда вопрос встал ребром — в кусты, а возможно, боится Глухова с его дружками или с нами связываться не хочет. Тоже, скажу тебе, приятного мало: допросы, очные ставки и так далее.
— Верно, — согласился Вершинин, — но нам-то теперь куда деваться?
— Послушай, парень, — остановил Стрельников проходящего мимо с ведром высокого худощавого юношу, — где Глухов Витька живет?
— Вон, — показал тот в сторону добротного кирпичного особняка под железной крышей и, не проявляя интереса, направился к колонке.
Дверь им открыла женщина лет сорока с широким, добела напудренным лицом и заплаканными глазами.
— Гражданка Глухова? — спросил Стрельников и, когда она кивнула, представился: — Капитан Стрельников из милиции, следователь Вершинин из прокуратуры. Разрешите к вам войти?
Женщина тревожно засуетилась и пропустила их в дом. В комнате сидел взъерошенный мужчина. Прямо на крашеный пол с его грязных сапог натекла лужа воды. Он, казалось, не замечал этого и рассеянным взглядом встретил вошедших.
— Это из милиции, Степа, — сказала Глухова.
— Где ваш сын Виктор? — с ходу спросил Стрельников, не выпуская обоих из поля зрения.
— Случилось что? — утробным голосом выкрикнула она, оседая на стул. — Он живой?
— Ничего особенного. Просто нам с ним надо поговорить, — ответил Стрельников, озадаченный ее реакцией.
Женщина всплеснула руками и зарыдала. Мужчина, сначала было вскочивший, вяло опустился на табуретку.
— Пропал Витя, — расслышали они сказанные сквозь слезы слова Глуховой. — Третий день как исчез. Я и отец, — показала она на мужчину, — всех дружков его обошли, в милицию заявили. Нигде нет. Пропал мальчик, — она безутешно зарыдала.
Мужчина отвернулся в сторону, скрывая слезы.
От Глуховых вышли, когда смеркалось. Шли, осторожно наступая на вздыбленный весенними водами асфальт.
— Интересное совпадение, — Стрельников взял Вершинина под руку. — Неужели есть связь между исчезновением Виктора Глухова и убийством Шестакова?
— Трудно, сказать, — отозвался Вячеслав. — Мать Шестакова, на мой взгляд, не соврала — разговор с Бруткиной у нее был. Сейчас мы обязаны вплотную заняться исчезновением Глухова. Что это? Попытка скрыться от ответственности или просто ребячья шалость — обида на родителей. А может быть, его…
— Убили! — закончил Стрельников. — Надо связаться с территориальным отделом милиции, а нам включить в разработку версию Шестаков — Глухов. Друг друга они знали, и, если верить матери, отношения у них были натянутые.
— Идет, — согласился Вершинин, — но не забывай другие версии и, главным образом, работу на вокзалах.
— Ты опять за свое. Розыск мы ведем каждую минуту.
— Только до другого серьезного ЧП, а там быстро переключитесь, а я останусь у разбитого корыта. Такое дело, как убийство Шестакова, чисто следственным путем поднять трудно. Розыск нужен, серьезный розыск.
— Понятно. Давай надеяться на лучшее. Обойдемся без ЧП. Все-таки меня не покидает мысль, что убийцы могли сойти с проходящего поезда, — рассуждал Виктор, — тогда дело дрянь. Тяжело нам придется.
— Нет. Интуитивно чувствую, нет. Поезда дальнего следования почти исключены. С восьми до двенадцати ночи, я беру время с поправкой, останавливалось два таких поезда: ашхабадский и саранский. У обоих стоянка двенадцать минут. Невозможно за такое время пробежать через туннель, затем — через площадь — добежать до продовольственного магазина и вернуться назад. Учти, народу много, значит, надо расталкивать, пробиваться. В общем, я подсчитал, что при самых благоприятных обстоятельствах уходит минут восемь-девять, но тогда они опаздывают на поезд.
— Допустим, они опоздали на поезд.
— Им надо будет добираться до места назначения. Поезда этого направления идут через сутки. В кассе мне сообщили, что билеты на них в течение последующих двух суток не продавались. Состав поездных бригад обоих поездов опрошен. Никто ничего подозрительного не заметил, ни один из пассажиров не отставал от поезда.
— Тогда другой расклад. А свои электрички мы прочесали вдоль и поперек, и безрезультатно.
— Меня беспокоит, — задумчиво сказал Вершинин, — что после нашего выступления по радио прошло уже пять дней, а никто не откликнулся. Но ведь кто-то видел. Значит, не хотят ввязываться.
Вполне вероятно. Вспомни случай, который мы проверяли на другой день после убийства. Тоже была драка, зачинщикам дали по пятнадцать суток, а продавщица из палатки, наблюдавшая за потасовкой, и теперь утверждает, что не видела.
— И тем не менее я настаиваю, чтобы каждое мало-мальски интересное событие, происшедшее на вокзале в течение всего дня, когда произошло убийство, стало предметом нашего самого пристального внимания.
Стрельников в сердцах махнул рукой.
— Ты же видишь, этим мы и занимаемся, и я надеюсь, ничего такого от нашего внимания не ускользнет. Мы проверили участников драки, о которой я тебе только что рассказал, — отпало.
— А вот о тех двух пьяных ребятах на перроне пока нет никаких сведений. Что они за люди, почему один из них порвал документ — неизвестно. Кстати, какой это документ?
— Я пришлю тебе обрывки — назначь экспертизу. Правда, я приглашал кое-кого из специалистов, показывал им. Они склонны считать, что это обычное удостоверение работника завода типа шарикоподшипникового или сельхозмаша.
«И тут завод сельхозмашин», — мрачно подумал Вершинин, а вслух сказал:
— Давай я назначу экспертизу, может быть, нам скажут более определенно. Тогда пойдем на завод, узнаем, кто в этом году не сдал или утерял удостоверение, авось, найдем паренька с вокзала.
— Можно, — без энтузиазма отозвался Стрельников, — хотя скорее всего это в огороде бузина, а в Киеве дядька.
— Допускаю. Но что у тебя есть более реальное?
Виктор промолчал, хотя в душе не очень-то был согласен с приятелем.
— Мне покоя не дает выкрик, о котором рассказал нам железнодорожник, — вернулся к прежнему разговору Вячеслав.
— Опять ты за свое. Ничего странного не вижу. Зато вижу твою рассеянность. Витаешь в облаках?
— Решаю, быть или не быть.
— Как быть или не быть, — всполошился Стрельников. — Чего ты мелешь?
— Да вот заманчивое предложение получил от одного руководящего товарища.
— Неужели новое назначение? Куда? — с интересом спросил Стрельников.
— Предложение другое. Директор крупного завода просит разыскать одного проходимца.
— Что за проходимец?
— Короче, моего директора доняли анонимками. Довели до инфаркта. Он и сейчас одной ногой на том свете. Клевета, говорит, просит возбудить дело. А он фигура: депутат и все такое прочее. Без крайней надобности к нашей помощи обращаться не станет.
— А… анонимки, клевета. История старая как мир. Вот что я прочел в одной из старых газет. В ней сообщалось об обнаружении тайника Рамзеса II, причем не разграбленного. В нем было найдено много табличек, свитков, папирусов. Предполагали найти в них ценнейший исторический материал. Года два работали над этими документами и, наконец, выяснили, что Рамзес II коллекционировал доносы и анонимки своих верноподданных. Можно себе представить разочарование ученых.
— Это серьезно? — не поверил Вершинин.
— Могу принести тебе газету. А вообще-то история, о которой ты мне рассказал, далеко не смешная и не редкая. И знаешь, что самое обидное? Порядочный человек в таких случаях оказывается бессильным — подлостью на подлость он не ответит, физиономию не набьет, на дуэль не вызовет. Самое лучшее делать вид, что ничего не произошло.
— Ладно, хватит на сегодня, — вяло произнес Вячеслав, на которого слова приятеля подействовали удручающе. — Давай до завтра. Пошли с утра ориентировки на Глухова.
ДВЕ ВСТРЕЧИ

Ночью Вячеслав не мог заснуть. Ложился на спину, уставясь в изломанный зыбкими тенями ночи потолок, переворачивался на бок и, закрыв глаза, мысленно рисовал красной краской огромную цифру восемь на белом фоне — средство от бессонницы, вычитанное в научно-популярной книжке о сне и сновидениях. Все было тщетно…
Осторожно, стараясь не разбудить домашних, встал и вышел на кухню. Раздвинул оконные занавески, достал из початой пачки сигарету, закурил, глубоко затянулся и стал наблюдать за пустынной улицей. Март погодой не баловал. Мокрый снег мягко ложился в загадочно поблескивающие в свете фонарей лужи и моментально таял. На противоположной стороне улицы безмолвной шеренгой выстроились многоэтажные дома. Хотя было около трех часов ночи, в каждом из них мерцали приглушенным светом одно или два окна. Вершинин и раньше замечал это. Он нередко возвращался домой глубокой ночью, но, как бы поздно ни было, всегда где-нибудь не спали, где-нибудь горел свет. В памяти всплыло лицо Кулешова.
«Что-то он сейчас делает? — подумал Вершинин. — Тоже, наверное, мается без сна. Нелегко ему — помощи от меня ждет. Но чем помогу я? Как посмотрит на это прокурор области? Его нужно будет убеждать в необходимости действий. Тут, пожалуй, немало всяких подводных течений».
Так и не приняв окончательного решения, Вячеслав вернулся в комнату и потихоньку улегся на кровать, закрыл глаза и вновь принялся мысленно выводить красную восьмерку на белом фоне.
Утром на работу он пришел пораньше. Неожиданно вспомнился человек, с которым свела его судьба на заводе сельхозмашин. Это был начальник участка, которого технический инспектор считал главным виновником несчастного случая. Именно он незадолго до того приказал установить два станка без фундамента, вот инспектор и утверждал, что из-за усиления вибрации обрушилась стена. Виновный, однако, духом не падал, а поразил Вершинина своей невозмутимостью. Отрицал почти безмотивно выводы инспектора, с хитринкой поглядывая на следователя, и твердил одно и то же: «Разберетесь, я вижу, что разберетесь». Был он самый что ни на есть потомственный трудяга: из рабочей семьи, окончил профтехучилище, слесарил, потом техникум, заочная учеба в политехническом институте. Держался уверенно, как может держаться человек, отлично знающий свое дело.
Уже позже, когда Вершинин сам во всем разобрался, тот зашел к нему в прокуратуру, сел напротив и сказал, как о само собой разумеющемся: «Видите, я же не сомневался, что у вас получится», а затем, сопя, достал из потертого портфельчика бумаги и положил их на стол.
— Это мои расчеты, — пояснил он. — Я их давно сделал. — Тут рассчитано, что дополнительная вибрация станков не может вызвать обрушение стены, если стена соответствует проектной мощности, а установка станков, как вы знаете, была необходима.
— Надо было сразу передать ваши расчеты инспектору, — с изумлением воззрился на него Вершинин.
— Зачем? — не согласился тот. — Он бы их и смотреть не стал, для него главное — свое мнение.
Распрощались они по-дружески. Уходя, тот протянул крупную ладонь и сказал:
— Понадобится что — обращайтесь в любой момент.
Больше они не встречались. Вершинин потом забыл фамилию начальника участка и теперь лихорадочно копался в старых документах, рассчитывая найти ее там. Вскоре он наткнулся на нужную запись, Начальника участка звали Константин Сергеевич Охочий. Вершинин, не медля, позвонил в отдел кадров завода. Там ему сказали, что Охочий по-прежнему работает на заводе, и дали его телефон.
Медлительный с басовитыми нотками голос Вячеслав узнал сразу.
— Приветствует вас старший следователь областной прокуратуры Вершинин, — представился он, медленно произнося слова, чтобы дать тому возможность вспомнить собеседника.
Однако, к его удивлению, Охочий моментально выпалил:
— Вячеслав Владимирович! Рад слышать вас.
— Он самый, — не без удовольствия сказал Вершинин и добавил с завистью: — Ну и память у вас.
— Только на хороших людей. Я их на всю жизнь запоминаю. Их имена у меня в памяти вырезаны, чуть что и всплывают большими буквами.
— Благодарю за комплимент. В нашем деле они редки. Хороших ассоциаций от встречи со следователем почти не остается. Еще раз спасибо за память.
— Какая во мне нужда?
— Вспомнил про ваше обещание помочь, если понадобится, вот и звоню.
— Я всегда готов.
— Может, заглянете ко мне часа в четыре?
Вершинин не стал затевать серьезного разговора по телефону. Охочий был нужен ему с глазу на глаз в спокойной обстановке.
До прихода Охочего Вершинин решил поработать над версией об убийстве Шестакова Глуховым. Он так увлекся, что не заметил, как в его кабинет кто-то вошел, и вздрогнул от неожиданности, услышав посторонний звук. Секретарь прокурора — толстушка Вера Колышкина громко рассмеялась, заметив его испуг.
— Я думала, у вас нервы покрепче, — сказала она.
— Были, Веруша, крепкие, да жизнь измотала, — состроил Вячеслав постную мину.
— Вас вызывают к транспортному телефону, ваш городской что-то не соединяется.
Вершинин бросил взгляд на свой телефон. Оказалось, после разговора с Охочим он неправильно положил трубку. Чертыхнувшись, Вячеслав сдвинул ее на место и почти взлетел на третий этаж в приемную.
По транспортному он услышал знакомый голос Саши Пантелеева из линейного отдела.
— Вячеслав Владимирович! — кричал тот в трубку, как на пожаре, — Стрельников до вас не дозвонился и уехал, поручил мне связаться. В дежурке у нас паренек один находится, думаю, вас заинтересует разговор с ним.
— Кто? Неужели Глухов?
— Нет, но ему кое-что известно о Глухове.
— Срочно вези, жду.
Парнишка оказался на редкость худым и угловатым. Кости выпирали из него в самых неподходящих местах. На скулы, казалось, не хватило кожи, а большие, хрящеватые уши чуть подрагивали в такт движениям головы. Мусоля в руках кепчонку, он беспокойно сидел на жестком стуле.
— Олег Гагулин, — представил его Пантелеев, не скрывая презрения. — Бросил школу, отирается на вокзале. Задерживали не раз, родителей вызывали, а он продолжает свое. Меняет жевательную резинку на импортные сигареты и наоборот. Меняла!
— Где живешь, Олег? — мягко спросил Вершинин, стараясь сгладить впечатление от резких слов Пантелеева.
Подросток назвал пригородный поселок, тот же самый, где жили Глухов и Шестаков.
— Учиться почему не желаешь?
— Я хочу, хочу учиться, — заторопился парнишка, — только не в школе.
— А где же?
— В торгово-кулинарное хочу пойти.
— В чем же дело? Иди.
— Отец с матерью против. Ругаются. Школу, говорят, заканчивай, а потом в институт. А я в кулинарку хочу. У меня там друг учится. Рассказывал.
— Надо помочь человеку, — обратился Вершинин к Пантелееву, — с родителями поговорить. Вдруг призвание в этом. Может, известность ждет его в будущем на этом поприще.
— Постараемся помочь, хотя и трудно, — пожал тот плечами. — Родители у него несговорчивые. Об училище и слышать не хотят. Инженер — и точка. И чтоб на завод, где отец работает.
— Преемственность — вещь хорошая, когда она не против воли. Мы поговорим с твоими родителями. Понял, Олег?
Тот безнадежно махнул рукой.
— Тетя Женя из милиции сто раз с ними говорила. Бесполезно — милицию они не послушаются.
— Ох и хитрец ты, — засмеялся Вершинин. — Ну да ладно. Возьму эту миссию на себя. А пока, дорогой, расскажи-ка поподробней, когда в последний раз видел своего соседа — Глухова Витю. Припомни поточней.
— Последний раз в поселке видел три дня назад. Он как раз к остановке автобуса шел с рюкзачком. Тощий такой рюкзачок. Увидел меня, остановился, рубль отдал: должен был за пачку югославской жвачки. Я еще спросил его, куда так поздно, а он махнул рукой и говорит: «Будь здоров, Олег, не житье мне теперь здесь». Тут как раз рейсовый подошел, он в него — нырь, а я своим путем… Подумал, врет Витька, любит он приврать. Ну, а после его уже не встречал.
— А до этого где видел, расскажи, — вмешался Пантелеев.
Олег нерешительно произнес:
— Меня ж про последний случай спрашивают. А перед тем… Перед тем я Витьку на вокзале встретил. Он с Ханыгой пиво пил, меня увидел и послал за водкой. Я ведь длинный, мне продавцы без звука отпускают. Принес бутылку, пошли на товарный двор, там они ее и распили. Мне малость налили, но я водку не пью, невкусно — горькая. Вино — другое дело, а эту я вылил потихоньку. Потом между Витькой и Ханыгой спор пошел. Ханыга у него еще деньги на бутылку просил, а тот не давал. «Ты мне, — говорит, — и так пятнадцать рыжих должен». Ханыга изругался по-матерному и еще сосунком назвал его, а потом — Дуняшкой. Его иногда за щеки так называли. Они у него красные, как помидор, — Гагулин замолчал, переводя дух от длинного рассказа.
— А потом? Потом что произошло?
— Потом? — Олег продолжал уже менее охотно. — Ханыга ударил Витьку и полез к нему в карман. Тот вырвался и бегом. Крикнул только: «Погоди, гад, я тебе сделаю». Я тоже дал деру, чтобы с Ханыгой не связываться. Он трезвый — чего хочешь сделает, а пьяный и подавно. Потом я Глухова уже с рюкзаком встретил.
— И Ханыгу встречал?
— Нет. Ханыгу не встречал, — ответил тот, потупив глаза.
«Значит, все-таки дело рук Глухова, — подумал Вершинин, рассматривая стриженный затылок паренька. — Но ведь железнодорожник рассказал о нескольких парнях. Четверо преследовали одного. Успел собрать приятелей? А может, и этот с ними был?» — закралось подозрение, но он тут же отказался от него — подросток говорил искренне.
— И какого же числа все это произошло?
— Я говорил товарищу лейтенанту — восемнадцатого, вечером восемнадцатого. Часов в девять, может, в десять.
У Вершинина екнуло сердце. В тот день и был убит Шестаков.
— Смотри-ка, какая у тебя память, — сказал он. — А не спутал ли?
— Я с Вовкой Фединым на вокзале в тот день встретиться договорился, — объяснил Олег. — У него предки за границей были, привезли кое-что, вот мы и договорились собраться, посмотреть. Семнадцатого он вечером в бассейн ходил, а восемнадцатого свободен оказался. Можете спросить. Я у него блок «Данхилла» выменял, знаете, сигареты импортные в красной упаковке с золотыми буквами.
— Куда же ты их дел? Сам-то ведь не куришь.
— Балуюсь иногда… Сигареты я потом сменял с одним на польскую шариковую авторучку.
— Охо-хо, — вздохнул Вершинин. — Меняла ты, меняла. Мы еще вернемся к твоим менкам, переменкам. До хорошего они не доведут. Слушай, Олег, тебе ведь известно, что Шестакова убили вечером восемнадцатого?
Олег испуганно кивнул и вопросительно посмотрел на следователя.
— Кто его убил?
У Гагулина округлились глаза.
— Мог это сделать Глухов?
— Н-не знаю.
Олег заморгал, собираясь с мыслями. В этот момент в дверь сильно постучали.
— Войдите, — машинально сказал Вершинин, и на пороге появился плотный молодой мужчина. Вячеслав сразу узнал Охочего и бросил взгляд на настольные часы. Они показывали ровно четыре.
— Не вовремя? — спросил Охочий, дружески улыбаясь. — Я обожду в коридоре.
— Зачем же? — ответил Вершинин, пожимая ему руку. — Присаживайтесь здесь, мы скоро закончим.
Охочий сел в сторонке. Его появление смешало дальнейшие планы Вячеслава.
— Возьмите пока журнальчик, почитайте, — предложил он, показав на книжный шкаф.
Охочий достал журнал и углубился в чтение.
— Ты не ответил на мой вопрос, Олег, — продолжил допрос Вершинин.
Подросток молчал. Грязноватые пальцы мелко подрагивали на коленях.
— Откуда мне знать, — наконец уклончиво ответил он. — Когда Глухов убежал, я сразу ушел с вокзала.
— Ты неправильно понял меня. Я не спрашиваю, убил ли Глухов Шестакова, я спрашиваю, мог ли он убить? Ты же Виктора давно знаешь. Скажи.
— Почем я знаю? Вообще-то Глухов не живодер, не то что Ханыга, а убил — не убил — сказать трудно.
— Ну хорошо. Скажи тогда, пожалуйста, носил ли Глухов с собой нож?
— Нож? Есть у него небольшой такой, — он показал ладонь, — раскладной.
— Ты у него видел его в тот вечер?
Гагулин снова запнулся и помолчал.
— Так видел или нет?
— Видел, но не этот, а другой, побольше. Он им бутылку открывал и хлеб нарезал.
— Нарисуй его, — попросил Вершинин, подвинув парню лист бумаги.
Высунув от старания кончик языка, тот минут десять изображал что-то на бумаге.
— Н-да, — усмехнулся Вершинин, посмотрев рисунок. — Художника из тебя точно не получится. Ладно. Поезжай сейчас домой. С родителями твоими в ближайшее время я поговорю сам, как обещал. Постарайся только ничего не отчебучить, чтобы кулинарное искусство в дальнейшем не понесло потери.
После ухода Гагулина в кабинете некоторое время царило молчание. Вершинин и Пантелеев раздумывали над рассказом подростка, а Охочий сидел тихо, боясь нарушить тишину неосторожным движением. Внутренним чутьем он понимал, что у этих двоих произошли сейчас что-то очень важное.
— Я считаю, что у Глухова имелись оснований свести счеты с Шестаковым, — первым нарушил молчание Пантелеев. — Денежный долг, стычка с Ханыгой незадолго до его смерти и, наконец, нож. Поэтому-то он к сбежал, других причин нет.
Лейтенант разволновался. Уж очень ему хотелось оказаться правым. Еще бы: первое серьезное дело за полгода после окончания милицейской школы. Ну как тут не мечтать, чтобы с тобой согласился опытный следователь. Круглое, добродушное лицо Саши выглядело просительным и озабоченным. Вячеслав едва не рассмеялся, но заставил себя сдержаться и показал глазами на постороннего человека. Пантелеев вспыхнул, словно факел, и моментально поднялся.
— Вечером мы обсудим ваши соображения, — пообещал Вершинин. — Я буду в отделе часов в семь. Передайте Стрельникову.
Пантелеев козырнул и вышел из кабинета. Охочий отложил в сторону журнал. Некоторое время они молча, с легкой улыбкой приглядывались друг к другу.
«Заматерел Константин Сергеевич, осанку приобрел, важность», — одобрительно думал Вячеслав, рассматривая крупное волевое лицо Охочего с опущенными вниз углами рта.
— Ох и работка у вас, — посочувствовал Охочий, — попробуй влезь в душу такому пацану — ведь наврет с три короба и не поморщится. А дело, я чувствую, серьезное.
— Убийство, — кивнул Вершинин. — Может, слыхали, у железнодорожного вокзала?
— Слыхал, как же, слыхал. Я бы таких к стенке сразу ставил. Убил, значит, и тебя туда же.
— Все не так просто, как кажется, — уклончиво ответил Вячеслав, вспоминая отзывы о Шестакове. — А вы как живете?
— Потихоньку. Живем, трудимся, план даем, хотя и не всегда получается.
— Много теперь рабочих на вашем участке?
— На участке двести восемьдесят три человека, а в цеху — девятьсот. Я ведь начальником цеха работаю.
— Того же? Механосборочного?
— Его самого.
— Поздравляю от души. Вот это рост. Почти полк в подчинении. В армии бы звание полковника получили.
Охочий рассмеялся:
— За поздравление спасибо, хотя и опоздало оно. Через месяц после окончания института вызвал меня Кулешов и заставил принять цех почти в приказном порядке, хотя я и отбивался, как мог. Однако и вас с повышением надо поздравить. До моей грешной души снова добрались, — лукаво закончил он.
— Добрался, добрался, — раздумчиво произнес Вершинин. — Скажите, Константин Сергеевич, вам нравится работать на заводе?
— Работать? — ошарашенно уставился на него Охочий. — Работу свою я люблю и завод тоже. Сколько лет на нем. С рабочего начинал.
— А условия работы удовлетворяют вас?
Собеседник помолчал, размышляя над скрытым смыслом вопроса. Он понимал, что он вызван не праздным интересом, но затруднялся ответить с ходу.
Для начала решил отшутиться:
— Хотите предложить другую?
Однако Вершинин шутливого тона не принял, а серьезно спросил:
— Так удовлетворяют или нет?
Охочий посерьезнел:
— Еслиначистоту, то теперешняя работа не совсем удовлетворяет меня. Я с сожалением вспоминаю о времени, когда работал начальником участка и в такой мере не был зависим от других подразделений завода, как сейчас. Порядка было больше, план всегда выполнялся. А теперь? Тянем еле-еле, а толку чуть. Народ это нервирует: низкие заработки, отсутствие премиальных.
— Что же произошло? В чем причина?
— Кто его знает. Я, может, виноват, не справляюсь, или еще кто. На наш цех ведь весь завод работает. Мы, так сказать, конечная инстанция, дающая готовую продукцию; если завалим план выпуска готовой продукции, в целом по заводу с планом пойдет чехарда.
— Странно, — сказал Вершинин, решив вызвать его на откровенный разговор. — Директор у вас мужик энергичный, современный. Помню, года три назад вы переходящее знамя министерства получили, видел его в кабинете директора. Да и в газетах завод расхваливали на все лады.
— Хвалили, — согласился Охочий, — и знаменами переходящими награждали, и премии давали. Весело работалось.
— Что же изменилось? Директор у вас тот же. Может, требования другими стали.
— Требования, естественно, повышаются, но не это главное. Тут другое — нет настоящей рабочей обстановки. Да и директор изменился — болеет часто и сейчас с инфарктом лежит в больнице.
— Есть же главный инженер, заместители, в конце концов, или, — тут Вячеслав решил забросить пробный шар, — или они делят шкуру неубитого медведя?
— Скорее недобитого, — мрачно сострил Охочий.
— Почему недобитого? Кто его не добил? — быстро подхватил Вячеслав.
— Я так, к слову, — замкнулся Охочий.
Вершинин решил не настаивать. Он немного отошел от темы разговора:
— Кулешова я помню еще по прошлому. Отличное впечатление производил. Неужели так изменился за эти годы?
— Сказать о Кулешове плохой или хороший нельзя. Он не однозначный человек: организатор блестящий, технику знает на пять с плюсом, авторитет имеет, вернее, имел.
— Почему имел?
— Да потому, что авторитет директору создает не только он сам, но и весь управленческий аппарат, и уж, конечно, партком и завком. А когда они там сами не знают, что делать, авторитет трещит. Директор пытается заштопать его, но одному трудно, он допускает ошибки, перегибы.
— Вы имеете в виду фельетон в областной газете?
— Читали? Конечно, и его тоже. Однако сразу оговорюсь, — недостатки Кулешова не идут ни в какое сравнение с присущими ему деловыми качествами. Он — настоящий руководитель крупного современного предприятия.
— Тогда почему завод не тянет план? — вернулся к первоначальной теме Вершинин.
— Трудно сказать, — уклонился Охочий. — Наверху видней. Что я скажу со своей колокольни? Мой цех — один из многих.
Стало ясно: начальник цеха уходил от откровенного разговора. Вершинин особенно и не винил его за это. Настороженность Охочего была понятна: с какой стати следователь вдруг интересуется заводскими делами? А взять и просто объяснить Охочему причину своего любопытства Вячеслав пока не хотел, ибо еще не знал, чем обернется вся его затея.
Вершинин проводил Охочего на улицу. Задержав руку Вячеслава в своей, тот сказал на прощанье, пряча хитринку в глубине глаз:
— Если вы хотите узнать обстановку на нашем заводе, я советую встретиться с секретарем парткома Лубенчиковым.
«Вот хитрец, — подумал Вершинин, провожая взглядом мощную спину Охочего, — понял, что меня волнует».
Он еще постоял на улице, наблюдая, как вперевалку по-гусиному уходит начальник цеха, не оглядываясь назад, хотя наверняка чувствует, что на него смотрят.
УДАР ПО САМОЛЮБИЮ

Когда Вершинин зашел в кабинет секретаря парткома, там происходил серьезный разговор об одном из заводских общежитий, находящемся на отшибе, которому администрация завода уделяла мало внимания.
Возбужденный мужчина со значком ударника коммунистического труда горячо доказывал свою правоту, разрубая ладонью воздух. Другой — помоложе, с торчащим на затылке хохолком жестких волос, поддакивал ему, изредка вставляя слова. Они говорили, что в общежитии не ведется воспитательной работы, рассказывали о злоупотреблениях коменданта. Дважды секретарь парткома прерывал взволнованный рассказ и говорил, что уже давал команду завкому разобраться с положением в общежитии и считал, что там теперь спокойно. Он раздраженно поднимал телефонную трубку, сердито набирал чей-то номер, по-видимому, председателя завкома, и в сердцах бросал ее на рычаг. Посетители, наконец, сообразили, что ничего, кроме ссылок на завком, они не услышат и отчужденно замолчали.
— Пойдем, Петя, — сказал тот, что помоложе. — Решим позже, — и направился к выходу.
— Позже, позже, — пробурчал другой, неохотно вставая. — Сколько раз можно говорить об одном и том же?
— В ближайшее время решим этот вопрос, — с облегчением пообещал Лубенчиков.
Вершинин заметил, как выходивший последним уже в дверях вяло махнул рукой, видимо, не питая надежды на брошенные ему вслед слова. Секретарь парткома быстро отвернулся, сделав вид, будто не заметил прощального жеста. Ему было неловко перед посторонним.
— Какие только вопросы не приходится решать парткому, — с ноткой оправдания сказал он, скользнув взглядом по посетителю.
— Старший следователь Вершинин, — назвал себя Вячеслав, хотя был уверен, что секретарь парткома знает, с кем говорит: ведь он пришел в точно назначенное время.
— Очень приятно. Лубенчиков, — представился тот. — Прошу извинить за задержку, но сами видите: общежитие, ясли, детские сады, прочее разное… А главное — производство.
— Работа у вас всеобъемлющая, — согласился Вершинин, но от соболезнований по поводу загруженности воздержался и снова замолчал, предоставляя Лубенчикову самому выпутываться из неловкого положения, в которое его поставили парни из общежития.
Однако тот не стал распространяться о трудностях, а, плотно усевшись, достал из ящика стола красочно оформленный блокнот делегата какой-то конференции и, пробуя перо, сказал:
— Внимательно слушаю вас, товарищ Вершинин. Кто, что и где натворил?
— Записывать наш разговор, пожалуй, не стоит. Он пока несколько конфиденциальный, — остановил его Вячеслав. — Мне бы хотелось откровенного разговора с вами по весьма щепетильному вопросу, касающемуся внутризаводских дел в целом.
— Наших внутризаводских дел в целом? — брови Лубенчикова приподнялись и изогнулись в удивлении. — Пожалуйста. Внутризаводские, так внутризаводские.
Он спрятал в карман авторучку и закрыл блокнот. Потом снова достал ее и стал нервно крутить в руках…
— Я пришел поговорить с вами прежде всего о директоре завода Кулешове, — раздельно произнес Вершинин, внимательно наблюдая за реакцией собеседника.
Авторучка застыла в его руках, упершись острым концом в ладонь. На ней сразу обозначилась жирная полоса фиолетовой пасты.
— О нашем директоре? — с изумлением переспросил Лубенчиков. — И что же он такого натворил?
— Да не он натворил. Мне бы хотелось выяснить, что с ним сотворили, кто его довел до инфаркта, почему он сейчас в больнице? — с вызовом перечислил вопросы Вячеслав.
— Я не понимаю вас, — глаза секретаря стали непроницаемыми, мышцы лица затвердели.
Вершинин немного растерялся, ибо все же в душе рассчитывал на откровенный разговор, а его не получалось. Тема эта была Лубенчикову неприятна. И все же Вячеслав решил попытаться расшевелить его.
— Мне известно, какие обстоятельства привели Кулешова на больничную койку, — настойчиво сказал он.
— Они известны всем — инфаркт миокарда.
— Инфаркт явился лишь следствием обстановки на заводе за последние два года. Я имею в виду: анонимки, комиссии и прочую нервотрепку. Именно об этом я и пришел поговорить с вами как с секретарем парткома. Вам ведь не безразлична судьба завода в целом, судьба директора. На парткоме лежит немалая ответственность.
— Позвольте, — перебил его Лубенчиков, — я никак не пойму, в каком вы здесь качестве. Если в качестве следователя, то каковы ваши полномочия, что вы расследуете, известно ли об этом прокурору?
На Вершинина словно ушат холодной воды вылили. Он сообразил, что находится в двусмысленном положении, ибо никаких официальных полномочий не имеет. Вячеслав пришел сюда вникнуть, получить поддержку. Однако с ним разговаривать не захотели, да еще и дали понять, что в глазах секретаря парткома фигура он незначительная. Впрочем, Лубенчиков тоже не был спокоен. По бесконечному движению авторучки, порядком отметившей своими помарками его ладони, Вершинин догадывался, что столь резкий выпад вызван отнюдь не твердой позицией, а скорее, растерянностью и неуверенностью секретаря парткома. Предъяви сейчас Вершинин самые высокие полномочия, он и тогда бы не смог дать удовлетворительного ответа. И все же жалко было уходить не солоно хлебавши.
— Давайте начистоту, — Вячеслав легонько пристукнул кулаком по столу. — Вы правы — официальных полномочий у меня нет, однако Игорь Арсентьевич Кулешов сам лично не более как четыре дня назад просил меня разыскать людей, которые мешают ему последние годы.
На лице Лубенчикова промелькнула растерянность. Возникшая ситуация снова поставила его в тупик.
— Ну и что же? — промямлил он. — Кулешов Кулешовым, а полномочия ваши мне все равно не ясны.
— Вы интересуетесь, знает ли о моих намерениях непосредственное начальство? Опять скажу вам откровенно — не знает. Пока преждевременно ставить его в известность. Мне хотелось во многом убедиться самому, а потом уже принять окончательное решение. И если я приму его, уверяю вас: прокурор меня поддержит.
Лубенчиков молча слушал. Ему трудно было понять, что нужно следователю. На заводе не совершено преступление, и вдруг следователь лезет с вопросами, которые уже давно разрешили другие органы, лезет никем не уполномоченный, по собственной инициативе.
— Да поймите же вы меня, — убеждал Вершинин, — я пришел к вам, секретарю партийной организации, в интересах дела. Давайте разберемся вместе. Завод лихорадит, я это знаю. Если вы что-то не в состоянии сделать своими силами, мы поможем. В наших руках есть средства, которых нет у вас. Мне нужно только одно — ваша откровенность. Расскажите мне о Кулешове, о других руководителях, о событиях последних лет на заводе, о вашем отношении к ним. Помогите мне сделать правильный выбор, ведь, в конце концов, я действую в интересах завода.
Однако горячий монолог не изменил поведения собеседника. Тот все внимательно выслушал, помолчал, а потом с внутренним удовлетворением сказал:
— Значит, вы пришли без официальных полномочий? — и равнодушно отвернулся.
Вершинин встал.
— Извините за беспокойство, — язвительно сказал он и пошел к выходу.
Вслед ему донеслись сказанные с извиняющейся ноткой слова:
— Я рекомендую вам обратиться в объединение. Там лучше знают. Они выезжали со специальными проверками.
Лубенчиков не пояснил, почему именно объединению известно больше, чем ему, секретарю парткома, но Вячеслав понял выраженную в его словах просьбу: «Говори с ними, а меня не трогай». Поэтому вышел он молча, раздосадованный постигшей его неудачей.
«Втянул меня в авантюру, — мысленно обругал он Охочего, — послал к человеку, который боится решать острые вопросы самостоятельно. А ведь наверняка знал его характер, предвидел, чем кончится разговор. Верь после этого людям. Мальчишкой меня посчитал, что ли?»
Вячеслав представил себе лицо Охочего, его глаза с хитрым, мужицким прищуром.
«Поговорите с Лубенчиковым, — вспомнил он прощальную фразу, — и вы узнаете обстановку на заводе». И каковы успехи? «Постой, постой, — осенило его, — ну и хитрец Охочий, ну и хитрец, тонко рассчитал. Иди, говорит, побеседуй с секретарем, узнаешь обстановочку на заводе. А ведь теперь ясно, что своими силами Кулешову не справиться».
У Вершинина стало легче на душе, настроение улучшилось. Он зашагал весело и быстро, как человек, принявший окончательное решение.
«КРИМИНАЛИСТ С СЕЛЬМАША»

До прокуратуры Вячеслав добрался пешком минут за двадцать. В коридоре он по привычке ткнулся в дверь старшего следователя Гриши Салганника, уже больше месяца находившегося в командировке. К его удивлению, дверь легко подалась и, скрипнув ржавыми петлями, распахнулась. Перед ним стоял Гриша. Вершинин от души обрадовался его приезду. Салганник был классным следователем, специалистом по самым запутанным хозяйственным делам, обладающим железной логикой и фантастическим чутьем. Он давно просился в бригаду к Салганнику по какому-нибудь крупному хозяйственному делу, чтобы перенять его опыт.
— Хлопот у меня сейчас, Славка, по горло, — Гриша озабоченно почесал намечающуюся лысину. — События нарастают, как снежный ком. Началось ведь с ерунды. В магазине «Аквариум» народные контролеры обнаружили килограмм тридцать неучтенной тешки — копченой спинки рыбы ценных пород, а сейчас? — он начал загибать свои тонкие музыкальные пальцы. — Нальчик, Сочи, Тула, Сухуми и чем кончится, одному богу известно. Сложнейшие способы хищения. Помня твою просьбу, я предложил шефу включить тебя в бригаду — одному мне не справиться, придется поколесить по свету. У тебя сейчас только нераскрытое убийство на вокзале, терять нечего. Давай подключайся и скорее меня благодари. Шеф, кажется, расположен к такому варианту.
— Спасибо, спасибо, дорогой, — задумчиво ответил Вершинин, — спасибо тебе за хлеб, за соль, за кашу, за милость вашу.
Салганник удивился:
— Да ты, кажется, недоволен? Сам ведь просился, никто за язык не тянул.
— Знаешь, Гриша, предложи ты мне сотрудничество недели две тому назад, я бы не раздумывал. Сейчас же… У меня действительно одно дело в производстве, и оно затянулось, правда, в последние дни появилась туманная перспектива на раскрытие. Скажу откровенно, кроме убийства, у меня есть один материал, но я до сего дня не знал, как с ним поступить.
— Если не знаешь, отложи в долгий ящик, пусть ждет. Тогда и видно будет.
— Очень уж у тебя просто, — поморщился Вершинин. — Тут время пропустишь — не наверстаешь потом.
— Валяй, валяй рассказывай. Чувствую, посоветоваться хочешь. Я весь внимание, — сказал Гриша, доставая из сейфа разрозненные листки бумаги, испещренные множеством цифр.
— Видишь ли, знакомый мой — директор крупного завода — обратился с просьбой. Его чуть в гроб не вогнали анонимками. Утверждает — клевета, просит найти тех, кто писал.
— Ну и ну, — схватился за голову Салганник. — Охота тебе этим заниматься. Конечно, молодой человек, порывы ваши благородны, но, боюсь, кроме неприятностей ничего не принесут. Мне, во всяком случае, аналогичное дело доставило много хлопот. Кляузник, которого я пытался уличить, меня самого засыпал анонимками, после чего мне неоднократно пришлось писать объяснения, что не беру взяток, вина не пью, женский пол не обижаю. Вот почему с того далекого времени я предпочитаю расследовать убийство, ограбление, хищение, чем связываться с этой пишущей братией, скрывающейся под личиной добропорядочности.
— Но каков же финал? — заинтересовался Вершинин.
— Самый банальный. Вину его доказать не удалось, хотя было ясно как дважды два, что писал он. Мой совет — бросай это дело ко всем чертям. Мне тогда деваться было некуда, а тут, насколько я понимаю, речь идет о твоей личной инициативе?
— Шеф не в курсе, — подтвердил Вершинин.
— Вот видишь. Боюсь, что шеф тебя не поддержит, впрочем, попробуй рискнуть, поговорить с ним, убедить, ведь речь идет о крупном руководителе.
Расстроенный и вновь одолеваемый сомнениями, Вячеслав пошел к себе. На письменном столе в глаза ему бросился большого формата конверт без марки. Четкими, округлыми буквами на нем было написано:
«Старшему следователю прокуратуры В. В. Вершинину».
Фамилия адресата отсутствовала. Он повертел письмо в руках, понюхал. Пришел к выводу, что писала женщина — только им свойственна такая мягкость и округлость линий. Аккуратно разрезал конверт ножницами и вынул оттуда лист белой бумаги и свернутую в несколько раз потрепанную газету. Первым оказалось заявление Кулешова. Оно было написано коряво и неуверенно. Вершинин понял, что врачи по-прежнему не разрешают Игорю Арсентьевичу вставать. Бегло прочитал заявление.
«Старшему следователю областной прокуратуры В. В. Вершинину, — писал Кулешов. — На протяжении нескольких лет неизвестные мне лица систематически клевещут на меня, направляя заведомо ложные, порочащие меня жалобы в различные вышестоящие организации. Они сознательно подрывают мой авторитет как руководителя, чем дезорганизуют работу завода. Прошу Вас принять мое заявление, найти преступников и привлечь их к судебной ответственности. Директор завода Кулешов».
Вячеслав раздраженно повертел в руках бумагу.
«Ничего себе найти, привлечь, — подумал он, — а сам даже не пишет, кого подозревает. Зачем так деликатничать?»
Потом отложил письмо в сторону и осторожно развернул истершуюся на сгибах газету. На четвертой странице сразу наткнулся на фельетон во весь подвал с ироническим названием: «Криминалист с сельмаша». Вершинин позвонил секретарю.
— Валюша, — спросил он, — кто мне на стол письмецо подбросил?
— Я принесла. Просила передать вам его интересная дама лет сорока. Шубка у нее — мечта. Я думала, вы сегодня не появитесь, а завтра меня не будет, вот и открыла ваш кабинет.
— Правильно сделала, Валюша. Теперь у меня есть что почитать на сон грядущий.
Подвинув ближе настольную лампу, он расправил поудобней газету и снова ухмыльнулся над забавным названием. Затем углубился в чтение.
«Человечеству известно немало случаев раскрытия кошмарных преступлений дедуктивным методом, — писал автор, некто Балалайкин. — В первую очередь этим славился небезызвестный английский сыщик, достопочтенный Шерлок Холмс. Решая сложную задачу, он запасался табачным зельем, набивал трубку, втискивал длинное нескладное тело в глубокое кресло так, что сбоку виднелась лишь верхушка цилиндра, и думал. Причудливое порхание пламени по смолистым поленьям, уложенным с английской педантичностью в бархатисто-черном зеве камина помогало ему с математической точностью воссоздавать в уме подлинную картину преступления. Он раскрывал самые запутанные дела, хотя был далек от методов современной криминалистики. Такое под силу только гениям, и не зря в туманном Лондоне стоит ему вечный памятник. И в наше время лавры известного сыщика не дают многим спокойно жить на свете.
— А почему, — вопрошают они себя, — какой-то там герой-одиночка мог раскрывать любые преступления, а мы — нет? Овладеть дедуктивным методом — раз плюнуть.
И что вы думаете, читатель, овладевают, да еще как.
Вот, например, Игорь Арсентьевич Кулешов специального юридического образования не имеет, криминалистическую науку познавал, листая после трудов праведных затрепанные страницы «Зарубежного детектива». Однажды после чтения в голове у него отчаянно засвербило.
«Подумать только, — восхищался он героем очередного детектива, — ни свидетелей, ни следов на месте преступления, а Майкл Девидсон раз — два и готово. Преступник выставлен на всеобщее обозрение. Тут тебе слава, тут тебе деньги. А чем, спрашивается, я хуже? Образование, правда, чисто техническое, но зато логическое мышление развито хоть куда, получше чем у самого знаменитого сыщика».
Игорь Арсентьевич с удовлетворением вспомнил, как около сорока лет назад без труда находил заветную банку клубничного варенья, которую прятала от него любвеобильная бабушка, опасаясь за состояние зубов внука. Однако затем он подумал, что в жизни ему может вообще не представиться случай проявить дремлющие способности, и настроение испортилось. Помимо воли из груди вырвался низкий стон. За стеной, потревоженные необычным звуком, забеспокоились домочадцы. Сетуя на судьбу, Игорь Арсентьевич бережно спрятал под подушку интересную книгу.
Однако жизнь рассудила иначе… Все началось с вызова в объединение… Здесь мы немного отвлечемся, читатель, и познакомим вас с нашим героем поближе. Игорь Арсентьевич Кулешов — человек сугубо прозаической профессии. Он директор завода, выпускающего сельскохозяйственные машины. В анамнезе у него стабильная склонность к точным наукам. Других он не признавал и не признает, а гуманитарные считает не просто бесполезными, а даже вредными. Вот почему заводской юрист использовался им в качестве массовика-затейника, состоящего на балансе завода пансионата на двести мест.
В объединение директор прибыл в приподнятом настроении, полагая, что там желают поближе ознакомиться с передовым опытом производства картофелесажалок. Повышенное внимание к своей персоне Кулешов заметил еще в проходной. Обычно приветливая с давним знакомым коренастая вахтерша тетя Даша поздоровалась без обычной приветливости и посмотрела с укоризной. Игорь Арсентьевич отнес ее поведение на счет семейных неурядиц. Насторожился он на лестничной клетке, когда увидел двух молоденьких секретарш, которых прежде всегда одаривал шоколадками. Он и сейчас хотел вручить презент, но те бросили на него из-под серебристо-голубых ресниц взгляд, полный восторженного страха, и упорхнули в разные стороны. Кулешов незаметно оглядел себя в большущее старинное зеркало. Оно отразило импозантного седеющего мужчину средних лет без заметных изъянов. Костюм цвета дамасской стали в елочку сидел, как влитой. Он немного успокоился и пошел к начальнику. Обитавшая с незапамятных времен в приемной генерального директора пожилая секретарша, или, как она называлась по штатному расписанию, — референт, при виде вошедшего обиженно поджала тонкие губы и холодно кивнула. Игорь Арсентьевич тотчас погасил обворожительную улыбку и уселся как бедный родственник, на крайнем стуле. Он уже понял, что его ждет неприятность, но еще не мог догадаться, какая.
— Заходите, вас ждут, — сухо сказала секретарша, когда из кабинета директора вышел очередной посетитель.
Генеральный директор встретил его хотя и приветливо, но несколько отчужденно. После пары незначительных фраз он достал из папки с золотым тиснением лист бумаги и, держа его за уголок, передал Кулешову, а сам с подчеркнутым вниманием углубился в изучение сводок. Кулешов взглянул на бумагу и оторопел. Вверху заглавными буквами было напечатано: «Кто такой И. А. Кулешов?» А дальше, также в машинописном исполнении, давался развернутый ответ на этот недвусмысленный вопрос. Автор доверительно сообщал о недостатках своего героя: он де зажимщик критики, нарушитель трудового и финансового законодательства, окружил себя любимчиками, а в довершение ко всему часть рабочего времени проводит в пирах с прекрасным полом. Чтобы не выглядеть голословным, автор сослался на случай, когда после очередного возлияния Игорь Арсентьевич всю ночь почивал, уронив буйную голову в блюдо с винегретом. Подписано письмо было скромно: «искренне болеющий за интересы производства».
Мы воздержимся от описаний дальнейшей беседы двух коллег и вернемся к началу нашего фельетона. Кипя благородным негодованием, Кулешов не стал опровергать письмо по существу, а вспомнил о дремлющих в нем задатках криминалиста и решил собственными силами разыскать «искренне болеющего». Собрав в своем кабинете сотрудников всех отделов, он сообщил им о поступившем послании и стал пронзительным взглядом всматриваться в их лица. Однако заметив, что они смущенно отводят взгляд, Игорь Арсентьевич решил применить знаменитый дедуктивный метод.
— Кому известны сведения о распределении последних премий, приказ о которых еще не вывешен? — многозначительно вопрошал он. — Отделу главного механика?
— Нет, — неуверенно отозвались в углу кабинета.
Побледневший как полотно главный механик судорожно всхлипнул.
— Конструкторскому бюро?
— Нет, — уже более дружно откликнулись многие.
Главный конструктор шумно перевел дыхание и стер платком пот с высокого лба.
— Плановому отделу?
— Нет. Конечно, нет, — уверенно забасили многие.
Методом исключения отвергли еще нескольких. Наконец в кабинете повисла гнетущая тишина. Взгляды обратились к единственному из неназванных — главному бухгалтеру. Стареющий сухонький человек, вжавшись в кресло, нервно теребил сатиновые нарукавники.
— Как же это так? Что же это такое? — тихо шептал он, умоляюще поглядывая на присутствующих, а затем вскочил и выбежал прочь.
— Что и требовалось доказать, — мрачно завершил один из присутствующих.
Все радостно задвигались, заскрипели стульями.
Итак, первое дело новоявленного криминалиста завершилось полным и безоговорочным успехом. А старичок бухгалтер? Он возражает. Правда, не в полную силу, ибо с сильнейшим нервным расстройством уже несколько недель находится в больнице. Однако это, по мнению Игоря Арсентьевича, чепуха — неизбежные издержки большого дела. Мы от души поздравляем его с крупным успехом на новом поприще».
И так далее.
Дочитав фельетон, Вершинин поморщился, потом свернул газету и положил ее вместе с заявлением Кулешова в чистую папку.
РЕШЕНИЕ АВЕРКИНА

Прокурор области Николай Николаевич Аверкин словно нехотя перелистывал страницы лежащего перед ним уголовного дела. Его пальцы лишь на минуту задерживались на отдельных страницах. Однако кажущаяся рассеянность ни на минуту не обманывала ни Вершинина, ни сидящего рядом начальника следственного отдела Бакулева, настороженно наблюдавших за реакцией шефа. Они прекрасно знали, что за видимым безразличием Аверкина скрывается острое внимание и необъяснимая способность улавливать именно те недостатки, о которых хотелось бы умолчать.
Вершинин и Бакулев напряженно молчали, и тишина прерывалась только тяжелым, с одышкой, дыханием прокурора и мягким шелестом перелистываемых страниц. Наконец он закрыл дело, потом, словно умываясь, провел рукой по широкому лицу и усмехнулся, заметив напряженное состояние своих подчиненных. Они перевели дыхание. Затем Аверкин неожиданно вновь раскрыл дело и принялся перечитывать какие-то страницы. Чуть подавшись в его сторону, Вершинин заметил, что того заинтересовали показания матери Шестакова.
— Выходит, мамаша навела на верный след, — заметил прокурор, прочитав протокол до конца.
— Возможно и так, Николай Николаевич, — отозвался Вершинин. — Версия об убийстве Шестакова Глуховым сейчас тщательно проверяется.
— И, как вижу, без заметных успехов.
— Верно. Главная трудность — найти Глухова, а он как в воду канул. По обеим линиям: следственной и розыскной приняты все возможные меры, но пока безуспешно. Однако я уверен, что в ближайшее время мы найдем его.
— Я тоже так думаю, — вмешался в разговор Бакулев, привычным жестом прижав дужку круглых очков к переносице. — Куда ему спрятаться? Отсиживается, наверно, у кого-нибудь из родственников или приятелей.
— Не вижу оснований для оптимизма. Все возможные места проверены, но безуспешно, — сказал Аверкин, недовольно посмотрев на Бакулева. Он не любил беспочвенных заявлений.
Бакулев моментально вскочил с места и приготовился отстаивать свою точку зрения. Однако Аверкин небрежно махнул рукой, и тот медленно опустился на стул. Бакулев, работавший прежде районным прокурором, был недавно назначен начальником следственного отдела и, как все работники районного звена, близко не соприкасавшиеся с прокурором области, испытывал в его присутствии излишнюю робость.
— Родственники, включая живущих за пределами нашей области, действительно все проверены, — стал горячо доказывать он, — но ведь и кроме этого мест, где можно отсидеться, предостаточно. Парень он ходовой, возможно, живет у кого-нибудь из дружков. Вот почему и мы, и уголовный розыск сконцентрировали все внимание на связях Глухова, а они у него обширные. Однако в ближайшее время мы обнаружим его, и тогда преступление можно будет практически считать раскрытым.
— Тэк-с, товарищи, тэк-с. Насколько я вас понимаю, все ваше внимание сконцентрировано на Глухове как на наиболее вероятном участнике убийства и скорее всего даже как на непосредственном убийце? — заключил Аверкин, снова перечитывая показания матери Шестакова.
Вершинин и Бакулев переглянулись. В словах прокурора области сквозил едва прикрытый скептицизм.
— Имеются все основания так считать, — уже без особой уверенности ответил Вершинин. — Показания Шестаковой объективно подтверждаются исчезновением Глухова. К чему ему скрываться, если он не чувствует за собой вины?
— Вина вине рознь. Трудно сказать, чего он боится. Повод для убийства, который вы называете, слишком несерьезен, а потом прошу обратить внимание на время исчезновения Глухова. Он скрылся спустя несколько дней после убийства, почти через неделю. Почему? Глухов должен был ожидать задержания на другой день, а он столько времени медлил, раздумывал. О чем он раздумывал?
Вершинин в душе был полностью согласен с Аверкиным, ибо такие же сомнения мучали и его. Он не стал их высказывать вслух, так как они работали против единственной мало-мальски правдоподобной версии.
— Безусловно, — продолжал Аверкин, — у Глухова имеются серьезные основания скрываться, но вот насколько они важны для нас и насколько они связанны с убийством Шестакова, трудно сказать. Пока, правда, у нас это единственная ниточка, и кто его знает, оборвется она или поможет распутать клубок. А ниточка тоненькая, как паутинка. Вообще-то, честно говоря, в последнее время вас трудно узнать, Вячеслав Владимирович, — закончил он.
Услышав конец фразы, Вершинин с удивлением посмотрел на прокурора.
— В расследовании не чувствуется устремленности, инициативы, а со стороны следственного отдела — постоянного контроля, — продолжал развивать свою мысль тот. — У меня в памяти свежи многие ваши прежние дела: убийство десятилетней давности, ограбление и изнасилование учительницы. Вот это было следствие. Классические примеры, а тут… — взглядом он остановил пытавшегося возразить Вершинина. — По этому делу вы работаете без огонька, и я, кажется, понял почему. Хотите знать? Все упирается в объект преступления. Вы небрежно относитесь к личности убитого, она вам малосимпатична. Согласен, Шестаков или как там его?
— Ханыга, — подсказал Бакулев.
— Вот именно Ханыга. Тип он, действительно, малосимпатичный, но это не основание, чтобы работать спустя рукава. Человек есть человек, и разве позволено просто так, за здорово живешь, отнимать у него жизнь. А нам тем более опасно поддаваться излишним эмоциям. Вспомните его мамашу, ее горе. Подумайте о том, что убийца может быть матерым преступником или, наоборот, совершил преступление впервые и безнаказанность окрылит его, толкнет на продолжение подобных подвигов. Уж извольте расследовать как положено. А вы, товарищ Бакулев, лично изучите дело и разработайте вместе с Вершининым подробный план следствия. Доложить мне через три дня!
— Слушаюсь! — по военному отчеканил Бакулев.
В кабинете тонко загудел зуммер. Аверкин нажал одну из кнопок селектора.
— Николай Николаевич! В двенадцать бюро обкома, — заполнил кабинет голос секретаря.
— Спасибо, Валя. Я помню.
Аверкин тяжело встал и передал Вершинину папку с материалами.
— У меня имеются кое-какие соображения в отношении Вершинина, — сказал Бакулев, аккуратно поставив на место свой стул.
— Какие еще соображения?
— Включить его в бригаду Салганника. Григорий Михайлович с вами уже говорил. Объем «рыбного» дела большой, поэтому мы решили создать бригаду следователей. Вот проект приказа, — он достал из тонкой папки листок бумаги и передал прокурору.
— Бригада, значит, — тот мельком взглянул на текст. — Дело у Салганника действительно сложное.
Затем Аверкин внимательно прочитал переданный ему на подпись приказ.
— Действительно, Вершинин, нагрузка у вас маловата, — сказал он, — но как тогда с делом Шестакова. Будет лежать без движения?
— Почему? Мы передадим его Семенову, — сказал Бакулев.
— Третьему следователю меньше чем за месяц? Как же! Раскроете вы тогда убийство.
— Может быть, оставить его за Вершининым? Пусть он занимается параллельно.
— Разве это выход? «Рыбное» дело связано с выездами за пределы области, а по убийству надо работать систематически, — Аверкин задумчиво повертел бумагу в руках.
Вершинин и Бакулев молчали, ожидая решения. Вершинин с сожалением подумал, что если шеф включит его в состав бригады, прощай тогда дело по сельмашу, на расследование которого он уже внутренне настроился.
— Кстати, Вершинин, — неожиданно сказал прокурор, — я слышал, вы проявляете повышенный интерес к заводу сельхозмашин.
Вячеслав вздрогнул и с таким изумлением посмотрел на Аверкина, что тот едва сдержал улыбку.
«Ну и служба информации, — пронеслось в голове. — Уже доложили. Эдак Николай Николаевич скоро станет знать мои мысли. Но кто? Кто сказал? Знают Стрельников и Салганник, но Стрельников сюда не вхож, а Салганник вряд ли передаст. Кто же? Кто сообщил?»
Аверкин, ожидая ответа, сопя натягивал пальто. Натянул с трудом и уселся одетым в кресло.
— Проявляю, — хмуро ответил Вячеслав и замолчал, так как этот разговор он хотел провести наедине с прокурором области.
— Может, удостоите чести поделиться, почему?
— Длинная история, Николай Николаевич, а вы спешите на бюро.
— Давайте, давайте, — посмотрел тот на настольные часы, — у меня еще двадцать пять минут. Послушаю, тем более, что там, куда я иду, меня могут спросить.
Вершинина как обухом по голове стукнули. Внезапная догадка осенила его: «Ну конечно же — Лубенчиков. Его работа. Я сунул нос в его дела, а он скорее по своим каналам. Теперь получилась серьезная закавыка, кажется, и шеф не в восторге от моей инициативы».
В нем начало подниматься глухое раздражение. Едва сдерживая его, он сказал:
— Я действительно проявляю интерес к заводу и имею все основания так поступать.
— Здорово! — удивился Аверкин. — И какие же, поделитесь пожалуйста? Или это секрет?
— Какой теперь секрет. Вы знакомы с директором завода Кулешовым?
— С Игорем Арсеньевичем? Знаком, давно знаком. Дельный руководитель, но, кажется, с излишним самомнением.
— Возможно, но я сейчас говорю не о личных его качествах, а об обстановке, сложившейся на заводе.
— Что же там за обстановка?
— Завод на протяжении почти двух лет не выполняет план, коллектив лихорадит.
— Допустим, — уже с большим вниманием заметил Аверкин. — Краем уха я слышал о положении на заводе, о невыполнении им плана, но какое отношение к нему имеете вы? Есть вышестоящие организации, пусть и выясняют причины.
— Весь вопрос в том, какие это причины, вернее, главные из них, а они, на мой взгляд, таковы, что требуют нашего вмешательства. Вышестоящим организациям разобраться в них тяжеловато. Нужен специалист нашего профиля.
Вячеслав с вызовом поглядел на прокурора, готовясь выслушать новые возражения, однако тот молчал. Он явно ждал дальнейших объяснений.
— На Кулешова в последние годы сыпятся анонимные жалобы клеветнического характера. Игоря Арсеньевича в них обливают грязью, оскорбляют, пишут явную ложь. Все жалобы проверяются многочисленными комиссиями. Сигналы не подтверждаются, следует новая жалоба, приезжает новая комиссия, все начинается сначала. Таким образом, создается нервозная, тяжелая обстановка — директор и управленческий аппарат отвлекаются от работы, что приводит к постоянным срывам выполнения плана. Это достойно нашего внимания. Тут затронуты интересы не только Кулешова.
Аверкин с интересом посмотрел на Вершинина, помолчал, явно раздумывая над чем-то, а потом спросил:
— Значит, вы поставили перед собой цель разыскать лиц, пишущих анонимные письма?
Вершинин кивнул.
— Хорошо, Вы их найдете. Дальше?
— Если они окажутся клеветниками, вытащим их на белый свет, покажем окружающим. Судя по характеру анонимок, о которых мне рассказал сам директор, скорее всего они написаны людьми озлобленными, нечистоплотными, возможно, желающими отвлечь внимание от своих темных делишек.
— И все? Установим, покажем, а дальше?
— Дальше сами обстоятельства подскажут, как нам поступить — главное найти.
— Стоит ли заниматься старшему следователю такой мелочью, — вмешался внимательно прислушивающийся к разговору Бакулев. — Тем более что тут требуется заявление потерпевшего, а такая фигура, как Кулешов, вряд ли захочет связываться с судом и следствием.
— Ошибаетесь, — возразил Вершинин. — Именно с такой просьбой и обратился ко мне Кулешов, причем сначала устно, а потом оформил ее письменно.
— У вас есть его собственноручное заявление? — удивился Бакулев.
— Заявление лежит в моем кабинете, но я бы настаивал на своем мнении, даже при его отсутствии. Клевета-то здесь затрагивает интересы не только Кулешова, но и государственные интересы, и мы можем вмешаться без всякого заявления. Здесь именно такой случай.
— Смотрите-ка, Кулешов обратился к нам с официальным заявлением, — удивился Аверкин, пропустив мимо ушей последние слова Вершинина. — Серьезное решение для руководителя.
— Он попросил меня через жену навестить его в больнице и рассказал всю историю об анонимках, а потом прислал официальное заявление.
— Что с ним случилось?
— Инфаркт миокарда. Второй за последний год.
Вячеслав замолчал и внимательно взглянул в лицо прокурора, пытаясь уловить одобрение или осуждение. Молчание затянулось. Бакулев заметно нервничал, боясь, что сорвутся его планы в отношении Вершинина. Наконец Аверкин стряхнул с себя оцепенение.
— Помню, приятель был у меня — фронтовик, ногу на фронте потерял, — начал он, словно разговаривая сам с собой, — чудесной души человек, но вот поди ж ты — писать на него стали. Сначала писали, будто он на двух ногах, а документы подделал и получает большую пенсию. Пришлось ему костылять по начальству; показывать культю. Потом стали писать, что ногу он потерял по пьяному делу — попал под трамвай, проверяли — оказалось самое настоящее фронтовое ранение. Друг мой возмущался до глубины души, но в суд не обратился — махнул рукой. А Кулешов пошел по другому пути. Это, конечно, его право. Пишет, хоть кто у них склонность имеет к сочинительству?
— Умалчивает. Говорит — один раз ошибся, теперь боюсь. Пусть, мол, следствие объективно разберется.
— Ладно, молодые люди, поговорим позже, — сказал Аверкин и, надев шапку, направился к выходу.
— Николай Николаевич, а приказ как? — растерялся Бакулев. — Как решать с Вершининым?
— Оставьте, пусть полежит у меня до вечера.
— Зря ты вылез со своим директором, — буркнул Бакулев, выходя из кабинета вслед за прокурором. — Моли бога, чтобы твоя затея лопнула, а то сам первый и наплачешься.
— Странное дело, — засмеялся Вершинин. — Меня все стращают, как маленького, а что здесь страшного? Найти анонимщика, я найду, доказать его вину, понимаю, будет трудновато, но это интересно, и польза в случае успеха огромная.
Бакулев недовольно фыркнул:
— Ну тебя, Дон Кихот. Куда интересней и пользы побольше расследовать хозяйственное дело, да еще в бригаде Салганника. Весь белый свет объездишь.
Вершинин по пути заглянул к Салганнику. Бумаг у того прибавилось втрое. Везде, где только хватало глаз, лежали книги нарядов, квитанций и накладных. В кабинете, кроме запаренного Гриши, корпели над документами два пожилых ревизора.
— Привет начальству, — заорал Гриша. — Союз на вечные времена?
— Погоди с союзом. Думаешь, сварганили с Бакулевым приказ без моего согласия, и все? Шеф сам решит.
Салганник прыснул:
— Обижаешься, Славка, а напрасно. Ты пойми — ну кого еще из ребят я могу попросить. Фокина? Он молод для таких дел. Карташова? Митька по сей день в командировке. Остаешься ты — гроза расхитителей и… анонимщиков.
— Хватит тебе рассказывать сказки.
Гриша сразу посерьезнел:
— Давай, Слава, без шуток. Ты мне очень нужен.
— Я всем нужен, я такой, — гордо надул щеки Вершинин и выскочил от Салганника, оставив того в неведении.
«Действительно, я здорово отвлекаюсь от убийства Шестакова, — рассуждал Вершинин, зайдя к себе в кабинет. — Шеф тысячу раз прав, упрекая меня, какая-то несобранность напала, рассеянность. Сам себя не узнаю. Да и Кулешов со своим заявлением мешает сосредоточиться».
Он уселся поплотней, открыл материалы дела и стал намечать первоочередные вопросы для проверки. Их оказалось много. Часа через полтора к нему в кабинет вошла секретарь следственного отдела и положила на стол заключение криминалистического эксперта по идентификации найденного на вокзале клочка удостоверения. В распоряжение экспертов Вершинин еще раньше предоставил образцы всех служебных удостоверений, используемых на фабриках и заводах города, которые собрал ему дотошный инспектор уголовного розыска Пантелеев. Эксперты в своем заключении утверждали, что служебные удостоверения, аналогичные тому, кусок которого был обнаружен на перроне вокзала, употребляются на компрессорном заводе и заводе сельскохозяйственных машин.
«Это вносит дополнительные коррективы в мой план, — подумал Вячеслав, — и работенка предстоит большая. Надо поручить уголовному розыску установить всех уволившихся за последний год с этих заводов и не сдавших удостоверений или утерявших их. Возраст взять, наверно, лет до тридцати, ибо речь шла о молодых ребятах».
Вершинин сильно сжал пальцами виски.
«И все-таки не слишком ли часто попадается мне на пути этот завод сельхозмашин?» — с усмешкой спросил он себя.
Вечером от работы его оторвал звонок телефона прямой связи с Аверкиным.
— Не раздумал, Вячеслав Владимирович? — без предисловий спросил тот.
— Нет, не раздумал, — тотчас отозвался Вершинин.
— Хорошо, я согласен. Возбуждай дело, но советую одно — быть крайне осмотрительным. Вопрос тонкий, щепетильный. Тщательно продумывай каждое свое действие, каждое слово. С чего думаешь начать?
Вершинин секунду помедлил и ответил:
— Прошу командировку в объединение. Я начну сизъятия анонимных писем и ознакомления с материалами ведомственных проверок.
— Добро. Заходи, я подпишу командировку. Еще одно условие: дело об убийстве Шестакова не откладывай в долгий ящик, это преступление должно быть раскрыто в ближайшее время.
— Постараюсь, Николай Николаевич, приложу все силы. Вот только что продумал еще раз работу по всем версиям. Кое-что есть.
Аверкин отключился. Вершинин порылся на книжных полках, надеясь отыскать хоть какую литературу об анонимщиках, но не нашел и стал сам продумывать, с чего ему лучше начать.
В ОБЪЕДИНЕНИИ

Нащупав на рукоятке кресла пластмассовую кнопку, Вершинин нажал на нее и оказался в полулежачем положении. Он расслабился, вытянувшись на своем ложе. Вагон электрички мерно покачивался на мягких рессорах. Занавески на окнах были плотно зашторены, но через их тонкую ткань набегали и исчезали огни надвигающихся и уходящих станций. Тихо гудели лампы дневного освещения, отбрасывающие зеленоватый, мертвенный свет.
В поездах Вячеслав обычно спал плохо и завидовал тем, кто мог спать в любой обстановке. Как-то раз даже обратился к знакомому врачу с просьбой помочь ему — ведь времени в дороге приходилось проводить много, однако тот уклонился от совета, шутливо заметив, что в детстве родители, вероятно, не укачивали его и потому теперь приходится расплачиваться бессонницей.
Сейчас Вершинин закрыл глаза и пытался вздремнуть, однако убедившись, что это пустой номер, уткнулся носом в мягкую, рубчатую ткань висевшего на крючке пальто и вернулся к прежним мыслям: «Что же впереди? Что если Гриша Салганник прав? Может, зря отказался от заманчивого предложения? Все равно, пусть».
Сейчас, когда все решилось окончательно и бесповоротно, он признался себе, что, обратись к нему прежде кто-нибудь с подобным заявлением, отказался бы помогать. Однако, зная Кулешова и увидев, во что тот превратился за последние годы, не смог отказать. Только теперь Вершинин стал полностью осознавать всю опасность подобных клеветников.
«Как все легко сходит им с рук, — мысленно возмущался он, — из-за такой безнаказанности они расплодятся, как тараканы. Еще бы! Любой озлобленный неудачник, завистливый карьерист может избрать этот способ, чтобы потешить свою злобу или самолюбие».
Однако выработавшаяся с годами привычка анализировать факты погасила временную запальчивость.
«Стоп, Вершинин, — сказал он себе. — А если человек прав, его действительно волнуют интересы производства, ему хочется устранить недостатки, но он боится мести со стороны Кулешова? Вполне может быть, а я его заранее костерю по-всякому, взвинчиваю себя только потому, что знаком с директором завода и тот произвел на меня благоприятное впечатление. Но ведь, чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть, а у нас с ним — почти шапочное знакомство. Если же верить фельетону, то Кулешов выглядит далеко не с лучшей стороны. «Криминалист с сельмаша!»
Вершинин хмыкнул про себя, вообразив Кулешова в черном фраке, блестящем цилиндре и с трубкой в виде головы Мефистофеля в зубах.
Электричка мягко остановилась.
— …не забудьте свои вещи, — услышал Вячеслав конец объявления по радио.
Он быстро собрался и вышел. В справочном бюро узнал адрес объединения, выяснил, как побыстрей доехать, и вскоре без труда отыскал нужное ему учреждение. Дорогу ему преградила полная, приземистая женщина лет пятидесяти и грубовато потребовала пропуск. Вершинин показал красную книжку с выбитыми на ней золотым тиснением словами: «Прокуратура Союза ССР». По опыту он знал, какое впечатление производит его документ. Сейчас получилось, как и всегда. Увидев надпись на удостоверении, женщина даже не посмела взять его, а только молча посторонилась и проводила посетителя боязливым взглядом. Едва же он скрылся с глаз, она лихорадочно стала звонить в приемную директора, чтобы сообщить о визитере.
В приемной генерального директора, к которому Вячеслав зашел прежде всего, восседала девчушка, словно сошедшая с картинки последнего журнала мод. Она была настолько хороша и свежа, что трудно было оторвать взгляд. Девушку не портили даже слишком разрисованные глаза — дань современной моде. Искорка удовольствия мелькнула в ее черных, миндалевидных глазах, когда она увидела, что произвела впечатление на молодого человека. В приемной такие появлялись редко, а над пожилыми сотрудниками, пытавшимися оказать ей знаки внимания, она обычно безжалостно подшучивала.
Улыбнувшись, Вершинин представился и попросил доложить о себе. Она поднялась и скрылась в широком тамбуре.
Тут же выйдя из кабинета директора, секретарша бросила на Вершинина многообещающий взгляд и, сделав почти книксен, предложила ему войти. Он вошел, плотно закрыв за собой створки двери.
Коренастый мужчина лет пятидесяти с крупным хрящеватым носом и маленькими темными глазками, глубоко сидящими под выступающими надбровными дугами, резко поднялся навстречу.
— Мартьянов, — бросил он коротко, жестом предлагая посетителю сесть.
— Я к вам по делу Игоря Арсентьевича Кулешова, директора завода сельскохозяйственных машин, — нажимая на первую часть вступления, — сказал он.
Ни один мускул не дрогнул в лице Мартьянова. Вершинин не заметил и тени удивления у собеседника, хотя можно было уверенно сказать, что не каждый день его посещает следователь, да еще в отношении работника такой номенклатуры, как Кулешов.
— Разве существует такое дело? — спокойно спросил он. — Я впервые о нем слышу.
— Да, оно существует и возбуждено прокуратурой по заявлению самого Кулешова, который, как вам должно быть известно, находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
Мартьянов понимающе кивнул.
— Игорь Арсентьевич, — продолжал Вершинин, — просил нас разобраться в нашумевшей истории с анонимными письмами, утверждая, что в них клевета. Он ставит свое заболевание, а также положение на заводе в прямую зависимость от этих писем и просит разыскать авторов. Мы пошли ему навстречу. Прокурор области поручил расследование мне. Вот я и приехал к вам ознакомиться с анонимными письмами, а заодно и с материалами проверок, которые проводились в основном работниками объединения.
Прикрыв глаза ладонью, Мартьянов медленными, кругообразными движениями массировал виски.
Вершинин сказал все и теперь с любопытством ожидал, что ответит собеседник. Однако тот медлил с ответом. Наконец он словно стряхнул оцепенение.
— Как чувствует себя… Игорь?
В необычном для служебных отношений обращении, в напряженной паузе перед словом «Игорь» лучше всего проявилось отношение Мартьянова к Кулешову. Так говорить мог только дружески расположенный человек. И все же Вячеслав с недоверием посмотрел на руководителя объединения, ибо помнил, с каким ожесточением говорил больной о сотрудниках этого учреждения.
— Плохо, исключительно плохо, — подчеркнуто официально ответил он. — Врачи делают малоутешительные прогнозы.
— Очень жаль, — опечалился Мартьянов. — Какой организатор был. И человек превосходный. Мы с ним месяца три вместе за границей работали, бок о бок жили.
«Превосходный, великолепный, — горько усмехнулся про себя Вершинин. — Что же ты тогда отдал его на откуп, если он такой превосходный и великолепный».
Тот, казалось, прочел эти мысли и отвел взгляд.
— Где хранятся интересующие меня материалы? — спросил Вершинин и встал, подчеркнув этим, что ему не до воспоминаний.
— Одну минуту, — Мартьянов включил переговорное устройство и вызвал какого-то Комлева. — Начальник отдела кадров, — пояснил он. — Все материалы у него, да и сам он был в группах проверяющих. Ответит на любой вопрос.
Несмотря на преклонный возраст, начальник отдела кадров появился быстро, словно находился в приемной. Вытирая рукой пот со странно скошенной назад розовой лысины, он склонился в вежливом полупоклоне. Вершинин обратил внимание, что директор поздоровался с ним только сухим кивком головы.
— Старший следователь областной прокуратуры, — грубовато сказал Мартьянов, представляя Вершинина. — Познакомь его со всеми материалами проверок по заводу Кулешова.
В глазах Комлева метнулось беспокойство, пальцы его, лежавшие на спинке стула, судорожно вцепились в цветную обивку.
— Принести сюда, Андрей Фомич, или товарищ со мной пойдет? — спросил он.
Мартьянов покосился на Вершинина.
— Я пойду с товарищем Комлевым, — поднялся Вячеслав. — На месте оно видней.
— Пожалуйста… — Мартьянов задержал его руку в своей. — Надеюсь, вы еще заглянете. Мне, как руководителю, хотелось бы услышать ваше мнение.
— Если возникнет необходимость, — пожал плечами Вершинин, догадываясь, куда клонит генеральный директор.
Однако преждевременно высказывать свое мнение Вячеслав и не собирался. Впереди предстояло много работы.
Они пришли к Комлеву в маленький темный кабинет.
— Сами будете смотреть или помощь моя нужна товарищ… э… э… — промямлил Комлев, доставая из сейфа личное дело Кулешова и еще какую-то толстую, разлохмаченную папку листов на триста.
— Вершинин, — прервал его эканье Вячеслав, — Вершинин Вячеслав Владимирович. Материалы пока я посмотрю сам, а если понадобится — прибегну и к вашей помощи.
Начальник отдела кадров осторожно выскользнул из кабинета.
Вершинин вдруг пожалел, что выпустил его. Начальник отдела кадров насторожил его с первого взгляда своим внешним подобострастием. Вячеслав чувствовал, что за ним скрывается какое-то другое, еще более отрицательное качество.
«Ошибку допустил, — терзался теперь Вершинин. — Надо было оставить его под любым благовидным предлогом здесь. А вообще-то интересно бы узнать, к кому он сейчас направился, кому первому он расскажет о моем визите».
Решив, что сделанного не вернешь, Вячеслав удобно устроился за столом и начал изучать материалы.
Они открывались отпечатанным на машинке письмом из двух листов. Оно адресовалось в главк и, судя по штемпелю на конверте, было опущено в местном почтовом отделении.
«Кто такой Кулешов И. А.?» — гласило заглавие письма. Дальше безымянный автор писал:
«Вот уже десять лет заводом руководит И. А. Кулешов. Он на хорошем счету у начальства. Всех устраивает, что план выполняется и завод занимает второе место в отрасли. На самом деле это сплошная показуха. Пользуясь связями с начальством, которые Кулешов создает с помощью коньяка, организации отдыха нужных людей и их семейств в пансионате завода, он добивается занижения плановых заданий, допускает приписки, отчитывается фиктивными показателями. На заводе каждый месяц происходят несчастные случаи с рабочими из-за нарушений правил техники безопасности, однако они в отчетности не указываются. Погиб рабочий Федосов, а кто был наказан? Кулешов всю вину свалил на других. Он окружил себя любимчиками, которым по каждому поводу и без повода раздает премии и квартиры. Так, по итогам последнего полугодия он премировал месячным окладом своего друга и собутыльника — заместителя начальника конструкторского бюро Бродова, который организовывает ему рыбалки, главного энергетика Федорова, который на работе-то бывает не больше часа в день, сборщика девятого цеха Курепина, починившего ему импортный спиннинг. Честных людей он притесняет, выживает с завода. Вынужден был уйти заместитель главного инженера Собачкин. Его съел Кулешов с приятелями. Таких, как Собачкин, ушло много. Хорошие кадры на заводе не задерживаются, потому что они выступают против поведения Кулешова. Он и его любимчики каждую неделю организовывают пьянки и оргии. Последний раз допились до того, что директор заснул, уткнувшись мордой в винегрет, а остальные, в том числе и женщины, валялись вповалку. У Кулешова есть несколько любовниц, одна из них — Ефремова, заместитель начальника планового отдела. Такой человек, как Кулешов, не имеет морального права занимать ответственную должность и руководить людьми. Прошу немедленно принять меры. Искренне болеющий за интересы производства».
Вершинин перевел дух. Профессиональным взглядом он сразу отметил характерные особенности пишущей машинки: слабо выбитая средняя часть буквы «р» и несколько расплывчатое, как бы двойное изображение буквы «к» — маленькой и заглавной. Видимо, расшатался держатель буквы.
«Злое письмо, — подумал он. — Исключительно злое. Чтобы написать такое письмо, надо или действительно по-настоящему болеть за интересы производства, или ненавидеть Кулешова лютой ненавистью».
Уже при первом знакомстве с письмом Вершинин заметил, что автор искажает ряд фактов и, в частности, факт смерти рабочего Федосова. Это было как раз то самое дело, с которого началось его знакомство с Кулешовым.
Следом за письмом был подшит приказ генерального директора объединения о создании специальной бригады для проверки. Руководителем назначили главного инженера объединения Ракова, в состав бригады вошел начальник отдела кадров Комлев и другие специалисты различного профиля, всего девять человек. Все они обладали большим опытом и, судя по собранным материалам, потрудились добросовестно. Не ограничиваясь фактами, указанными в анонимном письме, комиссия проверила всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия за пять лет.
Выводы комиссии показались Вершинину странными. Каждый специалист в отдельности опроверг доводы анонимщика, однако в общем заключении большое внимание уделялось деталям хотя и малозначительным, но бросавшим тень на Кулешова. Серьезных нарушений хозяйственно-финансовой деятельности комиссия не обнаружила. План выполнялся, хотя иногда и с большим трудом. Однажды его даже пришлось корректировать в сторону занижения, и вышестоящая организация согласилась с этим. Такое положение было вызвано недопоставкой дефицитных деталей, что произошло по вине объединения. Комиссия отметила это, но поставила директору в вину отсутствие собственной инициативы, ибо, по ее мнению, имелись и другие пути к ликвидации срыва выполнения плана, в частности получение нужных деталей с предприятий, связанных с заводом сельхозмашин прямыми договорными обязательствами. Утверждения Кулешова о том, что такие попытки предпринимались, комиссия в расчет не приняла.
Технический инспектор, участвовавший в проверке, изучил состояние техники безопасности на заводе. Он установил, что сообщение автора о ежемесячных несчастных случаях не соответствует действительности. Они происходили, но значительно реже. Вершинин, к своему удивлению, нашел в материалах и копию обвинительного заключения, составленную им по делу о смерти рабочего Федосова. Красным карандашом в ней были подчеркнуты строки об отсутствии вины работников завода. Несчастные случаи, о которых сообщал автор письма, никто и не пытался скрывать. Дотошный инспектор все же нашел два несчастных случая, не зарегистрированных как связанные с производством. В первом из них потерпевший оказался на работе пьяным, во-втором — пришел в цех в чужую смену и без разрешения. Несмотря на яростное сопротивление заместителя главного инженера Собачкина, написавшего несколько рапортов, в обоих случаях признавалась совместная вина предприятия и рабочих. Собачкин же, ответственный за соблюдение правил техники безопасности, умудрился не включить их в отчетность. Комиссия поставила это в вину Кулешову, хотя он еще до проверки наказал заместителя главного инженера. Кстати, тот в течение года получил в общей сложности три обоснованных взыскания и уволился по собственному желанию.
Правильность премирования Бродова, Федорова и Курепина также не вызывала сомнений. Курепин, например, выполнил личный план на 127 процентов и только за один год внес три ценных рационализаторских предложения. В заключении констатировалось, что он действительно починил директору спиннинг, но сделал это в нерабочее время, так как сам оказался заядлым спиннингистом и ему доставляло удовольствие повозиться с заграничной конструкцией.
И хотя всякая связь между получением премии и починкой спиннинга отсутствовала, в выводах сквозило осуждение такому поступку, как злоупотребление служебным положением. Особое место заняла проверка сигналов о моральном облике Кулешова. Ее проводил Комлев. Он все проверял скрупулезно. Факты систематических пьянок не подтвердились. Кулешов встречался кое с кем из сослуживцев в свободное время и отмечал с ними ряд торжественных событий. Эти встречи проходили в рамках приличия, и присутствующим не приходилось видеть на физиономии директора остатков свеклы, лука или капусты.
Комлев взял объяснение и у заместителя начальника планового отдела Ефремовой. В резких выражениях она отказалась обсуждать свои отношения с кем бы то ни было и потребовала оставить ее в покое. К этому вопросу проверяющий больше не возвращался.
Результаты проверки комиссия рекомендовала обсудить на коллегии объединения. Стенограмма заседания коллегии была приложена.
Первым делом Вершинин заинтересовался позицией Мартьянова. Отметив кое-какие недостатки в организации производства завода, тот вместе с тем похвалил Кулешова, назвав его отличным организатором. Генеральный директор выступил первым и, таким образом, дал соответствующее направление всему обсуждению. Его поддержали и большинство присутствующих. Решением коллегии анонимное письмо было признано неподтвердившимся.
«Почему он все-таки выступил первым? — подумал Вячеслав, — ведь председательствующий, обычно, делает это в заключение. Видимо, с самого начала ему хотелось пустить обсуждение в нужное русло. Следовательно, были причины опасаться другого. Какие же? Кого или чего он опасался? Необъективности? А может, просто из дружеских соображений решил взять Кулешова под защиту?»
Однако Вершинин тут же усомнился в этом. После знакомства с Мартьяновым у него сложилось мнение, что из дружеских соображений тот не станет скрывать неблаговидных поступков.
Эпопея с первым письмом, хотя и закончилась благополучно для Кулешова, заняла больше двух месяцев.
Прошло четыре месяца. И снова, теперь уж в министерство, поступает почти аналогичная жалоба, отпечатанная на машинке с такими же дефектами. Она носила еще более злобный характер. Исчезла и подпись «искренне болеющий за интересы производства». Зато появилось кое-что новое. Автор обрушился на Мартьянова, утверждая, что тот поддерживает и даже покрывает недостойное поведение Кулешова, так как получает от него дорогие подарки. Они были даже перечислены. Последствия тут же не замедлили сказаться. Теперь проверку проводила совместная комиссия главка и объединения, которую опять почему-то возглавлял Раков. Ее выводы стали более категоричными и определенными, каждый мелкий недостаток преподносился как отрицательный стиль руководства. Существенных нарушений комиссия снова не выявила, но в своем заключении сослалась на безымянного автора письма в качестве доказательства аморального поведения директора. Вскользь были упомянуты и его взаимоотношения с Ефремовой.
Обсуждение на коллегии главка пошло сразу с обвинительным уклоном, и голоса Мартьянова почти не было слышно. Он выступил в конце и дал довольно уклончивую оценку результатам проверки, видимо, опасаясь, как бы не посчитали, что он защищает Кулешова из соображений личного характера.
«Жаль, — подумал Вершинин, — принципиальность генерального директора кончилась, как только он начал бояться за свою репутацию. Именно на такой исход и рассчитывал автор. Именно этого он и достиг».
Затем появилось третье письмо. Изменилась дата, указывались новые факты, но по существу оно оставалось тем же, что и два предыдущих. И опять комиссия, проверка, обсуждение.
Вершинин закрыл последнюю страницу с тяжелым осадком на душе.
«Похоже, Кулешов во многом прав, — подумал он. — Сколько времени, сколько сил отнимают эти никому не нужные проверки одних и тех же фактов. Попробуй поработай в таких условиях».
Дверь в кабинет распахнулась и вошли двое: Комлев и еще один пожилой мужчина. Начальник отдела кадров пропустил его вперед, подобострастно распахнув дверь.
— Товарищ Вершинин, это главный инженер объединения Раков Алексей Михайлович, — пояснил Комлев. — Он возглавлял комиссии по проверке завода и теперь, узнав, что вы здесь, интересуется, какие будут к нему вопросы.
— Ладно, ладно, сам объясню, — прервал его Раков. — Скажешь тоже — интересуется. Я просто в порядке вежливости. Следователи-то к нам не каждый день приезжают, — он пристально уставился на Вершинина.
Раков был ниже среднего роста, с расплывшейся фигурой и одутловатым лицом. Видимо, ему давно перевалило за шестьдесят. Его простецкие слова никак не вязались с настороженным вниманием к следователю.
Вершинину не хотелось обсуждать цель своего приезда сейчас, пока сам еще не разобрался в роли каждого из участников комиссии, а тем более ее председателя, и поэтому он просто уклонился от разговора, изобразив на лице подобие вежливой улыбки. Раков оторопел. Положение его стало щекотливым.
Выручил Комлев.
— Может, вы хотите нам что-нибудь подсказать, Вячеслав Владимирович? — вкрадчиво начал он. — Мне, например, как начальнику отдела кадров, о полноте наших проверок, их качестве. У вас, вероятно, в этих делах глаз наметанный.
— Сейчас мне трудно ответить, — развел руками Вершинин, — я ведь еще не был на заводе, не говорил с людьми.
— Один вопрос, товарищ Вершинин, — пошел напрямую Раков. — Вы намерены перепроверять выводы нашей комиссии?
— Пока не решил, — неопределенно ответил тот, с любопытством ожидая дальнейшего хода собеседника.
Раков помолчал, собираясь с мыслями.
— Кулешов хороший человек, — сказал он после минутного раздумья. — Мы для него сделали все. Разобрались объективно, отмели инсинуации, доложили начальству. Жаль, что он все к сердцу близко принимает — проще надо смотреть на жизнь.
Однако жалости в его словах Вершинин не почувствовал и ему захотелось испортить настроение откровенно недружелюбному Ракову.
— Скажите, товарищ Раков, — спросил он, — вы когда-нибудь интересовались уголовным законодательством дореволюционного времени?
— Помилуй бог, — растерялся главный инженер, — я и современное-то представляю себе весьма отдаленно.
— А жаль, — щелкнул языком Вершинин.
— Почему?
— В уголовном законодательстве того времени существовал такой термин — оставить в подозрении. Это когда виновность человека установить не удавалось, а жизнь хотелось испортить. Похожее произошло и с Кулешовым. Не правда ли?
— Вы… вы… какую аналогию проводите? Вы забываетесь, — побагровел Раков.
— Это я к слову, — вывернулся Вершинин.
Раков повернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
— Я забираю у вас все материалы. Вот вам постановление, — безапелляционно заявил Вершинин Комлеву и спрятал документы в портфель.
Тот коротко кивнул, теребя в руках тесемки от папки.
«Может, зайти к директору», — подумал Вячеслав, выходя от Комлева и уже было направился на третий этаж, но тут вспомнил о поведении Мартьянова на коллегии главка и, резко повернувшись, пошел к выходу.
СНОВА ГАГУЛИН

Вернувшись из поездки, Вершинин первым делом направился к Салганнику. Однако Гриша встретил приятеля мрачно, на вопросы отвечал коротко и односложно. Настроение у него было неважное. Вячеслав пытался растормошить товарища, но безуспешно.
— Оставь меня в покое, Славка, — буркнул тот в конце концов. — Тебе хорошо трепаться, а у меня вот подозреваемый сбежал, и дело теперь застопорилось.
— Как это случилось? По чьей вине?
— Вина общая, в том числе и моя. Работали много, ждали удобного момента, чтобы применить меру пресечения, и вот сорвалось. Обидно.
— Брось горевать, все образуется, — попытался утешить его Вячеслав.
Не реагируя на попытки Вершинина утешить его, Салганник сказал:
— Тебя дважды спрашивала какая-то женщина. Подай ей Вершинина — и точка! По важному делу, говорит. Я ей объяснил, что ты должен вот-вот приехать.
«Скорее всего, мамаша Шестакова приходила оказывать на меня психическое воздействие», — подумал Вершинин и попросил Гришу описать внешность женщины.
— Как тебе сказать? — Салганник потер кончиками пальцев лоб. — Полная, лет сорока, обильно увешанная изделиями из желтого металла. Скорее всего процветает под покровительством Гермеса. Выглядит растерянной.
«Кто такая? — пытался угадать Вершинин. — Полная… в золоте. На Кулешову не похожа, на Шестакову тем более. Кто же это?»
Он пошел к себе, оставив Салганника, который осипшим голосом требовал по телефону розыска пропавшего экспедитора.
Из замочной скважины в дверях кабинета торчала туго свернутая в трубочку записка. Вячеслав вынул ее и прочел неровные прыгающие строки:
«Вячеслав Владимирович! Витька нашелся. Умоляю вас, как приедете, позвоните тотчас мне, но только мне. Телефон 2-60-35. Глухова».
«Только мне. Это значит, что в милицию она еще не сообщала», — сообразил Вершинин и тут же набрал указанный номер. Едва отзвучал первый сигнал, как трубку подняли, и Вячеслав сразу уловил знакомые интонации.
— Как я рада вашему приезду, — с волнением проговорила Глухова. — Я давно вас разыскиваю, два раза приходила в прокуратуру. Нам необходимо встретиться. Дело не терпит отлагательства, — в трубке послышались всхлипывания.
— Приезжайте, я жду вас, — коротко ответил он.
Глухова вошла запыхавшись.
— Как хорошо, что вы приехали, — сказала она, сильно волнуясь. Из-под набрякших век тотчас заструились слезы, прокладывая извилистую дорожку на припудренных щеках. Вячеслав молчал, зная по опыту, что женщине в таком состоянии надо дать выплакаться — снять излишние эмоции, а уж потом переходить к серьезному разговору.
— Вячеслав Владимирович! — едва выговорила она сквозь слезы, — дайте мне слово, что плохого Витеньке не сделаете. Он страдает безвинно. На него нарочно наговаривают, завидуют нам. А он ведь и мухи не обидит. Мальчик послушный, хороший, вина и то в рот не берет.
Вершинин едва сдержал улыбку, вспомнив рассказ Олега Гагулина о том, как лихо пил водку Глухов на товарном дворе, но промолчал.
— Откуда вы взяли, что мы ему хотим сделать плохо? — успокоил он мамашу. — Выясним кое-что и, если не виноват, отпустим. Что же ему теперь вечно в бегах быть?
— Нашелся Витенька. Недалеко он, — тихо сказала Глухова, с надеждой глядя на следователя.
— Где же?
— Позавчера весточку я от него получила, — она щелкнула никелированными застежками сумки и достала лист бумаги.
Вершинин осторожно развернул заляпанное грязными пальцами письмо и прочитал следующее:
«Дорогая мамочка. Вины на мне нет. Когда разберутся — появлюсь. Не волнуйся — я жив, здоров, сыт. Смотри, не скажи в милиции, что получила от меня записку. Им сейчас ничего не докажешь, посадят и все. А мне за других сидеть неохота. Твой сын Витя».
Бумага пахла дымом. Вячеслав повертел ее в руках и еще раз перечитал.
— Позавчера сообщить нужно было, — с досадой сказал он. — За два дня знаете сколько может измениться.
— Я и приходила к вам позавчера, сразу как получила, а вы в отъезде оказались.
— Есть же милиция — Стрельников, Пантелеев. Они сразу приняли бы меры, глядишь, и Виктор был бы уже тут.
— Знаю, как они разбираются, — с неожиданной злобой выкрикнула Глухова. — Посадят в камеру — там, не то что ребенок, взрослый со страху чего хочешь наговорит на себя.
— Ну, это вы напрасно, — возразил Вершинин. — Народ в милиции опытный, грамотный работает. Один Стрельников чего стоит.
Глухова промолчала.
— Кстати, а где же конверт? — поинтересовался он, пряча письмо в стол.
— Оно не почтой пришло, мне его передали.
— Передали? Кто же?
Глухова секунду колебалась, а потом почти шепотом произнесла:
— Гагулин из нашего поселка. Олег Гагулин. Он где-то встретил Витю, и тот передал ему для меня письмо.
— Что еще рассказал вам Гагулин?
— Только передал записку и ушел, хотя я и пыталась разговорить его.
— Гагулина я знаю, — задумчиво сказал Вершинин. — Тот, который поваром мечтает стать.
Глухова кивнула головой.
— Еще один вопрос, — обратился к ней Вячеслав. — Деньги у Виктора есть?
— Есть. Уходя, он разбил свою копилку. В ней рублей пятнадцать было.
«Ай-ай-ай, — рассуждал Вершинин сам с собой по дороге в поселок, — какой же я нахал. Наобещал парнишке с три короба, да за хлопотами забыл. Какого-же он будет обо мне мнения? Болтун, подумает. Вот так накладочка получилась».
Раздосадованный своей забывчивостью, он заерзал на сиденье.
— Что случилось? — обеспокоенно спросил пожилой шофер прокуратуры Ростовцев и одновременно резко нажал на тормоза.
— Пустяки, Дмитрич, пустяки. Поезжай. Просто я еще раз убедился, что обещанное надо выполнять и как можно быстрей, а то забудется.
— Истина, не требующая доказательств, — согласился тот, прибавляя газ.
«Москвич» понесся в поселок. Олег Гагулин ковырялся с лопатой на приусадебном участке перед домом. Видно было, что работа доставляла ему удовольствие. Приоткрыв от усердия рот, он с таким остервенением вскапывал землю, будто сражался с врагом. В прохладный апрельский день мальчишка до того запарился, что разделся до майки. На худом теле выпирали ребра. Увидев следователя, он покраснел и воткнул лопату в землю.
— Привет, Олег, — помахал рукой Вершинин. — Я в гости приехал. Родители-то дома?
— Мать дома, — глухо отозвался подросток без особой радости.
— Ну и чудесно! Я приехал выполнить свое обещание, — покривил душой Вячеслав. — Помнишь, какое?
Тот молча кивнул.
— Кстати, почему ты не в школе? Или бросил?
— Я во вторую смену хожу.
— По-прежнему в училище тянет?
— Я своих желаний не меняю, — с большим достоинством сказал Гагулин и с вызовом посмотрел на собеседника. — Все равно год окончу и в кулинарку уйду.
— Ну и прекрасно, коли ты такой настойчивый. Я постараюсь помочь.
— Мама! К тебе пришли, — крикнул Олег, повернувшись к окну.
На крыльце показалась стройная женщина в обтягивающем фигуру розовом трикотажном костюме. Безукоризненная прическа из крупно завитых белокурых локонов, свежее моложавое лицо заставили Вершинина на секунду усомниться, мать ли она подростку. Ее свободно можно было принять за его сестру. Однако в тот же момент Олег сказал ей, разглядывая землю:
— К тебе пришли.
— Я из прокуратуры, — ответил на ее молчаливый вопрос Вячеслав и прикинул, сколько ей может быть лет.
— Олежка! — сразу озлилась та, — опять натворил чего, стервец? — и угрожающе шагнула в его сторону.
Лицо женщины моментально подурнело, кожа на щеках чуть одрябла, проступили морщинки.
«За сорок, — уверенно решил Вершинин. — Гнев, слезы и смех быстрее всего выдают возраст человека».
Олег странно втянул тонкую, длинную шею в плечи и стал ковырять лопатой слипшийся кусок земли.
— Извините, вас как зовут? — остановил рассерженную мать Вершинин.
— Вера Владимировна, — ответила она настороженно.
— Олег ничего страшного не натворил, Вера Владимировна, а приехал я сейчас больше для того, чтобы поговорить о его дальнейшей судьбе.
— Проходите в комнату, — пригласила его Гагулина, перестав бросать в сторону сына испепеляющие взгляды.
Квартира Гагулиных была обставлена на совесть, что называется «полон дом». Полированный импортный гарнитур, телевизор с большим экраном, вращающийся бар с набором винно-водочных изделий, который, судя по числу бутылок, только пополнялся. Каждая вещь на своем месте, все сияет чистотой. Но это великолепие резко диссонировало с маленькими, похожими на игрушечные окнами частного домика, с кусками подмокшей ваты между рамами.
Вершинин уселся на предложенный ему диван и вдруг замялся. Превыше всего он ценил искренность, но сейчас не мог быть искренним, потому что в душе сочувствовал родителям Олега. Он и сам, наверное, отговаривал бы свою дочь в подобной ситуации. Институт есть институт! Но все же обещание, данное парню, надо было выполнять.
— Если не секрет, какая у вас специальность? — начал Вячеслав издалека.
— Какой тут секрет! Старшей медицинской сестрой работаю в хирургическом отделении третьей областной больницы.
— О-о-о! — протянул Вершинин.
— Да! Между прочим одна из лучших больниц. Техника у нас самая новая, — с гордостью сказала она.
— А ваш супруг?
— Начальник сборочного цеха на заводе.
— У вас, по-видимому, неплохая семья. Как это принято сейчас называть — благополучная.
— Семья хорошая, грех жаловаться. Сам не пьет, с нами ласковый, добрый, да и на работе его уважают. Олег — паренек трудолюбивый, хотя в последнее время я стала беспокоиться за него, — закончила она, помрачнев.
— Почему так получается? — воспользовался паузой Вершинин. — Семья у вас благополучная. Родители — уважаемые люди. Олег тоже парень хороший. Однако учиться в школе не хочет, частенько слоняется по вокзалу, сигареты там, жевательная резинка. Добром это может не кончиться. Жалко будет парня.
— Значит, вы приехали говорить о его поведении, опять наверное, натворил что-нибудь?
— Извините, я затронул эту тему, ибо меня волнует судьба Олега. Привлекать его к ответственности или наказывать другим способом мы не собираемся.
— Я и сама думаю, почему его потянуло на такие дела, — прерывающимся от волнения голосом сказала она. — Парень он мягкий, отзывчивый, безвредный. Ребята, правда, стали последнее время к нему захаживать плохие: Глухов, потом Шестаков, которого они еще странной кличкой называли. Олег меня всегда уговаривал: подумаешь, пришли. Плохого я не сделаю». Однако, вероятно под их влиянием, школу хотел бросить, менял всякие вещи. И знаете — мы с отцом за всю жизнь ни разу его пальцем не тронули. Только убеждали. А он заупрямился. Выдумал учиться на повара.
— А кем бы вы хотели его видеть?
— Пусть школу заканчивает, а потом в политехнический, инженером станет, по стопам отца пойдет, — уверенно произнесла Гагулина.
— Он склонен к точным наукам?
Вера Владимировна смешалась:
— Не совсем, но это просто потому, что учит их от случая к случаю. Мы ему нашли хорошего репетитора. Главное — толчок, а дальше пойдет как по маслу.
— Ну, его-то хоть самого тянет к математике, физике, механике?
Гагулина неопределенно пожала плечами.
— Ну вот, вы сами сомневаетесь в этом.
— Пусть, — раздраженно возразила Вера Владимировна. — Идти у него на поводу? Бросай школу, учись на какого-то там повара. Представить трудно — мой Олежек бегает с черпаком вокруг котлов с борщом и рассольником.
— Извините, но вы мыслите… чересчур прямолинейно. Конечно, котлы обязательно будут, но потом может быть и техникум, и торговый институт, и соответствующие должности, раз уж вы с таким презрением относитесь к поварам, хотя лично я не разделяю вашей точки зрения. Представьте себе его директором ресторана, кафе. По-моему, здорово. Главное, чтобы профессия нравилась. Мне кажется, его по-настоящему тянет туда.
— Может, и тянет, — раздраженно сказала Гагулина. — Скорее всего, вы правы. Но все равно, пусть оканчивает школу, а потом видно будет.
— Вера Владимировна! Как же так, вы мать, а не понимаете, что именно из-за математики, которая ему не дается, и школа Олегу опротивела. Нет призвания — куда же деваться?! А кулинария ему по нраву. Поступит в училище, сам поймет, что среднее образование необходимо. Еще побежит в вечернюю школу, не остановите.
— Думаете, так?
— Уверен. Таких подростков перед моими глазами прошло немало, и мне кажется, что вашему Олегу можно и нужно верить и идти навстречу.
Гагулина встала и подошла к окошку. Олег заканчивал перекапывать последний клочок земли. Заметив, что за ним наблюдают, он неестественно перекосил худые плечи и с преувеличенным вниманием стал разглядывать блестящий кончик лопаты.
— Вот ведь как трудится, — одобрительно заметил Вершинин. — Вы велели?
— По собственной инициативе.
— Вот видите — труд-то он любит, — Вершинин помолчал. — Скажу вам по правде, и у меня не все гладко шло. Родители вознамерились сделать из вашего покорного слуги химика. Модная профессия. Повсюду только и слышно — большая химия, большая химия. В результате я, потеряв два года, ушел с химического факультета. Не лезла в меня эта химия — и все. Поступил на юридический и сейчас доволен, чувствую, что нашел себя. Хотя, честно сказать, при поступлении тоже не знал, правильно ли делаю. А Олег знает, причем твердо, так зачем же мы будем ставить ему палки в колеса? Пусть идет избранным путем.
— Я поняла вас, — Гагулина с благодарностью взглянула на Вершинина. — Мы еще раз посоветуемся с мужем. И спасибо вам за все.
Олег окончил работу: стоял и тщательно счищал щеткой грязные пятна с брюк. На приближающегося следователя посмотрел с надеждой.
— Проводи меня, Олег, — попросил Вершинин. — Вон до той машины, — показал он на поблескивающий свежей краской «Москвич».
— Ща, — сказал Олег, что должно было означать на мальчишеском диалекте «сейчас», положил на крыльцо щетку и поплелся за ним, держа дистанцию в полшага.
Вершинин остановился и дружески обхватил его за плечи.
— Хватит вешать нос, парень. Думаю, волнующий тебя вопрос в недалеком будущем разрешится положительно.
— Ну да! — не поверил парнишка.
— Точно. Обязательно разрешится. Родители твои, по крайней мере, мать, отца-то я не знаю, человек понимающий и отзывчивый. Она пойдет тебе навстречу.
Подросток повеселел на глазах и бодро зашагал рядом.
— А теперь расскажи, что нового произошло тут у вас за последнее время? — изменил тему Вершинин.
— А чё? — вопросом на вопрос ответил тот.
— Глухова-то не встречал?
— Глухова? — переспросил Гагулин и покраснел. — Н-нет, не приходилось.
— Разве? — Вячеслав укоризненно посмотрел на него. — А я считал тебя искренним человеком.
Олег сразу набычился и смолк.
Вершинин разозлился. Взял парня за плечи и тихонько встряхнул.
— Ты, наверно, предполагаешь, что, если скажешь правду, совершишь предательство. Напрасно. Коль твой приятель непричастен к убийству, ты ему только поможешь, а если виноват, то чем раньше мы будем знать правду, тем лучше. Долго прятаться ему не удастся. Через день-два найдем. И подумай, как ты будешь выглядеть тогда. Ведь за ложь спросят. Придется отвечать по закону.
— Видел я его, — едва слышно сказал Олег. — Позавчера видел. Витька чист как стеклышко. Просто он думает, что его считают виновным в убийстве Ханыги, и боится, как бы зря не посадили.
— Это уж наше дело разобраться, кто виновен в убийстве. Зря мы не сажаем. А твоя обязанность помочь нам. Итак, рассказывай. Когда он передал тебе письмо для матери?
— Значит, тетя Клава… Значит, она рассказала? — широко открыв глаза, спросил он.
Вячеслав кивнул головой и подивился наивности подростка, только сейчас понявшего, кем информирован следователь.
— Позавчера на вечерней зорьке сидел я вон на том пруду, — Олег показал назад, — лед недавно сошел, окунь на мормышку здорово брал. Вдруг смотрю, из тальника вываливается Витька. Грязный весь, ободранный, как пес. Письмо протянул, матери велел передать, ну и сказал, что не виноватый. Я так и сделал. Передал ей.
Олег замолчал.
— И все? — удивился Вершинин лаконичности рассказа. — Неужели больше и не поговорили.
— О чем говорить-то, — пробормотал Гагулин, снова избегая встретить взгляд следователя.
— Значит, не хочешь быть откровенным до конца, — рассердился Вячеслав, — а ведь тебе известно, где прячется Глухов.
Разные мысли отразились на еще детском, несмотря на внушительный рост, лице Олега. Желание сказать правду боролось с мыслью о том, правильно ли он поступит, не будет ли это предательством. Вершинин решил не торопить его с выбором решения, ибо был уверен, что тот скажет правду сам, без нажима. Так и случилось. Сделав еще десяток шагов, Олег глухо сказал:
— Знаю, где прячется Дуняша.
Вячеслав усмехнулся, услышав знакомую кличку, А Гагулин теперь рассказывал торопливо, с облегчением сбрасывая с души груз тайны, которая не давала ему покоя многие дни.
— На «фанзе» он. Домишко один мы так называем. Отсюда километров двадцать электричкой, а там пешком. В прошлом году ездили за окунями на озеро Каменку — двести шестой километр. Ночевали в заброшенном сарае метрах в двухстах от озера. Сена много натаскали еще с осени, вот он там и живет.
— Холодно ведь. Апрель — не лето, — удивился Вершинин.
— Ерунда. Сено-то осталось — им укрывается. Зато озеро рядом. Рыбу ловит, наверно, — явно позавидовал такой жизни Олег.
— Покажешь мне это место?
— Хорошо, покажу, — не без колебания согласился Гагулин.
— Тогда садись в машину и поедем.
— Прямо сейчас? — воскликнул тот, рассчитывая на более отдаленную перспективу.
— Да, немедленно. Машиной туда минут двадцать пять — тридцать езды, столько же назад, часа через два вернемся. Как раз в школу успеешь.
«ФАНЗА» НА КАМЕНКЕ

Автомобиль стремительно несся по извилистому загородному шоссе. Вскоре город остался позади. Вдалеке пролязгал металлом товарняк. Наконец, шоссе почти вплотную сблизилось с линией электропередач, идущей вдоль железной дороги. Справа на обочине показался указатель железнодорожного переезда.
Машину сильно качнуло на неровно уложенных досках, слабенький москвичовский двигатель с трудом, на второй передаче одолел подъем и сидевшим в автомобиле открылась впечатляющая картина весеннего половодья. Все вокруг, насколько хватало глаз, было затоплено водой. Отдельными островками то тут, то там торчали зеленые ветки ивняка, темные стволы обнаженных деревьев, грязно-серые пятна незатопленных клочков суши. Ветер стих. Неподвижная водная гладь загадочно поблескивала и мерцала, как будто была здесь вечно и останется навсегда.
— Н-да, — почесал затылок Ростовцев. — Силища! Здесь мы не проедем.
— Тут уже рядом, — показал направление Олег, — километра два по асфальту, затем по грунтовой чуть-чуть, а уж потом… наверно придется пешком, — виноватозакончил он.
— Доберемся, — ободрил его Вершинин. — Нам главное — Глухова найти.
— Куда он денется? Поди, на сеновале дрыхнет.
По грунтовой дороге им с большим трудом удалось проехать метров триста-четыреста. Дальше колея была разворочена тракторами и большегрузными машинами.
— Нам в ту сторону, — показал Олег на темнеющие впереди деревья.
Оставив водителя в машине, Вершинин и Олег пошли к лесу. Чтобы не провалиться в липкую грязь, они перепрыгивали с островка на островок, с трудом находя место. Добирались минут двадцать. Наконец почувствовали под собой твердую, ощутимо пружинившую под ногами почву. Гагулин с сожалением осмотрел промокшие и покрытые грязью брюки, попытался почистить их сорванной веткой, но тут же бросил это занятие, убедившись в его бессмысленности.
Серый полуразвалившийся сарай открылся перед ними сразу, как только они вышли на опушку леса.
— Сиганет сейчас твой приятель и привет, — прошептал Вершинин, стараясь ступать потише.
— Куда ему отсюда сигать? Некуда, — так же тихо ответил Олег.
Они осторожно подошли к сараю. В нос ударил острый запах сырых замшелых досок. Под ногами со стоном заскрипели вывороченные половицы. Вячеслав приложил палец к губам, и Олег застыл на месте. Внизу было пусто. Вершинин поднялся по ветхой лестнице на чердак. Поначалу в полутьме он заметил лишь кучу прелого сена, устилавшего чердак. Освоившись с полутьмой, заметил темный предмет, который неожиданно задвигался и превратился в грязный ботинок. Ботинок несколько раз лягнул воздух и снова затих. Бесшумно ступая по мягкому покрову, Вершинин приблизился к этому месту. У небольшого окошечка, заткнутого тряпьем, на двух кругляшах лежала доска-сороковка, изрезанная вдоль и поперек. На ней находились несколько кусков черного хлеба, с десяток вареных картофелин, горстка соли и бутылка с непонятной жидкостью.
Вершинин осторожно сгреб в сторону сено. Под ним разметался во сне парнишка, как две капли воды похожий на Глухову. Щеки его рдели.
— Витя, эй, Витя, — вставай, — легонько толкнул его в плечо Вячеслав.
Тот открыл глаза и мгновение рассматривал незнакомца. Потом стремительно вскочил и кинулся к лестнице, но заметил там Гагулина и остановился как вкопанный. Затем отряхнулся от сена и презрительно посмотрел на приятеля. Добродушное его лицо исказила гримаса злобы.
— Ну, гад, продал все-таки. Гляди теперь…
— Спокойно, Виктор, спокойно, — прервал его Вершинин. — Никто тебя не покупал и не продавал. Пора кончать бегать от самого себя. Бесполезно, все равно не убежишь.
Тот промолчал, протирая рукавом заспанные глаза.
— Ну, да ладно. Собирай пожитки. Пора в путь.
Не сопротивляясь, Виктор вытащил из сена железную коробку с бренчащим содержимым, видимо, остатками копилки, и складной нож. Эти вещи он деловито рассовал по карманам и, шмыгнув носом, двинулся за Вершининым. Бежать он не пытался. Вячеслав отправил Гагулина вперед, а сам остался наедине с Глуховым.
— Ну, трубочист, — спросил он паренька, — сколько еще бегать собираешься?
Тот настороженно промолчал.
— Давай, Витек, знакомиться, — предложил Вершинин, подавая ему руку, и назвал себя.
Глухов сконфуженно вытер грязную руку о полу пальто и подал ее следователю.
— Ну так как? — повторил вопрос Вячеслав. — Сколько еще будешь по сараям скрываться? Или уже надоело?
— Надоело, — признался Виктор.
— Тогда почему домой не возвращаешься?
— Хм. Посадите.
— Есть за что?
Парнишка пожал плечами.
— Ты пойми, Витя, — повернув его к себе лицом, сказал Вершинин. — Долго здесь не пробудешь. Все равно придется возвращаться домой. Ну а сидеть тебе или нет — вопрос сложный. Натворил — надо отвечать. Невиновен — никто тебя и пальцем не тронет. И потом, ты напрасно думаешь, что мы за любое преступление сразу хватаем и в тюрьму. Ерунда. Да тюрьма и не самое страшное. Страшнее — ответ перед собственной совестью держать, а его держать придется.
Вершинин смолк, заметив, что плечи парня задергались и раздалось странное хлюпанье. Вячеслав подцепил его за подборок. Слезы, стекавшие градом из наивных голубых глаз, казалось, шипели, на пунцовых щеках. Толстые, безвольные губы отвисли.
«Дуняша, ты Дуняша, — с состраданием подумал Вершинин, разглядывая простоватую физиономию Глухова, — тебе б у мамки под подолом сидеть, а ты в разбойников играешь».
— Я не убивал Ханыгу, — выдавил сквозь слезы тот.
— Тогда зачем прятался, Витя?
— Боялся. В тот вечер мы с Ханыгой, Шестаковым, значит, выпили беленького и на вокзал подались. На вокзале к нам подвалил Ханыгин дружок, Лешкой, кажется, зовут. Постояли вместе. Ханыга — он заводной, ему еще выпить захотелось, а в кармане пусто. Пошли мы, значит, по перрону, смотрим — двое пьяных парней стоят. Еле на ногах держатся. «Пощупаем их», — предложил Шестаков. Приблизились к ним, он и говорит одному, который ростом повыше: «Дай рубль». Тот послал его подальше. Тогда Ханыга сдернул с него шапку меховую и кожаные перчатки снял. Те двое испугались, хмель, наверно, вышибло. Я все время рядом стоял, уйти боялся — Ханыга потом пришибет. Ушли мы, а те двое остались. Потом услышал — Шестакова убили, сразу испугался. Подумал: следствие вести будут, докопаются до шапки с перчатками. Потом, как узнал, что милиция мной интересуется, — сбежал.
«Вот отпала и эта версия, — устало подумал Вершинин, не сомневаясь в правдивости рассказа Виктора, — но зато появилась другая. Надо искать тех, кого Ханыга ограбил». Вдруг его словно осенило: «А не те ли это, одного из которых мы разыскиваем по заводам?»
— В какое время это случилось? — заинтересованно спросил он.
— Часов в десять, начале одиннадцатого вечера, — после некоторого раздумья ответил Глухов.
«Приблизительно за час до убийства, — пронеслась мысль, — вполне может подойти».
— Скажи, пожалуйста, как выглядели эти ребята?
— Обыкновенно… Один пониже ростом, темнолицый, вроде зубы у него были редкие или вообще впереди зуба не было, а другой, кажется, блондин с большим носом. У него как раз Ханыга шапку с перчатками и отнял.
Вершинин вспомнил показания свидетеля, обратившего внимание в день убийства на двух парней с перрона вокзала. Приметы сходились.
— Ладно, Витя, пойдем в машину, — сказал он успокоительным тоном, — а на Олега брось сердиться. После поймешь, что он поступил правильно, по-товарищески. А знаешь, как он за тебя заступался. Ведь мы-то, честно говоря, тебя подозревали в убийстве, а Гагулин уверял, что ты на такое не способен.
— Куда ж меня сейчас повезете, — страдальчески сморщился Глухов, — в КПЗ поди?
— Домой повезем, к мамке. Правда, следовало бы сначала в другое место завезти.
— Куда это?
— В баню, в парилку. И отмачивать целый день.
Вечером этого полного событиями дня, когда Виктор Глухов, обласканный родителями, скорее всего спал беспробудным сном на своем любимом диване, Вершинин вызвал к себе Стрельникова и Пантелеева, с которыми еще долго обсуждал возможные варианты быстрейшего выхода на парня, уничтожившего на вокзале заводское удостоверение.
КТО ЕСТЬ КТО

На вешалке висело чужое демисезонное пальто с воротником из золотистой нерпы и такая же шапка с козырьком. Вершинин недоуменно потрогал короткий мех. Гостей он не ждал. Из комнаты доносился заливистый смех его двухлетней дочери Наталки. В прихожую вышла Светлана. Вячеслав увидел на ней новое платье и удивился — обычно жена его надевала по праздникам. Выглядела Светлана довольно оживленно.
— Тебя дожидаются уже больше часа, — сказала она, подвигая ему домашние тапочки.
Вячеслав шагнул в комнату. Рядом с Наталкой у детской коляски сидел Константин Сергеевич Охочий. Он веселил девочку, туго надувая щеки и издавая странные звуки наподобие: «бу, бу, бу». Наталка реагировала на его фокусы, заливаясь веселым смехом, хотя обычно малознакомых людей не жаловала.
— Какими судьбами, Константин Сергеевич? — приход Охочего насторожил Вершинина.
— Навестить решил вас без приглашения. Уж не обессудьте.
— Рад вас видеть, — ответил Вячеслав, лихорадочно соображая, зачем пришел Охочий.
— Вы, я слышал, всерьез взялись за наш завод, — без обиняков спросил Охочий.
— Откуда же вам это известно?
— На заводе сейчас об этом знает каждый второй.
— И что же знают?
— Говорят, прокуратура начала розыск тех, кто писал анонимные письма на директора.
Вячеслав был раздосадован. Слухи разнеслись быстрее, чем он ожидал.
— Знаете, — состорожничал он, — наговорить всякого могут.
— Да-к ведь называют именно вашу фамилию, мол, расследование поручено следователю Вершинину, — настойчиво продолжал Охочий, пытливо вглядываясь в собеседника.
Такое наступление пришлось Вершинину не по вкусу.
«А кто ты, собственно, такой и почему тебя вдруг заинтересовал вопрос, от которого прежде уходил», — подумал он.
От внезапно возникшего подозрения Вячеслав даже поперхнулся.
«Неужели зондирует почву? — мелькнуло в голове. — А вдруг он заинтересованное лицо или, более того, причастен к анонимкам? Ведь я с ним в сущности мало знаком. Странный визит домой. Ладно, как говорится, поживем — увидим».
— Моя фамилия?! — невозмутимо спросил он. — Вы, очевидно, ошибаетесь. Произошло недоразумение.
Охочий покраснел густо, почти до слез, поняв направление мыслей собеседника. Он долго откашливался в кулак, а затем, собравшись с духом, произнес:
— Я догадался, о чем вы подумали, но это ошибка. Никто к вам меня не посылал, и пришел я сюда не ради любопытства. Наш первый разговор в прокуратуре не получился откровенным, ибо я не знал, насколько серьезно вас затронули дела завода. Вы не произвели тогда на меня впечатления человека, по-настоящему заинтересованного судьбой нашего коллектива. Вы сами стояли на распутье. Мне трудно было говорить с вами откровенно. Теперь я убедился: вы сделали выбор, хотя не признаетесь в этом, и я готов помочь вам. Я до глубины души возмущен тем, что происходит на нашем заводе. Какой-то негодяй на протяжении стольких лет отравляет существование целому коллективу. Согласитесь, он клевещет не на дядю Ваню или тетю Машу, и даже не только на директора завода. История с письмами и проверками будоражит всех, последствия ее скажутся в дальнейшем на всем производстве. Но даже не это главное. Она уродует людей, морально разлагает их. Иной видит безнаказанность такого писаки и сам задумывается: может, попробовать при удобном случае. Риск-то минимальный. А ведь руководитель каждому не угодит, всегда найдутся и недовольные. Одному в премии отказали, другому выговор закатили, третьего уволили. Законных оснований для оспаривания нет, вот он и возьмется за перо из желания отомстить. Попробует разок — выйдет, начнут трясти руководителя. Потом захочется еще раз и еще. Раз ты мне, то и я тебе. Я твердо убежден, что, допуская это, мы серьезно проигрываем в идеологическом воспитании людей. Кулешов, конечно, не бог, но мужик честный, дело знает и болеет за него. Лучшего руководителя для нашего завода трудно найти. Вот почему сейчас я здесь и готов ответить на любой вопрос.
— С чем же вы пришли сегодня? — спросил Вершинин. — Может быть, вы назовете мне имена предполагаемых анонимщиков?
— Нет, имя автора писем предстоит открыть вам, я же могу легко ошибиться, бросить тень на невиновного, как получилось однажды у директора. А вот детально ознакомить вас со сложившимися на заводе отношениями, с характерами некоторых людей — пожалуйста. Думаю, это поможет вам в работе.
«Характеры, взаимоотношения, психология — вопросы важные, — подумал Вершинин, — но ведь анонимщик обычно кустарь-одиночка, дело-то тонкое, щепетильное, популярности ему приходится избегать, поэтому вряд ли Охочий мне серьезно поможет, раз даже предположительно не называет автора».
Однако внешне Вячеслав скрыл свои сомнения и сделал вид, что крайне заинтересован в предложенной помощи.
— С чего бы мне начать? — в раздумье проговорил Охочий…
— Давайте с взаимоотношений директора с подчиненными, причем с натянутых. Расскажите о людях, недолюбливающих Игоря Арсентьевича.
— Неужели вам кажется, что все так просто, в лоб, — удивился Охочий. — Тот, кто недолюбливает, тот и пишет? Я знаю некоторых наших работников, которые терпеть не могут Кулешова и открыто говорят о своем отношении к нему, но, упаси меня бог, например, подумать плохо о Прохоре Лукиче Слепых, старейшем рабочем, члене парткома только из-за этого. А ведь он в довольно резких выражениях критикует Кулешова, причем всенародно. Кто высказывает в глаза, не прибегнет к анонимкам. Скорее всего, клеветника надо искать среди тех, кто улыбается в глаза, льстит, лезет в друзья, а в душе вынашивает совсем другое.
— Константин Сергеевич, — перебил его Вершинин, — вы упрощенно поняли мои слова. Я ведь прошу вас рассказать о всех категориях недовольных. О таких, как Слепых, я тоже хочу знать. Но сейчас мне в первую голову хотелось бы услышать о тайных недоброжелателях, а также о таких, кому выгодно устранение с завода Кулешова.
Вершинин подправлял Охочего своими вопросами, не давая ему увлекаться общими рассуждениями, свойственными людям, принимавшим все близко к сердцу. Таким всегда бывает труднее сосредоточиться на главном.
— Кому выгодно? Кому нужно? — повторил Охочий. — Вопрос поставлен серьезно. Кому нужно устранить Кулешова с завода? Вопрос этот, кстати, можно даже усилить — кто заинтересован, чтобы Кулешов умер? Да, да, это не преувеличение. Именно умер, ибо тот, кто писал анонимки, прекрасно знал, что у директора был один инфаркт, и надеялся на второй. Мол, чем хуже, тем лучше. Я вас разочарую. Не знаю я таких людей на заводе. Есть плохие, есть хорошие, но чтобы сознательно добивать человека, надо быть отпетым живоглотом. Я прекрасно понимаю ваш вопрос. Есть и такие, которым хотелось бы стать директором завода, — желание вполне понятное. Можно стремиться к его исполнению, но использовать такие методы для достижения цели — отвратительно.
— Константин Сергеевич, — прервал он снова Охочего. — Я понимаю, хороших людей на заводе много, большинство из них с негодованием отвергнут такой путь, но мне эти люди не нужны. О них в другой раз. Сейчас мне нужны другие — отрицательные, причем не явные злодеи, а те, которые пытаются скрыть эти качества. От пытливого наблюдателя им, понятно, не укрыться, ведь трудно постоянно носить маску. Понятно?
— Понятно. Попробую, — немного подумав, ответил Охочий. — Но для начала разрешите задать вам вопрос.
— Пожалуйста.
— Если вы были в объединении, то уж, конечно, ознакомились с материалами проверок?
— Допустим.
— Заметили ли вы в них какую-нибудь странность?
— Странность? — Вершинин стал вспоминать прочитанное. — Какую странность?
— Меня удивляет одно обстоятельство: почему во всех проверках руководителем комиссии являлся один и тот же человек — Алексей Михайлович Раков, главный инженер объединения? Состав комиссии менялся, а вот руководитель оставался прежним.
«Действительно, почему все время Раков? — задумался Вячеслав, — даже объективности ради следовало бы назначить другого. Надо посмотреть, по чьей инициативе его посылали».
— Думаю неспроста, — продолжал Охочий. — Я краем уха слышал, что Мартьянов возражал против этой кандидатуры, когда второй раз решался вопрос о руководителе бригады, но тщетно. Назначили Ракова. А почему? Я слушал его на совещании, которое он проводил по результатам проверки, и скажу откровенно: все вроде правильно говорил — и про отрицательное, и про положительное, но уж больно своеобразно. Осадок какой-то тягостный после его слов оставался. С одной стороны, выходило, будто письмо надуманно, а с другой — недоговоренность бросала тень на Кулешова. Люди недоумевали: не было ясности. Он все только запутал. Почему?
Вершинин пожал плечами. Пока что особого смысла в рассуждениях Охочего он не уловил. Раков с высоты своего положения мог намеренно сгустить краски, оставить недоговоренность, чтобы не расхолаживать подчиненных.
Заметив, что собеседник не понял, куда он клонит, Охочий нервно повысил голос:
— Ракову шестьдесят четыре года. Как мне известно, между ним и Мартьяновым имеются шероховатости во взаимоотношениях. Генеральный директор пытался культурно проводить его на пенсию. В главке, однако, Ракова кто-то поддерживал и с Мартьяновым поначалу не соглашались, но потом пошли навстречу, при условии достойной замены. Тот предложил Кулешова. С кандидатурой Игоря Арсентьевича начальство согласилось.
— Допустим, у Ракова имелись основания скомпрометировать Кулешова, и он это с успехом делал, — согласился Вершинин. — Но при чем здесь анонимки? Или вы хотите сказать, что их написал Раков?
— Упаси бог! Но над его поведением стоит задуматься.
— Константин Сергеевич, дорогой мой. Ваш рассказ мне важен и нужен, но поведение Ракова только производное, ведь нет анонимок — нет комиссий, а следуя от комиссий к анонимкам, только запутаешься. Давайте лучше вернемся к заводу.
— Завод наш предприятие сложное, огромное. Коллектив хороший, с поставленными задачами справляется, — почему-то вдруг стал говорить как на собрании Охочий, но заметил, что собеседник пропускает общие слова мимо ушей, и спохватился. — Взять наше руководство — все на высоте. Директор, главный инженер Раух или заместитель директора Колчин. Работают в контакте, никаких вылезающих наружу противоречий между ними я не заметил. Кулешов с обоих требует жестко и на производственных совещаниях во всеуслышанье высказывает им нелицеприятные вещи, но воспринимается это как должное, без обид, хотя Раух, например, намного старше Кулешова — ему пятьдесят семь лет.
— А Колчину?
— Колчин молодой. Он моложе директора. Человек властный, самодовольный.
— Из тех, кто всегда доволен своим умом и не доволен положением?
— Трудно сказать. Колчин — человек достаточно сложный и отрицательные качества держит при себе. Прямолинейность не в его характере.
— Итак, — подвел итог Вершинин, — кое-что о Колчине мы выяснили: самодовольный и скрытный. Качества многообещающие.
— Такие качества присущи многим, — возразил Охочий, боясь бросить подозрение на заместителя директора, — и, если они не болезненно гипертрофированы, разве можно назвать их отрицательными. Просто качества. Ведь что такое самодовольство? Человек доволен самим собой. Или скрытность — значит человек молчаливый, не допускающий до своей души каждого и всякого. Иное дело — зависть, корыстолюбие. Эти качества отрицательные, окраска их вполне определенная.
— Так-то оно так, но, к сожалению, трудно узнать, на чем остановится самодовольный и скрытный человек, не перешагнет ли он грань, за которой эти качества станут остро отрицательными. Если такого человека обидеть, пусть даже ненароком, то почти неизбежно самодовольство перерастет в жгучую зависть, а та в свою очередь может привести к самым черным поступкам. Можно ли, например, поручиться, что директор никогда не обидел Колчина неосторожным словом? Тот затаил обиду, и пошло, пошло.
— И привело к тому, что Колчин стал пробавляться анонимками? — недоверчиво спросил Охочий. — Трудно поверить. Умом понимаю — все возможно, а сердцем нет. Как может человек так опуститься?
Вершинин с сожалением посмотрел на собеседника.
«Опасается, как бы я не заподозрил Колчина, а ведь пока идут только абстрактные рассуждения», — подумал он.
Неожиданно лицо гостя скорчилось как от зубной боли. После заметных колебаний он сказал, глядя в сторону:
— Стоит ли говорить об этом?..
— Стоит, стоит. Обо всем стоит, что на ваш взгляд кажется важным, — подтолкнул его Вячеслав.
— Видите ли, Раков во время своих визитов к нам явно благоволил к Колчину. Тайно, но благоволил. Я дважды заходил в кабинет к Колчину, когда там находился Раков, и оба раза они при моем появлении резко прерывали разговор. Я, конечно, для них мелкая сошка, мне их дела знать не положено, и все же уж больно ловко у них получалось. Один раз мне удалось поймать конец разговора, но они тут же прервали его и переключились на совершенно другую тему. Явно секретничали как единомышленники. А какие могут быть секретные дела у главного инженера объединения и заместителя директора завода? Вы, наверно, опять скажете, что надо идти от анонимок, а не наоборот, но у меня почему-то только так получается.
— В каких отношениях находился Раков с другими руководителями завода?
— В самых официальных.
— Ну хорошо, — перевел разговор на другое Вершинин, не желая пока заострять внимание собеседника на взаимоотношениях Колчина и Ракова, характер которых его заинтересовал, — оставим Колчина. Мне бы хотелось услышать ваше мнение о Лубенчикове. Успокойтесь. Совсем не в плане возможности написания им анонимных писем, а просто как об организаторе, воспитателе, человеке, ответственном за состояние идеологической работы в таком большом коллективе.
— Тут я могу быть вам полезен. Ваш покорный слуга — член парткома и потому общаюсь с Лубенчиковым чаще, чем с Колчиным или Кулешовым. В прошлом он инженер, окончил институт заочно, опыта партийной работы маловато. Выдвинули его по инициативе директора. Возможно, увидел он в нем организаторские способности. Однако через годок стало всем ясно: не тянет секретарь. Мельчит, уходит от острых вопросов, теряется в конфликтных ситуациях. Взять хотя бы пресловутую историю с директором. Лубенчиков выглядит в ней отвратительно. Он не проявил должной требовательности, твердости характера, на обсуждении занял неопределенную позицию, ходил вокруг да около. То на Кулешова оглянется, то на Ракова. В райкоме партии, где также рассматривали этот вопрос, только мямлил. Тем самым он отдал директора на откуп. И хотя многие его чисто человеческие качества остаются выше всяких похвал, я не могу относиться к нему с уважением.
— Ладно, Константин Сергеевич, о ближайших помощниках мне все ясно, но скажите все-таки, кого вы подозреваете как возможного автора писем?
— Еще раз повторяю: не знаю. Обиженные есть, но сказать на них такое…
— А как, на ваш взгляд, слухи о связи директора с Ефремовой верны?
— Увольте, увольте, Вячеслав Владимирович. Я считаю для себя оскорбительным обсуждать эту тему. Игоря Арсентьевича я уважаю и не стану пачкать его разговорами на эту тему. Потом, такие дела знают только два человека.
— Чудак, — улыбнулся Вячеслав. — Кулешова несколько лет пачкают во всеуслышанье, даже в печатном виде, а вы говорить на эту тему считаете зазорным.
— Пусть это останется на совести людей, которые пишут, а я до слухов или сплетен по столь щепетильному вопросу опускаться не буду.
— Ну, хорошо, — устало сказал Вершинин, — оставим разговор. Я захватил с собой сегодня бумаги, поработать вечерком, среди них и материалы ведомственных проверок вашего завода. Тут и анонимные письма. Взгляните — может вам знаком шрифт пишущей машинки?
Он открыл закладку и, переломив толстый том надвое, передал его Охочему. Тот осторожно взял его и несколько минут внимательно изучал. Потом положил на стол и отрицательно покачал головой. Разговор угас сам собой. Посидев еще с полчаса, Охочий распрощался и ушел.
«Итак, надо подвести итог состоявшейся встрече, — подумал Вершинин, проводив гостя. — Что дал мне визит начальника цеха, на помощь которого я рассчитывал и рассчитываю?» — размышлял он, пытаясь отбросить все незначительное и второстепенное из услышанного сегодня и сконцентрировать внимание на главном.
«Охочий — человек осторожный, исключительно осторожный, — решил Вячеслав, припоминая отдельные фразы и характерные интонации гостя, — и его пугает фельетон: «Криминалист с сельмаша». Теперь многие на заводе, обжегшись на молоке, дуют на воду. Зачем он пришел, что хотел мне подбросить? Линию Раков — Колчин? Но она, скорее, следствие обычных человеческих взаимоотношений — симпатии или неприязни друг к другу. Представить таких людей анонимщиками трудновато. Возможно, что оба они недоброжелательно относятся к Кулешову, их устраивают идущие на него анонимки, они дают им ход, но это не главное, а производное. Нужен непосредственный исполнитель, кустарь-одиночка, съедаемый тайной ненавистью к директору. Где он? Как найти путь к нему? Придется проверять поголовно всех обиженных и недовольных. И все же Охочий — большой хитрец. Ловко он умеет подбрасывать информацию для размышлений».
Сон подкрался незаметно. Вершинин откинулся на спинку кресла и задремал.
ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР

Инесса Владимировна Кулешова выглядела несравненно лучше. Болезненная желтизна, прежде резко бросавшаяся в глаза, сейчас почти исчезла. Она как бы смягчилась, отступила внутрь, больше напоминая остатки южного загара. Изменилась Кулешова не только внешне. Не осталось следа прежней растерянности. Она выглядела как человек, решившийся на отчаянный шаг и спешащий сделать его поскорей.
Для Вершинина ее визит был неожиданностью. В его планы не входила встреча с ней. Он понимал, что любой разговор рано или поздно коснется сплетен о связи Кулешова с Ефремовой, и хотел оградить Инессу Владимировну от этого. Но она пришла сама. Судя по ее настроению, разговор предстоял серьезный и, как он смутно догадывался, скорее всего на тему, от которой ему хотелось бы уклониться.
— Вы по поручению Игоря Арсентьевича? Он что-нибудь просил передать? — вежливо поинтересовался Вершинин. — Как его здоровье?
Первый вопрос Кулешова пропустила мимо ушей.
— Игорь Арсентьевич чувствует себя лучше, — дрожащим от волнения голосом ответила она на второй. — Вчера ему разрешили полежать на боку. Однако поддаваться иллюзиям преждевременно: обширный инфаркт.
— Главное, первый месяц, а потом он пойдет на поправку, — неуклюже попытался успокоить ее Вершинин, — сейчас ведь у него состояние удовлетворительное.
— Это заболевание полностью излечить невозможно: поражено сердце, — твердо сказала Кулешова, не реагируя на попытку следователя успокоить ее. — Кто скажет, когда может произойти самое страшное — через минуту, через день, через месяц. Но я к вам по другому поводу. Я пришла по собственной инициативе, втайне от мужа. Я хочу поговорить откровенно. Мне известно ваше намерение восстановить доброе имя Игоря…
— Если говорить точнее, — прервал ее Вершинин, — я должен восстановить объективную истину.
— Для меня это одно и то же, — упрямо возразила она, — ибо я уверена — объективная истина и заключается в восстановлении его доброго имени, которое он не запятнал. Игорь Арсентьевич — человек кристально честный, прекрасный семьянин, и я рада, что именно он стал моим мужем, — с вызовом заключила Кулешова, словно ей возражали.
Озадаченный таким поворотом разговора, Вершинин внимательно посмотрел на собеседницу. Она покраснела.
— Извините меня. Я волнуюсь. Сейчас многие ставят, под сомнение эти качества Игоря, вот почему мне невыносимо обидно, вот почему я волнуюсь.
Вячеслав переждал, пока она успокоится, стараясь не замечать дрожащих рук и покрасневших глаз.
— Извините, Инесса Владимировна, — сказал он, когда Кулешова успокоилась. — Меня удивляет ваша уверенность. Разве вы в курсе производственных дел Игоря Арсентьевича?
— Производственных? — удивилась она. — Конечно, нет. Вернее, постольку-поскольку.
— Тогда, почему вы так уверены?
Кулешова помолчала.
— Я пришла говорить с вами не о недостатках в работе мужа, о которых тоже много пишут, — тут вы разберетесь лучше меня, я хочу говорить о другом, — она опустила глаза. — Распространились слухи о связи Игоря с какой-то женщиной.
Кулешова решительно открыла лакированную сумочку и достала из нее конверт.
— Вот, — положила она его на стол, — я получила это письмо еще до болезни Игоря. Он о нем не знает и не должен знать.
По привычке Вершинин осторожно взял конверт за уголок и положил перед собой. Нарочито корявым почерком на нем был выведен адрес Кулешовых. Вместо обратного стояла загогулина. Достав письмо, он аккуратно расправил его линейкой на столе. Почерк оказался тем же, что и на конверте:
«Где твои глаза, неприступная директорша? Думаешь, Игорек носит тебя на руках? Ошибаешься. На руках он носит Ольгу Ефремову, заводскую красотку. Она намного моложе тебя, живет без мужа и всегда готова приветить твоего любвеобильного супруга. Он тоже в долгу не остается. Сделал ей отдельную квартиру, обставил, одарил дорогими подарками и теперь тешится с ней. Это знают все. Над твоей глупостью смеются от души, и первая — Ольга. Пари в небесах с рогами на лбу».
Вершинин пробежал текст за секунду, но не поднимал головы, делая вид, что читает. Он боялся взглянуть на женщину. Письмо вызвало у него чувство глубокого омерзения.
— Не принимайте близко к сердцу, Инесса Владимировна, — осторожно начал Вячеслав, когда собрался с духом. — Подлецы, к сожалению, еще не перевелись. Знали бы вы, сколько подобной писанины поступает в прокуратуру.
Она едва заметно наморщила лоб.
— Я к вам не за сочувствием. Во мне уже все давно перегорело. А принесла письмо, так как уверена, что все это звенья одной цепи, которую затягивают вокруг Игоря Арсентьевича. Тот гражданин или гражданка, — указала она на письмо, — преследовал, как мне кажется, одну цель — заставить меня сорваться. Он рассчитывал, что я устрою скандал мужу, побегу выяснять отношения с Ефремовой. Тогда история приобретет пикантную огласку и, естественно, навредит мужу. Но этот человек просчитался. Я так не поступила бы, будучи даже на сто процентов уверена в связи Игоря с другой женщиной. Скажу вам откровенно, — продолжала она. — Истории о связях Игоря с женщинами вы обязательно коснетесь и выслушаете разные мнения. Одни будут отрицать, другие наоборот — рассказывать со смаком. Допустим, все это так — у него есть другая женщина. И все равно я не стала бы делать трагедии, если бы чувствовала, что он продолжает любить меня. В противном случае подала бы на развод и развелась без всякого шума и мелодрам. Но я знаю: мой муж любит меня по-прежнему, и я отвечаю ему взаимностью.
— Значит вы?.. — удивился Вершинин и, не закончив фразы, уставился на собеседницу, поразившую его своим характером.
— Значит, я не исключаю такой возможности теоретически, — отрезала она. — Понимаете, я больна, очень больна, — голос ее сорвался, — заболевание длится уже более двух лет, и я… я понимаю, жизнь есть жизнь. Стоит ли перед ней задаваться? Она учит всему: плохому, хорошему и, к сожалению, плохому не так уж редко. Но надо уметь прощать. С вами я была откровенна, чтобы вы не придавали особого значения злословам и не делали поспешных выводов об Игоре.
Кулешова встала. Медленным движением поправила прическу и подала Вершинину руку. Вдруг его осенила одна мысль.
— Простите, — сказал он, выпуская ее руку, — письмо было только в ваших руках?
— Да. Я прочитала его и прятала до сегодняшнего дня.
— Хорошо, — удовлетворенно вздохнул Вершинин. — Учтите, мне могут понадобиться отпечатки ваших пальцев.
— Понимаю. Когда потребуется, я готова.
Дверь за Кулешовой закрылась, а Вячеслав еще долго расхаживал в волнении по кабинету, удивляясь твердости характера и внутренней убежденности болезненной и хрупкой на вид женщины. Затем внимательно осмотрел письмо с помощью лупы. В двух местах заметил желтоватые пятна. Он достал из следственного портфеля флакон со специальным препаратом и рассыпал его по поверхности бумаги. В нескольких местах порошок сразу осел замысловатыми линиями. Вершинин перенес их на дактилоскопическую пленку и написал на пакете:
«Отпечатки пальцев, обнаруженные на анонимном письме, предъявленном гр. Кулешовой И. В.».
ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ

— Вот она, красавица, полюбуйтесь, — сказал с презрением Саша Пантелеев, пропуская впереди себя девицу лет семнадцати в синих джинсах, живописно затертых в самых неожиданных местах. — Словно магнитом ее на вокзал тянет. Чего хорошего там отираться?
— Тепло там, — хрипловато ответила девица и без приглашения уселась.
— Ну, если тебя тепло привлекает, сиди дома. Там тепло, светло и мухи не кусают.
— Сам сиди дома, раз нравится, — с вызовом ответила она, не обращая внимания на Вершинина, который с интересом наблюдал за стычкой экспансивной девицы и возмущенного инспектора.
Выполняя поручение прокуратуры, инспектор Пантелеев занимался выявлением вокзальных завсегдатаев. Они могли оказаться невольными участниками или свидетелями убийства Шестакова. Пока его работа заметного успеха не принесла, однако Вершинин настаивал на ее продолжении, так как знал: рано или поздно можно выйти на нужного человека. Сейчас он приехал в отдел поговорить с одной из постоянных посетительниц.
Девица, доставленная сегодня, представляла интерес. По словам Саши, она была постоянным участником всех заварушек, являлась предметом повышенного внимания юных рыцарей, обитающих на вокзале, несмотря на малопривлекательную кличку Нинка Глиста. Кличка, судя по всему, прилепилась к ней за чрезмерную худобу ее полудетского тела, на котором даже джинсы топорщились в разные стороны.
Нинка, наконец, соблаговолила заметить Вершинина.
— Дай, папаша, закурить, — вызывающе бросила она и потянулась перламутровыми ногтями с черной каймой под ними к пачке сигарет, лежащих на столе.
— Малолетним курить запрещается. Вредно, — назидательно оказал «папаша» и спрятал сигареты в карман. — Рост прекратится, худой останешься.
Нинка обиженно поджала губы и со злостью посмотрела на Вершинина.
— Мне толстеть ни к чему. А ты просто жадничаешь, сигарету пожалел человеку.
— Давай-ка, Нина, условимся: не ты, а вы, и не папаша, а Вячеслав Владимирович. В папаши я тебе не гожусь — разница в возрасте у нас всего тринадцать лет.
Девушка на минуту задумалась, пошевелила толстыми, обветренными губами, словно высчитывая что-то, а затем веско сказала:
— Я подумала вам больше, лет тридцать пять. Седой вы больно.
— Такова природа, Нина. Куда от нее денешься. Один седеет в тридцать, другой в шестьдесят черный, как смоль. Я вон и у тебя вижу седые волосы, а тебе всего семнадцать.
— Разве это седина? — закокетничала та. — Просто я перекисью побрызгалась малость.
— Ну и напрасно. У тебя волосы и так красивые. Если их почаще мыть и расчесывать, ты станешь самой модной девчонкой.
Под Пантелеевым скрипнул стул. Всем своим видом он, казалось, хотел сказать: «Кому нужны эти славословия насчет моды или прически. С такой строгость нужна».
Но Вершинин не торопился. По опыту он знал, что порой, за показным цинизмом и вызывающим поведением подростка кроется затаившаяся в глубине души обида на несправедливость. Такие подростки в своей жизни уже видели много плохого и в семье, и на улице. Душа их ожесточилась, но осталось и что-то хорошее. Уловить это хорошее, раскрыть его Вершинину, как правило, удавалось. Он всегда находил общий язык с мальчиками, а вот с девочкой разговаривать оказалось значительно трудней.
Нина росла в трудных условиях. Отец умер, когда ей не исполнилось и года. Мать постоянно собирала у себя разношерстные компании. После обильных возлияний все валялись вповалку в той же крошечной комнатушке, где находилась девочка. С раннего возраста она видела только плохое, и это не могло не сказаться на ее наклонностях, привычках. Когда стало уже поздно, спохватились окружающие. Кто только ни занимался потом ее перевоспитанием — все бесполезно. Ведь дома-то оставалось все по-прежнему. Отсюда и тяга к выпивке, к ребятам такого же пошиба, как и знакомые матери.
— Ты очень симпатичная девочка, — сказал Вершинин, — только…
— Что только? — насторожилась она. — Поведение, скажете, плохое?
— Дело не только в поведении, хотя, как ты и сама понимаешь, его трудно назвать безупречным. У тебя хорошие внешние данные, но имей в виду, при таком образе жизни от них скоро не останется и следа. С годами все стареют, а у тебя старение начнется преждевременно.
— Почему только у меня?
— Тебе сейчас семнадцать, Нина, а посмотри на себя повнимательнее: под глазами морщинки и намечаются мешки, лицо нездорового цвета, голос огрубел, зубы пожелтели от курения. Сейчас это заметишь только приглядевшись, а пройдет два-три года и ты будешь выглядеть значительно старше своих лет.
Нинка тут же достала из засаленной косметички мутное зеркальце и принялась внимательно изучать лицо. Она поочередно натягивала языком то одну, то другую щеку, выпячивала вперед губы, рассматривала мелкие зубки, а затем вздохнула и спрятала зеркальце. Осмотром девочка явно осталась недовольна.
— Вот видишь, — продолжал наступать Вершинин. — Ты сама убедилась в правоте моих слов. Думаешь, ребятам, с которыми проводишь сейчас время в подъездах и на вокзалах, нужна будешь через два-три года? Они пройдут мимо и не заметят.
— Витька сказал — будет меня вечно любить, — мрачно произнесла она.
«Ах, дурочка, ты дурочка, — подумал Вершинин. — Одно у тебя пока на уме».
— Витька тебя обманет, — сказал он твердо. — Та, в которую ты превратишься при такой жизни, ему не будет нужна. И дело не только во внешности. Школу ты бросила, так и останешься безграмотной…
Однако второе девочку беспокоило меньше, она почти не обратила внимания на последние слова следователя. Больше всего ее волновала мрачная перспектива увядания.
— И чего же мне теперь делать? — спросила она, заискивающе глядя в глаза Вершинину.
— С ребятами поменьше в подъездах отираться, а то еще принесешь мамаше в подоле подарок, — не утерпел и вмешался инспектор.
— Да замолчи ты, Пантелеев, — взвилась та. — Поживи с моей мамашей в одной комнате, тогда узнаешь, где лучше.
Вершинин взглядом остановил его. Пантелеев вскочил и вышел, хлопнув дверью.
— Ишь, — Нинка бросила неприязненный взгляд вслед Пантелееву, — долдонят одно и то же и долдонят, словно я маленькая. Захочу и в подоле принесу.
— Напускаешь на себя много, Нина, а ведь разве ты такая плохая, какой хочешь казаться? — Вячеслав вышел из-за стола, переставил стул, сел рядом с девушкой. — Мы знаем: жизнь у тебя не сладкая, хотим тебе помочь, но ведь ты-то сопротивляешься, — он погладил ее по всклокоченной голове. — Пантелеев, думаешь, почему злится? Поэтому же.
Плечи девочки поникли, стали еще острее, из тщедушной груди вырвался всхлип:
— Вы… вы… думаете, мне уж очень нравится… по вокзалам? А побудьте хоть денек у меня дома — узнаете, где лучше.
«С ней надо решать, — раздумывал Вершинин, тихонько поглаживая ее по голове, — и решать быстрее. Опекуна, что ли, назначить, а мамашу лишить родительских прав? Посоветуюсь у себя, но так девчонку оставлять нельзя. Пропадет».
— Ну ладно, Ниночка, успокойся. Я постараюсь помочь тебе в самое кратчайшее время, только сама для себя твердо реши, что дальше так нельзя. Всю жизнь на вокзале не проведешь. Пойми же, наконец.
Она подняла голову и доверчиво, по-детски, улыбнулась ему.
— У меня к тебе есть еще одно дело, — сказал Вячеслав, когда она успокоилась. — Ты Шестакова знаешь?
— Шестакова? Кто это такой?
— Ханыга. Так его ребята называют.
Нина скривилась с отвращением:
— Который перышко в бок получил? Васька? Руки всегда тянул, куда не положено.
— Вот, вот. Тот самый. Вспомни, пожалуйста, когда ты видела его последний раз?
— Когда? — она наморщила лоб. — Да, наверно, перед тем, как его уделали.
— Приблизительно за сколько времени до убийства?
Девушка насторожилась. Слово «убийство» резануло ее слух. Она испытующе посмотрела на Вершинина, и он понял, что допустил ошибку. В ее представлении «перышко в бок», «уделали» выглядело несерьезным, а слово «убийство» разом снимало шутки.
— Мы выясняем подробности ссоры между ребятами, — сказал безразличным тоном Вячеслав. — Они ведь любят подраться.
— Тот день мне назвать трудно, запомнила только, что ребята говорили о какой-то драке с Ханыгой. Вроде порезали его там.
— Может, расскажешь поподробней?
— Пришла я тогда на вокзал часов в девять вечера, — вяло начала она. — Поднялась на второй этаж в зал ожидания. Встретила там Тольку Куцова. Посидели с ним на скамейке, поговорили, затем спустились вниз, у касс походили. Вижу, Васька Ханыга идет. Пьяный, как обычно. Он меня увидел и сразу за руки хватать стал. «Пойдем, — говорит, — за пути, потолкуем». Но я не пошла, я Витьку своего не обману, да и противный больно Ханыга-то. Вырвала я руку и говорю: «Отцепись, иди своей дорогой». Он сразу с угрозой: «Я тебе, дрянь, фонари выдавлю». Я в сторону, люди стали на нас оглядываться, милиционер вдалеке показался. Ханыга тогда сразу удрал.
— И все? — упавшим голосом спросил Вершинин. — А после, после ты его встречала?
Она отрицательно качнула головой:
— Больше не видела.
— Ребята потом тоже по вокзалу рыскали, спрашивали, может и нашли.
— Какие ребята? — оживился Вячеслав.
— Там один, — неопределенно отозвалась она и насупилась.
— Нина, ты должна мне помочь. Мне надо знать, из-за чего произошла драка между ребятами, вот я и терзаю тебя расспросами. Ведь не из простого любопытства. Может, парень этот как раз и знает о Шестакове.
— Мы с ним когда-то на одной площадке жили, — опять уклонилась от ответа она, — затем вдруг решительно добавила. — Вадька его зовут, фамилия Субботин. Он и спрашивал Ханыгу. Только вы не подумайте плохого. Я Вадьку спросила, зачем ему Ханыга. Он сказал, что перчатки у него какие-то хочет взять.
Сердце у Вячеслава екнуло. Он подался вперед.
— Перчатки? Какие перчатки? Он был без перчаток?
— Откуда мне знать, смотрела, что ли? Выпивши был, это точно.
— А на голове, на голове? Шапка была?
— Шапка? По-моему… была. Да, точно была.
— Ну хорошо. А дальше?
— Потом Вадька убежал, а я походила еще по вокзалу, но Витьку не встретила и ушла домой. Мамаша, помню, в тот вечер раздобрилась. Получку получила как раз, торт даже купила. И пол-литра.
— Ей зарплату в какие дни выдают?
— Третьего и восемнадцатого каждого месяца.
— Значит, ты и Ханыгу и Вадьку последний раз встретила водно из этих чисел?
— Точно. Только сейчас не помню, в какое из них. И потом Вадьку я еще два раза видела, но мельком.
Вершинин оставил Нину в кабинете, а сам ринулся искать Стрельникова. В коридоре он едва не сбил с ног Пантелеева.
— Где капитан? — бросил он на ходу.
— Минут десять как появился. У себя сейчас.
Вячеслав буквально влетел в кабинет Стрельникова.
— У меня важные новости, старик, — бросил он и коротко пересказал содержание разговора с Ниной.
— Ты считаешь, убийство мог совершить Субботин? — с волнением спросил Стрельников.
— Перчатки. Ты вспомни о перчатках. Ведь Шестаков отобрал у одного из пьяных парней перчатки. Им вполне мог оказаться Субботин. А если это так — вот тебе и повод для убийства. Повод, правда, незначительный, но все-таки повод. Субботин разыскивал Шестакова, пьяный, возбужденный. И по времени совпадает, и число сходится…
— Субботин, Субботин… — глядя куда-то в пространство, задумчиво проговорил Стрельников. — Моя память не запечатлела такой фамилии… Краюхин, — сказал он по внутреннему телефону. — Свяжись с инспекцией по делам несовершеннолетних. Пусть дадут справку на Субботина, Вадима Субботина.
Через десять минут дежурный по отделу Краюхин принес продиктованные ему по телефону данные.
«Субботин Вадим Евгеньевич 196… года рождения, учащийся ГПТУ № 6, кличка «Джентльмен», «Мен». Состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних два года. Проявлял склонность к употреблению спиртных напитков и мелким правонарушениям. Рассматривался на комиссии по делам несовершеннолетних за вымогательство мелких денег у младших по возрасту ребят. Впоследствии изменил поведение к лучшему. Три месяца назад снят с учета по достижении совершеннолетия и выбыл в город Н.».
НЕПРОБИВАЕМЫЙ СУББОТИН

Шесть часов в поезде пролетели быстро. Вершинин с любопытством рассматривал через окошко знакомые места. В городе, к которому приближался поезд, семь лет назад он прошел первую свою стажировку в районной прокуратуре. О том времени остались хорошие воспоминания. Поселили его в крошечной старинной гостинице, на самом берегу реки, протекавшей в центре города. Стояло знойное лето, и каждое утро Вячеслав бегал на уютный песчаный пляжик, делал зарядку и бросался с размаху в теплую, обволакивающую воду. Он плавал до изнеможения, ему доставляла удовольствие борьба с сильным течением реки. В этой борьбе наливалась приятной тяжестью каждая мышца тела, учащенно стучало сердце. Из воды не хотелось выходить, и по пути к берегу он то и дело окунался, стараясь подольше сохранить ощущение прохлады. Однако приятные воспоминания промелькнули в его сознании так, словно все это происходило с каким-то другим, очень похожим на него человеком.
Едва ступив на перрон, Вершинин убедился, что город мало изменился. Он уверенно сел в шестой номер трамвая, который повез его в центр, где находилась прокуратура. На площади Вячеслав вышел, пересек небольшой сквер, сплошь заставленный скамейками с броскими надписями: «окрашено», свернул на тихую улочку и двинулся по ней вдоль старинной каменной ограды. Память не подвела, и вскоре он остановился у здания прокуратуры.
Дежурный внимательно ознакомился с удостоверением Вершинина, затем пропустил Вячеслава.
В гулком длинном коридоре прокуратуры нервно расхаживали несколько человек. Среди них выделялся молодой человек. В отличие от остальных, сосредоточенно ушедших в себя, молодой человек озирался по сторонам с довольно растерянным видом. На секунду он встретился взглядом с Вершининым, и тот заметил приоткрытый рот с редкими зубами, испарину на лбу. Юноша тут же отвернулся. Напряженная спина парня лучше всяких, слов подтверждала, что появление постороннего человека не оставило его равнодушным.
«Если это Субботин, — подумал Вячеслав, входя в кабинет прокурора, — он, по всей вероятности, здорово трусит и серьезного сопротивления не окажет».
Сидевший за письменным столом пожилой человек встретил гостя радушно. С необычной для людей такого возраста стремительностью он выскочил на середину кабинета и крепко пожал Вершинину руку, остро вглядываясь ему в лицо из-под кустистых, черных бровей.
— Ваше поручение мы выполнили, — скороговоркой произнес прокурор, — хотя, надо сказать, с трудом.
— Главное — результат, а трудности — они всегда, — улыбнулся Вершинин, вспомнив, каково бывает вызвать свидетеля из сельской местности в период посевной или уборки. — И где же он сейчас?
— Здесь, в коридоре. Часа три дожидается. Вздрагивает, как заяц, когда дверью хлопают. Совесть, наверное, нечиста.
— Вы предварительно беседовали с ним?
— Только мельком, на ходу. Жди, сказал, с тобой поговорят. Относительно цели вызова я даже не заикнулся, но если за ним есть то, о чем вы писали в отдельном требовании, врасплох его не застанешь. Наверняка все сотню раз передумал, взвесил и расставил по полкам.
— Трудно сказать, — возразил Вершинин. — Как к такому привыкнешь? Сколько не вырабатывай линию защиты, откуда известно, чем располагает противная сторона. Ну, а врасплох я его все-таки застал, думаю, эта цель достигнута. Субботин уже наверняка почувствовал себя в безопасности, решил, что концы в воду. Вышло наоборот: только успокоился — вызов в прокуратуру. Неожиданность, наверное, всколыхнула. Подумайте сами: полнейшая расслабленность после нескольких месяцев напряженного состояния и — на тебе. Сейчас он мечется, и все прежние планы защиты из головы повылетели.
— Может, вы и правы, Субботин растерян, — согласился прокурор. — Однако первое впечатление о нем заставляет меня весьма скептически отнестись к возможности заставить его сразу рассказать правду. С ним придется работать, много работать.
— Посмотрим. У меня есть доказательства, косвенные, правда, но достаточно серьезные. Я даже ленту с записью показаний одной его подружки привез. Надеюсь, магнитофон у вас найдется?
— Безусловно. Только поверьте моему опыту: магнитофон вам пока не поможет.
— Почему? — удивился Вершинин.
— Этот Субботин, знаете, он, по-моему, придуриваться будет. Дурачка разыгрывать, время тянуть. Появился у меня на пороге кабинета да как гаркнул во все горло: «Товарищ прокурор, Субботин прибыл». Глаза округлил, взгляда не спускает, и улыбка во весь рот. Хотя где-то в зрачках беспокойство бегает. Ясно, будет строить недоумка. Вот его основная линия поведения на сегодня. Я вида не подал, что игру его раскусил, и отправил в коридор ждать. Там он сразу скис.
Перспектива разговора с симулянтом заметно испортила настроение Вершинину. По опыту он знал, что такая позиция поначалу наиболее верно защищает подозреваемого от острых вопросов. А сколько потребуется времени, чтобы повлиять на такого человека! Да и придется, пожалуй, обращаться к психиатрам.
«Пропал я, если так случится, — сделал вывод Вершинин. — Хотя… и в таком поведении есть позитивная сторона. Станет ли человек прикидываться дурачком, если не виноват? Вряд ли».
Прокурор прервал его мысли и повел в кабинет своего заместителя, выехавшего в командировку.
— Располагайтесь, — предложил он. — Вот магнитофон. Сейчас я подошлю машинистку.
— Машинистку пока подождите, а вот за пишущую машинку буду признателен.
Через несколько минут в кабинет внесли пишущую машинку. Вершинин заправил в нее лист чистой бумаги и, приоткрыв дверь в коридор, негромко позвал Субботина. Тот сидел на корточках у большого фикуса и гундосил заунывный мотив. Услышав свою фамилию, он не сдвинулся с места и продолжал подвывать. Вячеслав окликнул его во второй раз и приветливо помахал рукой, приглашая войти. Тогда тот встал и вразвалочку двинулся к двери. У входа его медлительность словно рукой сняло. Вытянувшись в струнку, он громко гаркнул: «Товарищ майор, рядовой Субботин прибыл по вашему распоряжению. Готов приступить к выполнению любого задания». Поведение его было настолько достоверным, что Вячеслав помимо воли покосился на свое плечо — нет ли на нем майорских погон. Поймав себя на этом движении, он даже поморщился от того, что попался на примитивный трюк мальчишки.
— Я человек гражданский, — сказал Вячеслав, исправляя положение, — работаю в областной прокуратуре и к майорскому званию, которым ты меня щедро одарил, отношения не имею.
Субботин не шевельнулся, продолжал стоять навытяжку.
— Ладно, садись, хватит тянуться, — показал на стул Вершинин.
Тот осторожно опустился, подчеркивая готовность в любой момент вскочить и вытянуться по стойке смирно.
— Ты понял, конечно, Вадим, зачем я приехал, — как о само собой разумеющемся сказал Вячеслав.
— Никак нет, товарищ майор, — моментально сорвался тот с места.
«Издевается, нахально издевается», — подумал Вершинин.
И продолжал спокойным тоном:
— Хорошо, Вадим, майор, так майор, коли тебе нравятся. Хотя у меня чин юриста первого класса, что условно соответствует воинскому званию капитана. Однако благодарю тебя за повышение.
На секунду он заметил насмешку, мелькнувшую в широко открытых глазах Субботина, но стерпел и это.
— Расскажи-ка, Вадим, когда в последний раз ты видел Василия Шестакова? — спросил Вершинин, подчеркнув, что факт их знакомства — дело само собой разумеющееся.
Субботин неопределенно пожал плечами и изобразил на лице беспросветное непонимание.
— Я имею в виду Ханыгу. Ты ведь его прекрасно знаешь, — настойчиво продолжал Вершинин.
— Никак нет, — отчеканил парень, преданно глядя в глаза.
— А Нинку по кличке Глиста тоже не знаешь?
— Н-н, — мотнул головой тот.
— Смотри ты! А она утверждает, что знакома с тобой, — усмехнулся Вячеслав, доставая из портфеля коробку с магнитофонной записью. — Привет тебе передает. Как живешь, спрашивает. Да, впрочем, послушай сам.
Он мягко утопил клавишу магнитофона. Послышались шорох, потрескиванье, а затем искаженный глуховатый голос девушки. Субботин прослушал запись с показным безразличием, не прореагировав даже на рассказ о перчатках, однако настроение его заметно упало. Перестав строить простачка, он угрюмо опустил голову.
— Вот видишь, — Вершинин выключил магнитофон. — Оказывается, ты и Нину знаешь, и с Ханыгой знаком. — Перчатки-то свои удалось взять обратно? Да, да те самые перчатки, которые Шестаков отнял у тебя на перроне вокзала.
Вот тут Вершинин и понял, что допустил промах. По логике вещей, Субботину полагалось бы вздрогнуть, расплакаться и рассказать о случившемся. Однако у него вырвался вздох облегчения. Он заметно повеселел, верхняя губа странно изогнулась и поползла вверх, оголив щербатый рот.
— Вранье, — с улыбочкой сказал Субботин. — Не знаю ни Ханыги, ни Нинки, про перчатки в первый раз слышу. Давайте их сюда обоих, пусть в лицо скажут, а то мало чего они за спиной наболтали.
— С Ханыгой, Вадим, я тебе, понятно, свидания устроить не могу по известной причине, — не вдаваясь в подробности, ответил Вершинин, — а вот с Ниной встретишься обязательно, только в другом месте.
Вершинин теперь был уверен, что Субботин причастен к убийству Шестакова, но поведение его казалось странным. То он хмурился не ко времени, то веселел, когда, казалось, надо грустить.
Еще битых два часа Вячеслав пытался расположить парня к себе, заставить рассказать правду, но безуспешно. Тот или вскакивал, изображая полнейшее почтение, или замыкался в себе, когда беседа принимала острый характер. В конце концов Вершинин решил прервать допрос, отпустил его в коридор, а сам пошел к прокурору.
— Вижу, вижу, ощутимые результаты отсутствуют, — с сочувствием заметил тот.
— Самое ощутимое — моя убежденность в причастности Субботина к убийству, но во всем остальном я не продвинулся ни на шаг. Придется везти парня к себе.
— Может, лучше арестовать его, вдруг сбежит по дороге.
— Рано, — возразил Вершинин. — Оснований для ареста недостаточно. Есть только показания одной девушки, но весьма расплывчатые, причем показания даже не об убийстве, а об обстоятельствах, ему предшествующих. Повезу Субботина с собой, очные ставки проведу.
— Хорошо, — согласился прокурор.
Вершинин поехал в областную прокуратуру, откуда по телетайпу передал Стрельникову, чтобы Нину подготовили к очной ставке.
На обратном пути Вячеслав не заводил с Субботиным разговоров об убийстве. Они беседовали на отвлеченные темы. В свободной обстановке Вершинин старался получше понять характер своего попутчика. Валять дурака тот перестал сразу, как только переступил порог прокуратуры. По дороге на вокзал настроение его заметно улучшилось, а когда поезд тронулся и серо-зеленое здание вокзала медленно поплыло в сторону, он лихо засвистел какой-то мотив. Пожилая проводница, проходившая с веником по вагону, сделала ему замечание, и Субботин на полтона сбавил художественный свист. Необъяснимая радость сквозила в каждом его движении.
«Странный парень, — подумал Вершинин, наблюдая за ним из полуприкрытой двери купе, — знает, куда и зачем едет, а веселится. Или не виноват? Вряд ли, — он тут же отбросил сомнения. — Надеется выкрутиться, рассчитывает на отсутствие доказательств. Кстати, почему он повеселел, когда я рассказывал об их последней встрече с Ханыгой на вокзале? Веселого-то мало. Может, я ошибся в существенной детали и это убедило его в мысли о нашем заблуждении? Тогда где я ошибся и в чем? Стоп, стоп. В конце концов разве обязательно быть убийцей, даже если собираешься вернуть свои перчатки. Допустим, преследует группа парней, в том числе и Субботин, ножом ударил другой, который оказался впереди. И все-таки его теперешняя радость выглядит странной. Придется связываться с психиатрами».
— Эй, Вадим, — позвал он Субботина. — Давай попробуй кефирчику. — Вершинин подвинул ему бутылку кефира и распечатанную пачку печенья «Привет».
С удовольствием выпив кефир и съев всю пачку печенья, Субботин вместо благодарности глубокомысленно заключил: «Пшенная каша вкусней», — и тут же поинтересовался: «Домой отпустите или сразу заберете?»
— А есть за что?
— По-моему, не за что, но ведь вы-то можете и так, как у вас называется, — для профилактики. Сажали меня раз. Двое суток продержали за здорово живешь. Прощения даже не попросили. Подумаешь, у одного двадцать копеек взаймы взял, а потом по носу щелкнул.
— Вот, вот. Вымогательство в чистом виде, а когда еще силу применяют — самый настоящий грабеж. Статью уголовного кодекса, надеюсь, знаешь.
— Хм… грабеж! Тогда каждого второго можно грабителем назвать.
— Заблуждаешься! Шестакова, например, за то, что он отнял шапку и перчатки на вокзале, можно назвать грабителем.
Субботин метнул взгляд в следователя, но за спасительную соломинку не ухватился.
— Домой-то отпустите? — теперь уже уныло спросил он.
— Посмотрим. Жизнь покажет. А вот встречу с родителями гарантирую.
Поезд сбавил скорость. Субботин встал, быстро вышел из купе. Вершинин пошел следом, настороженно глядя ему в спину.
— Думаете сбегу? Не беспокойтесь; — бросил он на ходу. — В туалет надо, а то остановка скоро, Да и чего мне бежать? Пока нам по пути.
«Когда же наши пути разойдутся?» — хотел спросить Вершинин, но передумал и встал около туалета.
Однако Субботин решил поиграть на нервах у следователя и торчал там минут двадцать, пока не собралась приличная очередь.
Выйдя из вагона, Вершинин стал медленно пробираться через толпу встречающих, ощущая спиной теплое дыхание Субботина. Тот шел по пятам. В дежурной комната их уже ожидал Стрельников.
— Посиди пока здесь, — сказал Вершинин, указав спутнику на скамью рядом с дежурным и пошел с Виктором.
— Съездил успешно? — нетерпеливо спросил тот, не успев поздороваться.
— Здрасьте, товарищ начальник. Вежливость прежде всего, — в шутливом тоне начал было Вячеслав, но потом посерьезнел и устало произнес: — Похвастаться пока нечем. Работать с ним надо и сейчас же. Нину доставили?
— Ждет в кабинете Пантелеева.
— Как она относится к очной ставке?
— Поначалу отказалась. Потом убедили — согласилась, но настроение у нее — не очень.
Нина появилась в дверях, губы у нее были надуты.
— Подкатили почти к дому на желтой мигалке, — недовольно пробурчала она. — Бабки из тридцать шестой разнесут на всю улицу: опять, мол, Нинку в милицию забрали. А все Сашка Пантелеев. И чего вы только его в милиции держите?
— Смени гнев на милость, ворчунья, — заулыбался Вершинин. — Скажи лучше, как работается, какие дела дома?
— Спасибочки, хорошо, — ответила она, разом помягчев при виде Вячеслава. — Приняли меня ученицей на швейку, сейчас учусь. А дома? По-прежнему, разве мамашу теперь исправишь!
— Мне в завкоме обещали поселить тебя в общежитие. Так, по-моему, будет лучше для вас обоих.
— Для меня-то, может, и получше, да ведь она совсем тогда пропадет.
Вершинин еще прежде заметил, что Нина избегает произносить слово «мать» и всегда говорит неопределенно: «она». Одно время он даже считал, что девушка не любит мать, но теперь понял свою ошибку. Любовь к ней она пыталась скрыть за нарочитой грубостью.
— Будешь приходить к ней, навещать, — успокоил он свою собеседницу, — может, и она после твоего ухода за ум возьмется. Редко ведь дети уходят от родителей в общежитие.
— Ладно, посмотрим, — уклонилась от ответа Нина. — Вы только скажите в инспекции, пусть поменьше за мной бегают, и на фабрике с моим начальством хватит им шушукаться. А то ведь брошу к черту. Я ведь такая: решила пить бросить и работать начать, сделаю, а носом тыкать меня каждый раз в прежнее кончайте.
— Главное не в них, главное в тебе самой. Решила ли ты окончательно?
— Пока не знаю, — после паузы ответила она. — Посмотрю на ваше поведение.
Вершинин засмеялся:
— Смотри, смотри. А сейчас давай поговорим о другом. Знаешь, зачем тебя пригласили?
— Знаю. Стукача из меня хотите сделать.
Вячеслава больно резануло по сердцу грубое слово, вылетевшее из полудетских уст. Как от острой физической боли он закрыл глаза и плотно сжал зубы. Лицо его окаменело. Заметив реакцию следователя, девушка забеспокоилась. Она не хотела причинять боль человеку, нашедшему доступ к ее сердцу. Вершинин понравился ей сразу.
— Я пошутила, — торопливо поправилась Нина. — Знаю, я должна сказать Субботину насчет перчаток. Одного, правда, в толк не возьму, зачем вам это нужно. Вадька Ханыгу не убивал, где ему убить человека. Он может отнять у сопляка десять копеек, надавать ему подзатыльников, но убить, и притом Ханыгу! — она рассмеялась.
— А кто говорит об убийстве? Мы хотим выяснить, что произошло в тот злополучный вечер, когда ты встретила на вокзале Субботина. К тебе одна просьба: сказать Субботину правду в глаза.
— Хорошо, — согласилась она. — Давайте сюда Вадьку, я ему скажу, что зря отпирается.
Однако, когда тот появился на пороге и скользнул по ней нагловатым взглядом, она покраснела и опустила голову. В такой позе, запинаясь, она смущенно рассказала о последней встрече с Субботиным на вокзале. Рассказ не произвел на того ровно никакого впечатления. Он остался спокойным.
— Врет она, — равнодушно процедил он сквозь зубы. — Пьяная была, наверно, вот и выдумывает, что в голову взбредет. С Витькой своим выжрала пару бутылок и забалдела. На вокзал-то я, может, и приходил, но к ней с такими разговорами и не думал подходить.
После его слов Нина окончательно сникла, понурилась, и Вершинин пожалел, что устроил ей такую экзекуцию. Он предвидел, что Субботин может отказаться, но не ожидал столь резкой и циничной формы отказа. Вячеслав отпустил девушку.
— Так, — начал он, смерив Субботина презрительным взглядом, — солгать в глаза, оскорбить человека тебе раз плюнуть.
— Какой это человек? — сморщился тот. — Глиста она и есть Глиста. Разве это человек?
— Она человек, она исправится, потому что у нее осталось главное — совесть, а вот ты ее давно потерял.
Субботин демонстративно отвернулся в сторону.
Вячеслав помолчал, разглядывая его затылок.
— И все-таки, Вадим, в тот день ты был на вокзале, — возобновил он разговор.
— В какой?
— В день убийства Шестакова.
— Не помню, давно это случилось. Может и… был.
— Значит все-таки был. Один?
Субботин вздрогнул. Кровь отхлынула от его лица, нижняя челюсть отвисла. И хотя Вершинин привык к резкой смене настроения у парня, на сей раз он понял, что тот действительно сильно испугался.
«Почему он так испугался? — стучало в голове. — Может, увидел кого в окошке? Нет. Окно грязноватое, и к нему близко никто не подходил. Что же произошло? Я поинтересовался, был ли он на вокзале один. После моего вопроса возникла такая странная реакция. Но «после» не всегда означает «вследствие». Продолжить расспросы? Сейчас с ним разговаривать бесполезно. Он сильно испуган. Чертовщина какая-то. Самый настоящий испуг».
Он попытался расшевелить Субботина, вывести его из оцепенения, но безуспешно.
— Вот твой пропуск, — сказал тогда Вячеслав. — Иди домой к родителям. Понадобишься — пригласим.
Не веря глазам, Вадим уставился на клочок бумаги, потом на следователя, пытаясь понять, не шутят ли с ним.
— Иди, иди.
Того как ветром сдуло. А Вячеслав продолжал размышлять. Он понял, что необычная реакция парня последовала в ответ на безобидный с виду вопрос, один ли он находился на вокзале. Значит, Субботин боится, как бы не узнали о другом человеке, скорее всего, убийце. И все-таки слишком велик был пережитый испуг. Произошло что-то еще, и Вершинину пока не удалось уловить, что именно.
Сидевший в углу Пантелеев тяжело вздохнул. Весь вид его выражал крайнее осуждение. Он осуждал и наглость Субботина, и излишнюю, как ему казалось, доверчивость Вершинина, и свою собственную беспомощность в столь острых ситуациях.
— Не волнуйся, дорогой, — успокоил его Вячеслав, — никуда наш приятель не денется, а выяснить, с кем он будет общаться в это время, — твоя задача.
Пантелеев молча кивнул головой, но чувствовалось его внутреннее несогласие.
— Удалось узнать что-нибудь новенькое о парне, порвавшем удостоверение? — продолжал Вершинин.
Тот сразу скис.
— Продвигается с трудом. Однако есть кое-что утешительное: образцами удостоверений, клочок которого мы изъяли с вокзала, компрессорный не пользуется свыше года, следовательно, остается только один завод — сельхозмашин. За последние пять лет с завода уволилось более ста мужчин до 30 лет. Все они значатся сдавшими заводские удостоверения.
Вершинин задумался: «Значит все-таки один из двух парней работает или работал на том же злополучном заводе, но ведь их более сотни и все сдали удостоверения. Кто же, кто?»
— Оставь мне список, — сказал он Пантелееву. — Я скоро буду на заводе и посмотрю сам.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Комната насквозь пропиталась запахом табака. Рабочий день едва начался, а в пепельнице уже лежало с десяток окурков. Очередная папироса дымилась на спичечном коробке. Пожилая женщина с землистым лицом заядлой курильщицы смущенно замялась.
— Прошу извинить меня, товарищ следователь, — сказала она низким голосом, — но без разрешения руководства завода я не могу выполнить вашу просьбу.
— Я, кажется, объяснил вам, — спокойно возразил Вершинин. — Законом мне предоставлено право осматривать любые документы, изымать их в любом месте, пусть даже ваше начальство возражает.
— Понятно, — виновато согласилась она, — но все же… прошу вас войти и в мое положение. Без разрешения исполняющего обязанности директора Колчина или главного инженера Рауха мне запрещено показывать подобные документы. Зайдите к ним, поговорите.
— Ладно, — скрепя сердце, согласился Вершинин, — соедините меня с Колчиным.
Женщина подняла трубку внутренней связи и набрала трехзначный номер. Колчин ответил не сразу. Вместе с резким «да» мембрана донесла из кабинета неясный шум мужских голосов.
— Да, — еще раз раздраженно послышалось из трубки. — Слушаю. Кто говорит?
— Зимина беспокоит, Владимир Кузьмич. Тут вас…
— Давайте позже, Зинаида Дмитриевна. Я занят, — оборвал ее Колчин.
— Погодите, — торопливо произнесла Зимина, опасаясь, как бы он не повесил трубку. — У меня находится старший следователь прокуратуры Вершинин, он желает поговорить с вами.
Колчин помолчал. Шум в его кабинете затих. Вершинин представил себе, как насторожились присутствующие, разом прекратив спор, когда услышали слово «следователь», как вздрогнул от неожиданности человек, которого он ищет. Почему-то подумалось, что тот должен находиться в этот момент у Колчина. Ответа Вячеслав не расслышал — Зимина плотно прижала телефонную трубку к уху. От усилия у нее побелели костяшки пальцев.
— Колчин извиняется, — виноватым голосом передала она. — У него сейчас идет совещание, и он просит вас подойти к нему минут через десять и он примет вас.
Через десять минут Вершинин вошел в приемную. Навстречу ему поднялся мужчина в дымчатых очках.
— Товарищ Колчин сию минуту освободится, — сказал он.
— Хорошо, я пока выйду в коридор и покурю там.
— Зачем же? Курите здесь, вот пепельница. У нас ведь начальство курящее.
Однако Вершинин решил курить в коридоре. У лестничного пролета спиной к нему стояли двое мужчин и возбужденно разговаривали.
— Все равно пойду, Макарыч. Пусть скажет: да или нет. Хватит нервы мне трепать, — горячился один из них, лет тридцати, в крохотной спортивной шапочке, прилипшей на голове. — Пусть или оформляет на рацпредложение или отказывает, дальше я терпеть не буду, обжалую в ВОИР[19] или через суд.
— Зря время теряешь, — небрежно заявил другой — в черном, замусоленном халате, жевавший во рту мундштук потухшей папиросы. — Дуй прямо по инстанциям. Здесь решать бесполезно, — он показал в сторону приемной. — Даже если он сейчас тебе манну небесную пообещает.
— Почему? — удивился тот.
— А потому. Знаю я его хорошо, изучил. Пообещает одно, а сделает другое.
— Ну да? — недоверчиво переспросил парень в спортивной шапочке, — я слышал, Колчин — хороший.
— Хороший, когда спит зубами к стенке, — запальчиво выкрикнул другой. — Я тоже раньше не верил. Теперь сам убедился. Помню, Кулешов в отпуске был или болел, а Колчин исполнял обязанности. Наказали меня тогда по представлению начальника цеха неправильно. Я с жалобой. Прокурор приказ опротестовал. Иду к Колчину. «Переводите на прежнюю работу», — говорю. Встретил, куда лучше. «Да, да, — обещает, — немедленно разберемся и переведем». Раза три я после ходил к нему, все обещал. Наконец, донял я его, звонит при мне в отдел кадров, почти кричит: «Почему до сих пор волокитите, сейчас же издать приказ» и так далее и тому подобное. Я с легким сердцем туда. Там меня мариновали часа три, да попусту. Помню, горячился по наивности, доказывал, мол, сам Колчин приказал, а все зря. Кинулся к нему — оказалось, в Москву уехал на два дня. Старичок тогда один из отдела кадров, на пенсии он сейчас, отзывает меня в сторону и шепчет потихоньку: «Чего ты, парень, зря нервы тратишь?» «Как чего? — удивился я. — Вам, бюрократам, начальство приказывает, при мне звонит, а вы тянете, не выполняете». Старичок тот посмотрел на меня с сожалением и говорит: «Эх, Петя, Петя! Важно ведь не то, что Колчин при тебе кадровику говорил, а что он после сказал, когда ты от него ушел». Меня словно обухом по голове стукнуло: разве мог бы начальник отдела кадров не исполнить распоряжение директора? Больше я к Колчину не ходил. Дождался Кулешова, тот сразу решил.
— Ну и ну! — удивился его собеседник.
Из приемной в коридор гуськом потянулись запаренные люди. Они с любопытством косились на Вершинина, докуривавшего сигарету. На пороге появился крепко сбитый мужчина с тугой волной седых волос, резко контрастирующих с молодым лицом. Из-за его плеча выглядывал человек в дымчатых очках. Он едва заметно указал на Вершинина, и мужчина направился к нему. Вячеслав догадался, что это Колчин.
— Прошу извинить, — неожиданно тонким голосом сказал он, знаком приглашая зайти в приемную. — Дела, дела, дела.
В приемной Вершинин направился сразу к двери с табличкой «Колчин В. К.».
— Не сюда, — остановил его тот и открыл противоположную, ведущую в кабинет Кулешова. — Я временно нахожусь здесь, пока директор болеет, тут селектор и прочее, — поспешно пояснил он, заметив удивление гостя.
Однако в кабинете заместитель директора уселся во вращающееся кресло уверенно, по-хозяйски, поправив небрежным жестом миниатюрный микрофон. Колчин обладал респектабельной внешностью. Это впечатление несколько портилось, когда он поворачивался в профиль. Нижняя челюсть заметно выдавалась вперед, а постоянно сложенные трубочкой губы создавали впечатление, будто он вот-вот пошлет воздушный поцелуй.
Вершинин с любопытством присматривался к человеку, известному ему заочно по скупым штрихам Охочего, услышанному в коридоре разговору рабочих. Вячеслава так и подмывало бросить злую реплику насчет бесцеремонно занятого кабинета, но потом все же решил не начинать разговор со стычки.
— Я к вам на секунду, — деловито сказал он. — Мне надо ознакомиться с рядом документов. Дайте указание начальнику отдела кадров.
— Если не секрет, скажите, в связи с чем нужны вам наши документы? — со слащавой улыбочкой спросил Колчин.
— В связи с расследованием уголовного дела о клевете на директора завода Кулешова.
— Наша уважаемая прокуратура занимается и такими делами? — тонко ухмыльнулся тот.
Вершинин понял, что по сути вопрос прозвучал бы приблизительно так: «Прокуратуре, по-видимому, нечего делать, если она решила заниматься такими вопросами». Однако он пропустил насмешку мимо ушей и сухо ответил:
— И такими.
— Похвально, похвально. Интересы каждого человека у нас охраняются законом.
Вячеслав промолчал.
— А ведь комиссии тут всяческие были… сверху. Разбирались. У вас нет к ним доверия?
— Мы проверяем и достоверность выводов комиссий.
Вершинин сообразил, что Колчин под любым предлогом пытается выведать у него хоть что-нибудь, и потому отвечал коротко и односложно.
— Ваша, правда, товарищ Вершинин, — вдруг легко согласился Колчин, — конечно, надо проверять. Прокуратура есть прокуратура. Высший орган надзора. И поделом. Сколько развелось писак этих — деваться некуда. Пишут и пишут. Совсем записали мужика. А в чем он виноват? Да ни в чем. Ну разве ерунда какая-нибудь. А они пишут и пишут. До каких инстанций дошли и до каких еще дойдут. Разве так просто они успокоятся?
Вячеслав сидел с каменным лицом, сделав вид, что не понял намека.
— С Ефремовой-то у него некрасивая история получается, все считают, что она любовница Игоря Арсеньевича. Ну, да кто из нас безгрешен, — плутовато подмигнул он Вершинину, но, наткнувшись на его холодный взгляд, сразу перешел на серьезный тон. — Какие документы вам нужны?
— Отчеты о производственной деятельности завода за пять лет, финансовые документы в части расходования фонда премирования, личные дела отдельных сотрудников и все, что понадобится по ходу проверки.
— Я дам указание Зиминой.
— Благодарю, — Вершинин встал и направился к выходу.
— Скажите, — остановил его Колчин у самой двери, — известно вам, хотя бы предположительно, кто занимается этой писаниной?
— Нет. А вам?
— Мне? Почему мне?
— Работаете на заводе давно, людей знаете. Могли бы сказать в порядке помощи следствию.
— Ну, таких разве узнаешь, — разочарованно протянул тот.
«Странный разговор у нас получился, — размышлял Вершинин по дороге в отдел кадров. — Оба остались недовольны друг другом. Ясно как дважды два — Колчин чувствует себя директором. Стремление вполне понятное, но преждевременно залезать в чужой кабинет… Он даже не скрывает отношения ко мне. А слегка прикрытая угроза — анонимщики дойдут до самых высоких инстанций… Велико же его желание сесть в директорское кресло. Наверно, и Зиминой после моего ухода дал указание показывать не все документы. Все равно заставлю. И хорошо, что я не сказал ему о пишущей машинке».
Главной целью сегодняшнего посещения завода у Вершинина было найти пишущую машинку, на которой печатались анонимки, или хотя бы ее следы. Среди кипы документов, которые ему предстояло просмотреть, он рассчитывал отыскать текст с характерными особенностями букв «р» и «к». Отчеты о производственной деятельности завода позволяли ему ознакомиться с документами, вышедшими из всех цехов и отделов завода за пять лет.
— Постарайтесь не афишировать моего присутствия, — попросил он Зимину, направляя ее за личными делами работников заводоуправления.
Пока она ходила, Вершинин достал письмо, которое принесла ему Кулешова, и внимательно присмотрелся к особенностям почерка, чтобы не пропустить похожий.
Долго изучал он груду бумаг, но так и не наткнулся на нужный текст. Не встретил и почерка, похожего на рукописный текст анонимки. Несколько раз Зимина порывалась завязать с ним разговор, но Вячеслав отвечал односложно. В душе отнес ее почему-то к числу приближенных Колчина, получивших указания помешать следствию.
— Личные дела можно забрать? — поинтересовалась она, когда Вершинин отложил их в сторону.
— Пожалуй, — со вздохом согласился он и сложил их в ровную стопку.
— Личные дела! — задумчиво сказала Зимина, разгоняя облачко дыма над своим столом. — Чего они стоят? Чистая формальность. Родился, женился, работал там, работал здесь. Личные дела не дают подлинного представления о человеке. Все приблизительно одинаково. Посмотришь их, полистаешь — полный порядок, и только. А когда начнет работать, выясняется, что это за человек: и пьяницы попадаются, и лодыри, а характеристики — ну прямо луч света в темном царстве. Может, побаивались его, не хотели связываться или отделаться надо было, а может, начальству угождал, вот и дали такую характеристику. Если так будет продолжаться, то лучше перейти к обычным учетным карточкам, по крайней мере, экономия бумаги.
Вершинин слушал с интересом. Ее слова во многом совпадали с его собственными мыслями. Он воспринимал как самую большую несправедливость, когда ничтожество, а то и просто дурак преуспевает в жизни, обладая одними лишь безупречными анкетными данными. Случись что потом, «позвольте, — скажут те, кто ему покровительствовал, — чистейшая биография, кристальный человек».
— К сожалению, приходится пока довольствоваться тем, что есть, — согласился с Зиминой Вершинин, — но нас это не страшит — следствие все поставит на свои места. Мы на веру слова не воспринимаем. Проверка, проверка и еще раз проверка. Конечно, теперь она становится более затруднительной.
— Мне показалось — вы сильно разочарованы.
— Как сказать, — устало ответил Вячеслав, раздумывая, стоит ли быть откровенным с Зиминой. — Меня ведь каждая, пусть даже не подтвердившаяся версия, приближает к успеху.
— Не всегда. И следствие иногда заходит в тупик.
Вершинин промолчал. Зимина располагала к себе. Она производила впечатление человека честного и не болтливого.
— Послушайте, Зинаида Дмитриевна, — решился он. — Вы верно уловили мое состояние. Я действительно разочарован. Взгляните, пожалуйста. — Он подошел к столу Зиминой и разложил перед ней фотокопии анонимных писем. — Вам знаком этот шрифт?
Зимина внимательно рассматривала каждый фотоснимок, почти поднося его к близоруким глазам. Потом подумала и отрицательно покачала головой.
— Трудно сказать, тут сняты отдельные фрагменты текста, а желательно увидеть подлинный. Тогда можно говорить определенней.
Поколебавшись секунду, Вячеслав извлек из портфеля подлинник одного из писем и передал Зиминой.
— Только прошу молчать.
Она кивнула и углубилась в чтение.
— Шрифт мне явно знаком, — заявила Зинаида Дмитриевна, подумав. — Вот это — двойное изображение буквы «к». Я могу поклясться, что прежде его видела, но где и когда?
— Припомните, ради бога, припомните, Зинаида Дмитриевна! Откуда она вышла, эта бумага? Из какого отдела?
— Рада бы… наверное, эта машинка давно не при деле. Шрифт в какие-то времена промелькнул передо мной, но когда?..
— Все-таки, — настаивал Вячеслав, — он ассоциируется у вас с заводом или попадался при других обстоятельствах?
— Скорее всего, машинка с таким шрифтом была на заводе.
— Я просмотрел документы, выходившие за последние пять лет из цехов и отделов завода, но подобного шрифта не встретил.
— Давайте посмотрим в архиве еще за пять лет, можно за десять. Я ведь работаю на заводе давно.
— А вдруг впадете в немилость у начальства или угодите под огонь так называемых доброжелателей? — полюбопытствовал Вершинин.
— Пусть. От Колчина я разрешение получила, да и мне скоро на пенсию. А потом… что нового могут на меня еще написать?
— Разве писали?
— Да. Насчет моего морального облика. Сына, мол, на фронте прижила неизвестно от кого, и другое в том же духе. Ну, да ладно. Честно говоря, мне хочется помочь вам и… Кулешову. Другого такого директора трудно найти.
Она повела его в архив. Им пришлось перелопатить много бумаги, прежде чем, листая очередную разлохмаченную папку, Зимина в раздумье сказала:
— Взгляните, кажется, похоже.
С треском, так что лопнули полуистлевшие суровые нитки, Вершинин раскрыл папку и принялся изучать выцветшие строчки. Документ был восьмилетней давности и содержал сведения о работе производственно-технического отдела. Шрифты пишущих машинок оказались удивительно схожими, но имелись и различия в тексте документа. Буква «р», например, дефекта не имела, а «к» давала двойное изображение, как в анонимках.
— Машинка тогда была поновей, — пояснила Зимина и подала Вершинину еще одну папку с документом, отпечатанным аналогичным шрифтом. — Прошло восемь лет. Удивительно, что на ней еще печатают.
«Правильно, — подумал Вячеслав, — за такое время шрифт мог измениться куда больше. Сейчас только криминалистическая экспертиза установит, на одной ли и той же машинке выполнены оба текста».
— Теперь остается отыскать ее, — заметил он.
— Задача трудная, — отозвалась Зинаида Дмитриевна, — ведь последний документ напечатан на этой машинке лет восемь назад, а я работаю около девяти. Значит, отстучав эти последние сведения о работе производственно-технического отдела, она канула в лету и выплыла два с лишним года назад. Попробуйте найти следы этой машинки на заводе. Живы люди, работавшие в то время, они могут вспомнить. Вашу задачу облегчит то, что судьба каждого множительного механизма, в том числе и машинки, предопределена. Став непригодной, она подлежит списанию и уничтожению. Следовательно, надо найти акт и двигаться от него.
— Спасибо вам за помощь и совет. Именно таким путем я и пойду. Рад, что не обманулся в вас, — добавил он искренне.
— Не понравилась с первого взгляда? Бывает. Но мне кажется, что наш разговор стоит продолжать. Вы могли бы получить от меня более ценную информацию.
— Например?
— Например, о людях, написавших анонимки на директора.
— От вас? — удивился Вершинин. — Ну знаете! С таким вопросом я боюсь обращаться к работникам завода. Каждый вспоминает фельетон в газете и предпочитает отмалчиваться.
— Игоря Арсентьевича в фельетоне критиковали не совсем справедливо. По существу в своих подозрениях он не ошибся, а способ, которым действовал… За это ему и досталось. А какие еще у него были средства? Кто бы помог ему искать? Да никто. Я и сейчас-то удивлена вашему присутствию. Вот он и решил собственными силами найти обидчика.
— Вы хотите сказать… — изумленно воззрился на нее Вячеслав. — Старенький главбух в сатиновых нарукавниках?
— При чем здесь бух, — отмахнулась она. — Вахромеев полтора года на пенсии. Я говорю о бухгалтерии вообще и в частности о заместителе главного бухгалтера Чепурновой.
— И какие же у вас основания подозревать ее?
Зимина вдруг сникла. От прежнего порыва не осталось и следа.
— Доказательств нет, существенных оснований тоже. Есть только интуиция, — устало проговорила она. — Однако все так считают, только боятся этой тигрицы. Скажешь вслух — запишет потом. Один раз я позволила неосторожно высказаться в ее адрес и пожалуйста: письмо без подписи в партком.
— Вы уверены в авторстве Чепурновой?
— На девяносто девять процентов.
— Что же за пружина толкает ее?
— Злоба, дикая, отчаянная злоба к людям. В других условиях она и убить могла бы, а сейчас ей остается только писать. Знает, как смотрят на анонимки, чувствует безнаказанность.
— Ну, хорошо. Чем же вызвал ее злобу Кулешов?
— Точно не знаю, но уверена, что она ненавидит его, как и многих других. Может, отругал где, лишил премии, не дал путевку. Скажете, мелочь? Вероятно. Но она не простит и мелочи. Возможны и другие варианты. Поощрил директор кого-нибудь другого — вот и повод. Она начнет писать. Характер этой женщины я изучила достаточно хорошо. Она вполне может быть автором анонимок. Одна женщина, которая работала вместе с Чепурновой в другой организации, рассказала мне, что Чепурнову ловили за руку, но потом историю замяли и она с великолепной характеристикой попала на наш завод. Решили отделаться. А внешне — разве можно на нее подумать? Неприступный вид, гордая поступь. И личное дело, кстати, в полнейшем порядке. Во всяком случае, вы со спокойной совестью отложили его в сторону.
Вершинин попытался вспомнить лицо заместителя главного бухгалтера из личного дела, но не смог.
— И еще одно, Зинаида Дмитриевна, — обратился он вновь к Зиминой. — На днях у вас был работник милиции Пантелеев, которого интересовало, кто из уволенных с завода в этом году не сдал заводского удостоверения.
— Был такой, — сразу вспомнила она. — Молодой паренек, суетливый немного. Его вопросы разве тоже связаны с делом об анонимках?
Вячеслава несколько покоробила подобная оценка его помощника, хотя внутренне он чувствовал правоту собеседницы.
— Нет, эти вопросы связаны с убийством на вокзале некоего Шестакова.
— Что интересует вас сейчас?
— Мы нашли более ста «подозреваемых», но не можем установить, кто из них не сдал удостоверения — по документам все как будто в порядке. Но ведь факт остается фактом — удостоверение порвано,уничтожено… Не могли бы вы нам помочь?
— У меня ведь итээровские кадры, я Пантелееву объяснила, а остальное все у Харькиной — там ваш помощник и брал сведения. Но Харькина вам ничего существенного не скажет — работает она недавно… — Зимина взяла список и бегло проглядела его. — Что ж, я смогу его вам значительно сократить, но мне нужно время.
— Сколько? — не скрывая радости, выпалил Вершинин.
— Неделю по крайней мере.
— Хорошо, — согласился он. — Жду вашего звонка, а в помощь пришлю Пантелеева.
К вечеру Вячеславу удалось собрать сведения о всех пишущих машинках, среди которых упоминалась и машинка производственно-технического отдела. Нашелся акт семилетней давности. Подписями трех лиц в нем удостоверялось, что в числе других пишущая машинка производственно-технического отдела марки «Олимпия», четвертой модели, выпущенная Эрфуртским заводом пишущих машинок, пришла в негодность и подлежит списанию с баланса завода. К акту была приложена справка, удостоверяющая уничтожение всех пишущих машинок путем разукомплектования и сдачи в металлолом.
Для непосвященного произошло чудо. Разбитая на куски и сданная много лет назад в утильсырье старенькая «Олимпия» вдруг начала новую жизнь, не имеющую ничего общего со своим безупречным прошлым. Однако Вершинин в чудеса не верил. Он прекрасно понимал, что на каком-то отрезке времени по чьему-то приказу или по чьей-то халатности «мятежная» машинка избежала печальной участи. Она попала в руки, давшие ей другую жизнь.
Решив не откладывать дело в долгий ящик, Вячеслав навел через Зимину справки о лицах, подписавших акт на уничтожение. Одна из них, бухгалтер-кассир расчетного стола производственно-технического отдела Любовь Ивановна Ломтева — крупная, дородная особа, источающая резкий запах дешевой косметики, подтвердила свою подпись на документе. Поначалу ей было невдомек, чего от нее хотят, а когда поняла, с простодушным видом сказала, что при уничтожении машинок не присутствовала, а подписала акт по просьбе кладовщика.
Второй из числа подписавших несколько лет назад умер.
Третьим оказался бывший кладовщик материально-технического склада Раскокин, ушедший пять лет назад на пенсию.
Вершинин навел справки о месте жительства Раскокина и отправился по полученному адресу. Дом оказался в пяти минутах ходьбы от завода. Вячеслав поднялся лифтом на шестой этаж и позвонил. В квартире молчали. Пришлось звонить еще и еще, но с тем же успехом. Между тем чутье подсказывало ему, что там есть люди. Ему даже послышалось чье-то бормотание. Тогда Вячеслав сильно стукнул кулаком в дверь. На шум из соседней квартиры вышла заспанная женщина. С трудом сдерживая зевоту, она сказала:
— Зря стучите. Старик плохо слышит, а если и услышит, то без Ваньки и Сашки не подойдет. Молодые-то, наверное, в детский сад за сыном пошли.
— О каком старике вы говорите? — спросил Вершинин.
— Да о Раскокине, дяде Паше, Павле Фомиче. Вы ведь к нему?
— К Раскокину, — подтвердил Вячеслав. — И сколько же придется ждать Ваньку с Сашкой?
— Часок минимум. До садика полчаса езды.
В этот момент за дверью звякнула цепочка, потом медленно повернулся ключ. Тоненько скрипнув, дверь открылась. На пороге стоял высокий, сухой старик с отрешенным выражением лица. Под накинутой на сутулые плечи клетчатой женской шалью виднелась белая полотняная рубашка. Он вопросительно посмотрел на Вершинина.
— Я к вам, — сказал тот. — Разрешите пройти? — и заметив опасения Раскокина, успокоил его. — Смелее открывайте, Павел Фомич, я не вор и не грабитель. Меня послали к вам с завода.
В тусклых глазах старика промелькнула искорка. Он пропустил гостя вперед, а сам, едва переступая ногами, доплелся до разобранного дивана и с трудом опустил на него немощное тело.
— Стар стал, — пожаловался он, — голова все понимает, а ноги не держат, вроде чужие. Как с завода ушел, с каждым днем хуже и хуже, а работал-то — ходил… Заводские меня, правда, помнят, навещают иногда.
— Я, Павел Фомич, с дельцем одним к вам, в заводоуправлении поручили выяснить, — сказал Вершинин. — Вы еще до ухода на пенсию расписались в одном документе, — Он достал акт на уничтожение машинок и подал его старику.
Тот принял бумагу дрожащими руками, долго отирал полотняной тряпочкой слезящиеся глаза, потом водрузил на переносицу очки со сломанной оправой, далеко отставил руку с документом и, беззвучно шевеля губами, принялся читать.
— Ерунда какая-то, — заключил он, прочитав, и отложил бумагу. — Машинки заграничные!
— Вы подписывали эту бумагу?
— Подписывал. Моя подпись.
— Сейчас мы, Павел Фомич, разыскиваем кое-что из старого для реставрации, — туманно пояснил Вершинин, — вот я и пришел узнать поточней, может, какие сохранились.
— Машинки-то — стрекотухи — всего два раза списывали при мне. Эти в последний раз. Мне их на склад принесли, бумагу на уничтожение составили, подписал я, завхоз и еще одна там. Завхоз мне сказал: «Пусть пока полежат у тебя, вдруг запчасти понадобятся». Одна так и пролежала, проржавела вся, я ее самолично сломал и на мусорку отнес. А за другой, — он умолк, переводя дух, — за другой женщина какая-то приходила, забрала. Кажись, из бухгалтерии.
— Зачем же вы отдали — машинка ведь подлежит уничтожению? — с досадой упрекнул Вячеслав.
— Верно. Подлежит. Да мне начальник тогда позвонил и сказал: «Отдай, Фомич, женщине». Я и отдал. Толку-то в ней чуть — рухлядь.
— Что же это за начальник?
— Начальник наш. Он тогда всем хозяйством заведовал.
— Фамилия?! Как фамилия?!
— Отнял бог память ведь, не припомню.
— Кто же? Кулешов? Колчин? Раух?..
— Во-во, сынок, именно Колчин. Он самый. Губа у него такая толстая.
ОЛЬГА ЕФРЕМОВА

Мысль о визите к Ольге Ефремовой уложилась в сознании Вершинина как дело решенное. Материалы, с которыми он познакомился во время следствия, давали все основания сделать вывод, что анонимки являются чистейшей выдумкой и написаны с целью устранения Кулешова. Директор относился к своим подчиненным ровно, при их оценке исходил только из деловых качеств. Названные в анонимках проходимцами и случайными людьми в действительности были по-настоящему одаренными работниками. Они вносили живую струю в работу завода. Кулешов часто премировал их, поощрял другими способами и всегда имел для этого веские основания. Игорь Арсентьевич — человек вполне современный и доступный, не считал предосудительным разделить с подчиненным, которого он уважал, трапезу, зайти к нему на квартиру, отметить с ним в ресторане юбилейную дату. В таких взаимоотношениях витал дух равноправия. На торжествах по поводу различных событий директор уже не был директором, он становился просто Кулешовым, или Игорем Арсентьевичем, а то даже и Игорем, что только поднимало его авторитет, вызывало к нему уважение. Он обладал способностью балансировать на тонкой грани, допускать простоту во взаимоотношениях, а не фамильярность. Но вот связь с Ефремовой, если она существовала, бросала на него тень. Руководитель и подчиненная. Ситуация всегда осуждаемая. Однако Вячеслав был далек от мысли осуждать Кулешова, считая это личным делом директора. Но следствие есть следствие, и Вершинин понимал, что вопрос об отношениях Кулешова и Ефремовой где-нибудь да всплывет. Его нельзя оставить за скобками. Вот почему Вячеслав решил встретиться с Ефремовой.
На протяжении дня он постоянно звонил на завод, в плановый отдел и, не называя себя, спрашивал Ефремову. Однако она отсутствовала. Ближе к вечеру выяснилось, что Ефремова заболела. Вершинин попросил ее адрес. В ответ он явственно услышал приглушенное женское хихиканье, после которого кто-то довольно дерзким тоном назвал ему улицу и номер дома. Номера квартиры ему не сказали. Вячеслав еще раз попытался узнать его в плановом отделе, но там тотчас бросили трубку. В адресном бюро ее адреса вообще не значилось. Так бывает, когда меняют фамилию. Вершинин решил пойти и разыскать ее квартиру через жильцов дома. Однако на месте его постигло разочарование. Дом, который назвала женщина из планового отдела, растянулся на целый квартал. Холодная и мрачная арка проткнула его точно в середине. У многочисленных подъездов деловито ворошилась ребятня всех возрастов. Вершинин остановился в растерянности. Найти жильца по фамилии в таком доме — дело сложное: люди порой не знают, кто живет с ними на одной лестничной клетке. Он заметил кучку подростков 13—14 лет, со стороны которых подозрительно тянуло дымком, и подошел к ним. Приближение взрослого они заметили сразу и беспокойно засуетились, пытаясь незаметно втиснуть ботинками в песок дымящиеся окурки. Один из них, скорее всего заводила, — высокий, черноволосый, со сросшимися на переносице широкими бровями, демонстративно сунул сигарету в рот, настороженно поглядывая на приближающегося. На его поясе сверкала широкая пряжка с изображением участников ансамбля «АББА». Вершинин ухмыльнулся, заметив, как тяжело дается тому смелость. Видно было, что паренек хоть и бравирует перед приятелями, но не решается затянуться и в случае осложнения приготовился дать стрекача. Вячеслав сделал вид, что не замечает переполоха среди ребят, достал из кармана сигарету и попросил прикурить. Чернявый с важным видом подставил тлеющий огонек. Прикурив, Вячеслав глубоко затянулся, потом сделал несколько судорожных движений горлом и принялся долго и надсадно кашлять, хватаясь за грудь и размазывая по лицу выступившие слезы. В перерывах между приступами кашля он сетовал, что вот-вот может «загнуться» от курения.
Вся стайка наблюдала за ним с опаской, а чернявый так и не затянулся. Вершинин имитировал постепенное ослабление кашля и, словно обессиленный, тяжело опустился на скамейку. Его прерывистое дыхание было красноречивей всяких слов. Потом он сделал вид, что ему стало лучше.
— Слушайте, орлы, — обратился он к ребятам, — вы всех знаете, кто в этом доме живет?
— Всех, — вразнобой отозвались ребята.
— Подскажите тогда, где живет Ефремова Ольга Владимировна?
Те переглянулись между собой и уставились на главаря.
— Дети-то хоть у нее есть? — спросил тот.
— Трудно сказать. Скорее всего, нет.
— Из себя-то она хоть какая, обрисуйте.
— Стройная такая, красивая, лет тридцати, — ответил наобум Вершинин.
Ребята оживленно зашептались между собой, оценивая жильцов дома с точки зрения высказанных качеств.
И вот тут Вершинин вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд — холодный и злой. Вячеслав незаметно осмотрелся вокруг. Ребята по-прежнему обсуждали возможные кандидатуры, скамейка напротив была пуста. Однако странное ощущение продолжало беспокоить. Он посмотрел вверх. На балконе второго этажа стояла женщина. В сумерках ее лицо трудно было рассмотреть, к тому же мешало висевшее на балконе белье. На мгновение взгляды их встретились. Вершинину стало неуютно.
— Кто такая? — спросил он ребят, указав на балкон.
Женщина уже ушла в свою квартиру.
— Эта-а-а? — пренебрежительно протянул чернявый, — тетя Шура, — и скривился, как от кислого.
— Тетя Шура, тетя Шкура, — пропел другой подросток с озорными, зеленоватыми, как у кота, глазами.
— И так ее называют, — подтвердил чернявый.
«Видимо, у этой женщины взаимная неприязнь с ребятами, — решил Вячеслав, — а по инерции она распространила ее и на меня».
— Мы с ребятами посоветовались здесь, — снова заговорил паренек, — и кажись, поняли, кто вам нужен. На четвертом этаже в этом подъезде живет одна такая. Поднимитесь, спросите.
Из трех дверей на лестничной площадке Вершинин выбрал одну и уверенно позвонил. Почти тотчас она распахнулась, и на пороге показался мужчина лет тридцати пяти — сорока в махровом халате до пят с лоснящейся шевелюрой.
— Прошу прощения, — извинился Вячеслав. — Ольга Владимировна Ефремова здесь живет?
— Нет, — мотнул головой тот и показал на дверь справа, — вон ее квартира. При этом он улыбнулся и заговорщически подмигнул.
Вершинин постучался в указанную дверь, но квартира оказалась пустой.
— В магазине, наверно, — послышался из-за закрытых дверей голос того же мужчины.
Он, видимо, стоял прислушиваясь. Вершинину это было неприятно. Решение созрело мгновенно. Он вырвал из блокнота листок, приложил его к стене и быстро написал:
«Ольга Владимировна! Вас побеспокоил следователь прокуратуры Вершинин по важному делу. Буду с вашего позволения через час».
Записку сложил вчетверо и вложил в щель между дверью и стеной, но потом, вспомнив любопытного соседа, вытащил ее оттуда и сунул между дверью и полом подальше, в квартиру. Затем спустился вниз.
На улице странно потемнело и затихло. Угрожающе низко проплывали клочковатые серые тучи. Надвигалась гроза. Вершинин быстро прошел вдоль дома и нырнул под арку. Выскочить из-под нее он не успел, ибо вслед за неимоверным грохотом, рухнувшим со всех сторон и заставившим помимо воли вобрать голову в плечи, хлынул такой дождь, что бежать под ним без зонта и без головного убора было бы чистым безумием. Через минуту под арку побежали потоки бурлящей воды. Они уносили с собой щепки, пустые бутылки и даже крупные камешки. Вячеслав, стараясь не замочить ноги, перепрыгивал с одного сухого островка на другой, но их становилось меньше и меньше. Тогда он выскочил под дождь и помчался, сломя голову, к видневшемуся метрах в двадцати продовольственному магазину. Внезапно небосвод прорезала ослепительная молния, напоминавшая огромный кровеносный сосуд. В глазах запрыгали белые, зеленые и малиновые кружки и точки, в мелькании которых исчезли неоновые огни магазина. Вершинин бросился почти наугад и успел ухватиться за ручку входной двери магазина.
В магазине он с сожалением осмотрел мокрые забрызганные брюки, хлюпающие ботинки, почувствовал прилипшую к спине влажную рубашку и расстроился. Идти к Ефремовой в таком виде ему не хотелось. А дождь все поливал. В душном помещении, битком набитом людьми, одежда стала подсыхать. Вершинин протиснулся к зеркальной витрине и посмотрелся в нее. «Не так уж плохо я выгляжу», — подумал он. Народ, между тем, постепенно рассасывался. Экипированные посолидней исчезали, раскрыв зонтик или нахлобучив по самые уши водонепроницаемую шляпу. Когда дождь кончился, Вячеслав высунул голову на улицу и с наслаждением вдохнул влажный свежий воздух, приятно захолодивший легкие. С минуту постоял, раздумывая, и решительно направился в сторону дома с аркой.
Теперь дверь распахнулась сразу после звонка. Открыла ее стройная блондинка среднего роста с надменным выражением выхоленного широкоскулого лица. Она выглядела эффектно, броско, а ее крупные карие глаза смотрели с вызовом и заметной недоброжелательностью. Женщину слегка портили тонкие губы, перекрашенные помадой через край.
Хозяйка квартиры выглядела молодо — лет на двадцать пять, хотя Вершинин по документам знал, что ей уже тридцать.
— Проходите, — пригласила она деланно равнодушным голосом и впустила его в квартиру.
Вячеслав беспомощно потоптался на пороге, сокрушенно посмотрев на свои грязные ботинки.
— Тапки предлагать вам неудобно, да и где мне взять мужские? — усмехнулась Ефремова. — Уж вытирайте потщательней и проходите.
Минут пять Вершинин тер ботинки о мохнатый половик и, только убедившись, что они очистились, прошел в комнату.
— Я к вашим услугам, товарищ Вершинин, — с вызовом произнесла Ефремова.
Аккуратно поправив удлиненную юбку с высокими разрезами спереди и сзади, она опустилась в кресло, показав гостю на стоящее рядом. Их разделял журнальный столик с поверхностью из черного стекла. Вячеслав осмотрелся. Квартира была обставлена редкими и дорогими вещами: зеленоватый мебельный гарнитур, инкрустированный темно-желтым металлом, старинный буфет, украшенный орнаментом из натурального перламутра, дорогие шерстяные ковры ручной работы. Повсюду были расставлены оригинальные безделушки. Чувствовалось, что Ефремова испытывает тягу к роскоши. Вершинин взял оригинальную фигурку застывшего в боевом кличе слона с высоко поднятым хоботом и с деланным интересом стал ее рассматривать. Оказалось, что это зажигалка. От нее исходил слабый запах бензина, а отверстие хобота было запачкано сажей. Он вертел безделушку в руках, пытаясь узнать, как она зажигается. Ольга Владимировна, молча наблюдавшая за его действиями, взяла слоника и резко катнула его ногами по гладкой поверхности стола. Из хобота тотчас вырвалось пламя. Безделушка смутно напоминала ему что-то. Молчание затянулось. Ефремова сидела напряженно и ожидала вопросов. Вершинин долго подыскивал нужные слова.
— Я расследую дело о клевете на директора вашего завода, и вот захотелось поговорить с вами как с заместителем начальника планового отдела о некоторых деталях, — сказал он, поглаживая гладкие бока слоника.
— Дальше, дальше, — грубовато поторопила она.
— Может быть, вам известен характер взаимоотношений Кулешова с сослуживцами. Нас интересуют люди, настроенные против него, обиженные им.
— Значит, о взаимоотношениях с сослуживцами? С кем именно? С главным инженером? С замом? Или вас больше всего беспокоят его взаимоотношения с заместителем начальника планового отдела? — почти выкрикнула она.
В темных глазах собеседницы загорелась такая ярость, что Вячеслав едва не отодвинулся от нее.
— А может, вы пришли спросить, была ли я его любовницей? К чему тогда робеть и разводить дипломатию? Смелее спрашивайте. Те, из комиссии, ведь не профессионалы, вот и ходили вокруг с ужимками да улыбочками, но прямо спросить не решались, а вы же профессионал, следователь, вам не привыкать. Так почему же вы оробели? Говорите прямо. Какие там служебные взаимоотношения? В таком случае вы бы меня просто вызвали к себе. Вам нужно другое.
— Меня интересует все, что вы скажете.
— Вас интересуют только наши взаимоотношения с Кулешовым. Вы, конечно, вдосталь начитались о них в анонимных шедеврах да наслышались от досужих сплетников на заводе. За душу взяло? Посмаковать захотелось?
Она сорвалась с места, рванула на себя створку буфета и выхватила оттуда сифон с газированной водой. Не предлагая гостю, залпом осушила стакан. Вячеслав тем временем окинул ее незаметным взглядом. Она была хороша.
«Да, — признался себе Вершинин. — Кулешова отчасти можно понять, если то, что пишут в анонимках — правда».
— Среди пошлых намеков и недомолвок я живу уже давно, — донеслось до него. — О, как мне все надоело! Два года назад я разошлась с мужем. Хороший был человек — мягкий, уступчивый, однако стал выпивать. Разошлись. Сплетники тут же поставили мне в вину. «Бросила мужа, — шепчутся, — чтобы безнаказанно встречаться с любовником». А хотя бы так? Я далеко не девочка. Кто запретит мне встречаться с мужчиной? Замуж пока не собираюсь, хватит. Надо отдохнуть, пожить для себя. Да и страшновато: опять на пьяницу нарвешься. Материально я обеспечена хорошо. Хочу жить спокойно, но вся эта возня выводит меня из равновесия. Какое вам всем дело, имею ли я любовника, или, как на вашем юридическом языке называется, временного сожителя, или нет, директор он завода или токарь из механического цеха.
Грубый цинизм монолога Ефремовой покоробил Вершинина. «Неужели это реакция на мое появление?» — подумалось Вячеславу.
В действительности это было именно так. Появление следователя стало каплей, переполнившей чашу терпения. На мгновение Ефремова забыла, что перед ней незнакомый человек, и бросила ему в лицо скопившуюся за годы обиду. Бросила даже не ему лично, а всем тем, кто не давал ей спокойно жить в последнее время.
Ефремова быстро опомнилась.
— Простите меня, — хрипловатым от напряжения голосом сказала она. — Я вела себя, как базарная торговка. Лопнуло терпение. Простите, может, выпьете кофе?
— Выпью, — согласился Вячеслав, словно и не обратил внимания на ее вспышку.
— Я пойду на кухню, а вы пока посмотрите книги. Бывший муж увлекался.
На полках стояли собрания сочинений зарубежных и русских классиков, исторические романы.
Вершинин достал простенькую книжку в ярко-оранжевом переплете. «Дин Рид, — прочел он броскую надпись. — Певец, композитор, гражданин». Полистал. Красочные фотографии, заразительная улыбка, знакомые песни.
— Дин, Дин, Дин, — пробормотал Вячеслав, касаясь пальцами выбитого на обложке имени. — Слово-то знакомое какое, будто вчера произносил, а ведь слышал-то о певце давным-давно.
Он поставил книгу на место и стал рассматривать оригинальные безделушки, стоящие на шкафу. Все они оказались иностранного производства: английского, итальянского, французского. За этим занятием его и застала хозяйка дома, внося в комнату поднос с кофейным сервизом.
— Вы часто бывали за границей? — спросил он.
— Два раза в Болгарии на Золотых песках. Ах, да! Как следователя вас интересует источник приобретения этих вещиц, — небрежно показала она на безделушки. — Вы угадали — от благодарных поклонников. У меня ведь их штабеля.
«Рисуется. Бравирует свободным образом мыслей и независимостью суждений, — решил Вячеслав. — Своеобразный способ защиты от любопытных. А поклонник, по-видимому, один и скорее всего Кулешов. Ведь это его хобби — подобные безделушки».
— Скажите, а коньяк следователи употребляют? — прервала его мысли Ефремова, — или при исполнении им строго запрещено?
Вопрос застал врасплох. На столике уже стояли две фарфоровые чашечки с бледно серебристым рисунком, чайник с кипятком, банка быстрорастворимого кофе и сладости. Однако рюмка коньяка оказалась бы в самый раз. У Вершинина едва хватило сил отказаться.
— Следователи коньяк употребляют, — в тон ей ответил он, — но будем считать, что я сейчас при исполнении.
— Жаль, — она поставила обратно в бар початую бутылку коньяка, подержала в руках маленькую рюмочку синего хрусталя, но передумала и взяла бокал побольше. На столе появился тонко нарезанный лимон, ветчина, маринованные грибы.
— Если вас не шокирует, я выпью водки, — сказала Ольга Владимировна.
— Не имею права вас ограничивать, хотя предпочитаю разговор на трезвую голову.
— От такой малости я не опьянею, не волнуйтесь, — с вызовом бросила она и что-то пробормотала осуждающе о современных мужчинах.
Вершинин пропустил ее слова мимо ушей и мелкими глотками принялся пить горячий кофе, изгоняя остатки уличного озноба.
— Иногда вечерами, особенно в непогоду, мне бывает очень тоскливо, — тихо сказала она. — Одиночество становится в тягость.
— Быть одинокой или нет, зависит только от вас.
— Да, вы правы, — согласилась она, — но все порядочные мужчины в нашем возрасте разобраны, а другие мне не нужны. Вы женаты?
— Конечно.
— Ну да, естественно.
Они помолчали. Вкус второй чашки кофе Вершинин ощутил еще острее.
— Вы счастливы… Слава? — пальцы Ефремовой на мгновение коснулись его руки. Вячеслав взглянул на Ефремову. Выразительные глаза женщины резко изменились. От прежней надменности и холодности не осталось и следа. Она откинулась на спинку кресла, положив ногу на ногу.
Внезапно раздался звонок в дверь. Ефремова быстро встала и вышла в прихожую. Вячеслав услышал звук Открываемой двери, а затем приглушенный голос. Только сейчас он сообразил, в каком оказался двусмысленном положении, и лишь усилием воли заставил себя остаться на месте. Мужской голос, доносившийся из прихожей, показался ему знакомым.
Войдя в комнату, Ефремова скользнула взглядом по гостю, и он уловил ее жгучее любопытство. Она пыталась уловить реакцию на неожиданное посещение. Вершинин даже не шелохнулся.
— Сосед из квартиры рядом, — виновато заметила хозяйка, усаживаясь в той же позе. — Просил закурить.
Вячеслав равнодушно посмотрел на нее.
— Хм. По внешнему виду вашего соседа я бы не сказал, что он склонен к саморазрушению. Слишком холеная физиономия.
— Вы разве знакомы?
— Познакомились, — недружелюбно ответил он.
В комнате опять повисло молчание.
— Ну, мне пора, — поднимаясь с кресла, сказал Вершинин.
Она молча проводила его до двери.
ДЖЕНТЛЬМЕН, СЭР И ПРОЧИЕ

Виктор Глухов просунул голову в кабинет точно в назначенное время. Всем своим видом он выражал полнейшую покорность. Вершинин с любопытством присматривался к нему. С момента последней встречи парень сильно изменился. Тогда, замызганный с всклокоченными волосами и воспаленными глазами, он больше напоминал загнанного зверя, а сейчас превратился в крепко сбитого аккуратного парня. Родители не жалели денег на его экипировку. Он был одет в отличную куртку темно-коричневого цвета, бархатные брюки и импортные ботинки на неимоверно высоком каблуке. По каблукам-то Вершинин и понял, что Виктор принадлежит к той незначительной части современной молодежи, которая в период всеобщего интенсивного роста не стала акселератами, а тихо и спокойно растет себе сантиметра на два, на три в год, страдая и мучаясь от этого. Такие ребята очень завидуют тем из своих приятелей, на которых с удивлением снизу вверх посматривают даже их собственные родители. Свое отставание они пытаются устранить с помощью высоких каблуков, мучительного висения на турнике вниз головой, всевозможных растяжек и других способов, которые им, впрочем, мало помогают. Некоторые из них, стараясь казаться взрослыми, совершают проступки, употребляют спиртное, пренебрежительно относятся к школе. Таким был и Глухов.
— Заходи, Витя, — позвал его Вершинин. — Успел отдохнуть от вольной жизни?
— Чего от нее отдыхать? — не понял юмора тот. — На фанзе мирово — сам себе хозяин. Хочешь спи, хочешь полезай на крышу да и смотри вокруг. Если бы еще харчами запастись, надолго можно оставаться. Как Робинзон.
— Уговариваешь сам себя, что прав. Еще неделя, и ты бы волком завыл, но не от голодухи, а с одиночества. Робинзон Крузо — он на все руки мастер был, все сам делал, а ты поди картошку сварить себе не умеешь.
Глухов набычился. Нравоучений он наслышался дома, а трудностей, о которых говорил следователь, не успел еще испытать — слишком быстро оборвалось вынужденное отшельничество.
Вячеслав сразу уловил, что тот готов, подобно улитке, спрятаться в раковину, и подчеркнуто официально сказал:
— Ваши показания об ограблении на вокзале двух ребят подтвердились. Имеются ли еще какие дополнения?
Глухов вздрогнул. Взгляд его заметался по комнате.
— Дополнения? Какие дополнения? Я все рассказал. Только… Только я-то ведь не грабил, просто стоял рядом. Почем мне знать, что он шапку с перчатками отнимет? Думал, попросит у знакомых на бутылку и все.
— О степени вашей вины после, — наступал Вершинин, — а сейчас скажите: узнаете вы человека, у которого Шестаков отобрал вещи.
— Темно было, — заюлил тот. — Да и времени много прошло.
— Отвечайте прямо, без уверток. Если все произошло так, как вы рассказали, вам опасаться нечего, но если скрываете свое участие в ограблении, ваше запирательство вполне понятно.
— Я постараюсь… — выдавил из себя Виктор.
— Хорошо. В таком случае мы сейчас пройдем в другой кабинет, где вам покажут трех ребят приблизительно одинакового возраста. Ваша задача — сказать нам, есть ли среди них тот, у которого Шестаков отобрал вещи.
Глухов понуро поплелся за следователем. Полные его щеки ярко рдели. Вершинин еще раз подивился меткости человека, прилепившего ему кличку «Дуняша».
В комнату, где должно было происходить опознание, Виктор зашел, боязливо опустив глаза. Впечатление сложилось такое, будто он смертельно напуган.
— Взгляните, Глухов, — громко произнес Вячеслав, и тот вздрогнул, — знаком ли вам кто-нибудь из сидящих?
Глаза Глухова забегали из угла в угол, задерживаясь попеременно на следователе, на понятых, но как раз не на тех, на кого надо было смотреть. Наконец, украдкой, исподлобья он бросил взгляд и на них. Все трое сидящих были одного возраста, одеты приблизительно одинаково. Они молча смотрели на Глухова. Лоб того покрылся мелкими бисеринками пота.
— Успокойся, Глухов, успокойся, — положил ему руку на плечо Вершинин, опасаясь, как бы со страха тот не наделал глупостей. — Приглядись к каждому повнимательней.
— Н-нет, не знаю, — упавшим голосом сказал Глухов.
— Вы же еще и не смотрели как следует, — спокойно продолжал Вячеслав. — Поглядите внимательно, есть среди них человек, у которого Шестаков отнял шапку и перчатки?
Под ладонью Вершинина плечи паренька расправились, и он прямо взглянул на трех парней. Субботин выбрал место крайним справа, а Глухов стал разглядывать сидящих слева направо. Все, затаив дыхание, наблюдали за его поведением. В комнате нависла звенящая тишина. Казалось, даже понятые побаиваются, как бы их не опознали по ошибке. Однако Виктор остался равнодушным при осмотре первых двух человек. Поведение его изменилось, когда он стал разглядывать Субботина: глаза застекленели, по полным щекам прошла мелкая дрожь. Субботин, как в гипнозе, тоже не отводил, взгляда от Глухова.
«Ура, ура, ура, виват? — мысленно сказал себе Вершинин, заметив реакцию обоих. — Он!»
— Это не тот, — почти беззвучно слетело с губ Глухова.
В первое мгновение Вячеславу показалось, что он ослышался.
— Как не тот? Вы же узнали его. Я видел.
— Не тот, — тихо повторил парнишка.
С ехидной улыбочкой Субботин распрямился на стуле.
— Значит, не тот? — переспросил Вершинин. — Тогда кто же это? Кто? Ведь ты знаешь его.
Повернув к следователю умоляющее лицо, Глухов затараторил скороговоркой:
— Не он это, не он, честное слово, не он. Другой это.
— Другой? Какой другой?
— Он рядом стоял с тем парнем, у которого отняли шапку и перчатки. Тоже был пьяный. У него Ханыга ничего не взял, взял у другого, — бормотал Виктор, избегая взгляда Субботина.
Вершинин рассчитывал теперь, что Субботин должен признаться, однако он ошибся. Тот равнодушно взирал на происходящее, словно оно касалось другого человека.
«Сильна выдержка у непробиваемого, — подумал Вячеслав, пытливо рассматривая его бесстрастное лицо, — ну, да ладно, как ни хорохорься, а признаваться придется».
— Рассказывай, — сказал Вершинин, обращаясь к Субботину.
Субботин едва заметно передернул плечами.
— Рассказывай, рассказывай, Вадим. Смелей. Ты же видишь, запирательство бесполезно, нам все известно. Теперь хочется от тебя услышать, что происходило в тот Вечер после того, как Шестаков, то бишь Ханыга, ограбил твоего приятеля.
— Опять вы мне про Ханыгу. Откуда мне его знать?
— Позволь, позволь. Ты ведь был частым гостем на вокзале, сам этого не скрываешь.
— Был. Ну и что же?
— Ханыга тоже проводил там почти каждый вечер. Друг друга вам не миновать. Вот посмотри, — он показал ему небольшую фотографию Шестакова.
Вадим равнодушно посмотрел на снимок и покачал головой.
— Первый раз вижу.
— Значит, Нина по-твоему врет?
— Врет.
— И Глухов?
— Врет, как шакал.
— Ну подумай, зачем им врать, оговаривать тебя, если вы незнакомы друг с другом. Нину ты видел только мельком, Глухова совсем не знаешь. Какие могут быть счеты между вами?
— Глиста скажет то, что вам нужно, а этому сеньору-помидору просто со страху померещилось. Он метался-то, как крыса. Да и вы, я заметил, здорово волновались из-за своей затеи с опознанием. Боялись лопнет.
— Значит, и я уже задался целью погубить тебя?
— Все может быть, — упрямо сказал Субботин. — Убийство вам надо раскрывать, а мне его легче всего пришить. Вот и стараетесь.
— Почему именно тебе, а не другому? — с иронией поинтересовался Вершинин.
— Так, — последовал короткий ответ.
Вячеслав положил авторучку на стол, собрал бумаги, сложил их аккуратно в портфель. Затем, опершись головой о руку, принялся внимательно, как диковинное животное, изучать сидевшего перед ним парня. Поначалу тот встретил его взгляд вызывающе, но потом опустил голову и стал нервно пощелкивать пальцем о палец.
— Ошибаешься, Субботин, — наконец, раздельно произнес Вершинин. — Я тебя в убийстве не обвиняю, думаю, его совершил другой, а вот за то, что ты не сообщил о совершенном на твоих глазах убийстве, придется отвечать, и отвечать по всей строгости закона. И поверь мне — вина твоя будет доказана.
Субботин пытался возразить, но следователь жестом заставил его замолчать.
— Я понимаю, — продолжал Вячеслав, — тебе не хочется называть имени своего приятеля, ты думаешь скрыть его от наказания, уверен, что нам самим не найти. Ошибаешься: рано или поздно мы найдем убийцу, и он все расскажет. Зачем ему запираться, ведь у него есть и смягчающие вину обстоятельства. У тебя же таких обстоятельств не будет, ты сам от них отказался.
Субботин с недоверием слушал следователя. Его взгляд, казалось бы, говорил: «Рассказывай, рассказывай, все равно не расколюсь. Какие еще тут смягчающие обстоятельства? Посадите и все».
— Да, да, да. Самые настоящие смягчающие обстоятельства. Твой приятель убил Шестакова за то, что тот ограбил его: снял шапку, отобрал перчатки. Я далек от мысли оправдывать убийцу, он не имел права отнимать жизнь у человека, пусть даже у преступника. Но все же поведение Шестакова в определенной степени смягчает вину твоего приятеля, которого ты скрываешь.
Субботин насторожился и слушал, хотя и с прежним недоверием, но уже внимательнее.
— Отвечать ему за убийство придется, и лучше раньше, чем позже. Но тебе, тебе почему хочется в тюрьму? На, почитай уголовный кодекс, там черным по белому написано, какое наказание положено за недоносительство.
Субботин бегло пробежал глазами текст статьи.
— Хм, — пробормотал он, — за какого-то Ханыгу три года. Да его давно убить надо было. Правильно сделали, что пришили гада.
— Мое мнение на этот счет ты уже слышал. А Ханыгу-то, оказывается, знаешь.
— Наслышан. Скотина, каких мало. Туда ему и дорога. На вашем месте я бы не искал, кто его убил, а если бы тот сам объявился, благодарность ему дал. А вы…
— А мы, Вадим, обязаны искать убийцу. Представь себе, что произойдет, если каждый станет сам судить и приводить приговор в исполнение. Анархия, хаос. А сколько безвинных пострадало бы.
Однако все его доводы разбивались об упрямство Субботина, вбившего себе в голову, что назвать того, с кем он был на вокзале, равносильно предательству, и держался этой линии. Вершинин задумался — нужны были новые факты, чтобы убедить Субботина сказать правду. Он вспомнил испуг Вадима во время предпоследнего разговора.
«Чего же испугался он тогда? Каких слов? А если повторить фразу?» — мелькнуло в голове.
— Значит все-таки в день убийства Шестакова ты был на вокзале, — сказал он как о само собой разумеющемся. — Один?
Прежнего эффекта не произошло. Субботин вяло отмахнулся от вопроса, как от надоедливой мухи.
«Осечка, — подумал Вячеслав. — Но почему же? Что изменилось?»
Из глубин памяти вдруг всплыли буквы, выбитые на ярком переплете: «Дин, Дин Рид. Певец Дин Рид. Но причем здесь он?» — и тут вдруг Вершинину пришла в голову самая простая мысль.
— Вадим, — мягко произнес он. — Напрасно ты скрываешь от меня правду. Я ведь знаю — на вокзале с тобой был Дин.
Субботин не испугался, как в прошлый раз, внешне он оставался равнодушным, однако Вячеслав шестым чувством понял, что ему выпала удача. Он и сам пока не осознал, почему так уверенно назвал это имя, но уже знал, что сделал правильно. Вершинин постоянно мысленно возвращался к фразе, выкрикнутой кем-то из бегущих в тот мартовский вечер. Она беспокоила его своей нелогичностью. «Бей его, Дин» — вот как прозвучала она, но железнодорожник Чеботарев понял ее иначе. По странному стечению обстоятельств ошибся и Субботин. Вопрос Вершинина, заключавшийся в слове «один?», он понял по-другому. Ему показалось, что следователь спросил: «А Дин?» Значит, именно такой была кличка парня, убившего Шестакова.
— Да, с тобой находился Дин, — теперь уверенно сказал Вячеслав. — У него Шестаков и отобрал шапку с перчатками и потом поплатился за это жизнью.
Субботин снова промолчал. Но теперь чувствовалось, что он по-настоящему подавлен.
Вершинин в который раз перечитывал справку управления внутренних дел:
«Правонарушителя под кличкой «Дин» в картотеке УВД и районных отделов внутренних дел области не зарегистрировано. Просим сообщить дополнительные данные».
Стрельников с интересом наблюдал за вытянувшейся физиономией приятеля.
— Не может быть, — поражался тот. — Я уверен, что прав. Субботин отреагировал на эту кличку. Сейчас произошла накладка — плохо смотрели, или, может быть, он не попал в картотеку, не проявил себя пока.
— Скажи, откуда у тебя возникла эта ассоциация с певцом? — полюбопытствовал Стрельников.
— Длинная история, — уклонился от подробностей Вершинин. — Однако я прав. Помнишь ты спорил со мной насчет железнодорожника. Вот тебе ответ: «Бей его, Дин!» Сейчас надо искать этого Дина. Перерыть все и вся, но найти. Он вполне реальная личность.
— Умница ты моя. Интеллектуал мой родной, — умильно сказал Стрельников. — Ты, как всегда, прав. Послушай теперь меня. В милицейской картотеке нет человека под кличкой «Дин». Но почему нет? Из-за нашего формализма. Завели карточку, записали кличку и порядок. Человек больше себя не проявляет, о нем забывают, и кличка остается приклеенной к нему раз и навсегда. А время идет, все течет, все изменяется. Меняются люди, меняются клички. Хорошо, что память человека способна запечатлеть в своих глубинах детали, непосильные для бумаги. Бумага помнит, но молчит, а человек помнит и говорит. Память одного из моих ребят запечатлела оригинальную кличку гражданина под фамилией Потемкин. Трудно дать гарантии, что сей молодец находится в отдаленном родстве с сиятельным графом Потемкиным — любимцем и фаворитом царицы Екатерины, но страсть ко всему благородному у него в крови.
Вершинин с возрастающим вниманием слушал длинную тираду Виктора.
— Да, да, — повторил тот. — Благородство — конек юного Потемкина. Из-за благородства он и получил в узком кругу своих приятелей высокопарное прозвище Господин. Господин в их понятии, вероятно, человек, необычайно благородной души. И уж во всяком случае человеку с такой кличкой на роду написано повелевать мелюзгой типа Ханыги, Глисты и иже с ними.
— Ты молодец, Витька, — вскочил Вершинин, настроение у которого сразу подпрыгнуло. — «Дин» — уменьшительное от слова «господин». Дин, господин, Дин, господин, — повторял он, кружась по кабинету в обнимку со стулом.
— Я навел справки и час назад получил исчерпывающие сведения о Господине. Они вселяют радужные надежды на исполнение наших желаний. На учете в милиции Господин не состоял, но его дважды притаскивали в дежурку за побег из отчего дома. Парень не нашел общего языка с родителями. У него мать и отчим. Они забрали его и обещали сами перевоспитать. С того времени в памяти нашего сотрудника и осталась необычная кличка, а вспомнил он о ней случайно, когда присутствовал при поисках Дина по картотеке. Взгляни-ка на характеристику из школы, которую этот мальчишка окончил в прошлом году, — Стрельников подвинул ему лист бумаги.
«Потемкин Владимир Сергеевич, — прочел Вершинин, — учился на хорошо и отлично. Участия в общественной работе не принимал. По характеру замкнутый, малообщительный, однако любит проявлять благородство — заступиться за слабого, призвать к порядку хулигана. Но такие поступки совершает только из желания показать силу и превосходство над другими, если уверен, что слава о его качествах станет всеобщим достоянием. В противном случае чужая судьба ему безразлична. К своей матери относится свысока, не прощает ей каких-то мелких недостатков. Появление ее в школе встречает враждебно. Дружит с подростками, склонными к правонарушениям (Субботин Вадим, Третьяков Василий, Василевский Николай). Пользуется у них авторитетом. Потемкин — несомненно способный мальчик и при правильном воспитании занял бы достойное место в жизни. После окончания школы поступал на юридический факультет университета, но не прошел по конкурсу. Дальнейшая судьба его школе неизвестна».
— Школе его судьба неизвестна, а милиции? — спросил Вячеслав, пряча характеристику.
— Милиции известна. Провалившись на вступительных экзаменах, наш потенциальный коллега месяца три бездельничал, затем устроился учеником на завод сельхозмашин, проработал там месяц, уволился и бездельничает довольно продолжительное время. По слухам, нередко посещает вокзал, хотя нам пока не попадался.
— Похож, безусловно похож на того, кого мы ищем.
— Еще бы. А заметь, какая компания подобралась: Субботин — он же Джентльмен, он же Мен, Третьяков — он же Сэр, Василевский — он же Мистер, и Господин тут как тут.
— Чудесно. Господин Потемкин должен быть у меня в ближайшее время. Мне хочется задать ему несколько вопросов.
— Обещаю тебе скорую встречу с ним, — сказал Стрельников, тут же вызвал двух своих сотрудников и приказал им поехать за Потемкиным.
УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР

Приметам, а тем более предчувствиям Вершинин не верил. Он всегда высмеивал людей, подверженных этому, например шофера Ростовцева, который останавливал машину, если дорогу ему перебегала черная кошка. Однако в то утро у него появилось предчувствие надвигающейся неприятности. Вячеслав пытался проанализировать, откуда оно, но так и не смог. Дела шли хорошо: сдвинулось с мертвой точки убийство Шестакова, вот-вот удастся найти анонимщика с завода.
«Нервишки пошаливают, — отмахнулся он от неприятных ощущений. — Начинаю вставать с левой ноги».
Первым, кто ему встретился в тот день в прокуратуре, был Бакулев. Обычно угрюмый и малоразговорчивый, он остановился и начал расспрашивать о семье, о планах на будущее. Вершинин насторожился и стал мысленно искать причину повышенного интереса начальника следственного отдела к своей персоне. Однако так и остался в неведении, ибо Бакулев, заметив вдалеке грузную фигуру поднимавшегося к себе Аверкина, прервал расспросы и побежал за ним.
Едва Вячеслав успел раздеться и привести себя в порядок, как его вызвал Аверкин. Вершинин захватил с собой на всякий случай дело об убийствеШестакова, которым прокурор области по-прежнему интересовался, и поднялся в приемную. Кивнув на ходу двум дожидавшимся приема сотрудникам, Вершинин уверенно открыл тяжелую дверь тамбура, толкнул вторую и вошел к Аверкину, у которого находился и Бакулев. На приставном столике лежало вниз текстом несколько бумаг, а под ними виднелась серая папка, в которых обычно хранились личные дела работников прокуратуры. Вершинин попытался разглядеть, чье это личное дело, но ему это не удалось: оно лежало так, что нельзя было увидеть фамилию.
— Убийство Шестакова раскрыто? — без предисловий спросил Аверкин, глядя поверх головы вошедшего.
Вершинин доложил последние результаты.
— Хорошо, — оживился тот. — Можно считать его раскрытым?
— Боюсь предвосхищать события, но, думаю, к вечеру смогу сказать достаточно определенно. Потемкин в городе, мы это знаем точно. Времени со дня убийства прошло предостаточно, и оснований для тревоги у него нет. Вот-вот мы его найдем.
— А эти… ну как их… девушка и?..
— Субботин.
— Да, Субботин. Вдруг он предупредит его.
— Нине о том, что мы подозреваем Потемкина, не известно, да и она последнее время перестала бывать там, где развлекается эта публика. А Субботин? О нем я могу сказать точно — в течение суток своего пребывания в городе не встречался ни с одним из прежних приятелей. Сидит дома.
— Способов передать о себе весточку много, можно предупредить, оставаясь дома. Поэтому советую усилить поиски Потемкина, а не настраивать себя на благодушный лад.
— Понимаю. Но лично я знаю, что Потемкин абсолютно уверен в своей недосягаемости и спокоен. Вчера вечером, как только стала известна его фамилия, мы установили наблюдение во всех местах скопления молодежи, размножили его фотокарточку и вручили общественникам и работникам милиции. Родителей парня пока обходим, ведь дома он не появляется свыше двух суток.
— Смотри-ка, Бакулев, подозреваемого и след простыл, а у Вершинина тишь да гладь, да божья благодать.
— Потемкина нет двое суток, а Субботин только сутки, как появился в городе. Между этими событиями связь отсутствует. Вероятней всего, подозреваемый находится в очередном вояже на почве несовместимости характеров с домочадцами.
— Как успехи на заводе сельхозмашин? — как бы невзначай поинтересовался Аверкин.
— Работа в самом разгаре, — ответил Вершинин. — Мне удалось установить, что все анонимки напечатаны на пишущей машинке «Олимпия», принадлежащей когда-то заводу и потом списанной за ветхостью в утиль. Однако ее не уничтожили, как положено по инструкции, а оставили на складе. Затем по устному распоряжению заместителя директора завода Колчина, тогда он, правда, работал в другой должности, ее передали работнице бухгалтерии Чепурновой. Предположительно машинка должна быть у нее.
— Вы допросили Чепурнову?
— Еще рано. Говорить с ней или Колчиным я воздержался из тактических соображений. Если анонимки пишет она и ей станет известно, что я докопался до машинки, она попросту перепрячет ее, а мне машинка нужна как воздух. Это ведь главное доказательство.
— А зачем вы приплетаете сюда заместителя директора? Он и отдал-то машинку, наверное, по простоте душевной, подумал рухлядь, хлам.
— Возможно и так, но я сомневаюсь. Кстати, он спит и видит должность директора завода.
— Есть перспектива?
— В данный момент исполняет обязанности, а по прогнозам — законный преемник.
— Тогда сомневайтесь, но учтите, — от передачи Чепурновой машинки до совместного выживания подобным способом с завода Кулешова «дистанция огромного размера».
— Конечно, он не станет сочинять анонимки вместе с Чепурновой. Достаточно дать ей понять, намекнуть. Она на лету схватит. Кстати, после назначения Колчина исполняющим обязанности на заводе пошли упорные слухи о том, что главным бухгалтером назначат Чепурнову, которая давно с вожделением мечтает об этой должности.
— Что же представляет из себя эта Чепурнова? Откуда она взялась?
— Пока у меня весьма скудные сведения о ее биографии, но кое-какие качества Чепурновой известны от заслуживающего доверия человека. Этот человек рассказывает, что она «запишет» любого, кто станет на ее пути. Одержима завистью и лютой злобой. На работе с ней боятся связываться. Моя знакомая утверждает, что она и на нее писала анонимки.
— Черт побери, — возмутился Аверкин, — может она кверулянтка[20] да к тому же не в здравом уме?
— Трудно сказать, — ответил Вершинин, — возможно элементы того и другого есть, но действует она последовательно и обдуманно, не как психически больной человек. Стремится достичь какой-то выгоды или отомстить Кулешову. Потом выясним подоплеку. Одно возмущает — уверена в своей безнаказанности. Опыт большой, знает, что обычно автора не ищут, вот и распоясалась. Наверное, пошлет письмецо и ловит потом самозабвенно отголоски разговоров о неприятностях у директора, а себя считает режиссером первоклассного спектакля.
— Кто знает, — усомнился Бакулев. — На некоторых заводах и фабриках администрация по сей день допускает много нарушений.
— Есть. Верно, — согласился Вячеслав. — Однако далеко не на всех и даже не на многих. На заводе сельхозмашин я злоупотреблений не нашел, финансовая дисциплина у них в порядке, законодательство об охране труда соблюдается. Завод вполне благополучный.
— Так уж и благополучный, — пробурчал Бакулев. — Может, вам трудно было разобраться в тонкостях производства? Ревизию-то хоть назначили?
— А зачем ревизия? На протяжении двух лет завод трижды ревизовала вышестоящая организация. Никаких серьезных замечаний. Выявили отдельные, прямо скажем, мизерные нарушения. Они фигурируют в актах, о них много говорилось.
— Подумаешь, ведомственная ревизия. К ней надо относиться критически. Ревизоры из вышестоящей организации не всегда заинтересованы в полном вскрытии нарушений. Это же в первую очередь бьет по ним. Надо было подключить контрольно-ревизионную службу, те бы разобрались.
— Я думаю, ведомственные ревизоры действительно разбирались пристрастно, — Вершинин многозначительно взглянул на Аверкина, — но только в ином смысле. В моей практике еще ни один контролер КРУ областного финансового отдела не разбирался так скрупулезно, как они. Вытащили даже то, чего и в помине не было. Кулешов много потратил сил, чтобы они убрали свое вранье. Ну, а потом я познакомил одного опытнейшего контролера КРУ с материалами ревизий. Он пришел к выводу, что завод сельхозмашин обревизован полно и вряд ли имеющиеся материалы можно чем-то дополнить.
— И все же трудно поверить в такую объективность, — снова возразил Бакулев.
— Ты погоди спорить, — осадил его Аверкин. — Ведь председателем комиссии от объединения приезжал человек, настроенный собрать компрометирующий материал на Кулешова. Для него анонимки стали находкой. Правильно я говорю? — спросил он Вершинина.
— Правильно. С этой целью он приезжал в первый раз и в последующие, причем сам рвался в руководители комиссии. Я проверил — во второй и в третий раз были серьезные возражения против его кандидатуры, но он, используя связи в вышестоящих организациях, добился своего.
Бакулев недоверчиво передернулся.
— Итак, насколько я вас понял, — пытливо посмотрел на Вершинина Аверкин, — все анонимки носят ярко выраженный клеветнический характер. Или в них есть хоть крупица правды?
Вячеслав замялся. Ответить отрицательно он не мог, особенно теперь, когда побывал у Ефремовой и понял, что о взаимоотношениях директора с ней скорее всего написана правда. Из-за этого ему сейчас и стало не по себе. Он вдруг представил Кулешова на судебном процессе по защите его чести и достоинства. Как-то будет выглядеть директор, когда всплывет на свет история с Ефремовой? Ведь подсудимый молчать не станет. Он скажет все как есть. Попробуй докажи обратное. И какое решение примет тогда суд? А вдруг предложит проверить, клевета ли это. Вот и Аверкин спрашивает с умыслом, значит, сомневается.
— Можно сказать, что клевета, — ответил все-таки Вершинин. — Серьезные обвинения в адрес Кулешова — сплошная выдумка. И злоупотребления, и аморальное поведение… Муху выдают за слона. Встретился директор, например, с друзьями в ресторане — пьянка, пришел к кому-то на квартиру — разврат. Денег Кулешов из заводской кассы не ворует, подчиненных не обирает… Человек как человек, руководитель как руководитель.
— А его связь с Ефремовой подтвердилась? — неожиданно прервал Вершинина Аверкин. — В анонимке утверждается, что он сожительствует с ней. Проверяли вы этот вопрос?
Вершинин поразился. Не память Аверкина его удивила — о ней ходили легенды. Сейчас ему трудно было вспомнить, были ли у него прежде разговоры с Аверкиным об этом, но он мог поклясться, что фамилию Ефремовой он не называл ему ни разу. Вячеслав был настолько ошеломлен вопросом прокурора, что не заметил колючего взгляда, которым впился в него Бакулев.
— Ефремова, — повторил Вершинин, пытаясь получше сосредоточиться. — Ефремова. Следственным путем я не проверял факт их взаимоотношений. Неудобно знаете: допросы, очные ставки и другое. В конце концов личная жизнь есть личная жизнь, однако я пришел к выводу, что они, возможно, были близки.
— И как же вам это удалось узнать, если не секрет? — поинтересовался Аверкин. — Из каких источников?
— Упорные разговоры на заводе и мои личные впечатления от встречи с Ефремовой.
— Значит вы все-таки допрашивали ее? Затрагивали этот щекотливый вопрос?
— Зачем допрашивать? Просто беседовал, — с трудом выдавил из себя Вершинин, которому все трудней становилось под градом вопросов. — Хотел выяснить для самого себя, правда ли это.
— Выяснили?
— Можно сказать, выяснил, хотя и не касался этой темы.
— Каким же образом?
— Видите ли… — замялся Вячеслав, — я заметил у нее разные сувениры, которые мог ей подарить только директор завода.
— И что же они представляют собой?
— Разные фигурки из серебра, фарфора, оригинальные зажигалки в виде экзотических животных.
— Позвольте, позвольте, — с удивлением воззрился на него Аверкин. — Вы были у нее дома?
— Заходил вечером. Она как раз болела, и я не смог застать ее на работе.
Бакулев торжествующе посмотрел на прокурора области, однако тот нахмурился.
— Значит вы — старший следователь областной прокуратуры, — оказал он, — пришли поздно вечером к молодой разведенной женщине, к тому же пользующейся вполне определенной репутацией. Рискованно.
Вершинин встал.
— Ч-что в-вы хотите сказать? — заикаясь, переспросил он.
Аверкин кивнул Бакулеву. Жестом фокусника тот вытащил дрожащими руками из лежащей перед ним папки исписанный лист и передал его Вячеславу.
«Товарищ прокурор», — рассеянно прочел тот и удивленно посмотрел на Аверкина, который отвернулся в сторону и перебирал справочную литературу. Бакулев тоже отвернулся, случайно задев стопку бумаги, которая сдвинулась в сторону, открыв лежащую внизу папку. Вершинин заметил на ней свою фамилию.
«Товарищ прокурор, — читал он и уже не отрывался от текста. — Нам известно, что в прокуратуре могут работать только кристально чистые в моральном отношении люди. Наверное, большинство таких и есть. Однако в семье не без урода. Встречаются в ваших рядах морально нечистоплотные люди, которые позорят прокуратуру, ибо кое-кто по одному человеку судит в целом и обо всей организации. Мы говорим о старшем следователе Вершинине. Он только прикидывается хорошим семьянином и добросовестным работником. На самом деле это морально разложившийся человек, который пьянствует и развратничает с некой Ольгой Ефремовой, одаривающей своей дешевой любовью многих сотрудников завода сельхозмашин, в том числе и директора Кулешова. Позавчера Вершинин провел с ней ночь и ушел, крадучись, под утро. Приходит к любовнице с коньяком, водкой, дорогими закусками. Не место таким в прокуратуре, гнать надо таких. Если не примете мер, будем писать выше».
По мере чтения в голове у Вячеслава нарастал странный тонкий звон, постепенно достигший неимоверной силы. Наконец, он лопнул, как туго натянутая струна. Заломило в висках, кожа на затылке онемела.
В кабинете стало тихо. Понимая состояние следователя, Аверкин и Бакулев сделали вид, что заняты своими делами.
Вершинин провел языком по сухим, шершавым губам и сглотнул ком.
— Значит, тут был допрос, — с трудом проговорил он. — Меня допрашивали.
Аверкин и Бакулев молча переглянулись.
— Какой допрос? — переспросил Аверкин. — О чем вы?
— Меня сейчас допрашивали, — тупо уставясь в бумагу, повторил Вершинин. — Вы верите этому письму.
— Не горячись, парень, не горячись. Выпей лучше водички, приди в себя, — озадаченный его реакцией, сказал Бакулев. — Допроса не было, но проверять надо, пойми наше положение. Сигнал-то серьезный.
— Я понимаю, — с трудом разлепил губы Вершинин. — Я все понимаю. Мне здесь не верят.
— Постой, погоди, — вмешался не на шутку обеспокоенный Аверкин. — Сразу уж «подозревают», «допрашивают». Просто Бакулеву поручено проверить сигнал. А пока скажи честно: зачем тебе понадобилось идти к ней?
— Я уже говорил — хотел выяснить, были ли основания у анонимщика писать о связи Ефремовой и Кулешова.
— И только-то?
— И только-то.
— Ну, а насчет… коньяка и всего прочего?
— Вы этому верите? Хорошо! Значит и коньяк пил с ней, и водку. Можете теперь увольнять.
Бровь Аверкина удивленно поползла вверх, да так и застыла там словно приклеенная.
— Как вы могли? Вы, человек, на которого я возлагал большие надежды, — с горечью произнес Аверкин. — Я отдаю должное вашей прямоте и честности, вы ведь могли отказаться, не признаваться, но скидки вам все равно не будет. Вон ведь даже автор этой грязной анонимки, и тот знает, какие люди могут работать в прокуратуре. А вы? Семья, ответственная работа и вдруг такая история — коньяк, ну и… все прочее.
— Что прочее? Что прочее? — вскочил в бешенстве Вершинин. — Да ничего не было: ни коньяка, ни водки. Неужели этого не понять, Николай Николаевич?
— Как не было? — опешил тот. — Вы же сказали…
— Я сказал. Я действительно сказал, что заходил к Ефремовой по чисто деловым соображениям. Искал на заводе — не нашел. Решил не ждать, хотел узнать быстрее, вот и пошел к ней домой, причем в первый и последний раз в своей жизни. Пил у нее кофе. Ведь не преступница же Ефремова, черт подери, почему же я должен шарахаться от нее, почему должен вести себя как дикарь и в ответ на гостеприимное предложение выпить кофе встать в позу неприступной девственницы? Выпил чашку и все. Пробыл часа полтора, поговорил и ушел. Казните меня теперь, вешайте, четвертуйте, снимайте с работы.
— И все? — с изумлением переспросил Аверкин. — Но ведь там написано…
— Еще раз повторяю — на этом наше знакомство окончилось. И на ночь я у нее не оставался, и невинность свою сберег, так что в моральном плане чист как стеклышко, — в голосе Вершинина вновь прозвучали саркастические нотки. — Все произошло именно таким образом, ни больше ни меньше.
Аверкин и Бакулев вздохнули с облегчением.
— Кто же все-таки автор этой анонимки? — с тревогой спросил прокурор. — Вы подумайте. Это работа не случайного человека. Кстати, кто мог вас видеть, когда вы заходили к Ефремовой?
Перед глазами Вершинина, как в замедленной съемке, стали раскручиваться события того вечера.
Большой дом. Ребята во дворе, потом гроза. Нет, сначала брюнет из соседней квартиры, а потом гроза. В магазине знакомых не было. Затем Ефремова, звонок в дверь, опять брюнет. Стоп. Неужели он? Но зачем? Зачем ему? Ревность? Приревновал к Ефремовой? Слишком игривый тон у него для серьезного чувства, и вообще вид у него нескладный. Да и незнакомы мы. Может, Ефремова сказала, кто я? Вряд ли. Психологически не оправдано. Какая женщина станет рассказывать соседу, что у нее сидит следователь. Начнутся любопытные вопросы, придется врать, выкручиваться. Ерунда. Нет, кандидатура брюнета отпадает сразу.
Вячеслав взял письмо, еще раз прочитал написанное и вдруг понял, что почерк ему знаком. Он перечитал вновь и даже потрогал пальцем неровные, прыгающие строчки, казалось, выбрызнутые с пера вместе со злостью, а затем вскочил и, не замечая удивленных лиц Аверкина и Бакулева, выбежал из кабинета. Он пулей пронесся мимо ожидающих в приемной людей. Промчался вниз по лестнице, кое-как попал ключом в замочную скважину своего кабинета, открыл сейф и выхватил оттуда принесенное женой Кулешова письмо. Бросив на почерк беглый взгляд, он с той же стремительностью поднялся наверх и положил конверт на стол перед Аверкиным. Тот с удивлением взял его, посмотрел адрес, а затем вынул письмо. По мере чтения лицо Николая Николаевича принимало брезгливое выражение, нижняя губа презрительно оттопырилась. Потом он положил анонимку, написанную на Вершинина, рядом, внимательно сличил оба письма и поманил Бакулева. Тот тоже склонился над ними, через минуту выпрямился и крякнул с досады.
— Твое мнение? — требовательно спросил Аверкин.
— Одна рука, — тихо отозвался Бакулев. — Можно без экспертизы обойтись — ясно как божий день.
— Каким образом к вам попало это письмо? Оно ведь адресовано Кулешовой? — поинтересовался Аверкин, возвращая его Вершинину.
— Она сама принесла мне. Ее хотели спровоцировать на скандал и подбросили в почтовый ящик.
— Но кто же? Какая дрянь занимается этим?
— Она не знает. А может, знает, но молчит. Хотя, откуда ей знать? В одном я уверен: автор — тот же самый человек, который «поставил» и сегодняшний спектакль.
— Ты погоди обижаться, — Аверкин вышел из-за стола, подошел к Вершинину и положил ему на плечо руку. — Согласен — в твоих глазах мы выглядим сейчас далеко не в лучшем свете, но и нас с Бакулевым можно понять. Такие сигналы настораживают. А потом возьми письмо, которое получила Кулешова. Насколько я понимаю, оно отражает действительное положение вещей, изложенное в циничной форме. Писал безусловно негодяй, а факт, видимо, соответствует действительности. Попробуй привлеки такого за клевету. Ведь ты сам стал проверять, значит поверил автору или засомневался. Вот и мы так.
— Николай Николаевич? — Вершинин встал и заметно побледнел. — Давайте начистоту. Кулешова я знаю плохо, но если бы ко мне пришло такое письмо и в нем стояла бы фамилия Аверкин, я не усомнился бы, что это клевета. И дело не только в вашем возрасте и положении. Просто я уверен, что вы не поступитесь своей совестью. Я всегда чувствовал ваше доброжелательное отношение ко мне, но выходит достаточно одного грязного пасквиля, чтобы изменить свое отношение, перечеркнуть прошлое, обидеть недоверием?
Вячеслав выпалил все это залпом и, обессиленный, опустился на стул. Молчал Аверкин. Молчал Бакулев. Казалось, притихли даже старинные часы, украшавшие одну из стен кабинета.
— Друг ты мой дорогой! — первым нарушил молчание Аверкин. — Конечно же ты прав, прав во многом. Порой на нас большое влияние оказывает простой клочок бумаги и за ним мы не видим человека. Я тоже получил сегодня хороший урок, и уж прости меня, старика, на сей раз. А Бакулев тоже извинится перед тобой. Я верю тебе.
Небрежно подвинув к себе злополучное письмо, он размашистым почерком написал на уголке:
«Т. Бакулеву. В наряд без проверки. Явный вымысел».
Подписал, поставил жирную точку, поразмыслил о чем-то и добавил рядом слово: «кто» и три вопросительных знака. Потом посмотрел на Вершинина.
— Не знаю, — как и прежде, ответил тот. — Да меня теперь это мало трогает.
Присутствующие удивленно посмотрели на него, ожидая объяснений.
— Очень просто, — решительно отрезал Вершинин. — Дело об анонимках надо передать другому следователю. Допустим, я найду автора, можно даже сказать, безусловно, найду. Выяснится, что вся эта писанина: и на Кулешова, и на меня — его рук дело. Но есть ли в таком случае у меня моральное право вести следствие? По сути я теперь потерпевший, а может ли потерпевший быть объективен?
— Нет, ты только послушай, Бакулев, — возмутился Аверкин. — Какое благородство. Его кирпичом, а он газетой. И даже не газетой, а просто норовит спрятаться в кусты. Заварил кашу и в сторону. Разбирайтесь сами, я благородно удалюсь. Ты, вот, тут обо мне упоминал, спасибо тебе за лестный отзыв. Однако, как ты, наверное, догадываешься, Аверкин не сразу стал стариком и прокурором области. Все в жизни случалось. И писали, и жаловались, когда анонимно, когда фамилию ставили. Ну и что! Я в каждом таком случае должен был становиться в благородную позу обиженного? Черта с два! Я сам доказывал свою невиновность и припирал к стенке знаешь каких зубров! Понятное дело — работа у нас с тобой такая: всем по душе не придешься. Правильно я говорю? — закончил он, неизвестно к кому из них обращаясь.
— Совершенно правильно, — поддержал его Бакулев. — Автор письма преследует только одну цель — опорочить Вершинина и вывести его из игры. Значит, он понимает — Вершинин опасен, он на верном пути и делает контрход, причем довольно удачный, — со смущением признался он. — В анонимном письме детали достоверны, а главный вывод — выдумка. Именно этот вывод и должен был исключить дальнейшее участие Вершинина в деле, подорвать к нему доверие. Однако этого не случилось, и теперь Вячеслав Владимирович обязан приложить все силы, но поймать с поличным этого тайного «доброжелателя», прячущегося за плотными шторами.
Фраза прозвучала так сочно, что Вячеслав воочию представил себе тяжелые плотные шторы, а за ними лохматое страшное существо. Однако видение это быстро исчезло, а в памяти остались лишь покачивающиеся занавески да белье, развешанное на маленьком балконе. Каждый сантиметр его тела вновь ощутил неприязненный взгляд женщины, промелькнувшей на балконе второго этажа дома, где жила Ефремова. Осторожно, боясь вспугнуть пришедшую мысль, он встал и подошел к телефону.
— Разрешите позвонить?
Аверкин молча указал на красный телефон, напоминающий божью коровку.
«Только бы оказалась на месте, — мысленно призывал Вершинин, — только бы не ушла».
Трубку подняли после первого гудка. Послышался хрипловатый, прокуренный голос Зиминой.
— Зинаида Дмитриевна, — ровным голосом сказал он, хотя сердце замерло в груди, — скажите, пожалуйста, мне адрес Чепурновой? Да, да, той самой.
Услышав ответ, Вячеслав поблагодарил и тихо положил трубку.
— Обе анонимки: и та, которую послали Кулешовой, и та, которую получили вы, — осевшим голосом сказал он, — написаны заместителем главного бухгалтера завода сельхозмашин Чепурновой.
— Вот как? — удивился Аверкин. — Откуда такая, уверенность?
— Она живет в том же самом доме и даже в том же подъезде, что и Ефремова, и видела, как я входил в подъезд. Теперь у меня нет сомнений, что на балконе второго этажа в этот момент находилась именно она.
— Звучит убедительно, — оживился Аверкин. — Что думаете предпринять?
— Обыск, сегодня же обыск.
— Обыск? — прокурор звучно щелкнул ногтем по столу. — На предмет чего?
— Пишущая машинка, бумага, аналогичная той, на которой написаны анонимки, получение образцов для графической экспертизы.
Аверкин помолчал, прошелся по кабинету, подумал.
— Подождем, Вячеслав Владимирович, — сказал он после короткого раздумья. — В вас сейчас говорит обида, а по тактическим соображениям обыск проводить рано. Где гарантия, что, увидев вас у своего дома, она не спрятала за пределами квартиры все уличающие ее предметы, в том числе и пишущую машинку? Безрезультатность же обыска даст ей в руки серьезное оружие против нас. Брать нужно, как говорится, только с поличным. Пусть успокоится. Образцы почерка Чепурновой, ее домочадцев и близких родственников мы можем получить другим способом. Кстати, какая у нее семья?
— Пока не интересовался, — ответил Вершинин, внутренне согласившись с доводами прокурора.
— Вот и поинтересуйтесь ее житьем-бытьем поглубже, а санкцию на обыск, когда придет время, я дам.
Аверкин достал из стола какие-то бумаги и углубился в их изучение. Бакулев и Вершинин поняли, что разговор окончен и вышли вместе.
— Вячеслав Владимирович, прости ты меня, если можешь. Засомневался в тебе, каюсь, виноват, — сконфуженно сказал Бакулев, когда они вышли в коридор.
— Ладно, чего уж там. Будем считать инцидент исчерпанным. Но…
— Что но? — Бакулев остановился.
— Но… — продолжал Вершинин, — в качестве компенсации за причиненный мне моральный ущерб с вас причитается как минимум внеочередной классный чип.
Бакулев с облегчением рассмеялся, будто с сердца у него сняли тяжелый груз.
Вершинин хотел уж было заглянуть к Салганнику и рассказать ему о своих перипетиях, но вдруг ему пришла в голову беспокойная мысль. Кое-как он натянул на себя плащ и, не разбирая дороги, помчался домой. Путь, на который ему требовалось минут десять, в этот раз был преодолен за пять. Вячеслав вбежал в подъезд своего дома и дрожащими руками стал открывать почтовый ящик. Он оказался пустым. Вершинин птицей взлетел наверх и приник ухом к двери. За ней Светлана что-то весело напевала.
«ГОСПОДИН» ПОТЕМКИН

Лицо Потемкина внушало симпатию. Глаза смотрели прямо и уверенно, как у человека, не чувствующего за собой никакой вины. Несмотря на это. Вершинин почувствовал, что перед ним находится именно тот человек, встречи с которым он ждал давно. В парне чувствовались вызов, бесшабашная смелость и обостренное чувство собственного достоинства. Именно его упорно укрывал Субботин и многие другие, которых он сумел связать круговой порукой, внушить им свое собственное понятие благородства и товарищества.
«Кто же ты, парень? — думал Вячеслав. — Какие жизненные перипетии привели тебя сюда?»
Он доброжелательно улыбнулся Потемкину. Тот холодно на него покосился. Ему, видимо, было не по себе от того, что за дверью стояли двое милиционеров.
— Здравствуй, Володя, — мягко сказал Вершинин.
— Здравствуйте, — высокомерно ответил тот, возмущенный фамильярностью.
Вершинин сделал вид, что не замечает его состояния, и так же спокойно продолжал беседу.
— Вот мы и встретились, Володя. Ты ведь знаешь, что мы должны были обязательно встретиться. Верно ведь?
— Я вам не Володя, а Владимир Сергеевич, — вызывающе ответил тот, — и давайте обойдемся без загадок, ответы на которые известны заранее. Или мы в кошки-мышки играем?
«Гипертрофированное самолюбие… Считает обращение на «ты» унизительным, — подумал Вершинин. — Интересно, как он держится со своими приятелями: свысока или ровней? Скорее всего, свысока, разве такой допустит фамильярность?»
— Где трудитесь сейчас? — для вида спросил Вячеслав, хотя знал, что тот давно не работает.
— Временно не работаю. Готовлюсь к службе в армии.
— Когда призывают?
— Наверное, осенью.
Вершинин загнул восемь пальцев и покачал головой.
— К двум месяцам, которые вы уже не работаете, прибавить шесть — получается восемь. Многовато для подготовки.
— А я не устал, — грубо отрезал тот.
— По-моему, лучше поработать до армии, ведь шесть месяцев не шутка. Вам могут не позволить столько бездельничать.
— Кто? Кто не позволит?
— Милиция. Есть закон о тунеядцах.
— Закон вам знать надо, а зачем он мне? И так много информации получаем: радио, телевидение, газеты. Разве за всем уследишь?
— А как же основы советского права? Ведь изучали в школе. И в юридический хотели поступить.
— Изучал, — вяло ответил тот. — Того нельзя, другого нельзя. За то год, за другое — пять. Вся и наука. На юридический поступать я теперь раздумал.
— Юридическая наука — она на сознании человека зиждется. Главное, не запреты увидеть, а понять жизнь и правильно определить свое место в ней. Можно на зубок вызубрить закон, а быть нарушителем, тунеядцем, наконец, преступником.
Потемкин снисходительно улыбнулся.
— Смеешься? Напрасно, — рассердился Вячеслав. — Кем ты себя мнишь? Д’Артаньяном, Зорро, Гамлетом? Напрасно. Ты самый настоящий бродяга и тунеядец без всякой благородной начинки. Года два назад бродяжничал? Бродяжничал. А сейчас? Здоровый лоб, а сидишь на шее у родителей. Тоже, скажешь, благородно? Восемь месяцев он к армии будет готовиться! Подумайте! Работать, работать надо. Берись за лопату и не думай, что ты лучше других — Нинки Глисты, например, Ханыги, Джентльмена. Ты хуже них, ибо они стали такими в силу дурного воспитания, невысоких умственных способностей, но ты-то другое дело, ты все понимаешь, а идешь опасным путем. И для себя, и для других.
Вершинин специально подбросил ему эти имена, чтобы посмотреть на его реакцию.
Тот снисходительно улыбнулся.
— Я попросил бы не сравнивать меня со всякой… дрянью — Глистой, Ханыгой, этим люмпен-пролетарием, — дерзко сказал он. — Я и мои друзья на таких не похожи.
— Мне трудно понять вас, Владимир Сергеевич, — в тон ему с подчеркнутой вежливостью заметил Вершинин. — Ну, Нина, допустим, отсталая девочка, живет в тяжелых условиях. Отца нет, мать такая, что общего языка с ней не найти…
— А у меня? — со злобой прервал его Потемкин, лицо которого вдруг ожесточилось.
— Что у тебя? Семья, кажется, хорошая. Отец, мать, десять классов окончил, а ведь бродяжничаешь, пьешь. На вокзале тебя пьяным сколько раз замечали.
Потемкин пропустил упреки мимо ушей. Его волновало другое.
— Откуда вам знать мою жизнь? — продолжал он. — Отец, мать, сестричку еще прибавьте. Семейная идиллия — барашки над кроватью, часы с кукушкой.
В парне чувствовался душевный надлом.
— Твоя мать, кажется, на заводе работает? — осторожно спросил Вячеслав.
— В бухгалтерии она заправляет на заводе сельхозмашин, — угрюмо произнес Потемкин.
— В бухгалтерии? — удивился Вершинин и вспомнил личные дела. Такой фамилии среди них он не встречал. — В бухгалтерии завода Потемкиной нет.
Владимир посмотрел на него, как на пустое место, и буркнул:
— Потемкиной, может, и нет, а Чепурнова работает там уж который год.
— Чепурнова? При чем здесь Чепурнова? — ошарашенно пробормотал Вячеслав.
— Чепурнова — моя мать. Она носит фамилию второго мужа — моего отчима.
Вершинин был потрясен. Произошло редкое совпадение — соединились два совершенно разных дела, и он еще не знал, что принесет ему это совпадение — хорошее или плохое.
— Ну ладно, Володя, — сказал Вячеслав, решив пока не задевать больную струнку парня. — У каждого своя жизнь. Но почему ты все-таки с таким пренебрежением относишься к другим людям, пусть даже более низким по уровню развития? Я говорю снова о Нине и Шестакове.
— Чего вы мне все время их тыкаете, — снова озлился Потемкин. — Таких уничтожать надо. Нинка Глиста — потомственная шлюха низкого пошиба, и жизнь ее кончится под забором, а Ханыга, — тут он даже скрипнул зубами, — гад, подонок.
— Значит, ты считаешь, что таких надо уничтожать? — тихо, словно боясь порвать своим дыханием невидимую паутинку, спросил Вершинин. — Но ведь они молоды, их можно исправить. Кстати, Нина, по-моему, уже другими глазами смотрит на свою прежнюю жизнь. Кто знает, был бы жив Шестаков, может, и он бы исправился.
— Исключено, — упрямо возразил тот. — Однако его нет, и ваши предположения из области фантастики.
— Да, его нет. Он убит. И знаешь, кто его убил? — глядя прямо в темные точки зрачков, спросил Вячеслав.
— Знаю, — выдержав его взгляд, ответил Потемкин. — Я!
Ответ прозвучал, как выстрел. Вячеслав даже пожалел, что все произошло так обыденно.
— Из-за перчаток и шапки? — спросил он.
— Не только. Просто он был тварью. Спросите у ребят, как он издевался над теми, кто помоложе и послабей. Деньги заставлял таскать из дома, посылал за водкой, а если не принесут, знаете, как лупил? Средний палец у него был с черным ногтем, толстым таким. Он его за большой закладывал и как врежет мальчишке прямо по макушке. А что за макушка у двенадцатилетнего?
— Да, Володя, Шестаков, конечно, не конфетка, но ты-то кто такой, чтобы чинить суд и расправу? Теперь сам понимаешь — надо отвечать.
— Я знаю. За убийство в состоянии сильного душевного волнения, вызванного противозаконными действиями потерпевшего. Статья сто четвертая уголовного кодекса. До пяти лет лишения свободы.
— Ну и ну! Рассчитал. А говорил, законов не знаешь. Вызубрил на зубок.
— На юридический поступал, следователем хотел стать, — сник Потемкин. — Теперь все — забыть надо.
— И еще один вопрос, Володя. Вот ты юристом хотел стать, законы читал, и уж, наверное, о смягчающих обстоятельствах знаешь. Уж коли считал себя правым, — приди, расскажи откровенно. Ведь явка с повинной могла бы существенно облегчить твою вину.
— Зачем у вас хлеб отнимать? — снова с вызовом сказал Потемкин, но под осуждающим взглядом Вершинина сконфуженно умолк.
Вячеслав вызвал конвой и, сидя, как в оцепенении, проводил взглядом парня. Тот в дверях приостановился, видимо, желая что-то добавить, но потом передумал и шагнул за порог.
«Надо позвонить Зиминой, предупредить, чтобы прекратила поиски», — вспомнил Вершинин и потянулся к телефонной трубке.
И в этот раз Зинаида Дмитриевна отозвалась сразу, будто не выходила из своего кабинета вообще:
— Вот и не верь в телепатию, — хрипло рассмеялась она. — Я как раз думала звонить вам.
— Уже нет необходимости, мы…
— Одну секунду, — прервала она его. Я сама вам назову фамилию. Потемкин, правильно?
— Он. Но как вы установили, его ведь в списке не было?
— Как у вас говорят — методом личного сыска. Когда я убедилась, что искомого в списке нет, то подумала, а не может ли это быть человек, продолжающий работать на предприятии, но по каким-то причинам не выходивший на работу около двух месяцев. Правда, не без труда, но мне удалось выяснить, что, хотя Потемкин в цеху не появляется уже свыше двух месяцев, Чепурнова представила на него больничный листок.
— Фиктивный, — добавил Вершинин и, поблагодарив Зимину, записал номер больничного листка и поликлиники, его выдавшей.
«ОЛИМПИЯ» ЧЕТВЕРТОЙ МОДЕЛИ

Пронзительный, захлебывающийся звонок прервал разговор. Остановив Стрельникова на полуслове, Вячеслав взял трубку прямого телефона.
— В приемной у меня Чепурнова, — без предисловий сообщил Аверкин. — Думаю, пришла жаловаться по поводу задержания сына.
— Я попросил бы вас, Николай Николаевич, пока воздержаться принимать ее. Через час доставят Потемкина, и тогда будет с ней предметный разговор. Нам она не поверит, что он совершил убийство, — пусть встретятся. Это может оказаться полезным для обоих. Кроме того, у меня появились и другие соображения.
— Хорошо, — Аверкин отключился.
— Удивляюсь я вам, капитан, — снова обратился Вершинин к Стрельникову. — Преступление раскрыто, преступник сознался, как говорится, под тяжестью улик, а вы еще тут, хотя победная реляция, готов спорить, давно ушла в управление.
— Ушла-то ушла, — озабоченно произнес Виктор, — не обращая внимания на иронический тон приятеля. — Да вот где тяжесть улик? Вдруг твой благородный Потемкин перестанет проявлять благородство и откажется от своих слов. Тогда как? Куда нам деваться?
— Тогда сделаем просто. Отпустим его на все четыре стороны и продолжим поиски.
— Брось ты, Славка, — отмахнулся Стрельников. — С тобой серьезно, а ты…
— Если серьезно, то его показания надо немедленно закреплять. В первую очередь будем искать нож. Он выбросил его в Черемисенский пруд. Вот его форма, Потемкин сам нарисовал, — Вершинин подал рисунок Виктору. — Масштаб один к одному. Такой нож легко опознать. Одновременно надо говорить с приятелями Потемкина. Когда они узнают, что он признался, и сами запираться не станут. Вон — Субботин на что молчун, а все-таки рассказал. И, знаешь, он спросил Потемкина: «А как же клятва?» Тот только рукой махнул: «Какая уж тут, мол, клятва». Думается, во мнении своих друзей наш Дин здорово проиграл. Крушение божества. Оказывается, все четверо дали клятву молчать об убийстве Шестакова, и вот на тебе! На кого равнялись, тот первым и подвел. Сейчас надо срочно отыскать Сэра и Мистера, и тогда благородная компания будет в сборе.
— За нами дело не станет. К вечеру найдем, — пообещал Виктор и стал собираться.
— Погоди, — остановил его Вершинин, — мне предстоит сейчас тяжелый разговор с матерью Потемкина. Побудь, пожалуйста, у Гриши, я позвоню тебе.
— Времени в обрез, — поморщился Стрельников и полоснул ребром ладони по горлу.
— Подожди, ну, прошу тебя, подожди, — вежливо выпроваживая приятеля, попросил Вячеслав, и тут же новый телефонный звонок заставил его вернуться к столу.
— К вам, дама, — предупредила Колышкина с сочувствием в голосе.
Вершинин испытывал жгучее до болезненности желание заглянуть в глаза Чепурновой, женщине, грубо вошедшей в его собственную жизнь, жизнь Кулешова, Зиминой и многих других.
Дверь распахнулась без стука. Женщина влетела, как разгневанная фурия.
— Вы что же творите, друзья? — дрожащим от бешенства голосом выпалила она, блуждая взглядом из стороны в сторону.
Вячеслав оторопел. Так нагло еще никто не вел себя его кабинете.
— Позвольте, позвольте. Что вы хотите сказать? — удивился он.
— Я мать Володи, Володи Потемкина! — выкрикнула она, сжимая в кулаки побелевшие пальцы рук. — По какому праву вы его здесь держите?
Узкое, продолговатое лицо Чепурновой придвинулось очень близко, почти вплотную. Он разглядел даже комочки пудры, застывшей в крупных порах носа и щек. Маленькие припухшие глазки были на грани сумасшествия. Вершинин пристально вглядывался в Чепурнову. Странно, но он не испытывал к ней ненависти, его разбирало любопытство. Неожиданно ему показалось, что кто-то, сидящий внутри его, пропел веселым голосом: «Маска! Маска, я вас знаю, маска, вы поганый человек». Очевидно, в нем отразилось это веселье, ибо в ее глазах мелькнуло удивление, и она отодвинулась.
— Володя Потемкин у нас. Он задержан на законных основаниях, — строго подчеркнул Вершинин.
— Законных? На каких таких законных? — свистящим шепотом спросила она. — Знаю я ваши законные основания. Знаю. И почему держите его здесь, знаю. Вы мне мстите.
Чепурнова сорвалась. И оба они в ту же минуту поняли это. Судьбу сына она увязала с другим, известным только ей и человеку, на которого написала анонимку. Только желание спасти сына, уберечь его от грозящей опасности заставило ее, помимо воли, выпалить эти слова.
— Ах, я вам мщу? Возможно, — резко сказал Вячеслав. — Тогда пишите официальное заявление, что вы возражаете против того, чтобы расследованием дела вашего сына занимался я. Вот бумага — пишите, немедленно пишите. Четко объясните причину вашего протеста, и я тут же передам ваше заявление прокурору. Ну, ну, ну, — торопил он, не давая ей времени для раздумья. — Быстро, быстро. Вот так: «Заявляю отвод следователю Вершинину и не доверяю ему вести дело сына, так как он будет мстить мне за то, что я…»
Она придвинула к себе бумагу и схватила ручку, но тут же отшвырнула ее в сторону.
— Зачем мне вашему прокурору писать? Я выше напишу, я расскажу, как тут с невиновными расправляются! — выкрикнула она на одной ноте, больше не касаясь вопроса о мести.
— Перестаньте угрожать, гражданка, — сказал ей Вершинин. — Ваш сын обвиняется в убийстве. Именно поэтому он задержан, и я попросил бы вас выбирать выражения.
— Убийство? Какое убийство? Мой Володя и убийство? Перестаньте выдумывать.
— Самое настоящее убийство, и ваш сын признался.
— Мой Володя, мой мальчик! Признался в убийстве? Боже мой, что вы с ним сделали. Вы пытали его. Где он? Приведите его сюда. Я хочу услышать сама.
Вершинин едва сдерживался от желания высказать ей в лицо все, что о ней думает, но взял себя в руки.
— Хорошо, вы увидите его, — сообщил он, — но предупреждаю, если вы будете себя вести так, как сейчас, отрицательно влиять на своего сына, я немедленно попрошу вас уйти.
Вскоре конвой доставил Владимира Потемкина. Парень вошел в кабинет с видом заправского арестанта: голова вниз, руки назад. Увидев мать, отпрянул к двери.
— Вовочка, Володя! — закричала Чепурнова. — Ведь ты же не виноват? Ты ничего плохого не сделал. Почему они держат тебя здесь? — она бросила свирепый взгляд в сторону Вершинина. — Я уведу тебя, пусть только попробуют задержать.
Она принялась рассматривать и ощупывать сына, надеясь найти на нем следы истязаний. Вершинин жестом отослал конвоиров в коридор.
— Пусти, мама, — отодвинул ее в сторону Владимир и прошел вперед, — хватит шуметь, брось. За дело сижу. Ты мне лучше курева принеси.
— Что он говорит? Что он говорит? — схватилась за голову та. — За какое дело? Ты не виноват.
— Хватит, мама! — грубо оборвал ее Потемкин. — Брось причитать. За убийство сижу, человека убил. Пырнул ножом в сердце и все, — жестко закончил он.
Женщина сникла. Вершинину стало жаль ее. Не всякой матери приходится услышать из уст сына такие слова. Однако внезапно ее настроение изменилось.
— Нет! — завопила она. — Ты не убивал. Тебя опоили. Сыворотку ввели!
— Ага. Сыворотку из-под простокваши, — с иронией сказал он, а потом вскочил и в ярости заорал: — Убил! Убил! Я преступник. Пусть. Отсижу. В тюрьме лучше, чем у вас с Федькой. Ненавижу. Как все надоело! Мне тошно смотреть на твоего слизняка Федьку. Вы мне надоели со своими подметными письмами, злобой своей. Я и дома-то ведь не ночевал из-за этого. Слушать вас противно. Вы и Ленку по своему подобию делаете злой, как гадюка. Пусть отсижу, пусть. К вам не вернусь, поеду к отцу на Сахалин. Давно надо было уехать, да надеялся — сойдешься с отцом. Нет, зря. Вы с Федькой — два сапога пара. Тебя все ребята на улице Шкурой называют.
— Он сошел с ума. Следователь, он сошел с ума, — невразумительно лепетала Чепурнова. — Срочно врача, срочно психиатра.
— Вам с Федькой врач-психиатр нужен, да Лизке вашей, а не мне. Вы на людей грязь льете из подворотни, отстукиваете на своей машинке. Тот подлец, этот негодяй, другой вор, а сами-то? На себя посмотрите.
— Я ухожу, ухожу. Он больной. Он за себя не отвечает. Я буду жаловаться, — бормотала она, пятясь к выходу.
Вячеслав оказался у двери раньше.
— Будь другом, — попросил он конвоира, —позови Стрельникова из седьмого кабинета.
Стрельников пришел быстро и окинул присутствующих внимательным взглядом.
— Что за фурия? — шепотом спросил он у Вершинина.
— Товарищ капитан, — подчеркнуто официальным тоном произнес тот, — вот мать обвиняемого Потемкина. Прошу вас допросить ее о том, как воспитывался сын, какие меры она принимала к его трудоустройству и что ей известно о совершенном преступлении… Любым путем задержи часа на полтора, — шепнул он в заключение.
Тот понимающе подмигнул и пригласил ее за собой.
В течение нескольких минут Вершинин выяснил у Потемкина, кто такие Федька и Лиза. Федька оказался отчимом Володи — Федором Корнеевичем Чепурновым, а Лиза — Елизаветой Корнеевной Квашиной, сестрой Чепурнова. Еще десять минут ему понадобилось, чтобы получить у прокурора области санкцию на обыск, а через час он уже возвращался в прокуратуру, прижимая к себе, как ребенка, старенькую, довоенного выпуска «Олимпию».
Из заключения технической экспертизы документов:
«…На основании проведенных исследований считаем: текст трех анонимных писем, содержащих критику в адрес руководства завода сельхозмашин выполнен на изъятой при обыске в квартире Чепурнова Ф. К. пишущей машинке марки «Олимпия» четвертой модели, выпущенной Эрфуртским заводом. Эксперты: Болдин, Канаев».
Из заключения криминалистической экспертизы почерка:
«…На основании проведенных исследований считаем: текст анонимного письма в адрес гр. Кулешовой И. В. выполнен левой рукой гр. Чепурнова Федора Корнеевича. Эксперты: Козанков, Бахметьев».
Из заключения дактилоскопической экспертизы:
«…Отпечаток пальца, обнаруженный на анонимном письме, адресованном гр. Кулешовой И. В., оставлен безымянным пальцем правой руки гр. Чепурнова Ф. К. Эксперты: Владимиров, Мазур».
Вершинин внимательно прочитал все три заключения, а затем взял два последних, соединил их одной общей скрепкой и спрятал в нижний ящик стола.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРЕЖИТОМУ

Лето промчалось быстро. Его сменил сухой, золотистый сентябрь. Отпуск подходил к концу. В квартире стоял острый запах сушеных белых грибов. Снизки с почерневшими загогулинами провисали над газовой плитой, изредка роняя на раскаленные конфорки тяжелые желтые капли. Вчерашние еще не успели подсохнуть, а в плетеной корзине, прикрытой березовыми ветками, лежали только что собранные темно-красные и коричневатые белые. В этом году Вершинин успел захватить вторую грибную волну — за колосовиками летом ему так и не удалось выбраться, и теперь наверстывал упущенное. Почти каждый день вместе с приятелем он выезжал на свои места и тешил душу любимым занятием. Прежде ему нравилось рыбачить, но потом, вкусив радость грибной охоты в сосновом бору, он стал заядлым грибником. Особенно любил собирать белые. Заметив около можжевелового куста или среди мелкой сосновой поросли боровик с карминно-красной шляпкой и важно раздувшимися боками, Вячеслав замирал. Он заставлял себя остаться на месте, хотя в мыслях было другое — скорее подбежать, срезать упругую, кипенно-белую ножку и прикрыть в корзине от сглазу зелеными ветками. Но так было бы слишком просто. Вершинин внимательно осматривался вокруг, не выпуская из поля зрения находку. Случалось, сразу замечал еще несколько штук, но чаще кружил вокруг первого гриба. И, только собрав все расположившееся рядом семейство, приближался к первому, самому крупному и самому красивому, но срезал его не сразу. Освободив шляпку от пожелтевших сосновых иголок и сухих листьев, сначала нежно поглаживал ее плотную, чуть липкую кожицу, потом осторожно разгребал песчаную почву и острым, как бритва, ножом резко отсекал ножку у самого основания.
Белые грибы Вячеслав называл булочками и бочарыжками. Булочки — грибы с крупными шляпками, напоминавшими поджаренную корочку батона, а бочарыжки словно дубовые бочата с крутыми пружинистыми боками. Сегодня было много и тех и других. Он выложил их на стол один к одному и долго любовался красотой каждого, прежде чем приступить к безжалостному кромсанью. Его занятие прервала Светлана.
— Славик! — крикнула она из комнаты, — тебя к телефону.
— Приложи к уху, — сказал он ей, показав грязные руки.
Светлана приложила ему трубку к уху, и он прижал ее плечом.
— С вами говорит инструктор обкома партии Гаврилин, — услышал он басовитый мужской голос. — Извините за беспокойство во время отпуска, но у меня важное дело.
— Слушаю вас.
— Послезавтра на заводе сельхозмашин состоится расширенное заседание парткома. На нем будет присутствовать секретарь обкома Рюмин. Мы хотим попросить вас подробней ознакомить членов парткома с результатами расследования дела Чепурновой.
— Я… — растерялся Вершинин. — Видите ли, мне надо посовето…
— С Николаем Николаевичем Аверкиным вопрос о вашем участии согласован, — прервал его инструктор. — Слово теперь за вами.
— Пожалуйста, я согласен.
— Хорошо. Тогда послезавтра в шестнадцать ноль-ноль.
В зале находились человек тридцать. В первую минуту Вершинину показалось, что знакомых среди них нет, но затем он заметил Охочего. Тот легонько кивнул ему головой и показал на пустой стул рядом. Усаживаясь, Вячеслав поймал на себе ускользающий взгляд Лубенчикова, сидевшего почему-то не в центре стола президиума, а с краю. Люди тихо переговаривались между собой. Кое-кто с любопытством посмотрел на постороннего человека. Чувствовалось, что собравшиеся кого-то ждали.
— Как отдохнули? — полушепотом спросил Охочий.
— Пока еще отдыхаю, впечатлениями делиться рано.
— А у нас вот такие события. Сегодня будем обсуждать новый состав парткома — отчетно-перевыборное собрание на носу.
— А кого ждут?
— Мартьянова и кого-то из обкомовских. Они вот-вот приедут.
Дверь открылась вскоре после его слов. Первым показался невысокий коренастый человек, которого поспешивший навстречу Лубенчиков повел в президиум. Вошедший на ходу приветливо поклонился присутствующим. Следом за ним появились Мартьянов и Раух.
— Секретарь обкома Рюмин, — шепнул Вершинину Охочий. — Вот так уровень. Он курирует промышленность области.
— А где сейчас Кулешов? Какова его судьба?
— Игорь Арсентьевич выписался из больницы недели три назад. Теперь долечивается в санатории в Кисловодске.
— Ну, и как же дальше?
— А я откуда знаю? — неопределенно пожал плечами Охочий. — Начальству виднее.
Между тем вошедшие расселись по своим местам. В зале установилась тишина. Только Мартьянов и Рюмин тихо переговаривались между собой. Встал Лубенчиков.
— Товарищи! — сказал он. — Разрешите считать расширенное заседание парткома открытым. Слово предоставляется члену парткома Охочему Константину Сергеевичу.
Вершинин удивленно посмотрел в президиум.
«Почему выступает Охочий; а не секретарь парткома?» — подумал он.
Тот же вопрос отразился и на лицах большинства собравшихся. Лубенчиков сел и невидящим взглядом уставился на противоположную стенку.
— За прошедший год в жизни нашей парторганизации произошло много событий, — начал Охочий, заметно волнуясь.
Листы плотной бумаги в его руках казались папиросными, Вершинин слушал, как, оперируя цифрами и и техническими терминами, Константин Сергеевич освещал производственную деятельность завода. Рюмин опять повернулся к Мартьянову и о чем-то спросил. Тот пошарил глазами по залу и, заметив Вячеслава, кивком головы поздоровался с ним. Затем он тихо сказал что-то Рюмину, и секретарь обкома тоже посмотрел в его сторону. Вершинин понял, что стал объектом внимания начальства, однако демонстративно отвернулся. Он не любил, когда его разглядывали.
— Таким образом, невыполнение плана стало у нас хроническим явлением, — продолжал Охочий. — Одна из главных причин нашего отставания — сложившаяся в последнее время на заводе нездоровая обстановка, которая серьезно мешает делу. Ей способствовала занятая парткомом позиция невмешательства в самые животрепещущие вопросы. Я имею в виду дело с анонимными письмами в адрес руководства завода. Все мы прекрасно понимали вред, причиняемый заводу этими анонимками, знали об их клеветническом характере, но что же сделали мы для своевременного прекращения травли директора? Ровным счетом ничего. Секретарь парткома товарищ Лубенчиков под любыми предлогами уходил от серьезного разговора по этому вопросу. Он ссылался на что угодно: на занятость, на некомпетентность, на вышестоящее начальство. Больше всего он боялся оказаться в качестве героя газетного фельетона, каким в свое время вывели Игоря Арсентьевича Кулешова. Секретарь парткома должен был активно вмешаться с самого начала. Он ведь, оказывается, догадывался, кто пишет анонимки. В заводоуправлении имя анонимщика называли в открытую. Тысячу раз был прав тогда Игорь Арсентьевич, заострив внимание всех на бухгалтерии. Произошла ошибка — подумали на главного бухгалтера, а ведь Кулешов намекал на его заместителя Чепурнову. Как теперь мы убедились, он был прав. Все предпочли отмолчаться по принципу: моя хата с краю. Но такой принцип антипартиен. Партком бросил директора на произвол судьбы и когда начались бесконечные проверки завода вышестоящими организациями, и когда происходил разбор в райкоме партии. А один в поле не воин. Проверки фактически сводились к тенденциозной оценке фактов, направляемой Раковым и Колчиным. Им хотелось убрать Кулешова. Как известно теперь, руководствовались они сугубо личными, я бы даже сказал, шкурными побуждениями. Члены парткома, в частности Слепых, да и я, много раз пытались убедить Лубенчикова изменить позицию невмешательства, но безрезультатно. В этом, безусловно, и наша огромная вина. К чему же мы теперь пришли? Казалось бы, из мелкого факта — какой-то анонимки — возникли серьезнейшие последствия. И не только производственного характера. Позавчера я наблюдал в одном из наших цехов такую картину: заместитель начальника цеха распекал за прогул одного из рабочих. Тот отвечал резко, словно бы и вины за собой не чувствовал. Когда рабочий вышел, учетчица сказала заместителю начальника цеха: «Брось ты с ним связываться, ведь запишет потом — не прокашляешься». На заводе стало обычной шуточка: «А я на тебя анонимочку напишу». Более чем двухгодичная несправедливая возня вокруг директора сделала свое черное дело. Печальные результаты налицо. Сейчас, наконец, справедливость восторжествовала: невиновные оправданы, кое-кто из виновных получил наказание. Однако точку ставить рано. Эта история может повториться, если мы сами не наведем порядок в своем коллективе…
Вершинин оглядел сидящих. Он заметил тугие желваки на скулах Рюмина, угрюмое выражение лица Мартьянова, виноватые глаза Лубенчикова, хмурый, сосредоточенный вид большинства присутствующих. Не было ни одного оставшегося равнодушным.
Охочий закончил выступление. Воцарилась тишина. Лубенчиков, казалось, забыл свои обязанности председательствующего.
— Ведите партком, — вполголоса напомнил ему Рюмин.
— Да, да, — вскочил тот. — Вопросы к товарищу Охочему будут?
— У меня есть, — поднялся неторопливый пожилой мужчина. — Мне хотелось бы узнать, имеет ли Колчин прямое отношение к анонимным письмам?
— На этот вопрос, думаю, лучше всего ответит старший следователь областной прокуратуры Вячеслав Владимирович Вершинин, присутствующий на заседании парткома, — сказал Охочий.
Вячеслав встал и почувствовал на себе взгляд десятков пар сосредоточенных глаз.
— Если говорить строго с юридической точки зрения, — начал он, — прямая причастность Колчина к анонимкам не доказана. Следствием установлено, что он распорядился передать Чепурновой списанную машинку, на которой та впоследствии и печатала анонимные письма. Колчин признал это, но объяснил свои действия простым легкомыслием. Доказать иное оказалось невозможным, да и прямого сговора между ним и Чепурновой могло и не быть. Однако Колчин недолюбливал Кулешова, рассчитывал занять место директора. Он знал также о ненависти Чепурновой к Кулешову, представлял, что она за человек, и надеялся в будущем ее использовать. Так и случилось. Они поняли друг друга с полуслова.
— Еще вопрос, — сказал тот же мужчина. — Когда судили Чепурнову, кое-кто из наших работников присутствовал на суде и рассказал нам, что она все опровергала, а хотелось бы знать причины, побудившие ее совершить преступление.
— Причины кроются в ее характере: злобном, мстительном, завистливом. Думаю, она считала себя обойденной по службе, завидовала тем, которых Кулешов поддерживал и выдвигал. Кстати, и раньше на другом предприятии она занималась аналогичными делами. К сожалению, и там не дали правильной оценки ее действиям. Склонность к сутяжничеству и клевете окончательно оформились в характере Чепурновой после второго брака. Новый муж Федор Корнеевич Чепурнов оказался сутягой с еще большим стажем, чем она. Анонимки они сочиняли вместе и оказались, как говорят, «два сапога пара». Во время следствия я установил, что «правдолюб» Чепурнов свыше десятка лет незаконно получал пенсию по подложным документам, выдавал себя за инвалида Отечественной войны.
— Можно мне вопрос? — спросил парень лет двадцати пяти с комсомольским значком на лацкане пиджака.
— Вопрос к кому? — покосился на него Лубенчиков.
— К товарищу Вершинину.
— Я, пожалуй, сяду, — улыбнулся Охочий и пошел на свое место.
— Ходят слухи, будто бы сын Чепурновой осужден за убийство. Правда ли это?
— Да, он осужден за убийство.
— Имеется ли связь между образом мыслей и поведением матери и преступлением сына?
— Связь безусловно есть, но не такого характера, о котором думаете вы. Володя Потемкин, сын Чепурновой от первого брака, знал, что мать и отчим занимаются грязными делишками, и презирал их за это. Мальчик стал избегать дом, в нем рос протест, однако само понятие чести в его сознании болезненно трансформировалось. Он совершил преступление — убил человека. Этот человек был и сам преступник, незадолго до этого он ограбил Потемкина, но и в таком случае убийство оправдать нельзя.
Когда все вопросы были исчерпаны, взял слово пожилой мужчина, задавший вопрос о Колчине.
— Кто это? — поинтересовался Вячеслав у Охочего.
— Наш старейшина — Прохор Лукич Слепых, член парткома. Его сам Мартьянов побаивается.
Слепых неторопливо вышел на трибуну, вытер синим клетчатым платком худую, изрезанную множеством мелких морщин шею, глухо откашлялся в кулак и медленно обвел взглядом присутствующих.
— Жаль мне сейчас одного, — словно в раздумье сказал он. — Не могу взглянуть в глаза Колчину и задать ему несколько вопросов…
— Где, кстати, Колчин? — шепотом спросил Вершинин.
— Вы разве не знаете? — удивился Охочий. — Колчин спешно нас оставил. Он сейчас заместитель начальника мастерской по изготовлению вывесок и прочего.
— Ушел сам?
— Можно сказать, сам. Вероятно, почувствовал вокруг себя вакуум и решил не дожидаться худшего. Мы не стали ему чинить препятствий, сняли с партучета и молча распрощались.
— А Раков?
— Раков на пенсии. Пока на общих основаниях, но хлопочет насчет персональной. Думаю, однако, после всей этой истории, в которой он выглядит довольно неприглядно, планам его могут помешать. Перед отставкой с ним разговаривали в министерстве круто, ведь обком сообщил туда о результатах следствия.
— Я тридцать лет в партии, — продолжал, между тем, Слепых, — и всегда высказывался прямо и честно, без дипломатии. Вот поэтому я и хочу сказать сегодня товарищу Лубенчикову, что он не имеет морального права оставаться секретарем парткома завода. Он не умеет работать с людьми, правильно строить взаимоотношения в коллективе, у него слишком развит инстинкт самосохранения.
Выступали многие: одни волнуясь, другие спокойно и сосредоточенно. Все единодушно поддержали Охочего.
Последним взял слово Рюмин. И хотя он, безусловно, привык выступать в любых аудиториях, на этот раз, находясь под впечатлением услышанного, заметно волновался.
— Услышанное мной сегодня, — начал он, решительно отодвинув в сторону сделанные наспех записи, — заставляет серьезно задуматься. Чего греха таить, я и сам прежде недооценивал вреда такого явления, как анонимки. Думал так: поступил анонимный сигнал о злоупотреблениях руководителя — чего здесь плохого. Не подтвердилось — списали в архив, подтвердилось — приняли меры. Вроде бы в порядке вещей. Однако, как показала история, происшедшая на вашем заводе, не все так просто, как кажется. За вполне естественным желанием вышестоящего руководителя проверить поступивший сигнал мы порой забываем о человеке, которого проверяем. Мы забываем, что у него есть сердце, мозг, нервы, что любое несправедливое обвинение безвозвратно подрывает его здоровье, авторитет. Оклеветали Кулешова, и, пожалуйста, результат: мы едва не потеряли добросовестного, знающего специалиста. Низкие люди, использовавшие создавшуюся на заводе ситуацию в личных карьеристских целях, сами изжили себя. Они бы не посмели быть сейчас на этом парткоме, взглянуть в глаза собравшимся здесь. Их имена надо выбросить из головы, но не забывать полученного урока. А теперь, товарищи, подумаем, как поправить положение, в какой форме донести случившееся до отчетно-перевыборного собрания. На повестке дня сейчас особо остро станет вопрос, выполнения заводом плана, ибо мы не можем позволить в дальнейшем…
«Все говорит правильно, — думал Вершинин, — и главное, что на первое место ставит судьбу человека. Хотелось, чтобы так думали все…»
— Для избрания в новый состав парткома мы хотим рекомендовать отчетно-перевыборному собранию следующие кандидатуры, — прервал его мысли женский голос, и он прислушался к словам худенькой женщины.
Сначала перечислялись имена, не знакомые Вершинину. Потом он услышал фамилию Кулешова. Говорившая интуитивно сделала большую паузу. Члены парткома одобрительно зашумели, а парень с комсомольским значком даже привстал и хотел что-то сказать в поддержку кандидатуры директора, но его усадили назад. По всей вероятности, он был известен своей экспансивностью. У Вячеслава отлегло от сердца. История с Ефремовой не выходила у него из головы.
— Лубенчиков, — услышал он новую фамилию и с интересом стал наблюдать за реакцией собравшихся.
В зале установилась тишина. Молчали в президиуме. Охочий рассматривал замысловатую люстру на потолке, и только Слепых нервно постукивал костяшками пальцев по столу.
Вершинин старался не смотреть на Лубенчикова, понимая, как трудно ему сейчас.
— Я.. — сказал секретарь парткома осипшим голосом, с трудом приподнявшись со стула. — Я прошу не выдвигать мою кандидатуру в новый состав парткома… Болезнь… и прочее…
Он сел.
Женщина, выдвинувшая его кандидатуру, растерянно посмотрела на президиум.
В тишине гулко прозвучали сказанные вполголоса слова парня с комсомольским значком: «Вот ведь опять не хватило мужества назвать вещи своими именами».
Лубенчиков вздрогнул и вобрал голову в плечи. Рюмин одобряюще прошелся взглядом по сидящим, словно хотел сказать: «Что же молчите? Решайте».
— Я думаю, надо удовлетворить просьбу товарища Лубенчикова, — вдруг решительно сказал Охочий.
— Я свое мнение уже высказал, — поддержал его Слепых. — Давайте голосовать.
Все члены парткома проголосовали единогласно. Напряжение сразу спало, люди задвигались, зашевелились. И все-таки каждый из них избегал смотреть на Лубенчикова.
С парткома выходили вместе с Охочим.
— Мавр сделал свое дело, мавр может уходить, — пошутил Вячеслав.
— Дело вы действительно сделали огромное, — без улыбки сказал Охочий. — Сложно было разрубить такой узел, но вы его разрубили. Однако этого мало. О случившемся на нашем заводе знают только у нас, а надо, чтобы знали все.
— Вы правы, — согласился Вячеслав, — и я сделаю это. Я напишу статью в областную газету, где расскажу, кто такие Чепурнова и компания, и так ли они безобидны.
— Напишите. Пожалуйста, напишите. Вы даже себе не представляете, как нужна такая статья.
— Собственно, почему статья? — разгорячился Вячеслав. — Я напишу фельетон. Он будет называться… «Искренне болеющий».
Их догнал Лубенчиков. Шел он странно, бочком.
— Всего хорошего, товарищ Вершинин, — поклонился он и протянул руку.
Вячеслав суетливо подал ему свою и ощутил вялое рукопожатие.
Домой Вячеслав вернулся в приподнятом настроении. Он даже пожалел, что еще находится в отпуске и не может сейчас же рассказать все скептику Грише Салганнику.
— Ты весь светишься, — заметила Светлана при его появлении.
— Есть основания, — горделиво ответил он и рассказал ей, как проходило заседание парткома.
— Я получил моральное удовлетворение, когда припер к стенке Чепурнову, но сейчас мне приятней вдвойне, ибо увидел, как все это преломилось в сознании многих людей, причем заметь — от рядовых до крупных руководителей, — сказал Вячеслав.
— Я все понимаю и рада за тебя, — улыбнулась Светлана, — скоро обиженные будут ходить к тебе домой, как к частному детективу. Сегодня уже дважды звонила одна женщина.
— Кто такая?
— Она не назвалась и пообещала позвонить еще раз почему-то из аэропорта.
— Странно, — пробормотал Вершинин, — опять незнакомка. Впрочем, не будем ломать голову, дай-ка мне лучше поесть.
Телефонный звонок прервал ужин.
— Опять она, — шепотом сказала Светлана и передала ему трубку.
— Вячеслав Владимирович, — услышал он голос, который сразу узнал.
— Инесса Владимировна, — заторопился сообщить ей важную новость Вершинин, — я только что с завода. Кандидатуру вашего мужа вновь рекомендовали в состав парткома. Алло, алло, вы слышите меня?
— Я слышу, — после короткой паузы отозвалась Кулешова. — Вячеслав Владимирович… Игорь Арсентьевич умер сегодня утром.
— Что! Что?! Как вы сказали?!
— Два часа назад я получила телеграмму.
В трубке уже давно раздавались короткие прерывистые гудки, а Вершинин все сидел и бессмысленно смотрел в угол.
— Что произошло?! — воскликнула Светлана, заметив его состояние.
— Пиррова победа, — едва внятно произнес он и с трудом, как чугунную, положил трубку на рычаг.
«ИСКРЕННЕ БОЛЕЮЩИЙ»

Остролицый человек с мелкими желтыми зубами смущенно отвел в сторону глаза.
— Существенных замечаний нет, — мямлил он, — фельетон написан хорошо, достаточно аргументирован, факты апробированы в суде.
— Тогда в чем дело? Он лежит у вас свыше месяца без движения.
Заведующий отделом писем редакции газеты Андрюшкин смущенно молчал. Чувствовалось, что самого главного он не договаривает. Вершинин продолжал возмущаться.
— Да вот, взгляните сами, — в сердцах вспылил Андрюшкин и бросил Вершинину отпечатанный уже на бланке редакции фельетон.
Вячеслав быстро пробежал текст глазами Андрюшкин внес кое-какие изменения, отчего фельетон только выиграл. Судя по дате, он был подготовлен к печати еще месяц назад.
— Очень хорошо. Я не возражаю против вашей правки, — сказал Вершинин, возвращая, материал. — Печатайте в таком виде. Когда вы его поставите?
— Жду момента, — уклонился от определенного ответа заведующий отделом.
— Момента? Какого момента?
— Подходящего.
— Кто-то возражает, — сообразил Вершинин. — Но кто же? И почему?
— Все упирается в наш прежний фельетон, — откровенно признался Андрюшкин. — Выступить сейчас с вашим — все равно, что высечь самих себя.
— И вы так считаете?
— Да, и я так считаю, но видите — фельетон-то подготовил, значит убежден, что ошибки надо исправлять.
— Ага, значит есть человек, который возражает. Скажите, кто он?
Андрюшкин замялся. Называть фамилию ему явно не хотелось.
— Я понимаю — речь идет о вашем начальстве, поэтому мой разговор с ним будет проходить без ссылок на вас. Просто зайду поинтересоваться судьбой фельетона.
— Тогда идите к заместителю редактора, — решился Андрюшкин. — Его кабинет напротив. Только предупреждаю: вас постигнет разочарование. Он у нас сверхбдительный, под удар себя не подставит, да и, по-моему, фельетон «Криминалист с сельмаша» печатался по его указанию. Я ему дважды говорил, убеждал, что ваш фельетон надо ставить, а он молчит, словно и не слышит. Попытайтесь теперь вы.
Кабинет, в который вошел Вершинин, оказался раза в три больше, чем у Андрюшкина. На стене висел портрет Луначарского. Огромные створки окон были раскрыты настежь, и октябрь вдувал внутрь прохладный воздух. На столе, как живые, подпрыгивали листки бумаги. Хозяин кабинета сидел невозмутимо.
— Я автор фельетона «Искренне болеющий», — представился Вершинин. — Зашел поинтересоваться его судьбой.
— «Искренне болеющий»? — мрачно спросил тот и сделал вид, будто копается в памяти. — Не помню.
— Это фельетон об анонимщиках завода сельхозмашин.
Лицо собеседника ничего не выразило. Он медленно встал, подошел к распахнутому окошку, глубоко вдохнул свежий воздух и снова вернулся на место.
— Фельетон находится в работе, — коротко ответил он.
— И каковы ориентировочные сроки его опубликования?
— Трудно сказать. Редакция загружена материалом. Сейчас еще уборка идет полным ходом.
— Но ведь одно другое не исключает. Редакция просто обязана напечатать этот фельетон.
Хозяин кабинета вопросительно взглянул на Вершинина.
— Именно обязана, — пошел напролом тот. — Редакция допустила однажды грубейшую ошибку и должна ее исправить.
— Какую ошибку? — лицо собеседника перекосилось.
— Когда опубликовали фельетон «Криминалист с сельмаша».
— Вы находите?
— Да.
— Почему?
— Редакция еще тогда должна была тщательно разобраться в сложившейся на заводе обстановке, а не идти по пути наименьшего сопротивления. Автор высмеял директора за то, что тот занялся криминалистикой, а правильней было бы помочь ему. Фельетонист погнался за легкими лаврами. Куда легче посмеяться над человеком, чем по-деловому вникнуть в существо жалобы. Вот и привело это к многолетней нервотрепке.
Заместитель редактора пожевал бескровными губами и промолчал. Вершинин ждал хоть какой-нибудь реакции, но безуспешно.
— Мне бы хотелось услышать от вас определенный ответ о моем фельетоне, — настаивал Вячеслав.
— Мы подумаем, возможно, он и будет напечатан, — ответил тот и добавил. — Ждите.
В коридоре Вершинин заметил выглянувшего из двери Андрюшкина. На его молчаливый вопрос он только безнадежно махнул рукой.
Вернувшись на работу, Вячеслав долго метался по кабинету, возмущаясь поведением заместителя редактора. Потом он открыл телефонный справочник и, отыскав раздел «Партийные организации», нашел телефон Рюмина и позвонил ему.
— Соедините меня с товарищем Рюминым, — попросил он секретаря.
— Как доложить? — бесстрастным голосом спросила она.
Вершинин назвал себя.
В трубке нарастал гул, затем раздался легкий щелчок и послышался знакомый голос.
От волнения Вячеслав снова назвал себя.
— Я помню вас, товарищ Вершинин, — сказал Рюмин с явной заинтересованностью. — Слушаю.
Его тон приободрил.
— Я беспокою вас снова по поводу завода сельхозмашин.
— Случилось что?
— Нет. Просто я решил историю с анонимками сделать всеобщим достоянием и написал в газету фельетон «Искренне болеющий».
— Прекрасно. Нужное дело. Мне и самому приходило в голову подбросить редактору эту тему, да все не успеваю. Когда же фельетон выйдет?
— В редакции, мне кажется, воспринимают его без энтузиазма. У них в памяти еще свеж первый фельетон по этому заводу. Помните, «Криминалист с сельмаша»?
— Помню. А с кем вы разговаривали?
Вершинин назвал фамилию.
— Хорошо, я разберусь.
Вячеслав с облегчением повесил трубку и вытер со лба пот.
* * *
Грязь веером вылетела из-под колес затормозившего на остановке автобуса и обдала ожидающих. Вершинину едва удалось уклониться. Довольный проявленной расторопностью он вскочил в автобус и уселся на свободное сидение. Последние дни из-за осенней распутицы пришлось изменить своему правилу ходить на работу пешком. Несмотря на час «пик», автобус шел полупустым. Когда он тронулся, гулко задребезжали какие-то железки. Звук больно отдавался в голове. Сквозь шум Вячеслав услышал смех. Смеялась сидевшая впереди женщина. Мужчина повернулся к ней и что-то рассматривал. Рядом с сидящими, держась за поручень, стоял молодой парень. Он так же, как и те двое внимательно читал газету, лежащую на коленях у женщины.
— Ты только взгляни, Ваня, — сквозь смех выговаривала женщина. — Ну просто вылитая наша Канавина. Как две капли воды.
Мужчина не смеялся. Он сосредоточенно читал, шевеля губами.
Вершинин перегнулся через спинку сидения и в глаза ему бросились жирно набранные слова: «Искренне болеющий». Он еще и еще раз перечитал название. «Вышел все-таки, — подумал он с грустью. — Почти как эпитафия».
— Ты права, — прервал его мысли голос мужчины. — Здорово напоминает Канавину. Даже во внешности есть сходство. Ну и расписали. А у нас пока только цацкаются.
— Боятся, наверно. Кому с такой охота связываться. Правда, Ваня? — спросила женщина.
— Боятся, боятся. Чего их бояться? — возразил тот. — Видишь, куда боязнь привела и скольким она навредила. А ведь таких еще много. У них Чепурнова, у нас Канавина, в другой организации другая. Правильно газета ставит вопрос.
— А знаешь, что я сделаю сегодня?
— Ну?
— Я пойду и сейчас же в присутствии всех подарю фельетон Канавиной.
— А я вот думаю пойти с газетой в партком. Пора и нам ставить вопрос ребром.
Следующей была остановка Вершинина, но ему хотелось сидеть и слушать разговор этих людей, с большой убежденностью высказывающих теперь мысли, так созвучные его собственным.
Он все-таки вышел на своей остановке. Оглянулся назад и зачем-то кивнул одному из них. Парень удивленно вытаращил глаза, сказал что-то своему соседу и женщине, те тоже высунулись в окно. А Вячеслав ничего не мог с собой поделать — стоял и смотрел на них. Автобус тронулся и понес в неведомое людей, ставших за считанные минуты близкими Вершинину.




Об авторе
Юрий Тихонов более двадцати лет работает в органах прокуратуры: следователем, старшим помощником, заместителем и в настоящее время первым заместителем прокурора Рязанской области. Он кандидат юридических наук, заслуженный юрист РСФСР.
Немалое место в жизни Юрия Тихонова занимает и литературная деятельность.
В 1979 году в издательстве «Московский рабочий» выходит его книга «Это касается всех», написанная в соавторстве. Приключенческая повесть «Случай на Прорве» публикуется в журнале, а затем отдельной книгой издательством «Московский рабочий». В 1984 году издательством «Молодая гвардия» выпускается повесть «Третий выстрел».
Творчество Юрия Тихонова посвящено нелегкому труду работников прокуратуры, пропаганде строжайшего соблюдения советских законов.
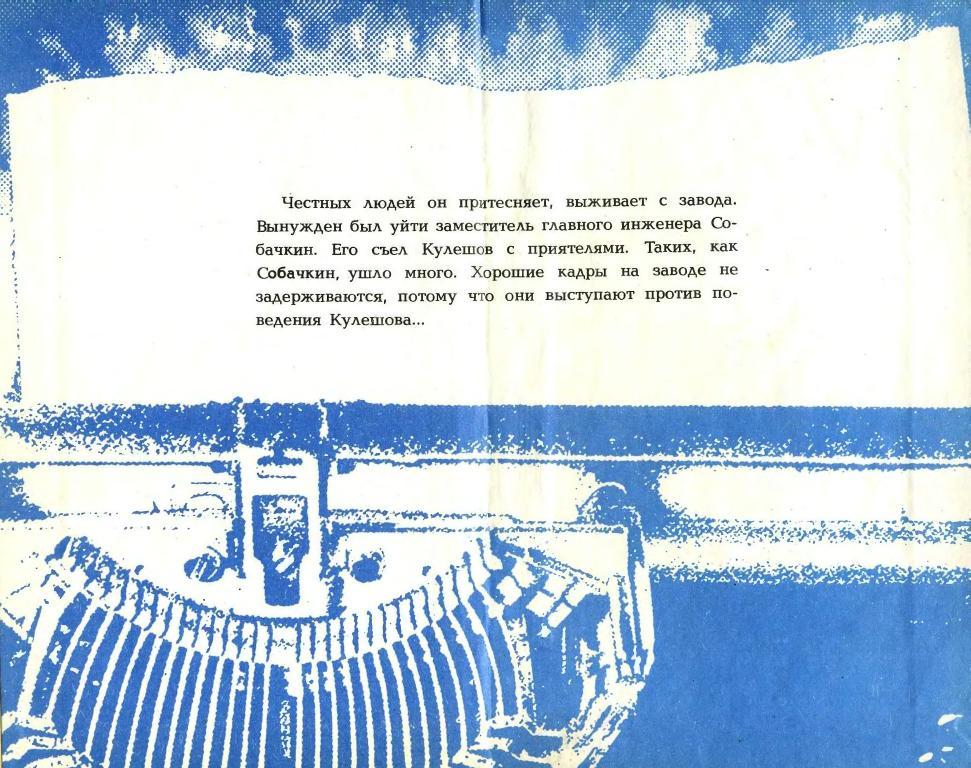
Торубаров Юрий.
Двадцать один день следователя Леонова


I
— Иду! Иду! — отозвалась Валентина Прокопьевна на требовательный зов звонка. Она отряхнула муку на кусок только что замешенного теста, и, вытирая руки о фартук, заспешила к двери.
— Что-то рановато вернулась Оленька, — висевшие в прихожей часы показывали десять минут седьмого. — Вот сейчас мне и поможет.
Валентина Прокопьевна отодвинула защелку автоматического замка и широко распахнула дверь.
— Заходи, — с улыбкой произнесла она, выглядывая наружу. И… обомлела. На лестничной площадке стояли трое. Лица их были скрыты под темной поблескивающей тканью.
— Ой, — тихо вскрикнула она, пытаясь захлопнуть перед неожиданными пришельцами дверь. Но стоявший ближе всех, с силой толкнув ее, решительно шагнул через порог.
— Что вам нужно? — Валентина Прокопьевна попыталась вытолкнуть незнакомца. Но тот в ответ резко взмахнул рукой. И хотя удар был не очень сильный, она почувствовала, как внезапно ее охватила страшная слабость, ноги стали ватными, а со лба на лицо потекла теплая, тягучая жидкость. Она схватилась за ушибленное место и поднесла руку к глазам, рука была в крови. Валентине Прокопьевне стало плохо, ноги подкосились, и она без единого стона повалилась на пол…
Очнулась от адской, пронизывающей боли. Горела вся грудь, будто на нее высыпали горящие угли. Она тихо застонала. Открыв глаза, с ужасом увидела, что грудь ее обнажена и на ней темнеют какие-то треугольные пятна. Острое чувство стыда на миг отодвинуло даже нестерпимую боль. Валентина Прокопьевна сделала попытку прикрыть грудь обрывками одежды, но тут же отдернула руки — склонившийся над ней бандит приложил к ее телу раскаленный утюг.
— Не прикидывайся, сука! — зашипел он каким-то тонким, неестественным голосом, увидев, что она очнулась. Женщина не ответила, только с шумом вдохнула в себя воздух.
— Молчи, — сдавленным голосом продолжал бандит, — а то прикончу! Его широкая, пахнущая табаком ладонь зажала ей рот. Бандит замахал утюгом прямо перед ее лицом. От утюга даже на расстоянии исходили горячие волны.
— И кончай прикидываться, — опять зашипел он, увидев, что она закрыла глаза, — а то еще не так будет!
— Пусти, — услышала она грубоватый голос.
Над ней склонился второй бандит. Как бы в подтверждение сказанного он поиграл длинным сверкающим от вечерних лучей лезвием финки, запугивая женщину. Рука, державшая нож, была в перчатке, но Валентине Прокопьевне бросилась в глаза необычная татуировка: между перчаткой и задравшимся рукавом костюма красовалась голая женщина, попиравшая ногами сердце.
Боль не проходила. Она снова закрыла глаза и отвернула голову. И тут же почувствовала, как холодное лезвие медленно входит в ее тело. Валентина Прокопьевна дернулась и застонала.
— Ти-хо-о! — грозно предупредил первый. Тот, что был с ножом, убрал руку и выпрямился.
— Прижги ты! А то замараемся! — скомандовал он отрывисто резким голосом. И опять страшная боль пронзила все ее существо.
— Что вам от меня надо? — взмолилась хозяйка. Из ее расширенных от ужаса глаз лились слезы.
— Деньги, где деньги? — потребовал третий, до сих пор безучастно стоявший в стороне.
— Все возьмите, — женщина дернулась, пытаясь подняться. Но бандит, поставив на грудь ногу, прижал ее к полу. — В серванте, в вазе, — прошептала она.
— Сходи, посмотри, — скомандовал бандит кому-то, убирая ногу. Он, видимо, был главным. Пошел тот, с ножом.
Валентина Прокопьевна, осмотревшись, поняла, что лежит на кухне. Оленька, погладив платье, оставила на буфете утюг, бандиты и воспользовались им.
Посланец вернулся быстро.
— Вот все, — показал он тонкую пачку.
— Где остальные? Где золотишко? — снова наклонился над ней главарь.
— Кольца и серьги в сумочке, она снизу, в ящике. Все, все берите, только оставьте меня, — тихо и жалобно упрашивала хозяйка.
— Тише ты! — второй бандит больно ткнул ее носком в бок.
— Мало! Где остальное? — и она почувствовала, как тело снова пронзила боль.
Но вдруг всплывшая тревога заслонила происходящее: «Только бы не пришла Оленька!»
II
— Это милиция? — послышался в трубке взволнованный голос. По тому, как женщина тяжело дышала, было ясно, что она чем-то напугана.
— Да. Дежурный старший лейтенант Суховский слушает.
— Ой! Это из санпропускника шестой больницы. К нам поступила гражданка Васильева, — было слышно, как говорившая что-то спрашивала, потом добавила — Валентина Прокопьевна. Поступила с ножевыми ранениями. И все они… Ой, господи, что творится, — вдруг запричитала она.
Суховский ее поправил:
— Девушка, или как вас там, вы что-то не договариваете. Что вы хотели сказать?
— Да что! Так издеваться!.. Это надо только видеть! Звери какие-то!..
— Да что случилось в конце концов? — дежурный, не выдержав, повысил голос.
Опять послышалось учащенное дыхание.
— Жгли раны. Утюгом. Чтобы не запачкаться кровью. Вы поняли?
— Понял. Адрес скажите.
Но ему никто не ответил. Он хотел уже положить трубку и перезвонить, но в последнее мгновение до его слуха донеслись слова:
— Фашисты и те так не издевались! — в голосе слышались слезы.
— А вы знаете, как фашисты издевались? — с досадой заметил старший лейтенант.
— Вот вы так за всех и заступаетесь. Теперь понятно, почему у нас такое творится…
— Какое? — Суховского стал раздражать этот разговор. День выдался тяжелый, дело шло к вечеру, он уже порядком измотался, а тут еще упреки.
— У вас все? — как можно официальнее спросил он.
— Нет, не все. Это сделали… ну, как их… кто деньги вымогает…
— Рэкетиры что ли?
— Во-во. Они. Ну ладно, приезжайте, разбирайтесь.
Послышались короткие гудки. Суховский не успел спросить ни фамилии звонившей, ни адреса места происшествия. Пришлось набрать телефон санпропускника.
— Больница? Это из милиции… — он не успел больше ничего сказать, как его перебили:
— А, вы еще не уехали? — он узнал голос, говорившей с ним минуту назад женщины.
— Дежурные не выезжают. Да и куда ехать? Скажите, пожалуйста, — он на этом слове сделал ударение, — куда ехать?
— Ой, минуточку, у меня здесь написано…
Теперь Суховский ясно понял, что голос был молодым и принадлежал начинающему работнику — опытные так не передают. Девушка продиктовала адрес.
— Спасибо, — Суховский положил трубку и вызвал начальника отдела подполковника Мухамедзянова.
Михаил Омарович, вымотавшийся за день гораздо сильнее, чем дежурный, устало выслушал тягучий и немного нудноватый голос Суховского и спросил:
— Кто-нибудь в дежурке есть? А то жму кнопки, пока ты говоришь — никто не отвечает.
— Все уехали на Трубную. Там труп, — напомнил Суховский и добавил:
— Тут один майор Леонов.
Среднего роста, худощавый майор замахал было руками, показывая на дверь, что уходит, но дежурный только пожал плечами: поздно, друг, дело сделано. И тут же услышал команду:
— Пусть займется расследованием.
Дежурный передал приказ.
— Да я не могу, — возмутился было Леонов, но Суховский уже положил трубку.
Майор понял: возражать бесполезно. На его продолговатом, со впалыми щеками равнодушном лице появилась вдруг такая жалостная гримаса, что старший лейтенант не выдержал и рассмеялся.
— Что с тобой, майор? — сквозь смех спросил он.
Леонов погрозил ему кулаком.
— Да жена в больнице, — сказал он кислым голосом, — оперировать должны… Дочка, поди, не кормлена. Сын где-то бегает. Не могу, понимаешь? — и с робкой надеждой посмотрел на дежурного, словно тот мог что-то изменить. Но старший лейтенант, кончив смеяться и вытирая глаза, только снова пожал плечами.
Леонов, махнув рукой, выскочил в коридор и направился на второй этаж. Однако, взявшись за перила, остановился. Ему было ясно, что Мухамедзянов ничего не изменит. Уже поздно, вряд ли сейчас кто-то подойдет. Только потеряешь время. Он вернулся, взял у дежурного адрес и спросил, есть ли «дежурка». Тот ответил, что «дежурка» есть, но кончился бензин. Обругав старшего лейтенанта, Леонов пошел на выход. Выйдя на улицу, он первым делом посмотрел в сторону автобусной остановки, находившейся в нескольких шагах, — она была пуста.
— Недавно прошел, — подумал майор, — теперь придется долго ждать.
Он решил использовать свое служебное положение, а то, пожалуй, и к детям не попадешь. Вскоре из-за поворота показался «Москвич», старой, давно снятой с производства, модели, он неторопливо и осторожно вписывался в кривую поворота. Леонов машинально подумал, что за рулем наверняка пожилой, дисциплинированный, знающий цену ремонту водитель. Так оно и оказалось. Майор дал знак остановиться. Скребнув колесом о бордюр, «Москвич» качнулся и встал. В окно высунулась голова с густыми, мохнатыми бровями. На Леонова смотрели выцветшие, чуть виноватые глаза. Майору стало не по себе: напугался, видать… Он заговорил, стараясь, придав голосу мягкие, дружелюбные нотки:
— Извините, вы не до центра?
Лицо посветлело.
— Нет, мне в заводской…
Но голова не спешила исчезнуть, это породило надежду и подтолкнуло майора на маленькую хитрость. Он с досадой махнул рукой.
— Надо срочно расследовать одно дело, а тут… с транспортом дребедень. Ну… ладно.
Леонов озадаченно почесал затылок. Выражение лица его говорило: ты — хозяин, езжай, тебе-то что до этого, твоя хата с краю.
— Садись, майор, я тебя подброшу.
Водитель открыл переднюю дверцу.
— Вот спасибо, — поблагодарил Леонов, охотно влезая в машину.
Шофер, посмотрев в зеркало, подал сигнал движения. Медленно, словно на капоте стояла полная чаша воды, тронулся с места. Некоторое время ехали молча, видно, у каждого были свои думы. Леонов беспокоился об Аленке, которую давно уже было пора кормить и укладывать спать, и о Вовке, который, как обычно, забыв про отцовский наказ смотреть за сестрой, воспользовавшись свободой, носится где-нибудь по улицам. «Не угодил бы только куда-нибудь. Надо обязательно заехать в больницу. Как там дела у Тамары… Чертова печень. Как она не вовремя… Дел невпроворот. Скоро конец квартала, с раскрываемостью табак. А тут, на тебе, этот чертов приступ.
«Надо обязательно забежать — как она там?» — чуть ли не произнес вслух майор.
— Так что случилось? — перебил его мысли сипловатый голос хозяина машины.
— А… Да женщину тут одну рэкетиры пытали.
— Пытали? — водитель оторвался от дороги и удивленно посмотрел на майора.
— Смотри! — Леонов крутанул руль, — в канаву угодишь!
Водитель задергал рулем, выравнивая ход машины, сбросил газ. Вскоре «Москвич» вновь приобрел былую неторопливость. Шоферу, видно,крепко запали в голову слова Леонова. Он снова повторил свой вопрос, не отрывая на этот раз взгляда от дороги.
— Пытали?
— Да вроде этого. Надо разбираться.
— Ну и дожили, майор, до веселых дней. Да что это у нас стало твориться! Куда вы смотрите? В мои-то годы, когда я был такой, как ты, — ты меня извини, что тыкаю, — мы и понятия обо всем этом не имели. А сейчас, смотри-ка, что делается. Куда же дойдем? А?
Не дождавшись ответа, водитель вдруг резко нажал на тормоза и тревожно забил по сигналу.
— Куда прешь, — он высунулся из окна и стал отчитывать женщину, пытавшуюся у него под носом перебежать дорогу. Та стояла у самого края дороги, виновато опустив голову. При виде такой покорности водитель замолчал, махнул рукой, и машина медленно двинулась дальше. Взгляд женщины был устремлен куда-то вдаль.
— Все наши заботы, — он тяжело вздохнул, переключая скорость, — они, видать, и бабу гложут. Глаза-то, поди, не то слезы, не то горе затуманили.
— Слезы-то ведь от горя и бывают, — заметил майор.
— И то верно, — охотно согласился шофер, — а все одно, бабья доля — реви да реви.
Он махнул рукой и продолжал:
— И эта, вишь, земли под ногами не чует. Что-то, видать, произошло. Поди-ка мужик в больнице лежит… или дитя…
— Не говори, отец, — майор тяжело вздохнул.
Водитель посмотрел на него:
— Никак и у тебя не все чисто?
Леонов кивнул головой.
— Есть маленько. Жена с печенкой четвертый день мается. Ребятишки малые одни. Хоть разорвись. А тут еще и это подбросили, — майор глубоко вздохнул.
— Где живешь-то? — спросил водитель, участливо глядя на Леонова.
— Да живу-то в заводском.
Шофер как-то недоверчиво дернул плечами:
— Я там давно проживаю. Многих знаю. Тебя не встречал.
Майор повернулся к нему и улыбнулся.
— Ты чего? — машина вильнула, Леонов качнулся.
— А вот это не надо, — майор кивнул на капот, — так ведь можно и покорябать… Знать-то меня откуда можете? Я там недавно снял комнату.
— Что, и своего угла нет? — шофер сбросил скорость и плавно перевел рычаг.
— Нет квартиры…
— Н-да-а… Так куда мне подрулить?
— Да выбросите в центре, а тут я сам… Спасибо и на том, что хоть сюда добросили.
— Ты вот что, начальник, не торопись. Бабка моя привыкла к поздним моим возвращениям. Малых деток у нас нет. Так что располагай мной. Дело у тебя наиважнецкое. Издеваться над людьми. Это… Это просто… черт знает что! Если что, на меня рассчитывай.
Леонова растрогало такое участие, он тепло посмотрел на своего спутника.
— Благодарю, отец, но уж извини, с этим как-нибудь сам…
— Да чего… Ты сейчас куда?
— В больнице надо побывать, у самой, у пострадавшей узнать, что да как. Да и дом тот надо посетить. Соседей поспрашивать, может, кто что видел.
— Так что тебе хоть разорвись?
— Выходит, — майор развел руками. Оба рассмеялись.
— Ты в этих местах долго пробудешь? — спросил водитель.
— Да кто его знает. Как пойдет. Долго и сам… того… не могу. Майор вздохнул. — Выясню только обстановку и надо срочно домой. А потом к жене в больницу… Успеть бы.
Леонов посмотрел на часы. Водитель покосился на свои.
— Времени в обрез… А что, жинка в другой больнице?
— В другой.
— Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Не вешай нос, майор. Как-нибудь прокрутимся.
Майор опустил стекло.
— Нос никто не вешает. Не в таких переделках пришлось бывать.
Мимо проплывали высотные дома. Их фасады с многочисленными балконами чем-то напоминали пчелиные соты. День быстро клонился к вечеру. Кое-где в квартирах начали вспыхивать огоньки, дорога повернула, и машина стала медленно подниматься вверх по улице. Дома, приближаясь, проваливались вниз, как зубцы гигантской шестерни, уходящие в мрачный зев редуктора. Дорога порой настолько близко приближалась к постройкам, что хорошо было видно, как хозяйки хлопочут, накрывая на стол. Майор не выдержал, вздох зависти вырвался у него: живут же люди, сейчас всей семьей сядут за ужин, а тут… Он провел рукой по впалому животу и поддернул ремень.
— Не вздыхай, майор, и на твоей улице будет праздник. Так вначале тебе куда?
— Мне-то? — задумчиво переспросил Леонов, но затем, точно придя в себя, оживленно ответил:
— Знаете, все равно. Хотелось бы у самой все узнать. Но и на месте надо побывать, как говорится, по горячим следам. Мне помнится, улица Гагарина где-то рядом. Давайте туда.
— Номер дома не забыл?
— Не забыл. Двенадцать. Квартира сто девятнадцать. Вот только, где он?
Леонов завертел головой.
— Это мы сейчас узнаем.
Водитель, догнав шагавшего неподалеку парня, тормознул, спросил, как проехать.
— Через два дома, — парень махнул рукой вперед, — увидите переулок. Свернете направо. Подниметесь по нему, упретесь в ограду — ваша дорога налево. Этот дом, кажется, будет третий, или четвертый, там спросите.
Когда они, отыскав дом, въехали во двор, в нем толпились люди, с жаром что-то обсуждая.
— Ишь, как растревожило, — сказал шофер не то с упреком, не то с одобрением, кивая на толпу.
— Тормозните здесь, — попросил майор. Шофер послушно выполнил приказ. Леонов приоткрыл дверцу.
— Сейчас, как пить дать, никто ничего не видел…
Он вылез из машины, одернул гимнастерку, чуть сдвинул фуражку и быстрым шагом направился к толпе.
— Здравствуйте, — негромко сказал он.
— Здрасте, — повернулась к нему немолодая дородная женщина. Она уперла в бока свои полные, дряблые руки. Отвислый, объемистый живот заколебался. — Явился! Смотрите, — она протянула руку в сторону Леонова, — полюбуйтесь на него! Человека заживо сожгли, а он только явился!
— Да они завсегда так, — подхватила молодая грудастая баба со злыми накрашенными глазами. — Они или куплены, или сами занимаются этим. Куда им торопиться.
— Они, как пожарники, — хихикнул седовласый худощавый старик в яркой бумазейной рубахе, — дом сгорит, тогда они являются.
— За что только люди деньги получают…
— Народные, — подхватил дед, подняв палец.
Не уступала и молодуха:
— Людей, как липок, обдирают: за то отдай, за другое отдай, а эти…
— Да что говорить, распустила всех перестройка: спросу никакого нет, что хотят, то и делают.
Говоривший, плотный, приземистый мужик с двойной макушкой, выделявшейся на облысевшей голове, смотрел мимо Леонова. Его молча слушал высокий, лет шестидесяти, сосед в кепке, натянутой до самых глаз. Вмешался старик:
— А вот раньше…
— Да что раньше, — перебил старика здоровенный верзила в тельняшке, выглядывающей из-под ворота рубахи. — Раньше, раньше… — От этих резких слов дед стал, словно меньше ростом.
— Знаем, как раньше. Сейчас все высвечено… Раньше… До чего довели.
— Не мы довели, — дед пришел в себя и стал наступать на верзилу, — нами так руководили.
— А почему? — бросил через плечо парень. — Сказать нечего, вот и молчи.
Парень так взглянул на старика, будто тот был главным виновником случившегося. Дед насупился, но его в обиду не дала стоявшая неподалеку старуха. Оттеснив деда, она встала впереди него.
— Ты чего напал на человека? Он тебе в отцы годится. Ишь грамотей нашелся.
Угластые руки старухи со скрюченными пальцами замелькали в воздухе.
Леонов только вертел головой. Он попытался было вставить слово, но его перебила своим громовым голосом толстуха:
— Да вы чего схватились? — она оттеснила животом верзилу. — Человек-то зачем явился? Ведь он же из милиции. Чай, забыли? — и она показала на майора.
— Из милиции? — удивленно спросила старуха, щуря свои близорукие глазки.
— Из милиции, — подтвердил Леонов скромно, едва улыбнувшись уголками рта.
Бабка, отодвинув крепыша, своим широким плечом загораживавшего Леонова, чуть не вплотную подступила к нему.
— Вы куды смотрите? — она сдернула упавший на глаза платок, дернула его концы. Быстро провела ладонью по губам. — Куды? — повторила она. — Почему допускаете такое?
— Почему? — подступил и дед.
— Почему, — завопила молодуха, — людей жгут, а вам хоть бы хны?
Леонова окружили. Все заговорили враз. Поднялся гвалт. Леонов поднял обе руки.
— Тише, граждане, тише!
Но голос майора потонул в шуме.
— Не успокаивай нас, — визжал дед, — тебе-то что! Твоя-то живет, поди, как царица. Вам и дела нет до простых людей! Где бандиты? Почему их не задержали? За такие зверства мы бы сейчас судили своим судом! Так, люди?!
— Судили!! — ревела толпа.
Леонов вновь поднял руки.
— Тише, граждане, я за этим и пришел, чтобы вы помогли мне это сделать! Скажите, кто из вас видел что-нибудь, что позволило бы пролить свет на происшедшее.
Ответом ему было молчание. Леонов посмотрел поочередно на старика, молодуху, парня… Дед задергал своими костлявыми, острыми плечами.
— Нет, не видел. Не видел… Да тут и мудрено увидеть. Народу во дворе столько разного шастает, поди разбери.
В свою очередь верзила энергично замотал головой. Леонов взглянул на парня.
— Я лично не видел. Вот те крест!
— Крест, крест! Вот так, граждане, частенько бывает. Как помочь — хата с краю. А во всем другом милиция виновата. Что мы, колдуны?
— А вы книги читаете? — перебила молодуха. — Или телевизор смотрите? Видели, как там милиция ловко орудует? Вот и берите пример.
— Передовой опыт, — гаркнул парень и заткнулся.
— Так-так… Ну, кто еще? А дело стоит. Понимаете? Стоит, пока мы ведем праздные разговоры. Я ведь не собака, чтобы унюхать, куда они пошли.
— Берите собаку, — сказал пожилой молчун.
— Нету пока. Вернее, есть, но взята на другое дело. Но собака не поможет. Вы посмотрите, сколько уже тут прошло народу. Короче, хотите и мне, и себе помочь?
— Рады бы, — дед развел руками, — а может, кто видел? — обернулся он к толпе.
— Не-е… не видели, — загудели голоса.
— Вот так, — подвел черту дед.
Люди стали расходиться. Надвинув фуражку на глаза, майор решительно зашагал к подъезду.
III
Дверь квартиры, где произошла трагедия, оказалась закрытой. Майор для убедительности несколько раз нажал звонок. Не успел он оторвать палец от кнопки, как приоткрылась соседняя дверь. Показалась голова в ореоле седых редких волос.
— А их никого нет, — сказала соседка, — мать с дочерью увезли в больницу. Бандиты проклятые покалечили, — пояснила она, шире открывая дверь и выходя на площадку.
— Не боитесь? — полушутя спросил Леонов, отыскивая рукой выключатель.
— Да он над головой, — показала старуха, догадавшись, что ищет неизвестный. — А чего мне бояться, — старуха набросила на голову лежавший на плечах платок, — брать у нас нечего. Мы народ не обманываем. Живем честно. Не то, что эти кооператоры. Взять хотя бы их, она махнула на дверь Васильевой.
Выслушав эту тираду, Леонов нажал на выключатель, вспыхнул яркий свет.
— А вы из милиции? — спросила старуха, различив форму.
— Из милиции, — подтвердил Леонов и оглядел искусно обитые двери. — Давно тут живете?
— Давно.
— Сегодня никуда не отлучались?
— Нет, сижу целый день дома.
— Ничего не слышали или случайно не видели? Кто приходил к ним? — Леонов кивнул на дверь потерпевшей.
— Не-е, — старуха покачала головой, — с внучонком сижу, за ним бы углядеть. А сын со снохой на работе. Я тут у них нянчусь. Нет, ничего не слышала.
— Жаль, — сказал майор и пошел к следующей двери.
— Они в отпуске уж какой день, — сказала старуха, но Леонов успел нажать звонок. За дверью было тихо.
— Что делать, — Леонов развел руками, — жаль… Наверху кто есть?
— Есть. И внизу — дома.
Леонов попрощался.
Соседи ничего не видели и не слышали. Майор вышел на улицу, не надеясь увидеть своего добровольного помощника. Но хозяин машины оказался верным своему слову. Он терпеливо ждал, открыв дверцу и выставив наружу ноги.
— Майор! — крикнул он, и Леонову показалось, что голос его прозвучал как-то по-родственному тепло. Леонов заспешил к машине.
— Ну что? Никакого результата? — догадался водитель по постному выражению лица милиционера. Леонов молча кивнул.
Он быстро обошел машину и снова сел на переднее сиденье.
— В больницу?
Леонов снова кивнул.
IV
До больницы добрались быстро. Большое, похожее на корабль, серое здание очутилось прямо перед ними, когда они вывернули из-за книжного магазина.
— Скоро добрались. Спасибо.
— Я тебя подожду, — бросил водитель вслед майору. — Ступай, облегчи женщине душу…
Дежурный врач, узнав о цели прихода Леонова, с сожалением сказал:
— Она без сознания. Ожоги первой степени, — и уткнулся в бумагу, которую писал, когда вошел майор.
— Глянуть-то все равно надо бы? — не очень решительно настаивал Леонов.
Врач, окончив писать, захлопнул толстый журнал и молча поднялся. Взял из шкафа халат, протянул Леонову.
Они шли, не разговаривая, по длинным коридорам. Врач — чуть впереди. Коридоры были сплошь заставлены койками, на которых сидели, лежали больные. Пахло лекарствами, мочой, потом.
— Да, тут у вас… — Леонов не договорил.
Врач, поняв его, ехидно бросил:
— Зато не загниваем.
Они подошли к двойным широким дверям с матовыми стеклами. За ними тянулось множество других. На одной из них было написано «Реанимация». Полутемная комната была уставлена какими-то замысловатыми приборами. В центре перед окном стояла кровать. На ней лежал человек. Слышалось тяжелое со свистом дыхание. Леонов, поняв, что это и есть пострадавшая, торопливо шагнул к ней, чуть не сбив капельницу.
— Не торопитесь, — предупредил врач и зажег свет.
Перед Леоновым лежала почти обнаженная женщина.
На ее тело было страшно смотреть — оно было покрыто какими-то черными треугольниками.
— Жгли, сволочи, утюгом, — пояснил врач. Но Леонову все уже было ясно. Он предполагал, что женщина в тяжелом состоянии, но, что оно будет таким, не представлял. Он что-то хотел спросить у врача, однако промолчал, увидев, как тот тревожно оглядывается по сторонам. Взгляд врача остановился на табурете, сиротливо стоявшем возле кровати. В этот момент дверь за их спинами скрипнула, и в комнату вошла молодая женщина в белом. Увидев врача, она сразу принялась оправдываться:
— Я выходила на минуточку. Только в соседнюю комнату…
Врач ничего не сказал, лишь осуждающе посмотрел. Потом обратился к майору:
— Вы сейчас от нее ничего не добьетесь. ТУТ где-то Ольга, ее дочь…
Он взглянул на сестру. Та, поняв, что гроза миновала, сказала певуче:
— Она вот-вот придет… Побежала домой получше закрыть квартиру.
Действительно, за дверью почти тут же раздались чьи-то быстрые шаги, и в палату вошла девушка-подросток. На мгновение остановилась, потом, обойдя присутствующих, присела на краешек кровати.
Леонов, отступив в сторону, шепнул врачу:
— Скажите, пусть выйдет в коридор.
— Пойдемте в ординаторскую, — предложил врач.
Помещение было небольшим. У окна, занимая чуть ли не половину комнаты, стоял письменный стол с креслом, покрытым черным обшарпанным кожзаменителем. В углу, у входа, дребезжа, трясся холодильник. У стены напротив прижалась кушетка, покрытая клеенкой.
Леонов, оглядев помещение, предложил девушке присесть на кушетку. Она покорно опустилась на нее, Леонов достал блокнот.
— Вы бы не могли мне пояснить, Оля, что же произошло с вашей мамой?
— А кто вы будете? — спросила девушка, вытирая скомканным платочком мокрые глаза.
— Да, верно. Забыл представиться. Старший следователь Леонов. Майор Леонов, — добавил он.
— Ага! — кивнула девушка, и слезы сильнее побежали из ее глаз.
— Успокойтесь. — Леонов поднялся, налил из графина, стоящего на столе, стакан воды.
Ольга сделала несколько глотков, всхлипнула, посидела некоторое время молча, затем принялась рассказывать.
— Когда я пришла домой, мама еще могла говорить. Она сказала, что требовали каких-то денег.
Девушка замолчала, слезы душили ее.
Леонов понял, что большего узнать ему пока не удастся, и встал.
— Успокойтесь. Мы сделаем все, чтобы найти виновников.
Девушка громко зарыдала. К ней поспешил врач. Леонов на цыпочках вышел, постоял в раздумье: как ни тяжело, но надо взять дочь с собой и съездить на квартиру. Леонов вернулся в ординаторскую и объяснил ситуацию.
Девушка, ничего не говоря, покорно пошла рядом с ним по коридору.
Дома, как и ожидал Леонов, обнаружить ничего не удалось.
Ольга машинально хотела поднять утюг и поставить его на место. Но Леонов, подскочив, успел перехватить ее руку.
— Завтра придут специалисты, попробуют взять от печатки пальцев. Надо посмотреть, все ли цело, — сказал Леонов.
Они перешли в комнату. Девушка обежала комнату глазами.
— Вроде все…
— А где вы храните ценные вещи?
— Какие?
— Ну, кольца, сережки…
Ольга подошла к серванту. Открыв дверцу, достала коробку. В ней ничего не оказалось.
— Нету, — сказала она и поставила коробку на стол.
— А больше нигде не прячете?
— Нет вроде. Точно не знаю. Это мама может сказать.
— А ты помнишь, что у вас было…
Девушка вдруг разрыдалась:
— Я поеду к маме…
Леонов попросил водителя снова подбросить их до больницы. Там он проводил девушку до двери и вернулся к машине.
За свою не очень длинную службу ему уже довелось кое-что повидать. Но то, что он увидел сегодня, потрясло его до глубины души. Все внутри кипело. Леонов подумал об Аленке, представил дочь на месте этой девушки, и ему стало не по себе.
— Ну, что там? — нарушил молчание водитель. Леонову ни о чем не хотелось говорить. Но, он не мог отказать этому человеку, который, повинуясь душевному порыву, стал его добровольным помощником вместо того, чтобы сейчас преспокойно сидеть перед телевизором. Майор сказал только:
— Я такого вандализма никогда не видел.
— Что же натворили?
— Требовали каких-то денег, — сказала дочь. — Но какие жестокие люди! Кололи ножом, потом раны прижигали утюгом.
Машину дернуло, раздался громкий визг тормозов — она резко с заносом остановилась.
— Действительно, пытали? — водитель, держа руки на баранке, с таким выражением смотрел на Леонова, что тому стало неловко за всю милицию, которая не может ничего сделать.
— Пытали, — со вздохом выдавил майор. Он не мог смотреть на хозяина машины, отвернулся в сторону.
— Вы, вы в этом виноваты! Вы их боитесь. Или вас купили. На корню.
Лицо Леонова налилось злостью.
— Не оскорбляй, отец. Это я уже сегодня слышал. Вы что, с ума все посходили? Не стриги всех под одну гребенку. Я чужого вот столечко не брал. И я их не боюсь! Слово даю: я до них докопаюсь.
Шофер немного успокоился. Его глаза в свете уличного фонаря смотрели строго.
— Ну, что? Домой едем или меня будешь ругать?..
V
Леонов проснулся, посмотрел в окно. За стеклом нависла замешанная на ярких звездах темно-синяя мгла, подсвечиваемая уличным фонарем.
— Еще рано, — подумал Леонов. И было неясно: то ли обрадовался, что можно немного понежиться, то ли расстроился, что не может сразу приступить к делу. Полежал некоторое время. Прислушался. Рядом мирно посапывали ребятишки. Леонов приподнялся. В своей, ставшей уже коротковатой кроватке, разметавшись, спала Аленка. Он встал, заботливо укрыл дочь. Поправил и сползшее с дивана одеяло сына. Вернулся, лег снова, но сон не шел. В голову лезли разные мысли. Все они крутились вокруг вчерашнего. То вставало перед глазами изуродованное тело женщины, то вспоминались слова добровольного помощника: «вы или куплены, или боитесь». Разумом майор понимал, что совесть его чиста, но подспудно возникало желание, когда закончится дело, снова встретить этого человека и посмотреть ему в глаза. Леонов даже удивился этому желанию. Раньше он ничего подобного не испытывал, хотя частенько слышал в свой адрес не очень лестные слова, но этот случай был особый.
— Деньги, деньги, — вертелось в голове, — требовали деньги. Какие? Откуда они могли взяться? Жаль, что вчера заторопился. Надо сегодня утром все узнать. И девушка, наверно, пришла в себя.
Решительно отбросил одеяло. Еле разглядел стрелки часов. Они показывали десять минут шестого. Тихонько оделся. Выставил из холодильника все необходимое для завтрака ребятишкам.
VI
Майор долго стучал. Наконец послышался чей-то заспанный голос:
— Чего грохочешь в такую рань, идиот? Не проспался?
— Открывайте, милиция, — сказал он громко.
— Милиция, милиция, — забурчал тот же голос, но уже помягче.
Загремели запоры, дверь приоткрылась. Сунув под нос санитарке удостоверение и отодвинув ее плечом, Леонов быстро пошел по знакомому уже коридору.
В ординаторской он увидел вчерашнего врача, он спал одетый на кушетке. Потеребил его за локоть. Врач открыл глаза, приподнял голову.
— Вы… — узнал он майора и приподнялся. — Рановато! — врач сделал несколько энергичных движений руками, прогоняя остатки сна.
— Ну, как пострадавшая? — спросил Леонов, приглаживая волосы и присаживаясь рядом.
— Жива, — врач зевнул.
— А как дочка? Пришла в себя?
— Да, там сидит. Получше ей стало.
— Нельзя ли позвать?
Врач поднялся и вышел из кабинета. Вернулся он быстро, вместе с девушкой.
— Я вчера не стал тебя долго расспрашивать. Но ты должна мне помочь. Ты ведь хочешь, чтобы виновные были найдены?
— Хочу, — тихо сказала она.
— Так помоги. Скажи, о каких деньгах ты вчера говорила?
Девушка вздохнула. Посмотрела на врача. Он кивнул.
— Да, вроде, папа должен был получить деньги. А впрочем, не знаю.
— А где твой отец?
— В больнице.
— Здесь?
— Нет, он лежит в другой больнице. А где — я еще не знаю, у него что-то с почками, он всегда на них жалуется.
Леонов выразительно взглянул на врача. Тот подскочил к телефону. Вскоре в трубке послышалось отрывистое и сердитое:
— Да!
— Скажите, в урологическом Васильев есть?
— Кто спрашивает?
— Коль, это ты? — вместо ответа спросил врач.
— Я! — удивленно отозвалось в трубке.
— Не узнал? Это я, Сивцов.
— А! — обрадовался голос. — Как жив-здоров?
— Нормально! Скажи, Васильев есть у вас?
— Сейчас узнаю. Я мигом.
Вскоре в трубке послышалось:
— Есть. Камешки зашалили.
— Нашелся, — сказал врач, поворачиваясь к Леонову.
— А где твой папа работает? — обратился Леонов к девушке. — Кстати, как тебя звать?
— Оля, — ответила она и добавила, — папа у меня кооператор, — и тяжело вздохнула.
Врач и майор переглянулись.
— Предупреди, — попросил майор.
Через минуту Леонов уже торопливо шагал по улицам просыпающегося города, добрым словом вспоминая вчерашнего шофера, который, кроме всего прочего, отвез его к жене, а оттуда домой.
У больницы его уже ждали. С тем самым Николаем, что отвечал по телефону, они поднялись на второй этаж.
— Вот здесь, — сказал он, показывая палату. Приоткрыв дверь, указал на кровать, на которой спал больной: — Вот его койка.
— Его можно поднять? — спросил Леонов.
— Можно, — ответил врач.
Леонов заглянул в палату. При слабом свете настольной лампы, увидел, что палата буквально забита больными.
— Где-где? — уточнил майор.
— Да вот, в углу, у окна. — Васильев спал, повернувшись лицом к стене. Майор осторожно тронул его за плечо, больной повернулся и открыл глаза.
— Извините, я из милиции. Мне необходимо задать вам несколько вопросов.
Васильев спустил ноги с кровати. Протер глаза, резко поднявшись, пошел к двери палаты.
VII
На следующий день после дежурства подполковник не поехал домой, как обычно. Закончив оперативку, он попросил Леонова задержаться.
— Ну, что у тебя, майор?
Леонов, сидевший у противоположного конца стола, поднялся.
— Да ничего. Пока ничего, — поправился он. — Товарищ подполковник, не знаю, что и делать. У меня еще кража по Пролетарской, поножовщина на бойне, два стекла из гаража… Да и одному…
— Хватит, хватит, — перебил его начальник. — Я тебе, знаешь, сколько назову. Ну и что? Искать все равно нам.
— Ну, пусть капитан Буров… У него…
— Знаю, — перебил его Мухамедзянов, — Буров — не то, Леша. Ты знаешь, какая реакция в городе после этого случая? Все утро звонят, требуют найти виновных. До области добрались. И оттуда звонки… Так что придется отложить другие дела, а сюда надо с головой…
— Без головы тут нечего делать, — заметил Леонов.
— Ну и дерзай! — подполковник зевнул. — Черт, подремать даже не удалось. — Он вытер платком рот, спросил: — Дома-то все в порядке?
Леонов усмехнулся:
— Если бы…
— А что?
— Жена в больнице, ребятишки на улице. Вчера, пока вернулся, дочка прямо у порога и заснула.
— Ей сколько?
— Четвертый.
— А кто еще есть?
— Сын.
— А ему сколько?
— Во второй пошел.
— Ну, так это… хозяин…
Леонов грустно улыбнулся: хозяин. Вчера этот хозяин у Кольки-соседа, своего ровесника заснул, а отец его по всем дворам бегал, искал. Майор отвел взгляд и посмотрел на улицу. Подполковник подошел к Леонову. Тот попытался было подняться, но Мухамедзянов удержал его.
— Леш, надо.
Леонов вздохнул.
— Знаю, что надо. Слово дал.
— Кому? — живо спросил Мухамедзянов.
— Одному старому рабочему.
— Знаешь, Леша, это очень серьезно.
— Знаю. Если бы не знал, ни за что бы не согласился. Хотя понимаю, что, соглашаясь, делаю такую ошибку!.. — Лицо Леонова исказила гримаса.
Подполковник поднял голову, бросил взгляд на портрет Дзержинского. Потрепал майора по плечу.
— Ты что это так?
Леонов посмотрел в глаза Мухамедзянову.
— Вы же знаете, товарищ подполковник, что одному за такое дело браться — явный провал. Тут надо пустить по свежим следам опергруппу. Люди нужны. Иначе — все! Ф-фу!
Он дунул в кулак и разжал пальцы.
— Это ты прав, — подполковник похлопал Леонова по спине, — как в учебнике… Неплохо машину с компьютером да спецнаборы с портфелем, как у других. А в нашей периферийной жизни? Мы не столичная милиция. Я уж не говорю ни о каких машинах, мне людей-то негде взять. Недокомплектище, раз, — он загнул палец, — Закавказье, два, как она там еще… эта чертова Фергана… Идут команды: направить… Но делать надо? Надо. Труп на Трубной, не разделались еще с общежитием… Да что, Леха, перечислять, — сам знаешь. А тут тебе никто мешать не будет. И думать надо. Понял? Думать! Мы разучились это делать. Подавай нам все на тарелочке. А ты должен преступника нюхом учуять. Ты должен его психологически высчитать, выбрать наиболее верный путь. Оцени обстановку. Пощупай. Да, в общем, раз тебе это уже удалось.
Подполковник замолчал, расхаживая вокруг Леонова.
— Ну, ты понял? — спросил он, останавливаясь.
— Понял, — сказал, грустно улыбнувшись, майор. — Я так и думал сделать. Была бы помощь. А тут… Хочу попытаться все же пощупать. Может, подскажут что… Разбрасываться не приходится. А сейчас разрешите доложить о проделанном.
— Ну и хорошо, — подполковник сел за стол. — Если что — прямо ко мне. Единственное, что могу пока обещать: эту рыбку мы сможем поймать. А то наглеют, сволочи…
Он опять поднялся, прошелся по кабинету. Остановившись перед Леоновым, спросил:
— Над версиями думал? О плане пока не спрашиваю.
Леонов вздохнул:
— Думал.
— Ну?
Майор заговорил не сразу. Он сосредоточился, решая дилемму: говорить или нет. Подполковник не торопил.
— Кое-что узнал сегодня утром. Вчера время потрачено впустую. Пострадавшая была без памяти, дочь в глубоком шоке. Соседи — ноль, на месте происшествия — тоже. Нужны криминалисты, товарищ подполковник! — вдруг взмолился Леонов.
— Нужны, нужны, — похлопал его по плечу Мухамедзянов, — давай дальше.
— Ну, Михаил Омарович, провалю, — вместе будем делить ответственность!
— Разделим, — улыбнулся тот, — ты давай дальше. — Не забывай, что я уже вторые сутки на ногах.
Майор хотел было подняться. Мухамедзянов опять удержал его.
— Да сиди! — приказал он и шутливо ударил по плечу.
— Я понял, криминалиста не будет?
— Пока не будет. Вдовцова срочно вызвали в область.
— Но они же, вы говорите, спрашивают с нас. Как же тогда можно забирать последнего человека.
— Точно, спрашивают — не спрашивают, а результат нужен… Продолжай.
— Есть продолжать. Так вот, утром дочь оказалась более разговорчивой.
— Шок проходит?
— Точно, товарищ подполковник. Так вот, она вывела меня на отца. Оказывается, он должен был получить какие-то деньги. Он кооператор. Должен сказать, что она с достаточным скептицизмом относится к его новой роли. Раньше он где-то возглавлял строительство. Но самое-то главное, что сам Васильев тоже лежит в больнице. Вернее, лег вчера. Приступ, камешки зашалили. Разыскал я его. Он мне поведал свою историю. Васильев возглавляет строительный кооператив. В основном пока занимаются капитальным ремонтом. Несколько дней не мог получить деньги для выдачи бригаде. Вчера после обеда удалось договориться. Но вместо того, чтобы попасть на рабочее место, попал в больницу.
— Денег-то сколько? — уточнил Мухамедзянов.
— Да порядочно: сорок тысяч.
— Бригада большая?
— Восемь человек.
— О! Был бы строителем, подумал бы…
— Не дурно…
— Ты это брось, — начальник нарочито строго посмотрел на майора. — А кто их защищать будет?
Они засмеялись.
— Хорошо. Подходим к главному соображению.
Леонов хмыкнул, сглотнул слюну.
— Ясно, — начал он, облизав губы, — кто-то об этом узнал. Он ходил в кассу несколько дней, но пока не получал денег, никакого нападения не было.
— Почему напали не на него, а на квартиру?
— Мне думается, они руководствовались тем, что раз дело к вечеру, раздачу денег он перенесет на утро. Наверно, у него было опасение, его люди могли разойтись, а таскаться на ночь глядя с такой суммой вряд ли кому захочется.
— Предположим.
— Значит, были наводчики.
— Не сомневаюсь. Кто?
— Все же я думаю, что мог быть замешан кто-то из бригады.
— Ты Васильева об этом спрашивал?
— Так точно. Он перебрал всех. Вроде никого не подозревает. Работают недавно, людей знает неважно.
— Что ж, допустим. Дальше.
— Мог кто-то из банка. Сумма солидная. Могли стукнуть.
— Н-да-а…
Подполковник опять заходил взад и вперед. Майор машинально следил за его движениями.
— А не смотрел кто рядом-живет из бывших?
Майор покачал головой.
— Вот и нужны на это люди…
— Смени пластинку, — подполковник насупился, — давай дальше.
— Третье. Могла кому-то проговориться жена.
— А хозяин?
— Утверждает, никому ничего не говорил.
Подполковник, опустив голову, долго молча расхаживал по кабинету. Леонов не спускал с него глаз. Наконец Мухамедзянов остановился.
— Это все?
— Все, — Леонов вздохнул.
— А четвертого нет?
— Нет.
— Не исключай. А в общем я одобряю все твои версий. Какая наиболее вероятна?
Мухамедзянов, выдвинув стул, облокотился на спинку.
— Какая-какая, — Леонов застучал пальцами по столу, — если бы я знал… Думаю, первые две наиболее вероятны. Хочу начать с первой.
— С первой, с первой, — подполковник выпрямился. — Ты же говорил, что Васильев исключает.
Майор покачал головой.
— Вы не так меня поняли. Он сказал, что не может кого-либо подозревать.
— Да, существенная поправка.
Подполковник улыбнулся.
— Я считаю, — сказал майор, — исключать этого нельзя.
— Я тоже так думаю, — поддержал Мухамедзянов.
Зазвонил телефон. Михаил Омарович взял трубку:
— Да. Я. Слушаю… Нет. Пока нет… Работаем… Да-да… Я говорю, принимаем меры. И по второму. Говорю, и по второму… Ясно? Хорошо. До свидания.
— Исполком интересуется, — он повернулся к Леонову. — Подавай убийство, давай Васильеву. Поучают. Ну, ладно… Им там видней, что нам здесь делать. Итак, хочешь начинать с первой?
— Да, товарищ подполковник.
— Ну, что же, как говорили в старину: с богом!
VIII
Бригаду Леонов нашел, как и говорил Васильев, в бывшей гримерной старого Дома культуры, где бригада вела ремонт.
Густой табачный дым ел глаза, выбивая слезы, как на химкомбинате. На небольшом столе среди бутылок из-под кефира и газировки, немытых стаканов, кусков недоеденной колбасы и хлеба валялась разбросанная колода карт. На краю стола, опираясь на одну ногу, сидел сумрачный обросший брюнет. Его широкие плечи были вяло опущены. Одет он был в пеструю грубой домашней вязки кофту. Остальные члены бригады, — кто лежа, кто сидя на чем попало, — вели какой-то разговор. При появлении Леонова они замолчали, неприязненно глядя на него. «Семеро. Все на месте», — отметил про себя Леонов.
— Здоровеньки булы, — постарался придать веселость своему голосу.
Ему не ответили.
— Кто будет старший? — спросил майор, глядя на брюнета и ничуть не смущаясь от такого приема.
— А тэбэ зачэм? — сказал тот, опуская ногу, словно готовясь к прыжку.
— Дело есть, — спокойно сказал Леонов.
— Какоэ?
— Да хочу работенку предложить.
— Нам этой хватает, — сказал, поднимаясь сухощавый хлопец с густыми нечесаными волосами льняного цвета.
— Ты что рубишь? — повернулся к нему сидевший на корточках напарник. — Может, дело скажет, а ты… Хватает… Говори, зачем пришел.
— Ведут себя спокойно. Тревоги, вроде, не видно. Может, не впервой, пообвыкли? Таких и не заметишь, — стучало в голове.
— Да я хотел на дом… пионеров позвать.
— А, — как-то разочарованно сказал парень, доставая из кармана пачку сигарет. — Будешь? — он ловким движением выбил сигарету и протянул пачку Леонову.
— Не курю, — с сожалением сказал тот.
— Утрами, поди, бегаешь? — парень сунул сигарету в рот.
— Как придется.
— Молодец! Давай-давай. Здоровеньким помрешь, — с насмешкой сказал парень, чиркая зажигалкой. Затянувшись пару раз и выпустив густые клубы дыма, продолжил: — Мы там бывали. Гроши жалеют. А сделать можно. Для детей, — в последних словах Леонов уловил иронию.
— Гроши, говоришь, жалеют? — майор подошел вплотную к парню и потеснил его на свернутом матрасе, на котором тот сидел. Парень молча подвинулся. Затягивался он с каким-то наслаждением, словно демонстрируя величайшее удовольствие от самого процесса курения. Сделав несколько глубоких затяжек, он возобновил разговор.
— А я не хочу лишать себя удовольствия. Много ли его выпадает на нашу долю? Молчишь? То-то! А насчет жизни… Дед у меня до сих пор махру потягивает, и ничего. Врачи все врут.
— В Америке многие теперь бросают курить, — Леонов помахал рукой, разгоняя клубы дыма.
— А что Америка? Америка! Мы сейчас, по-моему, все у ней перенимаем. А толку-то что? У нас свой путь…
— Хорошее-то почему не взять? — Леонов поддернул на коленях брюки.
— А мы все берем. И хорошее, и плохое. А я пока буду курить.
— Пока… кури, — Леонов засмеялся. Улыбнулся и парень. Посмотрев на остатки сигареты, он затянулся поглубже и положил сигарету на кирпич, который был утыкан окурками, как подсолнух семечками.
— Ты про старшего спрашивал, — повернулся он к майору. — А старшего у нас нет. Был и пропал. Сами с утра ждем.
Парень подбросил зажигалку, поймал ее на лету и спрятал в карман.
— Исчез падла куда-то, — вступил в разговор другой с льняными волосами, зло ворочая глазами.
— Гроши бы не слямзил, — поддержал его курильщик.
— Слышь! — соскочил со стола брюнет. — Мэнэ гроши нужны! Гдэ оны?
Леонов молча пожал плечами, не спуская глаз с брюнета.
«Морда такая разбойничья, — подумалось Леонову. — Может, он?..»
— Слышь, друг, ты на меня не при. Гроши у тебя есть.
— Гдэ есть? — брюнет зло сверкнул глазами.
— Без денег по лавашным не лазят. А я, вроде, тебя там вчера видел под вечер, — майор говорил спокойно, уверенно.
— Мэня? — взгляд брюнета стал остервенелым.
— Вроде, тебя.
— Э! — махнул брюнет рукой. — Глазами смотри. Скажи ему, Сэма.
— А что сказать, — тот, которого назвали Семой, лениво повернулся, — мы вкалываем… Если кто и отойдет на минутку… Делов-то…
— Сэки, — сказал брюнет.
— Да мне-то что, — майор обратился к курильщику, словно ища у него поддержки, — куда нас поперло… Я не за этим пришел. Тут уж увольте. Гроши свои ищите сами. Ну, так что, не договоримся? — Леонов поднялся.
Брюнет загородил ему дорогу.
— Ты хто будэшь?
— Я? Завхоз.
— Э! — махнул рукой брюнет и сел на место. От резкого толчка крышка стола поднялась, загремели по полу бутылки.
— Осторожно, Спартак! — прикрикнул курильщик и стал собирать посуду.
Леонов решил больше не задерживаться.
— Ну, бывайте, — сказал он и пошел к выходу. С порога добавил:
— Эх, вы! Для детей не хотите добро сделать.
Сему словно ударило током. Он подскочил и заорал:
— Ты! Завхоз! Мать твою… Ты повкалывай, как мы, с утра до ночи. Тогда я посмотрю, как будешь грошами разбрасываться. А то мы им будем помогать, а аппаратчики себе дачи за счет трудяг строят. Пусть эти деньги детям и отдадут. Так вот, хрен я тебе свою копейку отдам!
— Ты что-то, Сема, разошелся! — курильщик опять подбросил зажигалку. Резко повернувшись, щелкнул зажигалкой перед самым семиным носом.
— Иди ты, — выругался Сема и, махнув рукой, отвернулся.
— Слышь, завхоз, это он у нас так… Горячий. Утрясется. Да, Сема?
Сема что-то пробурчал, опускаясь на лежанку.
— Вот видишь, завхоз, все улаживается. Ты погодя приходи. Покалякаем. Смотришь, и наш бугор притопает. Авось и договоримся.
— Ну, бывайте! — Леонов прикрыл за собой дверь.
Он шел медленно, припоминая и обдумывая каждое слово. Не ясна была роль Спартака. По оценке Васильева, он был работягой, рычагом бригады, но жаден до денег. Сейчас же выглядел абсолютно пассивным. К тому же вчера, похоже, никуда не отлучался. Не вызывали подозрений и остальные. Они даже не пошевелились, безразлично наблюдая за происходящим. Что это? Игра? Неужели что-то почуяли и стараются себя не выдать? Или, хуже, спугнул? И для чего бригаде воровать собственные деньги? Потом еще раз сдернуть с вожака? Трудно в это поверить, но и исключить нельзя. Кто-то один из них хотел взять себе долю побольше? Опять-таки не исключено. Но — кто? Спартак? Сема? Нет, этот — горлопан и трусоват. Курильщик? Не похоже. Урвать он может, совершить маленький подлог… Но большое дело?.. Вряд ли. Остальные? По их безразличным физиономиям можно без труда прочитать, что на такое они не способны? Кто? Опять выплывает Спартак. Или все же кто-то из бригады, и он просто ошибается? Но что-то удерживало Леонова от таких выводов.
«И все же, если подвести черту, ничего подозрительного не было заметно», — подумал Леонов и тотчас же снова засомневался: «Может быть, надо было по-другому? Зачем присваивать себе несуществующую должность. Может, надо было сразу под нос книжицу и — допрос: где каждый был накануне от пяти до восьми? Пожалуй, сказали бы, что вкалывали на объекте. Свидетели? Это легко предусмотреть, найти того, кто подтвердит. Пыль тут в глаза пустить нетрудно. Но для этого надо посвящать в дело всю бригаду. И не могли они, если бы были виноваты, не почувствовать во мне другое лицо. Ведь после того, что они совершили, ясно, как божий день, что начнется расследование».
Леонов оглянулся. Улица была пустынна. «Если заподозрили что-то, начали бы следить», — подумал майор.
Майору показалось, что кто-то юркнул за угол дома. Вроде, тот, с льняными волосами, Сема… Майор ускорил шаг. Навстречу из-за поворота вышла группа ребят. Воспользовавшись моментом, Леонов сам махнул за дом. Но просматривать улицу стало труднее, откуда-то появился народ. Майор еще постоял. Не заметив ничего подозрительного, побрел дальше. Мысли раздваивались.
Вот и банк. Так какое там окно? Левое? Да, левое. Так, по крайней мере, говорил Васильев. Здесь нужен личный контакт. Но как его завязать? Не ждать же окончания смены, а потом устроить случайное знакомство с кассиршей. Знакомство на улице — не идет. Неизвестно пока, может, эта женщина из банка замужем или у нее есть парень. Кстати, парень… Это неплохо бы узнать. Может быть, зайти к управляющему? А вдруг окажется не свой? Предупредит. Нет, надо попробовать самому. И зачем было этому Семе следить за ним? С чем только обратиться? Надо найти деньги и сдать их. А где их найти? Надо ехать домой».
IX
Дома никого не было. Остатки утренней еды были спрятаны в холодильник. Молодец, Вовчик! Леонов взял деньги и снова отправился в банк.
Народу в банке было немного. Майор занял очередь к нужному окну. Перед Леоновым стояла пожилая женщина. Когда подошла ее очередь, она, сдвинув платок, постаралась как можно дальше просунуть свою голову в окошечко.
«Не доверяет», — подумал Леонов и стал через стекло разглядывать кассиршу. Лица ее не было видно, она сидела, склонившись над бумагами. Зато он хорошо смог рассмотреть ее пышную прическу. Она! Об этой прическе говорил Васильев.
Когда девушка подняла голову, что-то спрашивая у посетительницы, майор окончательно убедился, что это была та самая сотрудница. Кооператор достаточно подробно обрисовал ее лицо. Да, она, действительно, была красива. Большие серые глаза без всяких «теней» выделялись на ее удлиненном, но с мягким овалом лице. Яркие, полные губы.
«Неужели она на такое способна? Может, та, что сидит напротив?»
Леонов посмотрел в другую сторону. Вторая кассирша была пожилой, усталой женщиной со строгим, несколько отталкивающим лицом.
«Нет, не похоже. Эта — старая служака. Она не допустит».
— Слушаю вас, — услышал он мягкий голос.
— А… — заволновался майор и полез в карман за деньгами. — Вот, — протянул он свои сбережения.
— Вы что, заводите новую книжку?
— Что вы спросили? — он постарался просунуть голову подальше в окошечко.
— Я спрашиваю: у вас есть сберкнижка или хотите завести новую?
— Новую.
Девушка, приняв деньги, быстро пересчитала их своими тонкими, изящными, как у пианистки, пальцами.
— Шестьдесят, — сказала она, протягивая руку к стопке сберегательных книжек.
— Точно, — майор еще глубже попытался просунуть голову.
— Сломаете, — заметила кассирша.
— Сделаю, еще лучше, — ответил он.
— Не надо. А то придется вызывать милицию.
— Согласен. С ней лучше не связываться, — он выразительно посмотрел на девушку. Эти слова не произвели на нее никакого впечатления. Она просто их не заметила. Лицо оставалось спокойным.
— Паспорт, — не отрываясь от писанины, автоматически сказала она.
Оформив все, она подала ему сберкнижку.
— Становлюсь вкладчиком, дома деньги держать стало опасно. — Леонов опять выразительно посмотрел на девушку.
— Давно пора понять это, — сказала кассирша. — Мы и раньше об этом говорили, — и она показала на плакат, висевший за ее спиной и призывавший хранить деньги в сберегательной кассе.
— Отличный плакат, — сказал он, — жаль, что не видел его раньше. Только вот как с сохранением тайны вклада?
— Гражданин, да кто на ваши гроши позарится?
— Десятки, — поправил майор.
— Ну, десятки, — передразнила девушка.
— Это вы верно говорите. Были бы тысячи — другое дело. Да, если бы, — он впился в нее глазами, девушка, не мигая, смотрела на странного посетителя, — если бы я их снял и отнес домой, ко мне бы обязательно явились незваные гости.
Он по-прежнему не сводил с нее глаз. Девушка, не выдержав его взгляда, покраснела и опустила глаза.
— Этого не надо бояться, — сказала она, не поднимая головы, — мы свято соблюдаем тайну.
— Но ее можно… купить!
— Она не продается.
Кассирша уже овладела собой. Глаза ее потеплели, на лице проступил нежный румянец.
— Гражданин, потом будешь любезничать. Задерживаешь, — послышался сзади чей-то недовольный голос.
Майор выпрямился и, не глядя на посетителей, направился к выходу. «Почему она покраснела, — вертелось в голове. — Что, чует кошка, чье мясо съела? Или, может быть… Да нет… А она ничего, симпатичная… Жаль таких… И все же что-то не так».
— Ох, простите! — он столкнулся с мужчиной, тот со злостью крикнул:
— Ты что? Заснул что ли?
Пройдя несколько шагов, майор остановился. Он заставил себя вспомнить лицо девушки, реакцию на его слова. Почему все-таки, когда он напомнил о незваных гостях, она покраснела? Это явный признак волнения. Человек волнуется — значит, виноват. Тем более такая неопытная овечка, как она. Чем больше он вспоминал, тем больше у него возникало подозрений. Он уже хотел было вернуться и зайти к управляющему, но что-то остановило его. Можно спугнуть! Лучше узнать все о ее окружении другим путем. Он заспешил к остановке.
Вдруг в облаке пыли его обогнал пазик. Он остановился в нескольких десятках метров, из него вышли двое: мужчина с ружьем и девушка с большой сумкой. Перейдя дорогу, они направились к какому-то зданию.
— Куда это они?
На здании висела вывеска: «Промстройбанк».
Внезапная догадка осенила Леонова. Он побежал к висевшему на стене телефону-автомату. С трудом дозвонился до больницы. Долго пришлось объяснять, кто ему нужен и зачем. Наконец, получив ответ, он хлопнул себя по лбу: «Идиот! Деньги-то Васильев получал в Промстройбанке! А я готов был уже ее арестовать. Ай-яй-яй! Какие непростительные ошибки. Вот если бы кто узнал… Смеху было бы…»
Он прошел в небольшой палисадник напротив банка и сел на скамейку. Надо было обдумать дальнейшие действия.
В Промстройбанке зал был побольше. Здесь дожидалось несколько человек. Сразу было видно, что эти люди здесь не впервые, знают друг друга, обмениваются накопившимися новостями. На вошедшего не обратили никакого внимания. Дежурный сотрудник, скользнув полусонным взглядом по фигуре Леонова, скрылся в боковой двери. Майор облегченно вздохнул: дежурный не узнал его. Впрочем, он успел отвернуться, сделав вид, что его интересуют люди, стоявшие у окна.
Леонов встал в очередь к левому окну. Здесь кассы были спрятаны за глухими кирпичными стенами с маленькими окошками за толстыми решетками. Все попытки Леонова хоть краешком глаза заглянуть за эту непроницаемую преграду, получить представление о сидевшем по ту сторону человеке оканчивались неудачей.
У цели он оказался неожиданно быстро. Стоявшая перед ним и шелестевшая, как осенняя листва, нейлоновым плащом толстая коротышка с нелепо завитыми волосами загудела, как полуспущенный барабан.
— Как нет? Утром звонили, сказали — будет.
Из-за окошка донесся мелодичный приятный голос:
— Зайдите к управляющему, он вам объяснит.
Женщина дернулась и неожиданно быстро повернулась всем своим могучим торсом, отталкивая липнувших к окну нетерпеливых клиентов.
— Эй, парень, давай, — прикрикнул на Леонова пожилой мужичок, стоявший за ним, — людей держишь!
Так неожиданно майор вышел на «огневую позицию». На него вопросительно смотрели большие выразительные глаза. Их взгляд был по-деловому серьезен. Однако выражение круглого с ямочками лица говорило, что обладательница его способна закатиться смехом от любого меткого словечка. Ее пухлые, красиво очерченные губы подрагивали, готовые сложиться в улыбку.
— Какая организация? — спросила она бархатным грудным голосом.
— Да я, вот, — он протянул ей сберкнижку.
Девушка с удивлением взяла ее, раскрыла.
— Вы не сюда пришли. Вам надо в сберкассу.
— Ох, извините! Пойду туда. Как я мог перепутать, не знаю?!
— Бывает, — девушка ободряюще улыбнулась.
— Скажите, пожалуйста… Только я уж так… доверительно… Хочу спросить…
— Эй, кончай любезничать! У ней муж есть, — послышался сзади голос беспокойного мужичка.
— Слышите, в чем меня обвинили, — Леонов постарался улыбнуться.
— И меня вместе с вами. Но никакого мужа у меня нет, — произнесла она слегка кокетливо.
— Эй! Эй! Давай быстрее, — доносилось сзади.
— Ухожу, — Леонов быстро оглянулся назад. Затем, вновь повернувшись к кассирше, спросил:
— Скажите только, хоть сумма у меня небольшая, но… работники ваши никому не скажут, что получил деньги?
Говорил он это быстро, не сводя глаз с девушки. Выражение ее лица внезапно изменилось, от веселости не осталось и следа, лицо побледнело, стало каким-то жалким.
— Сказать?.. Кому?.. Вы что! — забормотала она несвязно.
— Да хватит болтать! — не унимался за спиной мужичок. — Кассу скоро закроют.
Леонов в последний раз взглянул на смешавшуюся кассиршу и неторопливо отошел в сторонку. Охрана подозрительно покосилась на него. Окошечко, около которого он стоял, внезапно закрылось. Больше ждать было нечего. Леонов вышел на улицу. Закрыв за собой тяжелую дверь, постоял на лестнице. Время двигалось к обеду. Улица наполнилась торопливыми людьми, которые бежали мимо, не обращая внимания на одинокую фигуру майора, маячившую на фоне серых стен. Каждый был занят своими мыслями и заботами, и никому не было дела до чьих-то трудностей. Леонов сделал нерешительный шаг, помедлил какое-то мгновение и зашагал к остановке.
Приехав на службу, он вынул из сейфа новую серую папку и положил перед собой. Машинально достал из внутреннего кармана ручку. Долго смотрел на простую казенную обложку.
«Кто-то очень хорошо знал все действия Васильева. Кто? Члены бригады? Все? Если бы дали людей! С ними было бы нетрудно перебрать каждого! Стоп! А участковый?»
Майор позвонил дежурному.
— Кто у нас ведет район Дворца культуры металлургов?
— Минуту, — донеслось среди треска в трубке. Ждать пришлось долго. Наконец, раздался треск:
— Купряков.
— Я его могу найти?
В трубке опять что-то заскребло, потом пробилось:
— Две недели как в отпуске. Говорят, уехал к родственникам на Украину.
— Н-да, — сказал Леонов и положил трубку. «Что же делать? Как нужны люди! Да что об этом говорить! Заикнись только подполковнику, он опять начнет загибать пальцы, перечисляя их дела. Так что рассчитывай, брат, на самого себя. Кассирша… Тут явно что-то есть. Так изменилась в лице. Даже выдачу прекратила. Неспроста это, неспроста. Тут стоит остановится. Надо прощупать круг знакомых этой красавицы… Что там с Тамарой? Надо позвонить».
Номер больницы оказался занят. Леонов подождал, набрал снова, и вновь раздались частые гудки. Мысли опять побежали по неясному следу. А вывод один: нужна помощь. Леонов обеими руками обхватил голову. Нет, надо идти наверх. Пусть дает людей.
Он отодвинул папку, положил ручку и, заперев дверь, пошел на второй этаж.
В приемной никого не было. Это упрощало дело. Майор решительно постучал в дверь. Не успел он переступить порог, как подполковник замахал руками:
— Не проси. Людей нет. У меня убийствами некому заниматься. Ты знаешь: время отпусков, да и больных добавилось. А сколько уехали на задания и еще не вернулись… Нет, Леша, — и он взялся за телефонную трубку. — Жми на мозги. Единственный выход. А будешь стоять и канючить — еще добавлю. В общежитии поножовщина. Двое в больнице в тяжелом состоянии, гости сбежали… Ищу, кого послать.
Майор молча повернулся и поплелся к себе.
Опять взял в руки серую папку. Сколько человеческих судеб за такими вот корками. Леонов повертел папку в руках и вывел на ней: 12993. Дело заведено, но в папке пока абсолютно пусто. Эксперты на месте ничего не обнаружили. И опять в памяти замелькали лица, встречи, разговоры… Вдруг мелькнуло: кассирша в банке. Да, здесь есть над чем задуматься. Погоди-ка, а может быть, вчера не она дежурила?
Леонов быстро нашел в телефонной книге нужный номер. Ответ разочаровал: нет, сотрудников не меняют, если только по уважительной причине. Майор медленно опустил трубку. С кассирши и решил начинать раскручивать дело.
Встреча с управляющим мало что дала. Были названы отдельные фамилии, в основном, подруги. Был какой-то Виталий, но о нем давно ничего не слышно.
Леонов с головой погрузился в водоворот дел. Замелькали дни.
X
Безрезультатно закончилась беседа с шестой за этот день подругой подозреваемой. Никаких зацепок.
— Собираемся редко. Одни девчонки. Хороших парней нет, а кого попало звать не хотим. Однажды — это было еще в прошлом году — пришли одни тут. Были выпивши. Вина принесли. Хотели нас споить, не удалось. Так стали хамить. Всякий стыд потеряли. Еле выпроводили, — девушка покраснела и стала крутить носком черной туфли, словно старалась протереть дырку в полу.
— Этих парней вы давно в городе не видели?
— Да только в тот раз и — все.
— А с Виталием они встречаются? — майор спокойно, держа в руке ручку, посмотрел на девушку.
— Еще в прошлом году поссорились. А вернее, его мать их развела… Он же грамотный. Матери подавай сноху ученую. А что Ритка? Ну, красивая. А как говорится, не родись красивой, а родись счастливой. А у нее счастья пока нет.
Девушка опять завертела носком туфли.
— А вот скажи мне, пожалуйста, может ли Рита что-то от тебя утаить?
Девушка ответила не сразу. Подумав, сказала:
— Не… Не думаю.
В голосе слышались неуверенные нотки.
— А чего-нибудь подозрительного за последнее время ты за ней не замечала?
— Что вы имеете в виду? — девушка насторожилась.
Майор отложил ручку.
— Ну, какое-то беспокойство. Может быть, какие-то недомолвки. Одним словом, отклонения от привычного поведения, стремление избегать тебя… Что-то в этом роде…
Девушка не торопилась с ответом, потом, пожав плечами, сказала:
— Право, не знаю…
— Что же, спасибо. Всего доброго, — майор подписал пропуск.
Да, за целый день практически ничего. Пусто…
Дверь открылась неслышно.
— Эй, затворник, — раздался с порога бодрый голос, — колдуем?
Леонов повернулся.
— А… Заходи и дверь закрывай, — из коридора несло табачищем. Леонов не курил и не терпел табачного дыма.
Капитан Носов, несколько полноватый, с красным, свежим лицом и холодными бегающими глазками, шагнул к столу. Стул заскрипел под его грузной фигурой.
— Что, Леш, приуныл? — спросил он, отодвигая тощую папку.
— Как не приуныть, — сказал Леонов, пряча папку в сейф.
— Ты что, не доверяешь? — сказал Носов, с вызовом глядя на Леонова.
— Ну, что ты городишь? — сказал майор. — Она же пустая. Он снова вынул папку и раскрыл ее.
— Над чем пухнешь? — спросил Носов, глядя в окно, выходившее на улицу чуть ли не на уровне дороги.
— А у тебя тут хорошо, ножки можно рассматривать. — Носов захихикал.
— Вот и переходи сюда, нечего сидеть на втором, — в голосе Леонова послышалась обида.
— Да чего ты, Леш? Шуток не понимаешь?
Носов качнулся, стул под ним жалобно заскрипел.
— Мне не до шуток.
— Я вижу. Брось, Леша, так близко к сердцу принимать всякую ерунду. Их всех не пережалеешь. Один в тюрьме или два, какая тебе разница?
— И невиновный тоже?
— Невиновный… — Носов усмехнулся, — у нас невиновный только младенец в зыбке. Сейчас каждый норовит чего-нибудь ухватить. Так что… Не ломай голову. А в общем, если что надо, скажи. Готов другу оказать любую помощь. Имей в виду, я к тебе с открытой душой.
Он откинулся на спинку, положил ногу на ногу и выпалил вдруг:
— Ты ведешь дело Васильевой, — он не спросил, не сказал это утвердительно.
— Васильевой, — тяжело вздохнул Леонов. И тут же быстро добавил:
— Кстати, если ты все знаешь, не слышал случайно, а то я как-то все не доберусь спросить, какую сумму хотели похитить?
Капитан прищурил глаза, взглянул на хозяина:
— Да ты что! Многого хочешь, — сказал он, громко хлопнув по начищенному ботинку. — Это я просто вычислил. Все же сейчас в городе только об этом и говорят. К убийствам как-то, вроде, привыкли, а тут такое… А ты таишься. Ну, ладно. Это так, между нами…
— Ты же знаешь…
— Брось, Леша, очки втирать. Не надо. Лучше вспомни, как мы с тобой Кондратьева брали…
— Было дело, — согласился майор.
Они помолчали. Носов поднялся.
— Ну, я пошел.
Но уходить Носов не торопился. Чувствовалось, — что-то еще не досказал.
— Кстати, — заговорил он снова, — ты уж извини, что лезу в твои дела. Я-то знаю, как тяжело одному. Поэтому кое-чем поинтересовался. Мне кажется, следует присмотреться к бригаде. Без кого-то из них не обошлось. Отдельных типов я знаю. Они давно здесь отираются. Раньше шабашниками были, теперь — кооператоры. Мне года два назад пришлось заниматься по делу директора мебельной. Скажу, тогда много липы было, но кое-что удалось наскрести. Был там один… Спартак, кажется. Да, кстати, на днях мелькнул в окне автобуса. Автобус, вроде, в аэропорт шел. Ну, ладно, а то я тебя с пути сбиваю. Давай, колдуй!.. Или домой? Время-то позднее.
— Домой, — сказал Леонов, посмотрел на часы и стал собирать бумаги.
Леонов добрался домой к вечеру. На улицах стало тише, свежее. Длинные, убегающие вдаль тени пересекали дорогу. В окнах уже зажигались огни.
Засучив рукава, Леонов, принялся возиться на кухне. Аленка радостно бегала вокруг отца, а Вовка, сидя за столом, читал какую-то книгу.
— Пап, а мамочка сюда яички разбивала, — дочка показывала пальцем на разводимую муку.
— И мы это сделаем. Принеси, доча, яичко из холодильника.
Аленка со всех ног бросилась выполнять задание. Почти тут же Леонов услышал, как громко хлопнула дверца холодильника. Он вдруг вспомнил, как захлопнулась за ним дверь автобуса, хотя звук был совсем другой. Что-то беспокоило майора. Автобус… Спартак… Спартак уехал из города?
— Папа, на!
Леонов ласково посмотрел на дочь. Та протягивала ему яйцо.
— А? Ой ты, моя молодчина… Так. Есть. Вовчик! — позвал он сына. — Ты тут помешай. Я сейчас…
— А книга?
— Завтра дочитаешь.
— Да-а… Борька сказал, чтобы я завтра ему отдал.
— Ничего, завтра что-нибудь придумаем.
XI
«Молодец Носов. Это по-товарищески», — отметил про себя Леонов, когда узнал, что Спартака действительно нет в городе.
— Получил какую-то телеграмму и смылся, — сказал Сема.
— Куда?
— А ты что пытаешь, как легавый, куда да куда? Ты, случаем, не из угро?
— Может, и из угро. Тебе-то что? Мне Спартак нужен. Дело есть.
— Так бы и сказал.
Сема сплюнул.
— Эй, Осман, — Сема толкнул лежавшего к ним спиной человека.
— Чэво тэбэ, — не поворачиваясь, грубовато спросил Осман.
— Куда Спартак улизнул? Дело к нему. Завхоз пришел.
Осман поднялся. Откинув нечесаные космы, зыркнул по худощавой фигуре Леонова недобрым взглядом.
— Мэнэ нэ докладывал. Можэ, к бабэ какой ушел. Нэ знаю.
Он зевнул, вытер рот.
— Он в городе или улетел куда? — Леонов так и впился в Османа взглядом.
— Ты чэво пристаешь к чэловеку? Ступай своэй дорогой. Сказал по-русски: нэ знаю.
Он отвернулся и стал удобней устраиваться на старом месте.
— Жаль, — невесело сказал Леонов, — дело пропадет.
Осман на такую наживку не клюнул.
— Жаль, — повторил майор и направился было к выходу, но дверь перед ним внезапно распахнулась, и на пороге появился высокий, с лысым вспотевшим черепом человек. Леонов его знал. Это был заместитель директора по хозяйственным вопросам. Он, к счастью Леонова, не обратил на него никакого внимания.
Эй вы, творцы-молодцы, — заверещал он фальцетом, — а ну, поднимайтесь — и к директору. Досталось мне за вас. — Он большим мятым платком промокнул свой череп.
— А что такое? — Сема исподлобья глянул на начальство.
— Хозяин вчера был? — зам скомкал платок и сунул его в карман.
— Ну, был. — Сема насупился. — А что?
— А то, — зам похлопал еще раз по черепу, удостоверяясь, должно быть, что он сух, — что сегодня он прямо громы и молнии метал. Деньгу, говорит, гребете, а толку нет.
— Нагребли, — съехидничал Сема и подтолкнул Османа.
— Я-то тут при чем, — лысый развел руками. — Начальство…
Они собрались быстро и гурьбой двинулись к выходу. Всунули в петли большой висячий замок, запирать на ключ не стали. Леонов, пропустив их, неторопливо пошел следом. Он задержался на широкой лестнице, посыпанной кое-где опилками, рассматривая мраморные узоры на ступеньках. Ему хорошо было слышно, как громко хлопнула наружная дверь. Вскоре, посмотрев в большое заляпанное известью окно, он увидел, как вся компания подошла к автобусу, ждавшему у дороги, уселась в него и тут же его белая крыша скрылась за деревьями, сплошной стеной росшими вдоль дороги. Леонов постоял в раздумье. По лицу его было видно, что в душе идет какая-то борьба. Потом, махнув рукой, майор еще раз глянул в окно и вернулся назад. В фойе никого не было. Он прислушался. Было тихо. Решительным шагом направился к двери, снял незакрытый замок. Осмотрел комнату. Поиск ничего не дал. Ни обрывков конвертов, никаких бумажных клочков с записями. Только старые пожелтевшие газеты в жирных пятнах. Да, было ради чего рисковать… Попадись он сейчас, как бы ему досталось от Михалыча! Он осторожно выглянул за дверь. В фойе по-прежнему было тихо. Он быстро выскользнул из комнаты, повесил замок на место и торопливо спустился вниз.
Леонов долго в раздумье стоял на некогда широком крыльце, от которого остался фундамент да гора щебня.
«Знает Осман, определенно знает. Не скажет. Чем достать? Может, в лоб? Обвинение? Штурм и сдача? На арапа? Может, пройдет? Сразу так с налета ошарашить… И ты был? А он? Э, нет! Если что, повозиться придется. А сейчас еще и в национализме обвинить могут. Нет, пока нельзя. А все же интересно, куда исчез Спартак? И почему? Следы заметает? Тогда наверняка не домой. А куда? Кавказ большой. А все же, может, попытаться? Его же видели в автобусе, идущем в аэропорт. Надо туда».
XII
…Аэропорт встретил Леонова своим обычным вокзальным ритмом. По радио объявляли о посадках и регистрации, о задержке рейсов. Люди с надеждой, держа какие-то бумаги, толпились около касс. Прошедшие регистрацию пассажиры с независимым видом ожидали оповещения о начале посадки.
Леонов довольно долго искал своих коллег. Найдя, наконец, и вкратце рассказав о причине своего позднего появления, попросил, чтобы ему помогли найти корешки билетов. Старший лейтенант, высокий и худой, посмотрел на старшего сержанта. Тот лениво поднялся, и они пошли искать старшую по посадке. И вот перед Леоновым стопки узких бумажек. Одна, другая… Вот рейс на Минеральные Воды. Стоп! Осмалиди Спартак… Так, вроде, он. Числа совпадают.
Леонов поблагодарил немолодую женщину с морщинками у выцветших глаз. Пожал руку сержанту, тот на прощанье сказал:
— Если что, обращайтесь. Всегда рады помочь.
И вот опять поздний автобус трясет по щербатому асфальту. Пыль летит сквозь неплотно закрытые двери. Но майор этого не замечает. Мысли его далеко.
«Итак, Минеральные Воды. А там? Кто подскажет. Может, взяться все же за Османа? Начать с ними официальный разбор? И так столько упущено времени. Нет. Пока нет. Пострадавшая не может даже сказать, какого они были роста. В те короткие моменты, когда она приходила в себя, пока не сказала ничего вразумительного. Пока единственная нить — это Спартак, скрывшийся с глаз. Почему?..»
На другой день, еле дождавшись начала рабочего дня, майор уже был в автобусе. Когда проезжали мимо узла связи, он, показав удостоверение, попросил шофера остановить машину.
Не задерживаясь, прошел мимо молоденькой секретарши, увлеченно читавшей какую-то книгу.
— Разрешите? — полувопросительно, полутребовательно сказал майор и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет и направился к возвышающемуся в противоположном конце столу.
— Здравствуйте, Николай Степанович, — сказал Леонов, усаживаясь за приставной столик.
— Здравствуйте, — начальник захлопнул «Огонек» и спрятал его в стол. Выражение лица было сосредоточенно-выжидательным.
— Не узнали? Я — Леонов. Из горотдела.
— А, — с какими-то железными нотками произнес Николай Степанович, приглаживая свои светло-русые вихры. — Чем могу служить?
Леонов вкратце рассказал о причине своего прихода. Лицо Николая Степановича подобрело.
— Знаю, знаю. Город возмущен случившимся. Так, чем могу помочь?
Он весь подобрался, словно был готов сию минуту бежать расследовать это сложное дело.
— Как найти почтальоншу, обслуживающую седьмой микрорайон? — спросил Леонов, расстегивая верхнюю пуговицу на пиджаке.
— Так-так-так, — запел Николай Степанович и нажал на кнопку.
— Клара, зайди ко мне.
Вскоре вошла молодая, с озорным и вызывающим взглядом девушка.
— Слушаю, Николай э-э-э… Степанович, — сказала она бархатным голоском, с нескрываемым любопытством глядя на посетителя.
— Узнай, пожалуйста, кто обслуживает седьмой микрорайон и где она живет. У нас почтальоны только женщины, — пояснил он.
Клара молча повернулась, вильнув бедрами.
Вскоре адрес был в руках у Леонова.
XIII
Вот и улица Баррикадная. Почему ее так назвали, вряд ли кто ответит. Но баррикад здесь точно никогда не было. Когда в баррикадах была необходимость, на этом месте шумели березовые рощи. Вот и дом девятнадцать. Как там зовут хозяйку? Варвара Фоминична? Леонов заглянул в блокнот: точно. Он открыл калитку. Из-под крыльца с злобным лаем выскочила небольшая черная собачонка.
— Шарик, назад! — послышался женский голос, и в дверь высунулась взлохмаченная голова.
Собачонка остановилась в нескольких шагах от Леонова, лаять перестала, но продолжала угрожающе рычать.
— Не Вы будете Варвара Фоминична? — спросил Леонов, останавливаясь.
— Я, — женщина вышла на крыльцо, запахивая на груди выцветший халат и подбирая под косынку волосы.
Леонов сделал шаг, но собачонка храбро бросилась навстречу.
— Да пошла ты! — рявкнула хозяйка. Собака повернулась и, поджав хвост, понуро затрусила на свое место.
— Чего надо? — грубовато спросила женщина, не приглашая Леонова в дом.
— Варвара… Какое красивое и редкое имя, — вместо ответа сказал Леонов и улыбнулся.
— Ты дело говори. Нечего тут зубы скалить, — сказала хозяйка, но голос явно подобрел.
— Да понимаете, Варвара Фоминична, мне надо знать, где живет один человек. Он жил в нашем городе, сейчас уехал, а его разыскивает один товарищ. Ну, а этот товарищ знает меня. Вот потому я и здесь, — извиняющимся тоном закончил Леонов.
— «Товарищи, товарищи»… Уж не секретарь ли ты? — женщина изучающе посмотрела на Леонова.
— Был бы секретарь, разве бы пешком пришел?
— И то правда, — охотно согласилась Варвара.
— Цветы-то у вас какие красивые, — Леонов склонился и понюхал цветок. Цветы, растущие вдоль дорожки, в самом деле были необыкновенно красивы.
— Что, нравится? — сказала хозяйка и, спустившись с крыльца, сорвала цветок, протянула его гостю.
— Спасибо, — поблагодарил Леонов.
— Так какого товарища тебе надо?
— Вы не помните случайно, получал ли откуда-нибудь письма Спартак Осмалиди?
— Спартак? Спартак Ос… Как-как Вы сказали?
— Осмалиди.
— А, помню! — радостно воскликнула хозяйка. — Как же, получал! Правда, одно или два — точно-то не помню. Я ему сама в руки отдавала. Лицо у него, как у бандита.
— А откуда они были?
— Дай, бог, памяти… Село такое чудное… Не то Баку, не то Ереван, не то еще как.
— А почему село?
— Так он сам мне сказал, когда я его спросила — откуда.
— А район не помните?
— Нет, района не помню.
XIV
Добравшись до первого телефона, майор позвонил Мухамедзянову и доложил обстановку.
— Надо лететь. Конец веревочки в твоих руках, — сказал подполковник и положил трубку.
По дороге майор заскочил к жене. Она все поняла с первых слов. Посоветовала, кого из соседей попросить приглядеть за детьми.
Леонов всю ночь стирал белье, а утром первым рейсом вылетел на юг.
Минеральные Воды встретили майора мягким теплом. Перебросив через плечо пиджак, Леонов зашагал к маршрутному автобусу.
Накануне Мухамедзянов спросил Леонова:
— А ты уверен, Леша, что Осмалиди заметает следы? Если так, почему он обязательно должен вернуться домой?
— Вы же знаете, Михаил Омарович, в нашем деле все следует проверять. Очень интересный поворот. Банк пока молчит. А насчет дома — он может быть уверен, что друзья не скажут, а других источников получения сведений нет.
— Не легко ли рассуждаешь? — подполковник поднял усталое лицо и серьезно посмотрел на Леонова.
— Другого, товарищ подполковник, ничего нет.
— Да, пожалуй, — после некоторой паузы согласился Мухамедзянов.
И вот Леонов в далеком, незнакомом краю.
Еще дома, достав подробную карту, он досконально изучил места, где должен был побывать, поэтому сразу приобрел билет на рейсовый автобус и стал дожидаться. Вскоре автобус подошел. Леонов, подождав, пока все усядутся, сел на свое место.
Майор с любопытством поглядывал по сторонам.
— Вон Машук, — сказал кто-то, и все повернулись в ту сторону.
«Машук, Машук, — подумалось Леонову, — с чем это связано? Ведь какое знакомое слово!..»
— Думал ли Лермонтов, что здесь ждет его роковая пуля… — сказала, ни к кому не обращаясь, солидная дама, сидевшая впереди.
— Вы знаете, судьба, — заговорил через проход сидевший старичок. Он хотел продолжить, но поняв, что его никто не слушает, замолчал.
«А, правильно, Лермонтов», — вспомнил Леонов.
Автобус катил дальше. Вдруг он резко затормозил. В динамике раздался какой-то треск, и вырвались неразборчивые звуки: Ес..т-т..ки…
Только к обеду на перекладных добрался Леонов до места. Улица, на которой жил Спартак, была узкой, грязной. Ленивые тощие собаки, завидя чужого, беззлобно тявкнув, переходили на другое место.
Еще издали бросилось в глаза, что у одного из домов толпились люди. Когда подошел ближе, увидел, что у входа стоит крышка гроба, обтянутая кумачом. Сердце заколотилось. Неужели?! Он подошел к группе седоусых мужчин и спросил:
— Спартак?!
— Он, — тяжело вздохнул один из них.
— Что случилось?
Никто не ответил. Но один из мужчин показал рукой за угол. Обойдя молчаливых людей, майор увидел стоявшие там «Жигули», вернее, то, что от них осталось. Скорее всего, это можно было назвать грудой металла.
Леонов вошел в дом. Покойного узнать было невозможно. Нить оборвалась…
XV
Подполковник очень внимательно выслушал доклад майора.
— Что, думаешь, убрали?
Леонов неопределенно пожал плечами.
— Вроде, пока не заметно. Я ведь их не крутил. Да и выглядит все, как несчастный случай. Подойдет материал — я его запросил — какой-то свет прольется.
— А может, все же вычислили, поняли, кто ты? А насчет несчастных случаев, майор, не надо обольщаться. Могут так обставить, что комар носа не подточит. У них тоже головы есть. Так как? Раскололи?
Майор опять пожал плечами. Мухамедзянов взъярился:
— Ты что, майор, все плечами жмешь. Тебе ведь отвечать положено.
— Есть отвечать, — сказал Леонов и поднялся. — Разрешите идти?
— Что думаешь делать? — вместо ответа спросил подполковник.
Плечи у майора дернулись, но он вовремя сдержался.
— Работать, — сказал он.
— Надо заняться бригадой. Отработай связи.
— Людей бы… — снова жалобно попросил Леонов.
— Будут люди, дам. А сейчас нет, — сам знаешь.
— Так что, в джазе только девушки?
— Ох! — тяжело вздохнул подполковник. — Как его…
— Спартак, — догадался майор.
— Да, если бы не это загадочное событие… Но уж выглядит, сознаться, больно примитивно.
— Если не сказать больше, — заметил майор.
— Ты что имеешь в виду? — спросил Мухамедзянов.
— Да я так, рассуждаю…
— Рассуждать можно и молча.
— Тогда плохо получается, товарищ подполковник.
— Получается, получается. Пока ничего не получается…
— А вы помните, как в песне: если долго мучаться…
— Вот иди и мучайся. Все же бери бригаду.
Вскоре список членов бригады лежал перед Леоновым. Майор принялся его изучать. Неожиданно раздался телефонный звонок.
— Зайди ко мне, — послышался голос подполковника.
Когда Леонов поднялся к нему, Мухамедзянов назвал один адрес.
— Интересный человек там живет. Скажешь: от Конченого. Он поможет тебе кое в чем.
XVI
Действительно, встреча оказалась полезной, и человек назвал Леонову несколько фамилий. Кое-кто из названных был майору известен. Однако он даже не мог себе представить, что эти люди могут оказать какую-то помощь. Но, узнав их, Леонов согласился, что работа с ними может дать кое-какие результаты.
И опять закрутилось…
Однажды обычный ритм работы нарушил звонок дежурного. Он сказал, что один из задержанных хочет видеть майора.
— Пусть приведут, — сказал Леонов.
В кабинет ввели грязного человека с небритым, заросшим щетиной лицом, но по глазам было видно, что он еще не стар. На человеке был серый, когда-то дорогой пиджак. Из-под него выглядывала неопределенного цвета майка со следами какого-то рисунка. Темные штаны с пузырями на коленках он придерживал худой волосатой рукой. Взгляд воспаленных глаз лихорадочно перемещался с предмета на предмет.
— Задержанный Романюк доставлен, — доложил конвоир.
— Я — Мефистофель, — с некоторым вызовом представился вошедший.
— Ну что ж, — спокойно сказал майор, подумав, что клички, даваемые в преступном мире, как правило, очень метки. Действительно, в облике этого человека было что-то сатанинское. Таким, по крайней мере, представлял сатану Леонов, когда слушал по радио знаменитые куплеты.
— Садитесь, — майор показал на стул.
Человек сел и посмотрел на конвоира.
— Выйди, — приказал майор, поняв Мефистофеля.
Когда дверь за конвоиром закрылась, майор, пристально глядя на арестованного, сказал:
— Слушаю.
Глазки того перестали бегать. Он замер, как хищник перед броском.
— Сделай мне кайф, я тебе окажу услугу.
— Какую? — сухое лицо майора вытянулось.
— Хм. Что, думаешь, тайна, над чем паришься?
Майор с удивлением посмотрел на гостя.
— Что смотришь? Вся камера тарахтит, что ищешь рэкетиров, которые чуть не пососали кооператора.
Майор кивнул головой.
— Ну, допустим. Что дальше?
— А дальше то, — арестант подвинулся ближе, — если будет кайф… Дай хоть раз затянуться. Не могу, зараза, все горит! — он потер рукой впалую грудь. — Век свободы не видать.
— Старо, — сказал майор, — травки у меня нет. Что было, все сдал.
— Курево-то есть?
— Курево? Есть.
— Гони пачку, получишь на тачку, только вези.
Леонов достал из сейфа пачку сигарет и положил на стол.
— Мне это нельзя делать, — сказал он. — Я просто тебя выручу. А ты можешь идти.
— И я тебя. По дружбе… Ха-ха-ха… — Мефистофель засунул пачку в карман.
— Сгоняй-ка вечерком в «Бирюсу». Кое-что наколешь. А ниточка к веревочке приведет. Бывай, майор.
XVII
Стеклянные двери ресторана были закрыты. Стоявший за ними швейцар никого не пускал.
— Нет мест! — кричал он через стекло особенно нетерпеливым.
Правда, когда подходили жгучие брюнеты с ярко накрашенными спутницами, еще издали делая какие-то знаки, швейцар величественно кивал головой, пропуская их. Те проходили в ресторан, с вызовом посматривая на толпившуюся публику.
Леонову пришлось просить о помощи местных коллег. В ресторан он попал через какую-то заднюю дверь, около которой стояли баки с резко пахнувшими помоями.
В зале было прохладно. Приглушенный свет создавал уютную атмосферу. Негромко играла музыка. Несколько пар, застыв на месте, покачивались, как пальмы на берегу океана.
Леонов прошел в дальний темный угол, где приметил свободное место. Подскочил официант, молодой и стройный парень, услужливо протянул меню и неслышно удалился. Отложив глянцевые корочки, майор стал изучать зал. Около колонны, отделанной деревом, он заметил профиль девушки, показавшийся ему знакомым. Но девушка отвернулась. Леонов терпеливо не спускал с нее глаз.
— Я вас слушаю, — раздался над ним мягкий голос. Перед майором стоял официант.
— А, минуточку, — Леонов наскоро выбрал какое-то дешевое блюдо.
— И все? — удивленно спросил парень.
— Все.
Официант небрежно сгреб меню и, презрительно глянув на нищего посетителя, развязной походкой направился между столиками.
Вскоре пришли оркестранты. Зал наполнился грохотом, и пятачок перед эстрадой преобразился. Танцоры, выделывая немыслимые движения, задергались в такт музыке под сиплый голос солиста.
Леонов, заметив поблекшую красотку, с независимым, скучающим видом одиноко сидевшую за столом, направился к ней. Та, оценив его взглядом, поднялась, и они слились с кривляющейся, дергающейся массой. Леонов давно не танцевал, но сразу схватил ритм и уверенно повел партнершу, продираясь сквозь толпу.
— Вы кого-то ищете? — спросила она.
— Что вы! — весело крикнул он в ответ и выкинул такой крендель, что девица расплылась в улыбке, пытаясь не отстать от партнера. Леонов, видя, как она лезет из кожи вон, еле удержался от смеха. Но тут мелькнул знакомый силуэт. Да, ничего не скажешь! Видно, много знал сегодняшний посетитель. Навод его был точен. Правда, лицо мелькает в толпе. Может, ошибка? Надо подойти ближе. Нет, адрес точен. Придется возвращаться к старым листочкам.
«Кассирша» танцевала с высоким, элегантно одетым парнем. Да, такую одежонку на зарплату не купишь. Тут есть над чем задуматься.
Музыка кончилась, и Леонов стал украдкой наблюдать за этой парочкой. Они прошли за свой столик. Там их ждали еще двое. Один из них вскочил и любезно подвинул стул даме. Ростом он был ниже ее партнера.
В голове застучало. В показаниях Васильевой, когда она пришла в себя, было записано, что нападавших было трое. Один высокий, двое пониже. На головах были натянуты чулки, руки — в перчатках.
Опять загремела музыка, и опять потянулись люди. Партнерша майора не спускала с него глаз. Но он, подозвав официанта, расплатился и, воспользовавшись тем, что музыканты играли на этот раз долго, незаметно выскользнул на улицу.
«Кассирша» и ее спутники покинули ресторан одними из последних. Леонов, как тень, скользнул за ними. Неподалеку ждала новая «девятка». Как гончая, сорвавшись с места и сверкнув полировкой, она исчезла в ночной темноте. А Леонов заспешил на вокзал, чтобы успеть на последнюю электричку.
На следующий день подполковник молча выслушал доклад Леонова, забарабанил пальцами по столу.
— Интересно… — На этот раз Мухамедзянов был не один. В кабинете, находился его зам, Николай Яковлевич, тоже подполковник.
— Убийство Спартака…
— Пришли документы, — сказал зам, — несчастный случай.
— Так быстро?
— Перестройка…
Все засмеялись.
— Так-так. Значит, трое. Один высокий.
— Да.
— Ты смотри, Николай, вот расклад. Преступники в руках.
— Подожди еще. Во всем этом есть какая-то линия.
— Но какая?
— Пусть скажет майор.
Майор молчал.
— Что молчишь? — спросил начальник.
— А что ему сказать, — вместо Леонова ответил Николай Яковлевич. — Тут пока только Мегрэ может ответить.
— Мере-Мегрэ… Когда ты им станешь, Леша?
— Никогда, — ответил майор.
— Почему? — подполковник повернулся к столу.
— Михаил Омарович? Товарищ подполковник! Не мучайте меня такими вопросами. Голова идет кругом.
— Итак, значит, трое?
— Трое.
Подполковник, по своей привычке, начал прохаживаться, глядя себе под ноги. Остановился у окна, поправил штору, чтобы свет не мешал майору. Подошел к Леонову. Тот поднялся.
— Сиди. Так что?
— Думаю их повести.
Мухамедзянов посмотрел на зама. Тот кивнул.
— Смотри, как мечемся. То одно, с этим героем… Спартаком. Вроде, сам в руки пошел. И вот на тебе… А главное, похоже, не то. А теперь, как по заказу. Все трое во главе с наводчицей. Ты, Николай, что-нибудь понимаешь?
Зам пожал плечами.
— Так какого же черта поддакиваешь?
Подполковник подошел к Николаю Яковлевичу. Тот повернулся на стуле.
— Так что будем делать? Сюда идем?
— А что есть другого? — Николай Яковлевич развел руками и вопросительно посмотрел на Леонова.
— У меня другого ничего нет, — сказал майор глухо.
— Тогда, как говорится, с богом.
Мухамедзянов пожал Леонову руку.
XVIII
Леонов бежал по улице, обгоняя прохожих и беспрестанно поглядывая на часы. Он опаздывал в детский сад. Когда майор, запыхавшись, влетел туда, Аленка одиноко играла в уголке.
— Не стыдно так относиться к детям, — ворчливо встретила его пожилая женщина.
— Виноват, задержался… — стал было оправдываться Леонов. Но та уже не слушала его. — Мне надо двери закрывать.
Из садика шли, не торопясь, Леонов наслаждался великолепным вечером. Дневной зной сменился приятной прохладой. Дышалось легко.
Аленка бежала впереди. Леонов не заметил, как около них очутился высокий, атлетического сложения парень, одетый в короткую голубую безрукавку. Он внезапно подхватил ребенка на руки, высоко поднял. Немного испугавшись вначале, девочка громко засмеялась. Парень бережно опустил ее на землю, достал из кармана шоколадку, протянул ее девочке.
— Аленка, верни подарок незнакомому дяде, — попробовал вмешаться Леонов.
— Она вкусная? — спросила девочка, поворачиваясь к незнакомцу.
— Очень, — сказал он.
— Вот, папа, видишь, — сказала Аленка, надрывая обертку.
— Кушай, детка, кушай, — сказал незнакомец и опять слегка подбросил девчушку в воздух. Аленка залилась смехом.
— Расти большой и скажи папе, чтобы берег дочь. А то, скажи, тут много разных отвалов, колодцев, в которых и сам Муха со своими ищейками не найдет бедное дитя. Ну, беги, девочка…
Он поставил ее на дорожку и бросил, не оглядываясь:
— Оставь Риту в покое. Не пожалеешь. На хату отвалим. Дачу заведешь. Усек? А то живешь хуже безработного и радуешься. Руби, слышь… Если не поймешь, горько пожалеешь. Чао!
И пошел широким спортивным шагом, насвистывая какой-то веселый мотивчик.
Леонов оглянулся. Улица была пуста. Да и что он сделал, если бы и были люди. Задержал бы? А дальше что? Ничего не говорил, ничего не знает. И что к нему привязалась милиция?.. «А майка-то такая одна… Так, значит, Рита. Жаль, погибнет теперь, скитаясь по лагерям. И что только ее толкает?
Да, но и эти хороши. Дерзкие ребята, наглые. А может, чувствуют за собой силу? Да, знать бы это не мешало. Ничего, высветится. А ведь зацепил!.. Но смотри, какая угроза…» Он посмотрел на Аленку, доедавшую шоколадку. Как ему хотелось вырвать ее и зашвырнуть подальше, но он боялся Аленкиных слез. «Подонки! Ничего святого. А ведь зацепил…» Однако это уже не радовало. Вечер был испорчен.
— Аленка, поедем к маме? — спросил он дочь. Та, просияв, согласилась.
Жену Леонов нашел в садике, она прогуливалась по дорожкам. Тамаре было уже лучше, хотя поправлялась она медленно. Ей разрешили выходить на улицу, и она старалась быть как можно больше на воздухе. Прогулки постепенно прибавляли силы.
Они выбрали скамейку подальше.
— Ну, как ты? — Леонов ласково взял руку жены, внимательно глядя ей в глаза.
— Сейчас лучше, — тихо сказала она и улыбнулась.
Лицо ее было еще бледным, движения не совсем уверенными, но было видно, что она счастлива неожиданным посещением. Больше всех этой встрече радовалась дочь. Она забралась с ногами на скамейку и, обхватив мать за шею, не отпускала ее. Некоторое время все трое сидели молча. Тамара первой нарушила молчание:
— Как Вовчик?
— Ничего, — сказал отец, — помогает мне.
— Да, мама, он даже тесто на блины замешивает. — Аленка отпустила мать и показала, как это делает брат.
К скамейке подошла пара старичков. В ответ на извинения что потревожили, Тамара поднялась:
— Нет-нет, садитесь. Мы как раз собрались прогуляться.
Они шли тихонько по аллее, взявшись за руки. Люди оглядывались на них. Леонов не стал рассказывать жене о только что пережитом, ему не хотелось волновать ее. Только сказал, что ему предстоит командировка и надо отвезти детей в деревню. Соседку просить уже неудобно, сколько можно! Да и Аленке полезно попить парного молока.
— А как с детским садом? — спросила Тамара.
— Я договорюсь. Только вот что, дай адрес, где живет твоя тетка, но никому, пожалуйста, об этом не говори. Поняла?
В глазах жены Леонов прочитал тревогу.
— Что случилось, Леша?
Алексей заколебался. Потом решился.
— Да знаешь, операцию одну провожу. Не хочу, чтобы дети были в городе.
— Ты что?! Это что же, как в фильме про комиссара Каттани?
— Да нет. У нас не так серьезно. Но знаешь… Береженого бог бережет.
— Ты сам-то берегись, — она прижалась щекой к его руке.
— Но и ты будь всегда на людях.
— У нас в палате восемь женщин…
— У-у… да это целый дивизион!
Потом она рассказала ему, как добраться до ее родственницы, съездить к которой сама не раз уговаривала Алексея. Они распрощались, и Тамара еще долго стояла у ограды, пока Леонов с Аленкой не исчезли из вида.
Вернувшись домой, Леонов, не откладывая дела в долгий ящик, сходил к одному знакомому и договорился, чтобы тот с утра пораньше подбросил его сребятишками на автостанцию. На вопрос, куда он собрался в такую рань, Леонов ответил:
— Да надо, — и объяснять ничего не стал.
— Если надо… А там куда? Давай, подброшу. Мне все равно делать нечего.
— Не надо, Коль, в другой раз. Обещал, понимаешь, ребятишкам прокатить их на автобусе.
— Ну, раз обещал…
XIX
Несмотря на ранний час, народу на автостанции было много. Леонов взял на руки закапризничавшую, не выспавшуюся Аленку, и они быстро затерялись в толпе. В автобус сели перед самым отправлением. Аленка спала у него на руках. Леонову освободили место. Правда, оно было в самом конце, но зато отсюда просматривался весь салон, и Леонов, сев, сразу огляделся.
Автобус тронулся сразу. Вскоре окраина города осталась позади. Свежий ветер ударил в лицо, донес горьковатый запах полыни. Аленка сладко посапывала на руках у отца, а Вовка прижавшись к нему, рассматривал пса, лежавшего в проходе. Хозяин, читая газету, держал в руках поводок. Псу, наверное, тоже было скучно, и он с интересом посматривал на мальчика. В глазах светилось тоскливое сожаление, что он такой дисциплинированный. Вот подойти бы сейчас к этому мальчику, положить голову на колени, чтобы тот почесал за ушами-лопухами. Но… нельзя ослушаться хозяина.
Дорога была пустынна. Леонов поклевывал носом. На одном из ухабов автобус сильно тряхнуло. Леонов открыл глаза. Аленка что-то пробормотала во сне. Леонов оглянулся. Какие-то желтые «Жигули», словно на привязи, следовали за автобусом, не обгоняя его, хотя встречных машин было мало. Но у каждого свои причуды, стоит ли обращать внимание. Спустя некоторое время он опять оглянулся. «Жигули» сидели на хвосте.
Вот и первая остановка. «Жигули» проехали мимо. Несколько человек сошло, но новых пассажиров набилось, как селедок в бочке. Когда перегруженный автобус дотащился до следующей остановки, Леонов заметил маячившую там уже знакомую желтую машину. Теперь все стало ясно. Надо было искать какой-то выход.
Дорога пошла в гору, и скорость автобуса стала еще меньше, он еле полз. Быстроходный «Жигуль» не выдержал и опять умчался за горизонт. На очередной остановке история повторилась. Леонов соображал с лихорадочной быстротой.
Когда проехали несколько километров, Леонов попросил передать водителю, чтобы тот остановил автобус.
— Скажите, девочке плохо!
Автобус остановился. Алексей с Вовкой и Аленкой продрались к дверям и вылезли на дорогу.
— Тут нам недалеко, езжайте, — сказал он выглянувшему пассажиру. Вскоре автобус скрылся из вида.
Местность вокруг, как и дорога, была пустынна. Леонову стало не по себе. Правильно ли он сделал? Там все-таки были люди. Но раздумывать было поздно, и когда на дороге показалась машина, Алексей, не спуская с рук Аленку, проголосовал. Машина остановилась. Это был крытый УАЗ.
— Куда, начальник, путь держишь? — спросил Леонов.
Дверца открылась, и на дорогу выпрыгнул крепкий парень с добродушным, открытым лицом.
— Куда надо? — носком ботинка он ударил по колесу.
Леонов назвал адрес.
— Почти по пути. Не выспалась? — спросил шофер Аленку, которая с недовольным видом смотрела на него. В голосе и взгляде его были доброта и участие, и девочка улыбнулась.
— Ты как оказался тут с детишками на пустынной дороге? — спросил парень, проверяя упругость заднего ската.
— Зигзаг судьбы, — Алексей пересадил Аленку, меняя руку.
— А-а, — шофер достал из кабины ветошь и вытер руки.
— Ну, коли так, садитесь.
Когда все забрались в машину, шофер обернулся и подмигнул девчушке.
— Звать-то как?
Но Аленка, посмотрев на отца, молча прижалась к нему.
— Ну, чего боишься? — сказал Леонов дочери. — Скажи дяде, как тебя зовут.
— Аленка, — сказала девочка и спряталась за отца.
— И у меня такая есть. Только зовут Настенькой. Непоседа, ужас! Как приеду с рейса, бежит навстречу со всех ног, — в голосе его звучала неподдельная гордость.
— Хотел было сына, — он крутнул ключом. Стартер заклацал и остановился.
— Эх-ма! Техника! — шофер выпрыгнул из машины и поднял капот. Справился он быстро. На этот раз мотор завелся с пол-оборота.
— Так вот, — вернулся водитель к начатому разговору, — хотел сына, а тут, бац, на тебе, девка. Ну, думаю, мать твою, не подойду. Ан, нет. Когда начала подрастать, как залепетала, веришь — нет, в сердце, — он оглянулся через плечо на дорогу, — какое-то тепло вошло. День не увижу, чего-то не хватает… А мать довольна: хулиганов, говорит, меньше будет. Ничего, я ей и хулигана заказал. Говорю, — а кто Родину будет защищать? Должен быть солдат. А у тебя ничего солдат, хороший парень растет. Будешь солдатом? — он повернулся к Вовчику.
— Нет, — сказал он, — буду, как папа, милиционером.
Водитель удивленно посмотрел на Леонова.
— Так ты мент?
— Мент.
— Ну, я вроде по правилам еду… — голос парня сразу изменился.
— Ты что, брат, расстроился? Ты вот сам только что говорил, что сын нужен, чтобы Родину защищать. А мы кого защищаем? Знаешь, сколько грязи разной выковыривать приходится. Вот об этом вы не знаете. А чуть что — «мент»…
— А знаешь… знаете…
— Давай, как было, на «ты».
— Давай, — охотно согласился водитель. И вдруг протянул руку: — Андрей.
— Алексей, — охотно откликнулся Леонов.
— Да, ты прав. Много разного дерьма повылазило нынче из щелей. Каждый норовит себе урвать. Ну ладно, если потом, а то — обманом.
— Вот тут мы и должны быть начеку, — вставил Леонов.
— Верно, — охотно согласился Андрей.
Аленка задергала отца.
— Что тебе? — спросил он, наклоняясь к ней. Она зашептала ему на ухо.
— А… — сказал он и обернулся к хозяину.
— Авария у нас, Андрей, на травку надо.
— Это мы мигом, — понимающе ответил Андрей.
Они свернули на проселочную дорогу и остановились на полянке.
— Эх, хорошо, — сказал, потягиваясь, Андрей. — Скоро сенокос будет. Люблю это дело.
— И я тоже, — Леонов сорвал травинку и сунул ее в рот.
— А мой батька, между прочим, рядом живет. Может, заехать? Это по пути. Медовушкой угостит. Она у него — клад.
— С удовольствием бы рванул стаканчик, да только на службу надо. Давай так. Покос начнется, ты мне сигналь. Я с удовольствием пару дней повкалываю. Идет?
— Идет! А вечером после работы по стопарю дернем.
И они весело ударили по рукам.
— А ты знаешь, почему я оказался на дороге?
— Нет, — Андрей смотрел, как Аленка рвала цветы. Его безразличие к чужим тайнам окончательно подкупило Леонова.
— Приходится детей от рэкетиров прятать.
Андрей повернулся к нему, глядя с недоумением.
— Их? — он указал на детей. — Прятать?
Леонов кивнул.
— По-настоящему?
— По-настоящему.
— Я-то думал, что это только в кино показывают или в книгах пишут. А тут на тебе. А ты не разыгрываешь?
— Да что ты, разве этим шутят?
— Ты знаешь, — Андрей махнул рукой, — в голове не укладывается. Разве можно этим играть! — возмутился он.
— Значит, можно, раз играют. Они и сегодня меня преследуют. Еле отвязался, хотя скоро мое отсутствие обнаружится. Они проверяют каждую остановку.
— Вот это да! Кино в натуре! Вот козлы! Детей-то зачем трогать? Я таким бы… ух… не знаю, что бы сделал! Ну, взрослый, куда ни шло, а дети… Погоди, давай разберемся. Говоришь, они тут шныряют? Давай поговорим с ними…
Глаза у парня загорелись. Лицо из добродушно-веселого стало суховато-жестким.
— Их там полная машина. Тяжело будет.
— Ничего, в Афгане не так было…
— Ты там служил?
— Полтора года отбухал, — Андрей нагнулся, сорвал цветок, поднес его к лицу. — Под Джелалабадом. В самом пекле.
Он протянул цветок Вовке.
— Мне-то зачем, — важно ответил тот и пошел к машине.
— О, здорово, и я там был! Правда, поменьше, около года. И то хватило, — Алексей наблюдал за сыном, как он юркнул в кабину и ухватился за руль.
— Да, там, брат, всего повидали. А, в общем, ничего. Корешей приобрел, до гробовой доски верны. Знаешь, если что, скажи. Мы поможем тебе разобраться. А сейчас двинули. Я не могу спокойно смотреть на людей, которые жизнью детей смеют играть.
— Знаешь, Андрей, не хочу я с ними вот так, на дороге, разбираться. Пусть лучше суд этим займется.
— И то верно. Но все же… ух… Что же они натворили?
Леонов вкратце рассказал.
— Неужели пытали? Женщину? Ну и ну. В жизни бы не поверил. Ты смотри, мы тут над перестройкой пупы рвем, а они… — Андрей не мог успокоиться. — Ишь, новой жизни захотели. Вкалывать надо… Но вам и за этими дельцами… кооператорами следить надо. Ты смотри, как некоторые наглеют. Шашлык золотой… мать их…
Глядя на зеленую, набирающую силу рожь, Леонов вздохнул.
— Незаметно и урожай созреет… А насчет нарушителей, поверь, друг, ведем борьбу.
Андрей посмотрел в глаза Леонову.
— Честный ты, я вижу, мент, — он засмеялся. — Побольше бы таких.
— Приходи к нам, вместе будем, — майор посмотрел на Андрея.
— Знаешь, пошел бы, да, — Андрей пошевелил пальцами, — платят маловато. А я дом хочу ставить. Знаешь, тянет к земле. Ну, что, едем? — спросил он у подошедшей Аленки.
— Едем! — радостно сказала девочка.
Когда выезжали на дорогу, Андрей притормозил. К ним на большой скорости приближалась желтая машина. Мелькнув перед глазами, она скрылась за поворотом.
— Во дают, — сказал Андрей, осторожно выруливая на асфальт, — не те?
— Похоже, те, — ответил Леонов и посмотрел на ребятишек. Они сидели рядом, прижавшись друг к другу.
Андрей промолчал, только скрипнул зубами.
XX
В тот же день, вернувшись из деревни, майор до позднего вечера сидел у себя в кабинете. Перед ним лежал большой лист бумаги, на котором были начерчены понятные только ему знаки. На чертеже стали проступать пока еще не совсем ясные контуры следов. Куда они вели? Скорее всего, тут пахло другим делом. Но каким? Неужто попутно что-то захватил? А это дело как же? Спросят ведь за Васильеву. Да и три изверга пока гуляют на свободе. Так, посмотрим. Интересно, куда это идет? Ага, в это время Родя был в Красноярске. Алиби, вроде, верное»…
— Все колдуешь?
— А, это ты…
Носов сел напротив. Леонов отодвинул от себя лист.
— Ну, что тут изобразил?
Капитан поднялся.
— Что, Родя отпадает? — прочитал он в квадратике имя, перечеркнутое тонкой карандашной линией.
— Кто бы ни был твой Родя, я думаю, надо идти по следу Спартака.
— Его же нет. Там обрублено, — сказал Леонов, небрежно бросив на большой лист несколько бумажек.
— Зато есть те, кто это сделал, — Носов покосился на прикрытый лист.
— Обвинили погибшего: выехал на встречную полосу, — Леонов карандашом подвинул листочек, тщательнее закрывая свои наброски.
— Это они так говорят… — капитан, видя, что все закрыто, вопросительно посмотрел на Леонова.
— И бумага пришла… — Леонов поискал лезвие, нашел и стал чинить карандаш.
— Э, что верить каждой бумаге. Самому надо порыться. Жаль, занят, а то бы можно помочь… — Носов покачал ногой, любуясь ярко начищенным ботинком.
— Ладно, обойдусь, — Леонов сгреб стружку и бросил в корзинку для бумаг.
— А все же зря, — Носов положил ногу на ногу. Леонов взял лист, поднялся и спрятал в сейф.
— Ты домой не идешь? — спросил он капитана.
— Мешаю?
— Да нет, сиди.
Леонов вернулся за стол. Воцарилось молчание. Первым заговорил капитан.
— Закрытым ты стал, Алексей. Не поделишься. Я к тебе всей душой… Ты знаешь, как я за тебя переживаю. А ты… — он махнул рукой и поднялся.
Леонов встал из-за стола. Положил руку на плечо Носову.
— Садись. Что тебе сказать? Ничего нет. Понимаешь — нет. Уходит все. Все, вроде, не туда. Вот ты говоришь про бригаду. Я тоже так думал. По логике так и должно быть, но… Щупаю ее, но — нет. Чутьем чую — нет. Не там надо искать.
Леонов сложил на место разбросанные карандаши, ручки.
— Так ты что, — капитан зевнул в кулак, — бросить это хочешь?
Майор пожал плечами.
— А… Муха? — (так сотрудники называли между собой подполковника Мухамедзянова).
— Буду доказывать. Пока сопротивляемся. Но не туда иду, не туда… Что ж, пожалуй, пора…
Леонов встал, поднялся и Носов.
— Пойдем. А все же бригаду надо пошерстить.
— Надо. Но ведь люди нужны. Я один. Понимаешь?
Капитан расправил плечи.
— Ну, а что подполковник?
Леонов развел руками.
— А как эта… э-э-э… кассирша?
Леонов удивленно взглянул на капитана, но промолчал, только в голове мелькнуло: откуда? Капитан не успокаивался.
— Клев-то есть?
— Чтобы клевало, насадку надо иметь хорошую. — Майор окинул взглядом кабинет. — Птичка она, я тебе скажу, еще та…
Леонов пропустил капитана к двери. Пока майор возился с замком, Носов терпеливо ждал его.
Они вышли на улицу.
— Давай, подброшу, — предложил Носов, указывая на новенькую, сверкающую машину.
— Ты смотри, — удивился Леонов. — И когда это ты успел?
— Надо уметь жить, — самодовольно ответил Носов. Но потом, словно спохватившись, добавил — Да, понимаешь, брат жены по доверенности дал поездить.
Носов поиграл красивым брелком.
— Везучий ты, — Леонов проводил взглядом промчавшегося мимо мотоциклиста, — а у меня братья день и ночь вкалывают, а им хоть самим впору помогать.
— Каждый живет, как умеет. Ну бывай. — Майор протянул руку. — Я уж на своих на двоих.
— Что ж, пешком ходить — здоровье хранить. Погода — чудо!
Леонов посмотрел вверх. Небо только начинало темнеть, напоминая темно-голубую скатерть, на край которой будто пролили чернила.
— Да, ты прав, погода чудесная.
— Пойдешь по Восточной?
— Да, тут ближе.
— Смотри, стало опасно ходить.
— Ничего, не впервой.
Майор кивнул и широким шагом пошел прочь. Он был рад, что остался один. Носов мешал ему думать. «Так, значит, Родя. Он был в Красноярске, есть подтверждение. Но в это время… Ребята из Красноярска сказали, что кто-то торганул японскими плейерами. Так. Кто у нас их получает? Вроде…»
— Эй, ты! Куда прешь? — прервал его мысли чей-то грубый голос. Леонов поднял голову. Перед ним стояли двое парней. Сзади послышалось тяжелое, дыхание. Леонов бросил взгляд через плечо. К ним торопливо приближались еще двое.
— Да он пьяный! — воскликнул рыжеватый здоровяк.
— Ты чего лезешь? Люди, смотрите, к невинному человеку всякая пьянь пристает! — вдруг завопил он. Его тяжелый кулак внезапно взвился в воздух. Леонов успел чуть присесть и отклонить голову. Он не помнил, как перехватил руку верзилы. Рванув ее на плечо, подсел и бросил его через себя. Тело рыжего тяжело ударилось о землю. Он громко заорал. Ему на помощь кинулся второй. Леонов успел, выбросив ногу, ударить в подбородок. Голова нападавшего откинулась назад, и он, взмахнув руками, отлетел на несколько шагов. Следующий удар Леонов нанести не успел. Кто-то обхватил его сзади.
— Бей! — заорали над самым ухом.
Леонов попытался бросить кричавшего через себя. Но тот, успев упредить прием, ловко заплел майору ноги. Они упали. Леонов, почувствовав, что объятия нападавшего ослабли, выскользнул и вскочил на ноги. Внезапно он инстинктивно ощутил опасность. Резко бросил корпус вперед, но не успел. Что-то тяжелое догнало его и обрушилось на затылок. Леонов упал, вытянув вперед руки, к ногам рыжего.
XXI
Когда Леонов очнулся и открыл глаза, он увидел над собой смуглое, заросшее лицо. Скользнул взглядом вниз. Человек был в белом. Леонов закрыл глаза.
— Жив! — донесся, словно издалека, очень знакомый голос. Только чей, — Леонов никак не мог вспомнить. А голос твердил:
— Жив, курилка, жив!
Да это вроде Муха? Он вновь поднял Беки.
— Михаил Омарович, — сказал он тихо и зашевелился.
— Лежи, лежи, — сказал Мухамедзянов и поднялся. — Как ты себя чувствуешь?
— Слабость.
— Естественно. Но это пройдет. Главное, что выкарабкался. А я уж, признаться, надежду потерял.
— Леша, — позвал дорогой и милый голос.
— Ухожу, ухожу, — заторопился подполковник. К изголовью подсела жена.
— Вот как у нас с тобой: то ты ко мне в больницу, то я к тебе.
— Где Аленка и Вовчик?
Леонов зашевелился.
— Лежи, лежи. Все в порядке. Так и гостят в деревне.
— Ты давно там была?..
— Я туда не ездила.
— И правильно.
Он закрыл глаза. Затылок налился свинцовой тяжестью.
Вечером к нему заглянул Носов.
— Ну, как, колдун? — раздался его сочный жизнерадостный голос. — Я предупреждал…
— Ничего. Обошлось, вроде, — Леонов через силу улыбнулся.
— Вижу. Рад. Ну, ладно. Тут я тебе кое-чего принес.
Носов положил на тумбочку большой полиэтиленовый пакет.
— Ешь и поправляйся. Да, тебе весь отдел привет передавал. И пожелание, чтобы быстрее выздоравливал. Высоко тебя затащили, — сказал он, подходя к окну.
— Не вставал, не знаю. — Леонов глубоко вздохнул.
— Бережет тебя Муха… Нашего у твоих дверей посадил. Ладно, что-то я разболтался. Дел куча. Бегу. Ну, пока! — он помахал рукой и удалился.
XXII
Когда через несколько дней Леонов ввалился в кабинет Мухамедзянова, тот от неожиданности аж поднялся в кресле.
— Здравия желаю, товарищ подполковник, — сказал Леонов. — Разрешите сесть.
Мухамедзянов вскочил.
— Лежать! Приказываю лежать! Я тебя… мать твою… пороть буду. И где ты такой дурной выискался? Кто сейчас так работает! Ну я, старый дуралей. Меня не переделаешь, прежней закалки. А ты? Ты посмотри на себя, посмотри по сторонам? Да разве сейчас так работают! Лежал бы себе, книжечки почитывал. А ты приперся, здрасте… — подполковник сердито хлопнул себя по бедрам.
— Разрешите сесть, товарищ подполковник.
— Садись, — Мухамедзянов повернулся к окну.
— Нет, надо же! Приперся! На ногах не стоит, а туда же!
Он подошел к Леонову. Положил руку на плечо.
— Ну как, Леш?
— Нормально, — Леонов попытался улыбнуться.
— Нормально? Да где там нормально. Твоих убивцев не нашли. Но ходим мы около них совсем рядышком. Почуяли, гады, твое дыхание, почуяли. Навел ты шороху, навел…
Подполковник выдвинул стул и сел рядом.
— Ну, ладно, — он хлопнул Леонова по колену, — выздоравливай… Потом видно будет…
— Вы что, Михаил Омарович? Хотите бросить это дело?
— Бросить? Бросить не удается. Но отдали его Бурову, как ты и просил. Пусть копается, — сказал подполковник, выбивая барабанную дробь своими худыми, прокопченными пальцами.
— Не-е… — Леонов попытался покачать головой, но схватился за затылок.
— Болит?
— Сейчас лучше.
— Гады! — подполковник вскочил. — Но мы их все равно найдем. Никуда не скроются.
— Михаил Омарович, хотя я не довел до конца, но по материалам, которыми я располагал, «кассирша» была наводчицей спекулянтов. Мне не удалось это проверить до конца, но все говорит о том, что наши торганули японским товаром в Красноярске. След повел в универмаг.
Подполковник посмотрел на Леонова.
— Мы проверим, Леша. Слушай, хоть и не твое это дело, но, по всей видимости, ты зацепил местных толстосумов. Может, это их работа? — он кивнул на голову майора.
Леонов неопределенно пожал плечами. Подполковник вернулся на свое место и нажал кнопку.
— Найдите старшего лейтенанта Попкова. Пусть ко мне зайдет.
Лейтенанта нашли быстро.
— Разрешите? — раздался с порога звонкий голос.
Мухамедзянов кивнул.
— Слушаю Вас, товарищ подполковник, — Попков вытянулся.
Мухамедзянов довольно улыбнулся.
— Проверь, Попков, какие товары — имеется в виду импорт — в этом полугодии поступали в универмаг.
— Все?
— Пока все.
— Есть. Разрешите идти?
— Идите.
Старший лейтенант вышел.
— Ты в больницу?
— Придется, — Леонов виновато улыбнулся.
— Я распоряжусь, чтобы дали «дежурку».
Майор, держась за перила, медленно спустился по лестнице. Зашел в свой кабинет. Достал разграфленный листок. Тот самый, над которым он «колдовал», как любит выражаться Носов, в тот злополучный вечер. Леонов еще раз внимательно посмотрел на него, затем стал перебирать какие-то листочки. Нет, он не ошибся. Его предположения подтверждались разными источниками. Он аккуратно сложил лист и снова спрятал все в сейф.
На улице у входа стоял старый, потрепанный уазик. Шофера не было. Леонов вернулся обратно. Суховский, повернувшись спиной к пульту, сидел на столе. Напротив него на подоконнике примостился пожилой худощавый старшина. Его седоватые, мягкие, как пух, волосы шевелил ветерок, врывающийся через открытую форточку. Увидев Леонова, оба поднялись. Суховский занял свое место, а старшина остался стоять, подпирая подоконник.
— Как чувствуешь себя, майор? — спросил старший лейтенант.
— Нормально, — ответил Леонов. — Скажи лучше, кто дежурит? Гена?
— Нет, Петро. Да он сейчас подойдет.
— Болит? — участливо спросил Суховский, подвигая Леонову свой стул.
— Чешется.
— Значит, проходит. — Суховский повернулся к пожилому милиционеру. — Слышь, Тарасыч, бандюги чуть не угрохали майора.
— Слыхал… Наглеют… Сволочи… — Тарасыч достал смятую пачку сигарет, вытряс из коробки несколько штук, протянул майору. Леонов отрицательно покачал головой. Суховский потянулся за сигаретой, аккуратно размял ее, постучал о стол, смахнул на пол табачные крошки.
— Ты знаешь, Тарасыч, а ведь все беды у майора начались с того дня, когда, помнишь, ты сказал, как только что в банке кооператор взял несколько десятков тысяч на получку, — он чиркнул зажигалкой, затянулся.
— Как не помнишь. Помню. Целую кучу денег сгреб в сумку и пошел. И еще помню, когда я сюда приехал и рассказал тебе об этом, здесь капитан Носов был. Он еще как-то засуетился тогда.
— Да, точно, — подтвердил Суховский. — А потом полетел куда-то, даже на лестнице загремел.
— Точно, точно. Мы еще с тобой засмеялись: то ли от удивления грохнулся капитан, то ли спешил очень, — старшина улыбнулся.
Запищал телефон. Суховский повернулся, поднял трубку.
— Да. Нет, — он положил трубку.
— Упадешь, — сказал он, — сорок тысяч — деньги.
— Да… — Тарасыч встал. — Ну, что, мне пора на службу.
— Тебе до утра? — машинально спросил Суховский, хотя прекрасно знал, что ему предстоит дежурить в банке всю ночь.
— Я пошел, — Тарасыч взял лежавшую на подоконнике фуражку, надел ее. Посмотревшись в оконное стекло, поправил.
— Подожди. Петро бежит. Подбросит.
— Не надо. Время еще есть. Хочу пройтись.
— Ну, смотри. Петро, — обратился Суховский к вошедшему молодому высокому крепышу, — подбрось майора до больницы.
Петро зыркнул на худощавую фигуру Леонова и весело сказал:
— Есть.
XXIII
Леонов вышел на работу через несколько дней. Когда он открыл дверь кабинета, на него пахнуло сыростью. Было душно. Видимо, все эти дни уборщица не открывала форточку. Леонов открыл ее, постоял у окна. С улицы потянуло резким запахом бензина, выхлопных газов. Он захлопнул форточку. Потом достал из сейфа бумаги и неторопливо принялся раскладывать их на столе. Но его занятие прервал телефон. Майор поморщился, но взял трубку.
— Майор? Казачков. Тут тебя спрашивает какая-то девушка. Говорит, по делу Васильевой, но назвать себя отказывается. Ходит, между прочим, несколько дней. Все ждет тебя…
— Пусть зайдет, — майор положил трубку.
Вскоре дверь отворилась, и на пороге Леонов увидел Олю. Он пошел ей навстречу. Взял стоявший у стены стул, поставил рядом со столиком, усадил девушку. Она тихо опустилась на стул.
— Как мама? — спросил Леонов, глядя на Олю.
— Ей лучше, — тихо сказала она, потом спросила: — Почему вы не приходите? Вы же обещали.
Майор вздохнул.
— Я, Олечка, болел. Только сегодня вышел на работу.
Оля, убрав руки с колен, положила их по-школьному на столик.
— Мама, когда пришла в себя, вспомнила, что у одного из бандитов на руке была женщина… неодетая. Стояла на сердце.
— Это все?
— Все. Больше мама ничего не помнит.
— Спасибо, Олечка, большое спасибо. Это очень важно. Очень, — повторил майор.
— Ну, я пойду, — сказала девушка и поднялась. Майор проводил ее до самого выхода на улицу.
Не успел он расположиться за столом, как дверь вновь приоткрылась. Показалась голова Носова.
— О! Кого я вижу! Ты уже тут горишь?
Он вошел, радостно улыбаясь, протянул руку. Леонов посмотрел прямо в глаза капитану и спросил:
— Ты знал, что Васильев получил сорок тысяч?
Носов опешил. Он походил на бегуна, вдруг наткнувшегося на преграду и вынужденного остановиться, не понимая, что произошло.
— Ты что это? Уж не меня ли подозреваешь? — Лицо Носова побледнело. — Ну, знаешь, друг! Да я тут все время торчал, каждый подтвердит… Нет, надо же подумать, — он театральным жестом вскинул руки, — ты, может быть, скажешь, что я и на тебя напал.
Леонов вздохнул.
— Куда тебя понесло… Я спросил просто так.
— Думай, что спрашиваешь, — с горечью в голосе сказал Носов, круто повернулся и вышел.
Леонову сегодня явно не везло. Снова раздался телефонный звонок. Леонов узнал голос Бурова.
— Зайду? — спросил он. Леонову стало ясно, что подполковник выполнил свое обещание.
— Заходи, — безразличным тоном ответил майор, продолжая вглядываться в бумаги.
Буров пришел с папкой в руках.
— Привет, — сказал он и сел, бросив папку на бумаги Леонова.
— Слушай, что у тебя есть по этим рэкетирам? — и не дожидаясь ответа, выпалил — Поеду в Минводы. Водички попью. Женщин в это время там, говорят, много съезжается. Не заметил?
— Не заметил, — Леонов пробежал глазами какой-то клочок бумаги, скомкал его и бросил в корзинку.
— Уверен, что ты хлопнул ушками, бросив заниматься тем кавказским происшествием. И без лупы видно, что они его угробили. Концы прячут… Я их выведу на чистую воду. Так что считай, это дело я раскрою.
Леонов поднял голову.
— Слушай, капитан, а почему ты заговорил об этом деле?
— Забыл тебе сказать — мне поручили вести его до конца. Я с ним быстро управлюсь.
— Какое дело? — Леонов начал игру, будто не понимая, о чем идет речь.
— Как какое? Разве тебе не ясно?
— Нет.
— Да это самое, ну… пожгли женщину.
— А, так бы сразу и сказал, что тебе передали дело Васильевой.
Леонов аккуратно переложил одну из бумажек в папку. Видя, что его сообщение не вызвало у майора никакой реакции, Буров поднялся.
— Да, если у тебя есть какие-то документы по этому делу, прошу передать мне.
Леонов, продолжая разбирать бумаги, ответил, не глядя на капитана:
— Никаких документов по этому делу у меня нет, — он сделал ударение на слове «этому».
— Как нет? Ты ведь столько времени…
— Шел по неправильному следу. И тебя не хочу сбивать. Понял?
— Понял.
— И второе. Ты знаешь, как осуществляется передача. Изволь выполнять.
Буров поднялся.
— Ну, ты и бюрократ!
— Какой есть.
После ухода Бурова Леонов собрал бумаги и позвонил дежурному.
— Сергей, — сказал он, узнав голос Казачкова, — скажи, пожалуйста, у нас еще до этого нападения сидел один наркоман, худой такой. Знаешь? По кличке, как его… Ну, персонаж один такой был… Мефистофель. Где он теперь?
— Не знаю, товарищ майор. Но узнаю.
— Будь добр.
Звонок раздался минут через двадцать.
— Товарищ майор, узнал. Романюк по кличке Мефистофель отпущен.
— Когда?
— Сейчас спрошу. Так. Говорят, что написано неразборчиво, не то десятого, не то двадцатого. Не поймешь.
— Хорошо. Кто отпустил?
— Говорят, там зачеркнуто, ничего не разобрать.
— Посмотри, пожалуйста, кто в этот день дежурил.
Слышно было, как Казачков шелестел бумагой.
— В этот день дежурил… так, Суховский.
— Это какого числа?
— Десятого.
— А если двадцатого?
— Совпадение — тоже он.
— Спасибо, хорошо. Еще вопрос: где Мефистофель живет?
Казачков долго молчал. Было слышно, как он кого-то опять спрашивает, потом назвал адрес.
XXIV
Мефистофеля на месте не оказалось. Какая-то старуха в грязном платье, сквозь дыры которого виднелась застиранная цветастая ткань, сказала грубым, ворчливым голосом:
— Нет его. Куда-то услали.
— Услали? — Леонов оттеснив старуху, вошел в коридор.
— Ну, — старуха с недоверием уставилась на пришедшего. — Ты кто будешь-то?
— Я-то? Да его товарищ. За должком пришел.
— А, милый, да что с него возьмешь? Горе одно…
Старуха нагнулась, подобрала валявшуюся на полу стеклянную банку и, не разгибаясь, засеменила на кухню.
— Вернется-то он когда, бабуля?
— А? — спросила старуха, возвратившись.
— Когда вернется? — повторил Леонов, приблизившись к самому уху старухи.
— Да, кто его знает. Пришел тут какой-то, пошептались. Плащишко сграбастал и… Забудь, как звали… Так что…
Старуха развела руками.
Выйдя во двор, Леонов оглянулся на Мефистофелево жилище. Это был вросший в землю, покосившийся и почерневший барак. Его низкая покатая крыша была крыта шифером. Местами шифер заменяли разноцветные заплатки, а кое-где и вовсе зияли дыры, сквозь которые были видны стропила, еще не потерявшие первоначального цвета. Из щелей, куда ветры натащили землицы, росла трава и пробивались молоденькие деревца. Через разбитую, скрипучую калитку Леонов вышел на широкую улицу, заросшую бурьяном и украшенную кучами то ли мусора, то ли земли. Между кучами у противоположного конца барака он увидел подростка лет четырнадцати, который усиленно разучивал приемы у-шу. Леонов подошел поближе.
— Неправильно берешь стойку, — сказал он. — Смотри, как надо. — Он повесил пиджак на ограду и стал в позу.
Паренек недоверчиво посмотрел на неизвестно откуда взявшегося учителя, но повторил.
— А теперь вот так, — продолжал Леонов. Парень молча повторял за ним.
— Вы кто? Учитель? — спросил он Леонова, когда они, устав, присели отдохнуть на остатки ограды.
— Учитель, — неопределенно ответил Леонов.
— Вот здорово! — воскликнул паренек, и глаза его загорелись.
— А где вы тренируете? В «Юности»?
— Бывало и там. — Леонов, наклонившись, стал отряхивать брюки. — А что, ты хочешь учиться?
— Хочу, — сознался парень.
— Тебя как звать?
— Дима.
— А я — Алексей. — Леонов протянул Диме руку.
— А где ты живешь?
Паренек кивнул на барак.
— Ладно, я тебя найду. Мы с тобой займемся.
Паренек просиял.
— А вы к кому сюда приходили? — спросил он, видя, что его новый знакомый снимает с ограды пиджак.
Леонов помялся.
— Мне был нужен Мефистофель. Знаешь такого?
Дима кивнул.
— Должок хотел у него спросить.
— Мефистофеля нету. Увели его. Где Мефистофель, — Дима приблизился к Леонову, — знает только Гусь.
— Гусь?
— Да, так кличут Ваську Гусева. Знаешь его?
Леонов пожал плечами.
— Это такой высокий, черный?
— Да нет. Это вы путаете. То Самоха. Он живет где-то в городе. А Гусь живет вон там, — он показал пальцем, — через два дома отсюда.
Вернувшись к себе, Леонов разыскал тамошнего участкового. Гусев оказался интересной личностью. Не исключалось его участие в наркобизнесе, хотя прямых улик не было. Связь с Мефистофелем он поддерживал давно, — одного поля ягодка. Большего от участкового Леонов добиться не мог. Отпустив его, майор пошел к подполковнику.
XXV
После визита Леонова в доме напротив того, где жил Гусев, поселился какой-то старичок. Он, видимо, где-то подрабатывал, потому что по утрам за ним заезжал крытый уазик и увозил его, а вечером привозили обратно.
На третий день Гусев остановил машину; как обычно привезшую старика.
— Слышь, парень, — сказал он, подойдя к водителю, крепкому, русоволосому, с открытым и честным лицом. Водитель, приоткрыв дверцу, собрался разворачивать машину.
— Чего тебе? — неприветливо сказал он Гусеву.
— Дело есть. Хочешь червонец заработать?
— А два потерять? Грач наколет, два выложу. Не-е.
Он посигналил.
— Подожди. Ложу портрет и штраф — мой.
— Далеко?
— Да нет. В соседний городишко.
— Ничего себе!
— Пузырек в карман?
— Лады. Когда?
— Сейчас.
Шофер посмотрел на щиток.
— Садись. Обратно заправлюсь.
— Подожди, домой только слетаю за одной вещицей.
XXVI
— Мефистофель? — тихо сказал кто-то сзади.
Человек испуганно оглянулся.
— Майор? — удивленно произнес он. Глаза его забегали по сторонам. — Вот так встреча! — радости в голосе не было, хотя взгляд немного успокоился: Мефистофель понял, что майор был один.
— Пройдемся, — предложил Леонов, Мефистофель покорно пошел за ним.
— Чем обязан? — спросил он, когда они прошли несколько метров.
— Соскучился, — сказал Леонов, — да и отблагодарить хочу.
— За что? — Мефистофель остановился.
— Как за что? За помощь.
— Какую? — Мефистофель сделал шаг назад.
— Ты меня тогда правильно навел. Жаль только, — вздохнул майор. — Спартак погиб…
— Погиб? — Мефистофель пронзительно глянул на Леонова.
— Вечная память! — сказал майор.
— Так ты пришел только это мне сказать? — Мефистофель смотрел недоверчиво, напоминая затравленного зверька.
— Не только. Хочу еще тебя уберечь.
— Меня? От кого?
— Сам знаешь. Неужели ты думаешь, наивная душа, что тебя оставят в покое? Прикончат, как последнее быдло. Я должником не хочу быть. Когда-нибудь и ты протянешь мне руку.
— Это ты, майор, брось. Не надо меня на пушку брать. Стреляный.
— Смотри. Только шлет тебе привет этот, как его… Ну, на руке у него баба на сердце…
— Лом что ли?
И вдруг Мефистофель сник.
— Да ладно! — махнул он рукой и пошел назад к дому.
— Берегись, слышишь? — крикнул ему вслед майор.
Ломакиных, Ломовых, Ломоносовых и прочих в городе набралось двести шестьдесят семь человек. Двести тридцать отпали сразу. Потом еще двадцать, двенадцать. Осталось пять.
В этот день майор уехал домой в двадцать минут третьего. Он заснул сразу спокойным сном человека, у которого день не прошел даром и совесть была чиста.
На следующий день, постаравшись закончить дела пораньше, Леонов по пути домой свернул к дому Суховского. Он застал Суховского за работой. Тот, засучив рукава, клеил на кухне обои. Ему помогала дочь, девочка лет двенадцати. Перехватив взгляд Леонова, Суховский немного смутился.
— Да вот… супруга запилила. Дай, думаю… Зоя, принеси стул, — велел он дочери.
— Да я к тебе на минуточку. Николай, ты не помнишь, кто к нам сажал Мефистофеля?
— Мефистофеля? — Суховский снял фартук, вытер о него руки. — Мефистофеля… повторил он задумчиво. — Так-так. По-моему, его настоящая фамилия э-э-э… Ро… Да, Романюк.
— Точно, Романюк, — подтвердил Леонов.
— А посадил его, по-моему, Носов. Точно, Носов.
— Ясно. А отпускал?
— Тоже он. А что? Ты его в чем-нибудь подозреваешь? Вроде, давно работает, ни в чем не замешан. Или… — Суховский посмотрел на майора.
— Да нет, так… — Леонов встал.
— А я, было, подумал…
— Что ж, пойду. Ну, Зоя, до свидания.
— До свидания, — нерешительно произнесла девчушка, вопросительно глядя на отца. Тот сделал неопределенный жест.
— Оставайтесь, — сказала она, — пирожки свежие кушать будем.
— Спасибо, — поблагодарил Леонов и протянул хозяину Руку.
XXVII
На следующий день Леонов пришел на службу раньше обычного. Заперся в своем кабинете и отключил телефон.
«Так, — рассуждал он, шагая из угла в угол. Бригада — раз. Кассирша — два. Слышал — три. Мефистофель — четыре. И пятое — Ломакин, с которым изредка, как сказали, встречался. Неужели? Неужели? Нет! Спас от пули… Друг… Нет».
Он походил еще какое-то время. Потом решительно повернул в замке ключ и громко хлопнул дверью.
Носов что-то писал, когда Леонов вошел к нему. Капитан, как обычно, с радостным выражением лица вскочил из-за стола и, протягивая руку, бросился к Леонову.
Алексей отвел руку и, глядя ему прямо в глаза, спросил:
— Ты?!
— Ты это о чем? — глаза Носова забегали. Рука поползла в карман.
— Ты?! — повторил Леонов.
— Носов бросился к двери. Выглянул наружу. Плотно прикрыл ее, резко повернулся к Леонову.
— Тебе чего надо? Ты чего добиваешься? — тихо и зло сказал Носов. Лицо его побелело. Куда только девалось его вечное самодовольство. — Денег надо? Дам. Зависть берет, как живу? Сам соображай. Тебе ли не жить! Я найду людей. Они тебя озолотят. И кого ты жалеешь? Кого? Этих обманщиков? Этих шкуродеров? А как сам живешь? Хуже безработного. Как тебя жена не выгонит! Ты же дурак! Дурак! — губы Носова дрожали. Волосы упали на вспотевший лоб. Он резким движением отбросил их назад.
— И все, что ты думаешь, недоказуемо! Слышишь? Недоказуемо! Тебе дадут отступного. Слышишь? Еще раз повторяю. Много дадут… «Ладу». Хочешь — дачу. Только не глупи. Лови фарт. Будь умницей. Время не то. Посмотри вокруг. Сейчас все рвут, все тянут к себе. И бери, бери.
Носов подошел вплотную к Леонову. Он тяжело дышал. По лицу бежали струйки пота. Леонов стоял неподвижно, только лицо его бледнело все больше и больше. А Носов наступал:
— Сейчас все продается. Должности, бабы, девки, совесть, честь…
— Ни совесть, ни честь продать нельзя.
Леонов резко повернулся и, не оглядываясь, пошел по коридору.
На резкий, какой-то требовательный стук в дверь Мухамедзянов ответил отрывистым «да». На пороге стоял Леонов.
— А, артист, проходи!
XXVIII
Леонов шел медленно знакомой дорогой. Когда Аленка добежала до того места, где совсем недавно произошла памятная встреча, майор невольно оглянулся. Но тотчас укорил себя за слабость, усмехнулся.
— Доченька, иди сюда.
— Сейчас, папа, — откликнулась Аленка, но и не думала возвращаться.
Он подошел к ней, подхватил на руки. Она громко засмеялась.
— Упадешь, Аленушка!
Они не заметили, как сзади к ним подкатила машина.
— Милиционер, привет! Вот так встреча!
Леонов оглянулся. Из машины выглядывало знакомое улыбающееся лицо.
— А, — узнал он своего добровольного помощника.
— Садись, подвезу.
— Охотно. Как, Аленка, поедем?
— Поедем.
Они сели в машину. Водитель с интересом посмотрел на Алексея.
— Скажи, сколько мы не виделись! Считай, с начала лета. А сейчас, — он посмотрел на растущую неподалеку березку, в зеленых ветвях которой золотились первые желтые листочки, — уже осень подступает. — В его словах послышалось какое-то сожаление.
— Да, бежит время…
Аленка осмелела. Вначале сидела тихо, с недоверием посматривая на водителя, потом начала вертеться на руках у отца. Взгляд ее остановился на смешном талисмане, подвешенном на ниточке к зеркалу. Хозяин машины угадал ее желание.
— Хочешь посмотреть? — он отвязал нитку и протянул игрушку Аленке. Это был мохнатый чертенок с маленькими рожками. Девчушка, не успев его разглядеть, уронила на пол, оба одновременно ринулись за игрушкой. Ударившись головами, громко рассмеялись.
— Ну что, поехали? — спросил хозяин, выпрямляясь и потирая голову.
Аленка захлопала в ладоши.
— Поехали, поехали! — закричала она.
Машина тронулась. По тротуарам торопливо, как обычно, шли люди. А майор смотрел и думал: действительно, как быстро бежит время. Кажется, совсем недавно этот человек возил его по городу, а он, занятый своими делами, даже не успел спросить, как его зовут. Время! Время! Сколько он его потратил, чтобы раскрыть то дело. Бригада, кассы, связь, почтальон, полеты… Да…
— Папа! Папа! — отвлек его голосок дочери. — Смотри, какая красивая собачка! — Аленка показывала пальцем на холеную колли.
— Что, нравится? — спросил отец.
— Очень, очень! — залепетала дочь.
— Да, хорошая собака, — сказал шофер, — держать только накладно. С моей пенсией не разбежишься.
— Тебе домой?
— Домой, — ответил Леонов.
— По старому адресу?
— По старому.
— Н-да. А ты знаешь, вчера прочитал в местной газете интересную статью. Про прошедший суд там рассказывается. Время, конечно, необыкновенное. Честно скажу, — он тормознул, объезжая ямку, — не все мне нравится, но вот, что стали говорить правду, не пряча такие острые вопросы, это здорово.
— Газету не читал, — краснея признался Леонов. — Болел я. О чем речь?
— Что, не слышал? Ну, так я тебе расскажу, — в голосе водителя слышалось торжество. — Суд состоялся. Этих, ну, помнишь, я тебя возил, поймали и судили. Да ты знаешь!..
— Нет, — Леонов отвернулся.
— Здорово тогда кто-то сработал. И ты не поверишь, кто там был. Один из твоих. Но главное… — водитель остановил машину и посмотрел на Алексея, тот пожал плечами. Сын председателя! Бедный! Плохо жил!
Что было в этих словах: радость, торжество, недоумение, сочувствие или сострадание? Леонов не мог понять.
— И все же я рад, рад, что не скрыли, не спрятали. Есть еще честные люди. Или только появляются?
— Не знаю, — усмехнулся Леонов.
_______________
ТОРУБАРОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ родился и вырос в суровом сибирском крае. Детство и юность прошли в небольшом городке. После окончания средней школы поступил в Кемеровский горный институт. Став горным инженером, был направлен в юный город Кузбасса — Междуреченск. Там на шахте прошло его становление как горняка.
Но недолго ему пришлось поработать. Молодой, растущий город требовал специалистов. Вскоре его рекомендуют на партийную работу. С болью в сердце расстается он со своими друзьями и милым, ставшим дорогим городом.
Но еще большую горечь разлуки с родным краем пришлось испытать ему, когда был рекомендован на должность первого секретаря Березовского ГК КПСС. Но запах угля сделал и этот город своим. Врос он своими стройками в кровь секретаря. Тяжело переживал, когда дела его и опыт потребовались в Киселевске, одном из труднейших, по заверению академика Аганбегяна, городе горняков.
Но судьба неумолима. И вот Торубаров в органах МВД. Труден участок работы, но интересен своим динамизмом, наполнен опасностями будней. Здесь у него открывается еще одно дарование — писательское, хотя эта тяга в нем сидела и раньше.
И здесь, на новой работе, она выплеснулась. Написан роман. Заканчивается работа над другим.
Примечания
1
Удостоверение о зачислении в высшее учебное заведение, служившее также зачетной книжкой (устар.).
(обратно)
2
Комингсы — вертикальныестальные листы, установленные у люков на палубных судах.
(обратно)
3
Цвет – наличие (жаргон.)
(обратно)
4
Факт достоверный.
(обратно)
5
Доманская называет А. А. Чесменского графом, однако, как внебрачный сын Орлова, он не имел права на этот титул. Возможно, он был пожалован самому А. А. Чесменскому, по некоторым сведениям, служившему в гвардии, но в исторических документах сведений об этом нет. Доманская именует самозванку Великой княжной Владимирской, то есть так, как именовала себя она сама. Но, бесспорно, Великой княжной Владимирской она не являлась, так как род Великих князей Владимирских прекратился на Руси еще в XV веке. Эти и подобные утверждения, касающиеся самозванки Елизаветы, мы оставляем на совести автора письма. — А. С.
(обратно)
6
Это высказывание также оставляем на совести А. И. Доманской. — А. С.
(обратно)
7
По мнению историков, князь Гали (самозванка Елизавета называла его также Али или Гамет) является мифической личностью и реально никогда не существовал. Этот мифический князь присутствует во всех в остальном противоречащих друг другу версиях пленницы о своем начальном периоде жизни. Доманская, как видим, следует этой легенде. — А. С.
(обратно)
8
Данное и некоторые другие высказывания автор объясняет несколько своеобразным мировоззрением А. И. Доманской, никак иначе объяснить их он не может. — А. С.
(обратно)
9
Брайан Уркварт — Заместитель Генерального Секретаря ООН.
(обратно)
10
Цитируется по журналу «За рубежом», № 4 (1933), 1986.
(обратно)
11
Цитируется по газете «Известия» № 353 от 19.XII.85 г.
(обратно)
12
ВОМ — водный отдел милиции.
(обратно)
13
Ямщица — содержательница воровского притона.
(обратно)
14
ОББ — отдел борьбы с бандитизмом.
(обратно)
15
В 1942 году немцы, захватив ростовские и астраханские степи, вербовали себе сторонников из отбросов населения. Предатели, перешедшие к ним на службу, назывались легионерами.
(обратно)
16
Старики в степи и сейчас еще иной раз измеряют свой путь криками. Четыре крика — это примерно 700—900 метров, в зависимости от погоды.
(обратно)
17
Эргени — северо-западная, гористая часть прикаспийских степей. Здесь бандитам было бы легко скрыться.
(обратно)
18
Трусовский район — один из городских районов Астрахани.
(обратно)
19
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
(обратно)
20
Querulant (лат.) — жалующийся, психопатическая личность, страдающая стремлением к сутяжничеству.
(обратно)
Оглавление
Романов В
За всё платит форвард
Роман Романцев. Родимое пятно.
Владимир Кондратьев. Частный случай.
Роман РОМАНЦЕВ. РОДИМОЕ ПЯТНО
Владимир КОНДРАТЬЕВ. ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Авторы
Николай Гацунаев
Григорий Ропский
ДЕЛО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Невыдуманные рассказы
Предисловие
УГОЛ ПАДЕНИЯ
СТАРШИНА
ГИБЕЛЬ «РУДИНА»
КАРАВАН-САРАЙ
НОЧНОЙ ЗВОНОК
ОТСУТСТВУЮЩИЕ УЛИКИ
КОЛЬЕ С БРИЛЛИАНТАМИ
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ФУРКАТА
ДЕЛО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Игорь Росоховатский
Шляпколовы. У тебя есть друзья
(повести)
Игорь Росоховатский
ШЛЯПКОЛОВЫ
(приключенческая повесть)
ВСТРЕЧА НА ТЕПЛОХОДЕ
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
В ТИХОМ СЕМЕЙСТВЕ
УДАР В СПИНУ
"РЫБОЛОВЫ"
ОБЛАВА
КОСТЯ ДЕРЕЗА
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Игорь Росоховатский
У ТЕБЯ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ
(Повесть)
ЧИЖИК РЕШАЕТСЯ
"ЛЕЧЕБНИЦА"
СТАНОК ПОЕТ
* * *
В.Саксонов, В.Стерин
Меркурий в петлице
“ГРАНИЦА ОТКРЫТА — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!”
МЕСЯЦ БЕЗ ЗАВТРАКОВ
СНОВА КОЛУМБ
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
ПАЧКИ РАФИНАДА
ТОЛЬКО С ТОРГОВЦАМИ
СЧАСТЛИВОГО ДЕЖУРСТВА!
Эрнст Сафонов
Сейф
Повесть
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Селиванова Елена.
Без белых роз
Слово от автора
Федор Лукьянович
Дом на косогоре
Трагедия в доме № 49
Одна на качелях
Отец и сын
Без белых роз
За высоким забором
Сторож… с двумя дипломами
Отцовский подарок
«Хозяева» поселка
Достал «Жигули»
На широкую ногу
Судьба изменника
Юлька
Вечный жених
Ланка
«Прилетай скоростью звука»
Спасибо вам, люди!
Седая прядь
«Доверенное лицо»
Димкина беда
Неопознанный отец
Здравствуйте, я Куку!
Возмездие
Фамильная честь
Семейная ошибка
Ехал солдат домой
За каменной стеной
Мошенник с неустановленным лицом
Гаражи феи Ушановой
«Святая» Прасковья
Селиванова Елена
Трагедия в доме № 49
ТРАГЕДИЯ В ДОМЕ № 49
ЕХАЛ СОЛДАТ ДОМОЙ
ОТЦОВСКИЙ ПОДАРОК
ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ
„СВЯТАЯ“ ПРАСКОВЬЯ
ОТЕЦ И СЫН
ПОДЛОСТЬ
ДИМКИНА БЕДА
„ПРИЛЕТАЙ СКОРОСТЬЮ ЗВУКА“
КЛАД
СЕДАЯ ПРЯДЬ
ОДНА НА КАЧЕЛЯХ
ЮЛЬКА
НА ШИРОКУЮ НОГУ
ЛАНКА
МАЧЕХА
ПОСЛЕ ДОПРОСА
КАПИТАЛЬНАЯ СТЕНА
ПЕРЕД СУДОМ
ИСК НЕ ПО АДРЕСУ
СУДЬБА ИЗМЕННИКА
ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА
БЕЗ БЕЛЫХ РОЗ
Серба Андрей
Кольт 11-го года
КАПИТАН
СТАЖЕР
КАПИТАН
СТАЖЕР
КАПИТАН
ЛЕЙТЕНАНТ
Дмитрий Сергеев
След на лыжне
Детективная повесть
I
II
III
Ребята из УГРО
ПРОЛОГ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ПО ПРИМЕТАМ
«ДУМАТЬ, САША, НАДО»
ПЕРВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
В ЛОВУШКЕ
«НЕУД» ЗА РОТОЗЕЙСТВО
ВСТРЕЧА С АРТИСТОМ
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
В РАЗВЕДКУ
РЕБУС ГРИШКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТАКАЯ У НИХ РАБОТА
СЮРПРИЗ
ШОФЕР СЕНЬЧА
ПО СЛЕДУ
РАСПЛАТА
САПОГИ С БЕЛЫМ РАНТОМ
УЧЕНИЕ НА ДОМУ
ЗАЧИСЛИТЬ НА ДОЛЖНОСТЬ
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
«УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ»
ТУЕСОК И ЗОРРО
НА НОВОМ МЕСТЕ
УРОК КРИМИНАЛИСТИКИ
«ВЫ, ТОВАРИЩ НАЧАЛЬНИК…»
ПОЕЗДКА В ХАРАУЗ
ОХОТА
ЮШКА СЛЕПНЕВ
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА — ХЛЕБ ДЛЯ КОМСОМОЛЬЦА…
«МАДЕМУАЗЕЛЬ ЛЕ ДАНТЮ» ЕДЕТ НА ЗАПАД
ВОЙНА
СНОВА ЧИТА
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
ТУЕСОК РВЕТСЯ НА ФРОНТ
ПО СТАРЫМ МЕСТАМ
ТАЙНИК НА РУБАШКЕ
ПО ПЛАНУ ДОРОХОВА
В ЛОГОВО К БАНДИТАМ
КОНЕЦ БАНДЫ АГЕЕВА
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Скрягин А. Потупа А и другие авторы
Повести
Александр Скрягин
МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
1
Загадочное исчезновение
2
Временной люфт
3
Кто-то из троих…
4
Тайна самозванки Елизаветы
5
Четвертый…
6
Подозреваемый
7
Концерт Мендельсона осенью
8
Преступник?
9
Реликвия рода Чесменских
10
Все точки над i
Александр Потупа
ОТРАВЛЕНИЕ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Александр Ярушкин, Леонид Шувалов
ГАМАК ИЗ ПАУТИНЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Дежурные сутки
10 сентября, воскресенье
11 сентября, понедельник
20 сентября, среда
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Последний аккорд
21 сентября, четверг
22 сентября, пятница
Валентин Маслюков
Александр Ефремов
ДЕТСКИЙ САД
Данил Корецкий
ЗАДЕРЖАНИЕ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Чингиз Абдуллаев
ИСЧЕЗНУВШИЙ УБИЙЦА
ЧАСТЬ I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
ЧАСТЬ II
Появляется «Ангел»
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
X
ЧАСТЬ III
Дипломатия мафии
I
II
III
IV
V
VI
VII
Дмитрий Стахов
ПРОДОЛЖАЯ ПУТЬ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Скубилин Г.
Записки следователя
АГЕНТ № 2, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «ДИПЛОМАТ»
Роман
1. Эхо исторического залпа
2. Начало
3. Столичные помощники
4. Человек долга
5. Дела семейные
6. «Такая у них служба»
7. Агент № 2
8. Расшифровали?!
9. Откровенный разговор
10. Герман Карлович Беккер входит в роль
11. Первый приемный день
12. Встреча друзей
13. Зося
14. Беккера проверяют
15. Ночной визит
16. Горничная обещает помогать
17. «Неудачник»
18. Разоблачение предателя
19. Новогодний бал близок
20. Облава
21. Похороны
22. Одиночество
23. Тихон слушает ученого
24. В новом ресторане
25. Ба! Знакомые все лица!..
26. Среди «серых волков»
27. Кто вы, господин Беккер?
28. Надежна ли Зося?
29. В логове
30. Встреча с атаманом
31. Штурм притона
32. Погоня
33. Ясное утро
ПОВЕСТИ
ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ВСТРЕЧА С ДРАКОНОМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ДЕЛО № 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
«ЛЕКАРИ»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В ОДНОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
В ГОСТЯХ У «КОШКИ»
РАССКАЗЫ
ВЫСТРЕЛ НА УЛИЦЕ
1
2
3
4
5
ДЕНЬ СЛУЖБЫ
«ТАЙНА» БУФЕТА
ТРУДНЫЙ РОЗЫСК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ
РЮМКА ШАМПАНСКОГО
1
2
4
5
ЗАДЕРЖАТЬ В ПОЕЗДЕ
ЧП В СЕЛЕ
ПРЕРВАННЫЙ ОТПУСК
ДОРОГА В ОМУТ
1. Исчезновение девушки
2. Поиски-розыски
3. «Особая» больница
4. Снова дома
5. Признание «куртизанок»
6. Розыск таксиста
СХВАТКА
1
2
3
4
5
ПОХИЩЕНИЕ РЕБЕНКА
1
2
3
4
5
ВЕРСИИ, ВЕРСИИ…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
НЕПОПРАВИМАЯ ОШИБКА
1
2
3
4
5
6
7
ГИБЕЛЬ ДИКА
СВАДЕБНЫЕ ПИРЫ
1
2
3
МИНИАТЮРЫ
ИЗ БЛОКНОТА СЛЕДОВАТЕЛЯ
НЕКРИМИНАЛЬНАЯ МОЗАИКА
ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО О ПОДРОСТКЕ
ЗАПОЗДАЛОЕ ПРОЗРЕНИЕ
ДИАЛОГ С ПРИШЕДШЕЙ ИЗ НОЧИ
КАКОЙ ОН СЕГОДНЯ, ДОН ЖУАН?
ЖАЛОСТЬ И ГУМАННОСТЬ
ЧУЖАЯ ШАПКА
БЕГСТВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
НАПАДЕНИЕ В ЛЕСУ
СЧАСТЬЕ — КАКОЕ ОНО?
…И ВОЗНИКЛА РЕВНОСТЬ
ПИКОВАЯ ДАМА
ДНЕВНИК МЛАДШЕЙ ДОЧЕРИ, ИЛИ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
ОТЕЦ И СЫН
СОХРАНИ, УЛИЦА!
ПИКАНТНЫЙ СЮЖЕТ
Новелла
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСАВИЦЫ АВГУСТИНЫ
Романтическая повесть
1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АВГУСТИНЫ
2. ВИНОВАТ ЛИ НЛО?
3. ВПЕРЕД, К МОРЮ
4. ПОБЕГ С ПОЛУОСТРОВА
5. НА СУДНЕ ПИРАТОВ
6. НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕРЕГ, ИЛИ ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
7. ДЖУНГЛИ
8. В ГОСТЯХ У ДИКАРЕЙ
9. ОПЯТЬ МОРСКИЕ ГРАБИТЕЛИ
10. ЭММА БАБКИНА
11. ДОПРОС
12. МАКСИМ ДЕЙСТВУЕТ
13. ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ
14. ОБЕД У МИЛЛИОНЕРА
15. ОБОЖАЕМЫЕ ФУТБОЛИСТЫ И ЗЛОСЧАСТНАЯ АВГУСТИНА
16. ВСТРЕЧИ С МАРАДОНОЙ
17. ЭПИЛОГ, ИЛИ ПОД МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА
ОТ АВТОРА
Переступить себя
Переступить себя
Твой выстрел — второй
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Что ответить ему
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Соколов Михаил
Враг в зеркале
ГЛАВА 1
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
ГЛАВА 2
Я ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬСЯ С ПРОШЛЫМ
ГЛАВА 3
ЧЕРТОВСКИ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
ГЛАВА 4
В РЕСТОРАНЕ "ЧАЙКА"
Глава 5
НЕУЖЕЛИ НАДО БИТЬ ТАК ЖЕСТОКО?
ГЛАВА 6
МЫ НАЧИНАЕМ СХОДИТЬ С УМА
ГЛАВА 7
ПОХИЩЕНИЕ
ГЛАВА 8
СУМАСШЕДШАЯ НОЧЬ
ГЛАВА 9
МОСКВА
ГЛАВА 10
СТРАННЫЙ СОН
ГЛАВА 11
НА ЛУБЯНКЕ
ГЛАВА 12
"БЕЛЫЙ ДОМ"
ГЛАВА 13
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
ГЛАВА 14
НА ГОРЬКОВСКОЙ ТРАССЕ
ГЛАВА 15
В МОГИЛЕ
ГЛАВА 16
МЕРТВАЯ ЛЕСТНИЦА НА СВОБОДУ
ГЛАВА 17
САТАНИНСКОЕ ОТРОДЬЕ
ГЛАВА 18
В ОЖИДАНИИ ТАНИ
ГЛАВА 19
УЛИЧНЫЙ ОБСТРЕЛ
ГЛАВА 20
СОВЕЩАНИЕ У ПОЛКОВНИКА СЕРГЕЕВА
ГЛАВА 21
НЕ УДЕРЖАЛ
ГЛАВА 22
В ГОСТЯХ У ЛЕЩИХИ
ГЛАВА 23
ЗАМЕЛИ
ГЛАВА 24
ВСЕ МЫ ИЗ РАЗНЫХ ПЛЕМЕН
ГЛАВА 25
БУРАТИНО
ГЛАВА 26
ОЖИВЛЕНИЕ ПРИЗРАКА
ГЛАВА 27
ЧИНГИЗ
ГЛАВА 28
ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ТРОЕ
ГЛАВА 29
НЕЛЬЗЯ КРОВЬЮ СМЫТЬ КРОВЬ
ГЛАВА 30
ОНИ ВАС УБЬЮТ
ГЛАВА 31
НАДО БЫЛО ПРИКОНЧИТЬ ОХРАНУ
ГЛАВА 32
УБЕЙ ИХ! УБЕЙ!
ГЛАВА 33
КОШМАР КОНЧИЛСЯ НАВСЕГДА
ЭПИЛОГ
Столяров Кирилл Анатольевич
ИЗОЛЯТОР
1
2
3
4
5
6
Константин Афанасьевич Тенякшев
Прошлое бросает тень
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ШЕЛ ЧЕЛОВЕК ПО ГОРОДУ
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
ДНИ МИНУВШИЕ
УТРО НОВОГО ДНЯ
ГОРЯЧИЕ ДНИ
ТРОИЦКИЙ ДАЕТ СОВЕТ
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
ЖИЗНЬ ВХОДИТ В КОЛЕЮ
ТУЧА НА ГОРИЗОНТЕ
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ
… И ПОЛГОДА СПУСТЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРЕРВАННОЕ СЛЕДСТВИЕ
КРАЖА
НИТЬ ОБРЫВАЕТСЯ, НО…
ОГОНЬ ПО СВОИМ
И ВДРУГ…
ДОПРОС
БУРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
ЖИЗНЬ ВРАГА
ЭПИЛОГ
Константин Афанасьевич Тенякшев
Прошлое бросает тень
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ШЕЛ ЧЕЛОВЕК ПО ГОРОДУ
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
УТРО НОВОГО ДНЯ
ГОРЯЧИЕ ДНИ
ТРОИЦКИЙ ДАЕТ СОВЕТ
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
ЖИЗНЬ ВХОДИТ В КОЛЕЮ
ТУЧА НА ГОРИЗОНТЕ
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ
… И ПОЛГОДА СПУСТЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРЕРВАННОЕ СЛЕДСТВИЕ
КРАЖА
НИТЬ ОБРЫВАЕТСЯ, НО…
ОГОНЬ ПО СВОИМ
И ВДРУГ…
ДОПРОС
БУРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
ЖИЗНЬ ВРАГА
ЭПИЛОГ
Тихонов Юрий
Следствием установлено…
ПРОСЬБА СТАРОГО ЗНАКОМОГО
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА
ВСТРЕЧА С КУЛЕШОВЫМ
ПОТЕРПЕВШИЙ ШЕСТАКОВ
ДВЕ ВСТРЕЧИ
УДАР ПО САМОЛЮБИЮ
«КРИМИНАЛИСТ С СЕЛЬМАША»
РЕШЕНИЕ АВЕРКИНА
В ОБЪЕДИНЕНИИ
СНОВА ГАГУЛИН
«ФАНЗА» НА КАМЕНКЕ
КТО ЕСТЬ КТО
ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР
ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ
НЕПРОБИВАЕМЫЙ СУББОТИН
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
ОЛЬГА ЕФРЕМОВА
ДЖЕНТЛЬМЕН, СЭР И ПРОЧИЕ
УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР
«ГОСПОДИН» ПОТЕМКИН
«ОЛИМПИЯ» ЧЕТВЕРТОЙ МОДЕЛИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРЕЖИТОМУ
«ИСКРЕННЕ БОЛЕЮЩИЙ»
Об авторе
Торубаров Юрий.
Двадцать один день следователя Леонова
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
*** Примечания ***



 Роман Викторович РОМАНЦЕВ родился в 1952 году. Окончил педагогический институт. В 1984 году в издательстве «Современник» вышла его первая и пока единственная книга прозы.
Живет в Серпухове.
Роман Викторович РОМАНЦЕВ родился в 1952 году. Окончил педагогический институт. В 1984 году в издательстве «Современник» вышла его первая и пока единственная книга прозы.
Живет в Серпухове.


 Предисловие
Предисловие



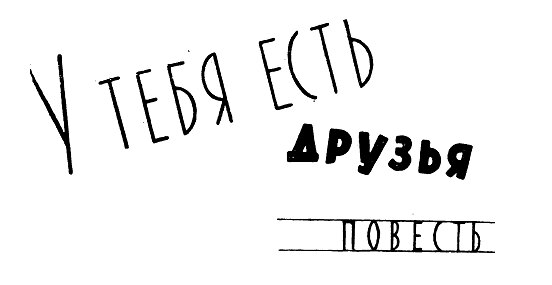
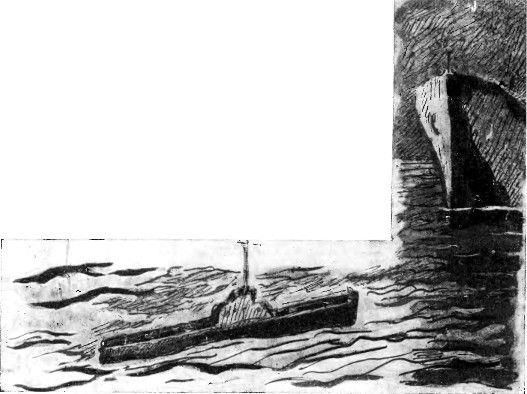 Он служил за границей и в тот вечер, когда поезд “Берлин — Москва” остановился в полукилометре от станции Брест, был счастлив, как может быть счастлив солдат, вернувшийся на Родину.
Сергей долго смотрел, как теплеет небо над Брестской крепостью.
Он бывал там и навсегда сохранил в памяти грохочущую тишину пустых казарм, каменные слезы оплавленного кирпича, застывшие судороги стальных балок.
Отсюда, где над тихим Бугом склонились ветви деревьев, начиналась родная земля.
И невысокий светлоглазый парень в форме таможенника первый сказал ему: “Со счастливым возвращением!”
Сергей спросил светлоглазого:
— А что, бывают контрабандисты?
Тот улыбнулся:
— Встречаются…
…Первым на трап вошел врач, за ним легко прыгнул лейтенант-пограничник, потом — представитель “Инфлота”, Сергей, Глаузинь и солдат. Узкий трап пошатывался. Леер, натянутый с внешней стороны, не внушал доверия. Внизу, отваливая от борта, качался катер — каким он казался крохотным!
Сергей старался подниматься уверенно, даже небрежно, не глядя вниз. Это было трудно, и к тому же здорово болело колено — неудачно прыгнул на трап.
Он ступил на палубу и оглянулся. Глаузинь чуть улыбнулся ему.
Перешагивая через высокие комингсы[2] они прошли по узкому коридорчику к салону. Сергей думал встретить этакого морского волка, а в дверях салона показался молодой человек лет двадцати пяти, светловолосый, с румянцем на полных щеках.
— Здравствуйте, — сказал он по-русски. — Прошу!..
Распахнутый воротник бежевой рубашки придавал капитану вид благодушный, домашний, и Сергей почувствовал раздражение: по его мнению, перед государственной границей следовало одеться построже.
Они вошли в салон, сели за стол.
Отделанный пластиком, салон был убран просто и по-морскому изысканно: низкий диван под квадратными иллюминаторами, овальный стол, легкие кресла-раковины. На стене — картина: яркие цилиндры, эллипсы, зигзаги, а рядом старинный барометр в строгом черном футляре.
Сергей стал проверять документы — внимательно изучал широкие тонкие листы — коносаменты, как на флоте называют багажные квитанции.
Они были в полном порядке.
Лейтенант-пограничник просматривал пачку паспортов. Представитель “Инфлота” беседовал с капитаном: нужен ли судну ремонт, сколько требуется воды, какие продукты. Глаузинь тоже задал несколько вопросов.
В углу салона на миниатюрном письменном столике стояла игрушка: матрос в широченных клешах и берете с помпоном, сидя в гамаке, растягивал аккордеон. Под гамаком серебрилась крошечная бутылочка рома. И над всем этим — государственный флаг ФРГ.
Корабль все еще слегка раскачивался. И игрушечный матрос в гамаке не переставал качаться.
По морским традициям корабль — частица того государства, под чьим флагом он ходит. Сергей был сейчас в Федеративной Республике Германии. Он не без интереса присматривался к розовощекому капитану, от которого во многом зависит поведение команды на берегу. А Глаузинь как-то рассказывал, что в прошлый раз, когда “Редер” приходил в Ригу, двоим из его команды пришлось остаться на берегу: один был осужден советским судом за изнасилование, другой — кажется, боцман — лежал в больнице после пьяной драки со своими подчиненными.
В салоне шла вежливая неторопливая беседа, говорили на немецком. Все формальности были соблюдены, а таможенный досмотр на иностранных судах, приходящих к нам, не производится.
Сергей посмотрел в иллюминатор: корабль подходил к Экспортному району.
Капитан выдвинул вделанный в стену ящичек, достал бутылку, разлил коньяк по рюмкам:
— Прошу вас, господа…
Представитель “Инфлота” поблагодарил, выпил и стал раскуривать трубку. Лейтенант-пограничник сидел с невозмутимым лицом, словно ничего не слышал. Сергей сказал: “Благодарю”, — и принялся изучать свою записную книжку, а подняв голову, удивился: Глаузинь поднес рюмку к губам.
— Извините, господа, — встал капитан, — я должен отдать кое-какие распоряжения…
Когда он вышел, Глаузинь блеснул очками в сторону Сергея:
— Пригубите. Ничего особенного. А они из-за какой-то рюмки о “железном занавесе” кричат…
Сергей отпил, сердито подумал: “Прямо великосветский раут… Дипломатия!”
Вспомнилось, как в Москве ему сказали: “Товарищ Ястребов, нам рекомендовал вас райком партии. Согласны ли вы стать одновременно и дипломатом и часовым, или, говоря проще, таможенником?”
Он умел увлекательно рассказывать, этот человек, с которым они беседовали. Нет, советский таможенник не скучный чиновник, подозревающий в каждом путешественнике контрабандиста; настоящий таможенник — это тонкий психолог, умный и находчивый страж экономических рубежей страны. Он должен уметь точно и быстро разгадывать махинации “бизнесменов” разного толка: валютчиков, спекулянтов, фарцовщиков — этих современных рыцарей наживы.
Но пока что “дипломатия” ограничивалась вежливыми улыбками, а часовым экономических границ государства инспектор Ястребов только считался — он не раскрыл еще ни одного контрабандного дела…
В салон вошел сухощавый, невысокий моряк, поздоровался и представился: “Старший штурман”.
“Капитан прислал, чтоб не скучали”, — понял Сергей.
Старший штурман разговорился с представителем “Инфлота”. Немецкий язык Сергей знал хуже английского, но понял, что моряк спрашивает, где в Риге филателистический магазин и как связаться с местными коллекционерами.
— Хочу марками обменяться. Не угодно ли взглянуть? Флора и фауна: видите, секвойя… Американский выпуск. А вот крокодил. Думаете, какое-нибудь африканское государство? Вовсе нет — марку выпустило княжество Монако! Не забавно ли? Маленькое княжество выпускает столько марок, что доход от их продажи составляет значительную часть бюджета государства.
У старшего штурмана было несколько марок на обмен. Ему очень хотелось приобрести советскую серию “Покорители космоса”. Можно ли обмениваться марками в Риге? Где? Разумеется, не нарушая правил. Честный обмен — и никакого бизнеса.
“Чудак! — решил Сергей. — Марки — и бизнес… Всюду у них бизнес!”
— А вот, взгляните, прошу! — у старшего штурмана даже лоб покраснел от увлечения. — Очень редкая марка! Выпущена в 1903 году на острове Киттс-Невис, около Америки. Видите, Колумб рассматривает американский берег в подзорную трубу! Но трубу-то изобрели гораздо позднее… — Старший штурман рассмеялся, счастливый. — Курьез!
Вернулся капитан.
Глаузинь многозначительно взглянул на Сергея: “Пора!”
Корабль подходил к причалу.
Сергей встал. Ему опять вспомнилась Брестская крепость, разговор в Москве… Чувствуя на себе взгляды капитана, лейтенанта-пограничника, штурмана, Глаузиня — теплые, настороженные, торопящие взгляды. — он произнес торжественно и значительно:
— Государственная граница СССР открыта — добро пожаловать!
Он служил за границей и в тот вечер, когда поезд “Берлин — Москва” остановился в полукилометре от станции Брест, был счастлив, как может быть счастлив солдат, вернувшийся на Родину.
Сергей долго смотрел, как теплеет небо над Брестской крепостью.
Он бывал там и навсегда сохранил в памяти грохочущую тишину пустых казарм, каменные слезы оплавленного кирпича, застывшие судороги стальных балок.
Отсюда, где над тихим Бугом склонились ветви деревьев, начиналась родная земля.
И невысокий светлоглазый парень в форме таможенника первый сказал ему: “Со счастливым возвращением!”
Сергей спросил светлоглазого:
— А что, бывают контрабандисты?
Тот улыбнулся:
— Встречаются…
…Первым на трап вошел врач, за ним легко прыгнул лейтенант-пограничник, потом — представитель “Инфлота”, Сергей, Глаузинь и солдат. Узкий трап пошатывался. Леер, натянутый с внешней стороны, не внушал доверия. Внизу, отваливая от борта, качался катер — каким он казался крохотным!
Сергей старался подниматься уверенно, даже небрежно, не глядя вниз. Это было трудно, и к тому же здорово болело колено — неудачно прыгнул на трап.
Он ступил на палубу и оглянулся. Глаузинь чуть улыбнулся ему.
Перешагивая через высокие комингсы[2] они прошли по узкому коридорчику к салону. Сергей думал встретить этакого морского волка, а в дверях салона показался молодой человек лет двадцати пяти, светловолосый, с румянцем на полных щеках.
— Здравствуйте, — сказал он по-русски. — Прошу!..
Распахнутый воротник бежевой рубашки придавал капитану вид благодушный, домашний, и Сергей почувствовал раздражение: по его мнению, перед государственной границей следовало одеться построже.
Они вошли в салон, сели за стол.
Отделанный пластиком, салон был убран просто и по-морскому изысканно: низкий диван под квадратными иллюминаторами, овальный стол, легкие кресла-раковины. На стене — картина: яркие цилиндры, эллипсы, зигзаги, а рядом старинный барометр в строгом черном футляре.
Сергей стал проверять документы — внимательно изучал широкие тонкие листы — коносаменты, как на флоте называют багажные квитанции.
Они были в полном порядке.
Лейтенант-пограничник просматривал пачку паспортов. Представитель “Инфлота” беседовал с капитаном: нужен ли судну ремонт, сколько требуется воды, какие продукты. Глаузинь тоже задал несколько вопросов.
В углу салона на миниатюрном письменном столике стояла игрушка: матрос в широченных клешах и берете с помпоном, сидя в гамаке, растягивал аккордеон. Под гамаком серебрилась крошечная бутылочка рома. И над всем этим — государственный флаг ФРГ.
Корабль все еще слегка раскачивался. И игрушечный матрос в гамаке не переставал качаться.
По морским традициям корабль — частица того государства, под чьим флагом он ходит. Сергей был сейчас в Федеративной Республике Германии. Он не без интереса присматривался к розовощекому капитану, от которого во многом зависит поведение команды на берегу. А Глаузинь как-то рассказывал, что в прошлый раз, когда “Редер” приходил в Ригу, двоим из его команды пришлось остаться на берегу: один был осужден советским судом за изнасилование, другой — кажется, боцман — лежал в больнице после пьяной драки со своими подчиненными.
В салоне шла вежливая неторопливая беседа, говорили на немецком. Все формальности были соблюдены, а таможенный досмотр на иностранных судах, приходящих к нам, не производится.
Сергей посмотрел в иллюминатор: корабль подходил к Экспортному району.
Капитан выдвинул вделанный в стену ящичек, достал бутылку, разлил коньяк по рюмкам:
— Прошу вас, господа…
Представитель “Инфлота” поблагодарил, выпил и стал раскуривать трубку. Лейтенант-пограничник сидел с невозмутимым лицом, словно ничего не слышал. Сергей сказал: “Благодарю”, — и принялся изучать свою записную книжку, а подняв голову, удивился: Глаузинь поднес рюмку к губам.
— Извините, господа, — встал капитан, — я должен отдать кое-какие распоряжения…
Когда он вышел, Глаузинь блеснул очками в сторону Сергея:
— Пригубите. Ничего особенного. А они из-за какой-то рюмки о “железном занавесе” кричат…
Сергей отпил, сердито подумал: “Прямо великосветский раут… Дипломатия!”
Вспомнилось, как в Москве ему сказали: “Товарищ Ястребов, нам рекомендовал вас райком партии. Согласны ли вы стать одновременно и дипломатом и часовым, или, говоря проще, таможенником?”
Он умел увлекательно рассказывать, этот человек, с которым они беседовали. Нет, советский таможенник не скучный чиновник, подозревающий в каждом путешественнике контрабандиста; настоящий таможенник — это тонкий психолог, умный и находчивый страж экономических рубежей страны. Он должен уметь точно и быстро разгадывать махинации “бизнесменов” разного толка: валютчиков, спекулянтов, фарцовщиков — этих современных рыцарей наживы.
Но пока что “дипломатия” ограничивалась вежливыми улыбками, а часовым экономических границ государства инспектор Ястребов только считался — он не раскрыл еще ни одного контрабандного дела…
В салон вошел сухощавый, невысокий моряк, поздоровался и представился: “Старший штурман”.
“Капитан прислал, чтоб не скучали”, — понял Сергей.
Старший штурман разговорился с представителем “Инфлота”. Немецкий язык Сергей знал хуже английского, но понял, что моряк спрашивает, где в Риге филателистический магазин и как связаться с местными коллекционерами.
— Хочу марками обменяться. Не угодно ли взглянуть? Флора и фауна: видите, секвойя… Американский выпуск. А вот крокодил. Думаете, какое-нибудь африканское государство? Вовсе нет — марку выпустило княжество Монако! Не забавно ли? Маленькое княжество выпускает столько марок, что доход от их продажи составляет значительную часть бюджета государства.
У старшего штурмана было несколько марок на обмен. Ему очень хотелось приобрести советскую серию “Покорители космоса”. Можно ли обмениваться марками в Риге? Где? Разумеется, не нарушая правил. Честный обмен — и никакого бизнеса.
“Чудак! — решил Сергей. — Марки — и бизнес… Всюду у них бизнес!”
— А вот, взгляните, прошу! — у старшего штурмана даже лоб покраснел от увлечения. — Очень редкая марка! Выпущена в 1903 году на острове Киттс-Невис, около Америки. Видите, Колумб рассматривает американский берег в подзорную трубу! Но трубу-то изобрели гораздо позднее… — Старший штурман рассмеялся, счастливый. — Курьез!
Вернулся капитан.
Глаузинь многозначительно взглянул на Сергея: “Пора!”
Корабль подходил к причалу.
Сергей встал. Ему опять вспомнилась Брестская крепость, разговор в Москве… Чувствуя на себе взгляды капитана, лейтенанта-пограничника, штурмана, Глаузиня — теплые, настороженные, торопящие взгляды. — он произнес торжественно и значительно:
— Государственная граница СССР открыта — добро пожаловать!
 Когда Сергей первый раз решил здесь позавтракать, официантка взглянула на него как на случайного посетителя, на новичка и, подойдя к его столику, на секунду замешкалась видно, решала, как заговорить — по-русски или по-латышски.
— У вас яичница есть? — спросил Сергей. И добавил по-латышски: — Пожалуйста.
Она улыбнулась, принесла ему яичницу и кофе.
Через несколько дней Сергей уже узнавал посетителей кафе. Сюда приходили одни и те же люди: трое крепких парней в свитерах, всегда веселые, свежие, будто только что умывшиеся ключевой водой, девушки продавщицы в черных шелковых халатах, две семьи в полном составе — с детьми, старик, похожий на рыбака.
Сергей тоже стал здесь своим, и это ему нравилось. В общем-то человек стеснительный, он чувствовал себя в этом кафе свободно.
— А чаю у вас нет? — спросил он как-то у официантки.
— Кофе лучше! — она чуть заметно пожала плечами. — Но можно приготовить и чай. Вы всегда будете пить чай? Тогда мы будем готовить для вас…
Сергей подумал и согласился:
— Кофе лучше.
Он все таки скучал без чая, особенно по вечерам, и купил небольшой никелированный чайник, а заодно и настольную лампу — надо же устраивать быт… В его комнате стояла раскладушка, два стула и ветхий письменный стол, который прежний жилец решил не брать с собой на новое место. По мнению Сергея, комната пока смахивала на караульное помещение, но с настольной лампой она все-таки приобретала “гражданский” вид.
Сергей вышел в кухню, поставил новый чайник на плиту, чиркнул спичкой.
— Здрасьте! — услышал он за спиной голос Гешки.
За несколько дней, которые Сергеи прожил в квартире, это тоже стало обычаем: как только он выходил в коридор или в кухню, появлялся Гешка, его двенадцатилетний сосед.
— Здравствуй, Гешка, — он улыбнулся.
Глаза мальчишки смотрели на него с таким доверчивым и откровенным ожиданием, словно сейчас, сию минуту, Сергей должен был проглотить шпагу или достать из-за пазухи живого контрабандиста.
— Вы мне про контрабандистов расскажете? — спросил Гешка.
Сергей вспомнил плутоватые глаза матроса с “Моники Смит”, его — даже на вид — потные руки, вытаскивающие из карманов зажигалки и нейлоновые носки. Первый “акт о контрабандном деле”, подписанный инспектором Ястребовым… Мелкое дело! Он задержал матроса, когда тот возвращался на свой корабль, — пиджак у него оттопыривался… Матрос купил фотоаппарат. Сначала твердил, что получил советскую валюту от своего капитана, а потом признался продавал в городе зажигалки и носки… Капитан заплатил штраф.
— Расскажите! — Гешка уселся на табуретке, поставив ноги на перекладину и обхватив руками худые коленки.
— Это неинтересно, Гешка. Честное слово. Лучше я расскажу тебе о “Волоколамске”. Вчера они пришли из плаванья, ты ведь знаешь, что они спасли английский танкер… — Сергей запнулся, вспомнив: Гешкин отец Гунар Мауринь пять лет назад погиб в море.
— Ну и как? — заволновался Гешка.
Но тут в кухню вошла его мать. Сергей кивнул:
— Добрый вечер, Антонина Казимировна.
— Так как же? — переспросил Гешка.
— Молодцы, всю команду спасли.
— О чем это вы? — поинтересовалась мать.
— Так, мам, о своих делах.
— А про марку ты рассказал? — Она повернулась к Сергею. — Хоть бы вы ему объяснили, Сергей Александрович…
— Кипит, — заторопился Гешка.
— Спасибо… Интересную марку купил?
— Очень. — Гешка вздохнул. — За три рубля. Но я совсем не хочу есть утром!
— Я давала ему деньги на завтраки, — продолжала Антонина Казимировна.
— Но, мама, ведь это марка…
— Колумб! — она не выдержала, улыбнулась. — Колумб, уже слышала… С подзорной трубой. Но мне от этого не легче. И я не понимаю ее ценности. Особенно, если сын не завтракает.
“Колумб! — изумленно подумал Сергей. — Такая же? Или та самая?”
А вслух сказал:
— О, это интересная марка! В каком году она выпущена? В девятьсот третьем?
— Ну да! — Гешка торжествующе посмотрел на мать: вот, мол, человек понимает — видишь, как удивился!
— А почему же он с подзорной трубой? — улыбнулся Сергей. — Ведь ее еще не изобрели, когда Колумб открыл Америку.
Гешка смотрел на Сергея широко раскрытыми глазами, потом бросился в комнату и вернулся с альбомом.
— Вот моя коллекция, посмотрите!
Сергей снял чайник с плиты.
— С удовольствием. Пойдем ко мне.
И опять подумал:
“Такая же или та же?”
Гешка положил альбом на письменный стол.
— Вот, — сказал он, — тоже интересная марка. Видите, какие Франция раньше выпускала? Это для Мадагаскара…
Сергей рассматривал бледно-зеленую марку, выпущенную метрополией для Мадагаскара: четверо “туземцев” несут развалившегося на носилках белого господина.
— Не стеснялись, — усмехнулся он. — Совсем еще недавно не стеснялись.
— А вот! — Гешка обрадованно заерзал на стуле. — Вот эта синяя марка республики Южно-Молуккских островов. Марка вышла, а самой республики никогда не было.
— Как же так?
— А так! Американцы хотели создать на части островов Индонезии эту, как ее… марионеточную республику. Даже марки выпустили, а создать… — Гешка развел руками, прищелкнул языком.
Оба рассмеялись.
— Слушай, профессор, откуда ты все это знаешь?
— Рита Августовна рассказывала. Она у нас во Дворце пионеров ведет кружок. А работает в филателистическом магазине на улице Вальню.
— В котором ты купил Колумба?
— В магазине! Там разве такую купишь? — на секунду Гешка насупился. — А вы знаете… — сказал он, оживляясь. — Недавно в Варшаве была выставка марок — международная. Там показываликоллекцию английской королевы!
— Она тоже коллекционер?
— Ага! Рита Августовна рассказывала, эту коллекцию почти вся династия собирала… Из Лондона в Варшаву приезжал специальный лорд, хранитель коллекции. Вот где, наверное, марочки-то!
— У тебя тоже хорошие…
Гешка вздохнул, промолчал.
— Многое папа собрал, — сказал он. — А вот эти я обменял Эти Рита Августовна подарила… А вот эти купил.
— Понятно
Сергей рассматривал марку, на которой был изображен Колумб с подзорной трубой, и думал: “Если одна такая стоит три рубля, значит и марки могут быть бизнесом…”
— Все-таки “Колумб” — очень редкая марка! — сказал Гешка. — Теперь бы еще “Спартакиаду” достать. Законная серия…
— В каком смысле законная? — улыбнулся Сергей.
— Ну… хорошая.
— Да, наверно, такого “Колумба” ни у кого больше нет, правда?
Гешка задумался на минуту.
— У Рыбника, может быть?
— А кто он такой?
— Рыбник? Самый известный в Риге филателист! Он уже старый.
— А у того, кто тебе эту марку продал, пожалуй, есть еще, — сказал Сергей. — Но ты ведь его не знаешь… Иностранец наверное?
— Почему? — удивился Гешка. — Он в Риге живет, я его часто вижу…
— Так, — сказал Сергей. — А серия “Спартакиада” завтра будет в магазине! Давай-ка сходим туда вместе.
Узкая улочка Вальню — граница старой и новой Риги. Она начинается у нового здания вокзала, а в другом ее конце возвышается круглая, массивная, тщательно сложенная из кирпича старинная Пороховая башня. Большой универмаг тут рядом с крохотными галантерейными магазинами и кафе, неповоротливый троллейбус осторожно разворачивается между домами, построенными несколько веков назад…
У филателистического магазина толпился народ. Людно было и у прилавка.
— Вот Рита Августовна, — кивнул Гешка на продавщицу и тут же, увидев что-то интересное, забыл о Сергее. А тот, подталкиваемый со всех сторон покупателями, очутился у прилавка.
Продавщицу осаждали, требуя космическую серию…
Сергей терпеливо ждал.
Она вдруг спросила.
— Вы что-нибудь выбрали?
— Нет, я… собственно, не выбираю.
— Тогда зачем же…
— Дядя Сережа со мной, — невозмутимо произнес неожиданно появившийся Гешка. — Здрасьте.
— Здравствуй, Геша. У тебя появился дядя? — Девушка взглянула на Сергея. У нее были карие, с зеленоватым отливом глаза, нежное узкое лицо.
— Мы хотели купить марки, — сказал Сергей. — “Спартакиаду”.
Гешка густо покраснел, а получив конверт с марками, выпалил: “Спасибо!” — и тут же юркнул между покупателями к друзьям-мальчишкам — показать!
Рита улыбнулась. Сергей обрадовался этому не меньше, чем Гешка маркам.
— Мне бы хотелось с вами поговорить, — торопливо заговорил Сергей, — я отниму у вас пять минут. Меня интересует ваш филателистический кружок и… Простите, когда у вас в магазине обеденный перерыв?
— А я знаю, где Рита Августовна обедает! — заявил Гешка, снова вынырнув у локтя Сергея. — В кафе “Метрополь”.
— Видите, какой у вас помощник! — она усмехнулась.
— Вот о помощнике мне и хотелось поговорить.
В это время к прилавку протиснулся элегантно одетый молодой человек, снял шляпу, поклонился Рите, блеснув напомаженными волосами:
— Для меня есть что-нибудь?
Рита положила перед ним на прилавок конверты с марками. Пересчитав сдачу и поблагодарив, покупатель исчез.
— Так я вас буду ждать вместе с Гешкой в кафе.
— Мне в школу, — заявил Гешка, и Сергей чуть не стукнул его по выпуклому затылку. Рита ответила:
— Хорошо!
Когда они вышли из магазина, Гешка сказал:
— “Колумба” я у него купил.
— У кого? — не понял Сергей.
— У того, в шляпе. Сейчас спрошу у Риты Августовны, как его зовут. — Гешка повернулся было к дверям магазина, но Сергей ухватил его за рукав куртки:
— Не надо…
Когда Сергей первый раз решил здесь позавтракать, официантка взглянула на него как на случайного посетителя, на новичка и, подойдя к его столику, на секунду замешкалась видно, решала, как заговорить — по-русски или по-латышски.
— У вас яичница есть? — спросил Сергей. И добавил по-латышски: — Пожалуйста.
Она улыбнулась, принесла ему яичницу и кофе.
Через несколько дней Сергей уже узнавал посетителей кафе. Сюда приходили одни и те же люди: трое крепких парней в свитерах, всегда веселые, свежие, будто только что умывшиеся ключевой водой, девушки продавщицы в черных шелковых халатах, две семьи в полном составе — с детьми, старик, похожий на рыбака.
Сергей тоже стал здесь своим, и это ему нравилось. В общем-то человек стеснительный, он чувствовал себя в этом кафе свободно.
— А чаю у вас нет? — спросил он как-то у официантки.
— Кофе лучше! — она чуть заметно пожала плечами. — Но можно приготовить и чай. Вы всегда будете пить чай? Тогда мы будем готовить для вас…
Сергей подумал и согласился:
— Кофе лучше.
Он все таки скучал без чая, особенно по вечерам, и купил небольшой никелированный чайник, а заодно и настольную лампу — надо же устраивать быт… В его комнате стояла раскладушка, два стула и ветхий письменный стол, который прежний жилец решил не брать с собой на новое место. По мнению Сергея, комната пока смахивала на караульное помещение, но с настольной лампой она все-таки приобретала “гражданский” вид.
Сергей вышел в кухню, поставил новый чайник на плиту, чиркнул спичкой.
— Здрасьте! — услышал он за спиной голос Гешки.
За несколько дней, которые Сергеи прожил в квартире, это тоже стало обычаем: как только он выходил в коридор или в кухню, появлялся Гешка, его двенадцатилетний сосед.
— Здравствуй, Гешка, — он улыбнулся.
Глаза мальчишки смотрели на него с таким доверчивым и откровенным ожиданием, словно сейчас, сию минуту, Сергей должен был проглотить шпагу или достать из-за пазухи живого контрабандиста.
— Вы мне про контрабандистов расскажете? — спросил Гешка.
Сергей вспомнил плутоватые глаза матроса с “Моники Смит”, его — даже на вид — потные руки, вытаскивающие из карманов зажигалки и нейлоновые носки. Первый “акт о контрабандном деле”, подписанный инспектором Ястребовым… Мелкое дело! Он задержал матроса, когда тот возвращался на свой корабль, — пиджак у него оттопыривался… Матрос купил фотоаппарат. Сначала твердил, что получил советскую валюту от своего капитана, а потом признался продавал в городе зажигалки и носки… Капитан заплатил штраф.
— Расскажите! — Гешка уселся на табуретке, поставив ноги на перекладину и обхватив руками худые коленки.
— Это неинтересно, Гешка. Честное слово. Лучше я расскажу тебе о “Волоколамске”. Вчера они пришли из плаванья, ты ведь знаешь, что они спасли английский танкер… — Сергей запнулся, вспомнив: Гешкин отец Гунар Мауринь пять лет назад погиб в море.
— Ну и как? — заволновался Гешка.
Но тут в кухню вошла его мать. Сергей кивнул:
— Добрый вечер, Антонина Казимировна.
— Так как же? — переспросил Гешка.
— Молодцы, всю команду спасли.
— О чем это вы? — поинтересовалась мать.
— Так, мам, о своих делах.
— А про марку ты рассказал? — Она повернулась к Сергею. — Хоть бы вы ему объяснили, Сергей Александрович…
— Кипит, — заторопился Гешка.
— Спасибо… Интересную марку купил?
— Очень. — Гешка вздохнул. — За три рубля. Но я совсем не хочу есть утром!
— Я давала ему деньги на завтраки, — продолжала Антонина Казимировна.
— Но, мама, ведь это марка…
— Колумб! — она не выдержала, улыбнулась. — Колумб, уже слышала… С подзорной трубой. Но мне от этого не легче. И я не понимаю ее ценности. Особенно, если сын не завтракает.
“Колумб! — изумленно подумал Сергей. — Такая же? Или та самая?”
А вслух сказал:
— О, это интересная марка! В каком году она выпущена? В девятьсот третьем?
— Ну да! — Гешка торжествующе посмотрел на мать: вот, мол, человек понимает — видишь, как удивился!
— А почему же он с подзорной трубой? — улыбнулся Сергей. — Ведь ее еще не изобрели, когда Колумб открыл Америку.
Гешка смотрел на Сергея широко раскрытыми глазами, потом бросился в комнату и вернулся с альбомом.
— Вот моя коллекция, посмотрите!
Сергей снял чайник с плиты.
— С удовольствием. Пойдем ко мне.
И опять подумал:
“Такая же или та же?”
Гешка положил альбом на письменный стол.
— Вот, — сказал он, — тоже интересная марка. Видите, какие Франция раньше выпускала? Это для Мадагаскара…
Сергей рассматривал бледно-зеленую марку, выпущенную метрополией для Мадагаскара: четверо “туземцев” несут развалившегося на носилках белого господина.
— Не стеснялись, — усмехнулся он. — Совсем еще недавно не стеснялись.
— А вот! — Гешка обрадованно заерзал на стуле. — Вот эта синяя марка республики Южно-Молуккских островов. Марка вышла, а самой республики никогда не было.
— Как же так?
— А так! Американцы хотели создать на части островов Индонезии эту, как ее… марионеточную республику. Даже марки выпустили, а создать… — Гешка развел руками, прищелкнул языком.
Оба рассмеялись.
— Слушай, профессор, откуда ты все это знаешь?
— Рита Августовна рассказывала. Она у нас во Дворце пионеров ведет кружок. А работает в филателистическом магазине на улице Вальню.
— В котором ты купил Колумба?
— В магазине! Там разве такую купишь? — на секунду Гешка насупился. — А вы знаете… — сказал он, оживляясь. — Недавно в Варшаве была выставка марок — международная. Там показываликоллекцию английской королевы!
— Она тоже коллекционер?
— Ага! Рита Августовна рассказывала, эту коллекцию почти вся династия собирала… Из Лондона в Варшаву приезжал специальный лорд, хранитель коллекции. Вот где, наверное, марочки-то!
— У тебя тоже хорошие…
Гешка вздохнул, промолчал.
— Многое папа собрал, — сказал он. — А вот эти я обменял Эти Рита Августовна подарила… А вот эти купил.
— Понятно
Сергей рассматривал марку, на которой был изображен Колумб с подзорной трубой, и думал: “Если одна такая стоит три рубля, значит и марки могут быть бизнесом…”
— Все-таки “Колумб” — очень редкая марка! — сказал Гешка. — Теперь бы еще “Спартакиаду” достать. Законная серия…
— В каком смысле законная? — улыбнулся Сергей.
— Ну… хорошая.
— Да, наверно, такого “Колумба” ни у кого больше нет, правда?
Гешка задумался на минуту.
— У Рыбника, может быть?
— А кто он такой?
— Рыбник? Самый известный в Риге филателист! Он уже старый.
— А у того, кто тебе эту марку продал, пожалуй, есть еще, — сказал Сергей. — Но ты ведь его не знаешь… Иностранец наверное?
— Почему? — удивился Гешка. — Он в Риге живет, я его часто вижу…
— Так, — сказал Сергей. — А серия “Спартакиада” завтра будет в магазине! Давай-ка сходим туда вместе.
Узкая улочка Вальню — граница старой и новой Риги. Она начинается у нового здания вокзала, а в другом ее конце возвышается круглая, массивная, тщательно сложенная из кирпича старинная Пороховая башня. Большой универмаг тут рядом с крохотными галантерейными магазинами и кафе, неповоротливый троллейбус осторожно разворачивается между домами, построенными несколько веков назад…
У филателистического магазина толпился народ. Людно было и у прилавка.
— Вот Рита Августовна, — кивнул Гешка на продавщицу и тут же, увидев что-то интересное, забыл о Сергее. А тот, подталкиваемый со всех сторон покупателями, очутился у прилавка.
Продавщицу осаждали, требуя космическую серию…
Сергей терпеливо ждал.
Она вдруг спросила.
— Вы что-нибудь выбрали?
— Нет, я… собственно, не выбираю.
— Тогда зачем же…
— Дядя Сережа со мной, — невозмутимо произнес неожиданно появившийся Гешка. — Здрасьте.
— Здравствуй, Геша. У тебя появился дядя? — Девушка взглянула на Сергея. У нее были карие, с зеленоватым отливом глаза, нежное узкое лицо.
— Мы хотели купить марки, — сказал Сергей. — “Спартакиаду”.
Гешка густо покраснел, а получив конверт с марками, выпалил: “Спасибо!” — и тут же юркнул между покупателями к друзьям-мальчишкам — показать!
Рита улыбнулась. Сергей обрадовался этому не меньше, чем Гешка маркам.
— Мне бы хотелось с вами поговорить, — торопливо заговорил Сергей, — я отниму у вас пять минут. Меня интересует ваш филателистический кружок и… Простите, когда у вас в магазине обеденный перерыв?
— А я знаю, где Рита Августовна обедает! — заявил Гешка, снова вынырнув у локтя Сергея. — В кафе “Метрополь”.
— Видите, какой у вас помощник! — она усмехнулась.
— Вот о помощнике мне и хотелось поговорить.
В это время к прилавку протиснулся элегантно одетый молодой человек, снял шляпу, поклонился Рите, блеснув напомаженными волосами:
— Для меня есть что-нибудь?
Рита положила перед ним на прилавок конверты с марками. Пересчитав сдачу и поблагодарив, покупатель исчез.
— Так я вас буду ждать вместе с Гешкой в кафе.
— Мне в школу, — заявил Гешка, и Сергей чуть не стукнул его по выпуклому затылку. Рита ответила:
— Хорошо!
Когда они вышли из магазина, Гешка сказал:
— “Колумба” я у него купил.
— У кого? — не понял Сергей.
— У того, в шляпе. Сейчас спрошу у Риты Августовны, как его зовут. — Гешка повернулся было к дверям магазина, но Сергей ухватил его за рукав куртки:
— Не надо…
 Официантка поставила перед ними тарелки.
— Да, да… А спекулянты, они и марки не оставляют в покое…
— Такую же марку я видел на иностранном корабле.
— Вы моряк?
— Нет.
Сергей замолчал.
Он так любил разговаривать с Гешкой, глядя в его чистые мальчишеские глаза, ему так легко было с Глаузинем и так свободно в маленьком кафе на углу — именно потому, что во всех этих случаях сама собой исчезала некоторая связанность.
И сейчас, с этой темноглазой девушкой, он тоже чувствовал себя свободно, легко — не хотелось, чтобы стало иначе…
— Я инспектор Рижской таможни, — сказал Сергей.
— О, это, наверно, поинтереснее, чем истории с марками?
— Знаете, как обычно пишут: “Покончив с таможенными формальностями, мы, наконец, сошли на берег”… Красноречивое “наконец”… — Сергей усмехнулся. — А работа интересная. Кстати, хотя нет, это совсем о другом: я знаю, кто продал Гешке марку с Колумбом!..
— Кто?
— Он был сегодня у вас в магазине, когда мы разговаривали. Поклонился вам.
— Неужели Куралюн…
— Он что, страстный коллекционер?
— Как вам сказать, — Рита пожала плечами. — Для меня был постоянным покупателем…
И спохватилась — взглянула на часы.
— Пора? — спросил Сергей.
Она кивнула.
— А если вас интересуют марки, — Рита поднялась, — советую сходить на филателистическую выставку Рыбника. Это здесь, рядом.
— Рита, можно вас попросить пойти туда вместе со мной?
— Почему же, — сказала она. — Завтра после работы.
Официантка поставила перед ними тарелки.
— Да, да… А спекулянты, они и марки не оставляют в покое…
— Такую же марку я видел на иностранном корабле.
— Вы моряк?
— Нет.
Сергей замолчал.
Он так любил разговаривать с Гешкой, глядя в его чистые мальчишеские глаза, ему так легко было с Глаузинем и так свободно в маленьком кафе на углу — именно потому, что во всех этих случаях сама собой исчезала некоторая связанность.
И сейчас, с этой темноглазой девушкой, он тоже чувствовал себя свободно, легко — не хотелось, чтобы стало иначе…
— Я инспектор Рижской таможни, — сказал Сергей.
— О, это, наверно, поинтереснее, чем истории с марками?
— Знаете, как обычно пишут: “Покончив с таможенными формальностями, мы, наконец, сошли на берег”… Красноречивое “наконец”… — Сергей усмехнулся. — А работа интересная. Кстати, хотя нет, это совсем о другом: я знаю, кто продал Гешке марку с Колумбом!..
— Кто?
— Он был сегодня у вас в магазине, когда мы разговаривали. Поклонился вам.
— Неужели Куралюн…
— Он что, страстный коллекционер?
— Как вам сказать, — Рита пожала плечами. — Для меня был постоянным покупателем…
И спохватилась — взглянула на часы.
— Пора? — спросил Сергей.
Она кивнула.
— А если вас интересуют марки, — Рита поднялась, — советую сходить на филателистическую выставку Рыбника. Это здесь, рядом.
— Рита, можно вас попросить пойти туда вместе со мной?
— Почему же, — сказала она. — Завтра после работы.
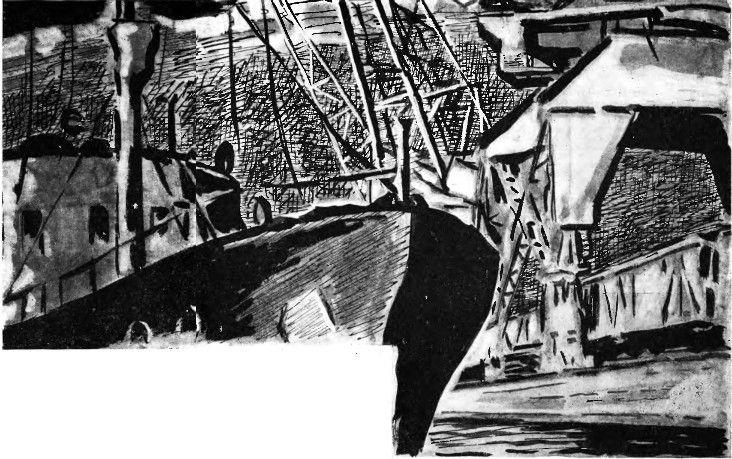 — Были приняты: греческий теплоход с грузом волокна, — говорил старший наряда, обращаясь к Глаузиню, — норвежский теплоход “Амундсен” — рыба. За рубеж ушли: пароход “Пешт” с грузом пшеницы для Германской Демократической Республики и “Даугава” — с экспонатами для нашей выставки в Рио-де-Жанейро. “Редер” скоро уходит. На подходе — судно из Исландии, польский танкер и шведский лесовоз.
— Так, — сказал Глаузинь. — Задержания есть?
— Одно, незначительное…
— Ну хорошо.
— Счастливого дежурства, товарищи!
Сдавшие смену ушли. Дверь захлопнулась.
Глаузинь достал сигарету, вставил ее в мундштук и хотел что-то сказать, но зазвонил телефон.
Сергей поднял трубку, выслушал, сдвинув брови.
— А сколько марок? Вот как! Спасибо
Положив трубку, повернулся к Глаузиню:
— Это из вытрезвителя. Там ночевал матрос Курт Гауптман с “Редера”. В носке у него оказалось двадцать пять рублей и несколько марок. Не валюта, а почтовые марки.
Глаузинь нахмурился.
— Непонятно. Но советская валюта — видимо, результат контрабанды.
Сергей рассеянно кивнул, думая о марках. Гауптман и Куралюн… Связаны они или нет? И как это выяснить?
— Где он сейчас? — спросил Глаузинь.
— Отпустили.
— Вы пойдете на корабль, Сергей Александрович.
Лицом к лицу с контрабандистом на борту “Редера”! Тут нужны находчивость и твердость. Давая понять Глаузиню, что ему все ясно, Сергей сказал:
— Пойду и потребую штраф в счет незадержанной контрабанды.
— Нет, — Глаузинь покачал головой. — Сначала вы посмотрите таможенную декларацию, заполненную этим матросом, потом спросите у капитана, не давал ли он матросу советских денег.
— Понятно.
— Будьте не просто вежливы, сверхвежливы!
— Они контрабандой занимаются, — сказал Сергей, — а с ними — сверхвежливо…
— Служба! — ответил Глаузинь. И добавил: — Мы с инспектором Красновым подойдем, попозже — оформить отход…
Узнав о причине появления таможенника, капитан приказал вызвать Курта Гауптмана и сидел молча, постукивая по столу ногтями. Сергей только теперь заметил, что они покрыты лаком.
— Были приняты: греческий теплоход с грузом волокна, — говорил старший наряда, обращаясь к Глаузиню, — норвежский теплоход “Амундсен” — рыба. За рубеж ушли: пароход “Пешт” с грузом пшеницы для Германской Демократической Республики и “Даугава” — с экспонатами для нашей выставки в Рио-де-Жанейро. “Редер” скоро уходит. На подходе — судно из Исландии, польский танкер и шведский лесовоз.
— Так, — сказал Глаузинь. — Задержания есть?
— Одно, незначительное…
— Ну хорошо.
— Счастливого дежурства, товарищи!
Сдавшие смену ушли. Дверь захлопнулась.
Глаузинь достал сигарету, вставил ее в мундштук и хотел что-то сказать, но зазвонил телефон.
Сергей поднял трубку, выслушал, сдвинув брови.
— А сколько марок? Вот как! Спасибо
Положив трубку, повернулся к Глаузиню:
— Это из вытрезвителя. Там ночевал матрос Курт Гауптман с “Редера”. В носке у него оказалось двадцать пять рублей и несколько марок. Не валюта, а почтовые марки.
Глаузинь нахмурился.
— Непонятно. Но советская валюта — видимо, результат контрабанды.
Сергей рассеянно кивнул, думая о марках. Гауптман и Куралюн… Связаны они или нет? И как это выяснить?
— Где он сейчас? — спросил Глаузинь.
— Отпустили.
— Вы пойдете на корабль, Сергей Александрович.
Лицом к лицу с контрабандистом на борту “Редера”! Тут нужны находчивость и твердость. Давая понять Глаузиню, что ему все ясно, Сергей сказал:
— Пойду и потребую штраф в счет незадержанной контрабанды.
— Нет, — Глаузинь покачал головой. — Сначала вы посмотрите таможенную декларацию, заполненную этим матросом, потом спросите у капитана, не давал ли он матросу советских денег.
— Понятно.
— Будьте не просто вежливы, сверхвежливы!
— Они контрабандой занимаются, — сказал Сергей, — а с ними — сверхвежливо…
— Служба! — ответил Глаузинь. И добавил: — Мы с инспектором Красновым подойдем, попозже — оформить отход…
Узнав о причине появления таможенника, капитан приказал вызвать Курта Гауптмана и сидел молча, постукивая по столу ногтями. Сергей только теперь заметил, что они покрыты лаком.
 Вошел Гауптман, встал шагах в трех от стола. Безвольно свисающие красные, в ссадинах руки, синяк под глазом, грязная роба… А на лице покорность и затаенное нетерпение: скорей бы отпустили.
— Вот видишь, Курт, — начал капитан. — Я предупреждал тебя, что тут из-за любого пустяка могут быть неприятности… — И улыбнулся Сергею.
— Судя по вашей декларации, — Сергей обращался к матросу, — советской валюты у вас не было?
— Нет.
— Вы не давали ему советских денег, господин капитан?
— Нет, не давал.
Розовощекий, сочувствующе кивнув Гауптману, добавил:
— Но я предупреждал его, что здесь не Ливерпуль. Помнишь, Курт, как славно погулял ты в Ливерпуле? И ведь никаких неприятностей не было! А здесь — сам видишь…
— Простите господин капитан, — сказал Сергей. — Мне необходимо задать матросу несколько вопросов… А потом я с удовольствием послушаю, как работают таможенники в Ливерпуле.
Розовощекий опять улыбнулся — на этот раз явно натянуто, опять забарабанил по столу.
Сергей ясно понимал, кто сейчас настоящий его противник: не юнец матрос, единственной радостью которого была, наверное, бутылка водки, а этот, с маникюром.
Сергей взглянул на Гауптмана.
— Что вы продали в городе?
— Жевательную резинку, блок сигарет, зажигалки, — в хриплом голосе матроса звучала та же покорность, что была написана на лице. Но, вспомнив, наверное, подзуживания капитана, матрос закончил развязнее: — Это все, господин инспектор!
“О марках я спрошу потом, — подумал Сергей. — Сверхвежливо… И послушаю, что вы скажете — ты и твой капитан”.
— Вот бумага. Напишите здесь, пожалуйста, что вы, Курт Гауптман, матрос теплохода “Редер”, продали в Риге столько-то предметов на такую-то сумму, — услышал Сергей свой спокойный голос и добавил жестче: — Таково правило.
Взяв бумагу, Гауптман вышел: он не смел сесть за стол в этом салоне.
— Кофе, коньяк? — капитан повернулся к Сергею.
— Благодарю вас. Если не возражаете, я хотел бы сначала закончить дело, — Сергей улыбнулся. “Можно подумать, что у нас с ним конкурс улыбок…” — А как вашему старшему штурману, господин капитан, понравилось на улице Вальню?
— На улице Вальню? — удивился розовощекий.
— Там филателистический магазин. Он ведь хотел обменяться марками…
— О! Можете себе представить, — капитан приподнял белесые брови. — Он потерял свой альбом. В Риге нас преследуют неприятности!
Появился Гауптман, застрял на пороге.
— Потерял свои марки? — переспросил Сергей и, принимая бумагу, посмотрел на Гауптмана, потом на капитана. — Весьма сочувствую.
Сергей просмотрел “объяснительную записку” Гауптмана.
— Не сходится, тут указано всего двадцать пить рублей — те, что у вас конфискованы. Но ведь вы еще пили, тратили деньги…
— Я продал еще… — хрипло начал матрос, но Сергей перебил:
— Почтовые марки, — он не спросил, он произнес это совершенно твердо.
Гауптман растерянно кивнул.
— На какую сумму?
— Десять рублей…
— Укажите, — сказал Сергей и взглянул на капитана.
От благодушия не осталось и следа. Выкрикнув что-то, он поднялся, позвал стюарда, снова сел, и все это не отрывая холодных бешеных глаз от красного лица Гауптмана.
В салон постучали. Вошел старший штурман.
— Ваши марки продал он, — все еще глядя на Гауптмана, проговорил капитан. — Господин инспектор каким-то образом заставил вора признаться…
“Вот ты как! Сразу про воровство вспомнил, — подумал Сергей. — Еще бы, покушение на частную собственность…”
Сергей мельком взглянул на остолбеневшего штурмана, усмехнулся про себя: “Законно!”, как сказал бы Гешка…” — и достал чистый бланк:
— Надо составить акт.
Коллекционер крутил головой, словно от зубной боли, его залысый лоб багровел.
— Где мои марки?!
Капитан буркнул что-то, старший штурман замолчал; поправив на коленях брюки, сел в кресло, тоже уставился на Гауптмана горящими глазами.
— Итак, вы продали их за десять рублей? — спросил Сергей. — Это правда? Одну только марку с Колумбом у вас купили за три рубля…
— О-о-о! — простонал штурман.
— Десять рублей за все, — тупо повторил матрос.
Сергей понял: “Не врет”, — и принялся составлять акт.
Вошел Гауптман, встал шагах в трех от стола. Безвольно свисающие красные, в ссадинах руки, синяк под глазом, грязная роба… А на лице покорность и затаенное нетерпение: скорей бы отпустили.
— Вот видишь, Курт, — начал капитан. — Я предупреждал тебя, что тут из-за любого пустяка могут быть неприятности… — И улыбнулся Сергею.
— Судя по вашей декларации, — Сергей обращался к матросу, — советской валюты у вас не было?
— Нет.
— Вы не давали ему советских денег, господин капитан?
— Нет, не давал.
Розовощекий, сочувствующе кивнув Гауптману, добавил:
— Но я предупреждал его, что здесь не Ливерпуль. Помнишь, Курт, как славно погулял ты в Ливерпуле? И ведь никаких неприятностей не было! А здесь — сам видишь…
— Простите господин капитан, — сказал Сергей. — Мне необходимо задать матросу несколько вопросов… А потом я с удовольствием послушаю, как работают таможенники в Ливерпуле.
Розовощекий опять улыбнулся — на этот раз явно натянуто, опять забарабанил по столу.
Сергей ясно понимал, кто сейчас настоящий его противник: не юнец матрос, единственной радостью которого была, наверное, бутылка водки, а этот, с маникюром.
Сергей взглянул на Гауптмана.
— Что вы продали в городе?
— Жевательную резинку, блок сигарет, зажигалки, — в хриплом голосе матроса звучала та же покорность, что была написана на лице. Но, вспомнив, наверное, подзуживания капитана, матрос закончил развязнее: — Это все, господин инспектор!
“О марках я спрошу потом, — подумал Сергей. — Сверхвежливо… И послушаю, что вы скажете — ты и твой капитан”.
— Вот бумага. Напишите здесь, пожалуйста, что вы, Курт Гауптман, матрос теплохода “Редер”, продали в Риге столько-то предметов на такую-то сумму, — услышал Сергей свой спокойный голос и добавил жестче: — Таково правило.
Взяв бумагу, Гауптман вышел: он не смел сесть за стол в этом салоне.
— Кофе, коньяк? — капитан повернулся к Сергею.
— Благодарю вас. Если не возражаете, я хотел бы сначала закончить дело, — Сергей улыбнулся. “Можно подумать, что у нас с ним конкурс улыбок…” — А как вашему старшему штурману, господин капитан, понравилось на улице Вальню?
— На улице Вальню? — удивился розовощекий.
— Там филателистический магазин. Он ведь хотел обменяться марками…
— О! Можете себе представить, — капитан приподнял белесые брови. — Он потерял свой альбом. В Риге нас преследуют неприятности!
Появился Гауптман, застрял на пороге.
— Потерял свои марки? — переспросил Сергей и, принимая бумагу, посмотрел на Гауптмана, потом на капитана. — Весьма сочувствую.
Сергей просмотрел “объяснительную записку” Гауптмана.
— Не сходится, тут указано всего двадцать пить рублей — те, что у вас конфискованы. Но ведь вы еще пили, тратили деньги…
— Я продал еще… — хрипло начал матрос, но Сергей перебил:
— Почтовые марки, — он не спросил, он произнес это совершенно твердо.
Гауптман растерянно кивнул.
— На какую сумму?
— Десять рублей…
— Укажите, — сказал Сергей и взглянул на капитана.
От благодушия не осталось и следа. Выкрикнув что-то, он поднялся, позвал стюарда, снова сел, и все это не отрывая холодных бешеных глаз от красного лица Гауптмана.
В салон постучали. Вошел старший штурман.
— Ваши марки продал он, — все еще глядя на Гауптмана, проговорил капитан. — Господин инспектор каким-то образом заставил вора признаться…
“Вот ты как! Сразу про воровство вспомнил, — подумал Сергей. — Еще бы, покушение на частную собственность…”
Сергей мельком взглянул на остолбеневшего штурмана, усмехнулся про себя: “Законно!”, как сказал бы Гешка…” — и достал чистый бланк:
— Надо составить акт.
Коллекционер крутил головой, словно от зубной боли, его залысый лоб багровел.
— Где мои марки?!
Капитан буркнул что-то, старший штурман замолчал; поправив на коленях брюки, сел в кресло, тоже уставился на Гауптмана горящими глазами.
— Итак, вы продали их за десять рублей? — спросил Сергей. — Это правда? Одну только марку с Колумбом у вас купили за три рубля…
— О-о-о! — простонал штурман.
— Десять рублей за все, — тупо повторил матрос.
Сергей понял: “Не врет”, — и принялся составлять акт.
 Он писал и слышал, как постукивают по столу ногти розовощекого, слышал разъяренный шепот старшего штурмана:
— Десять рублей!.. Я собирал эту коллекцию двенадцать лет! Где она? Где мои марки, свинья?!
— Двадцать пять и десять, — сказал Сергей, глядя на розовощекого. — Всего тридцать пять рублей. Прошу уплатить этот штраф, господин капитан, в счет незадержанной контрабанды.
— Но, господин инспектор! Он и так пропил свой заработок за месяц вперед. А теперь я должен платить мои деньги за его удовольствия? Забирайте его, пусть работает в вашем… как это называется? Есть у вас лагерь?
— В каком лагере? — удивился Ястребов.
— Ну, в этом — на пятнадцать суток…
— Таможенники охраняют экономические границы своей страны. Воспитывать иностранных моряков не наша обязанность. И… — Сергей улыбнулся, — так можно растерять команду, господин капитан!
— Я все равно выгоню его в Бремене, — буркнул розовощекий, стараясь взять себя в руки.
Гауптман отступил к двери.
“Вон!” — покосился на него капитан.
Старший штурман вскочил, бросился следом. Капитан принялся отсчитывать деньги.
… Возвращаясь с дежурства и поглядывая сквозь заплаканное окно трамвая на сонную Ригу, на мокрых голубей в карнизах озябших домов, Сергей хмурился, вспоминая, как смотрел на него Глаузинь. После “Редера”, уже перед рассветом, они оформляли отход шведского теплохода. Сергей старался быть внимательным… Ему показалось, что боцман — у этого рыжебородого было лицо прожженного плута — что-то тайком пронес в свою каюту. Оставив Глаузиня, Сергей пошел следом.
Он проверил у боцмана декларацию — только и всего. Глаузинь же, узнав об этом, извинился перед иностранцем. А Сергею, когда они сошли на берег, сказал: “Подозрительность к хорошему не приводит!”
Больше он об этом не говорил. Зато, обращаясь к инспектору Васе Краснову — третьему в их смене, — рассказал о нескольких неприятных случаях, вызванных излишней подозрительностью. Рассказывал он, как всегда, спокойно и даже невозмутимо, но по тому, как часто путал русские и латышские слова, Сергей понимал: старик волнуется.
— В прошлом году в наш порт приходили сотни иностранных кораблей, и, если подозревать, что всюду есть контрабандисты, это будет неправильно и плохо!
— Но мировая статистика считает, что только десять процентов контрабанды оседает в таможнях! — попытался возразить Сергей.
— Поэтому и надо быть внимательным, — отозвался Глаузинь.
…Вытирая в коридоре ноги о коврик, Сергей услышал, как в ванной фыркает под краном Гешка, и хотел быстро пройти в свою комнату. Но Гешка высунул из двери мокрое лицо, просиял:
— Здрасьте, дядя Сереж! Что я придумал! Вы меня в воскресенье возьмете на катер?
— Посмотрим, — сказал Сергей. И добавил: — Зайди, когда умоешься.
— А я уже! — Гешка схватил полотенце, скомкав его, стал тереть лицо.
— Вот что, — сказал Сергей. — Марка твоя с Колумбом — краденая.
— Как? — Гешка чуть не выронил полотенце.
— Понимаешь? Человек — моряк один из ФРГ — много лет собирал редкие марки. Читал их, как вот ты и Рита Августовна, а забулдыга с его же корабля украл и все пропил здесь, в Риге.
— А этот теплоход придет еще в Ригу? — глядя в пол, спросил Гешка.
— Наверное, придет…
Гешка сорвался с места, хлопнул дверью своей комнаты и через минуту вернулся.
— Возьмите, — протянул он Сергею “Колумба”, — когда придет корабль, отдайте ее хозяину. Не нужна она мне!
— И вот еще что, — голос Сергея почему-то стал хриплым, — ты, брат, не расстраивайся. У меня, честно сказать, тоже неприятности. Надо уметь их переживать. Понял?
Он писал и слышал, как постукивают по столу ногти розовощекого, слышал разъяренный шепот старшего штурмана:
— Десять рублей!.. Я собирал эту коллекцию двенадцать лет! Где она? Где мои марки, свинья?!
— Двадцать пять и десять, — сказал Сергей, глядя на розовощекого. — Всего тридцать пять рублей. Прошу уплатить этот штраф, господин капитан, в счет незадержанной контрабанды.
— Но, господин инспектор! Он и так пропил свой заработок за месяц вперед. А теперь я должен платить мои деньги за его удовольствия? Забирайте его, пусть работает в вашем… как это называется? Есть у вас лагерь?
— В каком лагере? — удивился Ястребов.
— Ну, в этом — на пятнадцать суток…
— Таможенники охраняют экономические границы своей страны. Воспитывать иностранных моряков не наша обязанность. И… — Сергей улыбнулся, — так можно растерять команду, господин капитан!
— Я все равно выгоню его в Бремене, — буркнул розовощекий, стараясь взять себя в руки.
Гауптман отступил к двери.
“Вон!” — покосился на него капитан.
Старший штурман вскочил, бросился следом. Капитан принялся отсчитывать деньги.
… Возвращаясь с дежурства и поглядывая сквозь заплаканное окно трамвая на сонную Ригу, на мокрых голубей в карнизах озябших домов, Сергей хмурился, вспоминая, как смотрел на него Глаузинь. После “Редера”, уже перед рассветом, они оформляли отход шведского теплохода. Сергей старался быть внимательным… Ему показалось, что боцман — у этого рыжебородого было лицо прожженного плута — что-то тайком пронес в свою каюту. Оставив Глаузиня, Сергей пошел следом.
Он проверил у боцмана декларацию — только и всего. Глаузинь же, узнав об этом, извинился перед иностранцем. А Сергею, когда они сошли на берег, сказал: “Подозрительность к хорошему не приводит!”
Больше он об этом не говорил. Зато, обращаясь к инспектору Васе Краснову — третьему в их смене, — рассказал о нескольких неприятных случаях, вызванных излишней подозрительностью. Рассказывал он, как всегда, спокойно и даже невозмутимо, но по тому, как часто путал русские и латышские слова, Сергей понимал: старик волнуется.
— В прошлом году в наш порт приходили сотни иностранных кораблей, и, если подозревать, что всюду есть контрабандисты, это будет неправильно и плохо!
— Но мировая статистика считает, что только десять процентов контрабанды оседает в таможнях! — попытался возразить Сергей.
— Поэтому и надо быть внимательным, — отозвался Глаузинь.
…Вытирая в коридоре ноги о коврик, Сергей услышал, как в ванной фыркает под краном Гешка, и хотел быстро пройти в свою комнату. Но Гешка высунул из двери мокрое лицо, просиял:
— Здрасьте, дядя Сереж! Что я придумал! Вы меня в воскресенье возьмете на катер?
— Посмотрим, — сказал Сергей. И добавил: — Зайди, когда умоешься.
— А я уже! — Гешка схватил полотенце, скомкав его, стал тереть лицо.
— Вот что, — сказал Сергей. — Марка твоя с Колумбом — краденая.
— Как? — Гешка чуть не выронил полотенце.
— Понимаешь? Человек — моряк один из ФРГ — много лет собирал редкие марки. Читал их, как вот ты и Рита Августовна, а забулдыга с его же корабля украл и все пропил здесь, в Риге.
— А этот теплоход придет еще в Ригу? — глядя в пол, спросил Гешка.
— Наверное, придет…
Гешка сорвался с места, хлопнул дверью своей комнаты и через минуту вернулся.
— Возьмите, — протянул он Сергею “Колумба”, — когда придет корабль, отдайте ее хозяину. Не нужна она мне!
— И вот еще что, — голос Сергея почему-то стал хриплым, — ты, брат, не расстраивайся. У меня, честно сказать, тоже неприятности. Надо уметь их переживать. Понял?
 “Швейцарская делегация, — догадался Сергей, подойдя поближе. — Вчера прилетели… Архангельский со своим нарядом их принимал”.
Рыбник укладывал в конверты марки, присыпая их белым порошком. Гости кланялись, благодарили.
— Он дарит марки иностранцам? — спросил Сергей.
— Может быть, обменивается, — сказала Рита. — Обмен марками — тоже культурные связи.
— Понятно. А зачем он сыплет туда эту пудру?
— Тальк. Чтоб марки не склеились, — ответила Рита, останавливаясь у небольшого стенда.
— И все-таки политических курьезов в филателии, наверное, больше, чем географических. Правда?
— Вот вы уже и начинаете читать марки…
— Я знаю о марках несуществующей республики Южно-Молуккских островов.
— Гешка рассказал? — ласково усмехнулась Рита. — Да, таких примеров немало. Марка Петлюры. Пока ее печатали за границей, Петлюру выгнали с Украины. Или вот… посмотрите.
— Эта? А, трофейная…
По квадратику лягушачьей расцветки с изображением Гитлера надпечатка готическим шрифтом: “Курлянд”. Фашистская марка для оккупированной территории Прибалтики…
— Идите сюда, — позвала Рита. — Эти марки выпущены уже после нашей победы.
“Швейцарская делегация, — догадался Сергей, подойдя поближе. — Вчера прилетели… Архангельский со своим нарядом их принимал”.
Рыбник укладывал в конверты марки, присыпая их белым порошком. Гости кланялись, благодарили.
— Он дарит марки иностранцам? — спросил Сергей.
— Может быть, обменивается, — сказала Рита. — Обмен марками — тоже культурные связи.
— Понятно. А зачем он сыплет туда эту пудру?
— Тальк. Чтоб марки не склеились, — ответила Рита, останавливаясь у небольшого стенда.
— И все-таки политических курьезов в филателии, наверное, больше, чем географических. Правда?
— Вот вы уже и начинаете читать марки…
— Я знаю о марках несуществующей республики Южно-Молуккских островов.
— Гешка рассказал? — ласково усмехнулась Рита. — Да, таких примеров немало. Марка Петлюры. Пока ее печатали за границей, Петлюру выгнали с Украины. Или вот… посмотрите.
— Эта? А, трофейная…
По квадратику лягушачьей расцветки с изображением Гитлера надпечатка готическим шрифтом: “Курлянд”. Фашистская марка для оккупированной территории Прибалтики…
— Идите сюда, — позвала Рита. — Эти марки выпущены уже после нашей победы.
 “…Между кусочками сахара, — писал Ястребов в акте, — обнаружено кольцо платиновое с бриллиантами (вес платины — 5,2 г) кольцо золотое, с бриллиантом, три золотых кольца и золотые часы дамские…”
— Старый способ, — сказал Глаузинь. — Но иногда, как видишь, им пользуются…
И стал проверять новую посылку. Через минуту невозмутимый латыш тихо выругался.
— Что такое?
— Посылка лондонской компании “Хаскоба Лимитед”. Вот реклама, посмотри…
На первой странице Сергей увидел картинку — советская семья восторженно всплескивает руками над посылкой из Англии: небритый отец в допотопном пиджаке, мать в платочке, повязанном по-крестьянски, их маленькая дочь — не девочка, а какой-то хилый уродец!
— Изъять ее! А, Эвалд Августович? Давайте…
Глаузинь покачал головой.
— Оставим, пусть получатель посмотрит! Может, гордость заговорит?
— А кто получает-то?
— Рижский житель, — сказал Глаузинь, — какой-то Куралюн.
— Куралюн?
Сергей долго смотрел в окно, на кроны сосен. У него было такое чувство, будто он увидел потайную дверь, а открыть ее не умеет. А может, он действительно слишком подозрителен?
“…Между кусочками сахара, — писал Ястребов в акте, — обнаружено кольцо платиновое с бриллиантами (вес платины — 5,2 г) кольцо золотое, с бриллиантом, три золотых кольца и золотые часы дамские…”
— Старый способ, — сказал Глаузинь. — Но иногда, как видишь, им пользуются…
И стал проверять новую посылку. Через минуту невозмутимый латыш тихо выругался.
— Что такое?
— Посылка лондонской компании “Хаскоба Лимитед”. Вот реклама, посмотри…
На первой странице Сергей увидел картинку — советская семья восторженно всплескивает руками над посылкой из Англии: небритый отец в допотопном пиджаке, мать в платочке, повязанном по-крестьянски, их маленькая дочь — не девочка, а какой-то хилый уродец!
— Изъять ее! А, Эвалд Августович? Давайте…
Глаузинь покачал головой.
— Оставим, пусть получатель посмотрит! Может, гордость заговорит?
— А кто получает-то?
— Рижский житель, — сказал Глаузинь, — какой-то Куралюн.
— Куралюн?
Сергей долго смотрел в окно, на кроны сосен. У него было такое чувство, будто он увидел потайную дверь, а открыть ее не умеет. А может, он действительно слишком подозрителен?
 Архангельский сел.
Начальник таможни посмотрел на Сергея:
— Прошу.
Сергей встал, чувствуя, что краснеет. О чем он мог рассказать? О матросе с “Моники Смит”? Или о Гауптмане?
Он кашлянул:
— Я тоже о почте…
И стал рассказывать о Куралюне.
…— Установлено, что за последние два месяца он получил шесть посылок — и все от “Хаскоба Лимитед” Нейлоновые шубы, белье, обувь…
— Это потребительские товары, оплаченные пошлиной. В чем вы усмотрели криминал?
— Но шесть посылок! И потом… — Сергей рассказал о похищении марок у старшего штурмана “Редера”, о Гешке и “Колумбе”.
Костюков задумался.
— Пока все это не связывается… Вы не узнавали в комиссионных магазинах, не сдавал ли туда вещи на продажу этот Куралюн?
— Нет.
— Проверьте. Только предупреждаю: бдительность, но не подозрительность!..
…Сергей остановился у подъезда таможни и, подняв воротник шинели, старался прикурить. Он обязательно должен распутать это дело.
Архангельский сел.
Начальник таможни посмотрел на Сергея:
— Прошу.
Сергей встал, чувствуя, что краснеет. О чем он мог рассказать? О матросе с “Моники Смит”? Или о Гауптмане?
Он кашлянул:
— Я тоже о почте…
И стал рассказывать о Куралюне.
…— Установлено, что за последние два месяца он получил шесть посылок — и все от “Хаскоба Лимитед” Нейлоновые шубы, белье, обувь…
— Это потребительские товары, оплаченные пошлиной. В чем вы усмотрели криминал?
— Но шесть посылок! И потом… — Сергей рассказал о похищении марок у старшего штурмана “Редера”, о Гешке и “Колумбе”.
Костюков задумался.
— Пока все это не связывается… Вы не узнавали в комиссионных магазинах, не сдавал ли туда вещи на продажу этот Куралюн?
— Нет.
— Проверьте. Только предупреждаю: бдительность, но не подозрительность!..
…Сергей остановился у подъезда таможни и, подняв воротник шинели, старался прикурить. Он обязательно должен распутать это дело.
 Увидев Сергея, девушка штемпелевавшая конверты, улыбнулась ему, как знакомому.
Она стукнула тяжелым штемпелем по конверту, от которого тотчас взлетело облачко белой пыли, хотела что-то сказать, но отвернулась и сладко чихнула.
— Будьте здоровы!
— Спасибо! А все эти заграничные отправления! — Девушка снова стукнула штемпелем и снова чихнула.
— Придется вам попросить у начальника почты противогаз.
Девушка рассмеялась, заколотила штемпелем. И каждый раз после удара взвивалось облачко пыли.
Сергей машинально читал адреса на конвертах: “Канада, Торонто, Джону Тацинскому”, “Рим, Италия, Беццуоччи”, “Мистеру Голдшлагу, Балтимора, США”. Девушка оставила штемпель вынула платок и уткнулась в него.
Сергей взял штемпель, взвесит его на ладони и пошутил:
— Уж не пудрой ли вы его нашпиговали?
— Какая пудра? Тальк. Просто мучение!
Сергей хлопнул по конверту. Поднялось белое облачко.
Глаузинь, проходя мимо, спросил:
— Новую квалификацию получаешь?
И тут Сергей вспомнил выставку Рыбника, руки, пересыпающие марки тальком.
— Эвалд Августович, — Сергей даже не мог сдержать дыхания, так он волновался, — кто у нас зарегистрирован на почтамте под абонементным почтовым ящиком 242?
Глаузинь внимательно посмотрел на него.
— Что случилось?
— Тальк!
— Тальк?
— Тальк! Вы понимаете… тальк! Им же пересыпают марки, чтобы не склеились. А этих конвертов — сорок штук!
Глаузинь набрал номер телефона начальника почтамта.
— Двести сорок второй почтовый абонементный ящик для заграничных отправлений зарегистрирован на имя Феликса Куралюна!
Увидев Сергея, девушка штемпелевавшая конверты, улыбнулась ему, как знакомому.
Она стукнула тяжелым штемпелем по конверту, от которого тотчас взлетело облачко белой пыли, хотела что-то сказать, но отвернулась и сладко чихнула.
— Будьте здоровы!
— Спасибо! А все эти заграничные отправления! — Девушка снова стукнула штемпелем и снова чихнула.
— Придется вам попросить у начальника почты противогаз.
Девушка рассмеялась, заколотила штемпелем. И каждый раз после удара взвивалось облачко пыли.
Сергей машинально читал адреса на конвертах: “Канада, Торонто, Джону Тацинскому”, “Рим, Италия, Беццуоччи”, “Мистеру Голдшлагу, Балтимора, США”. Девушка оставила штемпель вынула платок и уткнулась в него.
Сергей взял штемпель, взвесит его на ладони и пошутил:
— Уж не пудрой ли вы его нашпиговали?
— Какая пудра? Тальк. Просто мучение!
Сергей хлопнул по конверту. Поднялось белое облачко.
Глаузинь, проходя мимо, спросил:
— Новую квалификацию получаешь?
И тут Сергей вспомнил выставку Рыбника, руки, пересыпающие марки тальком.
— Эвалд Августович, — Сергей даже не мог сдержать дыхания, так он волновался, — кто у нас зарегистрирован на почтамте под абонементным почтовым ящиком 242?
Глаузинь внимательно посмотрел на него.
— Что случилось?
— Тальк!
— Тальк?
— Тальк! Вы понимаете… тальк! Им же пересыпают марки, чтобы не склеились. А этих конвертов — сорок штук!
Глаузинь набрал номер телефона начальника почтамта.
— Двести сорок второй почтовый абонементный ящик для заграничных отправлений зарегистрирован на имя Феликса Куралюна!
 Он посмотрел в окно. Люди переходили улицу на перекрестке, шли мимо, ждали на остановке троллейбус. Рабочие, служащие, студенты… А кто он? Для всех — маляр.
Да, маляр. Иначе могут быть неприятности, а они не для умных людей. Он усмехнулся и стал перебирать конверты. Письмо от “Хаскобы”. Его хочется прочитать в первую очередь. Но прежде всего дело, очередные операции. А письмо от “Хаскобы” можно положить вот сюда и, занимаясь делом, иногда на него посматривать: поднимает настроение…
Он взял ножницы, аккуратно по самому краешку надрезал пухлый конверт и долго разглаживал лист с четким штемпелем: “Артур Кинг, торговец марками”.
“Дорогой мистер Куралюн!
Спасибо за марки, которые я получил несколько дней назад. Посылаю вам обещанное Стоимость — 3 фунта 12 шиллингов 2 пенса. Это обременяет Вас кредитом в 1 фунт 13 шиллингов 2 пенса. Буду Вам обязан, если Вы в ближайшее время сможете выслать двадцать разных со штемпелем первого дня”.
Куралюн с минуту рассматривал полученные марки, потом, вздохнув, записал в графе “Должен”: 1 фунт 13 шиллингов 2 пенса.
Кто следующий?
“Рокот Стэмпс Регистр, Канада”
“Дорогой мистер Куралюн! Большое спасибо за письмо. Теперь мы будем делать большие дела…”
Большие дела!..
Большие дела он начал с маленького объявления в одном зарубежном журнале. Оно было скромным: “Филателист Ф.Куралюн, проживающий в Риге, хочет обмениваться марками с коллекционерами из других стран”. Марки в таких случаях наклеивались на конверты. Но скоро он понял, что настоящий бизнес делается иначе. Его следующее объявление в западногерманском филателистическом журнале звучало куда определеннее: “Желаю обмена только с торговцами. Могу давать новинки марок СССР…”
И количество связей сразу выросло — теперь у него 60 корреспондентов в западных странах.
“…Сообщаю Вам новые адреса, по которым можно посылать марки: мистера Джона Байера и миссис Люсиль Базине”.
Что же, он запишет. Правда, это не торговцы, а просто коллекционеры, но можно попробовать и с ними, посмотреть, как будут расплачиваться.
Следующее письмо он разворачивал со смешанным чувством надежды и робости: этот Джон Грин из Буффало был придирчив, требователен и высокомерен, черт бы его побрал! Но платил он незамедлительно и — наличными. Так и появились у маляра — Куралюн усмехнулся — солидные вклады в канадских и английских банках.
“Уважаемый господин! (Даже по имени не называет!) В своем письме от 23 августа с.г. я сообщил вам о получении ваших писем от № 1 до № 12 включительно. В письме от 28 августа я сообщал о получении писем от № 13 до № 22 включительно. В № 21 вы прислали мне пять блоков гашеных марок “800 лет Москвы” по цене 72 цента за штуку. Но я просил их у вас только негашеными. Если такие есть, возьму 5–10 блоков, но прошу не присылать больше гашеных: они у нас не идут”. (Черт тебе угодит!)
“С сегодняшнего дня прошу присылать только такой материал, за который вы посчитаете не дороже 50 центов за штуку. По этой цене возьму все, имеющие хождение…” (Грабитель! Капиталистическая акула! — Куралюн вытер вспотевший лоб.)
“…“Хаскобе” на днях я дал поручение на 160 долларов. (Вот это другой разговор!) Прошу им написать, чек я выслал. (Молодец!) Хочу на будущее иметь с Вами большие дела, поэтому постоянно, без перерыва присылайте побольше материала, ничего не упускайте”.
— Уф! — Куралюн достал еще одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Он, пожалуй, отдохнет минуты три — четыре.
А в университете его считали неуспевающим. Отчислили со второго курса. На секунду он вспоминает гулкие своды аудиторий, гомон студентов, лекции, зачеты… Потом отогнал эту картину. Ему бы собственную контору, этакий офис! И с хорошенькой секретаршей…
“Ладно, — ухмыляется он, — обязанности секретарши возьмет на себя ваша будущая супруга”.
Две лишние минуты он позволил себе подумать о Вел те и, пока думал, все смотрел на конверт “Хаскобы”. Потом вынул свернутый лист.
За окном жил город, работали и радовались люди.
А двадцатипятилетний парень, с глазами, прикрытыми петушиными веками, млел над письмом со штемпелем “Экспортеры и международная служба почтовых заказов…” Фирма-то, фирма-то какая! “М-ру Феликсу Куралюну. Уважаемый господин, в ответ на Ваше письмо с почтением сообщаем, что высылаем в Ваш адрес посылку № Р.1433…”
“Уважаемый господин! — отстучал он, заложив в машинку бумагу. — Меня только что известили, что господин Гласс и господин Грин перевели на мое имя Вам 100 и 160 ам. долларов. Я бы хотел получить от Вас как можно больше разных прейскурантов и образцов товаров, которые Вы можете мне прислать. Оборот наш был бы тогда намного больше…”
Он подумал и решил подчеркнуть эту многообещающую фразу: фирма должна знать, с кем имеет дело.
“Сегодня хочу заказать новую посылку.
Туфли дамские на высоком каблуке, самые модные…”
Куралюн улыбнулся, снял телефонную трубку, набрал номер.
— Велта? Все работаешь, бедняжка?
Слушая ее голос, он подрыгивал ногой и смотрел на носок ботинка (себе тоже надо заказать).
— Хочу подарить тебе шпильки, самые модные. Да, конечно, каблук высокий. Какой у тебя размер, крошка? Тридцать восемь? Так и запишем. Их пришлют тебе по моему распоряжению. Кто пришлет? Ха! Банк, заграничный банк! Нет, не шучу…
Чудачка Велта! А почему бы ему и не веселиться — такие отличные письма! Этот месяц вообще везучий: разве мог он рассчитывать, что удастся купить у какого-то забулдыги иностранного матроса великолепные, очень дорогие марки — и всего за десятку! А он тут же продал за трешку одну только марку — Колумба, кажется! Неосторожно, конечно. Соблазнился побочным доходом! Ну ничего, сойдет.
Он опять снял трубку и задумался: сказать ей про шубу? От кого-то из своих знакомых он слышал, что был в Европе такой политик — Талейран. Один из советов Талейрана: “Никогда не поддаваться первому порыву чувств — он всегда слишком благороден”. Сказать или нет? Ведь она не только будущая жена, а компаньон, союзница…
О, Велта еще не знает всех его козырей. Она будет боготворить своего Феликса.
За окном переходила улицу стройная быстроногая девушка. “Как я все таки обкрадываю себя!” — вздохнул Куралюн и снова сел за машинку.
Он посмотрел в окно. Люди переходили улицу на перекрестке, шли мимо, ждали на остановке троллейбус. Рабочие, служащие, студенты… А кто он? Для всех — маляр.
Да, маляр. Иначе могут быть неприятности, а они не для умных людей. Он усмехнулся и стал перебирать конверты. Письмо от “Хаскобы”. Его хочется прочитать в первую очередь. Но прежде всего дело, очередные операции. А письмо от “Хаскобы” можно положить вот сюда и, занимаясь делом, иногда на него посматривать: поднимает настроение…
Он взял ножницы, аккуратно по самому краешку надрезал пухлый конверт и долго разглаживал лист с четким штемпелем: “Артур Кинг, торговец марками”.
“Дорогой мистер Куралюн!
Спасибо за марки, которые я получил несколько дней назад. Посылаю вам обещанное Стоимость — 3 фунта 12 шиллингов 2 пенса. Это обременяет Вас кредитом в 1 фунт 13 шиллингов 2 пенса. Буду Вам обязан, если Вы в ближайшее время сможете выслать двадцать разных со штемпелем первого дня”.
Куралюн с минуту рассматривал полученные марки, потом, вздохнув, записал в графе “Должен”: 1 фунт 13 шиллингов 2 пенса.
Кто следующий?
“Рокот Стэмпс Регистр, Канада”
“Дорогой мистер Куралюн! Большое спасибо за письмо. Теперь мы будем делать большие дела…”
Большие дела!..
Большие дела он начал с маленького объявления в одном зарубежном журнале. Оно было скромным: “Филателист Ф.Куралюн, проживающий в Риге, хочет обмениваться марками с коллекционерами из других стран”. Марки в таких случаях наклеивались на конверты. Но скоро он понял, что настоящий бизнес делается иначе. Его следующее объявление в западногерманском филателистическом журнале звучало куда определеннее: “Желаю обмена только с торговцами. Могу давать новинки марок СССР…”
И количество связей сразу выросло — теперь у него 60 корреспондентов в западных странах.
“…Сообщаю Вам новые адреса, по которым можно посылать марки: мистера Джона Байера и миссис Люсиль Базине”.
Что же, он запишет. Правда, это не торговцы, а просто коллекционеры, но можно попробовать и с ними, посмотреть, как будут расплачиваться.
Следующее письмо он разворачивал со смешанным чувством надежды и робости: этот Джон Грин из Буффало был придирчив, требователен и высокомерен, черт бы его побрал! Но платил он незамедлительно и — наличными. Так и появились у маляра — Куралюн усмехнулся — солидные вклады в канадских и английских банках.
“Уважаемый господин! (Даже по имени не называет!) В своем письме от 23 августа с.г. я сообщил вам о получении ваших писем от № 1 до № 12 включительно. В письме от 28 августа я сообщал о получении писем от № 13 до № 22 включительно. В № 21 вы прислали мне пять блоков гашеных марок “800 лет Москвы” по цене 72 цента за штуку. Но я просил их у вас только негашеными. Если такие есть, возьму 5–10 блоков, но прошу не присылать больше гашеных: они у нас не идут”. (Черт тебе угодит!)
“С сегодняшнего дня прошу присылать только такой материал, за который вы посчитаете не дороже 50 центов за штуку. По этой цене возьму все, имеющие хождение…” (Грабитель! Капиталистическая акула! — Куралюн вытер вспотевший лоб.)
“…“Хаскобе” на днях я дал поручение на 160 долларов. (Вот это другой разговор!) Прошу им написать, чек я выслал. (Молодец!) Хочу на будущее иметь с Вами большие дела, поэтому постоянно, без перерыва присылайте побольше материала, ничего не упускайте”.
— Уф! — Куралюн достал еще одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Он, пожалуй, отдохнет минуты три — четыре.
А в университете его считали неуспевающим. Отчислили со второго курса. На секунду он вспоминает гулкие своды аудиторий, гомон студентов, лекции, зачеты… Потом отогнал эту картину. Ему бы собственную контору, этакий офис! И с хорошенькой секретаршей…
“Ладно, — ухмыляется он, — обязанности секретарши возьмет на себя ваша будущая супруга”.
Две лишние минуты он позволил себе подумать о Вел те и, пока думал, все смотрел на конверт “Хаскобы”. Потом вынул свернутый лист.
За окном жил город, работали и радовались люди.
А двадцатипятилетний парень, с глазами, прикрытыми петушиными веками, млел над письмом со штемпелем “Экспортеры и международная служба почтовых заказов…” Фирма-то, фирма-то какая! “М-ру Феликсу Куралюну. Уважаемый господин, в ответ на Ваше письмо с почтением сообщаем, что высылаем в Ваш адрес посылку № Р.1433…”
“Уважаемый господин! — отстучал он, заложив в машинку бумагу. — Меня только что известили, что господин Гласс и господин Грин перевели на мое имя Вам 100 и 160 ам. долларов. Я бы хотел получить от Вас как можно больше разных прейскурантов и образцов товаров, которые Вы можете мне прислать. Оборот наш был бы тогда намного больше…”
Он подумал и решил подчеркнуть эту многообещающую фразу: фирма должна знать, с кем имеет дело.
“Сегодня хочу заказать новую посылку.
Туфли дамские на высоком каблуке, самые модные…”
Куралюн улыбнулся, снял телефонную трубку, набрал номер.
— Велта? Все работаешь, бедняжка?
Слушая ее голос, он подрыгивал ногой и смотрел на носок ботинка (себе тоже надо заказать).
— Хочу подарить тебе шпильки, самые модные. Да, конечно, каблук высокий. Какой у тебя размер, крошка? Тридцать восемь? Так и запишем. Их пришлют тебе по моему распоряжению. Кто пришлет? Ха! Банк, заграничный банк! Нет, не шучу…
Чудачка Велта! А почему бы ему и не веселиться — такие отличные письма! Этот месяц вообще везучий: разве мог он рассчитывать, что удастся купить у какого-то забулдыги иностранного матроса великолепные, очень дорогие марки — и всего за десятку! А он тут же продал за трешку одну только марку — Колумба, кажется! Неосторожно, конечно. Соблазнился побочным доходом! Ну ничего, сойдет.
Он опять снял трубку и задумался: сказать ей про шубу? От кого-то из своих знакомых он слышал, что был в Европе такой политик — Талейран. Один из советов Талейрана: “Никогда не поддаваться первому порыву чувств — он всегда слишком благороден”. Сказать или нет? Ведь она не только будущая жена, а компаньон, союзница…
О, Велта еще не знает всех его козырей. Она будет боготворить своего Феликса.
За окном переходила улицу стройная быстроногая девушка. “Как я все таки обкрадываю себя!” — вздохнул Куралюн и снова сел за машинку.




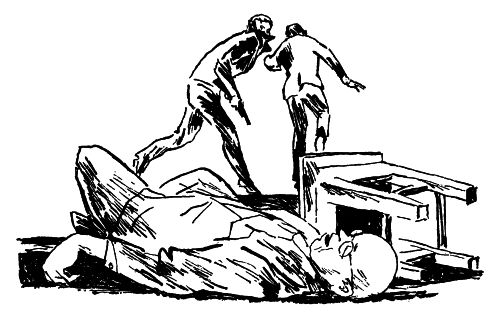

























/






























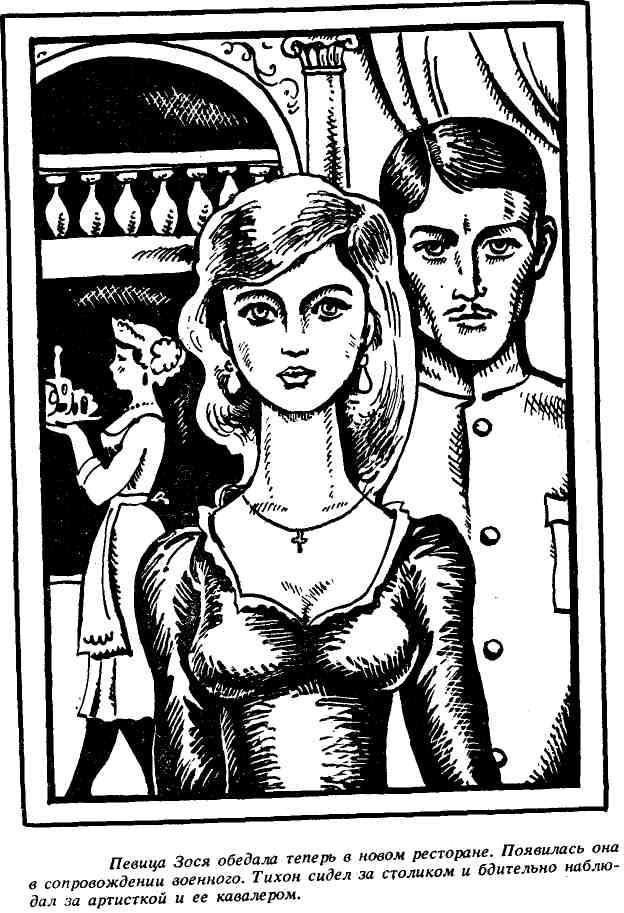











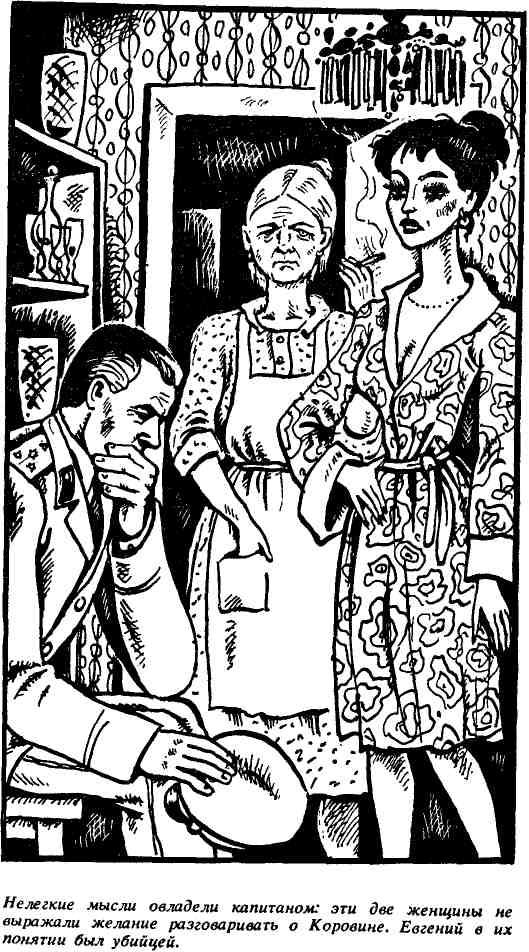























































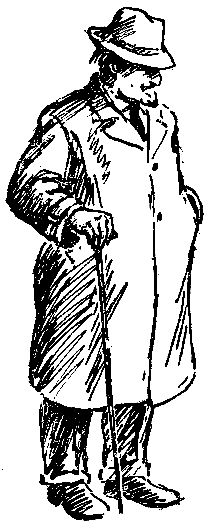 Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
 - Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»
- Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»

 А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
 Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
 А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.
А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.


 Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
Иван поднял голову, посмотрел на стоявшего перед ним человека, ответил, помедлив:
- Он самый!. А вот вас что-то с трудом припоминаю. Хотя обождите…
 - Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»
- Вы - Грачев, если не ошибаюсь?
- Не ошибаешься.
Человек постоял, словно раздумывая - присесть ему или повернуть обратно. Потом сдунул пыль и примостился на краешке скамьи, расправив с светло-бежевый плащ-пыльник.
- Так, так … Вернулся, значит. И сколько ж ты там откуковал?
- Три года конечно - А давали?
Пять. Скостили за поведение … ну, и за работу, Досрочно, стало быть, освободили?
- Досрочно.
- Это хорошо.
Разговор больше не клеился.
Грачев, некоторое время с безразличным видом следил за воробьями, порхавшими в кустах акации. Наконец, не выдержав длительной паузы, спросил, прикашливая:
- Ты … кхм, кхм … сердишься, наверно, на меня? Иван пожал плечами:
- Да нет, отчего? Зачем вам было нас покрывать? Растаскали мы немало, цифры у вас были на руках, следствие попросило - вы сказали, что положено, и на суде так же выступили. Так что все в ажуре, как говорят.
- Должность она должность и есть,- облегченно вздохнул Грачев.- Тут уж ничего не попишешь …
- Да вы не оправдываетесь,- усмехнулся Иван.
Я понятливый. Сказал - зуба не имею, значит, не имею. Они замолчали, искоса поглядывая один на другого.
Грачеву на вид было лет пятьдесят или чуть больше. Он носил аккуратную бородку клинышком. На темном морщинистом лице выделялись только глаза -светлые, детские. Остальное было непримечательно.
- Молчание снова затянулось, и, чтобы как-то нарушить его, Иван спросил:
- Вы все там же, бухгалтером на товарной? Собеседник качнул головой:
- Нет, со станции я давно ушел. Теперь главбухом в университете работаю. - Он снял шляпу, обнажив седой зачес с косым пробором, и стал выправлять ее в руках.
Иван вдруг заговорил горько, с накипевшей злостью: - А мне ни черта не везет. Целую неделю хожу, пороги обиваю. Нигде не берут. Как заглянут в документы, сразу будто отрежут. Из милиции предлагали меня устроить, да только радости в этом мало: будут потом люди пальцем тыкать - вот, мол, чуть ли не под конвоем на работу привели. А мне конвой надоел! Человеком хочу быть, как все!- Он чувствовал, что, быть может, зря так разоткровенничался перед этим почти незнакомым человеком, но остановиться уже не мог. Целые дни одиночества среди людей дали, видимо, о себе знать. И он продолжал:- Так вот, понадеялся я на себя, да похоже - зря. Зря понадеялся … Не берут. Не верят: думают, в первый же день что-нибудь сопру и оторвусь!- Он хмуро глянул на Грачева.- Как, по- вашему, можно мне верить?
- Тот пожевал тонкими малокровными губами.
- Хм … Полагаю, что можно.
- А они вот не полагают!
Иван остыл так же быстро, как вспыхнул. Он сгорбился, поставил локти на колени и опустил голову.
Грачев внимательно изучал ручку своей трости, пощипывал клинышек бородки. Потом откинулся назад, глаза его полузакрылись, а лоб прорезали глубокие морщины, словно какая-то мучительная мысль не давала ему покоя. Так сидел он довольно долго. И начал совсем неожиданно:
- Видишь ли… помочь человеку в беде - святая обязанность каждого. Я тоже один из людей, и … э-э … ничто человеческое мне не чуждо . .Конечно, я понимаю, что с твоим реноме, как говорили в старину, точнее - с таким прошлым, как у тебя, э-э … трудновато рассчитывать на что-нибудь весомое …
Иван насторожился, пытаясь понять, к чему гнет собеседник. Но тот замолчал, и он сказал как можно безразличнее:
- Да куда уж мне весомое! Специальности по существу никакой… Хоть бы приткнуться куда-нибудь, а то болтаюсь впустую, как дерьмо в проруби,- он хлопнул рукой по скамейке.
Старый бухгалтер привычно пожевал губами.
- Что ж, раз такое дело … Но тут надо подумать.
- Как говорится, семь раз отмерь, один - отрежь.- Он
встал, опираясь на тросточку.- В общем, зовут меня Викентии Лукич,- ты, наверное, забыл?
- Забыл,- честно признался Иван.
Оно простительно. Столько лет все-таки… Короче, чем смогу- помогу. Так что зайди ко мне сегодня вечером попозднее, поговорим. Здесь не место …
Он сказал адрес, приподнял шляпу - церемонно, по-стариковски - и ушел, слегка помахивая тросточкой.
Проводив Грачева взглядом, Иван повеселел. Жизнь принимала другой оборот и уже не казалась такой мрачной, как полчаса назад. Он даже почувствовал, как пахнет листва акации, начинающей увядать.
Солнце закатилось. Небо густо посинело, прозрачные перистые облака, казалось, застыли в нем, окрашенные в розоватый цвет.
«Вечерком попозднее,- вдруг вспомнилось Ивану. Попозднее … Боится, наверное, как бы люди не увидели, что к нему бывший «зэка» зайдет … » Он невесело усмехнулся. Эх, и долго же теперь, наверное, не сотрется это проклятое клеймо! Может, всю жизнь … Но неужели ему всю жизнь будут напоминать о злосчастной ошибке? Ну, сбился с пути раз - наказан, понял. Хочется вновь стать человеком, как все другие. Так дай те же возможность доказать, что не погибший, не пропащий ! ..
Медленно тянулось время. Иван бродил около вокзала, поглядывая на стрелки больших электрических часов. Когда поблизости появлялся постовой, уходил в зал ожидания, битком набитый пассажирами. Не то чтобы боялся милиционера, а просто так, чтобы не мозолить глаза. Но в зале в этот теплый августовский вечер было душно, и скоро он снова выходил на улицу.
Небо померкло. Сквозь легкую дымку облаков проклюнулись первые звезды. Город зажег огни.
Иван решил пора. Он пешком дошел до знакомой улицы и с трудом узнал ее: дома были новые, дорогу перед ними разрыли - газ собирались проводить. Но дом, в котором жил Грачев, оказался старым, деревянным. Правда, двухэтажным. Иван выждал, когда на улице никого не будет, как бы не подвести человека, и нырнул в подъезд.
Грачев открыл ему дверь, провел в квартиру. В двух небольших комнатах стояла старая мебель, на стенах висели потертые ковры. Середину каждой комнаты занимал большой стол под тяжелой, потемневшей от времени скатертью. Видно, квартиру пытались содержать в чистоте, но удавалось это плохо. Кое-где виднелась пыль, на маленькой скамеечке для ног, стоявшей около кровати, лежали измятые носки. Пахло нежилым.
- По-холостяцки живу,- коротко пояснил Грачев, запахивая на груди несвежий стеганый халат.
- Пойдем-ка на кухню. Не хочется сюда носить посуду.
На кухне Ивана обступило бесчисленное множество банок и баночек с маринадами, соусами и чем-то еще, непонятным.
- Ты уж извиняй, я по-простецки,- сказал Грачев, доставая графинчик с настойкой.- Водки не держу, вот этим только изредка балуюсь. А по части закуски -любую выбирай. Сам готовил. Вечерами делать нечего, вот и занимаюсь, так, по-стариковски. Сегодня вот грибочки мариновал …
Бродя по городу, Иван не ел с утра, с тех пор, как ушел из дому, и с ходу принялся за еду, в пол уха слушая Грачева. А тот сообщал кое-какие новости городской жизни, жаловался на скучное стариковское житье-бытье, на рыночные цены - и ни слова не говорил о работе. Раза два Иван перехвати его взгляд, подумал про себя: «Изучает … Ну и пусть. Когда-нибудь заговорит и о деле». И Грачев заговорил.
- Так вот … Думал я тут до твоего прихода, как тебя устроить. Есть у нас одна вакансия …
- Какая?- не выдержал Иван. Собеседник его неторопливо налил в стопку из графинчика, с расстановкой выпил, вытер губы салфеткой.
- Вакансия с кое-какой материальной ответственностью связана. Комендант нам требуется.
Понимаешь? Надежда, весь вечер теплившаяся в груди Ивана, мгновенно угасла. Отвернувшись, он глухо пробормотал:
- Пустой номер. Не доверят мне, Викентий Лукич … Грачев подергал бородку.
- Можно сделать так, что и знать никто не будет.
- Если хочешь работать. Иван вскинул взгляд:
- Документы подделывать? Нет, на такое не пойду. Вот чудак! При чем тут документы? На работе с моим мнением считаются, скажу кой -кому, чтобы о твоей судимости не распространялись, и все. Впрочем, как хочешь …
Было в этом что-то унизительное, но что именно -Иван понять не мог. Вроде бы ему предлагали выдать себя за другого человека. И в то же время насмешливый!, издевательский внутренний голос твердил ему: «А ты как думал? Что все пойдет как по маслу? Это, дружок, расплата! Не быть уж тебе чистеньким-беленьким, не-ет! И не думай брыкаться: человек тебе дело советует, слушай его, он опытный, он знает, как быть дальше, как поступать! .. »
- Ладно, можно попытать,- сказал Иван хрипловато.
- Только справлюсь ли я? Ведь всего восемь классов кончил …
Грачев махнул рукой! - а, мол, пустяк. Потом снова взялся за графинчик:
- Еще выпьешь? Ну, конечно, выпьешь!.. Справишься, парень, не тужи.
Провожая Ивана, он сначала выгляну за за дверь. На лестничной площадке никого не было. Повернувшись к Ивану, хозяин тихо сказал:
- В общем, твердо не обещаю, но думаю - дело выгорит. Завтра позвонишь.
Спускаясь по лестнице, Иван чувствовал, что Грачев смотрит ему в спину, но оглядываться было неудобно. «И этот не верит,- с горечью подумал он.-Боится, что ли?»

 А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
А бухгалтер между тем продолжала:
- Просто уму непостижимо, как это наш инспектор по кадрам мог его принять?! Или он не смотрел его документов?
Но этого быть не может: он такой аккуратист! .. Ну, я понимаю, могли взять этого человека… э-э, так сказать, на перевоспитание. Но брать на должность коменданта! В голове не укладывается: кота поставили стеречь мясо. Что вы на это окажете?
Ноги сами поворачивали к выходу на лестницу. Но бессознательное желание выслушать свой приговор до конца удержало Ивана.
Заговорила другая женщина. Голос ее звучал очень тихо: - Если это так, Аида Прокофьевна, то очень печально. Но честно говоря, все-таки в душе я с вами не согласна.
Вот как сейчас его вижу: скромный, застенчивый, может, немножко неразвитый по сравнению с нашей университетской публикой… однако - он не преступник: у него очень добрый взгляд… Пусть даже этот человек участвовал когда-то в краже.
«Верно!»- прорываясь сквозь горечь происходящего, сказал в Иване внутренний голос, и чувство признательности к своей защитнице шевельнулось в глубине его души. Теперь он уже не мог уйти не дослушав. Кто-то обжаловал приговор, с которым он готов был согласиться.
- … Кроме того,- простите, может, это покажется вам странным - на месте инспектора по кадрам я могла бы сама, понимаете, сама взять именно такого человека, именно на такую должность. Мне всегда хочется не только видеть, но и будить в людях хорошее. И мне всегда казалось, что доверие даже помогает делать хороших людей. Макаренко, например, описывает, как однажды он доверил бывшему вору большие деньги …
- Мало ли чего писатели не выдумывают!- недовольно сказала бухгалтер.
- Макаренко не столько писатель, сколько педагог и воспитатель трудовой колонии,- словно извиняясь, пояснил тихий голос,- и в своих книгах он почти ничего не выдумывал.
- Нет, милая,- прервала Аида Прокофьевна,- писатели-воспитатели могут говорить все, что им угодно, э вы вот попробовали бы ежедневно выписывать собственной рукой материальные ценности вору!
- Бывшему … если даже это так,- несколько громче возразила собеседница, и тогда Иван узнал голос библиотекаря.
- Я удивляюсь, как вы не поймете. Я теперь вынуждена даже свою сумочку запирать в стол.
Женщины продолжали спорить. Иван, наконец, опомнился: осторожно ступая, пошел обратно по коридору.
Ему никого не хотелось видеть, и он вышел, как и вошел, через черный ход. Постоял во дворе, потом бесцельно направился на улицу. Ранний зимний вечер встретил его яркими огнями фонарей и морозным, пробирающимся под пальто ветерком. Легкая дрожь прошла по спине Ивана и заставила его очнуться. Куда идти? Домой? Там скоро придет с работы Маша, конечно, заметит его настроение, начнет допытываться, в чем дело … А разве ей расскажешь, что гнетет душу? Как она поймет, если не знает, что такое клеймо, черное пятно, которого не отмыть. Откуда еи знать, как ранит в самое нутро косой взгляд еще вчера приветливого человека? .. Или - поймет? Она ведь немало пережила из-за него. И на нее, верно, косились: вот, мол, жена заключенного, муж в тюрьму за кражу сел. А если и поймет, то к чему это? Ворошить старое, будоражить старую боль …
Нет, пока он домой не пойдет. Эх, если бы встретить хоть старых товарищей. Все по разбрелись кто куда: тот уехал, этот получил квартиру где-то в новом районе. Пойти в общежитие, где когда-то жил? Вряд ли там его ждут. Если и есть кто из «старичков» - начнутся расспросы… все то же, все о том же.
… У самого тротуара вдруг распахнулась дверь, на улицу вырвался нестройный многоголосый разговор. Пивная. Зайти, что ли?
Пожилой мужчина с красным рябым лицом приятельски толкнул его в плечо: - Ты что на пиво наседаешь? С этого, брат, здоров не будешь,- он громко захохотал.- Давай-ка со мной беленькой. А? Сначала -мою, потом ты возьмешь.
Ивану было безразлично.
- Черт с ним, где мы не пропадали! Давай!. Выпили четвертинку случайного знакомца, сходили в соседний магазин за другой. Потом за третьей …
- А ты плюй на все!- говорил краснолицый мужчина. Вначале он назвал свое имя, но потом Иван забыл его.-Подумаешь, неприятности на работе! Да у меня, брат, можно сказать, вся жизнь из этих неприятностей состояла, и - видишь: жив-здоров, и стопка от меня пока еще не бегает. Так что не горюй, есть пятачок - и хрюкай,- он снова захохотал.
- Я и не горюю,- невесело сказал Иван. После водки чувство горечи притупилось, но настроение не поднялось. Тогда он простился со случайным собутыльником и побрел домой.
Так закончился для него этот злосчастный день.
 Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
Взгляд Дубова снова упал за окно. Автомашина ушла. Комендант закрыл двери оклада, сел в тени на бревно, закурил. Лейтенант прищурился, долго и внимательно изучал фигуру Вихрастова. «А что если … Нет нельзя,-отмахнулся он мысленно. И тут же возразил себе:- Но ведь вызывать придется все равно!»
Долго изучал Дубов сидящего внизу человека. Для удобства наблюдения он спустился с четвертого этажа на второй. Комендант не уходил, а только вытянул из пачки новую папиросу и опять закурил. Утро стояло солнечное и тихое, и дым синеватым облачком витал над его головой. Поза у Вихрастова была спокойная, движения неторопливы; он несколько горбился, уперев руки в колени, иногда сплевывал на траву под ногами.
 А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.
А следователь вспомнил его «личное дело», все, что успел услышать о коменданте в минувшие два дня. «И все-таки этому человеку с его прошлым и настоящим вряд ли захотелось бы пойти на преступление. Тем более в одиночку. А связей у него, судя по всему, нет … хотя вообще-то чем черт не шутит!»
По лестнице наверх, на третий этаж, с шумом прошла группа студентов. Там находился комитет комсомола -это Дубов по привычке отметил еще в свои первый приход. Следователь улыбнулся. Давно ли он сам вот так приходил в комитет юридического института после экзаменов! Вручали путевку, а то просто заносили в список - и вида на целину, строить или урожаи убирать. Теперь у него жизнь совсем другая. И никогда уже не станет он студенчески беззаботным …
Но прочь посторонние мысли. Думать надо вон о том человеке, чья судьба сейчас в его руках.
Улик против Вихрастова нет. К Сидоркиной, насколько удалось установить, отношение он имеет не большее, чем все другие административно-хозяйственные работники главного корпуса. Значит … пришла пора побеседовать с ним лично.
Следователь решительно направился по коридору к лестнице, спустился вниз, повернул к черному ходу, намереваясь выйти во двор университета, и в самых дверях столкнулся с комендантом.
- А, Иван Никифорович!
Вихрастов недоуменно и настороженно окинул следователя взглядом.
- Ну, я. По какому делу? Кажется, незнакомы …
Сейчас познакомимся,- улыбнулся Дубов.- Мне надо с вами поговорить, Иван Никифорович. Местечко у вас найдется где это сделать ?
Комендант еле заметно пожал плечами и ни слова не говоря, пошел вперед. «В свои кабинет»,- определил Дубов и не ошибся.
Дверь кабинета открылась бесшумно. Отметив для себя эту деталь, лейтенант, сделав вид, что замешкался, пропустил Вихрастова вперед, быстрым взглядом окинул обстановку. Четыре фанерных шкафа, стол, два стула, тумбочка в углу и все.
Комендант сел на свое место, выжидательно поднял глаза. Пора было знакомиться.
- Следователь горотдела милиции Дубов,- представился лейтенант.- Себя можете не называть.- Собираясь с мыслями, он сделал паузу.
- А документ у вас есть?- неожиданно спросил Вихрастов.
- Ишь, какой недоверчивый- простодушно улыбнулся Дубов, стараясь расположить к себе коменданта.- Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Вихрастов долго и угрюмо изучал документ, потом вернул.
- Все правильно. Следователь, значит? .. Давно мне не доводилось с вашим братом встречаться … По поводу кражи нашей университетской пришли ?
- Совершенно верно. По поводу денежной кражи. И в связи с этим, Иван Никифорович, мне нужно задать вам несколько вопросов. Однако, честно говоря, я предпочел бы сделать это не в вашем кабинете, а в своем.
Можете вы выкроите с часок для беседы, чтобы нам туда дойти? Тут недалеко.
Комендант горько усмехнулся.
- Да я знаю, что туда недалеко. А уж вот оттуда …
Не стоит время терять. Идемте за этими деньгами.- Вихрастов произнес это тоном бесконечно уставшего человека.
- За какими деньгами?- быстро спросил Дубов, чувствуя, что брови у него ползут сами собою вверх.
- За всеми, какие украдены, наверно.
- М-много их там?- даже заикнулся лейтенант.
- Много,- кратко и мрачно ответил комендант.- Не считал.
Толстиков, которого Дубов вызвал по телефону, приехал через несколько минут.
- Ну, вот,-сказал комендант.- Теперь, видно, все в сборе. Идемте … Только, извините, я молоток возьму. Руками там ничего не сделать.
- Далеко это?- поинтересовался .. лейтенант.
- Здесь, на четвертом этаже.
Следователи переглянулись.
- Ясно,- кивнул Дубов.
- А молоточек дай сюда,- попросил невозмутимо Толстиков.- Я его сам понесу.- Получив молоток, завернул его в газету, деловито добавил:- Еще парочку понятых нужно.
Они зашли в учебный корпус за Никитиным, потом прихватили с собой попавшуюся навстречу молоденькую библиотекаршу, поднялись на четвертый этаж.
- Вот, надо открыть,- остановился Вихрастов перед забитой толстыми гвоздями дверью.- Тут уборная была раньше. Теперь на ремонте.
Толстиков протянул ему молоток:
- Работай.
Иван, усмехнувшись, взял инструмент.
Через минуту дверь была открыта. Все зашли внутрь. Комендант подкатил к стене бочонок с известкой, прикрыл доской и влез на него. Потом, дотянувшись до вентиляционной решетки, снял ее, сунул руку за поворот трубы и вытащил оттуда небольшой грязноватый мешок.