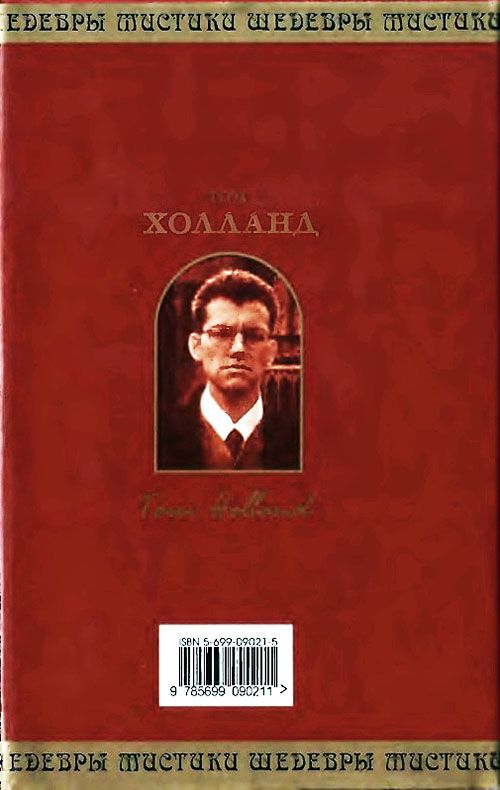Том ХОЛЛАНД
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЛОРДА БАЙРОНА, ВАМПИРА
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЛОРДА БАЙРОНА, ВАМПИРА
Но перед этим из могилы
Ты снова должен выйти в мир
И, как чудовищный вампир,
Под кровлю приходить родную —
И будешь пить там кровь живую
Своих же собственных детей.
Во мгле томительных ночей,
Судьбу и небо проклиная,
Под кровом мрачной тишины
Вопьешься в грудь детей, жены,
Мгновенья жизни сокращая.
Но перед тем, как умирать,
В тебе отца они признать
Успеют. Горькие проклятья
Твои смертельные объятья
В сердцах их скорбных породят,
Пока совсем не облетят
Цветы твоей семьи несчастной…
Когда с кровавыми устами,
Скрежеща острыми зубами,
В могилу с воем ты придешь,
Ты духов ада оттолкнешь
Своею страшною печатью
Неотвратимого проклятья.
Лорд Байрон. «Гяур» (перевод С. Ильина)
Но мне ненавистны произведения, которые являются чистой выдумкой, даже самый фантастический сюжет должен быть фактически обоснован, только лжец руководствуется голой выдумкой.
Лорд Байрон. Письмо к издателю
Глава 1
Если бы все мемуары, были опубликованы, они бы обрекли лорда Б. на вечный позор.
Джон Кэм Хобхауз
Мистер Николас Мелроуз, глава собственной адвокатской фирмы, не мог прийти в себя от волнения. Такого с ним не случалось уже давно.
— Мы никогда никому не даем эти ключи, — раздраженно сказал он, с негодованием посмотрев на девушку, сидевшую напротив него. Как она вообще посмела явиться сюда?
— Никогда, — повторил он тоном, не допускающим возражений.
Ребекка Карвилл посмотрела на него и покачала головой. Она наклонилась, чтобы достать сумку. Мелроуз наблюдал за ней. Длинные каштановые волосы, красивые и непокорные, доходили ей до плеч. Она откинула их назад, взглянув на Мелроуза. Глаза ее блестели. «Она красива», — с некоторым смущением подумал Мелроуз. Он вздохнул, запустив пальцы в свои редеющие волосы, и погладил себя по животу.
— Часовня святого Иуды всегда была закрыта для посетителей, — пробормотал он более мирным тоном. — Я говорю вам это официально. — Он развел руками. — Итак, видите, мисс Карвилл, у меня нет выбора Я повторяю, мне очень жаль, но я не могу дать вам ключи.
Ребекка достала из своей сумки какие-то бумаги, Мелроуз нахмурился. Да, видно, он начинает стареть, если даже эта тихая девушка так выводит его из себя, и не важно при этом, какими женскими чарами она обладает и по какому делу явилась она к нему. Он склонился над столом.
— Может, вы мне все-таки скажете, что вы собираетесь найти в этом склепе?
Ребекка что-то искала в своих бумагах. Внезапно улыбка озарила ее холодное красивое лицо. Она протянула ему листки через стол.
— Взгляните на это, — сказала она, — но, пожалуйста, осторожней, они очень старые.
Мелроуз взял их, заинтригованный.
— Что это? — спросил он.
— Письма.
— Какого они времени?
— 1825 года.
Мелроуз пристально посмотрел на Ребекку поверх очков, затем поднес одно из писем к настольной лампе. Чернила были блеклыми, бумага потемнела от времени. Он попытался разобрать подпись внизу страницы. Это было трудно сделать при слабом свете одной-единственной лампы.
— Томас… что это… Мур? — уточнил он, подняв голову.
Ребекка кивнула.
— Вы думаете, это имя мне что-то говорит?
— Он был поэтом.
— Прошу меня извинить, но в моей работе нет времени для поэзии.
Ребекка продолжала бесстрастно смотреть на него. Она перегнулась через стол, чтобы забрать письма.
— Никто сейчас не читает Томаса Мура, — произнесла она наконец, — но в свое время он был очень популярен.
— Мисс Карвилл, вы, наверное, специалист по поэзии того времени?
— У меня есть на это свои причины, мистер Мелроуз.
— У вас? — Мелроуз улыбнулся. — Превосходно!
Он откинулся в своем кресле. Итак, она — всего лишь коллекционер, любительница антиквариата, ничего более. Теперь она уже не казалась ему такой опасной. Мелроуз снисходительно улыбнулся ей, утверждая таким образом н своих глазах собственную значимость.
Ребекка смотрела на адвоката, не отвечая на его улыбку.
— Как я вам уже сказала, мистер Мелроуз, у меня есть на то причины. — Она посмотрела на лист бумаги, который держала в руках. — Вот письмо, адресованное лорду Рутвену. Адрес: Мэйфейр, Фейрфакс-стрит, 13.— Она медленно улыбнулась. — Не тот ли это дом, которому принадлежит часовня святого Иуды?
Улыбка Ребекки стала шире, в то время как она наблюдала за выражением лица адвоката. Он внезапно побледнел. Затем покачал головой и попытался улыбнуться ей в ответ.
— Хорошо, — мягко сказал он, прикасаясь ко лбу. — Что там?
Ребекка снова заглянула в письмо.
— То, о чем пишет Мур, — сказала она. — Он сообщает лорду Рутвену, что у него есть нечто, что он называет «манускрипт». Что это за манускрипт — он не уточняет. Единственное, о чем говорится в письме, это то, что он посылает этот манускрипт с письмом на Фейрфакс-стрит.
— На Фейрфакс-стрит… — Голос адвоката прозвучал глухо. Он сглотнул и еще раз попытался улыбнуться, но выражение его лица стало больным.
Ребекка взглянула на него. Если нота страха, прозвучавшая в его реплике, и удивила ее, то она не подала вида. Наоборот, лицо ее оставалось спокойным, она передала ему через стол второе письмо и продолжала, не меняя интонации:
— Неделю спустя, мистер Мелроуз, Томас Мур пишет вот это письмо. Он благодарит лорда Рутвена за подтверждение получения манускрипта. Лорд Рутвен дал ясно попять Муру, какая участь предназначена этому манускрипту. — Ребекка зачитала письмо: — «Велика Истина, сказано в Библии, и величие ее простирается над всем. Но иногда Истина должна быть сокрыта, чтобы простой смертный мог вынести тяжкое бремя ее тайн. Вы знаете, что я думаю по этому поводу. Манускрипт нужно спрятать в месте захоронения, единственно подходящем для этого месте. Оставим эту тайну для вечности — я надеюсь, вы согласитесь со мной». — Ребекка опустила письмо. — «Место захоронения», мистер Мелроуз, — медленно произнесла она, потом откинулась назад и добавила с внезапной страстностью: — Уверена, что это может означать только одно: склеп часовни святого Иуды!
Мелроуз склонился в раздумье.
— Я думаю, мисс Карвилл, — сказал он наконец, — что вам следует забыть о Фейрфакс-стрит.
— Но почему?
Мелроуз пристально посмотрел на нее.
— А может, ваш поэт был прав? И бывает такая правда, которую лучше держать в тайне?
Ребекка слегка улыбнулась.
— Вы говорите как адвокат.
— Вы несправедливы, мисс Карвилл.
— Тогда что вы имеете в виду?
Мелроуз не ответил. «Черт бы ее побрал», — подумал он. Далекие и непрошеные воспоминания пронеслись в его голове. Взгляд его скользил по современному интерьеру кабинета, словно пытаясь найти успокоение.
— Я говорю как… как тот, кто желает вам добра, — произнес он.
— Нет. — Ребекка с грохотом отодвинула стул и поднялась с такой стремительностью, что Мелроуз вздрогнул.
— Вы ничего не понимаете. Знаете ли вы, какую важность представлял, этот манускрипт, если лорд Рутвен спрятал его в склепе?
Мелроуз не ответил.
— Томас Мур был другом поэта, великого поэта. Возможно, даже вы, мистер Мелроуз, слышали о лорде Байроне?
— Да, — мягко ответил Мелроуз, подперев голову руками. — Я слышал о лорде Байроне.
— Когда Байрон написал свои мемуары, он передал их Томасу Муру. А когда известие о смерти Байрона дошло до его друзей, они уговорили Мура уничтожить мемуары. Лист за листом мемуары были разорваны в клочья и преданы огню издателем Байрона. От них ничего не осталось. — Ребекка откинула волосы назад, пытаясь успокоить себя. — Байрон был великим поэтом. Уничтожение его мемуаров — это большое преступление.
Адвокат пристально смотрел на нее. Теперь он понял, зачем ей нужны ключи. Он уже и раньше слышал подобные аргументы. Все эти годы он не мог забыть ту женщину, которая их ему приводила, женщину такую же обаятельную, как и эта девушка перед ним.
Она все продолжала говорить ему:
— Мистер Мелроуз, пожалуйста, понимаете ли вы, о чем я говорю?
Он облизал губы.
— А вы? — ответил он.
Ребекка нахмурилась.
— Послушайте, — тихо прошептала она, — известно, что у Томаса Мура была привычка копировать все документы, которые он получал. Только один экземпляр мемуаров был сожжен. Все хотят знать, не мог ли Мур сделать копию. И теперь здесь, — Ребекка показала на письмо, — у нас есть письменное подтверждение Мура о загадочном манускрипте, который, как он говорит, был спрятан в «месте захоронения». Мистер Мелроуз, пожалуйста, теперь-то вы понимаете? Мы сейчас говорим о мемуарах Байрона Я должна получить ключи от часовни святого Иуды.
Хлынувший дождь застучал по окнам. Мелроуз устало поднялся, закрыл щеколду, словно в бессознательном желании отгородиться от наступившей ночи, и, все еще молча, прислонился лбом к оконному стеклу, уставившись в темноту улицы.
— Нет, я не могу дать вам ключи.
В комнате воцарилась тишина, прерываемая только завыванием ветра.
— Вы должны, — категорично заявила Ребекка. — Вы ведь видели письма.
— Да. Я видел их. — Мелроуз повернулся.
Зрачки у Ребекки были узкие, как у кошки. Ее волосы, казалось, искрились при свете лампы. «Господи, — подумал он, — как она похожа на ту женщину». Было что-то странное во всем этом. Воспоминания тех лет…
— Мисс Карвилл, — он попытался объяснить, — я говорю так не оттого, что я вам не доверяю. Наоборот…
Он остановился, но Ребекка продолжала молчать. Адвоката мучил вопрос, как он сможет объяснить все себе. Его всегда тяготили собственные подозрения, и он знал, что, когда он выскажет их, они будут звучать неправдоподобно, фантастически. Поэтому он всегда держал их при себе и старался забыть. «Черт бы побрал эту девушку, — подумал он опять, — черт бы побрал ее!»
— А что, мемуары лорда Байрона, — пробормотал он наконец, — они были сожжены его друзьями?
— Да, — холодно ответила Ребекка. — Его старым другом по путешествиям, его имя Хобхауз.
— А не кажется ли вам, что этот Хобхауз, вероятно, знал, что делал?
Ребекка холодно улыбнулась.
— Как вы можете спрашивать меня об этом?
— Потому что я хочу знать, какая тайна была заключена в этих мемуарах. Она должна была быть настолько ужасна, что даже близкие друзья лорда Байрона посчитали за благо уничтожить все записи.
— Не все, мистер Мелроуз.
— Нет? — Он помолчал. — Да, возможно, не все. Итак… Я взволнован.
К его удивлению, Ребекка не улыбнулась в ответ. Вместо этого она наклонилась через стол и взяла его за руку.
— Вы чем-то взволнованы, мистер Мелроуз? Ответьте мне… Лорд Байрон умер почти два века назад. Что же вас так взволновало?
— Мисс Карвилл.. — Он запнулся, поморщившись, и выдернул руку. — Мисс Карвилл… — Он махнул рукой. — Забудьте обо всем, что я здесь говорил. Пожалуйста, послушайте меня. Ситуация такова. Я официально уполномочен хранить ключи. Это все, что я должен делать. Может показаться странным, что церковь закрыта для посетителей, но это тем не менее так. Право на вход в часовню имеют наследники Рутвенов, он сам и прямые потомки первого лорда Рутвена. Только для них я храню эти ключи, так же как и мои предшественники по фирме вот уже почти двести лет, подобно мне, хранили их. Насколько мне известно, в церкви никогда не проходили службы и она никогда не была открыта. Я мог бы, полагаю, доложить о вас нынешнему лорду Рутвену, но я должен быть с вами откровенным, мисс Карвилл: я этого никогда не сделаю.
Ребекка в удивлении подняла бровь.
— Почему?
Мелроуз смотрел на нее.
— Существует много причин для этого. Самая простая состоит в том, что лорд Рутвен не ответит мне.
— Вот как! Так существует ли он на самом деле?
Мелроуз нахмурился.
— Почему вы спрашиваете меня об этом?
Ребекка пожала плечами.
— Я пыталась увидеть его, перед тем как прийти к вам То, что я сижу сейчас перед вами, демонстрирует, что я в этом не преуспела.
— Я полагаю, он редко бывает в своем лондонском особняке. Но поверьте, мисс Карвилл, он существует.
— Вы встречались с ним?
Мелроуз кивнул.
— Да. — Он помолчал. — Однажды.
— И больше никогда?
— Одного раза было достаточно.
— Когда?
— Это не имеет значения.
Ребекка молча кивнула. Мелроуз изучал ее лицо. Оно снова казалось холодным и бесстрастным, только глубоко в глазах притаился огонь. Он откинулся на стуле.
— Это было двадцать лет назад, почти в этот же самый день, — сказал он. — Я помню это как сейчас.
Ребекка подалась вперед.
— Продолжайте.
— Мне не следовало говорить вам это. Клиент имеет право на конфиденциальность.
Ребекка усмехнулась. Он знал, что она поняла, как ему хочется все рассказать. Он откашлялся.
— Я тогда только что стал компаньоном фирмы, — продолжал он. — Дело о наследстве Рутвенов было одним из первых моих дел. Лорд Рутвен позвонил мне. Он хотел поговорить со мной. Он настоял на том, чтобы мы встретились на Фейрфакс-стрит. Он был богатым и уважаемым клиентом. Я, естественно, пришел.
— И?..
Мелроуз снова остановился.
— Это было очень странное чувство, — произнес он наконец. — Я не впечатлительный человек, мисс Карвилл. Я всегда стараюсь быть объективным, но пребывание в его доме наполнило меня… ну, как бы вам это сказать… каким-то необыкновенным, осязаемым чувством тревоги. Вероятно, это звучит странно? Да, конечно. Но я не мог с этим ничего поделать. На протяжении моею визита лорд Рутвен показал мне часовню святого Иуды. И опять меня охватило почти физическое чувство страха, сдавившее мне горло, парализовавшее меня. Итак, как видите, мисс Карвилл, для вашего же собственного спокойствия я хотел бы, чтобы вы не ходили туда… Да… Для вашего собственного спокойствия.
Ребекка опять слабо улыбнулась.
— Но что произвело на вас такое сильное впечатление — часовня или сам лорд Рутвен? — спросила она.
— Я думаю, все вместе. Лорд Рутвен показался мне каким-то ускользающим от понимания человеком. В нем была утонченность, да, настоящая утонченность, а также красота…
— Но?..
— Но… — Мелроуз нахмурился. — Да, но… что-то в его лице, как и в его доме, вызывало все то же ощущение опасности. — Он помолчал. — Мрачный отблеск беды. Мы не разговаривали в течение долгого времени, и в какой-то момент я осознал в душе огромное, растущее желание позвать на помощь, я уже готов был это сделать, но… Нет, нет. — Мелроуз тряхнул головой. — Какие глупости я говорю. Адвокат не имеет права быть таким впечатлительным.
Ребекка улыбнулась.
— Но было ли это всего лишь воображение?
Мелроуз наблюдал за ее лицом. Оно внезапно стало бледным.
— Возможно, нет, — спокойно сказал он.
— О чем он хотел с вами поговорить?
— О ключах.
— От часовни?
Мелроуз кивнул.
— Почему?
— Он велел мне никому не давать их.
— Даже тем, кто имел на это право?
— Их нужно было отговорить.
— Но не запретить?
— Нет, отговорить.
— Почему?
— Он не сказал. Но когда он это произнес, у меня возникло предчувствие чего-то… чего-то ужасного.
— Чего?
— Я не могу описать это, но ощущение было настолько реальным, как… — Мелроуз осмотрелся. — Как это изображение на экране компьютера или как эта стопка бумаг. И лорд Рутвен, как мне показалось, тоже был испуган. Нет, это был не испуг, а ужас, смешанный с противоестественным желанием. Все это я увидел в его лихорадочно блестевших глазах. Это явилось предостережением для меня, потому что я ужаснулся от того, что прочел на его лице. Конечно, я надеялся, что никто не попросит у меня ключи. — Он остановился. — Но три дня спустя ко мне пришла мисс Рутвен.
Лицо Ребекки выразило удивление.
— За ключами? — спросила она.
Мелроуз откинулся на стуле.
— Так же как и вы. Она хотела найти мемуары лорда Байрона, спрятанные в склепе.
Лицо Ребекки, казалось, оставалось бесстрастным.
— И вы отдали их ей?
— У меня не было выбора.
— Потому что она из рода Рутвенов?
Мелроуз кивнул.
— И вы все еще хотите остановить меня?
— Нет, мисс Карвилл, нет смысла пытаться сделать это. Я вас просто не пущу. Я не дам вам ключи.
Мелроуз смотрел в ее суженные зрачки. Он опустил взгляд, поднявшись, пересек комнату и подошел к темнеющему окну.
— Она исчезла, — сказал он, не оборачиваясь, — через несколько дней после того, как я дал ей ключи. Полиция так и не нашла ее. Конечно, ее исчезновение невозможно было связать с лордом Рутвеном, но я помнил все, что он говорил, что я прочел в его лице. Я ничего не сказал полиции, боясь показаться нелепым, вы меня понимаете, но с вами, мисс Карвилл, я не побоюсь показаться смешным. — Он повернулся к ней. — Уходите. Уже поздно. Мне кажется, что наша встреча подошла к концу.
Ребекка не двигалась. Она медленно убрала прядь волос с лица.
— Эти ключи мои по праву, — невозмутимо произнесла она.
Мелроуз в бессильном гневе поднял руки.
— Неужели вы не слышали то, о чем я вам говорил? Неужели вы не можете понять? — Он тяжело опустился на стул. — Мисс Карвилл, пожалуйста, не создавайте проблем. Уходите, а то я буду вынужден попросить вывести вас отсюда.
Ребекка покачала головой. Мелроуз вздохнул и наклонился над столом, чтобы нажать на кнопку. В этот момент Ребекка достала вторую пачку бумаг из своей сумки. Она кинула их через стол Мелроуз взглянул на них и замер. Он взял первую страницу, уставившись в нее остекленевшими глазами, не в состоянии прочесть ее или словно не желая этого делать. Он что-то пробормотал, затем отбросил лист от себя. Вздохнул и долгое время сидел молча. Наконец, покачал головой и вздохнул еще раз.
— Итак, она была вашей матерью?
Ребекка кивнула.
— Она взяла девичью фамилию, а я — фамилию отца.
Мелроуз глубоко вздохнул.
— Почему вы не сказали?
— Мне хотелось узнать, что вы думаете.
— Итак, вы знаете. Держитесь подальше от Фейрфакс-стрит.
Ребекка улыбнулась.
— Это несерьезно, — сказала она и рассмеялась.
— Изменится ли что-нибудь, если я еще раз повторю все, что говорил?
— Нет, не изменится.
Мелроуз посмотрел на нее, затем кивнул.
— Хорошо, если вы настаиваете, я принесу вам ключи. — Он нажал на кнопку. Но ответа не последовало. — Должно быть, уже поздно, я не заметил, — пробормотал он, поднявшись. — Вы меня извините, мисс Карвилл.
Ребекка смотрела, как он вышел из кабинета и прикрыл дверь. Она начала собирать бумаги. Свои свидетельства она кинула в сумку, оставив пачку писем на коленях. Некоторое время Ребекка сидела неподвижно и, услышав, что дверь открывается, положила свои изящные руки на стол.
— Вот, — сказал Мелроуз, держа в руках три ключа на большом медном кольце.
— Спасибо, — поблагодарила Ребекка. Она ждала, когда он отдаст ей ключи, но он все стоял около нее, крепко сжав связку.
— Пожалуйста, — попросила Ребекка, — отдайте их мне, мистер Мелроуз.
Мелроуз молчал. Он долго смотрел на нее, затем наклонился к письмам, лежащим на ее коленях.
— Эти послания, — сказал он, взяв письма в руки, — эти таинственные послания, они действительно принадлежали вашей матери?
— Я надеюсь, что это так.
— Что значит надеюсь?
Ребекка пожала плечами:
— Мне продал их один букинист. Очевидно, всем знатокам известно, что они когда-то принадлежали моей матери.
— И поэтому букинист первым делом пришел к вам?
Ребекка кивнула.
— Очень честно с его стороны.
— Возможно. Я заплатила.
— Но как они оказались у него? И как ваша мать их потеряла?
Ребекка вновь пожала плечами.
— Я думаю, что букинист получил их от какого-то частного коллекционера Кроме того, он, скорее всего, ничего не знает, а я и не пыталась узнать.
— Вас это не интересовало?
— Я полагаю, их украли.
— Как? Вы думаете, это произошло после того, как исчезла ваша мать?
Ребекка взглянула на него. Ее глаза блестели.
— Возможно, — сказала она.
— Да. — Мелроуз помолчал. — Возможно. — Он снова принялся рассматривать письма. — Они подлинные? — спросил он.
— Я думаю, да.
— Но вы не уверены?
— Я не специалист.
— О, извините. Я полагал, что…
— Я востоковед, мистер Мелроуз. Моя мать была филологом, специалистом по Байрону. Я часто его читала — из уважения к ее памяти, но не из желания стать специалистом в литературоведении.
— Понятно, извините. — Мелроуз опять посмотрел на письма. — И, как я полагаю, ради памяти вашей матери вы хотите найти эти мемуары?
Ребекка слабо улыбнулась.
— Я думаю, я должна это сделать, вам так не кажется? Понимаете ли, мистер Мелроуз, я никогда не видела свою мать. Но, мне кажется, то, что я делаю, она бы одобрила.
— Даже вопреки тому, что она погибла в поисках этих мемуаров?
Ребекка нахмурилась.
— Неужели вы действительно так думаете, мистер Мелроуз?
Он кивнул.
— Да, я так думаю.
Ребекка отвернулась. Она смотрела в ночную тьму за окном.
— В конце концов я должна знать, что с ней произошло, — сказала она, скорее для себя.
Мелроуз промолчал. Он опустил письма ей на колени. Ключи он ей так пока и не передал.
Ребекка протянула руку. Мелроуз в задумчивости посмотрел на нее.
— И все это время, — тихо сказал он, — все это время вы носили фамилию Рутвен.
Ребекка пожала плечами.
— Я не могу изменить свою кровь.
— Нет. — Мелроуз рассмеялся. — Конечно не можете. — Он помолчал. — Существует ли проклятие Рутвенов? — спросил он.
— Да— Ее узкие глаза смотрели на него. — Оно обязательно должно быть.
— В чем же оно заключается?
— Я не знаю. Я полагаю, оно действует как все проклятия.
— Но каким образом? Поколение за поколением, Рут-вен за Рутвеном становятся жертвами некой мистической силы? В этом состоит легенда?
Ребекка не ответила. Она снова пожала плечами.
— Большинство аристократических семей, как правило, имеют свои проклятия. Это в порядке вещей. Признак воспитания, если хотите.
— Так оно и есть.
Ребекка снова нахмурилась.
— Что вы имеете в виду?
Мелроуз рассмеялся.
— Все это у них в крови. Все в крови! — Он поперхнулся и закашлялся, продолжая смеяться.
— Вы правы, — сказала Ребекка, поднимаясь, — для адвоката вы слишком впечатлительны. — Она протянула руку. — Мистер Мелроуз, дайте мне ключи.
Мелроуз прекратил смеяться. Он сильнее сжал ключи в ладони.
— Вы уверены? — спросил он.
— Уверена.
Мелроуз пристально посмотрел ей в глаза, затем его плечи опустились, и он прислонился к столу, протянув ей ключи.
Ребекка взяла их и опустила в карман.
— Когда вы пойдете? — спросил Мелроуз.
— Не знаю. Скорее всего, скоро.
Мелроуз медленно кивнул, словно сам себе. Он повернулся на стуле, наблюдая, как Ребекка выходит из кабинета.
— Мисс Карвилл!
Ребекка обернулась.
— Не ходите!
Ребекка посмотрела на адвоката.
— Я должна, — сказала она.
— Ради вашей матери? Но ради вашей матери я прошу вас не ходить туда!
Ребекка не ответила. Она отвернулась. Дверь была приоткрыта.
— Спасибо, что потратили на меня время, мистер Мелроуз, — произнесла она, обернувшись. — Спокойной ночи.
Мелроуз проводил ее грустным взглядом.
— Спокойной ночи, — сказал он. — Спокойной ночи.
Дверь закрылась, и Ребекка осталась одна. Она поспешила к лифту. Дверь офиса позади нее оставалась закрытой.
В вестибюле скучающий охранник проводил ее взглядом. Ребекка быстро прошла через двери и оказалась на улице. Как здесь было хорошо! Она остановилась и глубоко вздохнула Ей было приятно очутиться на свежем воздухе после душного помещения. Она поспешила по улице, подгоняемая сильным ветром, подобно невесомому и податливому осеннему листу. Впереди шумела Бонд-стрит, наполненная огнями и спешащим людским потоком. Ребекка пересекла ее и повернула в сторону безлюдных, тихих кварталов. Район Мэйфейр казался пустынным.
Высокие неприглядные фасады домов были почти не освещены. Проехала одинокая машина, и опять воцарилась тишина, которая наполнила Ребекку странным лихорадочным возбуждением. Она держала ключи в руке как талисман и прислушивалась к биению собственного сердца.
Около Болтон-стрит Ребекка почувствовала, что ее бьет дрожь. Она остановилась и прислонилась к стене. Возбуждение внезапно испугало ее. Она вспомнила странные слова адвоката. «Исчезла», — сказал он о ее матери. Она вспомнила, как он в отчаянии умолял ее не ходить на Фейрфакс-стрит. Ребекка бросила взгляд назад. Улицу, на которой она стояла, когда-то часто посещали великосветские денди, здесь теряли целые состояния, проигрывая их в карты с легкой улыбкой на устах, здесь разбивались судьбы. Лорд Байрон тоже бывал здесь. Байрон. Внезапно она почувствовала, что возбуждение внутри ее достигло высшей точки, дошло почти до исступления и вызвало неожиданный приступ страха. Казалось, что для ужаса не было причин, но, стоя в этой зловещей тишине, она вдруг почувствовала, что боится. Но чего? Она попыталась найти причину. Итак, о чем же она думала перед этим? Да, Байрон. Конечно, она думала о Байроне. И опять этот приступ страха. Ребекка вздрогнула и внезапно поняла с абсолютной ясностью, что не сможет — несмотря на свое решение — войти в часовню этой ночью. Она не могла сделать и шага вперед, настолько оцепенела от ужаса, охватившего ее, подобно густому красному туману, и поглощающею ее волю.
Она напряглась, пытаясь сбросить с себя наваждение. На Пиккадилли, как обычно, было много машин. Она пошла на шум, затем побежала.
— Ребекка!
Она замерла.
— Ребекка!
Она оглянулась. Листки бумаги, подхваченные ветром, разлетелись по пустой улице.
— Кто там? — спросила Ребекка.
Тишина Она наклонила голову. Теперь она не слышала уличного шума Только завывание ветра и дребезжание вывески, висящей в конце улицы. Ребекка двинулась вперед.
— Кто там? — крикнула она опять.
Ветер стонал в ответ, и вдруг Ребекке почудился едва различимый смех. Он шелестел, взлетая и опускаясь вместе с ветром. Ребекка побежала на его звук вниз по следующей улице, такой темной, что девушка едва различала дорогу перед собой. Она услышала шум, подобный бренчанию олова.
Ребекка посмотрела по сторонам: всего лишь на какое-то мгновение ей показалось, что она увидела темный парящий силуэт, но, как только она сделала шаг вперед, он исчез, растворился, как будто его никогда и не было. Что-то странное было в этой фигуре, что-то непонятное, но такое знакомое. Где раньше она могла видеть ее обладателя? Ребекка покачала головой. Нет, этого не может быть. Это было в высшей степени странно, скорее всего это сильный ветер и игра теней сыграли с ней злую шутку.
Она почувствовала чье-то дыхание на своей щеке. Повернув голову, она ощутила легкое пощипывание в носу от едкого химического запаха, но, когда она протянула руки, готовясь отбиваться от неизвестного, перед ней была пустота.
— Кто здесь? — разозлившись, крикнула она в темноту. — Где вы?
Смех опять прошелестел вместе с ветром, затем послышались шаги, удаляющиеся по тесному переулку. Ребекка побежала вслед за ними, звук ее каблуков гулко отдавался в тишине. Кровь стучала в ушах, удары были такими громкими, что выводили Ребекку из себя. Она уговаривала себя не обращать на это внимания и прислушивалась к звуку странных шагов. Они все еще звучали впереди, уже из узкого переулка, и вдруг затихли, растворившись в воздухе. Ребекка остановилась, чтобы восстановить силы и дыхание. Она осмотрелась. В это время рваные клочья облаков рассеялись от порывистого ветра. Лунный свет, мертвенно-бледный, залил улицу. Она посмотрела вверх.
Перед ней возвышался фасад особняка. Его грандиозные размеры совершенно не сочетались с узким и пустым переулком, где он стоял. При лунном свете камни его казались неестественно белыми, окна были подобны пустым глазницам; общее впечатление было такое, что этот обломок прошлого, воскресший в свете луны, давным-давно оставлен хозяевами. Ветер снова начал завывать. Ребекка видела, как погасли огни. Но особняк не исчез, он стал более осязаемым, чем призрачный лунный свет. Ребекка не удивилась этому, она хорошо знала этот дом, потому что когда-то уже заходила в его ворота.
Однако она не спешила подниматься по ступенькам и стучать в дверь. Вместо этого она прошлась вдоль фасада, мимо воткнутых в мостовую копий ограды, оберегающих особняк от посторонних глаз. Ребекка снова почувствовала кислый запах, более резкий, чем прежде. Она побежала. Позади нее послышались шаги. Она обернулась — никого, и опять на нее, подобно ядовитому облаку, обрушился этот едкий запах, стискивающий горло. Ее бросило в жар. Она оступилась и, шатаясь, побрела вперед. У ограды пальцы ее нащупали связку цепей. Она подняла ее. Там был всего один замок. Он охранял проход к часовне святого Иуды.
Ребекка достала ключи и вставила один из них в замок. Раздался скрежет, но ключ не повернулся. Шаги позади нее замерли. Но Ребекка не оборачивалась. Сильная волна страха, почти что сладостного, накатила на нее, и она прислонилась к ограде, чуть не потеряв равновесие. Страх полностью овладел ею, страх и непонятный восторг. У нее тряслись руки, когда она взяла второй ключ. Тот заскрежетал в замке, там что-то сдвинулось, и ключ начал поворачиваться. Ребекка поднажала, замок открылся, и звено цепи соскользнуло на землю. Ребекка толкнула ворота, и они с мучительным скрежетом растворились.
Только теперь Ребекка оглянулась. Запах кислоты исчез, она была одна. Девушка улыбнулась. Чувство страха сладкой истомой отдавалось в желудке, придавая ногам приятную легкость. Она откинула развевающиеся на ветру волосы и одернула пальто. Порыв ветра захлопнул ворота. Ребекка толкнула их и прошла по направлению к дверям часовни.
К входу вели поросшие мхом, потрескавшиеся ступени. Двери, как и ворота ограды, были закрыты. Легко, как легко угасает бриз, ее страх прошел. Она опять вспомнила Мелроуза, его опасения и предостережения по поводу часовни святого Иуды. Ребекка покачала головой.
— Нет, — прошептала она себе, — нет, теперь я сама.
Там, внутри, были мемуары лорда Байрона, которые ее мать так долго искала и которые она, Ребекка, скоро будет держать в руках. Почему она стоит в нерешительности? Ребекка снова покачала головой и повернула ключ.
Внутри часовни тьма была непроглядная. Ребекка специально не взяла с собой фонарик. Держась в темноте за стенку, она наткнулась на какие-то полки. Она пошарила пальцами, нашла спички и, на полке ниже, коробку свечей. Ребекка взяла свечу и зажгла ее. Затем обернулась, чтобы осмотреть внутренность часовни.
Там было пусто. Только в конце помещения находилось распятие. Оно было резное и расписанное в византийском стиле. На нем был изображен Каин, осуждаемый Ангелом Господним. Внизу, под ними, изображенный более ярко, притаился Дьявол. Ребекка всматривалась в распятие. Ее поразило изображение Каина. Лицо его было прекрасно, но искажено ужасной агонией, однако не от клеима, выжженного на лбу, а от более глубокой муки, вызванной страшной утратой. С губ его стекала струйка крови.
Ребекка повернулась и пошла Ее шаги гулко отдавались в пустом зале. В дальнем конце часовни она увидела надгробие, возвышающееся над полом; оно было украшено древними каменными колоннами. Ребекка встала на колени, чтобы рассмотреть надпись на надгробии, но никакой надписи не увидела, только полоску полустершегося металла. Она взглянула на могильную плиту, свеча задрожала в руке, и тени заплясали над нечеткими узорами и письменами. Ребекка поднесла свечу ближе. На вершине камня был вырезан тюрбан, пониже, едва разборчиво, были начертаны какие-то слова. Ребекка всмотрелась в них. К ее удивлению, надпись была арабская. Она перевела ее — стихи из Корана, оплакивающие умершего. Ребекка поднялась и в недоумении покачала головой. Мусульманская могила в христианском храме? Не удивительно, что здесь никогда не проходили службы. Она снова опустилась на колени возле надгробия и попробовала надавить на него — никакого результата. Порыв ветра задул свечу.
При свете зажженной спички она увидела ковер, раскинутый позади надгробия. Он был великолепен, турецкой работы (как решила она) и, вероятно, такой же древний, как и могильная плита. Она откинула его край, сначала осторожно, а затем порывисто, с внезапным волнением. Под ковром обнаружился деревянный люк, крышка которого была прикреплена к полу навесным замком. Ребекка отбросила в сторону ковер и вставила в скважину замка третий, последний, ключ. Он повернулся. Она сдернула замок и глубоко вздохнула. Затем ухватилась за крышку люка, и та медленно отвалилась. В зияющую пустоту вели две ступеньки. Набрав в карман побольше свечей, Ребекка осторожно сделала первый шаг, но внезапно задержала дыхание. Страх вернулся, он заполнил собой все тело, делая ее легкой, почти невесомой; страх был таким чувственным и приятным, не похожим ни на одно наслаждение, которое она когда-либо испытывала. Он овладел ею, он звал ее. Повинуясь этому зову, она стала спускаться вниз; вид часовни сквозь квадрат люка уходил от нее все дальше и вскоре совсем исчез.
Ребекка достигла последней ступеньки, остановилась и подняла свечу. Пламя свечи запрыгало и увеличилось, заполнив все вокруг желтыми, оранжевыми и золотыми бликами, куда бы ни посмотрела Ребекка. Склеп был удивительным, он не был похож на место упокоения, скорее — на комнату удовольствий в восточном гареме, украшенную множеством красивых вещей: гобеленами, коврами, серебром, золотом. Из угла доносилось тихое журчание. Ребекка обернулась и увидела крошечный фонтан с двумя изысканно вырезанными кушетками по бокам.
— Что это за место? — прошептала она. — Зачем это все здесь? И где мемуары?
Она подняла свечу выше и осмотрела комнату. Бумаг она нигде не видела. Она стояла как вкопанная, не зная, с чего начать. И вдруг ей послышался шорох.
Ребекка замерла, стараясь не дышать. Кровь внезапно застучала в ушах, но она, затаив дыхание, напрягла слух, чтобы еще раз услышать звук. Ведь он был, она точно его слышала. Стук ее сердца был таким громким, что, казалось, заполнил всю комнату. Вокруг стояла тишина. Она жадно глотнула воздуха и в этот момент опять услышала шум. Ребекка замерла. Она зажгла вторую свечу и подняла обе свечи над головой. В дальнем конце помещения возвышалось, подобно алтарю в церкви, изящное каменное \ надгробие. За ним находилась дверь — арка в арабском стиле.
Ребекка медленно приблизилась к надгробию, держа обе свечи перед собой. Звук возобновился, она напрягла слух. Он был похож на слабое царапанье. Ребекка остановилась. Сомнений не было. Звук доносился из могилы.
Не веря в реальность происходящего, она приблизилась к надгробию. Царапанье, похоже, усилилось. Ребекка внимательно осмотрела крышку надгробия. Там, похороненные под слоем пыли, были начертаны слова. Она смахнула пыль рукой и прочла открывшуюся ей надпись.
В объятиях вечных их сердца срослись,
Но смерти нет, они живут в веках,—
Придет ли час, чтоб вздох их разлучить?
Байрон. Ребекка сразу же узнала его стихи. Да, это Байрон. Она еще раз прочла строки, тихо произнося их вслух, как вдруг скрежет усилился, и свет свечи начал дрожать от спертого воздуха в склепе. Внезапный страх, подобно тошноте, подступил к ее горлу. Шатаясь, она подошла к надгробию, уперлась в него и с остервенением стала толкать могильную плиту, приготовившись к самому худшему. Крышка слегка подалась и начала понемногу сдвигаться. Ребекка толкнула ее сильнее, и та наконец слетела. Девушка опустила свечи и заглянула в могилу.
На нее кто-то смотрел. Ребекке хотелось закричать, но в горле у нее пересохло. Существо лежало неподвижно, только живые глаза желтым светом мерцали из глазниц, а все тело было высохшим, вытянутым, невообразимо древним. Существо начало подергивать носом, вернее лоскутком кожи над треснувшей переносицей. Оно оскалило рот. Презрительно фыркнуло и зашевелилось, его руки-кости, покрытые сморщенными кусками мертвого мяса, простерлись к краям могилы, его острые когти скребли камень. Тварь села, стуча зубами. Когда она пошевелилась, облако пыли, вылетевшей из складок ее кожи, повисло в воздухе. Ребекка чувствовала эту пыль во рту, на глазах; хлопья мертвой кожи кружились в воздухе, ослепляя ее, вызывая приступ удушья и головокружения. Она протерла глаза. Что-то прикоснулось к ней. Она вгляделась. Это была тварь. Существо прикоснулось к ней снова, его лицо подергивалось, а рот бы/i подобен глубокой ране, зияющей между челюстями. Ребекка услышала собственный крик. Хлопья мертвой кожи попали ей в горло. Она поперхнулась. Склеп завертелся перед глазами, и она упала на колени.
Когда Ребекка очнулась, существо, подобно стервятнику, сидело на краю надгробия, презрительно фыркая на нее носом и щеря пасть. Оно крепко вцепилось в края надгробия и, казалось, дрожало, словно сопротивляясь падению вниз. Ребекка заметила, что на впалой грудной клетке колыхались ссохшиеся груди, подобно двум мозолям. Неужели это когда-то было женщиной? А теперь? Чем оно стало теперь?
Ребекка внезапно осознала, что ее страх прошел. Она еще раз взглянула на существо, но лишь на мгновение, потому что веки ее налились свинцом. Ей показалось, что все происходящее — сон. Она попыталась встать, но не могла даже пошевелиться, голова, тяжелая, как после опиума, медленно упала на грудь. Чьи-то руки подхватили Ребекку. Тупая боль пронзила ее горло. Кровь теплой струйкой потекла по коже. Чей-то палец поглаживал ее шею. Получаемое от этого удовольствие было восхитительно. «Чей это палец?» — спрашивала она себя. Нет, не существа — оно все еще нависало над нею туманной тенью. И вдруг Ребекка услышала голос, самый прекрасный голос, который она когда-либо слышала.
— Это она, — прошептал голос. — Ты обещал ее мне. Это она! Посмотри, посмотри, ты видел ее лицо?
Ребекка попыталась сбросить оковы сна, чтобы продлить очарование этого голоса, но слова уже затихали во тьме. Чернота была атласная и приятная на ощупь.
При этом Ребекка полностью осознавала происходящее. Она ощущала, как кровь пульсирует в венах, чувствовала жизнь своего тела и души. Она не знала, сколько пролежала в этом месте. Вскоре она встала на ноги, поднялась по ступенькам, пересекла часовню, но вспомнила все только тогда, когда холодный ветер лондонской ночи подул ей в лицо. Она шла по бесконечным темным улицам. Кто-то был рядом с ней. Она начала дрожать от внутреннего холода, но кожа ее была горячей, и рана на шее жгла, как расплавленное золото. Девушка остановилась и долгое время неподвижно стояла.
Она наблюдала, как силуэт в длинном черном пальто удаляется от нее. Ребекка осмотрелась по сторонам. Справа текла темная и холодная Темза Ненастье утихло, и воцарилась неестественная тишина. Ничто живое не нарушало спокойствия.
Ребекка обхватила себя руками и задрожала. Она видела впереди фигуру, шедшую вдоль набережной. Человек хромал, в руках у него была трость. Ребекка нащупала свою рану. Боль уже начала стихать. Девушка снова поискала глазами человека с палкой. Он исчез. Затем Ребекка увидела его еще раз, пересекающего мост Ватерлоо. Силуэт достиг противоположного берега и пропал.
Ребекка бесцельно блуждала по безлюдным улицам Лондона. Она потеряла все представления о времени и пространстве. Кто-то попытался остановить ее, указывая на ее рану и предлагая помощь, но она отстранила прохожего, даже не взглянув на него. Начиналось утро, а Ребекка все продолжала идти. Она стала различать шум уличного движения и тихое пение птиц. Алые лучи солнца озарили восток. Ребекка заметила, что вновь идет вдоль реки. В первый раз за эту ночь она посмотрела на часы. Шесть утра. «Какая же я легкомысленная!» — поразилась Ребекка Боль пронзила ее шею. Девушка прислонилась к фонарному столбу, поглаживая шею рукой, чтобы унять боль.
Впереди, на берегу реки, она увидела толпу людей. Ребекка пошла туда. Все смотрели в воду. Ребекка увидела среди них полицейских с баграми. Вскоре они подцепили добычу — истекающая водой куча тряпья висела на багре. Ее перекинули через парапет набережной, и она с глухим стуком упала на мостовую. Полицейский склонился над кучей, разгребая тряпье.
— Что это? — спросила Ребекка человека, стоявшего перед ней.
Он не ответил. Она взглянула на утопленника. Глаза мертвеца смотрели на нее. На его мертвенно-бледном лице застыла улыбка, шею пересекала ужасная рана.
— Нет, — тихо произнесла Ребекка, — нет.
Подобно звуку падающего в колодец камня до нее медленно дошел смысл увиденного. Но понять то, что кто-то мог сделать такое с ней и с этим трупом, она была не в состоянии. Она почувствовала себя уставшей и больной. Повернувшись, Ребекка пошла прочь. Она инстинктивно подняла воротник пальто, чтобы никто не заметил рану на ее шее. Она начала подниматься по мосту, ведущему на Чаринг-Кросс.
— Ребекка!
Опять этот голос, который она слышала у часовни святого Иуды. Она в ужасе обернулась. Незнакомец, окликнувший ее, смотрел с ухмылкой.
— Ребекка! — Он еще раз усмехнулся. — Вы удивлены? Помните меня?
Ребекка повернула лицо. От незнакомца исходил отвратительный кислый запах. Она незаметно поморщилась, взглянув на человека еще раз. Он был молод, хорошо одет, почти с шиком, но длинные волосы были грязными и спутанными, и он странно держал шею, словно та была перекручена. Да, она вспомнила его. Силуэт на Мэйфейр-стрит. Увидев его при дневном свете, она поняла, почему он показался ей знакомым даже тогда.
— Букинист, — прошептала она. — Вы приносили мне письма, одно из которых было письмом Томаса Мура.
— Отлично, — гнусаво произнес он. — Я вижу, все опять возвращается. Для молодого человека весьма неприятно быть забытым хорошенькой девушкой. — Он снова ухмыльнулся.
Ребекка в очередной раз отвернула голову, спасаясь от его зловонного дыхания. Молодой человек казался безобидным. Он схватил Ребекку за руку, и когда она попыталась освободиться, он так крепко сжал ее
руку, что ногти глубоко вонзились ей в кожу.
— Давайте, — прошептал он, — двигайте своими хорошенькими ножками!
— Зачем?
— Я всего лишь ничтожный червь, я слушаю и повинуюсь.
— Повинуетесь чему?
— Всем невысказанным желаниям моего хозяина и господина.
— Господина?
— Господина! — выпалил он, брызгая слюной. — О да, мы все любим господина, не так ли?
Ребекка уставилась на него. Молодой человек что-то бормотал про себя, его лицо, казалось, было искажено злобой и отвращением. Он заметил ее взгляд и обнажил зубы в ухмылке.
— Я говорю вам сейчас как врач, — внезапно сказал он. — На вашем горле довольно-таки занятная рана.
Он остановил ее, взял за волосы и запрокинул ее голову. Увидев рану, он фыркнул и провел по ней языком.
— М-м-м, — он вдохнул. — Соленое с кровью — превосходное сочетание!
Он хихикнул и опять схватил ее за руку.
— Ну, поспешим же, пойдем! Люди могут заметить.
— Заметить что?
Молодой человек опять тихо забормотал что-то про себя, брызгая слюной.
— Я спросила, заметить что?
— О Господи, вы, глупая сука, неужели не видите? — вдруг пронзительно выкрикнул он, показывая на толпу возле трупа. — Ваша рана, — закричал он, вытирая слюну с губ, — это то же самое. Ублюдок, чертов ублюдок, он убил его, но не вас, ублюдок, он не убил вас.
Его голова нервно задергалась и закачалась на кривой шее.
— Ублюдок, — не переставая бормотал он, — ублюдок… — И его голос утих.
Ребекка остановилась.
— Вы знаете, кто совершил эту ужасную вещь? — спросила она, кивнув на другую сторону моста.
— О да, — он начал напевать. — О да, о да, о да!
— Кто?
Молодой человек подмигнул.
— Вам следует знать. Вам лучше знать.
Ребекка машинально поглаживала шею.
— Лорд Рутвен? Вы его имеете в виду? Лорда Рутвена?
Молодой человек захихикал своим мыслям, затем остановился, и его лицо исказилось гримасой ненависти. Ребекка стала сопротивляться и попыталась освободиться.
— Оставьте меня в покое, — велела она, отступая.
Он повел своей кривой шеей.
— Я уверен, что он хотел бы видеть вас еще.
— Кто?
— Вы знаете.
— Я не знаю. Нет. Это невозможно.
Он снова взял Ребекку за руку и пристально вгляделся в ее лицо.
— Черт побери, — прошептал он. — Черт побери, как вы великолепны. Великолепнее всех, кого я когда-либо посылал.
Он потянул ее по мосту.
— Ну же, ну же, не сопротивляйтесь, а то на вашей нежной коже останутся синяки.
Ребекка в оцепенении следовала за ним.
— Лорд Рутвен, — прошептала она, — кто он? Молодой человек закудахтал.
— Вы меня удивляете! Такая образованная девушка!..
— Что вы имеете в виду?
— Лучше бы вы не знали, кем был лорд Рутвен.
— Я знаю, что лорд Рутвен был…
— Да? — Он одобрительно усмехнулся.
— Он был персонажем, э…
— Да?
— Небольшого рассказа.
Букинист кивнул и захихикал.
— Очень хорошо. И как он назывался?
Ребекка сглотнула.
— «Вампир». Но… но это был всего лишь рассказ…
— Правда? Рассказ? Так ли это? — Его рот искривила зловещая ухмылка. — И кто написал его, этот рассказ?
— Его звали Полидори.
Он еще раз усмехнулся.
— Какая слава! Какая великая посмертная слава! — Он вплотную приблизил к Ребекке лицо, обдав ее едким запахом. — И этот Полидори, — прошептал он, — кем он был?
— Личным врачом…
— Ну? Ну?
— Байрона. Лорда Байрона Он медленно кивнул.
— Он, должно быть, знал, о чем писал, как вы думаете? — Он взял ее за подбородок. — Во всяком случае, так думала ваша мать.
Ребекка пристально посмотрела на него.
— Моя мать? — прошептала она.
Букинист притянул ее за руку так сильно, что она чуть не упала.
— Да, ваша мать, конечно же, ваша мать. Пойдемте, — бормотал он, — какая же вы дура, пойдемте.
Ребекка снова стала сопротивляться, и ей удалось вырваться. Она побежала.
— Куда вы? — кричал он вслед.
Ребекка не отвечала, но смех этого странного человека преследовал ее даже на мосту. Вокруг не было ничего, кроме машин и бессмысленных зевак. Она поймала такси.
— Вам куда? — спросил водитель.
Она сглотнула. Ничего не приходило на ум, и вдруг ее осенило.
— Мэйфейр, — прошептала она, забираясь в машину. — Фейрфакс-стрит, тринадцать.
Такси тронулось. Ребекка сидела, обхватив плечи руками, чтобы унять дрожь.
Глава 2
Легенда о вампирах до сих пор жива в Леванте. Римляне называли их «Vardoulacha». На моей памяти был случай, когда целая семья была испугана криками ребенка, вызванными, каким показалось, посещением вампира. Треки всегда произносят это слово с ужасом.
Лорд Байрон. Записки к «Гяуру»
— Никогда не стоит подходить к вампиру слишком близко.
Это был все тот же сладкий голос, который Ребекка слышала в склепе. Она пошла бы на что угодно, лишь бы услышать его вновь. Теперь она поняла, что значит слушать пение сирен.
— Вы, несомненно, знаете об этом. И все же вы здесь. — Голос замер на мгновение. — Я ожидал и боялся этого.
Ребекка пересекла комнату. Бледная рука появилась из тьмы.
— Прошу вас, садитесь.
— Нельзя ли включить свет?
— Ах да, я забыл, вы не можете видеть в темноте.
Ребекка указала на шторы, за которыми был слышен уличный шум Лондона.
— Можно раздвинуть их?
— Нет, ибо сюда может ворваться зима.
Ребекка наблюдала, как он встал и, хромая, пересек комнату.
— В Англии зима заканчивается в июне и начинается в июле. Вы должны простить меня. Сам вид ее мне невыносим. Я был создан, чтобы наслаждаться солнечными лучами.
Вспыхнула спичка, и Ребекка со спины узнала человека, которого видела этой ночью на набережной. Мерцающий золотистый свет заполнил комнату. Склонившаяся фигура колдовала над пламенем.
— Надеюсь, вы ничего не имеете против лампы, — сказал он. — Я привез ее из моего первого путешествия. Согласитесь, иногда бывают обстоятельства, когда электричество совсем неуместно.
Вампир рассмеялся и повернулся, держа лампу у своего лица. Ребекка поежилась в своем кресле. Она не могла ошибиться в том, кто был перед ней. Темные кудри обрамляли бесплотную бледность лица, черты которого были столь хрупкими, словно оно было высечено изо льда; ни признака света, ни тепла, и все же алебастровое это лицо, казалось, светилось каким-то внутренним огнем Он не был тем лысым тучным человеком с гнилыми зубами, который нашел свою смерть в болотах Миссолунги. Возможно ли то, что он стоит сейчас перед ней и к нему чудом вернулось обаяние молодости?
Ребекка глаз не могла от него оторвать: «Какое прекрасное бледное лицо», — бормотала она про себя. И оно действительно было прекрасным, божественным в своей красоте, будто лик ангела, явившегося из других миров.
— Этого не может быть, — произнесла наконец Ребекка.
Лорд Байрон опустил лампу и, прихрамывая, вернулся к своему креслу. В этот момент Ребекка почувствовала какое-то движение позади себя. Она обернулась, но ничего не смогла разглядеть в темноте. Лорд Байрон улыбнулся и негромко свистнул. На свет вышел большой белый пес. Он посмотрел на Ребекку, зевнул и опустился у ног хозяина. Лорд Байрон потрепал собаку по голове, в то время как его вторая рука подпирала подбородок. Он пристально смотрел на Ребекку. Его глаза сверкали, и слабая улыбка кривила губы.
Ребекка откинула волосы назад.
— Моя мать… — Ей хотелось закричать. — Вы убили ее? — Опасаясь услышать ответ, она долго сидела в молчании. — Я пришла за мемуарами, — сказала она наконец.
— Никаких мемуаров не существует.
Ребекка в удивлении подняла брови.
— Но у меня есть письма Томаса Мура…
— Да?
— Так что же случилось с копией, о которой он вам писал?
— Она уничтожена.
— Но… — Ребекка отрицательно покачала головой. — Я не понимаю! Почему?
— По той же самой причине, что и оригинал. Чтобы скрыть правду.
— Зачем же мне тогда дали письма Мура? Зачем меня заманили в склеп?
Лорд Байрон повел бровями.
— Заманили?
— Именно. Букинист. Ведь он работает на вас.
— На меня? Ничуть! Он мой вечный враг. И он всегда сам по себе.
— Кто же он?
— Тот, кого нужно опасаться.
— Как и вас? И как ту тварь в склепе?
Лорд Байрон нахмурился, но когда он заговорил, голос его был по-прежнему спокойным.
— Да, она — тварь. И я — такая же тварь. Самое опасное создание на свете. Тварь, которая попробовала вашей крови сегодня ночью.
Он провел кончиком языка по своим губам, и собака подняла голову, тихо рыча.
Ребекка собрала все силы, чтобы выдержать взгляд вампира И вновь вопрос, который она собиралась задать, застыл на ее губах.
— Но вы не убили меня! — пробормотала она. — Почему вы не выпили всю мою кровь, как у того бедняги у моста Ватерлоо?
Лицо лорда Байрона казалось холодным как лед. И все же едва заметная улыбка появилась на его губах.
— Потому, что вы носите фамилию Байрон. — Он кивнул. — Да, да, Байрон. В ваших жилах течет моя кровь. Моя кровь и кровь той бедной души.
Ребекка сглотнула.
— Та же кровь была и у моей матери, — произнесла она. Голос ее был хрупкий и далекий.
— Да.
— И она тоже… в тот раз… она пришла за вашими мемуарами.
— Я знаю.
— Что же с ней произошло?
Лорд Байрон молчал. Жалость и вожделение, казалось, сплелись в его взгляде.
— Что случилось с ней? Ответьте! Что с ней случилось?
И вновь никакого ответа. Ребекка облизала губы. Она бы задала вопрос еще раз, со стоном, полным муки и проклятия, но во рту у нее пересохло, и она не могла говорить. Лорд Байрон, улыбаясь, продолжал смотреть на нее. Его взгляд медленно скользнул по ее горлу, после чего он, хромая, прошелся по комнате. В его руках оказалась бутылка.
— Вас жажда не мучает? Надеюсь, вы не откажетесь от вина?
Ребекка кивнула. Она взглянула на этикетку: «Шато Лафит Ротшильд». Превосходная марка. Она взяла протянутый ей бокал, сделала глоток и затем выпила все залпом. Никогда в жизни она не пробовала ничего лучше. Она подняла глаза. Лорд Байрон равнодушно следил за ней. Он тоже отпил из своего бокала. Никаких признаков удовольствия не отразилось у него на лице. Он снова сел, и, хотя глаза его горели все тем же блеском, Ребекка наконец разглядела, что это глаза мертвеца.
— Даже теперь, — сказал он, — я почти жалею, что вы пришли.
Ребекка взглянула на него с удивлением.
— Но букинист сказал…
— Букинист? Забудьте о нем.
— Но…
— Говорю вам, забудьте о нем!
Ребекка сглотнула.
— Он сказал, вы ждете меня.
— Совершенно верно. Но что это значит? Мы жаждем этой пытки, самой безжалостной из всех.
— И букинист знал об этом?
Лорд Байрон едва заметно улыбнулся.
— Без сомнений. Зачем же еще ему было посылать вас ко мне?
Его апатия становилась невыносимой. Глаза его закрылись, будто бы избегая ее живого присутствия. Пес лизнул его руку, но лорд Байрон оставался недвижим, немой укор собственным иллюзорному обаянию и молодости.
— Что же вы ожидали от этой ночи?
— Ожидал?
— Да. — Ребекка запнулась. — Там, в гробнице. Вы ждали меня. На что вы надеялись?
Ужасная боль исказила лицо лорда Байрона. Он молчал, будто ожидая услышать подсказку из темноты. Он смотрел мимо нее, туда, откуда пришел пес. Но сейчас там не ощущалось никакого движения, ничего, кроме тишины, и лорд Байрон внезапно нахмурился и покачал головой.
— На что бы я ни надеялся, — сказал он, — это еще ждет своего часа.
Он рассмеялся, и из всех звуков, которые она слышала прошлой ужасной ночью, не было более жуткого, чем этот; смех его леденил душу.
— Я скитаюсь более двух веков, — поведал он, не сводя глаз с Ребекки.
И вновь ей показалось, что он обращается к темноте за ее спиной.
— Но никогда я не чувствовал себя столь отдаленно от жизни, которая была у меня когда-то. Каждый год, каждый день подобно звеньям в цепи сплетается бремя моего бессмертия. Груз, который теперь стал для меня совсем невыносимым.
Он замолчал и потянулся за бокалом. Он сделал глоток и сомкнул веки, как будто оплакивая забытый вкус вина. Не открывая глаз, он осушил бокал, а затем медленно, бесстрастно выронил его, и тот разлетелся вдребезги, ударившись о пол. Собака в ответ зарычала, несколько птиц вспорхнули в воздух из дальнего угла комнаты. Ребекка раньше не видела их и невольно подумала: какие еще твари притаились в темноте за ее спиной? Птицы угомонились, покой восстановился, а лорд Байрон вновь открыл глаза.
— Непостижимо, — сказал он, — как быстро мы все забываем и наша память притупляется. И все же, глядя сейчас на вас, я вспоминаю, как был полон жизни когда-то.
— Это пытка для вас?
— И пытка и наслаждение. Как неотделимы они друг от друга.
— Сейчас они опять разгораются — эти огоньки ваших воспоминаний?
Лорд Байрон слегка склонил голову. Его губы дрогнули.
— Найдете ли вы силы погасить их в себе? — спросила Ребекка. — Или лучше поддерживать их тление?
Лорд Байрон улыбнулся. Ребекка наблюдала за ним.
— Скажите же, — промолвила она.
— Зачем?
— У вас нет выбора.
Вампир внезапно захохотал.
— Да как сказать… Я мог бы убить вас. Это, возможно, позволило бы мне забыть все на время.
Было тихо. Ребекка почувствовала взгляд лорда Байрона на своем горле. Но страх больше не терзал ее. Она ждала.
— Говорите же, — повторила она мягко. — Расскажите, как это произошло. Я хочу знать.
Она замолчала, думая о своей матери, и тихо сидела не шевелясь.
— Я имею право знать.
Лорд Байрон поднял глаза на нее. Его губы вновь медленно расползлись в улыбке.
— Несомненно, — сказал он. — Полагаю, вы заслужили это.
Он замолчал, и его взгляд опять скользнул мимо Ребекки в темноту. На этот раз девушке опять послышался тихий звук. И лорд Байрон улыбнулся, словно тоже услышал его.
— Да, — кивнул он, по-прежнему смотря сквозь Ребекку. — Так тому и быть. Вы совершенно правы. Слушайте же и попытайтесь понять.
Он сложил руки на груди.
— Это произошло в Греции, — начал он. — Я тогда приехал туда в первый раз. Восток всегда занимал мое воображение. Но могли я предположить что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее правду. — Улыбка сошла с его лица, и оно вновь приобрело отсутствующее, вялое выражение. — Ведь я верил, что суровый рок, подстерегающий меня, был предназначен мне с самого рождения. Моя мать рассказывала мне о проклятии, висящем над родом Байронов. Она ненавидела и любила Байронов за то, что отец сделал с ней. Он очаровал ее, женился на ней, а затем лишил ее состояния — он тоже был своего рода вампиром, а следовательно, как я полагаю, хотя никогда не видел его, он был моим истинным отцом. Оставшись в нищете, моя мать часто говорила мне об унаследованной крови Байронов, текущей в моих жилах. «Каждый последующий лорд Байрон, — твердила она, — был порочнее предыдущего». Она рассказала мне о человеке, от которого я унаследовал свою фамилию. Он убил своего соседа Он жил в полуразвалившемся аббатстве и мучил тараканов. Я смеялся над этим, приводя мать в ярость. Я поклялся, что когда стану лордом Байроном, то найду своему титулу достойное применение.
— Так и случилось. — Из уст Ребекки эти слова прозвучали не столько вопросом, сколько утверждением.
— Да, — кивнул лорд Байрон. — На самом деле, боюсь, я вырос довольно распутным. Видите ли, я любил аббатство, романтический дух которого приводил меня в дрожь, поскольку, в конце концов, в те времена я еще не был таким мрачным мизантропом и склонен был объяснять свои страхи следствием обильных возлияний. Как-то раз мы откопали череп какого-то бедного монаха и превратили его в сосуд для вина; я председательствовал, облаченный в аббатские одежды, — таким образом мы и несколько деревенских девиц изображали жизнь древнего монастыря. Но даже кощунственные забавы не вечны. Я пресытился и заскучал, мое сердце заныло от тоски — от этого самого страшного проклятия. Меня потянуло в дорогу. Для высокородных и, как я, погрязших в грехе людей было вполне естественным занятием объехать континент, который, с точки зрения англичан, был наиболее подходящим местом для молодежи, чтобы преуспеть на стезе порока. Я жаждал новых удовольствий, новых ощущений, всего того, для чего Англия была слишком мала, и того, что было столь доступно за границей. Итак, я решил отправиться в путь. Я с радостью наблюдал, как белые скалы Англии исчезают вдали.
Со мной был мой друг Хобхауз. Вместе мы изъездили Португалию, Испанию, затем отправились на Мальту и уже потом оказались в Греции. Когда мы подъезжали к ее берегам, пурпурной лентой обрамлявшим синеву моря, странное чувство влечения и страха перед ней овладело мной. Даже Хобхауз со своей морской болезнью прекратил блевать и уставился на эти скалы. Погода внезапно испортилась, и, когда я ступил на землю Греции, пошел дождь. Привица, куда мы прибыли, представляла собой унылое место. Сам по себе городишко был неприглядный и грязный, а все его жители, от порабощенных греков до их турецких хозяев, показались нам дикарями. И все же, несмотря на моросящий дождь, возбуждение не покинуло меня, поскольку я считал, проезжая по унылым улицам с их минаретами и башнями, что наша прежняя жизнь осталась далеко позади и мы стоим на пороге странного, неведомого мира. Мы покинули Запад и переступили границу Востока.
После двух дней, проведенных в Привице, мы были рады покинуть ее. В наши намерения входило повидаться с Али, албанским пашой, чья щедрость и жестокость завоевали ему славу одного из самых отъявленных негодяев Европы и чьи злодейства заставляли преклоняться даже самых кровожадных турок. Не многим англичанам удавалось проникнуть в Албанию, однако для нас соблазн посетить такую опасную и поэтическую страну был сильнее любых доводов рассудка Янина, столица владений Али, лежала к северу, за горами. Перед нашим отъездом нас предупредили о «клефти» — греческих разбойниках, обитавших в горах, поэтому помимо слуги и проводника нас сопровождали шестеро албанцев, вооруженных ружьями и саблями. Вы легко можете представить себе, в каком романтическом настроении мы отправились.
Скоро все следы обитания человека остались позади нас. Но, как мы впоследствии поняли, в Греции это было вполне естественно: мы могли ехать три или даже четыре дня и не встретить на пути ни одной деревушки, чтобы найти еды для себя и накормить лошадей, — таково было тогда незавидное положение Греции. Но отсутствие людей было с лихвой возмещено величием пейзажей, представавших перед нашим взором, когда мы переваливали через горы. Даже Хобхауз, который был чувствителен к таким вещам, как продавец из табачной лавки, иногда останавливал лошадь, чтобы насладиться вершинами Сули и Томароса, которые стояли полускрытые туманом и одетые снегом, отражая пурпурные лучи солнца, и с которых доносились до нас клекот орлов и иногда вой волков.
Когда однажды вечером над нами стала собираться гроза, я сказал Хобхаузу о своих опасениях, что мы можем заблудиться. Он кивнул и огляделся вокруг. Дорога сужалась под отвесными скалами — вот уже три часа, как мы не встретили ни одного человека Хобхауз пришпорил свою лошадь и подъехал к проводнику. Я слышал, как он спросил его, где мы собираемся заночевать. Проводник заверил нас, что бояться нечего. Тогда я показал, на тучи, нависшие над вершинами, и прокричал, что мы боимся промокнуть до нитки и поэтому нам в первую очередь нужно найти какое-либо убежище. Проводник пожал плечами и опять пробормотал, что все в порядке. Мы, конечно, сразу послали троих албанцев вперед, в то время как другие отстали, чтобы прикрывать нам тыл. Флетчер, слуга, бормотал про себя молитвы.
С первыми каплями дождя мы услышали звук выстрела. Хобхауз закричал на проводника, вопрошая его, какого дьявола здесь происходит. Проводник пробормотал что-то невразумительное, дрожа всем телом. Тогда Хобхауз достал свой пистолет. Мы оба пришпорили лошадей и погнали их в ущелье. Обогнув острый выступ скалы, мы узрели троих наших албанцев, бледных как мел, вопящих друг на друга и нервно ерзавших в седлах. Один из них все еще держал ружье (не было сомнений, что это именно он стрелял). «В чем дело? — спросил я. — На нас напали?» Албанец молча показал куда-то. Я и Хобхауз посмотрели в ту сторону и увидели могилу в тени утеса. Сучковатый кол был вбит в нее, а на нем висела окровавленная голова. Черты лица ее были очень бледны, но в то же время не были тронуты тлением.
Мы с Хобхаузом спешились.
— Невероятно, — сказал Хобхауз, уставясь на голову как на археологическую редкость. — Это какое-то крестьянское суеверие, я полагаю. Интересно, что бы это могло значить?
Я содрогнулся и закутался плотнее в свой плащ. Уже темнело, и дождь усиливался.
Хобхауз, чья вера в сверхъестественное начиналась и кончалась за кружкой пунша, все не мог оторвать глаз от проклятой головы. Я тронул его за плечо.
— Пойдем, — позвал я, — надо убираться.
Позади нас албанцы кричали на проводника.
— Он надул вас, — поведали они нам. — Это не та дорога. Она ведет в Ахерон!
Я кинул взгляд на Хобхауза Он повел бровями. Нам обоим было знакомо это название. По древнему поверью, Ахерон был рекой, по которой проклятые души плыли в ад. Если именно он лежал перед нами, то это значило, что мы намного отклонились от дороги, ведущей на Янину.
— Это правда? — спросил я проводника.
— Нет, нет, — уверил он.
Я обернулся к албанцам.
— С чего вы взяли, что мы едем к Ахерону?
Один из них показал на кол и произнес одно лишь слово, которое было мне незнакомо:
— Vardoulacha.
Лорд Байрон прервал рассказ. Он медленно повторил слово по слогам:
— Vardoulacha.
Ребекка вздрогнула.
— Что это значит?
Лорд Байрон улыбнулся.
— Как вы догадались, я задал охраннику тот же самый вопрос. Но он настолько обезумел от страха, что толку от него было мало. Он все повторял это слово: «Vardoulacha, vardoulacha, vardoulacha». И вдруг, крикнув мне: «Господи, мы должны поворачивать назад!», он посмотрел на своих помощников и погнал лошадь вверх по дороге в обратную сторону.
— Что, черт возьми, с ними происходит? — спросил Хобхауз, наблюдая, как два албанца последовали за своим товарищем. — Мне казалось, что эта чернь намного храбрее.
Где-то вдали прогремел гром, и над неровным силуэтом горы Сули показался первый зигзаг молнии. Флетчер начал ныть.
— Проклятие, — промолвил я. — Почему мы, как все нормальные путешественники, не поехали в Рим?!
Я развернул коня.
— Ты, — сказал я, указывая на проводника, — ни шагу отсюда.
Хобхауз уже скакал назад по дороге. Я присоединился к нему. Каких-то десять минут мы ехали под дождем. Черные тучи нависли над нами, отчего вдруг сделалось темно, как ночью.
— Байрон, — прокричал Хобхауз, — где эти трое?
— Какие трое?
— Ну те три головореза, куда они подевались, ты их видишь?
Я напряженно всматривался сквозь плотную стену дождя, но все, что я смог разглядеть, были только уши моей лошади.
— Черт бы их всех побрал, — пробурчал Хобхауз, вытирая свой нос. — Эх, добраться бы мне до этих парней, я бы с ними поговорил… — Он взглянул на меня. — Только бы нам выбраться отсюда…
В это мгновение моя лошадь подалась назад и встала на дыбы, дрожа от страха. Молния осветила дорогу, и я крикнул:
— Погляди туда!
Мы не спеша подъехали к трем лежащим на земле телам. У всех троих были перерезаны глотки, но больше мы ничего не могли разглядеть. Я взял горсть земли с ближайшей скалы и бросил ее на мертвецов. Мы молча наблюдали, как потоки воды смыли эту землю.
Вдалеке, приглушенный шумом ливня, раздался глухой крик. Какой-то миг мы еще слышали его, затем он затих. Мы погнали лошадей вперед, и я чуть было не наехал на четвертый труп, а вскоре мы обнаружили и двух других охранников. Горло у того и у другого также оказалось вспорото. Я спешился и склонился над одним из них, чтобы исследовать рану. Густая багряная кровь осталась на моих пальцах. Я обернулся к Хобхаузу.
— Они, похоже, все еще поблизости, — сказал он, осматриваясь по сторонам, — где-то здесь.
Мы прислушались. Но единственное, что мы смогли услышать, был шум дождя.
— Ну и дела, — промолвил Хобхауз.
— Да, — согласился я.
Мы вернулись к тому месту, где оставили Флетчера и проводника. Проводника, разумеется, уже не было, Флетчер же яростно молился своему Богу. Мы с Хобхаузом, будучи уже вполне уверены во враждебности Всевышнего по отношению к нам, решили, что ничего не остается, кроме как продолжить путь в надежде найти укрытие раньше, чем кинжал разбойника настигнет нас. Мы направились к Ахерону. Молния сверкала позолотой в потоках ливня, который небесным проклятием обрушивался на нас. Один раз нам показалось, что впереди мелькнула шапка пастуха, но, подъехав поближе, мы увидели, что это всего лишь турецкое надгробие с высеченным на нем греческим словом «Eleutheria», что значит «Свобода».
— Спасибо, что нам еще обрезания не сделали, — прокричал я Хобхаузу.
— Да, уж, — кивнул он, — эта дьявольская страна так и кишит дикарями. И зачем я покинул Англию?!
Лорд Байрон остановил рассказ и улыбнулся своим воспоминаниям.
— Хобби всегда был горе-путешественником.
— Но о вас этого не скажешь, — заметила Ребекка.
— Вы правы. Какой толк стремиться в чужие страны и после жаловаться, что они не похожи на Риджент-парк?
— Но в ту ночь…
— О нет, — лорд Байрон покачал головой. — Может, вы и сочтете это странным, но опасности, какого бы рода они ни были, всегда вдохновляли и укрепляли мой дух. Нет на земле ничего страшнее тупой скуки. Но там, в горах, когда каждую минуту мы ожидали нападения разбойников, воистину мы испытали возбуждение, которое нелегко забыть.
— И все же вы забыли его?
— Да, — лорд Байрон нахмурился, — да, в конце концов оно ушло из моей памяти. Чувство страха осталось, но и оно потеряло свою прелесть, отступив перед скукой, и Хобхауз тоже не мог не чувствовать этого.
Чем дальше мы продвигались, тем сильнее мы это ощущали, страх становился почти физическим и подобно дождю орошал наши головы. Его эманация поглощала весь наш боевой дух. Флетчер снова начал бормотать свои молитвы.
Вдруг Хобхауз выпрямился в седле.
— Там, впереди, кто-то есть, — сказал он, указывая на пелену утихающей бури. — Видите?
Я посмотрел туда, но увидел лишь очертания фигур.
— Ты куда? — спросил Хобхауз, когда я пришпорил коня.
— Ну а что нам еще делать? — ответил я ему.
Легким галопом я поскакал в дождь.
— Эй, там! — прокричал я. — Слышите меня? Нам нужна помощь! Эй!
Ответа не последовало, только вода шумела о камни. Я огляделся. Кто бы они ни были, те силуэты, но их и след простыл.
— Эй, — вновь позвал я, — пожалуйста, отзовитесь!
Я привстал в седле. Впереди что-то едва слышно прогромыхало и тут же опять затихло. Я заерзал, чувствуя, как страх парализует меня, проникая в каждую клетку моего тела.
Внезапно кто-то схватил мою лошадь за узду. Я посмотрел вниз, в смятении взявшись за ружье, но, прежде чем я смог высвободить его, человек, державший мою лошадь под уздцы, вскинул руки и прокричал греческое приветствие. Я тоже приветствовал его, опустился в седло и рассмеялся с облегчением. Незнакомец внимательно осматривал меня. Это был старик с седыми усами и хорошей осанкой. Он назвался Горгиу. К нам подъехал Хобхауз, и я рассказал старику, кто мы такие и что с нами приключилось. Это, казалось, нисколько не удивило его, и, когда я закончил, он какое-то время хранил молчание. Ничего не говоря, он просвистел, и из-за скалы вышли двое. Это были сыновья Горгиу — Петро и Никос. Петро сразу же мне понравился: крупный закаленный человек с сильными руками и честным лицом. Никое, без сомнения, был намного младше его и выглядел хилым и болезненным на фоне своего брата. Он был с головой укутан в плащ, и лица его было почти не разглядеть.
Горгиу сказал, что они все трое работают пастухами, и мы поинтересовались, можно ли здесь поблизости укрыться от грозы. Он покачал головой. Тогда мы спросили, далеко ли до Ахерона На это он ничего не ответил, только лицо его исказилось, и он придвинулся к Петро. Они начали торопливо шептать какие-то слова, из которых мне удалось уловить только то, что я уже слышал от нашего охранника: «Vardoulacha, vardoulacha». Наконец Горгиу вновь обратился к нам. Из его объяснений стало ясно, что Ахерон — крайне опасное место. Они привали в эти края по необходимости — из-за болезни Никоса Но нам он советовал поскорее убираться отсюда. Мы спросили, есть ли поблизости какая-нибудь деревня. Горгиу покачал головой. Тогда мы спросили его, почему Ахерон считается таким опасным. Горгиу пожал плечами. Может, из-за разбойников, спрашивали мы, из-за бандитов? Нет, никаких бандитов здесь нет. Но чего тогда опасаться? Опасно, и все тут, сказал Горгиу, снова пожимая плечами.
Тут в разговор вступил Флетчер.
— Мне не важно, опасно здесь или нет, — пропыхтел он, — лишь бы поскорее под крышу.
— Да, твой слуга — философ, — заметил Хобхауз, — и я абсолютно с ним согласен.
Мы сказали Горгиу, что мы бы хотели присоединиться к нему. Видя нашу решимость, он не стал возражать. Старик двинулся вперед по тропинке, но Петро, вместо того чтобы следовать за ним, потянулся к Никосу.
— Вы бы не могли взять его к себе на лошадь? — спросил он.
Я ответил, что с удовольствием, но стоило брату попытаться поднять Никоса, как тот подался назад.
— Ты болен, — сказал ему Петро, словно напоминая, и Никое в конце концов позволил посадить себя на лошадь.
Из глубины его капюшона на меня сверкнули темные, почти девичьи глаза. Он прильнул ко мне, и я спиной почувствовал его хрупкое и мягкое тело.
Тропа стала спускаться вниз. Вскоре рокот, который я слышал раньше, стал довольно громким, и Горгиу, тронув меня за руку, указал:
— Ахерон…
Я припустил лошадь. Древний каменный мост предстал моему взору. Прямо под ним бурлил и кипел поток, волнами падающий с обрыва где-то далеко внизу, а затем тихо пропадающий между двух утесов. Буря поутихла, и слабый свет пятном начал растекаться по небу, но его лучи не достигали черных вод Ахерона Река была темна, темна как ночь.
— Говорят, что в старину, — заговорил Горгиу, стоя сбоку от меня, — здесь работал лодочник, отвозивший мертвых в ад.
Я пристально взглянул на старика.
— Что, прямо здесь?
Горгиу указал на ущелье.
— Вот отсюда он отплывал— Он взглянул на меня. — Но теперь, разумеется, святая церковь хранит нас от злых духов.
Он поспешно отвернулся и пошел дальше. Я бросил последний взгляд на воды Ахерона и последовал за ним.
Почва под ногами становилась все более ровной. Скалы уступали место траве, и где-то впереди замаячили огоньки.
— Деревня? — спросил я у Горгиу.
Он кивнул Но, как оказалось, нашим местом назначения была едва ли даже деревушка — просто несколько захудалых лачуг и крошечная гостиница. За гостиницей была видна развилка дороги.
— Янина, — сказал Петро, указывая на одно из ответвлений.
На дороге не было никакого указателя, но зато там торчал целый лес кольев, наподобие того, что один из наших охранников нашел в горах. Я объехал гостиницу, чтобы рассмотреть их поближе, но Никое, увидев колья, вцепился мне в руки.
— Нет, — прошептал он с отчаянием, — нет, не ходите туда.
Его мелодичный и мягкий, похожий на женский, голос очаровывал меня. Но прежде чем развернуть лошадь, я, к своему облегчению, успел заметить, что никаких зловещих украшений на кольях не было.
Комнаты в гостинице выглядели крайне убого, но после наших скитаний по горам и зрелища мрачного Ахерона я почувствовал себя словно в раю. Хобхауз, как обычно, ворчал, недовольный жесткой кроватью и рваным бельем, но не стал спорить со мной, когда я сказал, что это все же лучше, чем лежать в могиле, поэтому ужин застал нас в хорошем расположении духа. Поев, мы отправились на поиски Горгиу. Мы обнаружили его сидящим у очага и точившим свой нож. Длинное страшное лезвие сразу же напомнило мне о наших мертвых охранниках, лежащих в грязи. Но все же и Горгиу и Петро внушали мне симпатию своими строгостью и прямотой настоящих горцев. Тем не менее оба они явно нервничали. Они расположились у огня с кинжалами у пояса, и хотя между нами несомненно установились вполне доброжелательные отношения, взгляды их были все время прикованы к окнам. Я даже спросил их, куда это они смотрят. Горгиу промолчал, а Петро расхохотался и пробормотал что-то о турках. Но я не поверил ему — Петро был не из тех, кто мог бы испугаться каких-либо врагов. Но, с другой стороны, если не турок, то кого же еще можно было здесь бояться?
За окном раздался вой собаки. Хозяин гостиницы поспешил к двери, отодвинул задвижку и высунулся наружу. Послышался приближающийся топот копыт, шлепающих по грязи. Я оставил Горгиу и тоже подошел к дверям. Я увидел хозяина, который быстро бежал по дорожке. Струйки тумана в бледно-зеленых сумерках сочились из земли, мешая что-либо разглядеть, кроме очертаний черных вершин, так что с таким же успехом я мог бы всматриваться в мертвую реку ада; и я с легкостью мог вообразить, что сейчас мне явится старый лодочник Харон, направляющий полную мертвецов посудину в опускающуюся ночь.
— Вам следует быть более осторожным здесь, — услышал я девичий голос позади себя.
Я обернулся, но обнаружил всего лишь Никоса.
Лорд Байрон замолчал Его отсутствующий взгляд блуждал в темноте за спиной Ребекки. Он склонил голову, а затем снова поднял ее и пристально посмотрел Ребекке в глаза.
— В чем дело? — спросила она, смущенная необычным выражением, его лица.
Лорд Байрон покачал головой.
— Скажите же.
Странная кривая ухмылка мелькнула на его лице.
— Я просто подумал, как это присуще всем поэтам, что красота более всего подвержена тлению.
Ребекка посмотрела на него.
— Глядя на вас, этого не скажешь.
— Вы правы, — улыбка его померкла, — но Никос был намного красивее меня. Вы только что напомнили мне его. Он стоял передо мной там, в трактире, точно так же, как и вы здесь сейчас сидите. Капюшон скрывал его волосы, но все же я мог различить красоту его лица. Его глаза — черные, как сама смерть, его ресницы — тоже иссиня-черные. Он опустил голову, и на его лицо легла тень, а я не мог оторвать от него взгляд, пока Никое не покраснел и не отвернулся. Но он не ушел, а, наоборот, последовал за мной в туман. Я чувствовал, что он хочет взять меня за руку.
Навстречу выехали два путешественника. Женщина и священник, оба в черном. Женщина прошла мимо нас и скрылась в гостинице; я мельком увидел ее бледное заплаканное лицо. Священник остался снаррки и, когда хозяин подошел к нему, отдал какие-то распоряжения и двинулся к развилке. Хозяин трактира отвязал козу, находившуюся рядом с домом, и повел ее к вбитым в землю кольям, поспешая за гостем.
— Что они делают? — спросил я.
— Они хотят отвлечь vardoulacha запахом свежей крови, — ответил Никое.
— Vardoulacha… С тех пор как я здесь, я постоянно слышу это слово, vardoulacha. Что это значит?
— То мертвый дух, что смерти не подвержен… — Никое поглядел на меня, и наши глаза встретились в первый раз с того момента, как я заставил его покраснеть. — Vardoulacha пьет кровь. Он страшен. Вам лучше держаться от него подальше, поскольку более всего он любит человеческую кровь.
К нам подошел Хобхауз.
— Посмотри-ка на это, Хобби, — сказал я ему. — Будет о чем написать в твоем дневнике.
Мы втроем пошли по дорожке. Я увидел священника, стоявшего у канавы, над которой хозяин гостиницы держал козу. Бедное животное буквально верещало от страха, но внезапным взмахом руки хозяин оборвал блеяние козы, и кровь хлынула в канаву.
— Невероятно, — промолвил Хобхауз, — крайне удивительно.
Он повернулся ко мне.
— Байрон, помнишь «Одиссею» — когда Одиссей хотел призвать мертвых, он делал то же самое. Духи из загробного мира питаются исключительно кровью.
— Да.
Я прекрасно помнил этот эпизод. Мне всегда становилось не по себе, когда я представлял, как герой ожидает появления призрака из ада. Я посмотрел сквозь туман на дорогу, ведущую к Ахерону.
— И если он действительно вызывал умерших, то, по-видимому, происходило это именно здесь — у реки смерти.
Я нарисовал в своем воображении духов, мертвецов в белых одеждах, бормочущих и стенающих, толпой бредущих по дороге.
— Но, — обратился я к Никосу, — если vardoulacha и в самом деле столь опасен, зачем же они вызывают его?
— Когда-то он был мужем той женщины. Священник приехал, чтобы уничтожить его.
— Той женщины в гостинице? — спросил Хобхауз. — Которая только что приехала?
Никос кивнул.
— Она живет в деревне по соседству с нашей. Ее мужа похоронили несколько месяцев назад, но он до сих пор бродит по деревне, и люди боятся его.
Хобхауз захохотал, но Никое оставался серьезен.
— Это чистая правда, — сказал он.
— Но каким образом?
— Это он, без сомнения. У него еще при жизни нога усохла, и теперь, когда его видят, он хромает точно так же, как при жизни.
— Да, — шутливо кивнул Хобхауз, — это неопровержимое доказательство. Пускай же его убьют поскорее.
Никос кивнул.
— Они это сделают.
— Но почему они занимаются этим здесь, — спросил я, — в этой канаве?
Никос взглянул на меня удивленно.
— Потому что здесь Ахерон, — промолвил он.
Он указал на дорогу, по которой мы приехали вечером.
— По этой дороге мертвые приходят из ада.
Мы смотрели в канаву. Почти вся кровь уже вытекла из козы и образовала зловещую черную лужу на дне. Неподалеку я заметил свежий заготовленный кол, лежащий на земле. Священник повернулся к нам и жестом велел идти обратно в гостиницу. Упрашивать нас не пришлось. Горгиу и Петро, казалось, обрадовались нашему возвращению. Когда мы сели рядом у огня, Петро подошел к Никосу и обнял его. Он что-то говорил ему шепотом, возможно, ругал. Никос слушал безразлично, а затем высвободился из объятий брата. Он обратился ко мне:
— Не смейтесь над тем, что я вам рассказал, мой господин, — мягко сказал он. — Заприте ставни на ночь.
Я обещал ему сделать это. Никос помешкал и наконец, пошарив у себя в плаще, извлек небольшое распятие.
— Прошу вас, — промолвил он, — ради меня, не расставайтесь с этим.
Я взял крест. На вид тот был из золота, драгоценные камни изящно обрамляли его.
— Откуда он у тебя? — удивленно спросил я. — Странно видеть столь ценную вещь у сына пастуха…
Никос сжал мою руку.
— Не расставайтесь с ним, мой господин, — прошептал он. — Одному Богу известно, кто здесь шатается по ночам.
Он удалился внезапно, словно девушка, смущенная откровенностью со своим возлюбленным.
Перед тем как лечь спать, я сделал все, как просил меня Никос, и наглухо запер ставни на окнах. Хобхауз начал было шутить надо мной, но отпирать окна не стал. Мы оба заснули мгновенно, даже Хобхауз, который обычно долго ворочался и жаловался на клопов. Я повесил распятие на стене над головой, пожелав нам крепкого сна, но воздух был пыльный и спертый, и спалось мне плохо. Несколько раз я просыпался и заметил, что Хобхауз тоже взмок от пота и белье его смято. Раз мне почудилось, что кто-то скребется в стену снаружи. Помню, мне привиделось лицо, бледное, с диким взглядом имбецила, уставившегося на меня. Я проснулся, заснул опять, и на этот раз мне приснилось, что эта тварь скребет по ставням своими ногтями, которые производят леденящие кровь звуки, но когда я снова проснулся, ничего этого не было, и я даже усмехнулся про себя тому, какое сильное впечатление произвел на меня рассказ Никоса. В третий раз мне приснилось, что ногти этого создания, как ножи, проходят сквозь ставни, изо рта его пахнет мертвечиной и чума просачивается в спальню вместе с его зловонным дыханием. Страх пронзил меня, и я решил было, что если сейчас же не открою глаза, то уже никогда не проснусь. Я вскочил весь покрытый потом. В окне опять никого не было, но я все же подошел к нему и, к своему ужасу, обнаружил, что в нескольких местах ставни повреждены. Тогда я прижался лбом к холодным металлическим створкам и вперил взор в ночь. Густой туман… Дальше дороги ничего не было видно. Все вокруг казалось спокойным. Но вот внезапно что-то промелькнуло — мужчина, если это существо можно было так назвать, пробежал, кренясь и странным образом покачиваясь, будто одна нога его была повреждена Я моргнул и потерял его из виду. Сколько я ни тщился разглядеть что-нибудь в тумане, я не увидел ни признака движения. «Все спокойно, словно здесь воцарилась сама смерть», — усмехнулся я про себя.
Я достал из-под подушки пистолеты, с которыми никогда не расставался, и накинул походный плащ. Затем уверенными шагами направился к выходу из гостиницы. Найдя входную дверь, запертую изнутри, я вздохнул с облегчением, отпер ее и выбрался наружу. Где-то вдалеке был слышен вой собаки; кроме этого, ничто не нарушало царившую вокруг тишину. Я прошел немного вперед, по направлению к торчащим из земли кольям. Развилка дороги скрывалась в тумане. Не заметив ничего подозрительного, я, естественно, двинулся обратно в дом. Войдя в гостиницу, я запер за собой дверь и, стараясь никого не разбудить, осторожно вернулся в свою спальню.
Дойдя до комнаты, я обнаружил дверь распахнутой. Тем не менее я ясно помнил, что прикрыл ее за собой, когда выходил из спальни. Со всей осторожностью, на которую я только был способен, я прокрался в комнату. Хобхауз, взмокший от пота, все так же лежал в своей грязной постели, а над ним, почти касаясь его обнаженной груди, склонился человек в безобразной черной епанче. Я поднял пистолет и взвел курок. Звук заставил пришельца вздрогнуть, но, прежде чем он смог обернуться, дуло оружия уже уперлось ему в спину.
— Выходи! — шепотом скомандовал я.
Незнакомец медленно выпрямился. Подталкивая пистолетом, я вывел его в коридор.
Там я развернул его и сорвал капюшон с его лица. То, что предстало передо мной, сперва лишило меня дара речи, а затем мне сделалось смешно. Мне сразу вспомнились слова, слышанные мной этим вечером, и я не мог удержаться, чтобы не повторить их.
— Одному Богу известно, кто здесь шатается по ночам.
На лице Никоса не было ни признака улыбки. Взмахом пистолета я приказал ему сесть. Он безвольно опустился на пол.
Я наклонился над ним.
— Если ты хотел обокрасть Хобхауза, а именно этим, уверен, ты здесь занимался, почему ты ждал так долго и не сделал этого раньше?
Никос выглядел озадаченным.
— Ведь твой отец, — продолжал я, — и брат и есть те самые клефти, зарезавшие вчера наших охранников?
Никос не отвечал. Я погрозил ему
пистолетом.
— Это ты убил моих людей? — повторил я свой вопрос.
Никос медленно кивнул.
— Зачем?
— Они были турками, — последовал ответ.
— А нас почему же не тронули?
В глазах Никоса мелькнула злость.
— Мы солдаты, — сказал он, — а не бандиты.
— Ах да, я совсем забыл, вы ведь всего лишь честные пастухи.
— Да, мы пастухи, — сказал Никос с внезапным приступом ярости. — О мой господин, да мы сами как скоты рабы турецких vardoulacha!
Последнее слово было сказано им без тени иронии.
— У меня был брат, о господин, третий сын моего отца, турки убили его. Неужели рабы не имеют права на месть? Неужто рабам не дано право мечтать о свободе и сражаться за нее? Господь знает, настанет день, когда греки не будут рабами.
Лицо Никоса было бледным, он весь дрожал, но в его черных глазах горел вызов. Я протянул руку, чтобы успокоить его, я хотел обнять его, но он вскочил на ноги и прижался к стене. Вдруг он засмеялся.
— Ах да, конечно. Я же раб, и мне следует повиноваться. Возьми же меня, мой господин, а взамен дай золото.
Его пальцы коснулись моей щеки. Он целовал меня, поначалу губы его обжигали ненавистью, но вдруг я почувствовал что-то иное: это был долгий-долгий поцелуй молодости и страсти, объединивший в себе сердце, душу, разум и чувство, — это было дано мне испытать лишь раз в жизни.
И все же его отчаянная насмешка продолжала звучать в моих ушах. Я потерял чувство времени, и тем не менее должен был прекратить этот поцелуй. Я взял Никоса за руку и снова втащил его в комнату. Хобхауз зашевелился, увидев меня с юношей, промычал что-то и повернулся к нам спиной. Я пошарил около его кровати и вытащил мешочек с деньгами.
— Возьми это, — сказал я, бросая кошель Никосу. — Ты развлек меня своими сказками об упырях и вампирах. Это тебе в награду за твою фантазию.
Юноша молча смотрел на меня. В этот момент он выглядел особенно беззащитным.
— Куда ты отправишься? — спросил я его уже более мягко.
Он ответил не сразу:
— Далеко.
— Куда?
— Может, на север. Там греки свободны.
— А отцу сказал?
— Да. Он, разумеется, опечален. У него было трое детей — один мертв, я уезжаю, и завтра утром с ним останется один Петро. Он знает, что это единственный выход для меня.
Я смотрел на мальчика, такого хрупкого и нежного, словно красивая девушка В конце концов, это был всего лишь мальчик, случайный попутчик, и все же мне было жалко с ним расставаться.
— Но почему же ты думаешь, что у тебя нет выбора? — спросил я.
Никос покачал головой.
— Я не могу сказать.
— Поезжай с нами.
— С двумя чужеземными господами? — рассмеялся внезапно Никос. — О да, это, конечно, самый лучший способ не привлекать к себе внимания. — Он бросил взгляд на мешочек, который я дал ему. — Большое спасибо, мой господин, но я предпочту ваше золото.
Он уже собирался покинуть комнату, как я удержал его за плечо. Я подошел к стене и снял с нее распятие.
— Забери и это, — сказал я, — это дорогая вещь. Мне она не пригодится.
— Но она нужна вам, — выпалил Никос в страхе.
Он снова поцеловал меня. С улицы, со стороны дороги, донесся приглушенный звук выстрела. Потом выстрелили еще раз.
— Возьмите, — взмолился Никос, вкладывая крест в мою ладонь. — Неужели вы на самом деле считаете, что я все это придумал?
Он пожал плечами, повернулся и поспешил к выходу. Я смотрел, как он удалялся по коридору, а когда проснулся утром, в гостинице его уже не было.
Лорд Байрон замолчал, он сидел, скрестив руки и устремив взгляд в черноту.
— А Никос? — спросила Ребекка, слыша свой голос как бы издалека. — Вы больше не видели его?
— Никоса? — Лорд Байрон поднял глаза и затем медленно покачал головой. — Нет, Никоса я больше никогда не встречал.
— А как же выстрелы, те два выстрела, что вы слышали ночью?
Лорд Байрон усмехнулся.
— Ну, я пытался убедить себя, что это был всего лишь хозяин гостиницы, стрелявший в ночного вора. В горах было много других бандитов, менее разборчивых, чем Горгиу. Эти выстрелы напомнили мне, что следует все время быть начеку.
— И что же?
— Но ничего страшного не произошло, мы без труда добрались до Янины, если это вас интересует.
— А вампиры?
Лорд Байрон закрыл глаза. Едва заметная усмешка играла на его губах.
— Вампиры, — тихо повторил он. — Уезжая утром, мы увидели труп мужчины, валявшийся в канаве. В спине его были видны две раны от пуль. А кол священника торчал из его груди. Сам священник стоял и смотрел, как роют могилу рядом с другими кольями. Рядом была и женщина, которая вчера приехала с ним. Она рыдала, прижавшись к священнику.
— Они все-таки поймали своего вампира, — весело сказал Хобхауз и покачал головой с видом знающего человека. — Во что только люди ни верят. Невероятно. Совершенно невероятно.
Я ничего не ответил. Мы двинулись в путь, и вскоре колья, вбитые в землю, исчезли из виду. Только тогда мне пришла в голову мысль о странном совпадении: у трупа была усохшая нога.
Глава 3
Л ю ц и ф е р:
О гордые желанья,
Которые так скромно разделяют Юдоль червей!
К а и н:
А ты, — ты разделяешь
Обители с бессмертными, — ты разве
Не кажешься печальным?
Л ю ц и ф е р:
Я печален.
Итак, скажи: ты. хочешь быть бессмертным?
Лорд Байрон. «Каин» (перевод И. Бунина)
Вследствие долгого пребывания в горах наше воображение вкупе с воспоминаниями породило чувство необычайного страха. Мы добрались до дороги на Янину без приключений и дальше двигались так быстро, что суеверия, над которыми мы так нарочито смеялись до этого, теперь, к нашей радости, и вовсе были позабыты; даже я, которому недоставало скептицизма моего друга, мог говорить о вурдалаках так непринужденно, как за чаем в Лондоне. И все же первого взгляда на Янину нам хватило, чтобы вспомнить, что мы далеко от Чаринг-Кросс, так как храмы и минареты, разбросанные в лимонных садах и кипарисовых рощах, были столь живописны, не в пример Лондону, что превзошли все наши ожидания. Даже вид человеческого тела, подвешенного за руку к дереву, не поверг нас в уныние, что было бы ужасным в уединенной деревне. Теперь же, подъезжая к воротам восточного города, все это казалось нам приятным отголоском варварства, романтической пищей — по определению Хобхауза.
— И вас там встретили?
— В Янине? Да.
— Это, наверное, было для вас приятной неожиданностью.
Лорд Байрон улыбнулся.
— Да, конечно. Али-паша, как я вам уже говорил, был человеком крайне жестоким, и в день нашего приезда отлучился из города, чтобы расправиться с непокорными сербами, но тем не менее он отдал распоряжение, чтобы нас как следует встретили и приняли. Это было очень лестно. Нас встретили у ворот и провели по узким тесным улочкам с их бесконечным красочным вихрем и шумом, в то время как над всем этим стоял запах специй, грязи и испражнений. За нами бежали толпы ребятишек, смеясь и тыча в нас пальцами, а из лавок, гашишных притонов и с огражденных балконов за нами следили женщины из-под своих покрывал. Приятно было снова очутиться на солнце, но тут в лицо нам подул освежающий холодный ветер с озера, мимо которого мы проезжали в сторону караван-сарая, отведенного для нас Али-пашой. Выполненный в турецком стиле, постоялый двор был открытым, полным света и воздуха, с широким двором, спускающимся к озеру. Однако не все комнаты вокруг внутреннего двора были отведены для нас; противоположные ворота охраняли два татарских воина, а в конюшне стояли на привязи лошади. Но никого не было видно, и в тишине наших комнат даже городской шум, казалось, утихал.
Мы с Хобхаузом сразу легли спать, и разбудили меня завывания муэдзина, созывающего правоверных мусульман на вечернюю молитву.
Хобхауз, будучи прирожденным атеистом, беззаботно храпел, но я поднялся и вышел на балкон. Поверхность озера была малиново-красной, а остроконечные вершины гор, протянувшихся грядой вдоль противоположного берега, казались обагренными кровью. Кругом царили тишина и спокойствие, Янина была где-то позади, и только одинокая лодка на озере, отплывающая от маленького островка, напомнила мне о человеческом, присутствии. Я вернулся в комнату, попытался растолкать Хобхауза, но у меня ничего не вышло и я вышел во двор.
В доме и на озере было по-прежнему тихо. Я осмотрелся по сторонам в надежде найти хоть одно живое существо; лодка, еще несколько минут назад находившаяся вдали от берега, теперь была пришвартована и мерно покачивалась передо мной. С какой же невероятной скоростью, должно быть, она передвигалась! На носу ее, понурившись, сидел лодочник, но когда я окликнул его, он не отозвался. приблизившись к нему, я снова позвал его, дернув за рукав. Черные одежды, в которые он был укутан, оказались маслянистыми и влажными на ощупь; лодочник поднял голову и уставился на меня, широко раскрыв рот и с бессмысленным взглядом лунатика. Я сделал шаг назад и услышал тяжелые шаги Хобхауза, выходящего наружу. Последние лучи солнца исчезли за крышей постоялого двора. Я остановился, бросив взгляд через плечо на озеро, и в этот момент, когда красные отблески заката исчезли на воде, я увидел еще одного человека.
Лорд Байрон замолчал. Ребекка заметила, как он стиснул ручки кресла. Глаза его были закрыты.
Они долго молчали.
— Кто это был? — наконец спросила она.
Лорд Байрон покачал головой.
— Я видел его впервые. Незнакомец стоял как раз на том месте, где еще минуту назад находился я; это был высокий мужчина, обритый по-турецки, но с закрученными белыми усами и небольшой щеголеватой бородкой, какую иногда носят арабы. Его тонкое, неестественно бледное лицо, скрытое к тому же темнотой, и весь облик этого человека пробудили во мне непонятные чувства отвращения и почтения одновременно, столь сильные и неожиданные, что мне трудно было их объяснить. У него были крючковатый нос, плотно сжатые губы, и все же помимо выражения хищной насмешки в его лице угадывались огромная мудрость и страдание, промелькнувшее словно тень набежавшего облака. Взгляд его, тусклый, как у змеи, так мне показалось вначале, стал вдруг глубоким и накаленным, словно какая-то тяжелая мысль угнетала его; наблюдая за ним, я понял, что такой сложной и мятущейся души я еще не встречал. Я поклонился ему; он улыбнулся, его чувственный рот искривился в усмешке, обнажив ряд белоснежных зубов; незнакомец поклонился мне в ответ. Откинув плащ, в который он был запахнут подобно бедуину, он проследовал к воротам, охраняемым татарскими воинами. Я видел, как те почтительно приветствовали его, но он, не ответив на их приветствия, прошествовал в дом.
В это время со стороны дороги послышались чьи-то голоса, мы увидели группу всадников, приближающуюся к нам Люди визиря поздоровались с нами и сообщили лестную для нас новость: хотя Али-паши и не было в его резиденции в Янине, он приглашал нас присоединиться к нему в его родном городе Тапалине, находящемся в пятидесяти милях отсюда. Мы поклонились и выразили свою глубочайшую признательность, обменялись любезностями, расхваливая красоты Янины. Исчерпав наконец запас вежливых реплик и замечаний, я спросил о незнакомце, который разделял с нами часть двора, объяснив, что хотел бы засвидетельствовать ему свое почтение. Люди визиря внезапно умолкли, они переглянулись между собой, а их начальник, казалось, был смущен. Он пробормотал, что человек, которого я видел, — паша с южных гор; помолчав, он вдруг добавил с внезапной настойчивостью, словно ему в голову только что пришла эта мысль, что, если паша остановился здесь всего лишь на ночь, будет лучше не тревожить его. Все согласно закивали, а затем внезапный прилив веселья и шутливости потоком нахлынул на нас.
«Черт, я чуть не захлебнулся, — вспоминал потом Хобхауз. — Эго выглядело так, как будто они пытались что-то скрыть от нас».
— Впрочем, у Хобби был всегда талант подмечать очевидное.
На следующий день мы уже ехали верхом, обозревая окрестности. Я спросил нашего гида, спокойного тучного грека по имени Атанасиус, ученого, специально приставленного к нам визирем, что же такое наши гостеприимные хозяева хотели от нас скрыть. Атанасиус слегка покраснел при упоминании паши, но потом успокоился и пожал плечами.
— Напротив вас остановился Вахель-паша, — пояснил он. — Я думаю, что слуги визиря напуганы слухами, которые о нем ходят. Они не хотят никаких неприятностей. И если вы пожалуетесь на них Али-паше, ну, тогда, конечно… это будет очень плохо для них.
— Почему? О каких неприятностях вы упомянули? Что говорят о Вахель-паше?
— Говорят, он колдун. Среди турок также поговаривают, что он продал душу Эблису, князю Тьмы.
— Ах, вот оно в чем дело. И он действительно сделал это?
Атанасиус посмотрел на меня. К моему удивлению, улыбки на его лице я не увидел.
— Конечно нет, — вымолвил он. — Вахель-паша — ученый, великий ученый, я думаю. Что является большой редкостью среди мусульман, поэтому вызывает множество слухов и пересудов. Поймите, все они свиньи, наши хозяева и господа, невежественные свиньи. — Атанасиус бросил взгляд через плечо. — Но если Вахель-паша не невежа… ну тогда… в таком случае… он опасен. Только турки и крестьяне верят, что он настоящий демон, а я думаю, что он странный человек и является участником странных историй, что, впрочем, одно и то же. Мне хотелось бы, мой господин, чтобы вы были благоразумны и держались подальше от него.
— Послушать вас, так он, выходит, выдающийся человек, знаменитость.
— Возможно поэтому он так и опасен.
— А вы сами встречались с ним?
Атанасиус кивнул.
— Расскажите мне, — попросил я.
— У меня есть библиотека Он хотел посоветоваться по поводу одного манускрипта.
— О чем в нем шла речь?
— Насколько я помню, — начал Атанасиус неестественно тонким голосом для столь тучного человека, — это был трактат об Ахероне, реке смерти, как повествует древняя легенда.
— Понимаю, — только и мог произнести я. Странное совпадение поразило меня. — А не могли бы вы припомнить, чем был вызван его интерес к Ахерону?
Атанасиус не ответил. Я заглянул ему в лицо. Оно было бледнее воска.
— С вами все в порядке? — спросил я.
— Да, да.
Атанасиус дернул поводья, и его лошадь пустилась вперед легким галопом. Я присоединился к нему, теперь мы снова ехали рядом, но я ни о чем не спрашивал своего проводника, который оставался нервным и отчужденным. Внезапно он сам повернулся ко мне.
— Мой господин, — зашептал он, словно передавал мне секрет, — если вы хотите знать, Вахель-паша является правителем всех гор вокруг Ахерона. Его замок построен на горе, возвышающейся над Ахероном. Я думаю, этим и объясняется интерес Вахель-паши к прошлому этой реки… но, пожалуйста, не расспрашивайте меня больше.
— Нет, конечно нет, — ответил я.
Я уже привык к трусости греков. Но я вспомнил Никоса. Он был храбрый. Он спасался от турецкого господина. А если этим господином был Вахель-паша? О, если это так, то я очень боялся за мальчика. Та ночь в гостинице… Меня словно озарило. Как он был неистов и прекрасен. О да, Никое заслуживал свободы.
— А вы не знаете, что делает Вахель-паша в Янине? — небрежно бросил я.
Атанасиус пристально посмотрел на меня. Его начало трясти.
— Я не знаю, — прошептал он и пришпорил лошадь.
Я подождал, пока он отъедет от меня на почтительное расстояние. Когда я присоединился к нему, никто из нас больше не упоминал о Вахель-паше.
Мы провели день среди развалин древнего храма. Пока Хобхауз копался в камнях, делая бесчисленные записи, я присел в тени поверженной колонны, пребывая в поэтическом настроении. Красота неба и гор, печальные напоминания недолговечности окружающего, — все это глубоко трогало меня; я делал поэтические наброски, дремал и предавался своим мыслям. Когда стемнело и наступили багровые сумерки, мне стало труднее осознавать, сплю ли я или бодрствую, все вокруг меня казалось таким неестественно ярким, что я, пожалуй, впервые в жизни ощутил истинность бытия, его незримое присутствие в цветах, деревьях, траве, даже в земле. Камни и почва казались мне созданными, как и я, из крови и плоти. Передо мной сидел заяц. Он смотрел на меня, и мне казалось, что я слышу биение его сердца в своих ушах и чувствую тепло его тела. Он побежал, и пульсирование его крови по артериям, сердцу, живому сердцу, омыло пейзаж красным и окрасило небеса. Я почувствовал сильную жажду, во рту у меня пересохло. Я встал, потирая шею, и в этот момент, наблюдая за исчезающим зайцем, я увидел Вахель-пашу.
Он следил за зверьком, стоя на скале, затем медленно спустился и прислонился к ней, похожий на некоего хищника гор, возможно волка, притаившегося среди скал. Заяц исчез, но паша все еще продолжал сидеть в засаде, и я понял, что он охотится за чем-то более ценным, чем заяц. Он повернулся ко мне. Его мертвенно-бледное лицо дышало странным спокойствием. Его взгляд, казалось, пронизывал меня до глубины моего сердца, в нем светилось знание моего естества и моих желаний. Он повернулся, принюхиваясь к воздуху, затем улыбнулся, и черты его лица потеряли вдруг четкость, спокойствие, исказившись завистью и отчаянием, и все же в облике его сохранилось выражение глубочайшей мудрости. Я поднялся, чтобы подойти к нему, и понял, что проснулся. Когда я взглянул на гору, Вахель-паши там не было. Значит, это был всего лишь сон… Но я все же продолжал чувствовать какое-то беспокойство, и, пока мы следовали назад из развалин древнего храма, воспоминание об увиденном угнетало меня, словно все произошло наяву.
Атанасиус, казалось, тоже был встревожен. Солнце садилось. Оно медленно погружалось за вершины гор, и Атанасиус часто оборачивался назад, наблюдая за закатом. Я спросил его, чем тот обеспокоен. Он покачал головой и рассмеялся, при этом нервно поигрывая поводьями, словно ребенок. Когда солнце скрылось за горной грядой, мы услышали стук копыт, доносившийся с дороги позади нас. Атанасиус придержал свою лошадь, затем подался ко мне и осадил моего скакуна, в то время как кавалерийский эскадрон прогромыхал мимо нас. Всадники были татарами, одетыми так же, как и та стража у апартаментов Вахель-паши. К своей самоуверенной радости, я заметил среди них пашу.
— Кого они преследуют? — спросил я Атанасиуса, показав на исчезающий отряд.
— С чего вы взяли, что они кого-то преследуют? — прохрипел он.
Я пожал плечами.
— Ну, мне просто показалось, что они ищут что-то.
Атанасиус приглушенно вскрикнул, и лицо его исказилось страшной судорогой. Не говоря больше ни слова, он пришпорил лошадь и помчался вперед по дороге на Янину. Хобхауз и я рады были последовать за ним, так как уже становилось темно.
— Но паша, — прервала Ребекка Байрона, — когда вы увидели его на скале — был ли это сон?
Лорд Байрон холодно посмотрел на нее.
— Мы остановились в Янине еще дней на пять, — продолжал он, игнорируя ее вопрос. — И снова в другом конце двора стояли татарские стражники, и я предположил, что Вахель-паша несмотря на то, что рассказали нам слуги визиря, тоже остался в Янине. Тем не менее я ни разу не видел его, но взамен… — Тут он снова бросил тяжелый взгляд на Ребекку. — Он снился мне, но не в обычных снах: ощущение реальности происходящего было таким сильным, что я не был полностью уверен, что смогу проснуться после всего этого. Паша мог безмолвно явиться ко мне мертвенно-бледным призраком, войти в мою комнату, подойти к моей кровати или иногда встретиться мне на улитках или в горах. Я бывал застигнут сном в необычное время; казалось, будто кто-то усыпляет меня. Я пытался сопротивляться приступам дремоты, но всегда сдавался, и тогда появлялся паша, прокрадываясь в мой сон, как вор в комнату.
Лорд Байрон замолчал и закрыл глаза, словно пытаясь еще раз поймать образ призрака.
— Я чувствовала то же, — с волнением произнесла Ребекка. — Там, в склепе, когда вы держали меня на руках, мне казалось, что вы мне снитесь.
Лорд Байрон удивленно поднял бровь.
— Правда? — спросил он.
— И паша так же являлся вам?
Он пожал плечами.
— Так вы встретились с ним в конце концов?
В глазах вампира мелькнули завораживающие огоньки.
— Мир сновидений нам недоступен, — проговорил он. — Граница между смертью и жизнью неясна. Он печально улыбнулся и засмотрелся на мерцание пламени свечи.
— Там был монастырь, — произнес он наконец. — Мы посетили его вечером перед отъездом. Он был построен на острове, окруженном озером. — Лорд Байрон поднял взгляд. — В мою первую ночь пребывания здесь я видел, как от этого острова отплывала лодка. Единственно по этой причине я и раньше хотел повидать монастырь. Но, по словам Атанасиуса, прежде посещение монастыря невозможно было устроить. Он рассказал., что один из монахов был найден мертвым и поэтому монастырь нужно освятить. Я спросил его, когда умер монах. В день нашего прибытия в Янину, ответил он мне. Тогда я спросил, как умер монах. Атанасиус покачал головой. Нет, этого он не знал — жизнь монахов всегда была тайной.
— Но теперь монастырь открыт, — добавил он.
Мы высадились на берег. Пристань была пуста, так же как и деревня вдалеке. Мы зашли в монастырь, Атанасиус крикнул, но никто не отозвался в ответ, и я заметил, что он нахмурился.
— Сюда, — неуверенно произнес он, открывая перед нами дверь в небольшую боковую часовню.
Хобхауз и я последовали за ним, часовня была пуста, но мы задержались, чтобы осмотреть стены.
— «Страшный суд», — произнес он, указывая на жутковатую фреску.
Изображение дьявола особенно поразило меня: он был и прекрасен и ужасен одновременно, совершенно белый, за исключением пятен крови у рта. Я заметил, что Атанасиус следит, как я рассматриваю фреску, но он поспешно отвернулся и снова позвал монахов.
Хобхауз присоединился ко мне.
— Он похож на того пашу, — заметил он.
— Сюда, — быстро сказал Атанасиус, словно в ответ. — Нам нужно идти.
Он провел нас в центральную церковь. Сначала я подумал, что она тоже пуста, но потом заметил фигуру бритоголового человека в струящихся одеждах, склонившуюся над столом у дальней стены. Человек обернулся к нам и медленно поднялся. Свет, падавший из окна, осветил его лицо. Если раньше это лицо покрывала бледность, то теперь на щеках Вахель-паши играл румянец.
— Les milords anglais?
[1] — спросил он.
— Я лорд, — ответил я ему. — Хобхауза вы можете не принимать в расчет. Он простолюдин.
Паша медленно улыбнулся и приветствовал нас обоих с церемонным изяществом. Он произнес приветствие на чистейшем французском (раньше мне ни у кого не приходилось слышать такого чистого произношения), который очаровал меня, так как звук его походил на серебряный звон.
Хобхауз спросил, где тот изучал французский. Паша рассказал, что очень давно был в Париже, еще до Революции и Наполеона. Он показал на книгу.
— Только моя жажда к познанию привела меня в город огней. Я никогда не был в Лондоне. Вернее, был — один день. Каким великим он стал. Я помню времена, когда он был ничем.
— Ваши воспоминания, должно быть, долговечны.
Паша улыбнулся и склонил голову.
— Мудрость, которой мы обладаем здесь, на Востоке, долговечна. Не так ли, monsieur грек?
Он взглянул на Атанасиуса, который, запинаясь, пробормотал что-то невразумительное, трясясь в складках жира.
— Да, — сказал паша, наблюдая за ним с безжалостной улыбкой, — мы на Востоке понимаем много такого, что никогда не будет доступно Западу. Вы должны помнить об этом, milords, если путешествуете по Греции. Просвещение не только открывает, но иногда может скрывать правду.
— Например, ваше превосходительство? — спросил я.
Паша поднял свою книгу.
— Я очень долго разыскивал ее, чтобы прочесть. Ее нашли для меня монахи Метеоры и принесли сюда. В ней рассказывается о Лилит, первой жене Адама, развратной царице, которая обольщала мужчин на улицах, в полях и пила их кровь. Я знаю, что для вас это суеверие, просто вздор. Но для меня, а также для нашего греческого друга это нечто большее. Это завеса, которая одновременно скрывает и приоткрывает правду.
Воцарилась тишина. Вдалеке я услышал колокольный звон.
— Мне интересно знать, — сказал я, — сколько правды заключено в историях о кровопийцах, которые мы слышали?
— Вы слышали другие истории?
— Да. Мы остановились в деревне. Там нам рассказали о тварях, называемых вурдалаками.
— Где это было?
— Близ реки Ахерон.
— Вам, вероятно, известно, что я властитель Ахерона?
Я взглянул на Атанасиуса. Тот блестел, как кусок сала.
Я повернулся к Вахель-паше и покачал головой:
— Нет, я не знал об этом.
Паша пристально посмотрел на меня.
— Много историй рассказывается об Ахероне, — спокойно молвил он. — У древних греков умершие тоже пили кровь.
Он взглянул на книгу и прижал ее к груди. Казалось, он готов был что-то сказать мне, свирепая страсть внезапно озарила его лицо, но оно тут же померкло, уступив место мертвенной маске, и только нотки холодного презрения были слышны в голосе Вахель-паши, когда он заговорил:
— Вы не должны обращать внимание на россказни крестьян, milord. Вампир — это древнейший миф человечества. И чем же стал он, побывав в руках моих крестьян? Жалким идиотом, шатающимся пожирателем плоти. Чудовище, выдуманное чудовищами. — Он усмехнулся, сверкнув белизной зубов. — Вы не должны бояться вампира крестьян, milord.
Я вспомнил Горгиу и его сыновей, их дружелюбие. Желая защитить их, я описал наши приключения в гостинице у Ахерона. В течение моего рассказа я заметил, что Атанасиус уже весь изошел на пот.
Паша тоже наблюдал за проводником, его ноздри подрагивали, словно он чуял страх. Когда я закончил, он усмехнулся.
— Я рад, что за вами хорошо присматривали, milord. Но я жесток только потому, что хочу предотвратить жестокость к себе. — Он посмотрел на Атанасиуса. — Видите ли, я в Янине не только для того, чтобы посоветоваться по поводу манускриптов. Я еще охочусь за беглецом. Я воспитывал этого раба с младенчества, заботился о нем, любил его как родного. Не тревожьтесь, milord, я охочусь за рабом скорее в печали, нежели в бешенстве, и не причиню ему никакого вреда. — Он снова посмотрел на Атанасиуса. — Не причиню ровно никакого вреда.
— Я думаю, мой господин, — зашептал проводник, дергая меня за рукав, — думаю, что нам пора идти.
— Да, идите, — резко, почти грубо сказал паша Он снова сел и открыл свою книгу. — Мне много еще нужно прочесть. Уходите, уходите, пожалуйста.
Хобхауз и я поклонились с нарочитой церемонностью.
— Увидимся ли мы снова в Янине, ваше превосходительство? — спросил я.
Паша поднял голову.
— Нет. Я почти завершил то, зачем сюда приехал. — Он взглянул на Атанасиуса. — Сегодня вечером я уезжаю. — Он повернулся ко мне. — Возможно, milord, мы увидимся снова, но в другом месте.
— Например, ваше превосходительство? — спросил я.
Паша поднял свою книгу.
— Я очень долго разыскивал ее, чтобы прочесть. Ее нашли для меня монахи Метеоры и принесли сюда. В ней рассказывается о Лилит, первой жене Адама, развратной царице, которая обольщала мужчин на улицах, в полях и пила их кровь. Я знаю, что для вас это суеверие, просто вздор. Но для меня, а также для нашего греческого друга это нечто большее. Это завеса, которая одновременно скрывает и приоткрывает правду.
Воцарилась тишина. Вдалеке я услышал колокольный звон.
— Мне интересно знать, — сказал я, — сколько правды заключено в историях о кровопийцах, которые мы слышали?
— Вы слышали другие истории?
— Да. Мы остановились в деревне. Там нам рассказали о тварях, называемых вурдалаками.
— Где это было?
— Близ реки Ахерон.
— Вам, вероятно, известно, что я властитель Ахерона?
Я взглянул на Атанасиуса. Тот блестел, как кусок сала.
Я повернулся к Вахель-паше и покачал головой:
— Нет, я не знал об этом.
Паша пристально посмотрел на меня.
— Много историй рассказывается об Ахероне, — спокойно молвил он. — У древних греков умершие тоже пили кровь.
Он взглянул на книгу и прижал ее к груди. Казалось, он готов был что-то сказать мне, свирепая страсть внезапно озарила его лицо, но оно тут же померкло, уступив место мертвенной маске, и только нотки холодного презрения были слышны в голосе Вахель-паши, когда он заговорил:
— Вы не должны обращать внимание на россказни крестьян, milord. Вампир — это древнейший миф человечества. И чем же стал он, побывав в руках моих крестьян? Жалким идиотом, шатающимся пожирателем плоти. Чудовище, выдуманное чудовищами. — Он усмехнулся, сверкнув белизной зубов. — Вы не должны бояться вампира крестьян, milord.
Я вспомнил Горгиу и его сыновей, их дружелюбие. Желая защитить их, я описал наши приключения в гостинице у Ахерона. В течение моего рассказа я заметил, что Ата-насиус уже весь изошел на пот.
Паша тоже наблюдал за проводником, его ноздри подрагивали, словно он чуял страх. Когда я закончил, он усмехнулся.
— Я рад, что за вами хорошо присматривали, milord. Но я жесток только потому, что хочу предотвратить жестокость к себе. — Он посмотрел на Атанасиуса. — Видите ли, я в Янине не только для того, чтобы посоветоваться по поводу манускриптов. Я еще охочусь за беглецом. Я воспитывал этого раба с младенчества, заботился о нем, любил его как родного. Не тревожьтесь, milord, я охочусь за рабом скорее в печали, нежели в бешенстве, и не причиню ему никакого вреда. — Он снова посмотрел на Атанасиуса. — Не причиню ровно никакого вреда.
— Я думаю, мой господин, — зашептал проводник, дергая меня за рукав, — думаю, что нам пора идти.
— Да, идите, — резко, почти грубо сказал паша. Он снова сел и открыл свою книгу. — Мне много еще нужно прочесть. Уходите, уходите, пожалуйста.
Хобхауз и я поклонились с нарочитой церемонностью.
— Увидимся ли мы снова в Янине, ваше превосходительство? — спросил я.
Паша поднял голову.
— Нет. Я почти завершил то, зачем сюда приехал. — Он взглянул на Атанасиуса. — Сегодня вечером я уезжаю. — Он повернулся ко мне. — Возможно, milord, мы увидимся снова, но в другом месте.
Он кивнул и вернулся к своей книге, а Хобхауз и я, почти подгоняемые нашим проводником, вышли наружу, под лучи послеполуденного солнца.
Мы свернули на узкую дорогу. Колокол все еще звонил, а из небольшой церкви, находящейся в конце нашего пути, доносились песнопения.
— Нет, мой господин, — запротестовал Атанасиус, увидев, что мы собираемся туда зайти.
— Почему нет? — удивился я.
— Нет, пожалуйста, пожалуйста, — запричитал он.
Я отстранил Атанасиуса, устав от постоянных проявлений его трусости, и последовал вслед за Хобхаузом в церковь.
Сквозь клубы ладана я смог разглядеть гроб. Покойник, лежавший в нем, был облачен в черные одежды священника, которые привлекали внимание не своей принадлежностью к сану, а тем, что оттеняли страшную бледность лица и рук. Сделав шаг вперед, я увидел поверх голов плакальщиков, что цветы в гробу были разложены вокруг шеи монаха.
— Когда он умер? — спросил я.
— Сегодня, — прошептал Атанасиус.
— Так это второй человек, умерший здесь на этой неделе?
Атанасиус кивнул. Он осмотрелся по сторонам и зашептал мне в ухо:
— Мой господин, монахи поговаривают, что это проделки дьявола.
Я с недоверием посмотрел на него.
— Атанасиус, а я думал, что дьяволы существуют только в среде турок и крестьян.
— Да, мой господин. — Атанасиус сглотнул. — Именно так, мой господин, — сказал он, указывая на мертвеца, — они говорят, что это сделал вурдалак. Посмотрите, как он бледен, бескровен. Я думаю, мой господин, что нам лучше уйти. Прошу вас! — Он умолял чуть ли не на коленях. — Пожалуйста, мой господин. — Он держал дверь открытой. — Пожалуйста.
Мы с Хобхаузом с улыбкой переглянулись, пожали плечами и последовали за нашим проводником на пристань. Рядом с нашей лодкой была пришвартована другая, ее я упустил из виду при нашей высадке. Я сразу же узнал эту лодку и создание, сидящее на носу, укутанное во что-то черное, с лицом идиота, бледным, как у мертвеца, бледнее, чем прежде. Я наблюдал, как уменьшалась его фигурка с удалением нашей лодки от острова. Атанасиус тоже наблюдал за ним.
— Лодочник паши, — сказал я.
— Да, — согласился он; его передернуло.
Я улыбнулся. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как при упоминании имени Вахель-паши проводник начинал трястись от страха.
Лорд Байрон немного помолчал.
— Мне, конечно, не хотелось быть жестоким. Но Атанасиус огорчил меня. Ученый, интеллигент, он хорошо осознавал, что освобождение Греции от турок будет зависеть только от таких людей, как он. Но его трусость, хотя мы и посмеивались над ней, иногда приводила нас в отчаяние.
Лорд Байрон опустил подбородок на сложенные кончики пальцев и улыбнулся в задумчивости.
— Мы расстались с ним после нашего возвращения из монастыря. На следующий день перед отъездом мы зашли к нему, но его не было дома. Печально, — кивнул рассказчик. — Да, очень печально.
Он погрузился в размышления.
— Итак, вы отправились в Тапалин? — прервала его мысли Ребекка.
Лорд Байрон кивнул:
— На аудиенцию с великим и знаменитым Али-пашой.
— Я читала это письмо, — заметила Ребекка— Оно было адресовано вашей матери.
Он взглянул на нее:
— Правда?.
— Да. Вы писали об албанцах в их расшитых золотом малиновых одеждах, о двухстах скакунах, чернокожих рабах, гонцах, барабанах и о муэдзинах, выкрикивающих молитвы с минаретов мечетей… — Она остановилась. — Извините, — произнесла она, видя, что он смотрит на нее. — Но меня всегда восхищало это письмо — особенно это прекрасное описание.
— Да, — лорд Байрон внезапно рассмеялся. — Несомненно, потому что это ложь.
— Ложь?
— Скорее, святая ложь. Я не стал упоминать про колья. Трое из них были всажены прямо перед центральными воротами. Их вид сильно омрачил мое воспоминание о прибытии в Тапалин. Но мне нужно было быть осторожным с матерью, она не выносила грубой действительности.
Ребекка провела рукой по волосам.
— О, я понимаю.
— Нет, вам этого не понять. Двое из казненных были мертвы — расползшиеся куски падали. Но, проезжая под ними, мы заметили слабое движение со стороны третьего кола. Мы присмотрелись: существо — это был уже не человек — судорожно подергивалось на колу, хотя с каждым движением дерево глубже входило в его внутренности. Страшные, звериные, душераздирающие вопли поражали слух. Бедняга видел, что я смотрю на него; он пытался что-то произнести, но тут я заметил слипшиеся черные комки у его рта и понял, что у него нет языка. С тяжелым чувством собственного бессилия я въехал в ворота. Страх овладел мной: я понял, что тоже могу разделить участь тех несчастных. Мне в голову пришла страшная мысль: ведь я тоже превращусь в прах, как и те казненные, что терпят пытки так бессмысленно и безнадежно. И я осознал свое ничтожество, понял, что мне суждено умереть так, как это предначертано мне с рождения, не по моей воле или моему выбору, и что даже если не грешить в этой жизни, то, может, все равно тебя ждет ад. О, если это правда, то лучше умереть. И все же той ночью в Тапалине я возненавидел свою смертность, которая непроницаемым саваном облекала меня со всех сторон.
В ту ночь Вахель-паша вернулся в мои сны. Он был еще более бледным, чем прежде, а его глаза были печальны и строги. Он кивнул мне, я поднялся с кровати и последовал за ним. Я летел по ветру и не падал; подо мной был Тапалин, а сверху звезды; и все это время ледяная рука паши сжимала мою руку. Губы его были недвижимы, но я все же услышал его речь:
— От звезды до ничтожного червя вся жизнь — это всего лишь движение к безмолвию смерти. Комета проносится по небу, описав дугу, и исчезает во вселенной. Ничтожный червь ползет по падали, однако, подобно ей, живет и умирает, подвластный тому, что дает ему жизнь и смерть. Все на свете должно подчиняться правилам неумолимой необходимости.
Он взял другую мою руку, и я обнаружил, что мы находимся в горах среди разрушенных статуй и открытых могил какого-то заброшенного древнего города, в котором властвовала тишина и светила мертвенно-бледная луна Вахель-паша потянулся к моему горлу.
— Все должно подчиняться, не так ли? Все должно жить и умирать?
Я почувствовал его ногти, острые как бритва, скользящие по моему горлу. Теплая струйка крови потекла по моей шее, и я почувствовал такое легкое прикосновение языка к ней, подобное прикосновению языка котенка, вылизывающею лицо своей хозяйки. И вновь в моей голове раздался голос:
— Бессмертие — вот в чем заключено знание. Следуй за мной.
Он прильнул к моему горлу.
— Следуй за мной. Следуй за мной.
Слова начали затихать, затем исчезли город и звезды надо мной, даже прикосновение губ к моей коже; наконец исчезло все, и я провалился в темноту. Я попытался сбросить оковы сна.
— Байрон, Байрон!
Я открыл глаза. Я все еще находился в нашей комнате. Хобхауз склонился надо мной.
— Байрон, с тобой все в порядке?
Я кивнул. Дотронувшись до горла, я почувствовал слабую боль, но промолчал — я был слишком истощен. Я закрыл глаза и, засыпая, попытался вызвать в памяти те образы, которые бы оберегали мои сны. Никос. Наш поцелуй — слияние губ. Его хрупкая горячность. Никос. Мне снился он, и Вахель-паша больше не тревожил меня.
На следующее утро я выглядел усталым и разбитым.
— Боже, да ты бледен, — поразился Хобхауз. — Может, тебе лучше остаться в кровати, старина?
Я отрицательно покачал головой.
— Этим утром нам назначена аудиенция у Али-паши.
— Ты можешь пропустить ее.
— Ты, должно быть, шутишь. Я не хочу окончить свою жизнь с колом в заднице.
— Да, — согласился Хобхауз, — остроумно. Кошмар, здесь нет даже выпивки. Она бы тебе сейчас не помешала. Господи, что за проклятая страна!
— Я слышал, что в Турции бледность кожи считается признаком высокого происхождения. — В комнате не было зеркала, но я знал, что бледность была мне к лицу. — Не беспокойся, Хобхауз, — произнес я, опираясь о его руку. — Я приручу Янинского Льва, он будет есть из моих рук.
Так и вышло. Али-паша был от меня в восторге. Он принял нас в просторном мраморном зале, нам подали кофе и сласти и оказали самый радушный прием. Более того, рядом со смуглым и грубоватым Хобхаузом моя изысканность победила и была удостоена высшей похвалы. Эта изысканность, как беспрестанно говорил Али Хобхаузу, служит безошибочным доказательством моего высокого положения. В конце концов он объявил, что я теперь его сын и что я в его лице обретаю заботливого отца. Таким образом, он проявил необыкновенное благодушие, скрывая свою истинную натуру в общении с нами.
Подали завтрак. Мы присоединились к свите придворных паши, не имея возможности пообщаться с ними, так как Али держал нас постоянно при себе. Продолжая свою отцовскую опеку, он потчевал нас миндалем и засахаренными фруктами, словно детей. Завтрак окончился, но Али не отпускал нас.
— Фокусников, — приказал он, — певцов!
Те явились. Али обернулся ко мне.
— Чего еще ваша душа желает?
Не дождавшись ответа, он выкрикнул:
— Танцовщиц! — И объяснил мне: — У меня гостит друг. У него есть потрясающая девушка. Не хотите ли посмотреть на ее представление?
Конечно, мы оба вежливо сказали, что хотим. Али повернулся на своем диване, глядя по сторонам.
— Друг мой, — позвал он, — можешь ли ты позвать сейчас свою девушку?
— Конечно, — ответил Вахель-паша.
Я испуганно обернулся. Диван, на котором возлежал паша, находился рядом с моим; должно быть, мы не заметили пашу во время еды. Он выслал слугу с поручением из зала, затем вежливо кивнул Хобхаузу и мне.
Али попросил пашу присоединиться к нам. Он проделал это с таким величайшим уважением, что я был поражен тем, что Али, не уважая никого, кроме себя (как думали мы), обходится с Вахель-пашой почти боязливо. Он был заинтересован и одновременно обеспокоен, узнав, что мы уже знакомы с Вахель-пашой. Мы описали ему нашу встречу в Янине и все сопутствовавшие ей обстоятельства.
— Нашли ли вы своего сбежавшего мальчика? — спросил я Вахель-пашу, одновременно страшась его ответа.
Но он улыбнулся и покачал головой.
— С чего вы взяли, что мой раб был мальчиком?
Я покраснел, отчего вызвал у Али припадок восторга. Вахель-паша наблюдал за мной с ленивой улыбкой.
— Да, я поймал своего раба, — сказал он, — но на самом деле это девушка, и сейчас она покажет нам небольшое представление.
— Она прекрасна, — поделился, подмигивая, Али, — как небесные пэри.
Вахель-паша вежливо склонился.
— Да, но она еще и упряма. Я готов думать, что если бы не любил ее как родное дитя, то позволил бы ей сбежать.
Он замолчал, и его густые брови сомкнулись, выражая внезапно охватившую его боль.
Я был поражен, но уже в следующее мгновение набежавшая было тень исчезла с его лица.
— Хотя, — его губы искривились в усмешке, — мне всегда доставлял удовольствие азарт охоты.
— Охоты? — уточнил я.
— Да Когда-нибудь она должна была бежать из Янины.
— Так, значит, вы этого дожидались?
Он посмотрел на меня и улыбнулся.
— Допустим. — Он вытянул пальцы, словно это были клешни. — Все это время я знал, что она находится там, прячется. И я поставил своих людей охранять дороги, в то время как сам ждал, — он вновь улыбнулся, — занимаясь в монастыре.
— Но как вы узнали, что она именно в Янине? — спросил Хобхауз.
Глаза паши сверкнули ледяным блеском.
— У меня нюх на такие вещи.
Он взял виноградину и аккуратно высосал сок из ягоды. Затем вновь посмотрел на Хобхауза.
— Ваш друг, — сказал он, как бы между прочим, — тот толстый грек… Оказалось, что это он прятал ее в подвале своего дома.
— Атанасиус? — с сомнением спросил я.
— Да. Странно, не так ли? Он был большим трусом.
Паша взял вторую ягодину.
— Но, как говорится, тот храбрый из храбрых, кто побеждает свой страх.
— Где же грек сейчас? — поинтересовался я.
Али восторженно захихикал.
— Там, — весело просвистел он, — на колу. Единственно, что он сделал стоящее, так это умер этим утром. О, это было зрелище! Толстые обычно быстро умирают.
Я взглянул на Хобхауза. Он был белее покойника, меня же спасло лишь то, что я и так был бледен. Али, казалось, не заметил нашего потрясения, но Вахель-паша наблюдал за нами, и жестокая ухмылка кривила его губы.
— Как это произошло? — как можно более непринужденно спросил я его.
— Я поймал их у Пиндуса, крепости повстанцев, им почти удалось скрыться.
И снова легкая тень омрачила его лицо.
— Почти, но не совсем.
— Этот жирный грек, — встрял Али, — он, должно быть, знал очень много о повстанцах. Но он ничего не сказал. Тогда пришлось отрезать ему язык. Жаль. — Он добродушно усмехнулся. — Да, смелый был человек.
Внезапно легкое движение прошло среди музыкантов. Мы посмотрели туда. На середину зала выбежала девушка в красных шелках. Она приблизилась к нам, мы не видели ее лица, скрытого под струящимися складками покрывал, но смуглое тело было стройным и прекрасным.
Колокольчики на запястьях и лодыжках мелодично зазвенели, когда она распростерлась ниц. По знаку Вахель-паши девушка поднялась. Она замерла в ожидании, и вот раздался грохот цимбал, и девушка начала танцевать.
Лорд Байрон остановился и вздохнул.
— Страсть! Какое это необъяснимое и прекрасное чувство, настоящая страсть молодости и надежды! Она подобна камню, брошенному в болото, она подобна звону давно не звучавшего колокола. Но круги расходятся на воде, и затихает эхо, так же как и страсть. Это ужаснейшее состояние, так как все мы знаем, что память о счастье есть самое худшее несчастье из всех. Что я могу сказать вам о ней? Что она была прекрасна, как антилопа? Прекрасна, грациозна и полна жизни? — Вампир пожал плечами. — Конечно, я могу говорить, но это не передать словами. Два мучительно бессонных столетия промчались с тех пор, как я видел ее танец. Вы представить себе не можете, как прекрасна она была, в то время как я… — Нахмурившись, он пристально посмотрел на Ребекку. Холодным пламенем сверкал его взгляд. Он пожал плечами. — В то время как я стал тем, что я есть теперь.
Он закрыл глаза.
— И все же это чувство так сильно завладело мной, что я влюбился до того, как узнал, кем было мое божество. Медленно, покрывало за покрывалом, она раскрывала свое лицо. Если она и раньше была прелестна, то теперь предо мной предстало видение расцветающей мучительной красоты.
И снова он посмотрел на Ребекку, и снова нахмурился, страсть и сомнение застыли на его лице.
— У нее были каштановые волосы.
Ребекка прикоснулась к своим волосам. Лорд Байрон улыбнулся.
— Да, — пробормотал он, — очень похожие на ваши, только у нее они были заплетены в косы и переплетены золотом. Темные большие глаза… Ее щеки пылали румянцем заходящего солнца, ее губы были нежными и алыми… Музыка закончилась, и девушка опустилась в чувственном порыве на пол, склонив голову к моим ногам. Я ощутил легкое прикосновение ее губ, тех самых губ, которые мне довелось познать раньше, когда мы слились в объятии в гостинице на Ахероне.
Лорд Байрон устремил свой взгляд мимо Ребекки, в темноту. Как будто, подумалось ей, он обращался к кому-то с мольбой, словно тьма перед ним была теми столетиями, что унесли его так далеко от счастья.
— Это был Никос? — спросила она.
— Да. — Он улыбнулся. — Никос, вернее девушка, выдававшая себя за мальчика по имени Никос.
Она подняла голову, откинув назад волосы. Наши глаза встретились, но она не подала вида, что узнала меня, лишь тупое безразличие рабыни было в ее взгляде. Как же она умна, подумал я, как смела и сильна!
И в то же время, да, и в то же время, — он еще раз посмотрел на Ребекку, — так красива! Не удивительно, что я почувствовал, бурление в своей крови и сумятицу в мыслях, мне словно предложили запретный плод из Эдема Вот она, поэзия жизни, которую я так тщетно пытался найти! Человек, подумал я, не может всю жизнь оставаться на берегу. Он должен отдаться воле стихий, иначе что же такое жизнь? Жалкое существование без страстей и чувств, которое в конечном счете обречено на смерть.
Лорд Байрон замолчал и нахмурился.
— Я всегда верил в это. — Он глухо рассмеялся. — И я полагаю, что это правда. Не может быть жизни без смятения или страсти.
Он вздохнул и вновь взглянул на Ребекку.
— После моих слов, я думаю, вы поймете мои чувства к Гайдэ и причины моих поступков. Ибо я всегда считал, и считаю так по сей день, что подавлять в себе порывы значит убивать свою душу. Поэтому, когда Вахель-паша, сказав, что скоро покинет Тапалин со своей рабыней, пригласил меня к себе, я согласился. Хобхауз был взбешен и поклялся не ехать со мной; даже Али загадочно нахмурился и покачал головой, но я стоял на своем. В конце концов мы договорились, что поедем с Хобхаузом по янинской дороге, а дальше разделимся: он двинется в Амбракию, а я останусь в Ахероне. И встретимся через три недели в Миссолунги, в городке на южном побережье.
Лорд Байрон снова нахмурился.
— Очень романтично, как вы видите, но вскоре я понял, что не только моя страсть толкает меня туда.
Он покачал головой.
— Нет, была и другая причина для моего визита в Ахерон. Ночью, перед отъездом Вахель-паши, мне снова привиделся странный сон. Во второй раз я очутился среди руин, но уже не маленького, а большого города, и, куда бы я ни посмотрел, везде были запустение и упадок, разрушенные ступени тронов и храмов, какие-то развалины, высвеченные бледным светом луны, в которых обитали только совы и шакалы. Даже гробницы были раскрыты и пусты, и я знал, что в этом огромном царстве разрухи живых, кроме меня, нет.
И я вновь почувствовал когти паши, вонзающиеся в мое горло, его язык, слизывающий мою кровь. Затем я увидел его светящийся бледный контур среди кипарисов и камней и последовал за ним. Невероятно древним казался мне паша — как и город, он нес в себе мудрость веков и тайны смерти. Вдали возникла какая-то гигантская тень. «Следуй за мной», — услышал я шепот. Подойдя к зданию, я вошел внутрь. Там было множество лестниц, беспорядочно расположенных и невероятно извилистых. По одной из них поднимался паша, но когда я ринулся вслед за ним, лестница исчезла, и я оказался в замкнутом пространстве. А паша продолжал подниматься, и в ушах моих звучал его призывный шепот: «Следуй за мной». Но я не мог, я наблюдал за ним и ощущал неимоверной силы желание увидеть, что находится там, наверху, так как знал, что там бессмертие. Высоко надо мной замыкался купол, пылающий драгоценными камнями; и я понял, что стоит мне достигнуть его, как жажда моя будет утолена. Но паша исчез, и я остался наедине с багровой тенью. «Следуй за мной, — продолжал слышать я, пытаясь проснуться. — Следуй за мной…» Но я открыл глаза, и голос затих в утренних лучах солнца.
В течение нескольких последующих дней мне иногда казалось, что я вновь слышу шепот. Конечно, я знал, что это было всего лишь мое разыгравшееся воображение, и все же я был взволнован и обеспокоен. Меня с невыразимой силой тянуло в Ахерон.
Глава 4
Ты вступаешь в связь с вещами,
На которых есть заклятье;
Ты с аскетами в землянках Злые духи созываешь
И нечистые отродья, что гуляют по долине
В царстве смерти…
Лорд Байрон. «Манфред» (пер. А. Н. Бахурина)
Как мы и договаривались, пути наши с Хобхаузом разделились на янинской дороге. Он поехал на юг; я же повернул назад, в горы, чьи продуваемые ветрами тропы вели к Ахерону. Мы ехали целый день без остановок — я говорю «мы», имея в виду, что со мной и Флетчером был еще один охранник, настоящий головорез по имени Висцилий, которого так любезно предоставил к моим услугам Али-паша, Скалистые отроги и ущелья были как всегда безлюдны, и, наблюдая эти дикие места вновь, я невольно в который раз вспомнил, с какой легкостью были убиты мои шесть охранников. Тем не менее я не испытывал беспокойства, даже когда мы проезжали места, где можно было ожидать засады, или когда взгляд мой ловил белеющие на солнце кости. Я, видите ли, был одет как албанский паша, то есть в роскошные красно-золоченые одежды, а в таком облачении стыдно быть трусом. Так что я закрутил усы, приосанился в седле и почувствовал себя грознее любого бандита на свете.
Было уже поздно, когда мы услышали грохот водопада — это означало, что мы уже достигли Ахерона. За мостом дорога разветвлялась: одна тропа спускалась вниз, к деревне, в которой я ночевал; другая уходила вверх. По ней мы и пошли. Это был крутой узкий проход среди скал и валунов, а справа от нас черные провалы обозначали русло Ахерона. Тут я начал нервничать, отвратительно, пошло нервничать, как будто сам поток, мчавшийся внизу, леденил мою душу; и даже Висцилию было не по себе.
— Мы должны поторопиться, — пробормотал он, глядя на красные контуры горных вершин на западе. — Ночь приближается.
Он вытащил нож.
— Волки, — кивнул он мне. — Волки и другие звери…
Впереди нас солнце раскинуло свои последние лучи по безоблачному небу. Но даже после того, как оно зашло, его жар, плотный и угнетающий, еще долго оставался в воздухе, так что, когда ночь сменила сумерки, звезды проступили на небе, словно капли пота. Дорога становилась все круче — она углубилась в густую кипарисовую рощу, и корни деревьев извивались под ногами, цепляясь за скалы, а ветви, нависшие над тропой, погружали ее во тьму. Внезапно Висцилий придержал лошадь и жестом подал нам знак остановиться. Я ничего не услышал, но когда Висцилий указал на просвет между деревьями, я увидел какое-то бледное мерцание. Я подъехал ближе — дорога проходила через древнюю арку, чей белый мрамор светился в лунном свете и чье основание было скрыто в густых зарослях травы. На фризе арки я различил полустершуюся надпись: «Это место, о повелитель Смерти, тебе я посвящаю…» — это все, что я смог прочесть. Я оглянулся вокруг: все казалось спокойным.
— Не вижу здесь ничего опасного, — сказал я Висцилию, но он, чьи глаза были приучены к темноте, покачал головой и показал вверх по тропинке.
Там кто-то двигался в тени утесов. Я пришпорил лошадь, но незнакомец даже не обернулся, он продолжал идти, не обращая на нас внимания.
— Кто вы? — спросил я, разворачивая лошадь перед человеком.
Он молчал, устремив взгляд вперед, а лицо его было скрыто черным капюшоном.
— Откуда вы? — спросил я снова, а потом нагнулся и сорвал капюшон с его лица.
Взглянув на него, я расхохотался. Это был Горгиу.
— Что же вы молчали? — удивился я.
Но Горгиу и тут не проронил ни слова. Глаза его, стеклянные и безразличные, медленно обратились на меня из глубоких глазниц. На его лице не отразилось ни единого признака того, что он узнал меня; он отвернулся, а моя лошадь, в страхе встав на дыбы, попятилась назад. Горгиу сошел с тропы и вошел в чащу. Я следил за ним, пока он не исчез, ступая так же медленно и равномерно.
Ко мне подъехал Висцилий, его скакун тоже выглядел напуганным, как; жеребенок. Висцилий поцеловал лезвие своего ножа.
— Пойдемте, мой господин, — прошептал он, — В этих древних местах полно нечисти.
Лошади под нами еще долго не могли успокоиться, и нам стоило больших усилий заставить их продолжить путь. Тропа стала расширяться; скалы с одной стороны отступили, а с другой стороны показался отвесный утес. Он отделял нас от течения Ахерона и темным контуром на серебристом звездном небе заслонял луну так, что вокруг ничего не было видно. Наши лошади какое-то время двигались инстинктивно, потом утес стал более отлогим, и луна вновь осветила наш путь. Впереди тропа заворачивала за выступ скалы — мы последовали туда, и перед нами предстали руины города. Дорога, извиваясь, поднималась к стоящему на вершине замку. Он тоже казался заброшенным, и в бойницах его не было видно ни огонька. Тем не менее, глядя на остроконечные очертания замка на фоне звезд, я почувствовал уверенность, что мы наконец добрались до цели нашего путешествия и там, за стенами, нас ожидает Вахель-паша.
Мы поехали через город — там были церкви, купавшиеся в лунном свете, разрушенные колонны, поросшие мхом. Я увидел небольшую хижину, ютившуюся между колоннами портика, и дальше на нашем пути нам попалось множество подобных лачуг, пристроившихся подобно непрошенным поселенцам на развалинах прошлого. Я догадался, что это было именно то поселение, где жила Гайдэ, но теперь ни единой живой души здесь не осталось, только собака, заливаясь лаем, подбежала к нам, виляя хвостом. Я склонился и погладил ее. Эта зверюга лизнула мне руку и увязалась за нами следом. Впереди была большая высокая стена, окружающая замок, в которой мы обнаружили приоткрытые двустворчатые ворота. Доехав до них, я остановил лошадь и оглянулся на деревушку. Мне вспомнились Янина и Тапалин, которые приветствовали наше прибытие бурлящей жизнью, и, несмотря на невыносимую жару, по моей спине прошла дрожь при взгляде на этот мертвый покой и убогие лачуги внизу. Когда мы проезжали через ворота, собака оскалилась и убежала прочь.
Ворота захлопнулись за нами, хотя по-прежнему не было видно ни души. Между замком и нами была еще одна стена. Она, казалось, выступала из самой горы — столь отвесно возвышались над утесом ее зубцы. Тропинка, по которой мы ехали, была единственным путем в замок… и единственным выходом из него, подумалось мне, когда вторая пара ворот захлопнулась за нашими спинами. Но теперь хотя бы я видел свет факелов, беспокойно метавшийся по стенам. Я был рад увидеть эти признаки жизни — у меня возникли мысли о еде, мягкой постели и всех тех удовольствиях, о которых, как о награде, мечтает настоящий путешественник. Проезжая через последние, третьи, ворота, я посмотрел назад и обнаружил, что теперь вся дорога освещена факелами. И вот третьи ворота закрылись за нами, и мы снова остались одни в безлюдном полумраке. Наши лошади в страхе оскалили зубы, и стук копыт эхом отдавался среди каменных стен. Мы находились во дворе замка, у подножия небольшой лестницы, ведущей к открытой двери, очень древней и украшенной изображениями чудовищ; над нами возвышалась стена замка. Все вокруг было залито серебряным светом луны. Я спешился и направился к открытой двери.
— Добро пожаловать в мой дом, — сказал Вахель-паша.
Я не заметил его приближения, но вот он уже стоит передо мной на площадке перед дверью. Он протянул мне руку и обнял меня.
— Мой дорогой лорд Байрон, — прошептал он мне в ухо. — Я так рад вашему приезду.
Он крепко поцеловал меня в губы, затем отстранился и посмотрел мне в глаза. Его собственные глаза светились, как никогда раньше; лунным серебром сияло его лицо, чьи размытые очертания были подобны кристаллу, мерцающему в темноте. Он взял меня за руку и повел внутрь.
— Вы, наверное, устали с дороги, — заметил он. — 1 Вас ждет угощение и отдых, которые вы заслужили.
Я следовал за ним через дворы, по лестницам, мимо бесчисленных дверей. Я чувствовал, что никогда в жизни так не уставал; архитектура замка была похожа на то, что я видел во сне, интерьеры расширялись и сужались, полные всевозможных нагромождений и смешения стилей.
— Вот мы и пришли, — сказал наконец паша, отодвигая золотые занавеси и увлекая меня за собой.
Я осмотрелся вокруг: колонны, как в древнем храме, обрамляли комнату, а надо мной в сверкающей мозаике, переливающейся золотыми, зелеными и синими цветами, комнату венчал купол, такой воздушный и прозрачный, что казался сделанным из стекла. Две свечи в форме извивающихся змей были здесь единственным источником света, но даже в этом полумраке мне удалось различить арабскую надпись, окаймлявшую купол.
— «И сотворил Аллах человека, — прошептал мне хозяин замка, — из запекшейся крови». — Он лениво улыбнулся. — Это слова из Корана.
Он взял мою руку и жестом предложил сесть. Вокруг столика с едой были разбросаны подушки и шелковые подстилки. Заняв место перед столиком, я не заставил себя долго упрашивать и принялся за яства. Старая прислужница наполняла наши с пашой бокалы вином, хотя, как мне показалось, вкус напитка не доставлял ему особого удовольствия. Он спросил, не удивлен ли я, видя его пьющим вино, а когда я признался, что так оно и есть, он, смеясь, сказал, что никакие Божьи заповеди для него не указ.
— А вы, — глаза его засверкали, — чем бы вы пожертвовали ради удовольствия?
Я пожал плечами.
— Ну, какие еще есть удовольствия, — спросил я, — кроме как пить вино и есть свинину? Я приверженец весьма разумной религии, которая позволяет мне наслаждаться и тем и другим. — Я поднял свой бокал и осушил его. — Поэтому мне нечего опасаться проклятия.
Паша мягко улыбнулся.
— Но вы так молоды, милорд, и к тому же красивы. — Он наклонился над столом и взял меня за руку. — Неужели вы хотите убедить меня в том, что, кроме поглощения свинины, вас ничто не интересует?
Я мельком взглянул на руку паши, а затем снова встретился с ним глазами.
— Возможно, я и молод, ваше превосходительство, но уже успел познать на собственном примере, что за каждое удовольствие нужно платить сторицей.
— Что ж, думаю, вы правы, — сказал паша спокойным голосом.
Глаза его, казалось, подернулись пленкой безразличия.
— Вынужден признаться, — продолжил он после небольшой паузы, — что я уже и не помню, что такое наслаждение. За все эти годы я столько всего перепробовал, что мои чувства совсем притупились.
Я ошеломленно взглянул на него.
— Но позвольте, ваше превосходительство, — воскликнул я. — Разве вы были большим сластолюбцем?
— А что, не похоже? — спросил он.
Он выпустил мою руку. Поначалу мне показалось, что я разозлил его, но, посмотрев на его лицо, я узрел лишь ужасающую меланхолию, страсть, застывшую подобно волнам замерзшего пруда.
— В мире есть такие удовольствия, — медленно произнес он, — о которых вы, милорд, даже и не мечтали. Я говорю о разуме и о крови.
Он посмотрел на меня, и взгляд его сверкнул черной бездной.
— Ведь именно их вы ищете здесь, милорд? Именно такого рода удовольствия?
Его взгляд гипнотизировал меня.
— Должен признать, — сказал я, не в силах оторвать от него глаз, — что я, хотя и знаю вас совсем мало, но совершенно уверен в том, что вы — человек самый неординарный из тех, с кем меня когда-либо сводила судьба. Вы будете смеяться, ваше превосходительство, но в Тапалине вы мне снились. Мне приснилось, что вы показывали мне странные вещи и намекали на какую-то скрытую истину. — Меня внезапно одолел приступ смеха. — Что же вы можете подумать обо мне, узнав, что я приехал сюда, движимый какими-то сновидениями? Вам, должно быть, обидно это слышать.
— Отнюдь нет, милорд. Я вовсе не обижен. — Паша встал, взял мою руку и обнял меня. — Вы устали с дороги и заслужили крепкий сон без сновидений — сон святого.
Он поцеловал меня, и губы его обожгли холодом. Это показалось мне странным, так как снаружи, при лунном свете, я ощутил их тепло.
— Утро вечера мудренее, милорд, — нежно прошептал паша.
Он хлопнул в ладони, и рабыня в парандже выплыла из-за занавесок. Паша повернулся к ней:
— Гайдэ, проводи моего гостя в опочивальню.
Удивление, должно быть, слишком явно проступило на моем лице.
— Да, — сказал паша, наблюдая за мной. — Это та самая, которую я привез из Тапалина, моя прекрасная беглянка. Гайдэ, — он взмахнул рукой, — сними паранджу.
Девушка с изяществом повиновалась, и ее длинные волосы рассыпались по плечам. Она была даже прекраснее, чем я помнил ее, и мысль о том, что она наложница Вахель-паши, внезапно вызвала во мне отвращение. Я взглянул на уставившегося на свою рабыню пашу и узрел в его взгляде такое голодное желание, что чуть было не содрогнулся: рот его был раскрыт, а ноздри раздувались, как будто он впитывал в себя запах девушки, но его похоть, казалось, граничит с невыносимым отчаянием. Он повернулся и увидел, что я наблюдаю за ним, и по его лицу опять скользнуло голодное выражение, а затем оно вновь стало безучастным, как прежде.
— Поспите, — сказал он наконец и махнул рукой. — Вам нужен отдых, вам еще многое предстоит в эти дни. А теперь спокойной ночи, милорд.
Я поклонился, поблагодарил его и последовал за Гайдэ. Мы пошли к лестнице, и, когда мы поднялись на самый верх, она вдруг обернулась и поцеловала меня крепко и страстно, и я, не заставив себя упрашивать, обхватил ее и впился в ее губы изо всех сил.
— Вы пришли за мной, мой дорогой, милый лорд Байрон. — Она снова поцеловала меня. — Вы пришли за мной!
Затем она высвободилась из моих объятий и взяла меня за руку.
— Сюда, — сказала она, ведя меня к следующему пролету лестницы.
Теперь она совсем не была похожа на рабыню; напротив, она вся светилась страстью и возбуждением; красивая как никогда, она излучала неистовую радость, которая обдавала жаром мое тело, отчего у меня захватило дух. Мы добрались до комнаты, которая, к моему удивлению, напомнила мне мою старую добрую спальню в Ньюстеде — широкие колонны и массивные арки, венецианские свечи и прочий готический хлам. Я как будто снова оказался в Англии — и, конечно, Гайдэ являла собой полную противоположность духу этой комнаты, настолько она была естественной, страстной — истинной гречанкой. Я обнял ее, она снова прильнула ко мне губами, и поцелуй ее на этот раз был таким же горячим, как тот, первый, в гостинице, когда она еще смела надеяться на свободу.
Но теперь-то она рабыня, вспомнил вдруг я и медленно отстранился.
— Почему паша позволил нам остаться наедине? — спросил я.
Гайдэ посмотрела на меня широко открытыми глазами.
— Потому что он ждет, что вы лишите меня девственности, — сказала она просто.
— Лишу девственности? — Я потерял дар речи. — Ждет?
— Ну да. — Она вдруг нахмурила брови. — Видите, меня даже «отперли» сегодня.
— Откуда отперли?
— Ниоткуда.
Гайдэ рассмеялась. Она целомудренно скрестила руки перед собой.
— Вот это, — сказала она, — это все принадлежит моему хозяину, а не мне. Он делает все то, что ему угодно.
Она взметнула руки, затем подняла свои юбки — на ее кистях и голенях я увидел небольшие стальные кольца оков, которые я сперва принял за браслеты.
— Между ног у меня тоже запирают.
— Понимаю, — произнес я не сразу.
Она посмотрела на меня широко раскрытыми немигающими глазами, а потом с силой прижала меня к себе.
— Ничего вы не понимаете, — сказала она, лаская мои волосы, — я не могу и не буду рабой, мой господин, его рабой, нет, только не его. — Она нежно поцеловала меня. — Байрон, дорогой, спасите меня, прошу вас, помогите мне. — В глазах ее внезапно вспыхнула ярость и униженная гордость. — Я должна быть свободной, — прошептала она на одном дыхании, — я должна.
— Знаю, — я прижал ее к себе. — Я знаю.
— Вы клянетесь? — Я чувствовал, как дрожит ее тело. — Вы клянетесь помочь мне?
Я кивнул. Эта страсть тигрицы вкупе с красотой богини — мог ли я остаться равнодушным? Мог ли? Я посмотрел на кровать. Все же что-то не давало мне покоя — почему нам позволили остаться одним? Паша не был похож на человека, который бы с такой легкостью предоставил гостю на ночь свою любимую наложницу. А я здесь, высоко в горах, в чужой стране, был совершенно одинок и беззащитен.
Мне вспомнились слова Гайдэ, сказанные раньше.
— Паша, — медленно проговорил я, — он и в самом деле никогда не занимался с тобой любовью?
Она взглянула на меня и сразу отвернулась.
— Нет, никогда. — В ее голосе прозвучало отвращение, но еще я безошибочно распознал в нем страх. — Он никогда не использовал меня в… этих целях.
— Тогда в каких же?
Она нежно покачала головой и закрыла глаза.
Я повернул ее лицо к себе.
— Но почему, Гайдэ? Я не могу никак понять, зачем он отпер твои оковы и оставил тебя со мной?
— Вы что же, и впрямь не видите? — В ее глазах внезапно появилось сомнение. — Это ясно как божий день! Рабам нельзя любить. Рабыни — шлюхи, мой Байрон. И вы хотите, чтобы и я была вашей шлюхой, мой Байрон, мой милый лорд Байрон, неужели это то, чего вы от меня хотите?
Господи, я подумал, что она вот-вот заплачет, а я уже было довел ее до ложа, но нет, у нее оказались сила и гнев горного смерча, и я не мог сделать это. Была бы она потаскушкой, какой-нибудь лондонской шлюхой, меня бы не остановили ее слезы — обычный прием женщины, я бы настоял на своем. Но Гайдэ, она обладала всей прелестью своей страны, и, кроме того, в ней было нечто большее — что-то от духа Древней Греции, с которым я так долго жаждал соприкоснуться. В этой юной рабыне я нашел лучи того света, что влек за собой аргонавтов и вдохновлял ее предков в Фермопилах. Столь прекрасно, столь дико было это создание гор, гибнущее в своей клетке…
— Да, — прошептал я в ее ухо, — ты будешь свободна, я обещаю, — дыхание мое замерло в груди, — и я не стану принуждать тебя к любви, если ты сама не захочешь этого.
Она подвела меня к балкону.
— Так, значит, мы договорились? — спросила она. — Мы бежим вместе из этого места?
Я кивнул.
Гайдэ улыбнулась счастливой улыбкой и указала на небо.
— Еще не время, — сказала она, — мы не можем бежать при полной луне.
Я с удивлением взглянул на нее.
— Отчего же нет, черт возьми?!
— Это небезопасно.
— Да? Ну и что!
Ее палец оказался на моих губах.
— Доверься мне, Байрон. — Несмотря на жару, она дрожала. — Я знаю, что делать.
Она снова вздрогнула и оглянулась через плечо.
Я посмотрел в ту же сторону и увидел зубчатую башню, выделяющуюся в свете луны. На самом верху башни горел красный свет. Я подошел к краю балкона и увидел, что башня поднимается почти отвесно от конца мыса. Далеко внизу протекал Ахерон, неся свои густые, не отражающие лунный свет воды. Я перегнулся через перила и заметил, что наша стена спускается в бездну столь же отвесно, как и остальные. Гайдэ обняла меня и снова указала на башню.
— Мне пора, — сказала она.
В этот момент в дверь постучали. Гайдэ встала на колени, чтобы развязать мне сапоги.
— Да, — крикнул я.
Дверь отворилась, и в комнату вошло существо. Я называю его так потому, что, хотя оно и имело облик мужчины, лицо его не отражало и тени интеллекта, а глаза были мертвы, как у лунатика. Его кожа казалась жесткой и была покрыта клочьями шерсти, нос у него прогнил, а кончики пальцев завершались длинными, как когти, ногтями. Тут я вспомнил, что мне уже приходилось с ним встречаться, это было то самое существо, что грохотало веслами в лодке паши. И одето оно было все в те же засаленные черные одежды, но в руках у него теперь был чан с водой.
— Вода, хозяин, — сказала Гайдэ, не поднимая головы, — умойтесь.
— Но где же мой слуга?
— О нем позаботятся, хозяин.
Гайдэ обернулась к существу и жестом велела ему поставить умывальницу. Я успел заметить выражение ужаса и отвращения, промелькнувшее на ее лице: Она склонилась над моими сапогами, сняла их и встала, не поднимая головы.
— Я могу идти, хозяин? — спросила она.
Я кивнул. Гайдэ снова бросила взгляд отвращения на существо, прошла по комнате, и существо двинулось вслед, а затем, перегнав ее, поскакало вниз по ступенькам. Гайдэ задержалась на мгновение.
— Сходите к моему отцу, — прошептала она, — скажите ему, что я жива.
Ее палец коснулся моей руки, и вот ее уже нет, и я стою один.
Я пребывал в страшном волнении, а желание и сомнение привели мой дух в состояние такого смятения, что о том, чтобы заснуть в эту ночь, нечего было и думать, как мне казалось. Но я, должно быть, был столь утомлен путешествием, что стоило мне только прилечь, как тяжелая дрема овладела мной. Ни кошмары, ни какие-либо другие видения не тревожили меня; напротив, я спал беспробудно и встал лишь тогда, когда солнце было высоко в небе. Я вышел на балкон: где-то в самом низу протекал извечно черный Ахерон, но все другие цвета, оттенки земли и неба, наполняли все вокруг такой райской красотой, что я невольно подумал, как это несправедливо, что эта страна богов теперь отдана власти человека-тирана. Я взглянул на башню, которая и в эти утренние часы сохраняла свои рваные очертания, как ночью при луне, и, сравнивая ее с прелестью пейзажа, уподобил эту башню демону, повергшему ангельское войско и водрузившему свой трон на небе, чтобы править им как адом. И все-таки, думал я, все-таки, что же в Вахель-паше внушило мне такой страх, что я уже сравниваю его с дьяволом, и для меня это отнюдь не метафора? Мне казалось, что ответ заключался в страхе людей перед ним, в сплетнях, которые мне довелось слышать о нем, в самом его образе жизни, отшельническом и покрытом тайной. Кроме того, ко всему этому примешивались зверские методы, которыми он поддерживал свое господство. Но, в конце концов, ведь общепринято считать, что дьявол — аристократ!
Я боялся и в то же время предвкушал встречу с ним Тем не менее, когда я спустился в комнату с куполом, где был вчера, я обнаружил там лишь ждавшую меня прислужницу. Она протянула мне записку, в которой говорилось: «Мой дорогой лорд Байрон, вы должны простить меня, но сегодня я не смогу составить вам компанию. Прошу вас, примите мои искренние извинения, неотложные дела требуют моего вмешательства. Мой замок — в вашем распоряжении. Надеюсь увидеться с вами вечером». Подписана записка была на арабском.
Я поинтересовался у служанки, куда отправился паша, но она задрожала так сильно, что, должно быть, потеряла дар речи. Тогда я спросил о Гайдэ, а потом о Флетчере и Висцилии, однако она была столь напугана, что даже не поняла меня, так что все мои расспросы оказались тщетными. Чтобы не мучить ее, я махнул рукой и послал ее накрывать на стол, а когда позавтракал, то и вовсе отпустил ее, оставшись в одиночестве.
Я подумал о том, чем бы мне заняться или, скорее, чем мне здесь позволено заниматься. Меня все больше и больше беспокоило исчезновение моих спутников, отсутствие же Гайдэ порождало во мне еще более мрачные мысли. Я решил обследовать замок, который показался мне столь огромным прошлой ночью, думая, что, может быть, мне удастся обнаружить какие-либо следы. Я покинул купольный зал и вступил в длинный сводчатый коридор. То там, то тут на всем его протяжении все новые арки открывали все новые коридоры по разные стороны, и в конце концов этих ответвлений стало столько, что, казалось, конца им не будет и выбраться мне из этого лабиринта уже не удастся. Многочисленные жаровни, стоявшие вдоль стен, освещали проходы длинными языками пламени, которое, впрочем, совсем не давало тепла, а лишь излучало тусклый свет. Воображение мое разыгралось, я думал о колоссальной тяжести перекрытий, нависших надо мной, а мерцающий полумрак; самого лабиринта внушал мне мысли, что я навеки замурован в каком-то громадном склепе. Я крикнул, эхо моего голоса затерялось в отдающем плесенью воздухе. Я кричал снова и снова, поскольку, хотя я и был единственным узником этой тюрьмы, меня не покидало чувство, что со всех сторон за мной следят немигающие глаза. Столпы некоторых арок были выполнены в виде статуй, очень древних, в их формах хотя и узнавалась греческая традиция, лица их, те, что сохранились, внушали необычайный ужас. Я остановился у одной из скульптур, пытаясь разобраться, чем было вызвано это ощущение страха, ведь в ликах статуй не было ничего особенного — ни гротеска, ни оскала чудовища, — но тем не менее, рассматривая их, я чувствовал, что меня тошнит от отвращения. Внезапно я понял, что дело было в безликости и в то же время в безнадежном вожделении, в выражениях столь мастерски сделанных лиц, и сразу же я подумал о слуге паши, о существе в черном, который приходил в мои покои этой ночью. Я оглянулся вокруг. В темных углах мне начали мерещиться другие такие же твари, которые наблюдали за мной мертвыми глазами. В какой-то момент я даже ощутил их присутствие и закричал, и мне показалось, что я увидел, как некое существо проскользнуло в глубь коридора, но, когда я попробовал пойти следом за ним через арку, я ничего не обнаружил, кроме факелов и каменных стен.
Свет становился все ярче, и, по мере того как я продвигался по проходам, каменная кладка начала мерцать будто позолоченная. Я осмотрел стены и увидел, что они покрыты византийской мозаикой, хотя и облупившейся от старости. Глаза святых были выбиты, так что взгляд их был так же мертв, как и у статуй. Обнаженная Мадонна, вцепившаяся в Христа, — улыбка младенца излучала коварство и злобу, а лик Девы был настолько соблазнителен, что мне стоило большого труда уверить себя, что это всего лишь изображение на стене. Я отвернулся, но что-то заставило меня снова посмотреть туда, на эту улыбку шлюхи, на это выражение в глазах Мадонны. Я снова отвернулся, собрав все силы, чтобы не смотреть на мозаику, и поспешил к следующей арке. Свет сделался еще ярче и приобрел глубокий красный оттенок. Впереди на моем пути висели парчовые занавеси. Я раздвинул их и остановился, чтобы осмотреться вокруг.
Я оказался в просторном зале, он был совершенно пуст, увенчанный куполом, а дальний конец его был скрыт мраком. Громадные колонны вдоль стен выступали словно титаны, арочные проемы выглядели такими же, что и в лабиринте; за ними, казалось, начиналась ночь. Но сам зал был освещен все теми же жаровнями с холодным пирамидальным пламенем, поднимающимся к бельведеру купола. В самом центре под куполом я увидел небольшой алтарь, сделанный из черного камня. Я подошел к нему и понял, что это единственный предмет во всем помещении. И стук моих каблуков был единственным звуком, тревожившим давящую пустоту высоких сводов зала.
При ближайшем рассмотрении алтарь оказался намного больше, чем мне показалось издалека. Да и не алтарь это был вовсе, а беседка — из тех, что можно встретить в мечетях. Я не мог прочитать арабскую надпись на двери в беседку, но узнал те же слова, что видел вчера вечером: «И сотворил Аллах человека из запекшейся крови». Если эту беседку действительно построили магометане (а никакой другой причины ее нахождения здесь я не видел), то изображения на ее стенах оставили меня в недоумении. Несмотря на то что Коран запрещает изображать человеческое тело, здесь в камне были выгравированы фигуры демонов и древних богов. Прямо над входом было красивое женское лицо, такое же развратное и жестокое, как лицо Мадонны. Я смотрел на него и ощущал все то же смешанное чувство отвращения и вожделения, как тогда, когда созерцал мозаику. Я был не в силах оторвать взгляд от лица девушки, и мне стоило громадных усилий, чтобы заставить себя отвернуться и ступить в темноту беседки.
Мне почудилось какое-то движение. Я вперил взгляд во тьму, но ничего не увидел Передо мной были ступеньки, спускавшиеся во мрак; я сделал шаг вперед и опять услышал, как что-то шевельнулось.
— Кто здесь? — позвал я.
Ответа не последовало. Я сделал еще один шаг. Чувство неимоверного страха начало овладевать мной, более сильного, чем мне приходилось доселе испытывать; оно, подобно ладану, сочилось из темноты и растекалось по моим нервам. Но я заставил себя подойти к ступенькам. Я шагнул вниз. Внезапно за моей спиной раздались звуки шагов, и чьи-то пальцы вцепились в мою руку.
Я резко развернулся, замахиваясь тростью. Омерзительнейшая тварь с пустыми глазами и отвисшей челюстью предстала передо мной. Я попытался вырвать свою руку, по хватка была железной. Его дыхание, смердившее мертвечиной, обдало мое лицо. В отчаянии я ударил чудовище по руке тростью, но оно, казалось, не заметило этого и швырнуло меня так, что я, споткнувшись, упал на каменный пол зала снаружи беседки. Будучи взбешен, я вскочил на ноги и набросился на монстра, он же отскочил назад, но, когда я двинулся к ступеням, он оскалил зубы, такие же острые, как зубья горной гряды. Он страшно зашипел, то ли предупреждая меня, то ли угрожая мне, и в тот же миг новое облако ужаса, рожденное во тьме подземелья, сковало мое тело. До этого момента я подавлял в себе страх, но тут, глядя в темноту лестницы и на ее ужасного стража, понял, что иногда даже самый смелый из всех людей должен сдаться и отступить. Я сделал шаг назад, и существо тут же снова застыло в оцепенении. И все-таки мне было стыдно за свою трусость. И как обычно в таких ситуациях, мне хотелось свалить на кого-то вину за свое отступление.
— Вахель-паша! — позвал я. — Вахель-паша!
Никто не ответил, лишь эхо моего собственного голоса заметалось в исполинских стенах зала. Теперь я увидел у дальней стены полускрытое тенями существо, такое же, как у беседки или как то, что приносило мне воду в спальню. Существо сидело на четвереньках и мыло каменные плиты пола, не обращая на меня никакого внимания. Я подошел к нему.
— Эй, ты! — окликнул я. — Где твой хозяин?
Существо и ухом не повело. В ярости я отшвырнул таз с водой, стоявший рядом, и схватил существо за его черные лохмотья.
— Где паша? — спросил я.
Существо уставилось на меня, беззвучно хлопая ртом.
— Где паша? — заорал я.
Существо и глазом не моргнуло, лишь начало улыбаться тупым, животным, похотливым оскалом. Я выпустил его, взял себя в руки и снова осмотрел зал. Я увидел винтовую лестницу вокруг одной из колонн и еще одно существо, которое так же, как и первое, на четвереньках мыло лестницу. Я проследил взглядом за изгибами лестницы и увидел, что она отходит от колонны, проходит между горящими факелами, далее — вдоль купола и обрывается в пустоту. Я посмотрел на другие колонны, туда, где они возносились к куполу. И увидел то, что до этого оставалось мной не замеченным, — лестницы были повсюду: разорванные пролеты, бесполезные переплетения ступеней, стремящихся ввысь и обрывающихся в пустом пространстве. На каждой из этих лестниц, подобно узникам какого-нибудь проклятого бастиона, множество скорчившихся фигур терли каменные ступени, и я вспомнил свой давешний сон, в котором я карабкался по таким же вот фантастическим лестницам, пока не запутался и не заблудился окончательно. Суждено ли мне было разделить участь этих существ и нести вместе с ними эту бессмысленную повинность, вечно скоблить это мрачное царство знания, которое никогда не будет открыто мне? Я содрогнулся, так как в это мгновение вдруг самыми дальними уголками своей души ощутил реальность тайной мудрости и власти паши, и для меня стал очевиден истинный смысл слов, однажды уже оброненных мною в праздности, о том, что он был личностью, какой мне еще встречать не приходилось. Но что же скрывалось за этой личностью? В моей памяти всплыло единственное греческое слово, которое всегда произносилось в страхе тихим шепотом, — вурдалак. И могло ли статься, подумать только, что я теперь пленник этого чудовища? Так и стоял я в гигантском зале, и чувство страха во мне переросло в яростный гнев.
Ну нет, думал я, никакие ужасы этих замков не сломят меня. Тогда, во сне, я потерялся в лабиринте лестниц, но паша каждый раз находил все новые ступени, по которым он мог взбираться. Поэтому я вновь взглянул вверх на заканчивающиеся в пустоте ступени, и тогда я увидел, что одна из лестниц не оканчивается в воздухе, как другие. Я поспешил к ней и стал подниматься. Вверх по спирали я ступал по узким ступеням, выбитым в колонне, и достиг края купола. На этот раз мне не встретился никто, никакие твари в черных одеждах, и ничто не могло преградить мне дорогу — я был один. Прямо передо мной ступени уходили в стену. Я опять посмотрел вниз, на огромный зал, простершийся подо мной, на эту головокружительную пустоту гигантского каменного мешка, и ощутил внезапное отвращение при мысли, что мне предстоит протиснуться в узенький проход, открывшийся передо мной. Тем не менее я склонил голову, вошел в него и начал взбираться все выше и выше в кромешной тьме.
Необычайное возбуждение, вызванное злостью и недоверием, овладело мною. Ступеням, казалось, не будет конца, я понял, что я — в башне, в той самой, красный огонь которой я видел прошлой ночью. Наконец я остановился перед дверью.
— Вахель-паша! — прокричал я, стучась в дверь своей тростью. — Вахель-паша, впустите меня!
Ответа не было. Я толкнул дверь, сердце стучало так, что готово было выпрыгнуть из груди от страха перед тем, что могло открыться моему взору. Дверь отворилась без труда. Я шагнул в комнату.
Никаких ужасов там не было. Я огляделся. Ничего, кроме книг на полках, на столах, стопки книг на полу. Я поднял одну из них и прочитал название. Книга оказалась французской: «Основы геологии». Я поднял брови в удивлении: совсем не этого я ожидал. Я приблизился к окну, там стоял прекрасный телескоп неизвестной мне доселе работы, нацеленный в небо; я открыл вторую дверь, за которой находилась другая комната, полная склянок и пробирок. Яркие разноцветные жидкости булькали в сосудах и текли по стеклянным трубкам, словно кровь по прозрачным венам. Баночки, наполненные порошками, выстроились на полках. Повсюду была разбросана бумага. Я взял один лист и взглянул на него. Он был покрыт непонятными мне письменами: впрочем, одну фразу на французском мне все же удалось разобрать: «Гальванизм и принципы человеческого бытия». Я улыбнулся. Выходит, паша у нас натурфилософ — последователь Просвещения, в то время как я погряз в глупых суевериях. Вурдалаки, вампиры! И как только я мог поверить в такую чепуху, хотя бы на мгновение? Я подошел к окну, качая головой. Надо было взять себя в руки. Я смотрел на чистое синее небо. Уезжаю отсюда, решил я, прочь из замка, и постараюсь как-нибудь изгнать фантомов из головы.
Не то чтобы я вдруг почувствовал себя вне опасности, далеко нет. Обычный он человек или нет, это еще не мешает ему оставаться чудовищем — мысль, что я узник паши, по-прежнему наполняла меня сомнениями и гневом. Как бы то ни было, внизу, в конюшнях, никто не помешал мне оседлать коня; ворота в стене замка были открыты, когда я миновал татарских стражников, чьи факелы я, очевидно, видел накануне ночью, — они наблюдали за мной, но преследовать не стали. Я скакал быстрым галопом по горной дороге — ощущение свежего ветра в волосах и солнца, слепящего глаза, было приятным. Я проехал под аркой с посвящением князю Тьмы, и в этот миг груз, тяготивший мои душевные силы, казалось, исчез куда-то, и я почувствовал всю полноту жизни, ее красоту и радость. Я уже было поддался искушению умчаться прочь по горным тропам и никогда не возвращаться сюда, но тут подумал о своем долге перед Висцилием и Флетчером и, самое главное, вспомнил клятву, которую я дал Гайдэ. Одной секунды раздумий хватило мне, чтобы понять, насколько невыносимо будет бросить девушку, — моя честь была поставлена на карту, да, еще бы! Но не только в этом было дело, честь — это всего лишь слово. Нет, я не мог признать то, в чем мне было трудно сознаться перед собой: я был банально, безумно и бесповоротно влюблен. Раб рабыни — но все же как нечестно было думать так о Гайдэ, ведь рабыня, которая отказалась признать себя таковою, ею не является. Я потянул поводья и залюбовался дикой красотой гор, подумав, что Гайдэ — истинная дочь этой страны. Ля, она должна быть свободной! В конце концов, разве не удалось мне бежать сейчас
из замка без малейшей помехи, и к тому же было ясно, что паша — это всего лишь человек! Страх он внушал, но не потому, что был вампиром, не по этой причине. Ужас крестьян перед демонами не может меня удержать. Успокоив себя подобными размышлениями, я счел свой боевой дух достаточно крепким, чтобы противостоять паше до конца. И по мере того как солнце опускалось, я лишь укреплялся в своем решении.
Я полшил, что обещал Гайдэ повидать ее отца. Для побега нам были необходимы еда, оружие, лошадь для самой Гайдэ. Кто, как не ее семья, может снабдить нас всем этим? Я направился назад в деревню. Я не торопился — чем темнее небо, тем труднее будет меня заметить. Уже почти смеркалось, когда я достиг деревни и поехал по тропинке, безлюдной, как и раньше. На развалинах большой базилики сидел человек, который приветствовал меня вставанием; это был священник — тот самый, что убил тогда вампира у гостиницы; я подъехал к нему и спросил, как добраться до дома Горгиу. Священник выпучил на меня глаза и показал рукой. Я поблагодарил его, но он не проронил ни слова и тут же скрылся в тени. Я поехал дальше по тропе, деревня вокруг казалась абсолютно вымершей.
У дома Горгиу я увидел мужчину на скамейке. Это был Петро. Я с трудом узнал его, настолько озабоченным и измученным был его вид. Тем не менее, увидев меня, он поздоровался и поднял руку в знак приветствия.
— Мне надо увидеться с вашим отцом, — объяснил я, — он дома?
Петро прищурился и покачал головой.
— У меня для него новости, — сказал я, — послание, — я нагнулся в седле, — от его дочери, — прошептал я.
— Вам лучше зайти, — кивнул он наконец.
Он стоял, держа поводья моего коня, пока я спешивался, а потом проводил меня в дом. Он усадил меня возле двери, а старуха, по-видимому его мать, принесла нам вина. Тогда Петро попросил, чтобы я рассказал ему все, что мог.
Так я и сделал. Узнав, что Гайдэ до сих пор жива, Петро выпрямился и вздохнул с облегчением. Но когда я попросил его о помощи, цвет вновь исчез с его щек, мать же его, услышав мои слова, стала убеждать сына выполнить мою просьбу. Он на это лишь качал головой и жестами показывал свое отчаянное положение.
— Вам ли не знать, мой господин, — поведал он, — что дом наш теперь совершенно пуст.
Я поискал в своем плаще и извлек кошель с деньгами.
— Вот, — сказал я, кладя его Петро на колени. — Ступай куда угодно, будь нем как могила, но раздобудь нам снаряжение для побега. Иначе, боюсь, твоей сестре уже никто не поможет.
— Нам всем здесь никто уже не поможет, — сказал Петро простодушно.
— Что это значит?
Петро уставился себе в ноги.
— У меня был брат, — ответил он не сразу. — Мы с ним были клефти. Такого смельчака, каким он был, на земле не сыскать. Но люди паши и на него управу нашли, они казнили его.
— Да, — медленно кивнул я, — мне это рассказывали.
Петро не отрывал взгляда от земли.
— Мы не хотели смиряться, наш гнев лишь усилился. Наши нападения стали все более дерзкими. Отец объявил войну всем туркам. И я был с ним. — Петро бросил на меня взгляд и горько усмехнулся. — Вы и сами имели случай наблюдать наш промысел. — Улыбка сошла с его лица. — Но теперь всему конец, и все мы прокляты.
— Да, ты все твердишь мне об этом, но что ты имеешь в виду под проклятьем?
— Это дело рук паши.
— Это всего лишь слухи, — вмешалась мать.
— Но откуда же идут эти слухи, — спросил Петро, — как не от самого паши?
— Если бы он так хотел, ему было бы довольно всадников, чтобы уничтожить нас, — сказала мать. — Ему это так же легко, как мальчишке муху прихлопнуть. Но где же эти всадники? Я что-то их не вижу. — Она крепко прижала к себе сына. — Не хнычь, Петро, будь мужчиной.
— Мужчиной? Конечно! Но не против мужчин мы сражаемся!
Наступила тишина.
— А что твой отец об этом думает? — спросил я.
— Он ушел в горы, — покачал головой Петро.
Он поднял глаза, созерцая пики гор, закрывающие садящееся солнце.
— Он не успокоится. Ненависть к туркам гонит его вперед. Уже десятый день, как его нет. — Петро запнулся. — Не знаю, увидим ли мы его еще.
В этот момент солнце наконец скрылось, и зрачки Петро расширились. Он медленно встал и подошел к двери. Он указал куда-то, и мать его приблизилась.
— Горгиу, — прошептала она, — Горгиу! Он вернулся!
Я выглянул из дверного проема. Это, несомненно, был Горгиу, и он шел по дороге.
— Да пребудет с нами милость Господня, — шептал Петро, следя за стариком полным ужаса взглядом.
Лицо Горгиу было таким же бледным, каким оно запомнилось мне в прошлую ночь: глаза его — такие же неподвижные, его шаг — столь же неумолимый. Он оттолкнул нас в сторону, проходя в дом, затем сел в самом темном углу и вперил взгляд в одну точку; волчий оскал начал появляться на его лице, кривя линию губ.
— Так, так, — сказал он хриплым глухим голосом, — хорошо же вы меня встречаете.
Никто поначалу ему не ответил. Затем Петро шагнул вперед.
— Отец, — окликнул он, — почему ты прячешь от нас свою шею?
Горгиу медленно посмотрел на сына.
— Я ничего не прячу, — сказал он таким же мертвым, как и его глаза, голосом.
— Тогда покажи ее нам, — попросил Петро, протянув руку к шее отца, чтобы сорвать ветошь.
Горгиу неожиданно оскалил зубы и зашипел на сына, вонзив свои ногти ему в горло и крепко сжав его так, что Петро закашлялся.
— Горгиу! — закричала его жена, кидаясь между ними.
Остальные члены семьи — женщины, дети — прибежали в комнату и помогли освободить Петро от отцовских объятий.
Сам Петро, глубоко дыша, смотрел на своего отца, взяв мать за руку.
— Нам надо сделать это.
— Нет, — закричала женщина.
— Ты знаешь, у нас нет другого выхода.
— Пожалуйста, Петро, нет!
Мать бросилась к его ногам, рыдая, а Горгиу начал хихикать. Петро обернулся ко мне.
— Мой господин, ради всего святого, уйдите!
Я склонил голову.
— Если я хоть чем-то могу быть вам полезен…
— Нет, нет, ничем. Я все для вас достану. Но прошу вас, мой господин, пожалуйста, вы же видите, уходите.
Я кивнул и протиснулся к двери. Сев на лошадь, я помедлил. Теперь из дома доносились лишь тихие рыдания. Я попытался разглядеть, что происходит внутри. Мать Петро плакала в объятиях сына, Горгиу сидел все так же неподвижно, уставясь в пустоту. И вдруг он поднялся на ноги. Он прошел к двери, и мой конь отпрянул назад и поскакал было по дороге в сторону замка. Я сдержал его и не без усилия развернул обратно. Горгиу уже шагал по тропинке по направлению к деревне; в сгустившихся сумерках был виден только его силуэт. Петро тоже вышел и стоял, провожая взглядом отца. Он хотел догнать его, но остановился, все его тело как будто опало. Он медленно двинулся обратно в дом.
Я содрогнулся от холода. Уже становилось совсем поздно, не следовало мне отлучаться на столько. Я пришпорил коня и поскакал к воротам. Медленно захлопнулись они за мной. Лязгнул замок. Я был заперт в стенах замка.
Глава 5
Исчез мой сон и заменился новым.
Скиталец стал, как прежде, одинок,
Домашнue покинули его
Иль враждовали с ним. В душе носил он
Отчаянья и увяданья знак.
И окружен был ненавистью общей
И клеветой. Страданья отравляли
Так долго все, к чему он ни касался,
Что, наконец, как древний царь Понтийский,
Он в пищу стал употреблять отраву,
Всю силу потерявшую над ним.
Он жил лишь тем, что смертью угрожает.
Вершины гор ему друзьями были,
С звездами, с вольным гением вселенной
Он вел беседы. И они учили
Его волшебству чад своих. Широко
Пред ним была раскрыта книга ночи
Он бездны голосам внимал, вещавшим
О чудесах и тайнах.
Лорд Байрон. «Сон» (перевод Н, Минского)
— Мне очень трудно, ваше превосходительство, — обратился я к паше тем же вечером, — стараться не чувствовать себя здесь узником.
Паша пристально посмотрел на меня. В его широко раскрытых глазах промелькнули веселые искорки.
— Узником, милорд?
— Мои слуги, где они?
Паша рассмеялся. Он был в превосходном настроении за ужином. На его пополневших щеках выступили красные сетки капилляров. Он взял меня за руку, теперь прикосновение его пальцев, как я заметил, не было таким холодным.
— Ваше превосходительство, — повторил я, — мои слуги, где они?
Паша покачал головой.
— Они были здесь не нужны. И я отослал их.
— Понятно. — Я глубоко вдохнул. — И куда?
— В место вашей встречи с Хобхаузом, в Миссолунги.
— И я найду их там?
Паша поднял руки:
— Какие могут быть сомнения?
Я улыбнулся невесело:
— Ну а я? Что же делать мне?
— Мой дорогой лорд Байрон, — паша взял мою руку, глядя мне пристально в глаза, словно собираясь сделать мне предложение, — вы — мой гость здесь. Все то, чем я владею, — ваше. Поверьте, вы сделаете здесь массу открытий для себя.
Он склонился надо мной и, едва коснувшись языком моей шеи, нежно поцеловал ее. Паша провел пальцами по моим волосам и вновь откинулся на подушки, разложенные на диване. Он небрежно махнул рукой.
— Не беспокойтесь о своих слугах. Я дам вам Янакоса.
Я посмотрел в дальний конец комнаты. Янакос, то самое существо, которое принесло мне воды прошлой ночью, неподвижно стоял там, только его кривая шея болталась из стороны в сторону, как у висельника.
— Но он… как бы это сказать? — Я повернулся к паше. — Он какой-то неживой, что ли?
— Он крестьянин.
— Я видел у вас много слуг, похожих на него.
Паша промолчал.
— В большом зале вашего замка, — продолжал я. — Они все похожи на Янакоса бессмысленным мертвым взглядом.
Паша коротко рассмеялся.
— Мне не нужны философы, чтобы мыть полы. От них никогда никакого толку. — Он снова рассмеялся, а затем долго сидел молча, наблюдая за мной прищуренными глазами. — Но вы должны сказать мне, милорд, что вы думаете о зале?
— Он изумительный. Изумительный и одновременно наводящий ужас.
— Вам известно, что это я построил его?
Я с изумлением уставился на пашу.
— Да?.. Но… как странно. У меня сложилось впечатление, что он намного древнее.
Паша не отвечал, взгляд его был словно остекленевшим.
— Видели ли вы остальную часть замка? — спросил он наконец. — Лабиринт?
Я кивнул.
— Вот он, милорд, действительно очень древний. Я отреставрировал его, но время его основания уходит в далекое прошлое. Возможно, вы слышали о Танатополисе. Городе мертвых.
Я нахмурился и отрицательно покачал головой.
— Это неудивительно, — произнес паша. — Я нашел всего лишь несколько упоминаний о нем в древних источниках. Однако он существует, вы сами убедились в этом. По преданию, эта гора была воротами в подземное царство, а храм, воздвигнутый здесь, был посвящен Аиду, повелителю Смерти. Лабиринт ведет в священное место, символизируя в камне, как я полагаю, таинство смерти.
Я сидел, погрузившись в молчание.
— Как завораживающе это звучит, — произнес я наконец. — Я никогда не слышал о храме Смерти.
Паша, сощурившись, смотрел на мерцающее пламя свечи.
— Видите ли, он был покинут и забыт всеми. Позднее здесь был построен византийский город, потом крепость венецианцев. Вы, наверное, заметили, какое смешение архитектурных стилей несет в себе замок. Однако ни одно из этих поселений не просуществовало здесь более одного поколения. — Паша улыбнулся. — Странно, что они так быстро исчезли.
— Что с ними случилось?
— Никто не знает.
— А вы сами что думаете?
Паша пожал плечами. Он снова взглянул на пламя свечи.
— В каких-нибудь старинных источниках, — начал он, — должно быть, рассказывается об этом, но я смог отыскать только одну легенду. В ней говорится о том, как проклятие Аида сошло на храм… Время от времени и среди крестьян возникают подобные истории. Они говорят, что здесь обитает Смерть. Все, кто строится и живет здесь, обретают печать проклятия. Крестьяне действительно поговаривают о демонах. Вы, кажется, упоминали мне это слово в Янине… Они называют их вурдалаками.
Я слегка улыбнулся:
— Забавно.
— Вы так думаете? — Паша оскалился в улыбке. — И все же…
— И все же?
— Все же те города были разрушены.
— Да, — улыбнулся я, — но, должно быть, существует более правдоподобная причина, по которой их жители превращались в демонов. — Я расплылся в улыбке. — Не так ли?
Паша какое-то время молчал.
— Замок, — произнес он наконец, всматриваясь в темноту, — намного обширнее, чем вы можете себе представить.
— Да, — кивнул я. — У меня сложилось некоторое представление о его размерах.
— Все равно вам этого не постичь. Существуют такие глубины, которые даже я вряд ли отважился бы измерить. Темные переходы в глубинах камня и твари, скрывающиеся в этой тьме… мне не хотелось бы об этом говорить. — Паша наклонился и с силой сжал мою руку. — Ходят слухи о загадочных темных существах. Верите ли вы в это?
— Да, ваше превосходительство, я могу в это поверить.
— О! — Паша в удивлении поднял бровь.
— В лабиринте… Я не совсем уверен, но мне кажется, я видел нечто.
Паша улыбнулся.
— Вурдалака?
— Не знаю…
— На что это было похоже?
Я пристально посмотрел на пашу, затем бросил взгляд на Янакоса.
— Очень похоже на него, ваше превосходительство.
Паша сильнее сжал мою руку, я заметил, как побледнело его лицо.
— Мы уже говорили о ваших рабах, которые чистят пол большого зала. Так вот, эти существа были очень похожи на них.
Паша отпустил мою руку. Он пристально смотрел на меня, поглаживая бороду, легкая улыбка мертвенным цветом коснулась бледности его губ.
— У вас богатое воображение, милорд, — прошептал он.
Я склонил голову.
— Я повидал здесь такое множество вещей, что стал слишком ленив, чтобы чему-либо удивляться.
— Так ли это? — Его улыбка вновь погасла.
Он взглянул на часы, стоявшие рядом на столике.
— Я думаю, пора ложиться спать.
Я не двигался.
— Ваше превосходительство, — спросил я, — в том большом зале я видел беседку в арабском стиле. Это вы построили ее?
Паша посмотрел на меня. Затем показал на часы.
— Милорд… — сказал он.
— Зачем вы построили ее? При этом так богохульно выставив изображение женщины над входом.
Гневное выражение промелькнуло на его лице.
— Я уже говорил вам, милорд, меня не сдерживают никакие религиозные предрассудки.
— Но почему тогда вы построили ее?
— Если хотите знать… — Он запнулся и вдруг прошипел: — Чтобы отметить то самое, священное, место в древнем храме, которое ведет в подземный мир. Древние верили, что именно оттуда открывается путь к Аиду. Я построил эту беседку не из какого-либо уважения к прошлому или к умершим.
— Итак, по-вашему, Аид — величайшее божество, могущественнее Аллаха?
— О да, — паша рассмеялся, — так оно и есть.
— Я видел ступени внутри беседки.
Паша кивнул.
— Мне бы очень хотелось посмотреть, что находится за ними.
— Я боюсь, милорд, что это невозможно. Вы забыли, что подземный мир существует только для мертвых.
— А вы сами входили туда, ваше превосходительство?
Улыбка паши была холодна как лед.
— Спокойной ночи, милорд.
Я кивнул.
— Спокойной ночи, ваше превосходительство.
Я повернулся и пошел к лестнице, что вела в мою спальню. Янакос сразу же поплелся за мной. Я обернулся.
— Да, мне просто хотелось знать… Ваша рабыня… Гайдэ… Где она сейчас?
Паша пристально смотрел на меня.
— Я только что заметил, — продолжал я, — что она не прислуживала нам сегодня. Может, с ней что-то случилось?
— Ее немного лихорадит, — произнес он наконец.
— Ничего серьезного, я надеюсь?
— Пустяки, не стоит беспокоиться. — Глаза его сверкали. — Спокойной ночи, милорд.
Я поднялся в свою спальню. Янакос следовал за мной. Я, конечно, закрыл дверь, но знал, что он стоит там на страже, ожидая чего-то. Весь внимание. Когда я лег, то почувствовал что-то под своей подушкой. Это было распятие Гайдэ. К нему была прикреплена записка: «Дорогой Байрон, храните это рядом с собой. Со мной все в порядке. Будьте храбрым, что бы ни случилось». И подпись:
«Eleutheria» — «Свобода». Я улыбнулся и зажег свечу. Немного помедлив, я зажег все свечи, которые смог найти. Я разместил их вокруг кровати, так что они образовали огненную стену вокруг меня, затем сжег записку над огнем, наблюдая, как она превращается в пепел. Веки мои начали слипаться. И я почувствовал страшную усталость. Не успев до конца осознать это, я уже провалился в сон.
Паша вновь явился ко мне во сне. Я не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть, не слышал ничего, кроме стука собственной крови в ушах; он оказался на мне — отвратительное порождение тьмы. Тяжелый, с острыми, словно у стервятника, когтями, он проник в мою грудь, упиваясь кровью. Я попытался открыть глаза, и когда, как мне показалось, я проснулся, свечи не горели, только непроницаемая тьма обступила меня со всех сторон. Я поднял взор, и мне привиделось лицо паши. Он улыбался мне. Легкая усмешка, исполненная сладострастия, играла на его лице, обращенном ко мне, но, когда я посмотрел в его глаза, в них я не увидел ничего, кроме темной пустоты. Мне казалось, что я погружаюсь в нее. Темнота была бесконечна и вездесуща. Я закричал, но не услышал собственного крика. Тогда я понял, что стал частью этой тьмы. Затем все исчезло.
Весь следующий день меня лихорадило. Я то и дело засыпал и терял сознание, так что грань реальности ускользала от меня. Мне показалось, что паша стоит у моей кровати, держа в руках распятие и насмехаясь надо мной.
— Право, милорд, я очень обескуражен! Если я презрел собственную религию, почему я должен преклоняться перед вашей?
— Вы верите в мир духов?
Паша улыбнулся и пошел прочь.
— Скажите, вы верите? — Я снова задал вопрос. — Вы верите, что подземные ходы этого замка приводят в царство Смерти?
— Это абсолютно разные вещи, — холодно ответил паша, поворачиваясь ко мне спиной.
— Почему? — Меня прошиб пот.
Паша сел рядом и погладил мою руку. Я отдернул ее.
— Не понимаю, — сказал я ему. — Прошлой ночью мне явился призрак. Вы ведь знаете об этом — или все это мне привиделось в бреду?
Паша молча улыбнулся в ответ, в глазах его сверкал металл.
— Объясните мне суть этих вещей, — допытывался я, — если это был не Бог, то что же? Пожалуйста, скажите мне, я хочу знать. Что это было?
Паша поднялся.
— Я не могу сказать, что это не было божество, — произнес он.
Грусть и отчаяние внезапно омрачили его лицо.
— Бог, возможно, и существует, но если это так, то я думаю, милорд, ему нет дела до нас. Послушайте, я прошел через все ужасы и приобщился к Вечности. Я измерил сферы бесконечного пространства и безграничность нескончаемых веков, долгими ночами я изучал странные науки, постигая секреты духов и человеческих существ. В этих мирах и галактиках я искал Всевышнего.
Он замолчал и резко приставил палец к моему носу.
— Я ничего не нашел, милорд. Мы одиноки, вы и я.
Я попытался что-то сказать, но он остановил меня жестом руки. Он так низко наклонился надо мной, что я чувствовал касание его губ на своей щеке.
— Если вы разделите мою мудрость со мной, — нежно прошептал он мне, — вы проникните, как и я, в глубины смерти.
Он снова поцеловал меня.
— Скорбь — это знание, милорд, — прошептал он, его дыхание, подобно легкому ветерку, овевало мою кожу.
— Запомните это. — Его губы ласкали мои губы, отчего слова его были подобны поцелую. — Древо Познания не есть Древо Жизни.
Он удалился, а я погрузился в пучину своих сновидений. Время не имело для меня значения; казалось, что в лихорадочном забытьи я потерял счет дням и часам. Но Янакос всегда был рядом, и, когда бы я ни очнулся, его холодный взгляд постоянно наблюдал за мной. Постепенно я начал выздоравливать. К своему ужасу, я обнаружил едва заметный шрам, пересекающий грудь. Я хотел найти Гайдэ, встретиться с пашой, но Янакос преграждал мне путь к дверям, а я чувствовал себя слишком слабым, чтобы одолеть его. Однажды я почти обманул слугу, прошмыгнув мимо него, но его руки схватили меня, они были так холодны, что меня пронзила лихорадочная дрожь. Я пополз обратно к дивану, усталость вновь сомкнула мои веки, и я заснул, едва добравшись до ковра.
Мне приснилось, что я в башне паши. Не говоря ни слова, паша подвел меня к телескопу. Я заглянул в него: звезды и галактики, кружась, устремлялись в вечность, и мне вдруг показалось, что мы тоже несемся в космосе, в этом темном безумии бесконечной пустоты. Паша улыбнулся и указал мне рукой; я посмотрел, куда он указывал: позади нас виднелась небольшая голубая точка; по мере того как мы перемещались вперед со скоростью света, она становилась все меньше и меньше, вбирая сияние вокруг себя, похожая на другие звезды, пока наконец не исчезла, как будто ее и не было. Вокруг кружилось несметное число огней. Как мал наш мир, подумал я, ошеломленный увиденным. Мы неслись вперед сквозь пространство, сквозь бесконечно простирающуюся вселенную, и душу мою пронзила боль от увиденной невообразимой красоты. Паша вновь повернулся ко мне, его белые волосы были увенчаны сиянием бесчисленных звезд; он улыбнулся мне, его пальцы коснулись моей руки, и он исчез.
Я сразу очутился в темноте. Воздух вокруг меня был спертый и зловонный. Я попытался подняться, но единственное, что я смог разглядеть перед собой, это арку и сводчатое перекрытие над головой. Я был в лабиринте, мне не удалось подняться на ноги из-за слишком низкого потолка. Тогда я начал ползти и полз, пока каменные стены не сдавили меня со всех сторон. Я почувствовал чье-то присутствие рядом с собой и только тогда понял, что я абсолютно гол. Чьи-то пальцы держали мою руку, я пригляделся и увидел Янакоса. Его бледные губы походили на белых червей. Я попытался оттолкнуть его, но он впился в мою плоть, затем я почувствовал еще чьи-то губы на своей коже; меня словно замуровали в могилу, полную мертвецов, везде — подо мной, сверху, рядом — лежали трупы, я начал задыхаться. Множество ртов этих тварей присосалось ко мне, пожирая мою живую плоть с алчным наслаждением могильных червей, их губы были мягкими, холодными и влажными от моей крови. Я попытался пошевелиться, но тяжесть сдавила меня. Я попытался кричать, но языки мерзких тварей извивались у меня во рту. Я молился о смерти, и, когда страх начал проходить, я наполовину уверился, что уже мертв.
Проснулся я больным и разбитым; обследовав свое тело, я обнаружил на нем множество синяков. Но лихорадка прошла. Я открыл дверь спальни, теперь Янакос не преграждал мне путь. Конечно, он последовал за мной, я позавтракал, немного почитал и набросал пару строф.
Я не подходил близко к лабиринту и не видел пашу и Гайдэ. Один раз я попытался оседлать своего скакуна, но Янакос, видя это, ясно дал понять, как он к этому относится: набросился на меня и стал душить. Когда я свалился с лошади, Янакос сразу же ослабил свою хватку, я мгновенно вскочил и ударил его изо всех сил кулаком. Я занимался боксом в Хэрроу, так что Янакос пошатнулся и чуть не упал. Восстановив равновесие, он снова двинулся на меня. Тогда я, схватив шпоры, которые очутились под рукой, полоснул ими по горлу чудовища. К моему ужасу, рана не возымела на него никакого действия, только кровь этой твари испачкала мою лучшую рубашку.
Весь тот день я пребывал в отчаянии. Как же мне избавиться от этого существа? Существа, которое нельзя убить. Той же ночью я заметил его на своем балконе, неподвижно глядящего на луну; он повернулся ко мне лицом, и я увидел, что рана его полностью зажила. Я вздрогнул и перевел взгляд на ночное светило. Луна была в половине, и мне подумалось, что Гайдэ, может, тоже видит ее. Время нашего побега приближалось — но жива ли еще Гайдэ? И как долго мне самому суждено прожить?
Каждую ночь меня охватывала сильная сонливость, и каждую ночь все мои попытки побороть ее оказывались тщетными. Паша показывал мне диковинные чудеса: вся история Земли, эры космоса проходили перед моими глазами, но каждый раз паша покидал меня, и я оставался совершенно один в темном лабиринте и просыпался наутро с синяками на теле. Но когда луна стала убывать, я, к своему удивлению, заметил, что синяков стало меньше. Откуда, интересно, Гайдэ знала об этом, когда предостерегала меня опасаться лунных ночей? Наконец, когда от луны остался только узкий серп, ночью, когда я спал, паша не явился ко мне в своей башне. Вместо этого мне приснилось, что я один, надо мной простирается купол гигантского зала, а впереди стоит беседка, ступени которой спускаются в темноту. Кругом было тихо, я не слышал больше голоса, шептавшего мне о бессмертии, и все же я знал, что паша зовет меня и что я должен следовать за ним, что бы ни находилось в конце этих ступеней. Я шагнул вперед, ничто не шелохнулось. Это еще более успокоило меня; я знал, что нахожусь сейчас рядом с величайшей тайной, рядом с неким ключом, возможно, к загадке жизни — да, да, подумалось мне, а возможно, и смерти. Неужели я очутился на той самой глубине, о которой мне рассказывал, паша, из недр которой произрастает Древо Познания и его запретный плод? Я поспешил, ступени заканчивались широко раскрытой дверью — я должен сорвать яблоко и съесть его!
— Байрон, мой Байрон.
Я пошевелился.
— Мой Байрон.
Я открыл глаза.
— Гайдэ.
Я сел, чтобы поцеловать ее. Она крепко обняла меня и поднялась на ноги. Я никогда еще не видел ее столь прекрасной, но как она была бледна, смертельно бледна.
— Я должна вернуться к нему, — прошептала она, — но завтра… завтра мы убежим.
— Как ты? С тобой все в порядке?
— Да. — Она улыбнулась и крепко поцеловала меня. — Снаряжение, — спросила она, — оно уже готово?
— Твой брат приготовит его.
— Скажи ему завтра утром, что мы бежим в полдень.
— Будет исполнено, моя любимая, но существует проблема, так, маленькое препятствие…
Я вдруг замолчал и в удивлении уставился на нее.
— Ты прошла мимо Янакоса, — произнес я.
Гайдэ взглянула на дверь.
— Да, — сказала она.
Она наклонилась и взяла распятие.
— Убей его, — бесстрастно произнесла она, подавая мне распятие.
Я взял крест.
— Я уже пробовал. Но, мне кажется, какую бы рану я ему ни нанес, он все равно выживет.
— Нужно бить в сердце, — прошептала Гайдэ.
Она подошла к двери.
— Янакос, — мягко позвала Гайдэ. — Янакос!
Словно неуклюжий медведь, Янакос отозвался на ее зов. Пристально глядя слуге в глаза, Гайдэ что-то пропела ему, поглаживая его по щекам. Слабая тень замешательства тронула пустоту его взгляда. Единственная слеза скатилась по щеке Гайдэ и упала на руку Янакоса. Он долго смотрел на слезу, затем взглянул на девушку и безуспешно попытался улыбнуться, но, видно, не смог этого сделать. Гайдэ кивнула мне, она поцеловала его в другую щеку, и я вонзил распятие ему глубоко в сердце.
Янакос взвыл ужасным, нечеловеческим голосом, когда фонтан крови брызнул на балкон. Он упал на пол и тут же на наших глазах стал разлагаться. Куски плоти отвалились от костей, внутренности превратились в ужасную жижу. Я наблюдал с отвращением.
— Теперь, — мягко произнесла Гайдэ, — сбрось его в реку.
Задержав дыхание, я завернул труп в ковер и перебросил его через балкон прямо в Ахерон. Я обернулся к Гайдэ.
— Что это было? — спросил я. — Кто это был?
Она посмотрела на меня.
— Мой брат, — сказала она.
Я в испуге посмотрел на нее.
— Извини. — Это все, что я смог сказать. — Мне очень жаль.
Я обнял ее. Гайдэ вздрогнула, взглянула на меня и подошла к двери.
— Я должна идти, — сдержанно произнесла она.
— Завтра… — спросил я. — Я увижу тебя?
— Ты знаешь в деревне развалины старой церкви?
— Большой базилики?
— Да Пусть снаряжение принесут туда, а я присоединюсь к тебе в полдень. Мы должны бежать до заката.
Она поднесла мою руку к своим губам.
— И тогда, дорогой Байрон, мы должны молиться Свободе в надежде, что она улыбнется нам.
Она вновь поцеловала мою руку и отвернулась; прежде чем я успел обнять ее, она исчезла Я не последовал за ней — что я мог сказать ей, чем помочь? Вся моя усталость прошла. Над восточной грядой гор первые розовые лучи рассвета окрасили снежные вершины. Все трое ворот были открыты, и никто не пытался остановить меня, я достиг деревни незамеченным. Я привязал свою лошадь у дома Горгиу и вошел внутрь, зовя Петро. Маленький мальчик таращился на меня, сидя в углу комнаты. Его лицо выглядело бледным и изможденным от голода. Я предложил ему монетку, но он не пошевелился, даже не моргнул.
— Твой отец здесь? — спросил я.
Я подбрасывал монетку на ладони, и вдруг мальчишка метнулся через всю комнату и выхватил ее у меня. При этом он сильно поцарапал мне руку. Он мгновенно замер, глядя, как тоненькая струйка крови выступила из царапины. Я лизнул ее языком.
— Так где твой отец? — вновь спросил я его.
Паренек продолжал смотреть на меня, затем попытался схватить меня за руку; я слегка шлепнул его по голове, но он, как мне показалось, готов был перегрызть мне горло, однако тут вошел Петро, закричал на мальчика, и тот убежал в глубину соседней комнаты.
Петро проводил его взглядом, затем повернулся ко мне.
— Мой господин? — обратился он ко мне.
Его голос звучал странно, почти отчужденно, но глаза горели прежним огнем. Я объяснил ему, зачем пришел. Петро кивнул и пообещал, что все будет готово.
— В старой базилике? — уточнил я.
Петро кивнул:
— В старой базилике. В дальнем углу, у разрушенной башни.
Я поблагодарил его за хлопоты, Петро холодно кивнул, что было несвойственно ему. Я спросил его, хорошо ли чувствует себя его отец.
— Очень хорошо, — пробормотал он.
Я видел, что он хочет остаться один.
— Ладно, — произнес я, поворачиваясь к двери. — Передавай ему привет от меня.
Петро снова кивнул, но не проронил ни слова, даже когда я сел на лошадь и поскакал по дороге. Петро наблюдал за мной, я почти чувствовал на себе его взгляд.
Я вспомнил, что Янакос был его братом. Узнал ли Петро правду? Я надеялся, что нет. Что может быть ужаснее, подумал я, чем видеть свою собственную плоть и кровь, превратившуюся в подобное существо? Лучше думать, что он умер. Но Гайдэ знала, жила рядом с этим созданием изо дня в день, она — женщина, гречанка, рабыня. Да, подумал я, в темнице пламя свободы горит ярче и свободный дух воспаряет ввысь, несмотря на тяжесть оков. Я молился Свободе, как Гайдэ просила меня, но образ этого божества имел лик моей возлюбленной.
Я проехал вниз по горной тропинке, чтобы увериться, что ничто не помешает нашему побегу. Все было чисто, далеко впереди виднелось небольшое темное облачко, но, кроме него, ничто не нарушало светлой небесной голубизны. Я взглянул на солнце. Оно было высоко над головой. Вот и полдень, подумал я. Я вернулся в деревню и подъехал к базилике. Я въехал через главный вход, внутри ничего не было, пустая оболочка; стук копыт моей лошади эхом отдавался среди развалин. Я сразу же увидел башню: пятнадцать — двадцать ступеней позади голого пустыря, усеянного галькой и заросшего сорняками, вели к тому месту, где раньше стоял алтарь. Но там не было ни души. Я достал свои часы. Двенадцати еще не было… Я подождал в тени башни, но так никто и не пришел; по мере того как проходили минуты, во мне начало нарастать беспокойство, и тишина, казалось, мерцала подобно зною перед моими глазами.
— Черт побери, — выругался я. — Даже снаряжения нет.
Я снова взобрался в седло и поскакал к дому Петро. Я постучал в дверь. Никто не отозвался. Я вошел внутрь и позвал Петро — ответа не было. Я в отчаянии посмотрел по сторонам. Неужели паша узнал про наши планы? Неужели Петро и его семья арестованы? Снаружи я нашел лошадь, привязанную к столбу, прекрасное животное, которое Петро, очевидно, купил на мои деньги. Я отвязал ее и отвел к башне базилики. Привязав лошадь в тени ступеней, я достал часы. Было почти два. Я быстро вскочил на своего коня и помчался вверх по дороге, ведущей к замку.
Там тоже было пусто. Все замерли, жара стала невыносимой-, она повисла в воздухе и над белыми вершинами гор. Перед тем как войти в замок, я обернулся: горизонт стал лиловым, и вдоль границ надвигающейся бури сверкали молнии. Нам нужно спешить, подумал я. Тьма, подобно крадущемуся хищнику, медленно надвигалась, чтобы поглотить солнце.
Я побежал по бесконечным пустым коридорам.
— Гайдэ! — кричал я. — Гайдэ!
Но я знал, что, сколько бы я ни кричал, никто не отзовется и каждая комната, каждый коридор так же пусты, как и остальные. Я понял, что я в лабиринте.
Я остановился, чтобы проверить пистолеты, и побежал дальше, выкрикивая имя Гайдэ до тех пор, пока отчаяние не схватило меня за горло и страх не парализовал меня, страх, которым, казалось, был пропитан воздух лабиринта, отравляя любого, кто отваживался войти в него. В сгущающихся вокруг тенях я по-прежнему не заметил ни шороха, ни какого-либо движения, как и в первое мое посещение лабиринта. Я обнаружил, что стою у мозаики с изображением дьявольской Мадонны с ребенком Христом. Пытаясь не смотреть на нее, я пробрался на ощупь в зал. Надо мной простирался гигантский купол, вокруг возвышались колонны и массивные стены подземелья. Я посмотрел на лестницы — они были пусты. Согбенных существ, которых я увидел тогда, на каменном полу тоже не было.
— Гайдэ! — прокричал я. — Гайдэ!
В отчаянии я смотрел на пирамиду огня, наблюдая, как огненные языки поднимаются к ее вершине. Мои плечи поникли, и я опустил взор. Взгляд мой приковала беседка в центре зала.
Я медленно взвел курок пистолета и, посмотрев в который раз по сторонам, медленно подошел к входу. Я вошел внутрь, остановился, подождал. Ничего не произошло, там не было тех ужасных тварей, не было никого, кто мог бы меня остановить. Я посмотрел вперед: ступени по-прежнему исчезали в темноте. Я начал спускаться вниз, с каждым шагом все крепче и крепче сжимая рукоять пистолета. Тьма была плотной, как затхлый воздух могилы. Я остановился, чтобы дать глазам привыкнуть, но у меня не было выбора, и в конце концов я вынужден был пробираться на ощупь.
— Подземный мир, милорд, только для мертвых.
Слова паши эхом отдавались в моих ушах. В этот самый момент я почувствовал что-то перед собой, поднял пистолет, глубоко вздохнул и снова опустил его. Я находился у двери; отомкнув задвижку, я открыл ее. За дверью была винтовая лестница, здесь было не так темно, мерцающий рубиново-красный свет освещал стены, расписанные фресками в арабском стиле на сюжеты библейской истории Адама и Евы. Но Ева, бледная, словно обескровленная, почему-то стояла в стороне, в то время как Адам лежал на руках другой женщины, которая пожирала его, а сама она, как заметил я, была похожа на женщину, чье изображение венчало купол беседки. Я прошел дальше, дрожащие тени на каменной кладке пола выросли и стали темно-красными, и я подумал, что если древние были правы, то я сейчас и вправду спускался в ад. Наконец я увидел, что ступени закончились, они привели меня к каменному склепу, и я осознал, что нахожусь так глубоко, куда не забредала еще ни одна живая душа, и что здесь покоятся только мертвые. Держа пистолет наготове, я вошел в склеп.
Лорд Байрон замолчал. Ребекка не проронила ни слова, не решаясь задать вопрос и нарушить тишину. Поэтому она сидела неподвижно, наблюдая за вампиром, который, казалось, отрешенно смотрел на что-то, что нашел много лет назад в склепе. Он в задумчивости поглаживал подбородок кончиками пальцев, и только в его глазах мелькали загадочные огоньки.
— Я увидел пламя, — произнес он наконец. — Оно выбивалось из ниши в дальнем конце помещения, а перед огнем стоял алтарь, посвященный повелителю Смерти. Гайдэ была у алтаря. Прелестная и обессиленная, она лежала на спине, ее паранджа была разодрана, а туника сорвана с груди; паша кормился ее грудью, словно ребенок, привлеченный молоком матери. Иногда он останавливался, и я понял, что он забавляется струйкой крови. Гайдэ пошевелилась и застонала, но она не могла подняться, так как паша крепко сжимал руками ее запястья, к тому же она была слаба, очень слаба. Сколь нежен был паша, высасывая из нее кровь: вновь и вновь он гладил щекой ее грудь, красил ее сосок кровью. Гайдэ внезапно издала сдавленный крик, она стала хватать руками воздух; собрав остатки сил, она сжала пашу ногами. Я очнулся. Уняв дрожь в руке, я поднял пистолет, сделал шаг вперед и приставил его к голове паши.
Он ко мне едва повернулся. Глаза его метали молнии; жирные щеки, усы и губы были забрызганы кровью. Он обнажил в хищной улыбке свои острые белые зубы, и мне показалось, что он вот-вот вцепится в мое горло. И когда я ударил его пистолетом, он покачнулся и упал, как раздувшийся от крови клещ, сбитый щелчком с тела своей жертвы, — я еще подумал, что такое сравнение, пожалуй, недалеко от истины. Он повалился на бок, покрасневший, пресытившийся, разбухший от крови. Сделав безуспешную попытку подняться, он прислонился головой к основанию алтаря. Словно опьяненный винными парами, он едва мог пошевелиться.
— Убей его, — зашептала Гайдэ.
Она поднялась на ноги, опираясь на мою руку.
— Убей его, — снова прошептала она. — Пронзи ему сердце.
Паша засмеялся.
— Убить меня? — презрительно бросил он.
Голос его отдавался прекрасной музыкой в моих ушах, даже Гайдэ, казалось, была очарована им. Внезапно она отошла в сторону, и я увидел, что у нее в руках сабля.
Вероятно, она лежала здесь раньше, ожидая своего часа.
— Пуля бьет вернее, — сказал я. — Пожалуйста, Гайдэ, оставь его.
Паша снова рассмеялся.
— Ты видишь, моя прелестная рабыня? Твой пылкий освободитель никогда не убьет меня — он слишком жаждет моих знаний, которые я могу дать ему.
— Убей его, — настаивала Гайдэ.
Она вдруг закричала:
— Убей же его!
Я продолжал стоять, направив пистолет на пашу.
— В базилике, — шепнул я, — у разрушенной башни, подожди меня там.
Гайдэ пристально посмотрела на меня.
— Не дай ввести себя в искушение.
Она подошла и погладила меня по щеке.
— Не предавай меня, или ты будешь гореть в аду.
Она отвернулась и пошла к ступеням.
— У разрушенной башни, — сказала она и исчезла.
Мы оба, паша и я, остались один на один. Я наклонился над ним.
— Я убью вас, — сказал я, нацелив пистолет прямо в сердце. — Не обольщайте себя надеждой, что я не смогу этого сделать.
Паша лениво улыбнулся.
— Не обольщать себя надеждой?
Я посмотрел на него, и моя рука затряслась. Но я, собрав силы, унял дрожь.
— Кто вы? — воскликнул я. — Что вы за существо?
— Вы знаете, кто я.
— Чудовище, вурдалак, кровопийца!
— Да, я должен пить кровь. — Паша кивнул. — Но когда-то я был человеком, таким же, как вы. А теперь, дражайший лорд Байрон, я обладаю тайной бессмертия, и вы знаете об этом. — Он улыбнулся и снова кивнул. — Да, знаете.
Я покачал головой.
— Бессмертия? — Я с отвращением посмотрел на него. — Вы не живой человек. Вы мертвец. Вы можете только питаться чужой жизнью, но не имеете собственной, поэтому даже не думайте об этом, вы не правы, не правы.
— Нет, милорд.
Он протянул руку мне.
— Поймите, бессмертие и жизнь находятся в разных измерениях. Вы должны очиститься от всего плотского и отбросить мысли о смерти.
Он провел пальцами по моей руке, и я почувствовал его теплое живое прикосновение.
— Не бойтесь, милорд. Будьте молоды и стары, человечны и божественны, будьте вне жизни и смерти. И когда вы достигнете этой гармонии в своих поступках и мыслях, бессмертие откроется для вас.
Я зачарованно смотрел на него. Его голос был мудр и сладок, как у ангела. Моя рука безвольно опустилась.
— Не понимаю, — беспомощно произнес я. — Этого не может быть.
— Вы сомневаетесь?
Я не ответил, пристально смотря на него.
Я потонул в глубине его глаз, ставших вдруг похожими на воды прекрасного озера, которые хлынули на меня, отметая сомнения и страх.
— Много лет назад, — начал свое повествование паша, — я был ученым в Александрии. Я изучил химию, медицину, философию, я читал древних египетских и греческих мудрецов, я сделался обладателем мертвых знаний и давно позабытых истин. Я задумался о том, как можно победить смерть. Я мечтал открыть эликсир жизни. — Он помолчал— Эти роковые мечтания предопределили мою судьбу. Это произошло в 399 году по мусульманскому летосчислению, во время правления халифа аль-Хакима, или в 1021 году от Рождества Христова.
Его взгляд притягивал меня. Я должен был воззвать к своему скептицизму. Должен был убедить себя, что он лжет мне. Но не смог.
— Так вы нашли его, — спросил я, — эликсир жизни?
Он покачал головой.
— Нет. Ни тогда, ни потом — все мои попытки оказались тщетными. Мне не помогли даже достижения современной науки.
Он вновь покачал головой.
— Если он и существует, я все равно не получил бы его.
Я указал на него пистолетом.
— Тогда как?..
— Вы разве не догадались?
Конечно я догадался, но промолчал.
Паша взял меня за руку и потянул меня к себе.
— Я был обольщен, — прошептал он. — В том году плач стоял в Александрии: Лилит пришла! Лилит-кровопийца пришла! Тела обескровленных находили в полях, на развилках дорог. Испуганные люди приходили ко мне, так как все уважали меня. Я убеждал их быть мужественными, уверял, что это не Лилит, развратная царица-вампир. Но это было не так, и я знал это. Лилит пришла ко мне и открыла вершины бессмертия. Так же как я открываю их вам. — Он сжал мою руку. — Эти вершины, милорд, они досягаемы. Я рассказываю это вам, потому что именно вы достойны моего подарка; в нем заключены мудрость, восторг, неуемная сила. Что вы слышали о Лилит? Знаете ли вы, кем она была на самом деле? По еврейской легенде, она была женой Адама, но человечество поклонялось ей испокон веков. В Египте, Уре, среди хананеян ее считали царицей суккубов, повелевающей теми, кто, как и я, обретает мудрость, питаясь человеческой кровью.
Он провел пальцем по моему горлу к разрезу рубашки.
— Теперь вы понимаете, милорд, я не предлагаю вам жизнь, не предлагаю вам смерть, но предлагаю вам нечто, что древнее самой Земли. Приготовьтесь к этому. Будьте готовы и благодарны, милорд.
Он грубо поцеловал меня, впившись зубами мне в губы. Я почувствовал запах крови из его рта. Это была кровь Гайдэ! Я вздрогнул; паша, почувствовав это, схватил меня, пытаясь увлечь вниз. Но я оттолкнул его
и поднялся на ноги.
— Не бойтесь, милорд. — Он потянулся к моей ноге. — Я тоже сперва боролся с искушением.
Его рука медленно ползла вверх по моей ноге; я навел пистолет; паша смотрел на меня и улыбался холодной усмешкой, полной презрения. Внезапно, ощерив пасть, как дикий зверь, он набросился на меня. Я выстрелил, но, к сожалению, промахнулся, пуля не достигла цели, а попала в живот. Я снова выстрелил и попал ему в грудь, от резкого толчка он отлетел на каменные плиты алтаря.
— Я выбираю жизнь, — сказал я, стоя над ним. — Мне не нужен ваш дар.
Прицелившись ему в сердце, я выстрелил, раздробив ему грудь. Паша застонал и задергался в агонии, он поднял руку, словно пытаясь дотянуться до меня, но его длань упала, и он затих. Я дотронулся до него носком сапога, затем пощупал пульс — паша был мертв. Какое-то время я смотрел на него, лежащего на алтаре Аида, затем повернулся и покинул эту умершую плоть в обители смерти.
Глава 6
Если я чем и могу объяснить истинные причины становления моего, возможно, естественного характера, так это меланхолией, сделавшей меня «притчей во языцех», — чему тут удивляться? — но лишь опасная интрига придает жизни цену; не знаю, что до других, но для меня нет ничего более загадочного, нежели эпизоды из моего прошлого; мною написаны мемуары, но самые важные и повлиявшие на мою жизнь моменты оказались упущенными — это то, что касается различий между мертвым, живым и теми, кто сочетает в себе оба эти качества.
Лорд Байрон. Мысли на досуге
Ужасная темнота нависла над Ахероном, словно траур но почившему правителю. Мой конь заржал в страхе, когда я взобрался на него и пришпорил, поскакав по извилистой дороге. На стенах крепости стояли солдаты с зажженными факелами, и их крики, обращенные ко мне, донеслись до моих ушей, когда я въезжал в открытые ворота. Я обернулся; они указывали на деревню и продолжали кричать что-то вроде предостережения, но голоса их затерялись в оглушительном вое ветра. Я поскакал вперед, и вскоре укрепление осталось позади; я выпрямился в седле — впереди призрачным белым пятном на фоне зеленого неба простерлась деревня.
Она была, как обычно, безлюдна, но что-то — возможно нервы, а может, дурное предчувствие — заставило меня вновь вытащить пистолет и вглядеться в опустевшие руины, как бы боясь того, что я мог там найти. Но никого не было, и я припустил коня галопом по направлению к базилике, Проезжая мимо жилища Петро, я узрел невысокий силуэт, стоящий у обочины.
— Лорд Байрон! — позвал он высоким пронзительным голосом.
Я наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть его. Это был сын Петро, паренек с узким лицом, который сегодня утром получил от меня монету.
— Прошу вас, лорд Байрон, пойдемте в дом, — сказал он.
Я покачал головой, но мальчик показал на лачугу и сказал одно-единственное слово:
— Гайдэ.
И я, разумеется, спешился и пошел за ним.
Я вошел внутрь. Там было темно — ни свечки, ни огня. Дверь со скрипом захлопнулась за моей спиной, и я услышал. звук закрывающейся задвижки. Я подскочил от неожиданности и обернулся — мальчик смотрел на меня, его торжествующие глаза белели в темноте, он жестом указал мне в сторону задней комнаты. Я пошел туда.
— Гайдэ, — позвал я. — Гайдэ!
Тишина. Но вдруг до меня донеслось хихиканье, тихое и тонкое. Три-четыре детских голоса стали распевать на все лады:
— Гайдэ, Гайдэ, Гайдэ!
Смешки прекратились, и снова стало тихо. Я толкнул дверь.
Четыре пары широко открытых глаз таращились на меня — три девочки и совсем еще маленький мальчик. Лица их были столь же торжественны и бледны, как и у их брата; одна из девочек, самая хорошенькая, улыбнулась мне, и ее детское личико внезапно показалось мне самым жестоким и развратным, какое только можно себе представить. Она обнажила зубы, металл блеснул в ее глазах, губы ее, как я только теперь заметил, были размалеваны, как у шлюхи. Но не помада — кровь сделала их красными. Четверо детей склонились над женским телом, и, сделав шаг вперед, я увидел, что пожирают они мать Петро. Лицо трупа было искажено следами агонии и неописуемого ужаса. Способность думать оставила меня, и я склонился над мертвой женщиной. Я протянул руку погладить ее голову, и неожиданно воспаленные глаза ее уставились на меня, она поднялась, скалясь и шипя от жажды. Детвора заливалась от восторга, видя, как их бабушка тянет руку к моему горлу, но она оказалась слишком неповоротлива Я отступил, поднял пистолет и засадил ей свинец прямо в грудь. Затем что-то острое впилось в мою спину — это пятый ребенок, тот, что заманил меня сюда, цепляясь ногтями, пытался забраться на меня. Я стряхнул его и, когда он рухнул на пол, выстрелил наугад. Пуля разнесла ему череп, и остальные дети начали расступаться, но бабка, к моему ужасу, снова зашевелилась, а с ней и внук, и все они вновь стали наступать на меня. Неизвестно, что было хуже: взгляд мальчика, у которого недостает половины головы, или же голод в глазах других детей, таких же юных и невинных. Самый маленький подбежал ко мне, я оттолкнул его рукой и выскочил из комнаты, захлопнув дверь за собой, и когда вурдалаки снова открыли ее, я был уже у выхода наружу. Дверь была заперта — вот черт, подумалось мне, я же совсем забыл об этом. Я безуспешно боролся с задвижкой, а ребятня уже бежала ко мне, раскрыв свои крохотные ротики, со светящимися триумфом глазами. Одному удалось оцарапать меня, но тут дверь наконец поддалась, и я вылетел наррку, успев захлопнуть ее перед самыми их носами. Я налег на дверь всем своим весом, чувствуя, как маленькие тельца толкают ее изнутри, затем со всех ног устремился к коню и взобрался на него, пока они меня не догнали. Я поскакал галопом прочь, успев краем глаза заметить провожающих меня взглядами детей, которые, словно голодные звери, издавали какие-то хлюпающие звуки. Больше я не оглядывался, направив все свои усилия на то, чтобы поскорее добраться до базилики. Я должен был во что бы то ни стало найти Гайдэ, пока она еще жива.
Впереди мерцал огонек пламени. Легким галопом я подъехал к арке базилики — там стоял какой-то человек с высоко поднятыми руками, его силуэт четко выделялся на оранжевом фоне огня. Он смеялся, и в смехе этом я услышал отзвук издевательского ликования. Он смотрел на меня и продолжал хохотать — это был Горгиу. Когда я проезжал мимо него, он попытался прыгнуть на меня, но конь ударил его копытом по голове, и бедняга отлетел назад. Я погнал коня к базилике во весь опор. Темные силуэты отовсюду смотрели на меня; тут был и священник, глаза которого так же, как и у остальных, излучали смерть. Твари сбились в кучу в дальнем конце церкви вокруг развалин башни. Я подскакал к ним, сбивая одних и расталкивая других, когда они тщились стащить меня с седла.
— Байрон! — донесся крик Гайдэ.
Она стояла на верхней ступеньке, одетая мальчиком-слугой. В обеих руках ее было по горевшему факелу, а перед ней пылал костер. Она перепрыгнула через пламя и побежала вниз по лестнице. Один из монстров двинулся было за ней, но я прицелился и выстрелил из пистолета, и тот отступил с пулей в груди. Я посмотрел по сторонам и увидел лошадь Гайдэ — она была мертва, алчные человеческие пиявки лежали рядом, присосавшись к ней.
— Прыгай! — крикнул я Гайдэ.
Она прыгнула и чуть не упала, но успела зацепиться за сбрую моего скакуна, и я на ходу втянул ее в седло, крепко сжав руками. Мы мчались не разбирая пути. Скалы и оливы проносились мимо, и я знал, что, если мы хотим спастись, надо скорее выбраться на дорогу. Внезапно зигзаг молнии прорезал небо над пиками гор.
— Справа! — прокричала Гайдэ.
Я кивнул и взглянул туда. Там была дорога, выходящая из замка, и при очередной вспышке молнии я увидел еще кое-что: скопище черных фантомов — они валили из ворот в стене и бесцельно растекались в разные стороны, подобно куче листьев, разносимых бурей. Когда мы выехали на дорогу, они, казалось, учуяли человеческую кровь, и их верещание заглушало теперь шум ветра; но догнать нас они были не в силах, а впереди никто уже нам не преграждал путь. Вскоре мы скрылись за поворотом, и они исчезли из виду.
Я уже начал верить в наше спасение. Но когда мы проезжали под аркой, обозначавшей древний предел деревни, я вдруг почувствовал, как что-то тяжелое свалилось мне на спину, и я, выпав из седла, очутился на земле. Кто-то дышал мне в шею гнилым смрадом. Я пытался повернуться и схватить нападавшего, чьи острые, как лезвия, ногти впились в мою руку.
— Только не дай ему укусить тебя! — кричала Гайдэ. — Байрон, не дай ему испить твоей крови!
Существо, похоже, отвлеклось на ее крики, оно обернулось, и в тот же миг я сумел выскользнуть из его объятий и разглядеть вампира. Это оказался Петро, но как он изменился! Кожа его приобрела восковой оттенок, присущий трупам, зато глаза сверкали, как у шакала, и, увидев, что я вырвался, они вспыхнули красным, и он вновь бросился на меня. Я схватил его за горло, пытаясь столкнуть с себя, но он оказался слишком сильным, и я снова почувствовал его гнилое дыхание, а челюсти его клацали все ближе и ближе к моей шее. Смердение было невыносимым, и состояние мое было близко к обмороку.
— Петро! — слышал я крики Гайдэ. — Петро!
Тут его слюни потекли мне на лицо, и последние силы оставили меня. Я приготовился встретить смерть или, скорее, мертвую жизнь, ставшую судьбой целой деревни. Но затем раздался глухой звук. Петро скатился с меня. Я открыл глаза. Гайдэ стояла надо мной с тяжелым камнем в руках. Камень был в крови, и волосы налипли на него. Петро лежал рядом недвижим, но постепенно мышцы его опять напряглись, а его пальцы поползли к ногам Гайдэ, которая тут же выхватила из-под плаща распятие и изо всех сил вонзила его брату в сердце. Петро завизжал точно так же, как и его брат до этого, фонтан крови брызгами разлетелся от его груди. Гайдэ вытащила распятие из мертвеца, затем легла рядом и стала рыдать, хрипло, без слез.
Я обнял ее и, когда слезы потекли наконец по ее щекам, с нежностью взял ее за руку и повел к коню. Я не проронил ни слова — а что я мог ей сказать?
— Мчи во весь опор, — прошептала Гайдэ, когда мы двинулись. — Подальше от этого места. Мы никогда больше не вернемся сюда.
Я кивнул и пришпорил лошадь, и она понеслась галопом вниз по горной дороге.
Лорд Байрон замолчал. Он сжимал ручки кресла и тяжело дышал.
— И вы уехали? — в нетерпении спросила Ребекка. — То есть вам удалось бежать оттуда навсегда?
Лорд Байрон грустно улыбнулся.
— Мисс Карвилл, ради бога, это ведь моя история. Вы до сих пор вели себя очень великодушно, не прерывая моего рассказа. Пожалуйста, не портите этого впечатления.
— Простите меня…
— Но?..
Ребекка утвердительно улыбнулась.
— Совершенно верно: но вы так и не объяснили, что же произошло с деревней. Это-то вы можете мне рассказать?
Лорд Байрон поднял брови.
— Как все они могли так быстро измениться? Это дело рук паши? Горгиу?
Лорд Байрон вновь едва заметно улыбнулся.
— Подобные вопросы, как вы легко можете себе представить, волновали меня не меньше. Мне не хотелось донимать Гайдэ расспросами, я не хотел, чтобы она вспоминала то, что случилось с ее семьей. Но тем не менее, по мере того как гроза усиливалась, я вынужден был думать о месте, где мог бы ее переждать, поэтому мне надо было знать, безопасно ли будет сделать остановку или. мы должны ехать всю ночь.
— Ваш конь, если он нес вас обоих… Я полагаю, вы могли загнать его?
— Нет. Мы встретили кое-кого. Видите ли, у моста, где мы раньше повстречали Горгиу, — мы как раз этот мост переезжали, — из пелены дождя вдруг возник всадник, он вел на привязи вторую лошадь и окликнул меня по имени. Это был Висцилий. Он дожидался меня.
— Бросить вас, мой господин? — сказал он, скаля зубы из-под густых усов. — Только потому, что вурдалак дал мне деньги? — Он сплюнул и разразился проклятием в адрес паши. — Откуда ему знать, — продолжал Висцилий, — что и разбойник чтит свою честь не меньше, чем священники падки до золота и мальчиков?
Очередной поток брани хлынул из его уст, а затем он сказал, что построил хижину в скалах.
— Мы двинемся на рассвете, мой господин, но теперь девушке необходим отдых. Там есть огонь и еда, — он подмигнул, — да и раки тоже найдется.
Я не мог ничего возразить, даже поблагодарить его мне было трудно. Помни, сказал я себе, людей с добрым сердцем следует искать среди разбойников.
Даже Гайдэ как будто ожила, когда мы расположились у огня. Она все еще не разговаривала, но, отужинав, я начал задавать ей вопросы о наших шансах на спасение — станут ли твари из деревни преследовать нас или нет? Гайдэ покачала головой. Она сказала, что это исключено, если паша действительно уничтожен. Я спросил, что она хочет этим сказать. После недолгою раздумья она прерывистым голосом стала объяснять: когда паша делает человека вурдалаком, тот становится чудовищем, все существование которого заключено лишь в ненасытной жажде человеческой крови. Некоторые из этих существ всего лишь зомби, целиком зависимые от воли паши; другие же переходят в состояние животной жестокости, заражая тех, у кого они пьют кровь таким же всепоглощающим безумием. Она запнулась, и Висцилий протянул ей бутыль с раки. Гайдэ отпила из нее и продолжила рассказ. Как она полагает, именно таким сделали ее отца Она взглянула на меня. Глаза ее горели ненавистью.
— Он должен был знать, к чему это приведет. Он сделал это совершенно осознанно, обрек моего отца, семью, целую деревню на участь живых мертвецов. Но, Байрон, если ты убил его, создания тоже начнут умирать, и нам ничто не грозит. Если ты убил его…
— Что это значит — если? Я застрелил его, я видел, как он умер.
Висцилий хмыкнул.
— Вы выстрелили ему в сердце, мой господин?
— Да.
— Вы в этом точно уверены, мой господин?
— Черт возьми, Висцилий, я трость могу расщепить с двадцати шагов, а уж в сердце с двух я всяко попаду.
Висцилий пожал плечами.
— Ну, тогда нам, кроме татар, бояться некого.
— Кроме солдат паши? Им-то зачем за нами гнаться?
Висцилий снова пожал плечами.
— Отомстить за смерть Вахель-паши, разумеется.
Он опять взглянул на меня и улыбнулся.
— Милосердия у них столько же, сколько и у разбойников.
— Столько же? Ну уж нет, с разбойниками им в милосердии не тягаться.
Висцилий оскалил зубы в ответ на мой комплимент, на который он и не думал напрашиваться, и его теплота тронула меня.
— Нет сомнения, — сказал я, — что мертвые твари сожрут солдат.
— Будем надеяться, что так.
Висцилий вытащил свой нож и уставился на него.
— Но я бы на месте татар спалил деревню и дождался рассвета.
— А солнечный свет убивает этих существ?
— Это и ребенку ясно, мой господин.
— Но я видел пашу при. свете дня.
— Ему ничто не страшно, — сказала вдруг Гайдэ, обхватив себя руками. — Он старше, чем эти горы, и укус его смертельнее змеиного, что же ему бояться каких-то солнечных лучей? Но солнце действительно делает его слабее, и он теряет все силы, когда в небе нет луны, чтобы восстановить их.
Она схватила мои руки и страстно поцеловала их.
— Вот почему нам необходимо отправиться в дорогу завтра же, с первыми лучами. И ехать как можно быстрее, с такой скоростью, на которую только способны наши лошади. — Она кивнула. — Только тогда мы освободимся от них. — Она улыбнулась мне. — Ты помолился богине, Байрон, как я тебя просила?
— Да.
— И она услышала твои молитвы?
— Несомненно, — прошептал я.
Я нежно поцеловал ее в лоб.
— Она не могла не услышать.
И я велел ей идти спать.
Висцилий всю ночь провел на часах, будто был сделан из камня. Я хотел было сидеть с ним, но тут же стал клевать носом, а едва я сомкнул глаза, как он уже шептал мне на ухо, что вот-вот начнет светать. Я взглянул на небо — гроза прошла, и ранний утренний воздух был прозрачен и чист.
— Сегодня будет жарко, — прошептала Гайдэ, когда мы собирались в путь.
Я посмотрел на нее. Ее щеки были свежи, как рассвет на востоке, а глаза сияли светом рождающегося дня. Я впервые увидел, что под мраком воспоминаний в ней пульсирует свобода, о которой до сих пор она лишь мечтала.
— У нас, получится, — сказал я, крепче сжимая ей руку.
Она ответила кивком, села в седло, подождала, пока мы с Висцилием последуем ее примеру, и затем поскакала по тропе.
Мы гнали лошадей во весь опор, а солнце между тем поднималось все выше и палило все сильнее. Время от времени Висцилий слезал с коня и взбирался на какой-нибудь утес или выступ в скале, а когда догонял нас, то лишь улыбался и качал головой. Но около полудня, когда он в очередной раз спустился к нам, он выглядел хмурым и, поравнявшись с нами, пробормотал, что видел облако пыли. Хотя и далеко, но оно двигалось.
— В нашу сторону? — спросил я.
Висцилий пожал плечами.
— Они едут быстрее нас?
Висцилий пожал плечами во второй раз:
— Если это татары, то очень может быть.
Я тихо выругался, глядя вперед на дорогу, потом оглянулся через плечо на голубое безоблачное небо.
— Куда же нам деваться, Висцилий? — медленно спросил я. — Как нам скрыться?
— Надо выехать за пределы владений паши. Они не посмеют преследовать знатного иноземного господина дальше этих границ, тем более если этот господин — друг великого Али-паши.
— Ты уверен в этом?
— Да, мой господин.
— Где же эта граница?
— На Миссолунгской дороге. Там есть небольшая крепость.
— И долго ли еще до нее ехать?
— Пару часов, а если поторопимся — успеем и за полтора.
Гайдэ посмотрела на небо.
— Уже почти полдень. Солнце начнет клониться к горизонту. — Она обернулась ко мне. — Мы должны ехать как можно быстрее. Скакать, словно сам дьявол гонится за нами.
И мы помчались. Прошел час, но ничто не нарушало тишину жаркого дня, кроме звука копыт наших коней, поднимающих за собой облака белой пыли и несущих нас к Миссолунгской дороге. Мы остановились у ручья — у этого прекрасного зеленого оазиса среди, скал и камней, чтобы напоить наших лошадей. Гайдэ спешилась, но, едва наполнив свой бурдюк, она оглянулась и увидела смутное облачко пыли вдалеке.
— Ты нам об этом говорил? — спросила она Висцилия.
Мы оба посмотрели туда.
— Они приближаются, — сказал я.
Висцилий кивнул.
— Берите коней, — велел он, оттаскивая свою лошадь от воды. — Нам пора ехать.
Но как мы ни старались, облако пыли позади так и не исчезло. Напротив, оно становилось все плотнее и, казалось, приближалось к нам. А затем я услышал, как Гайдэ вскрикнула; обернувшись, я увидел блеск металла и услышал отдаленный стук копыт. Мы обогнули выступ скалы, и наши преследователи исчезли, а мы могли только догадываться, заметили они нас или нет. Но теперь дорога пошла под откос и стала более прямой, так как валуны и утесы мы миновали. На открытой равнине мы стали легко заметны.
— Далеко еще? — крикнул я Висцилию.
Он показал рукой, но я смог увидеть только белую линию дороги далеко впереди и маленькую крепость.
— Замете Али-паши, — пояснил он. — Мы должны успеть туда. Вперед, мой господин, вперед!
Наши преследователи уже обогнули скалу и увидели нас. Послышались их победные крики, и они стали рассыпаться по равнине. Донесся звук выстрела, и мой конь чуть не упал, споткнувшись. Я выругался, пытаясь дотянуться до сумки с пистолетом.
— Вперед, мой господин, — прокричал Висцилий, когда раздался второй выстрел, — татары не умеют стрелять метко!
Но зато скакали они быстро; пока Висцилий кричал, трое из них отделились и стали приближаться к нам. Один из них нагнал Гайдэ и захохотал, когда она замахнулась на него кинжалом. Он стал забавляться, кружа вокруг нее, но тут мне наконец удалось нащупать пистолет. Он уже был заряжен, и мне только оставалось надеяться, что он не даст осечки. Татарин схватил Гайдэ за волосы; она отчаянно вцепилась в поводья, сопротивляясь его рывкам. Татарин выпустил ее, а затем вновь схватил — уже за руку. Он смеялся — и тогда я выстрелил. Татарин высоко подскочил в седле, как будто отдавая кому-то честь, но тут же упал с лошади, которая потащила его за застрявшие в стременах ноги вдоль дороги. Наблюдая за бегом обезумевшей лошади, наши преследователи замешкались, и мой боевой дух воспрял, так как открытые ворота крепости были уже в поле нашего зрения. Татары, должно быть, тоже их увидели, поскольку тут же начали кричать в ярости, звук их бешеной скачки грохотал у нас в ушах. Я обернулся — был ли с ними паша? Я не смог ничего разглядеть. Я обернулся опять. Его там не было. Ну конечно, ведь он был мертв. Я видел его смерть.
— Вперед, мой господин, — кричал Висцилий.
Пули свистели мимо нас, и вдруг им ответил залп из бойниц замка, и несколько татар упали на землю. Но их оставалось ехце много, и я подумал, мчась к открытым воротам, что мы не успеем. Меня кто-то схватил за руку. Я обернулся — татарин скалился мне в лицо. Он тянулся к моему горлу, но в этот момент я вывернулся из его захвата, и мой конь сбил его коня. Я искал взглядом Гайдэ; она скрылась в воротах крепости.
— Мой господин, быстрее! — орал Висцилий впереди.
Я пришпорил почти загнанного скакуна; всадники отстали от нас, и мы влетели в ворота, которые тут же захлопнулись за нами.
Мы были спасены, по крайней мере на некоторое время. Но даже за крепостными стенами мы чувствовали себя неуютно. Командир гарнизона был угрюм и подозрителен. Хотя его вполне можно было понять, судя по тому, что наше появление было довольно странным, но ведь, с другой стороны, он не мог не видеть ярость татар, гнавшихся за нами. Когда я сказал ему, что это были клефти, он смерил меня открыто недоверчивым взглядом. Впрочем, он стал вести себя более вежливо, когда я подчеркнул, что я близкий друг Али-паши, а когда он взглянул на рекомендательное письмо, которое было со мной, он удивил нас своей почти греческой услужливостью. Но я ему не верил, и, после того как мы немного отдохнули и удостоверились, что татары вернулись к себе в горы, мы поторопились двинуться в путь. Миссолунгскую дорогу, хотя и трудно было назвать оживленной, но после пустынных горных троп она показалась нам настоящим торговым путем, а что касается ее состояния, то тут и говорить нечего: мы теперь могли двигаться гораздо быстрее. Разумеется, мы все равно старались быть начеку, но никаких облаков пыли, вздымаемой к небу, мы более не видели и вскоре почувствовали себя вполне в безопасности. Мы переночевали в Арте, довольно милом местечке, и там смогли нанять охрану — десять солдат, чтобы они оберегали нас всю оставшуюся дорогу. Чувство уверенности начало возвращаться ко мне. Мы отправились в путь лишь поздним утром, поскольку Гайдэ так устала, что проспала почти двенадцать часов. Я не решился будить ее. Я и сам пребывал тогда в безмятежном платоническом настроении.
Да и мог ли я винить Гайдэ за ее сдержанность, ведь она еще не почувствовала свою свободу…
Лорд Байрон замолчал. Глаза его были широко раскрыты, они всматривались в пустоту, как будто он видел там канувшее в Лету прошлое.
— Ее невинность. — Он вновь запнулся, встретившись взглядом с Ребеккой. — Ее невинность, — прошептал он, — была столь же неистовой и неукрощенной, как и страсть в ее душе: пламя надежды, которое не в силах были погасить долгие годы рабства; и если я говорю, что любил ее так, как никого более не полюблю, то это именно благодаря тому, что огонь этот светился в ней, зажигал ее дикую красоту негасимым пламенем. У меня не было никакого желания красть то, что могло меня обжечь, кровь моя в венах вскипала подобно вулканической лаве, и я ждал. Мы двинулись дальше, к Миссолунги, и, судя по тому, что Гайдэ продолжала сторониться меня, я знал, что нам еще рано рассчитывать на то, что паша почил в могиле.
На третий день пути мы достигли берегов озера Трихо-нис. Там мы недолго задержались, так как неподалеку от озера находилась деревня Висцилия и он предложил мне пополнить нашу стражу своими односельчанами. Он уехал в горы, так что на время его отсутствия мы расположились в гроте, где воздух был тяжелым от аромата роз, а голубое зеркало озера едва виднелось среди деревьев. Я обнял Гайдэ и снял ее пажескую шапочку, так что ее длинные волосы свободно упали на плечи. Я гладил их, а она играла моими волосами, и мы лежали в сладком забытьи, словно были единственными людьми на этой земле.
Я любовался видом гор за озером, и дух мой зажегся надеждой и восторгом. Я повернулся к Гайдэ.
— Ему нас не достать, — сказал я. — Только не здесь. И он мертв.
Гайдэ пристально смотрела на меня своими большими томными черными глазами. Медленно, почти незаметно она кивнула.
— Однажды он признался мне, что любит тебя. Это правда, как ты думаешь?
Гайдэ не ответила, она припала щекой к. моей груди.
— Не знаю, — сказала она наконец, — возможно. — Она помолчала. — Любил ли? Нет, он не мог полюбить меня.
— Тогда что же?
Гайдэ тихо лежала у меня на груди. Она слушала, как мое сердце бьется для нее.
— Кровь, — сказала она. — Да, вкус моей крови.
— Крови?
— Ты видел, видел, каким он от этого становился. Он пьянел. Не знаю, в чем тут дело. Когда он пил ее у других людей, такого никогда не случалось. — Она резко села, сжав свои колени. — Только от моей крови. — Она вздрогнула. — Только от моей.
Она вновь обняла меня. Поцеловала. Ее тело дрожало в моих руках.
— Байрон, — прошептала она, — правда ли это? Неужели я на свободе? — Она во второй раз поцеловала меня, и ее слезы остались на моем лице. — Скажи мне, что я свободна, — попросила она, прижимаясь щекой к моим щекам. — Докажи, что я свободна.
Она встала, ее плащ упал, она дернула свой пояс, ткань уже не скрывала ее груди. Одна за другой все ее одежды очутились на земле у ее ног. Она нагнулась, ночь сверкнула в ее глазах, наши губы соприкоснулись и слились воедино в поцелуе. Рука Гайдэ сжала мои плечи, а моя зарылась в ее локоны. Ничто вокруг более не существовало для нас. Все, что я чувствовал, была Гайдэ: бархатные прикосновения ее языка, мягкое тепло ее наготы на моем теле. Мы любили и были любимы, пили дыхание друг друга, пока дыхание наше не перешло в острое удушье; и думал я, что если душа может умереть от наслаждения, тогда наши души обречены, но нет, пока мы содрогались и растворялись в объятиях друг друга, смерть не была властна над нами. Наконец мало-помалу чувства наши вернулись, но лишь затем, чтобы вновь потонуть в агонии, и стук сердца Гайдэ, отдававшийся в моей груди, заставлял меня поверить, что и сердце теперь у нас одно на двоих.
День шел на убыль. Гайдэ заснула. Такая прекрасная, такая ненасытная в любви, теперь лежала она неподвижная, доверчивая, хрупкая. Уединение любви и упавшей ночи было наполнено таким же спокойствием. Вдали тени от гор двигались по глади озера, Гайдэ шевельнулась в моих руках и прошептала мое имя, но не пробудилась, и дыхание ее оставалось ровным, как вечерний бриз. Я смотрел на нее, держа на своей груди. И опять в этом тихом месте я ощутил, что все богатство, все краски жизни были лишь для нас двоих. Я смотрел на Гайдэ и вновь переживал восхищение Адама Евой, подарившей ему целый мир, и верил, что рай никогда не будет потерян.
Я поднял глаза. Ночь почти наступила. Солнце уже скрылось, и горы своими синими силуэтами заслоняли звезды. На одной из вершин расплывчатым силуэтом горела луна — и на мгновение мне вдруг почудилось темное пятно, мелькнувшее на фоне лунной дорожки.
— Кто здесь? — тихо прошептал я.
Ответом мне было спокойствие ночи. Я шевельнулся, и Гайдэ внезапно посмотрела на меня широко открытыми и яркими глазами.
— Ты что-то видел? — спросила она.
Я ничего не ответил. Натянув плащ, я пошел за саблей. Гайдэ последовала за мной. Мы вышли из пещеры. Ни звук, ни шорох не нарушали тишину.
И вдруг Гайдэ показала куда-то.
— Там, — прошептала она, вцепившись мне в руку.
Я взглянул туда и увидел тело, лежавшее в зарослях цветов. Я нагнулся и перевернул его. На меня уставились глаза одного из наших телохранителей. Он был мертв. Он казался совершенно обескровленным, а лицо его было обезображено гримасой ужаса. Я посмотрел на Гайдэ, поднялся и обнял ее. В эту минуту цепь факелов окружила нас, и за каждым из них пряталось лицо татарина. Никто из них ничего не говорил. Я поднял саблю. Цепь медленно разомкнулась. Одетая в черное фигура вышла из темноты.
— Уберите саблю, — сказал Вахель-паша.
Я тупо смотрел на него. Потом засмеялся и покачал головой.
— Прекрасно. — Паша отбросил свой плащ.
Раны от пуль, которые я выпустил в него, все еще сочились кровью. Он вытащил из-за пояса пистолет.
— Спасибо, что дали мне возможность, — сказал он, — я ваш должник.
Он прицелился. Воцарилась гробовая тишина. Тогда Гайдэ бросилась ко мне и встала между нами, но я оттолкнул ее, и тут звук выстрела взорвался в моих ушах. Я почувствовал боль, заставившую меня рухнуть на землю. Я схватился за бок — он был мокрый. Гайдэ звала меня, рвалась ко мне, но ее уже держали два татарина, и она внезапно замерла, без плача, бледная, напрягшаяся, словно окаменев от поцелуя смерти.
Паша разглядывал ее. Потом дал знак, и третий татарин шагнул вперед. В руке у него было что-то вроде дерюги. Паша взял рабыню за подбородок. Губы его дрожали, но затем перестали, словно печаль и презрение не давали ему улыбаться.
— Взять ее, — велел он.
Гайдэ взглянула на меня.
— Байрон, — прошептала она. — Прощай.
Слуги увели ее, и больше я ее не видел.
— Как трогательно, — прошептал паша, дыша мне в лицо. — Значит, из-за нее, ради нее, милорд, вы отреклись от всего, что я предлагал вам?
— Да, — сказал я спокойно.
Я отвернулся, чтобы не смотреть в его глаза.
— Она не виновата. Я похитил ее. Она не хотела ехать со мной.
Паша захохотал.
— Ну и благородство!
— Это правда.
— Ну уж нет. — Улыбка паши исчезла. — Неправда, милорд. Она такая же беглянка, как и вы. Вы оба заслужили наказание.
— Наказание? Что вы сделаете с ней?
— В наших краях есть одно забавное наказание за вероломство. Для рабов оно вполне подходит. Но черт с ней, милорд, я бы на вашем месте о своей судьбе побеспокоился.
Он протянул руку ко мне и обмочил пальцы в крови на моем боку. Затем облизал их и улыбнулся.
— Да, вы умираете, — сказал он, — вам хочется этого? Хочется смерти?
Я не ответил. Паша нахмурился, и вдруг его глаза загорелись, как будто красное пламя вспыхнуло в них, и лицо его потемнело от гнева и отчаянья.
— Я хотел дать вам бессмертие, — зашептал он, — я хотел, чтобы мы с вами делили вечность, — он поцеловал меня грубо, от его зубов на губах моих осталась кровь, — и вместо этого — измена!
Он снова поцеловал меня, слизывая языком кровь с моих губ.
— О, как вы бледны, милорд, как бледны и прекрасны!
Он приник так близко ко мне, что его раны коснулись моих.
— Дам ли я сгнить ей, вашей красоте? Выпью ли ваш мозг? Обреку ли скрести полы в моем замке?
Он рассмеялся и сорвал с меня плащ, оставив меня нагим, Он целовал меня снова и снова, прижимаясь ко мне, и тут я почувствовал его ноготь на своем горле. Кровь тонкой струйкой потекла из ранки. Паша присосался к ней, оставляя ногтями все новые полосы на моей груди. Сердце мое билось со страшной скоростью, отдаваясь в ушах; я посмотрел вверх, на звезды, и мне показалось, что и небо пульсирует, как бьющееся в конвульсиях животное. Я чувствовал губы паши, который жадно пил из моих ран, и, когда он снова взглянул на меня, его усы, борода были липкими от крови, моей крови, и он смеялся надо мной. А потом склонился к моему уху и прошептал:
— Я дам тебе знание. Знание и нетленность. И проклят будешь ты.
Звук пульсирующей крови стучал в моих ушах, и я уже больше ничего не слышал. Я кричал, грудь моя буквально разрывалась от боли, каждый нерв был натянут как струна, но даже несмотря на это, я все еще чувствовал огонь страсти, зажженный Гайдэ в эту ночь, он заставлял меня дрожать. Наслаждение и боль достигли такого предела, что я подумал, что больше не выдержу, но они возрастали все больше и больше, словно две музыкальные темы, парящие в ночи, и вдруг я будто поднялся над ними. Чувства остались, и все же я ничего не ощущал. Кровь мчалась по артериям, язык паши ласкал мое бьющееся сердце. Великий покой снисходил на меня, по мере того как кровь густым потоком оставляла мои вены. Я посмотрел на деревья, озеро, горы — все было красного цвета Я взглянул на небо — моя кровь, казалось, разлилась по нему. Паша все пил и пил, и меня как бы вовлекло, а потом выбросило из него. Я растворился и стал миром вокруг себя. Удары сердца становились все глуше и реже. Моя кровь, разлитая по небу, становилась все темнее. Последний удар — и конец. Все исчезло. Все почило — озеро, бриз, луна, звезды. Тьма поглотила вселенную.
И затем, затем в недвижной тишине — снова биение, один удар. Я открыл глаза — я мог видеть. Я оглядел себя: казалось, я был совершенно освежеван — столь наг, что вся моя плоть, органы, артерии и вены, словно липкие перезревшие плоды, блестели в свете луны. И все же, хотя я и был выпотрошен, как анатомический труп, двигаться я мог. Пошевелившись и поднявшись, я почувствовал невероятную силу, растекающуюся по моим жилам. Сердце мое забилось. Я огляделся по сторонам — ночь светилась серебром, синие тени жили своей тайной жизнью. Я пошел к ним, мои ноги чувствовали землю: каждая травинка, каждый цветочек наполняли меня радостью; как если бы нервы были струнами арфы, к которым слегка прикасались пальцы музыканта С каждым моим движением пульсация жизни наполняла воздух, и жестокий голод просыпался во мне. Я побежал. Я не понимал, что охочусь, но я летел, как дыхание ветра, бежал через лес и горные проходы, и каждую минуту мой голод рос и становился все отчаяннее. Я взобрался на скалу и учуял нечто золотистое и теплое впереди. Это должно было стать моим. Это станет моим! Я послал вопль желания небесам. Но из моей глотки вырвался нечеловеческий голос. Я прислушался к собственному крику — волчьему вою.
Стадо коз замерло в страхе. Я распластался на камнях. Одна коза находилась прямо подо мною. Я чувствовал ее запах — запах крови в ее венах и мышцах, дающей ей жизнь. Каждая крошечная кровяная корпускула была дорога для меня, как самородок. Я прыгнул. Зубами разорвал шею козе. Кровь мощным горячим потоком омыла мое лицо. Я пил ее, и ощущение было настолько острым, будто раньше само чувство вкуса было никогда не ведомо мне. Реакция, зрение и ясность ума полностью вернулись ко мне. Я смотрел в широко раскрытые глаза парализованного животного и замирал от восторга, поражаясь, что такие вещи существуют в природе — и как изящно они переплетаются! Когда я держал это создание, биение его сердца в моих когтях дарило мне незабываемое наслаждение. И я пил, чувствовал, как эта радость вливается в мои собственные вены. Скольких я убил из стада? Трудно сказать. Я пил и пил — восторг убийства не оставлял мне ни минуты на раздумья. Было лишь ощущение, чистое и всепоглощающее. Была лишь жизнь — вокруг меня и внутри меня.
Ребекка, внимательно следила за вампиром, глаза ее были полны ужаса. Она медленно покачала головой.
— Жизнь? — произнесла она. — Жизнь? Но не ваша. Нет! Вы уже перешагнули ее границы… не так ли?
Лорд Байрон посмотрел на нее остекленевшим взглядом.
— Но экстаз… — прошептал он. — Экстаз мгновения…
Медленно он прикрыл глаза и сплел пальцы, вспоминая.
Ребекка смотрела на него, боясь вымолвить слово.
— Даже на мгновение, — сказала она наконец, — даже выпив всю кровь из них, вы не стали живым.
Лорд Байрон открыл глаза.
— Я проспал до рассвета, — продолжил он внезапно, оставляя слова Ребекки без ответа. — Лучи солнца принесли мне слабость. Я хотел встать, но не смог. Я посмотрел на свою руку — это была снова моя рука. Она была липкая от слизи. Я взглянул на свое обнаженное тело. Я лежал в отвратительной луже, в зловонной жиже, а затем, пошевелившись, я ощутил непривычную легкость. Я знал, что это была за грязь: мои жизненные соки, исторгнутые из моего тела как нечто ему инородное. Эта слизь уже начала гнить и пузыриться в утреннем тепле.
Я поднялся на четвереньки. Повсюду на камнях были разбросаны останки — клочья козлиной шерсти, кости и насохшая кровь. Я чувствовал отвращение, да, мне было противно, но никакой тошноты я не испытывал; напротив, глядя на черные пятна крови вокруг и на себе, я ощущал силу, наполнявшую все мое существо. Я изучил свой бок — никакой раны, даже шрама не осталось. Я заметил ручеек, двинулся к нему и умылся. После этого я смог идти. Высыхая под солнцем, моя кожа болела. Вскоре страдания стали невыносимыми. Я стал искать укрытие. Впереди за холмом росла олива. Я поспешил туда. Перейдя через холм, я очутился перед синим зеркалом озера Трихонис. Я любовался им, сидя под деревом. Я вспомнил, когда в последний раз видел его — тогда я был еще жив. А теперь?
Лорд Байрон посмотрел на Ребекку и кивнул.
— Да, в эту минуту я и понял, по-настоящему понял: я перешагнул пределы жизни, подвергся трансформации, превратившей меня совершенно в другое существо. Меня трясло. Кто же я? Что произошло? Кем сделал меня паша? Кровопийцей, горлодером.. — Он сделал паузу. — Вурдалаком…
Он слабо улыбнулся и сжал руки. На несколько минут воцарилась тишина.
— Весь день провел я под оливковым деревом, — вновь заговорил он, — неведомые силы, владевшие мною ночью, казалось, ослабели при свете дня; одна ненависть к моему создателю не слабела, а полдень, а за ним и день не торопясь проходили. Паше удалось уйти от меня один раз, но теперь с такой тварью, как он, я совладаю, и я знал как. Я сложил руки на груди. Мое сердце билось медленно, тяжело качая кровь. Мне не терпелось схватить сердце самого паши, ощутить его в своих пальцах, сдавить его, пока оно не взорвется. Что стало с Гайдэ, о какой пытке говорил мне ее господин? Выживет ли она после нее? Увижу ли я ее? И тут я опять вспомнил, го что я превращен, и отчаяние овладело мной, моя злоба г паше удесятерилась. О, до чего сладка была эта ненависть, как лелеял я ее, весь этот долгий первый день я думал о ней.
Солнце стало садиться, и горы на западе окрасились в кроваво-красный цвет. Чувства возвращались ко мне. Воздух снова наполнился ароматами жизни. Сумерки сгущались, и чем темнее становилось, тем острее было мое зрение. На озере колыхались рыбацкие лодки. Одна из них особенно заинтересовала меня. Она выплыла в самый центр озера и стояла там на якоре, двое подняли груз в мешковине и бросили его за борт. Круги разошлись по воде и пропали, оставив гладь озера такой же незыблемой, как и раньше. Вода была алой, и, глядя на рыбаков, я снова чувствовал одержимость кровью. Я вышел из-под оливы. Темнота была словно моя вторая кожа. Она рождала во мне безумные желания и чувство власти.
Я пошел к пещере, где паша настиг меня. Там не было и следа его, вообще ни одной живой души. Мои одежды были разбросаны, как я и оставил их. Я натянул их на себя. Только плащ мой уже никуда не годился — он был изорван и испачкан кровью, поэтому я стал искать плащ Гайдэ и обнаружил его валявшимся в глубине пещеры. Я вспомнил, как она скинула его прошлой ночью. Я завернулся в него и сел у входа в пещеру. Я разглядывал черные складки, спадавшие вокруг меня, и закрыл лицо руками в отчаянии.
— Мой господин!
Я поднял глаза и увидел Висцилия. Он бежал ко мне сквозь оливковую рощицу.
— Мой господин! — позвал он снова. — Мой господин, я думал, вы погибли!
Потом он посмотрел на мое лицо. Он пробормотал что-то и застыл на месте. Медленно он снова посмотрел на меня.
— Мой господин, — прошептал он, — сегодня…
Я с интересом поднял бровь.
— Сегодня ночью, мой господин, вы можете исполнить свою месть.
Он запнулся. Я кивнул. Висцилий упал на колени.
— Это единственный наш шанс, — сбивчиво объяснял он. — Паша пошел через горы. Если вы поторопитесь, мы поймаем его.
Он сглотнул и замолчал. Какой удивительно изысканный запах исходил от него! Я раньше никогда не замечал этого. Я изучал его и видел, как его смуглое лицо побледнело.
Я встал на ноги.
— Гайдэ, где она?
Висцилий склонил голову. Затем он обернулся и помахал кому-то, и нос мой учуял кровь еще одного человека.
— Это Элмас, — сказал Висцилий, показывая на такого же крепкого, как он, головореза. — Элмас, расскажи лорду Байрону, что ты видел.
Элмас взглянул на мое лицо, и я увидел, как он нахмурился и побледнел вслед за Висцилием.
— Рассказывай, — прошептал я.
— Мой господин, я был у озера… — Он снова взглянул на меня, и голос его задрожал.
— И что же? — спокойно спросил я.
— Мой господин, я видел лодку. С двумя людьми. У них был мешок. А в мешке…
Я поднял руку. Элмас замолчал. Глаза мои застлал черный туман. Я же знал, конечно знал, когда смотрел на лодку, но не хотел признать скрытый смысл этой сцены. Я сжал край плаща Гайдэ. Когда я заговорил, мой голос ледяными осколками взорвался в моих ушах.
— Висцилий, — спросил я, — куда направляется паша?
— Он едет по горным ущельям, мой господин.
— У нас есть люди?
Висцилий склонился.
— Деревенские, мой господин.
— Мне нужна лошадь.
Висцилий улыбнулся.
— Вы ее получите, мой господин.
— Едем сейчас же.
— Так точно, мой господин.
И мы отправились. Утесы и овраги проносились мимо. Подковы клацали о камни, бока моего вороного скакуна покрылись пеной. Мы достигли ущелья. В лощине я развернул коня и остановился, привстав в стременах, чтобы посмотреть вдаль, пытаясь учуять присутствие врагов. Я взглянул на небо — по-прежнему кроваво-красное, но заметно потемневшее. Годы воспоминаний пронеслись предо мной в этот миг, словно моя собственная вечность открылась мне. Мгновенный страх. Но ненависть тут же вернулась.
— Они близко, — сказал я.
Висцилий всматривался. Он ничего не видел, но кивнул и скомандовал своим.
— Убить всех, — сказал я. — Всех.
Я сжал свою саблю и вынул ее из ножен; сталь блеснула красным огнем при свете неба.
— Но паша, — прошептал я, — мой.
До нас донесся лязг оружия всадников, спускавшихся в ущелье. Висцилий оскалился, кивнул мне и поднял аркебузу. Потом я увидел их — отряд татарских кавалеристов, и во главе их с бледным лицом, светящимся среди скал, — чудовище, мой создатель… Я сжал пальцы вокруг рукоятки сабли. Висцилий бросил взгляд на меня, я держал саблю наперевес, потом опустил ее. Висцилий выстрелил, и татарин, ехавший впереди, рухнул на землю. Вахель-паша обернулся. Ни страха, ни удивления не отразилось на его лице. Но вокруг него при первом же залпе начался хаос: кто-то, спрятав в скалах коней, пытался стрелять в
ответ, другие удирали в ущелье, где их настигали ножи. Жажда крови проснулась во мне. Я пришпорил коня, сорвавшись с места, где стоял, выделяясь силуэтом на фоне гаснущего неба. По всему оврагу воцарилась тишина. Я устремил взгляд на пашу, он в ответ смотрел безразлично. Но один из его солдат закричал:
— Это он, это он! Смотри, как он бледен, это он!
Я улыбнулся и помчался вниз, вопли людей Висцилия отдавались в моих ушах.
Дно ущелья уже было завалено трупами, отряды сошлись в рукопашной. Одинокий посреди резни, возвышался паша, не тронутый никем. Он ждал. Я остановился рядом с ним, и только тогда он улыбнулся.
— Добро пожаловать в вечность, милорд, — прошептал он.
Я тряхнул головой.
— Гайдэ, где она?
Паша недоуменно посмотрел на меня, затем откинулся и захохотал.
— И вас действительно беспокоит ее участь? — спросил он.
Он потянулся ко мне. Я отстранился.
— Вам еще многое предстоит узнать, — мягко произнес паша. — Но я научу вас. Мы должны быть вместе всегда, и я буду вашим учителем. — Он протянул руку. — Поедемте со мной, милорд. — Он улыбнулся и поманил рукой. — Поедемте.
Минуту я не мог двигаться. Затем опустил клинок. Я почувствовал, как; он прошел сквозь запястье паши. Рука, как будто все еще подзывая меня, изогнулась вверх и упала в пыль. Паша уставился на меня в ужасе, но физической боли, казалось, не почувствовал, и это привело меня в еще большее бешенство. Я в безумии набросился на него. Моя сабля взлетала и опускалась, пока паша не слетел с седла. Он смотрел на меня с земли.
— Ты хочешь убить меня? — спросил он. Вид у него был ошарашенный, он никак не мог в это поверить. — Ты действительно собираешься сделать это?
Я спустился с лошади и приставил клинок к его сердцу.
— На сей раз, — прошептал я, — я не промахнусь.
— Нет! — внезапно завопил паша.
Он пытался увернуться от моей сабли, раня о нее свою единственную руку, которой пытался отбить удар.
— Прощайте, ваше превосходительство, — сказал я.
Я опустил саблю. Острие пронзило его сердце.
Паша испустил вопль. Не человеческий крик, а ужасный, дикий вой боли и ненависти. Он отразился от стен ущелья и устремился по лощинам, заставив замереть все вокруг. Фонтан крови взметнулся в небо, оживляя ярким оттенком глубокий пурпур горизонта и оросив мою голову, словно дождь из тяжелой малиновой тучи. Поток изливался мягкими струями, и я поднял лицо навстречу им. Наконец ливень этот прекратился, и когда я двинулся, то обнаружил, что кожа моя под одеждой мокра от крови. Я посмотрел на пашу. Он лежал, застыв в смертельной агонии. Я взял пригоршню земли и бросил ему на лицо.
— Похороните его, — велел я, — закопайте его так, чтобы он больше никогда не встал.
Я отыскал Висцилия и сказал, что буду ждать его в Миссолунги. Сделав это, я сел на коня и, не оглядываясь, оставил ущелье — эту обитель смерти.
Я ехал всю ночь. Я не чувствовал усталости, меня переполняло необычайное желание деятельности. Кровавый душ утолил мою жажду, а мои силы, чувства, восприимчивость, напротив, возросли в необычайной степени. Я был в Миссолунги на рассвете. Свет более не причинял мне боли. Наоборот, яркие краски, игра небес и моря на горизонте, красота первых солнечных лучей — все это очаровывало меня. Миссолунги хотя и не был столь уж прекрасным местом — обычный городок-крепость на краю болот, но мне он показался самым восхитительным уголком из когда-либо мною виденных. Перебираясь через болото, я пустил своего скакуна легким галопом, любуясь яркими разводами на востоке, как будто никогда в жизни не наблюдал рассвета.
Я въехал в Миссолунги и отыскал таверну — место нашей встречи с Хобхаузом. Хозяин таверны, которого я буквально поднял с постели, уставился на меня в ужасе — вид у меня был дикий, да и одежда, естественно, вся в запекшейся крови. Я заказал свежее белье, горячей воды, и ощущение свежести, когда я умылся и переоделся, было несравненным. Я вбежал по лестнице в комнату Хобхауза, я поднял подушку и швырнул в него.
— Хобби, вставай. Это я пришел.
Хобхауз открыл свой мутный глаз.
— Проклятье, — сказал он, — что ж с того? — Он сел и протер глаза. — Ну, старина, выкладывай, что повидал. — Он улыбнулся. — Полагаю, ничего интересного?
Глава 7
Его увлекали восточные сказания о предсущем, и в своих стихах или беседах он выставлял себя падшим и изгнанным из рая или осужденным, на новое воплощение в нашем мире за какое-то преступление — проклятым, обреченным следовать своей дорогой до самого конца. Временами его буйное воображение напоминало манию; эти игры в сумасшедшего становились все более серьезными, как будто он верил, что судьба его в том, чтобы ломать жизнь себе и тем, кто вокруг него.
Внук лорда Байрона. «Астарта»
— И вы все рассказали ему? — спросила Ребекка.
Лорд Байрон посмотрел на нее. Он долго сидел молча, уставившись во тьму, едва заметная улыбка играла в уголках его рта. Он нахмурился.
— Рассказал? — переспросил он.
— Хобхаузу. Вы рассказали ему правду?
— Правду? — Лорд Байрон рассмеялся. — О чем?
— О вашем превращении.
— В вампира?
Лорд Байрон снова рассмеялся и покачал головой.
— Видите ли, за время нашей разлуки Хобхауз сильно обгорел на солнце. У него и без того цвет лица всегда был красным, теперь же он стал пунцовым. В довершение всех бед у него в тот вечер было несварение желудка, и он всю ночь напролет метался и стонал во сне. Хобби и в лучшие времена не отличался особой доверчивостью. Как же я мог рассказать ему правду, мисс Карвилл? Пусть уж каждый остается при своем. Я не хотел драматизировать ситуацию.
— Хорошо, но он все-таки должен был догадаться…
— Конечно, когда-нибудь это бы произошло. Но… как бы это сказать поточнее? Я сам не был в этом уверен. Понимаете, Хобхауз был таким живым, черт бы его побрал.
Лорд Байрон улыбнулся, и на долю секунды что-то похожее на нежность промелькнуло в его взгляде.
— Что ни говори, но достаточно и двух часов, проведенных с Хобби, вечно ворчащим, зудящим и жалующимся на свою судьбу, чтобы разувериться в существовании вампиров. Конечно, намного труднее было поверить во все то, что произошло со мной. Меня начали одолевать сомнения в реальности случившегося. Может, это был сон? Но сковывающая сердце тяжесть, тяжесть болезненного ощущения утраты, все время напоминала мне о случившемся. Мне не хватало Гайдэ, я был совершенно один — воды озера Трихонис сомкнулись над ней. Но что-то, что-то произошло со мной, что-то странное, — мои ощущения, как я вам уже говорил, больше не были прежними. Мне открывались явления, доступные духам и ангелам, а не простым смертным Малейшее дуновение ветерка, едва слышный шепот — и чувства невообразимой силы и красоты охватывали меня. Мне нравилось поглаживать кожу руки, слушать поскрипывание кресла, вдыхать запах воска горящей свечи, часами смотреть на ее огонь — все это мелочи, но они приводили меня в такой восторг, доставляли такое удовольствие, которое… — Он остановился и покачал головой. — Которое не описать словами.
Он снова улыбнулся, потирая предплечье, словно пытаясь унять поток нахлынувших воспоминаний.
— Все изменилось, — тихо прошептал он, — абсолютно все. Что произошло с миром и со мной? Как подобное могло случиться?
Ребекка засмотрелась на его задумчивое лицо, такое бледное и прекрасное.
— Но вы знали, — сказала она.
Лорд Байрон медленно покачал головой.
— Вы должны были знать.
Она инстинктивно дотронулась до кровавых рубцов на своей шее.
— Как могли вы не знать?
Она почувствовала, как лорд Байрон пристально смотрит на ее шрамы холодным немигающим взглядом, и опустила руку.
— А как же жажда крови? — тихо спросила она. — Как же с ней?
— Я не испытывал ее, — ответил лорд Байрон после некоторой паузы.
— Но вы испытывали ее прежде, там, в горах, вы мне рассказывали.
Лорд Байрон слегка кивнул.
— Я почти поверил в то, что это был всего лишь сон. Мне хотелось вдыхать запах жизни, окружавшей меня. Люди, животные, даже цветы опьяняли меня, но я все же не испытывал голода Однажды, подъезжая к Лепантско-му заливу, я увидел орленка, парящего в небе, и вот тогда желание охватило меня: горы — с одной стороны, водная гладь — с другой, а между ними — это прекрасное живое существо. Я жаждал крови, но не для себя. Я тоже хотел парить в небе и быть свободным, как эта птица, я хотел, чтобы она стала частью меня. Я достал пистолет и выстрелил в орленка, наблюдая за его падением. Он был только ранен, и я попытался спасти его. У этого существа были такие выразительные глаза, но он чахнул с каждым днем и вскоре умер; ужасная тоска овладела мной. Ведь это было первое убитое мной существо после смерти паши — с тех пор я никогда не покушался ни на одно животное или птицу и, надеюсь, никогда не смогу это сделать.
— Нет, — Ребекка покачала головой, — я все же не могу понять.
Она вспомнила тело бродяги у моста Ватерлоо, вспомнила, как сама истекала кровью.
— Но орленок? Почему вам стало жаль его?
— Я уже объяснил, — холодно ответил лорд Байрон. — Мне хотелось, чтобы он стал частью меня, — он был полон жизни, и, убив его, я уничтожил то, что так пленило меня.
— Но разве не это стало главной целью вашего существования?
Вампир склонил голову.
— Возможно, — тихо произнес он.
Его лицо скрывала тень. Ребекке показалось, что ее вопрос разозлил его. Но, когда он поднял голову, выражение его лица было бесстрастным, и, по мере того как он продолжал рассказ, его взгляд потеплел.
— Вы должны верить мне, — сказал лорд Байрон. — Я не испытывал жажду в течение первых месяцев. Были только чувства и желания во всей их полноте и намек на грядущие наслаждения, какие мне даже не снились. Ночью, в полнолуние, когда воздух был удушливым от запаха горных цветов, я ощущал присутствие вечности. На меня нисходил величайший покой, наполняя неистовой радостью от осознания полноты жизни. Мои нежные нервы задевало малейшее движение, и всю плоть пронзала дрожь наслаждения. Чувственность была во всем — в поцелуе ветра, благоухании цветов, дыхании жизни.
— А как же Гайдэ? — В вопросе Ребекки прозвучали нотки сарказма. — Среди этой картины ничем не омраченного счастья вы думали о ней?
Лорд Байрон оперся подбородком о кончики пальцев.
— Отчаяние, — произнес он наконец, — иногда оно может быть очень приятной вещью. Страшный наркотик. Наслаждение, вероятно, меньше всего способно изменить пристрастие к нему.
Он подался вперед.
— Да, конечно, я продолжал оплакивать Гайдэ, но принимал при этом продолжительные ванны. Это и беспокоило меня — неспособность испытывать настоящую боль. Мне казалось, что это было признаком того, что я утратил человечность, и. все же я пытался плакать — но не мог. Причина заключалась в моей перемене, конечно. — Он помолчал. — Да, в перемене.
Ребекке показалось, что он с жалостью смотрит на нее. Она смущенно зашевелилась в кресле и вдруг поймала на себе его холодный взгляд. Лорд Байрон протянул к ней руку, словно желая дотронуться до ее щеки или погладить по волосам, но потом застыл.
— Пришло время, — прошептал он, — пришло время горевать о Гайдэ. Да, пришло. Но тогда… Я не мог побороть наваждение от моего нового состояния. Оно поглотало все остальное. — Он улыбнулся. — Даже отчаяние очаровывало меня.
Он кивнул.
— Так я стал поэтом. Я начал новую поэму, отличную от тех, что написал в Лондоне. Она была полна дикого и неуемного романтического отчаяния. Я назвал ее «Паломничество Чайльд-Гарольда». В Англии поэма прославила меня, а меланхолия стала притчей во языцех. Но когда я писал ее в Греции, уныние наполняло меня ни с чем не сравнимым восторгом. По пути в Дельфы мы проезжали мимо горы Парнас. Мне захотелось посетить оракула Аполлона, древнейшего бога поэзии, я вознес ему молитву, и на следующий день мы увидели орлов, высоко парящих над заснеженными вершинами гор. Я принял это как предзнаменование — боги благословляли меня. Я смотрел на горы, думая о Гайдэ, и моя меланхолия становилась более величественной и поэтичной. У меня никогда еще не было такого возвышенного настроения. Хобхауз, как всегда, оставался Хобхаузом: он заявил, что орлы — это всего лишь стервятники; я весело проклял его и пришпорил коня, одержимый мрачными рифмами, но переполненный восторгом.
Приближалось Рождество, а путешествию нашему не видно было конца И вот наконец вдалеке появились Афины. Величественный вид открылся нашим взорам: равнина Аттики, Эгейское море, город, увенчанный Акрополем. Но не археология прельщала меня — Афины имели для меня более земную в своей новизне привлекательность. Мы сняли комнаты у вдовы по имени Тарсия Макри. У нее было трое очаровательных дочерей, младшая из которых, Тереза, была прелестным райским созданием с надутыми губками. Она прислуживала нам за нашей первой трапезой, заученно улыбаясь и краснея. Этим же вечером мы договорились с вдовой, что остановимся у нее на несколько месяцев.
А потом, когда ночь подходила к концу, я набросился на Терезу, как ураган. Забыл ли я Гайдэ? Нет, но она была мертва, а моя страсть к Терезе забила, как фонтан в пустыне, мощь которого была так сильна, что я даже испугался. Любовь, вечная любовь…
Лорд Байрон печально улыбнулся и покачал головой.
— Нет, даже любовь к Гайдэ притупилась, хотя могу поклясться вам, я делал все, что было в моих силах. Я прогуливался в вечернем саду, остужая свою разгоряченную кровь, как вдруг эта маленькая шлюшка, поджидавшая меня там, стала умолять, пока я не согласился. Но я ничего не мог с собой поделать — так она была восхитительна в своей страсти. Нежные вены просвечивали сквозь тонкую кожу, ее обнаженная шея и грудь манили к себе, и я покрывал их поцелуями. Я был словно в опиумном тумане. Нежные зимние цветы были нашим ложем, безмятежные небеса простирались над нами, прозрачный мрамор Парфенона светился вдали. Тереза стонала от наслаждения, но я успел заметить ужас в ее глазах. Я вошел в Терезу, чувствуя теплоту ее жизни. Моя сперма пахла сандалом, а девушка благоухала, как дикая роза. Мы занимались любовью всю ночь, пока солнце не поднялось над Акрополем.
Ничто в Афинам не могло сравниться с этой ночью.
Наше пребывание там подходило к концу, зиму сменила весна. Хобхауз рыскал в окрестностях в поисках древностей. Я верхом на муле обозревал мифологическую красоту земли, но ничего не писал, не задавался умными вопросами. Мне нравилось смотреть на звезды и размышлять, чувствуя, как ветер подхватывает мои мысли и наполняет ими небеса. Но общение с вечностью вскоре наскучило. Я ринулся в погоню за наслаждениями. К счастью, моя Афинская Дева была ненасытна, а собственная жажда удовольствий лихорадкой бушевала во мне. Но вскоре я устал от Терезы и начал обращать взоры на ее сестер; сперва я овладел одной, а затем взял их en famille; но растущее желание продолжало мучить меня. Чего-то недоставало — я жаждал удовольствия, какого не мог себе представить. Я бродил по грязным улочкам города, среди бледных реликвий былого величия — мраморных развалин и алтарей давно забытых богов. Ничего не найдя, я возвращался к сестрам Макри, будил их и занимался любовью. Но необъяснимый голод продолжал терзать меня, и какой голод! И вот однажды вечером я нашел этому объяснение. Было начало марта, мы обедали с двумя нашими знакомыми греками, тоже путешественниками. Вечер проходил в молчании, затем завязалась беседа, вино полилось рекой — к концу пирушки все очень оживились. Три мои прелестные наложницы танцевали предо мной, и вино радужной пеленой окутывало мои мысли. Но постепенно сквозь опьянение во мне вновь с неудержимой силой проступил голод. Глядя на обнаженную шею Терезы и ее вздымающуюся грудь, я вдруг начал дрожать. Девушка, заметив мое волнение, застенчиво отвернулась, откинув назад волосы, отчего мой желудок пронзил спазм Она рассмеялась, ее губы были такими влажными и алыми, что я внезапно вскочил и схватил ее за руку. Тереза снова рассмеялась и попятилась, но оступилась, и бутылка, которую она держала в руках, упала на пол. Воцарилась тишина. Все обернулись на шум, Тереза медленно подняла руку, она была в крови… Новый приступ желания охватил меня. Я подошел к девушке и обнял ее, словно желая утешить. Она протянула ко мне руки, я взял их, и вдруг меня охватил трепет — я понял причину своего голода. Рот наполнился слюной, я ничего не видел. Я поднес руку Терезы к своим губам и нежно поцеловал ее, затем лизнул. Кровь! Этот вкус…
Лорд Байрон сглотнул.
Его не передать словами. Это вкус божественного нектара. Кровь. Я снова лизнул и почувствовал, как золотой сияющий поток наполняет меня легкостью и энергией, утоляя мою душу своей чистотой. Я жадно приник к глубокой ране. Тереза внезапно вскрикнула и отдернула руку, в комнате воцарилась мертвая тишина. Девушка посмотрела на мать и подбежала к ней, но взгляды всех присутствующих были устремлены на меня. Я посмотрел на свою руку она была в крови. Я вытер ее о рубашку и снова дотронулся до губ. Они все еще были влажными. Я облизал их и огляделся по сторонам. Все избегали моего взгляда. Никто не проронил ни слова.
Тогда Хобхауз, старина Хобхауз, поднялся и взял меня за руку.
— Какого черта, Байрон! — сказал он громким звенящим голосом. — Проклятье, ты пьян.
Когда он вывел меня из комнаты, беседа возобновилась. Я остановился на лестнице, ведущей в мою комнату. Мысль о содеянном вновь пронзила меня. Ноги вдруг стали ватными. Я вспомнил вкус крови, у меня закружилась голова, я пошатнулся и упал на руки Хобхауза. Он помог мне подняться в спальню. Я сразу же заснул — впервые за этот месяц, но сон мой был тяжелым. Мне снилось, что я никогда не был живым существом, а лишь творением гения паши. Я лежал распластанный на анатомическом столе, прямо на вершине башни, подставленный ударам молний.
Я был наг и беззащитен перед пашой, кожа моя была содрана. Паша создавал меня, а я жаждал убить его, но знал, что, если и сделаю это, все равно навеки останусь его творением. Навеки, навеки…
Когда я наконец проснулся, то обнаружил, что лежу в зловонной жиже. Отвратительные лепешки валялись на простынях, как камни озера Трихонис. Я вскочил на ноги, будучи не в силах оторвать взгляд от того, что когда-то было частью моей плоти. Осталось ли что-нибудь во мне? И когда все жизненные соки выйдут из меня, во что я превращусь? В живого мертвеца? Я знал, это кровь, которую я пью, делает меня таким Я задрожал. Что происходит? Я решил не думать об этом. Я быстро умылся, оделся и приказал Флетчеру сжечь простыни. Затем разбудил Хобхауза:
— Поднимайся, мы сейчас же уезжаем.
Хобхауз, к моему удивлению, даже не заворчал он послушно кивнул и, пошатываясь, встал с кровати. Мы подобно ворам покинули Афины и к рассвету добрались до Пирея.
Мы сели на корабль, чтобы переплыть Эгейское море. Капитан судна оказался англичанином, мы встретились с ним за несколько дней до отплытия, и он позаботился о двух отдельных каютах для нас. Я немедленно заперся в своей каюте, боясь, что жажда, которая снова начала терзать меня, приведет к страшным последствиям. Вечером Хобхауз спустился ко мне, и мы сильно напились, а на вторую ночь я лежал не вставая, мучимый бессонницей, и вспоминал запретный драгоценный вкус крови. Вскоре жажда стала нестерпимой, и, когда наступил рассвет, я, доведенный до отчаяния, схватил бритву и полоснул ею по руке. Тоненькая струйка крови потекла из раны, и я жадно приник к ней, наслаждаясь, как впервые, восхитительным вкусом. Я заснул, в снах снова паша создавал меня — нагромождением освежеванных конечностей под его скальпелем. Наутро постель моя была в зловонной грязи.
К вечеру второго дня плавания мы достигли Смирны. Мое состояние в этот момент граничило с безумием Я впервые в жизни испытывал такую сильную тревогу и беспокойство от того, что может произойти со мной. Духовные и телесные страдания были невыносимы, я не мог поверить в случившееся. И разве мог я обратиться к кому-либо за советом и помощью? Хобхауз, конечно, был преданным и надежным другом, великодушным и практичным, но слишком приземленным, лишенным воображения, — я не мог довериться ему. Я не нуждался в дружеском сочувствии и доводах рассудка. Я хотел, вернее старался, не думать об этом, но все это время не мог думать ни о чем другом.
Итак, я продолжал скрывать тайну и предаваться мрачным раздумьям. Я был почти на грани безумия, когда жажда моя стала невыносимой. Хобхауз, видя, что мое состояние продолжает ухудшаться, попытался помочь мне — предложил заняться спортом, — лорд Байрон улыбнулся, — думая, что бокс или крикет выведут меня из сплина. — Он снова улыбнулся и покачал головой. — К сожалению, все эти развлечения были недоступны, поэтому было решено совершить поездку к развалинам Эфеса, находившимся в двух часах езды. Мы отправились в путь в сопровождении янычара. Дикую и безлюдную дорогу окружали мрачные болота, с которых доносилось оглушительное кваканье лягушек. Но вскоре и эти звуки умолкли, только одинокое турецкое надгробие, попавшееся на нашем пути, слегка оживило пустынный пейзаж. Однако ни разрушенная колонна, ни заброшенная мечеть не разнообразили пустоту дикой равнины, мы были совершенно одни.
Я почувствовал, что жажда вконец изнурила меня; поискав в отчаянии глазами, я не нашел вокруг ни одного живого существа, только старое кладбище впереди, пустое и разрушенное. В груди у меня что-то заклокотало. Как будто легкие ссохлись внутри. Я поднял руку, чтобы вытереть лоб, и вдруг замер, в ужасе уставившись на свои пальцы — сучковатые, искривленные, почерневшие. Я посмотрел на руку — она была черная и сухая; дотронулся до лица — высохшая плоть; попытался сглотнуть — но мой язык, распухший и шершавый, отказался повиноваться. Я выдавил из горла сдавленный крик, Хобхауз обернулся.
— Боже мой, — прошептал он. — Байрон! Боже мой!
Он подъехал ко мне. Перед ним был иссохший скелет.
Я чувствовал, как кровь Хобхауза струится по венам, такая холодная, свежая и влажная, как роса. Я нуждался в ней. Я должен был завладеть ею. Я потянулся к его горлу, хватаясь руками за воздух, но свалился с коня.
С помощью янычара Хобхауз отнес меня на кладбище. Он положил меня в тень кипариса, прислонив к одному из надгробий. Я разорвал рубаху — все тело было черным, кожа ссохлась на костях, как у скелета Хобхауз опустился на колени.
— Пить, — все, что я смог прошептать, — пить.
Я поднял палец, указывая на янычара, затем с жадностью посмотрел на Хобхауза, пытаясь объяснить ему.
Он кивнул.
— Да, конечно, старина.
Он обернулся к янычару, в ужасе смотревшему на меня.
— Suleiman, verban su! — закричал Хобхауз. — Принеси воды.
Янычар поклонился и бросился на поиски. Я застонал в отчаянии.
— Ну потерпи, приятель, — говорил Хобхауз, вытирая мой лоб, — скоро тебе принесут воды.
Я в бешенстве посмотрел на него, страстно жаждая его крови. Я начал слабо толкать надгробную плиту, но ногти на руках отваливались, как труха: испугавшись, что совсем лишусь плоти, я беспомощно откинулся на прежнее место.
Время шло — пять минут, десять, пятнадцать. Мой желудок, казалось, сжался, а внутренности ссохлись. Хобхауз с отчаянием смотрел, как я теряю силы.
— Чертов парень! — внезапно закричал он. — Будь он проклят, где его черти носят?
Он поднялся.
— Сулейман! — закричал он. — Сулейман, вода нужна нам сейчас!
Он обернулся ко мне.
— Я пойду поищу его, — сказал он.
Он попытался улыбнуться.
— Байрон, ты только… только… не надо…
Мне казалось, что он вот-вот зарыдает, но он повернулся и побежал, пробираясь через сорняки и перескакивая через разрушенные колонны; я смотрел, пока он не скрылся из виду. Затем снова лег. Сознание стало покидать меня, всепоглощающая жажда охватила все члены.
Мне показалось, что я умер, но агония не наступала, я пришел в себя, умоляя о смерти. И вдруг в этой пустыне я почувствовал спасительную прохладу. Чья-то рука опустилась на мой лоб. Я попытался позвать Хобхауза.
— Нет, это не Хобхауз, — произнес незнакомый мужской голос. — Не задавайте лишних вопросов. У нас впереди еще много времени.
Я попытался посмотреть на говорящего. Другой рукой незнакомец запрокинул мне голову. Я увидел лицо редкой красоты. Длинные золотистые кудри обрамляли мертвенно бледные аристократические черты чуть насмешливого, жестокого, отмеченного следами порока лица. Незнакомец улыбнулся мне и поцеловал в губы.
— Черви приветствуют вас, — произнес он. — Я думаю, поцелуй будет намного приятнее, когда вы вновь похорошеете.
Он удовлетворенно рассмеялся, но его глаза, как я успел заметить, сверкали, как лед. Они напомнили мне глаза паши… И тут меня осенило: передо мной было такое же создание, как и я.
Вампир встал.
— Мне кажется, вам необходимо испить немного крови, — сказал он. — Не противьтесь этому. Кровь — лучшее средство для стимуляции работы сердца. Она порождает остроумие, радость, веселье. Возвращает здоровье нашим телам, когда они ссыхаются, как старые соски. Отгоняет прочь тяжелые мысли, которые делают наше существование нестерпимым. — Он рассмеялся. — Слаще вина, слаще амброзии девы — выпейте ее, Байрон.
Он взял меня за руку.
— Идите и пейте.
Я попытался, но не смог подняться.
— Поверьте в себя, — прошептал вампир, и презрение звучало в его голосе.
Он взял меня за руки.
— Вы опасны, как чума, греховны, как сатана. Неужели вы думаете, что являетесь рабом своей плоти? Нет, черт побери, это не так. Поверьте в свои силы и следуйте за мной.
Я попытался подняться и вдруг почувствовал, что это получается. К своему удивлению, я обнаружил что встал без всякого видимого движения. Я сделал шаг вперед с легкостью ветерка. Еще шаг — и я стоял на дороге. Я посмотрел на кипарис, под которым лежал. Тело все еще находилось там. Мое собственное тело.
— Я умер? — спросил я; мой голос звучал в ушах, как шум прибоя.
Мой проводник рассмеялся.
— Умерли? Нет. Вы никогда не умрете.
Он снова развязно рассмеялся и указал вниз, на дорогу.
— Я застал его на дороге. Он ваш.
Я ринулся, как смерч, развивая огромную скорость, чувствуя восхитительный свежий вкус крови янычара. Я видел его перед собой, он галопом мчался обратно в Смирну, бока его лошади были взмылены. Янычар обернулся — я тенью распростерся над дорогой, наслаждаясь затравленным взглядом жертвы. Его конь заржал и споткнулся.
— Нет! — закричал янычар, падая на землю. — Нет, нет, Аллах, спаси меня!
На короткий миг жажда отпустила меня. Я с интересом наблюдал, как янычар пытался поднять своего коня. У него не было шансов — знал ли он об этом? Янычар зарыдал. Тут жажда вновь овладела мной, я ринулся к нему, прыгнул. Янычар закричал, мои зубы вонзились в его шею. Они вытянулись из десен и превратились в клыки. Кровь теплой струей забила из раны, наполняя мой рот. Я затрепетал от исступления, когда кровь, вытекая из сердца умирающего, оросила дождем мои иссохшиеся кожу и горло.
Я испил свою жертву до конца. Кровь опьянила меня.
— Приятно повстречаться с вампиром на дороге.
Я обернулся. Вампир смотрел на меня. Его глаза смеялись.
— Надеюсь, ваши пересохшие вены наполнились живительной влагой? — спросил он.
Я медленно кивнул.
— Превосходно. — Вампир улыбнулся. — Поверьте, сэр, это пурпурный нектар. Нет ничего целительнее, чем бокал свежей крови.
Я встал и поцеловал его в обе щеки, в губы. Он сощурился, смакуя кровь янычара, затем отстранился и склонился в изящном поклоне.
— Меня зовут Ловлас, — сказал он, кланяясь еще раз. — Как и вы, я англичанин и ваш коллега. Полагаю, предо мной пресловутый лорд Байрон?
— Пресловутый? — Я поднял брови в удивлении.
— Да, сэр, пресловутый. Разве не вы на званом ужине публично, при всех, пили кровь афинской шлюшки? Не удивляйтесь, милорд, подобные происшествия вызывают много разговоров и пересудов среди людей.
Я пожал плечами.
— Я не хотел скандала. Она порезалась. Я был поражен своим желанием, когда увидел ее кровь.
Ловлас заинтригованно посмотрел на меня.
— Как долго, милорд, вы состоите в братстве?
— Братстве?
— В аристократии, сэр, в аристократии крови, где вы и я посвящены в пэры.
Он погладил меня по щеке. Его длинные ногти были острыми, как осколки хрусталя.
— Вы девственник? — внезапно спросил он.
Он показал на убитого янычара.
— Это ваша первая жертва?
Я холодно кивнул.
— Таким способом — первая.
— Черт с вами, я расскажу, как девственнику вернуться в прежнее состояние.
— Что вы имеете в виду?
— Вы, должно быть, действительно новичок в этом деле, раз смогли довести себя до такого состояния.
Я уставился на него.
— По-вашему, если я не буду пить кровь, — я указал на кладбище, — это снова случится со мной?
Ловлас коротко кивнул.
— Именно так:, сэр. Я поражен, как вы смогли так долго после того вечера в Афинах прожить без крови? Поэтому мне и хотелось узнать, давно ли вы состоите в братстве?
Мне вспомнились Гайдэ в пещере, Вахель-паша.
— Пять месяцев, — произнес я наконец.
Ловлас пристально посмотрел на меня, крайнее удивление было написано на его лице, он сощурил глаза.
— Если это правда, сэр, вы — самый исключительный кровопийца, которого мне доводилось встречать.
— Что вас так удивляет? — спросил я.
Ловлас рассмеялся и сжал мою руку.
— Однажды я попытался сидеть на диете два месяца. Какие это были два месяца! Но больше этого срока — никогда. Однако вы, сэр, самый молодой, неопытный новичок в наших рядах — и пять месяцев, пять!
Он снова рассмеялся и поцеловал меня в губы.
— Милорд, мы повеселимся с вами на славу. Нас ждут впереди новые жертвы и приключения. Как я рад, что последовал за вами. — Он снова поцеловал меня. — Байрон, давайте грешить вместе.
Я склонил голову.
— Я слишком многому должен научиться.
— Да, — согласился Ловлас, — поверьте мне, сэр, полтора столетия назад я познал разврат. Я был придворным короля Чарльза II. Это не был ханжеский, закрытый, пуританский век — нет, сэр, мы знали, что такое удовольствие. — Он склонился к моему уху. — Шлюхи, милорд, превосходное вино, освежающий вкус крови. Вам откроется вечность.
Он поцеловал меня и вытер кровь с моих губ, затем взглянул на труп янычара.
— Вам понравилось? — спросил он, пнув ногой обескровленное тело.
Я кивнул.
— Будет еще лучше, — заметил Ловлас.
Он взял меня за руку.
— Но теперь, милорд, мы должны вернуться в наши телесные оболочки.
— Телесные?
Ловлас кивнул.
— Ваш друг думает, что вы умерли.
Я ощупал себя.
— Как странно, — сказал я, — все это время я чувствовал свое тело, но я же дух?
Ловлас презрительно пожал плечами.
— Оставьте подобные софизмы для спорщиков и богословов.
— Но это не софизм. Если у меня нет тела, как я ощущаю кровь в своих венах? Это настоящее удовольствие. Невыносимо думать, что это всего лишь сон.
Ловлас взял мою руку. Провел ею по своей груди, и я почувствовал упругие мускулы под кожей.
— Мы оба находимся во сне, — прошептал он. — Мы творим его и управляем им. Вы должны понять, сэр, что у нас есть власть претворять сны в реальность.
Я заглянул в его глаза, чувствуя, как его сосок твердеет при моем прикосновении. Я посмотрел на янычара.
— А он? — спросил я. — Неужели мне только приснилось, что я убил его?
Ловлас слабо улыбнулся, веселая жестокость была в его улыбке.
— Наши сны — это альков, куда мы заманиваем свои жертвы. Ваш турок мертв, а вы, сэр, вновь полны жизни. — Он взял меня за руку. — Пойдемте. Мы должны вернуться к вашему безутешному другу.
Когда мы очутились на кладбище, я оставил Ловласа на дороге, а сам побрел через могилы. Впереди за надгробием с турецким тюрбаном я увидел Хобхауза Он горько рыдал над моим почерневшим трупом. Это было зрелище! Приятно посмотреть, как друзья будут оплакивать тебя на похоронах. Мне стало грустно от того, что я причиняю боль своему дорогому Хобхаузу. Подобно вспышке света я вернулся обратно в тело. Я открыл глаза, чувствуя, как кровь циркулирует по моим пересохшим венам.
Лорд Байрон закрыл глаза. Он улыбался своим воспоминаниям.
— Словно освободившись от тисков, мои члены возвращались к жизни. Шампанское после содовой, солнечный свет после тумана, женщина после долгого воздержания — все эти радости могут воскресить нас к жизни лишь на мгновение. Истинное воскрешение — это кровь для ис-сохшегося тела.
— Значит, вы пьете кровь во сне? — прервала его Ребекка. — Так вот как это происходит?
Лорд Байрон пристально посмотрел на нее.
— Не забывайте, — мягко произнес он, глядя на шею Ребекки, — что во сне я рке поймал вас.
Ребекка задрожала, но не от страха.
— Но вы пили кровь Терезы, — сказала она.
Лорд Байрон склонил голову.
— Значит, это не обязательно происходит во сне?
— Нет конечно. — Лорд Байрон улыбнулся. — Существует много способов.
Ребекка смотрела на него, не отрывая глаз, испуганная и одновременно зачарованная.
— Что вы имеете в виду? — спросила она.
— Ловлас тем первым вечером соблазнил меня, показав один из способов.
Ребекка нахмурилась.
— Соблазнил?
— Именно так. Я даже слышать об этом не хотел… сперва.
— Но ведь вам так понравилось. Вы испытали такое наслаждение.
— Да. — Он усмехнулся. — Но большое наслаждение всегда вызывает горькую оскомину, я был пресыщен кровью, вечером того же дня в деревне близ Эфеса я испытывал отвращение к самому себе, потому что убил человека, высосав его кровь; удивляюсь, как я не возненавидел себя. Была еще одна причина, по которой я не хотел поддаться соблазнительным речам Ловласа. Кровь заслонила все другие радости жизни. Даже еда и вино не могли доставить такое наслаждение, я забыл их вкус. К тому же у меня не было времени на разговоры о таинственных искусствах по добыванию новых жертв.
— Ловлас снова хотел убивать?
— Да, — лорд Байрон помолчал. — Его новой жертвой должен был стать Хобхауз.
— Хобхауз?
Лорд Байрон кивнул и улыбнулся:
— Ловлас преклонялся перед породой.
— Он должен быть моим, — сказал он мне той же ночью. — Послушайте, Байрон, вот уже месяц, как я питаюсь крестьянами и вонючими греками. Тьфу, это я-то, истинный англичанин! Разве можно выжить, питаясь такой дрянью? Вы говорите, Хобхауз — выпускник Кембриджа? В таком случае он точно должен быть моим.
Я отрицательно покачал головой, но Ловлас продолжал настаивать.
— Он должен умереть, — говорил он. — Кроме того, он видел твою кончину и воскрешение.
Я вздрогнул.
— Хобби не разбирается в медицине. Он думает, это был тепловой удар.
Ловлас покачал головой.
— Это не имеет значения.
Он гладил меня по руке, в его взгляде читалось жгучее нетерпение. Я вздрогнул, но Ловлас не понял моего отвращения.
— Кровь — это восхитительно, — зашептал он, — но голубая кровь, сэр… Что может сравниться с ней?
Я сказал, чтобы он оставил меня в покое. Ловлас рассмеялся.
— По-моему, милорд не понимает, чем он стал.
Я посмотрел на него.
— Надеюсь, не такой тварью, как вы.
Ловлас сжал мою руку.
— Не обманывайте себя, милорд, — прошептал он.
Я холодно посмотрел на него.
— Я не собираюсь этого делать, — произнес я наконец.
— Неужели? — Ловлас зло усмехнулся. — Вы — воплощение греха. Отрицать это — гнусное лицемерие.
Он отпустил мою руку и стал спускаться по лунной дороге, ведущей в Эфес.
— Ваше тело, милорд, изнывает от жажды, — прокричал он.
Я продолжал смотреть на него. Он остановился и повернулся ко мне.
— Послушайте, Байрон, спросите себя самого — может ли такое существо, как вы, иметь друзей?
Он улыбнулся, отвернулся от меня и исчез во тьме. Я продолжал стоять, пытаясь изгнать из мыслей вопрос, эхом отдававшийся вокруг, затем покачал головой и побрел в комнату, где спал Хобхауз.
Всю ночь я был на страже'. Мое тело было чистым, но во всех отношениях оскверненным. Первый раз после того, как я пил кровь, я ничего не извергал из себя. Я думал, что бы это могло означать. Неужели Ловлас был прав? Неужели изменения, произошедшие со мной, необратимы? Я неотступно следовал за Хобхаузом, словно его компания доставляла мне удовольствие. На следующий день мы посетили развалины Эфеса. Хобхауз, как обычно, рыскал в поисках надписей, я же, усевшись на холме, бывшем когда-то храмом Дианы, слушал заунывный вой шакалов. Эти звуки вызывали во мне печаль. Мне хотелось знать, куда исчез Ловлас. Я не чувствовал его здесь, среди руин, мои силы ослабли от жары, но я знал, что он где-то близко. Ловлас обязательно вернется.
Он появился этой же ночью. Я почувствовал его приближение и увидел, как он подошел к кровати Хобхауза. Он низко склонился над его обнаженным горлом, острые как лезвия зубы сверкнули в темноте. Я схватил его за запястье, он беззвучно сопротивлялся, но безуспешно — я вытолкал его из комнаты на лестницу и только потом отпустил.
— Чертов ублюдок, — зарычал он, — отдай его мне.
Я преградил ему путь. Ловлас попытался оттолкнуть меня, но я схватил его за горло и стал душить, чувствуя прилив сил. Ловлас начал задыхаться, он пытался освободиться. Я наслаждался его страхом, но наконец отпустил его. Он поморщился от боли, сглотнул, затем посмотрел на меня.
— Раны Господни, ну у вас и силища, сэр, — сказал он. — Жаль, что вы так близоруки по отношению к своему другу.
Я вежливо поклонился. Ловлас продолжал смотреть на меня, потирая шею, затем встал.
— Скажите, Байрон, — спросил он, слегка нахмурившись, — кто вас создал?
— Создал? — Я покачал головой. — Меня не создали, а превратили.
Ловлас слабо улыбнулся.
— Вас создали, сэр, — сказал он.
— Почему вы спрашиваете?
Ловлас еще раз потер шею и глубоко вздохнул.
— Я сегодня наблюдал за вами в Эфесе, — прошептал он. — Полтора века я вампир и искушен в этом. Но до сих пор не могу находится под палящими лучами солнца, как вы. Я удивлен, сэр, сбит с толку. Кто передал вам свою кровь, откуда в вас такая сила?
Я помедлил и назвал имя Вахель-паши. Насмешливый огонек промелькнул в глазах Ловласа.
— Я слышал о Вахель-паше, — медленно произнес он. — Он, кажется, маг? Алхимик?
Я кивнул.
— Где он теперь? — спросил Ловлас.
— Почему вы спрашиваете?
Ловлас улыбнулся.
— По-моему, он мало чему вас научил, милорд.
Я промолчал в ответ, развернулся и начал подниматься по лестнице. Но Ловлас догнал меня и схватил за руку.
— Вы убили его? — прошептал он.
Я отдернул руку.
— Вы убили его! — Ловлас оскалился. — Вы убили его, поэтому в вас поднимается его кровь и бьет струей, как фонтан в Сент-Джеймсском парке.
Я повернулся. У меня мурашки забегали по спине.
— Как вы узнали? — спросил я.
Ловлас рассмеялся. Его глаза светились восторгом.
— Ходят слухи, милорд. Я услышал их у озера Трихо-нис и мне захотелось узнать правду. Поэтому я здесь. — Он подошел вплотную ко мне. — Байрон, вы прокляты.
Я заглянул в его безжалостные глаза. Ненависть и гнев бушевали во мне.
— Убирайтесь, — прошептал я.
— Неужели вы собираетесь подавлять потребности своего естества, милорд?
Я схватил его за горло и отшвырнул назад. Но Ловлас продолжал ухмыляться.
— Вы можете обладать силой могущественного духа, но вы падший, как Люцифер, сын утра, падший, как все мы — падшие. Что ж, ступайте, пресмыкайтесь перед своим ничтожным другом. Веселитесь с ним, но он смертен, он умрет.
— Если ты убьешь его, Ловлас…
— Да?
— Я убью тебя.
Ловлас насмешливо поклонился.
— Разве вы не знаете тайну, Байрон?
— Тайну?
— Ее вам не открыли. — Он не спросил, а скорее констатировал факт.
Я шагнул к нему. Ловлас поспешил к двери.
— Какую тайну? — снова спросил я.
— Вы прокляты, и все, кто дорог вам, тоже будут прокляты.
— Почему?
Ловлас усмехнулся.
— Почему? Это тайна, сэр.
— Подождите.
Ловлас снова улыбнулся.
— Я полагаю, вы направляетесь в Константинополь?
— Подождите, — закричал я.
Ловлас поклонился и исчез. Я подбежал к двери, но его там не было. Ничего, кроме ночного ветерка. Мне показалось, что я слышу его смех и шепот, эхом отдававшиеся в моих мыслях: «Вы прокляты, и все, кто дорог вам, тоже будут прокляты». Вдалеке прокричал петух. Я покачал головой, развернулся и пошел в комнату, где спал Хобхауз.
Глава 8
Даже общество его попутчика, сколько бы ни совпадали их интересы, все более сковывало его как кандалы; и лишь когда он оказался один на берегу небольшого острова в Эгейском море, душа его вздохнула свободно.
Томас Мур. «Жизнь лорда Байрона»
По какому праву Том может так говорить?
Он и догадываться не мог, почему на самом деле лорд Байрон отказался от общества англичан.
Джон Кэм Хобхауз. Заметки на полях
Страх окутал мои мысли туманом и не давал мне покоя несколько дней. Ловлас как будто растворился с криком петуха, но его насмешливые намеки на «тайну» продолжали преследовать меня. Что бы это могло значить — он говорил, что я обречен губить все, что мне дорого? Я не отходил от Хобхауза и осторожно анализировал свои чувства — моя потребность в крови казалась терпимой, привязанность же моя к другу нисколько не ослабела за последнее время, Я немного успокоился и начал наслаждаться возможностями, которые давала моя диета. Мы отчалили в Константинополь. И в который раз меня охватило волнующее поэтическое настроение. Шторм настиг нас у входа в Дарданеллы. Мы также побывали в легендарной Трое. Но самое замечательное из всего — я пересек вплавь Геллеспонт, четыре мили ледяного пролива, от Азии до европейского берега, — и все для того лишь, чтобы доказать, что мифы не врут о подвиге Леандра. Хотя, разумеется, у меня перед Леандром была фора — доза свежей крови, но я все равно был крайне доволен собой.
Мы подошли к Константинополю, несмотря на то что был сильный шторм. С трудом встали на якорь под отвесным утесом. Над нами возвышался Сераль, дворец султана, который был окутан такой же темнотой, как и черные воды моря под нами. Как бы то ни было, я чуял биение большого города на берегу; а завывания, смутно доносившиеся с минаретов, перекрывая грохот волн, словно манили нас, суля экзотические удовольствия. На следующий день мы переправились на небольшой посудине к утесу Сераля. Я смотрел на него и
воображал себе сладкую жизнь, таившуюся за стенами дворца, как вдруг уловил запах крови, свежей крови. Я устремил взор на узенькую террасу, отделявшую стены от моря, — там свора псов, рыча, обгладывала человеческие останки. Я завороженно следил, как один из них оторвал кусок плоти с черепа татарина с такой легкостью, как будто это была спелая фига.
— Непокорные рабы, — едва слышно пробормотал капитан шлюпки, — их сбросили со стен.
Я медленно кивнул и почувствовал, как жажда тупой болью вновь растекается по моим костям.
Будучи европейцами, мы были поселены в специально отведенные покои. Эта часть дворца была обставлена в современном духе и кишела такими же путешественниками, как и мы, — я был вне себя. Стоило бежать в чужие края от своих соотечественников! Но и теперь в их обществе я чувствовал себя вдвойне обособленно. Дикая музыка безумствовала в моих венах, горланя мотивы тьмы и ночных наслаждений, делая меня совершенно чужим среди своих. За водами Золотого Рога притаился Константинополь — жестокий, древний, полный запретных услад. Я блуждал по узким переулкам. Спертый воздух был прян от вкуса крови. Вокруг ворот Сераля валялись на всеобщем обозрении отрезанные головы; мясники, свежевавшие трупы, пускали кровь прямо по улицам; дервиши, доведенные до мистического экстаза своими медитациями, с воплями резали себя, покуда земля в двориках не становилась красной. Все это я молча наблюдал — но пить не стал. Я терпел, окруженный такими желанными плодами, не сорвав ни одного. Вместо этого в гашишных притонах, в тавернах, где живописные танцоры корчились на песке, я искал другие забавы, надеясь таким образом заглушить свою глубочайшую жажду.
Но, несмотря ни на что, она продолжала опалять меня. Я ненавидел себя. Городские удовольствия лишь усиливали мое отвращение, Константинополь утомил меня своей жестокостью, отвратительной мне уже потому, что она напоминала мне о моей собственной природе. В отчаянии возвратился я в компанию своих земляков. Хобхауза я избегал — я все еще опасался «тайны» Ловласа, но что до прочих англичан — тут я старался казаться до мозга костей своим. Раз от раза мне приходилось весьма тяжело, да и вообще все это притворство было совершенно невыносимо. Мучаясь жаждой крови, я тщился скрыть ее под маской безразличия или злости — спорил по пустякам об этикете, убегал, когда встречал на своем пути знакомых.
Как-то раз вышло так, что я столкнулся с человеком, пребывавшим точно в таком настроении, как и я. В посольстве до этого я, помню, не стал с ним разговаривать, и вот теперь совесть заела меня — он ведь был крайне вежлив со мной. Он жил в Константинополе постоянно, и посему, желая ему польстить, я поинтересовался, не покажет ли он мне городские достопримечательности. Разумеется, я уже повидал все, что можно, и терпел общество моего гида как некоторого рода епитимью. Наконец мы оказались у стен Сераля.
Мой приятель посмотрел на меня.
— Знаете ли вы, — спросил он, — что через три дня нам будет предоставлена высокая честь лицезреть самого султана? Ах, как это печально, не правда ли, Байрон? Ведь нам дадут увидеть лишь малую толику всех прелестей дворца. — Он указал вверх, на гарем. — Тысяча женщин… — Он нервно хихикнул и снова взглянул на меня. — Говорят, султан совсем даже не расположен к подобного рода вещам.
Я коротко кивнул. Тонкий аромат крови витал в воздухе — это собаки пожирали безголовых мертвецов на кучах навоза под стенами Сераля. Мои болезненные чувства возбудились до предела.
— А вы — любитель женщин? — спросил мой собеседник.
Я сглотнул и покачал головой, даже не утруждаясь вникнуть в смысл его вопроса, а затем, развернув коня, двинулся прочь.
Вечерело, минареты протыкали иглами своих башен кроваво-красный свод неба. Голова моя кружилась от неудовлетворенных желаний. Я распрощался с приятелем и поехал в одиночку вдоль гигантских городских стен, что возвышались над Константинополем вот уже четыре сотни лет. Однако теперь они заметно пообветшали. На страже никто не стоял, и вскоре я миновал последние обжитые места; сейчас меня окружали кладбища, заросшие плющом и кипарисами, вокруг не было видно ни души. Но вот мне послышался шорох, и я увидел двух коз, возившихся в кустах впереди. Сладкий запах их шкур стоял в воздухе. Я остановился и сошел с коня. Мое тело трясла лихорадка. Аромат крови, тяжелый и насыщенный, исходил отовсюду. Я поднял глаза к луне. Лишь сейчас я обратил внимание, что было полнолуние, круглый диск луны тускло светился, озаряя воды Босфора.
— Так вот, Байрон…
Я обернулся. Это был мой приятель, с которым мы недавно расстались. Увидев мое лицо, он что-то пробормотал и затих.
Я смотрел на него, мой рассудок был затуманен жаждой крови.
— Что вам надо? — тихо прошептал я.
— Я… я думал, что… — Он снова замолчал.
Я улыбнулся. Внезапно я осознал то, что старался не замечать весь этот день: он хотел меня, и желание его теперь переплелось с парализующим ужасом, смысл которого вряд ли был ему доступен. Я приблизился к нему. Я коснулся его щеки. Мой ноготь оцарапал его до крови. Я раскрыл рот. Сначала нервно, но тут же отчаянно зарыдав, он потянулся ко мне за поцелуем. Я обнял его и ощутил, как бьется сердце в его груди. Я слизнул кровь с его оцарапанной щеки и уже было открыл рот во второй раз, но вместо этого с силой оттолкнул его от себя.
— Байрон? — задрожал он.
— Убирайся, — приказал я холодно.
— Но… Байрон…
— Убирайся! — закричал я. — Если тебе еще дорога жизнь, ради всего святого — прочь отсюда!
Он уставился на меня, затем вскочил на ноги. Казалось, он был не в силах оторвать взгляд от меня, но все же быстро попятился, словно пытаясь вырваться из моих чар; затем он вскочил на лошадь и ускакал по тропе. Я глубоко вздохнул и выругался про себя. Мои неудовлетворенные вены пульсировали и содрогались; мозг, казалось, высох от жажды. Я сел на своего коня и пустил его вперед, надеясь отыскать какую-нибудь жертву среди этих надгробий.
Неожиданно на дорогу выбежало стадо коз. Я почуял запах пастуха прежде, чем услышал его крик. Он пробежал передо мной, подгоняя своих коз, и вряд ли даже заметил меня. Я развернул коня и поскакал за пастухом. Его это насторожило, и он оглянулся, я спустился с седла и пошел к нему, с тем чтобы загипнотизировать его своим взглядом. Пастух встал как вкопанный: затем простонал и упал на колени. Это был старик; мне было ужасно жаль его, как будто кто-то другой, а вовсе не я хотел его смерти. Я чуть было не отказался от затеи, но тут луна показалась из-за тучи, и я, объятый ее светом, совсем обезумел от жажды. Я впился в старческое горло. Кожа у него была грубая, и мне пришлось дважды сжать челюсти, чтобы кровь потекла наружу. Вкус ее, несмотря на это, был столь же приятен, как и прежде, а насыщение было еще более сильное и непривычное. Оторвавшись от своей безжизненной жертвы, я по-новому взглянул на лунное зарево, серебряный свет словно ожил, тишину наполнили прекрасные звуки.
— Ей-богу, сэр, нет такого закона, по которому должно убивать только на кладбище.
Я посмотрел через плечо. На обломке колонны сидел Ловлас. Неожиданно для самого себя я улыбнулся. После стольких недель одиночества было приятно встретить родственную душу.
Ловлас встал на ноги и приблизился ко мне. Он окинул взором мою добычу.
— А тот, кого вы отпустили, был намного симпатичнее.
— Он был англичанином.
Ловлас расплылся в улыбке.
— Ну вас к черту, Байрон, я и представить себе не мог, что вы патриот!
— Вовсе нет. Просто на его исчезновение сразу же обратят внимание.
Ловлас с издевкой покачал головой.
— Как вам будет угодно, милорд… — Он сделал паузу. — Но, с моей точки зрения, это странное объяснение тому, чтобы выбрать такого идиота себе в экскурсоводы.
Я взглянул на него с подозрением.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я следил за вами целый день, ну и что? Вы постояли у стен гарема, затем разошлись. Этакое сытое любование ставнями публичного дома.
— М-м-м…
Ловлас подмигнул.
— Сокровище — это то, милорд, что скрыто внутри. — Его яркие глаза сверкнули. — В турецком Серале дожидаются запертые шлюшки.
Я уставился на него с недоверием.
— Вы предлагаете мне отправиться в гарем султана?
Ловлас поклонился.
— Совершенно верно, сэр. — Он тронул меня за руку. — При одном условии.
— Так я и знал.
— Ваш друг Хобхауз…
— Нет! — Я оборвал его в ярости. — И я вас опять предупреждаю…
Ловлас презрительно махнул рукой.
— Тише, сэр, найдутся кусочки и полакомее, чем ваш дорогой друг. Однако, Байрон, вам следует уговорить его вернуться в Англию немедленно.
— Как? Зачем?
Ловлас снова коснулся моей руки.
— Чтобы нам с вами больше никто не мешал, — сказал он. — Чтобы вы наконец отдали себя на мое попечение, Байрон. Чтобы я обучил вас искусству.
Он посмотрел на труп пастуха.
— Кажется, вам самое время…
— Порвать с Хобхаузом… — продолжил я за него.
Ловлас кивнул. Я медленно покачал головой:
— Невозможно.
— Я покажу вам прелести Сераля.
Я снова покачал головой и взобрался в седло.
— Вы говорили мне о тайне, Ловлас, тайне, что угрожает всем, кто мне дорог. Так мне нет дела до этого. Я не брошу Хобхауза. Я никогда не бросаю тех, кого люблю.
— Тайна?
Мое упоминание, по-видимому, привело Ловласа в недоумение. Потом он улыбнулся, словно припоминая.
— О, не волнуйтесь, милорд. Хобхаузу вы не угрожаете.
— Кому же тогда?
— Оставайтесь со мною здесь, на Востоке, и я передам вам свои знания. — Его губы слегка приоткрылись. — Сколько удовольствий ждет вас, Байрон! Я-то знаю, что вы понимаете толк в этом.
Презрение к нему внезапно нахлынуло на меня.
— Да, оба мы убиваем, — сказал я, — но убийство не доставляет мне радости. Я уже говорил вам — я не желаю становиться подобным вам. Тем более приобщаться к знаниям, которыми вы располагаете. Я не стану вашим учеником, Ловлас. — Я наклонил голову. — И на этом разрешите откланяться.
Я пустил коня по тропе. Унылые могилы встречались на моем пути. Я выехал на дорогу у стен города. Луна озаряла мне путь ярким светом.
— Байрон! — Я обернулся. — Байрон!
Ловлас стоял там, где я его оставил, — призрачный красавец на фоне заросших надгробий. Его золотистые волосы искрились, глаза горели.
— Байрон, — закричал он с неожиданной свирепостью, — поймите же, это закон! Здесь, в этих мирных садах, собаки раздирают свои жертвы, пташки божьи едят червей, вся природа — суть извечное уничтожение! Вы — хищник, вы более не человек, вы не тот, что были раньше. Вам ли не знать, что сильный ест слабого. — Он внезапно улыбнулся. — Байрон, — услышал я его шепот. — Мы будем вместе пить кровь.
Я содрогнулся, кровь моя, казалось, превратилась в ртуть, столь же восхитительную, как луна. Когда я снова взглянул на Ловласа, его уже там не было.
Три дня прошло, а я его не видел. Речи Ловласа лишили меня покоя, растревожили душу. Я начал понемногу наслаждаться величием своего нынешнего состояния. Может статься, слова Ловласа были правдой? Я действительно стал падшим существом, и это состояние было на самом деле грозным и романтичным. Хобхауз, который озверел, как лосось на нересте, начал раздражать меня — мы бесконечно ссорились, и я уже и сам начал подумывать, а не лучше ли нам расстаться. Так что, стоило Хобхаузу в сердцах проговориться о желании вернуться домой, я не стал его отговаривать — тем паче сам я не думал следовать его примеру. В то же время мысли о природе обещанных Ловласом удовольствий продолжали держать меня в страхе — более всего меня ужасало то, что я, вероятно, найду в них усладу, испытав их однажды, а между тем дикие, необузданные страсти пробуждались во мне. Поэтому я предпочел бездействовать и выжидать, пока Ловлас сам ко мне пожалует. Но все это время глубоко в душе я лелеял надежду, что его искушения будут достаточно сильны, чтобы соблазнить меня.
Наступил день аудиенции с султаном. Нас было двадцать человек, все англичане, которым выпала эта мучительная честь.
Мой давешний экскурсовод также был в числе гостей, как и прибывший в самый последний момент Ловлас. Увидев меня с моим гидом, он улыбнулся, но остался нем. Все же, когда мы ожидали в приемной султана, он расположился за моей спиной, а после, когда вся эта занудная процедура подошла к концу, он вертелся вблизи меня и Хобхауза.
Мой гид подошел к нам с горящим от возбуждения взором.
— Вы произвели поразительное впечатление на султана, — сказал он мне.
Я вежливо поклонился.
— Да, да, Байрон, — восклицал он. — Ваше роскошное платье и поразительная наружность просто приковали его внимание. Воистину… — Тут он осекся, захихикал и покраснел.
— Что? — спросил Хобхауз.
Гид продолжал хихикать, отвернувшись от меня. Он стал заикаться, сглотнул и попытался взять себя в руки.
— Султан сказал, что вы вообще не человек
[2].
Я нахмурился и похолодел; я бросил взгляд на Ловласа, который явил мне свой саркастический оскал.
— Не человек… — медленно произнес я. — Что это значит?
Румянец на его щеках сделался еще более багровым.
— Да уж, Байрон, — он прыснул со смеха, — султану показалось, что вы — переодетая женщина.
Я глубоко вздохнул с облегчением. Экскурсовод сиял от счастья. Шире всех, как я заметил, улыбался Ловлас.
Позже, когда Хобхауз уже спал, он пришел ко мне. Вместе мы поднялись на крышу и обратили свои лица к свету луны. Ловлас вытащил кинжал. Он погладил тонкое безжалостное лезвие.
— Великий турок был жалким сводником, как вы полагаете? — спросил он.
— Почему?
Ловлас обнажил зубы. Он провел большим пальцем по острию кинжала.
— Потому что перепутал вас со шлюхой, разумеется.
Я содрогнулся.
— Пусть так, лишь бы он не узнал истину.
— А я бы на вашем месте проучил отъявленного наглеца, сэр!
Я холодно взглянул Ловласу в глаза.
— Нет ничего страшного, если люди находят меня красивым.
Ловлас оскалился.
— Что вы говорите? — прошептал он.
Он отвернулся и посмотрел на Сераль на том берегу, затем заткнул кинжал за пояс.
— Что вы говорите?
Он начал насвистывать арию из оперы. Нагнулся и извлек из сумки несколько бутылок. Одну из них он откупорил. Я ощутил драгоценный запах крови.
— Целебный эликсир, — сказал Ловлас, протягивая мне бутыль. — Я смешал его с самой изысканной мадерой. Пейте же до дна, Байрон, этой ночью мы должны быть на высоте. — Он поднял вторую бутылку. — Тост. — Он улыбнулся мне. — За спорт для избранных, которым мы будем сегодня заниматься.
Мы опьянели от этого коктейля крови с вином. Нет, не опьянели — чувства мои были обострены как никогда, и неистовый восторг воспылал пожаром в моей груди. Я припал к стене и смотрел на купол небес и древний город под ним; звезды над Сералем как будто отражали мое собственное дикое безумие, и я понял, что на сей раз Ловлас одержал победу над моей душой. Продолжая насвистывать, он обнял меня и зашептал в самое ухо:
— Вы обладаете великой силой. Хотите ли испытать, на что вы способны?
Я едва улыбнулся.
— Это истощит вас, но у вас хватит сил — хотя вы и молоды для испытания.
Я смотрел на воды Золотого Рога.
— Мы поплывем по воздуху, — прошептал я.
Ловлас кивнул. Я нахмурился, осознав, насколько ослабела моя память.
— Во сне, когда-то давно, я был с пашой. Он открывал мне чудеса времени и пространства.
Ловлас усмехнулся.
— Чума на эти чудеса. — Он посмотрел в направлении Сераля. — Мне нужны шлюхи.
Я хохотал до колик в желудке. Я буквально обессилел от смеха Ловлас поддерживал меня, гладя завитки моих волос. Он указал рукой на Сераль.
— Поглядите туда, — прошептал он, — чтобы отражение его отпечаталось у вас в глазах. Оно должно срастись с вами. Теперь увеличьте картинку и приблизьте ее.
Смех мой оборвался. Я посмотрел в холодную глубину глаз Ловласа, затем последовал его указаниям. Небосвод исказился перед моим взором. Минареты и купола поплыли, как круги на воде. Мой лоб вдруг уперся в стену дворца.
— Что происходит? — прошептал я. — Этого не может быть!
Ловлас прижал палец к моим устам. Он нагнулся за последней бутылью и откупорил ее.
— Да, прекрасно, — кивнул он, — вдыхайте запах. Ощутите его силу. В нем заключено все ваше бытие. Вы — творение крови. Вы можете парить подобно ей сквозь пространство.
Внезапно он встряхнул сосуд, и я узрел струю крови, брызнувшую из горлышка и окрасившую своими брызгами город и звезды.
— Да, парить вместе с ней! — закричал Ловлас.
Я встал на ноги. Я почувствовал, как мой бестелесный дух оставил тело, словно кровь, текущая из открытой раны. Воздух был плотен. Я парил в нем. Константинополь, расплывшийся пятном, темным, как ночь, алым, как кровь, звал меня. Все вращалось передо мной: море, небо, город, и затем неожиданно все исчезло, кроме Сераля, искаженного и призрачного, будто отраженного в мириаде зеркал. Я оказался в самом центре водоворота и вдруг почувствовал прохладу на своем лице — я стоял на стене гарема.
Я обернулся. Мои движения казались непривычными. Я шел, воображая себя бризом, скользящим по темным водам озера.
— Байрон. — Голос камнем упал в пучину.
Два слога рассыпались рябью по воде. Ловлас улыбнулся мне, и его лицо задрожало и преобразилось, когда я посмотрел на него. Мне показалось, что черное озеро поглотило его. Неясная бледность лица потускнела Его тело начало сжиматься, и он стал походить на карлика-негра. Я рассмеялся, и звук собственного смеха странно преломился в моем мозгу.
— Байрон.
Я опять взглянул вниз. Ловлас вновь показался мне лилипутом. Он улыбался ужасающе, и губы его шевелились.
— Я евнух, — услышал я, — а ты станешь рабыней султана.
Он вновь покосился на меня, и я захохотал пьяным смехом, но ряби больше не было, и темнота оставалась такой же недвижной, как хрустальный пруд. И вдруг по спиралям моего сознания, из глубин моей памяти взметнулся и отразился, как в кристалле, образ Гайдэ. Дыхание мое перехватило, и я потянулся к ней. Но видение исчезло, рассеялось в моих руках, а затем как бы впиталось в мою кожу, и Гайдэ я больше не видел, да и все вокруг меня таяло и уносилось. Я прижал пальцы к глазам. Нереальность происходящего казалась еще более чарующей. Когда я вновь открыл глаза, я увидел, что ногти мои покрыты золотом, а сами пальцы стали тоньше, изящней.
— Ты прекрасна, — промолвил карлик. Он засмеялся и взмахнул рукой. — Сюда, милая язычница.
Я последовал за ним Подобно призракам бури пронеслись мы через ворота гарема. Длинные коридоры, украшенные аметистом, желтыми и зелеными изразцами, разбегались в разные стороны. Вокруг царила тишина, если не считать шарканья ног черных карликов, стоящих на страже у золотых дверей. При нашем приближении они хмурились и вертели головами, но явно не могли видеть нас, а за последней, самой роскошной из всех, дверью Ловлас достал кинжал и распорол часовому горло.
Я тут же встрепенулся, почуяв запах крови. Ловлас остановил меня.
— Зачем желать воды, если внутри нас ждет шампанское?
Он коснулся меня, и прикосновение его было сладко и странно. Я посмотрел вниз. Я понял наконец что то, что я до сих пор принимал за сон, было явью — я превратился в прекрасную девушку. Я дотронулся до своих грудей, поднял тонкую руку и провел по длинным локонам. Но не удивление, а плотское наслаждение росло во мне с каждой минутой. Я шагнул вперед и впервые обратил внимание на мягкий шелест шелка вокруг моих ног и хрустальный звон колокольчиков у меня на лодыжках. Я поглядел вокруг. Я стоял в просторных покоях. Вдоль стен располагались кушетки. Было темно и тихо. Я заскользил по направлению к центру зала.
На каждом ложе спали женгцины. Я вдыхал головокружительный аромат их крови. Ловлас находился рядом По его лицу блуждала жадная распутная ухмылка.
— Ей-богу! — шептал он. — Это же самый шикарный бордель из всех, что я когда-либо видел— Он обнажил зубы. — Они должны быть моими. — Он кинул взгляд на меня. — Они будут моими.
Он двигался словно туман по водной глади. Он замер у изголовья, и тень его легла на безмятежное чело девушки, которая застонала и возвела руку, как будто пытаясь отразить зло. Ловлас захихикал от удовольствия, но я уже не смотрел, я развернулся и двинулся дальше по покоям. Впереди была еще одна дверь с золотым орнаментом. Она оказалась слегка приоткрыта. Отдаленные всхлипывания доносились до меня. Я откинул вуаль и отчетливо услышал звук, напоминающий удар хлыста, затем плач возобновился. Позвякивая колокольчиками, я проник за дверь.
Я осмотрелся. На мраморном полу были раскинуты подушки. Вдоль комнаты протянулся бассейн с голубой водой. Единственным источником света была золотая лампа. Озаренная ее мерцающим светом, стояла обнаженная девушка. Я рассмотрел ее. Она была необычайно красива, держала себя высокомерно, а лик ее был чувствен и жесток. Она глубоко вздохнула, взмахнула плетью и с силой ударила ею. Плеть больно хлестнула девушку-рабыню по ноге.
Девушка всхлипнула, но осталась покорно стоять. Ее повелительница любовалась делом своих рук, но вдруг метнула взгляд в темный угол, где находился я. Ее ленивое избалованное лицо оживилось; она прищурила глаза, но затем выражение пресыщенности вернулось на ее чело и она, вздохнув, бросила плеть на пол. Повернувшись к девушке, она закричала на нее, и та, все еще всхлипывая, начала подбирать осколки стекла с пола. Собрав все, она низко поклонилась и. выбежала из комнаты.
Царица султанского гарема, а это была именно она, откинулась на подушки, крепко сжала одну из них и стала вертеть ее в руках, затем с силой швырнула на пол. Я заметил на ее запястьях глубокие порезы, наполненные кровью; царица пристально посмотрела на них, дотронулась до раны, затем поднялась. Она позвала служанку, ответа не последовало. Она позвала еще раз, топнув ногой, подняла с пола плеть и подошла к двери. В этот момент я вышел из тени. Царица обернулась и посмотрела на меня. Она нахмурилась, увидев, что я не опустил глаза.
Негодование постепенно сменилось удивлением, мне показалось, что смятение промелькнуло на ее лице. Властность боролась с чувственностью, затем она щелкнула пальцами и вновь стала высокомерной. Она выкрикнула что-то на языке, которого я не знал, затем указала на место, где ее служанка только что разбила стакан.
— Я истекаю кровью, — сказала она по-турецки, держась за запястья. — Позови доктора, девушка.
Я медленно улыбнулся. Царица вспыхнула, недоверие на ее лице затмила ярость. Она стала стегать меня по спине плетью. Боль обожгла меня, как огонь, но я остался стоять там, где был. Царица посмотрела пристально в мои глаза, отбросила плеть и, спотыкаясь, пошла прочь. Она бесшумно всхлипывала, и я видел, как вздрагивали ее плечи. Она закрыла лицо руками, и в золотом свете лампы кровь на ее запястьях мерцала, как драгоценные камни.
Я приблизился к ней и обнял. Вздрогнув, царица подняла на меня глаза, я поднес палец к ее губам. Ее глаза и щеки теперь были мокрыми от слез, я смахнул их и нежно погладил раны на ее запястьях. Царица сморщилась от боли, но, когда ее глаза встретились с моими, боль была забыта. Она начала гладить мои волосы, затем коснулась моей груди и прошептала мне что-то на ухо на непонятном языке, ее пальцы начали распускать мои шелка. Я опустился на колени, целуя ее руки и запястья, ощущая на губах вкус свежей крови, которая сочилась из ее порезов; когда мы оба оказались совершенно обнаженными, я поцеловал ее в губы, окрашивая их, словно помадой, ее же кровью, затем увлек ее в тишину бассейна, в приятную прохладную воду. Я чувствовал, как нежные пальчики царицы ласкают мои груди и живот, я раздвинул ноги. Она коснулась меня, и я потянулся к ней; она застонала и откинула голову назад. Отраженный от воды свет лег на ее горло, которое вспыхнуло словно золотом. Царица задрожала, теплая вода покрылась мелкой рябью, и я почувствовал, как моя кровь будто вибрирует вместе с движением воды на моей коже. Я облизал ее груди, затем нежно укусил; когда мои зубы прокусили ее кожу, тело царицы напряглось и она начала задыхаться, но не вскрикнула, и ее дыхание стало более глубоким от страсти. Внезапно она содрогнулась, ее начало трясти, она легла спиной на кафель, и снова на ее горле заиграл золотой свет. Я оказался вне своего тела, почти без сознания — в эту минуту у меня не было ничего, кроме желания. Инстинктивно я полоснул зубами по горлу своей возлюбленной и, когда ее кровь потекла в воду бассейна, ощутил, как мои бедра раскрываются навстречу воде и сливаются с ее потоком.
Царица так и не вскрикнула. Она лежала в моих объятиях, омываемая водой, смешанной с ее собственной кровью, ее дыхание становилось слабее, а я жадно пил из ее ран. Она умерла без вздоха, и воды бассейна помутнели с ее уходящей жизнью. Я нежно поцеловал ее и выбрался из бассейна Я выпрямился — мое гладкое тело было словно умащено маслом. Оно окрепло и посвежело от ее крови. Я посмотрел на царицу, плавающую в своем пурпурном гробу, и увидел, как ее мертвые губы улыбаются мне вслед.
Лорд Байрон замолчал и улыбнулся сам себе.
— Вам неприятно? — спросил он Ребекку, ловя на себе ее взгляд.
— Да, конечно. — Она сжала кулаки. — Конечно, неприятно. Но вам это доставило удовольствие. Убив ее, вы не почувствовали отвращения.
Улыбка лорда Байрона стерлась с лица.
— Я вампир, — мягко сказал он.
— Да, но… — Ребекка проглотила подступивший к ее горлу ком. — Но прежде всего, прежде всего вы бросили вызов Ловласу.
— И моей собственной природе.
— И в итоге он победил вас?
— Ловлас?
Ребекка кивнула.
— И вы не чувствуете раскаяния?
Лорд Байрон закрыл свои горящие глаза и замолчал. Казалось, молчание длилось вечно. Медленно он провел пальцами по ее волосам.
— Я нашел Ловласа, обагренного кровью, сидящего, как инкуб, на груди своей жертвы. Я рассказал ему, что убил царицу султана. Его ликование было чрезмерным Я не смеялся вместе с ним, но… Я не чувствовал раскаяния. До тех пор пока… — Его голос затих.
Ребекка ждала.
— Пока что? — спросила она наконец.
Лорд Байрон сжал губы.
— Мы пили, пока не взошло солнце, — две лисицы в курятнике. Только с первым призывом муэдзина к молитве мы покинули комнату одалисок. Мы прошли не по коридору, ведущему наружу, а в комнату, предназначенную для рабынь. Стены были увешаны зеркалами. И впервые за все это время я увидел себя. Я остановился и похолодел от ужаса. Я смотрел в зеркало и видел Гайдэ, Гайдэ, которую не видел с той роковой ночи в пещере. Но это была не совсем Гайдэ. Губы Гайдэ никогда не были обагрены кровью. Ее глаза никогда не сверкали таким холодным блеском. Гайдэ никогда не была проклятым, вызывающим отвращение вампиром. Я заморгал и увидел свою собственную физиономию, взирающую на меня. Я закричал. Ловлас попытался удержать меня, но я отмахнулся от него. Удовольствия этой ночи, казалось, сразу превратились в кошмары. Они расползлись, как черви, в моих незащищенных мыслях.
Последующие три дня я лежал в постели, истощенный, меня била лихорадка Хобхауз ухаживал за мной. Я не знаю, что понял он из моего бреда, но на четвертый день он сказал мне, что мы должны покинуть Константинополь, и, когда я упомянул имя Ловласа, он помрачнел и предупредил меня, чтобы я никогда не спрашивал о нем.
— Ходят странные слухи, — сказал он. — Немыслимые слухи. Ты поедешь со мной, я уже взял билеты на корабль. Это для твоей же собственной безопасности. Ты знаешь это, Байрон, и я не буду слушать никаких объяснений.
И он действительно не стал их слушать. Мы сели на корабль и отплыли в тот же день в Англию. Я не оставил Лов-ласу ни сообщения, ни адреса.
Но я знал, что не вернусь домой с Хобхаузом. Когда мы приблизились к Афинам, я сказал ему, что останусь на Востоке. Я думал, что мой друг будет взбешен, но он ничего не сказал, только странно улыбнулся и передал мне свой дневник.
Я нахмурился.
— Хобби, прошу тебя, — сказал я, — оставь свои каракули для нашей будущей встречи дома Я знаю, что она состоится, и, если ты позовешь меня, я приду.
На лице Хобхауза снова появилась кривая улыбка.
— Здесь описано не все, — пояснил он. — Прочти выделенные записи об Албании.
Он вышел.
Я немедленно прочел выделенные места. Хобхауз так изменил свои записи, что казалось, мы никуда не уезжали, рассказ о времени, проведенном мной у Вахель-паши, был полностью вычеркнут. Я нашел Хобхауза и крепко обнял его, слезы снова покатились из моих глаз.
— Я так люблю тебя, Хобхауз, — признался я ему, — У тебя так много хороших качеств и так много плохих, что невозможно жить ни с тобой, ни без тебя.
На следующий день мы расстались. Хобхауз разделил небольшой букет цветов и отдал половину мне.
— Будет ли это последней вещью, которую мы делим? — спросил он. — Что тебя ожидает, Байрон?
Я не ответил. Хобхауз отвернулся и поднялся на борт корабля, а я остался в полном одиночестве.
Я направился в Афины, остановился там у вдовы Макри и ее трех очаровательных нимф. Но я не был встречен достаточно доброжелательно, и, хотя Тереза с чувством обняла меня, в ее глазах я заметил страх. Я почувствовал приступы лихорадки и, чтобы избежать второго скандала, покинул Афины и отправился путешествовать по Греции. Я нуждался в новых ощущениях, альтернативой им была тревога и непереносимая боль. Господи, я испытал облегчение после отъезда Хобхауза. В Триполице я остановился на короткое время у Вели, сына Али-паши; он встретил меня как старого друга, которого давно не видел, и я понял, что он хочет переспать со мной. Я, конечно, позволил ему это сделать — а почему бы и нет? Я испытал мимолетное удовольствие от того, что меня использовали как шлюху. В обмен на мои услуги Вели поделился новостями из Албании. Выяснилось, что замок Вахель-паши был разрушен и его сравняли с землей.
— Веришь ли? — спросил Вели, качая головой. — Горцы думают, что это мертвецы восстали из своих могил.
Он рассмеялся при мысли о подобном суеверии. Это развлекло меня, затем я его спросил о самом Вахель-паше. Вели снова покачал головой.
— Его нашли около озера Трихонис, — сказал он.
— Мертвым?
Вели кивнул.
— О да, мертвее не бывает, милорд. Сабля была глубоко всажена в его сердце. Мы похоронили его на холме около замка.
Значит, он умер. Умер на самом деле. Все это время мне еще казалось, что он может быть жив. Но теперь я был уверен, и эта уверенность помогла мне каким-то образом освободиться от этой мысли. Все изменилось, я был свободен от своего творца и принял правду о том, кто я есть на самом деле. У Коринфского водопада, где я настиг очередную жертву — крестьянского мальчика, меня нашел Лов-лас. Мы тепло обнялись, и ни один из нас не упомянул о моем стремительном отъезде из Константинополя.
— Продолжим предаваться пороку? — спросил Ловлас.
Я улыбнулся.
— Будем порочны, как сам грех, — ответил я.
Мы вернулись в Афины. Мы укрывались от посторонних глаз, предаваясь нашим обоюдным удовольствиям, страх и чувство вины стали забытыми словами, и еще не существовало таких развратников, как мы. Как утверждал Ловлас, с нами не могли сравниться даже отъявленные повесы времен Реставрации. Новые грани наслаждений открылись мне, и я все больше пьянел от веселых компаний, секса и хорошего вина. И, конечно, крови. Мой стыд, казалось, навсегда сгорел в пламени разврата. Моя жестокость теперь казалась привлекательной, и я любил ее, я обнаружил, что точно так же я люблю эти голубые небеса и пейзажи Греции, как некий экзотический рай, который я сделал своим собственным. Мой старый мир казался неимоверно далеким от меня. Ободренный Ловласом, я начал думать, что прошлое исчезло навсегда.
Но иногда, искупавшись в море и сидя одиноко на скале, рассеянно глядя на водную гладь, я слышал его зов. Ловлас, который презирал такие настроения, считая их ханжеством, откровенно проклинал меня за мое уныние и вовлекал во все новые разгулы; и все же часто в такие моменты именно его ободрение больше всего раздражало меня. Иногда, когда я чувствовал тоску по дому, он напоминал мне о тайне, мрачной правде и угрожал тем, что в Англии это может выдать меня.
— А в Греции? — спрашивал я.
— Никогда, сэр, — ответил как-то Ловлас. — Если вы спрячете свое сокровенное в надежный футляр из свиной кожи.
Я настаивал на объяснении, но он лишь рассмеялся.
— Нет, Байрон, ваша душа еще слишком уязвима. Но придет то время, когда вы весь пропитаетесь кровью. И тогда поезжайте в Англию, но сейчас, ей-богу, уже почти ночь, давайте займемся нашим рискованным делом и пойдем рыскать по городу в поисках жертв.
Я запротестовал, но Ловлас взмахнул руками.
— Байрон, умоляю, давайте закончим наши дела, прошу!
Тотчас он набросил на себя плащ и начал насвистывать мотив оперной арии, и я понял, что он упивается властью надо мной.
Разговор недолго тревожил меня, ничто не вызывало во мне беспокойства, было слишком много разного рода удовольствий, которые предстояло постичь. Как любовник перенимает любовный опыт от куртизанки, так и я учился искусству пить кровь. Я учился входить в сны своих жертв, управлять собственным сном, гипнотизировать и порождать миражи и предметы желаний. Я изучил, как создавать вампиров, в какие различные типы можно трансформировать свои жертвы — в зомби, чьи мертвые глаза я видел в замке паши; в вурдалаков, таких как Горгиу и его семья; и, что возможно крайне редко, в хозяев, повелителей Смерти, к этому типу созданий принадлежал я сам.
— Будьте осторожны, выбирая того, кого хотите удостоить этой чести, — предостерег меня как-то Ловлас. — Знаете ли вы или нет, но в смерти, как и в жизни, есть своя аристократия. — Он улыбнулся. — Вы, Байрон, могли бы быть королем.
Я пожал плечами в ответ на лесть Ловласа.
— Пусть все короли катятся в ад, — сказал я. — Я не такой тори, как ты. Если б я мог, то научил бы камни восставать против тирании. Я буду убивать, но не порабощать.
Ловлас с презрением сплюнул.
— А в чем разница?
Я холодно посмотрел на него.
— Я думал, что это достаточно очевидно. Я должен пить кровь или умереть, ты сам говорил мне, Ловлас; мы хищники, мы не можем пренебрегать потребностями своего естества. Но разве это естественно — делать из наших жертв рабов? Надеюсь, что это не так. Я не буду таким, как мой создатель, окруживший себя безмозглыми рабами, не имеющими возможности искупления ни в любви, ни в надежде.
— Как? Ты думаешь, что уже не стал таким, как он?
Ловлас оскалился, но я игнорировал его насмешливый вопрос, его фамильярные намеки на какую-то страшную тайну. Потому что теперь я ощущал себя сильным и знал, что его власть не распространяется на меня. Я даже стал сомневаться, что Ловлас знает какую-то тайну. Я думал, что теперь понимаю, чем стал, — и не чувствовал отвращения к самому себе, только радость и силу. Кроме того, я чувствовал себя свободным, настолько свободным, что не мог даже представить себе этого, и я доверился ощущению свободы, которое было таким же безграничным и неукротимым, как море.
Или это мне только казалось.
Лорд Байрон затих и долго молча смотрел на тени, отбрасываемые пламенем свечи. Затем он налил себе бокал вина и залпом выпил его. Когда он снова заговорил, голос его звучал глухо:
— Однажды вечером я шел по узкой улице, заполненной людьми. Незадолго до этого я вдоволь напился и не испытывал жажды — только приятную полноту в своих венах. Но вдруг среди уличного зловония я уловил чистейший запах из всех, что я когда-либо знал. Я не могу описать его, — он взглянул на Ребекку, — если я даже и смог бы передать этот аромат на словах, я сказал бы, что в нем было что-то такое, что недоступно смертному. Драгоценный, чувственный — совершенный.
— Это был запах крови? — спросила Ребекка.
— Да. — Лорд Байрон кивнул. — Но… только ли крови? Нет, больше чем крови. Он вызывал во мне такое страстное желание, что, казалось, пронзал меня насквозь. Я стоял на середине улицы и глубоко вдыхал его. Я увидел ребенка на руках у женщины, этот запах исходил от него. Я шагнул вперед, но женщина пошла прочь, и, когда я добрался до того места, где она стояла, ее и след простыл. Я снова вдохнул, запах исчез. Тогда я, спотыкаясь, в отчаянии бросился вниз по улице и увидел женщину впереди себя, ту самую женщину, и во второй раз она словно растворилась в воздухе. Я пытался разыскать ее, но запах крови вскоре исчез, и я остался наедине со своей болью. Я вел поиски этого ребенка всю ночь. Но лицо матери было скрыто под капюшоном, а ребенок походил на других детей такого же возраста, наконец я отчаялся и прекратил поиски.
С тяжелым чувством я покинул Афины. На высокой скале над морем возвышался храм, в котором я любил бродить, чтобы привести в порядок свои мысли, но этой ночью его тишина была как насмешка, и я ничего не чувствовал, кроме голода, терзавшего меня. Запах крови стоял в ноздрях. Я знал с уверенностью, казавшейся откровением, что никогда не буду по-настоящему счастлив, пока не попробую этой крови. Я поднялся и отвязал лошадь, чтобы отправиться на поиски ребенка. В этот момент я увидел Ловласа. Он стоял между двумя колоннами, и рассвет за его спиной был кровавого цвета Он подошел ко мне, заглянул в мои глаза и вдруг рассмеялся. Он похлопал меня по плечу.
— Примите мои поздравления, — сказал он.
— С чем? — медленно спросил я.
— Как, сэр, с вашим ребенком, конечно.
— С ребенком, Ловлас?
— Да, Байрон, с ребенком. — Он вновь похлопал меня по плечу. — Одна из ваших шлюх родила вам ублюдка.
Я облизнул пересохшие губы.
— Откуда вы знаете? — медленно спросил я.
— Потому что, Байрон, я видел, как вы бегали всю ночь по городу, как сука при течке. Это безошибочный знак, сэр, среди представителей нашего рода, что родился ребенок.
Я содрогнулся от ужаса.
— Почему? — спросил я, ища в глазах Ловласа хоть какой-нибудь признак надежды. Но надежды там не было.
— Я думаю, сэр, что вы теперь не сможете отрицать эту роковую правду. — Он рассмеялся. — Я называю ее роковой, хотя она для меня и яйца выеденного не стоит. — Он осклабился. — Но вы, сэр, отвергая свое естество, еще не утратили принципы. Послушайте, Байрон, вы слишком самонадеянны при сложившихся обстоятельствах, черт возьми.
Медленно я подошел к нему и схватил за горло.
— Рассказывай, — прошипел я.
Ловлас задыхался, но я не ослабил хватку.
— Скажи мне, — прошептал я вновь, — скажи мне, что то, на что ты намекал, неправда.
— Я не могу тебе этого сказать, — сдавленно произнес Ловлас. — Я бы скрывал это от тебя и дальше, видя, как мало твоя душа погрязла в пороке, но от этого не будет пользы, ты должен знать правду. Так знай же, Байрон, такова судьба твоего естества— Он замолк и ухмыльнулся. — Тот, в ком течет твоя кровь, самый желанный плод для тебя.
— Нет.
— Да! — с воодушевлением крикнул Ловлас.
Я встряхнул головой.
— Это неправда.
— Ты почуял его, этот великолепный аромат, разве не так? Даже сейчас ты чувствуешь его. Он сведет тебя с ума, я видел это раньше.
— А ты, ты испытываешь то же самое?
Ловлас пожал плечами, покручивая ус.
— Я никогда особенно не любил детей.
— Но… твоя собственная плоть и кровь…
— М-м-м… — Ловлас причмокнул. — Поверьте мне, Байрон, эти маленькие ублюдки созданы для самого изысканного, ни с чем не сравнимого удовольствия.
Я схватил его за горло.
— Оставь меня, — произнес я.
Ловлас открыл рот, чтобы отпустить новую шутку, но, встретившись со мной глазами, медленно отвел взгляд, и я понял, что, несмотря на боль, моя сила не уменьшилась. Но разве то, что я знал об этом, могло помочь мне? Мои силы могли лишь помочь мне примириться с судьбой.
— Оставь меня, — вновь прошептал я.
Я оттолкнул Ловласа так, что он пошатнулся и упал, после чего, слыша удаляющийся стук копыт его лошади, я уселся в одиночестве на краю утеса Целый день я боролся с отчаянной жаждой крови собственного ребенка.
— Он сказал вам правду? — мягко спросила Ребекка.
Лорд Байрон пристально посмотрел на нее. Его глаза сверкали.
— О да, — произнес он.
— И что было потом?..
— Потом?
Ребекка пристально смотрела на него. Она обхватила шею руками и проглотила ком, подступивший к горлу.
— Ничего, — сказала она.
Лорд Байрон слабо улыбнулся ей в ответ, затем отвел глаза и уставился вдаль.
— Все изменилось после того, что Ловлас рассказал мне, — заговорил он. — Весь вечер я смотрел на волны, и мне казалось, что я вижу отрубленную окровавленную руку. Она подзывала меня. Я бредил и знал тогда, что был гораздо больше похож на пашу, чем мог себе представить, а я так этого боялся. Я вернулся в Афины и нашел Ловласа. Я не чувствовал более запаха крови своего ребенка, но я боялся и желал этого все время.
— Я должен уехать, — сказал я Ловласу тем же вечером. — Я должен покинуть Афины немедленно. Это не терпит отлагательства.
Ловлас пожал плечами.
— И ты уедешь из Греции?
Я кивнул.
— В таком случае куда же ты поедешь?
Я задумался.
— В Англию, — ответил я наконец. — Я должен достать деньги и уладить свои дела. Затем, когда это будет сделано, я снова уеду, подальше от тех, в ком течет моя кровь.
— Твоя сестра в Англии?
— Да. — Я кивнул. — Мать. И сестра, сводная сестра.
— Разница небольшая. Избегай их обеих.
— Да, конечно. — Я закрыл лицо ладонями. — Конечно.
Ловлас взял меня за руки.
— Когда ты будешь готов, — прошептал он, — снова присоединяйся ко мне, и мы возобновим наши похождения. Ты редкое создание, Байрон. Когда твоя душа почернеет от порока, ты станешь таким вампиром, каких я еще не видывал.
Я поднял глаза и посмотрел на него.
— А где будешь ты? — спросил я.
Ловлас начал напевать мотив своей любимой оперной арии.
— В единственном месте, созданном для развлечений, — в Италии.
— Я присоединюсь к тебе, — сказал я.
Ловлас поцеловал меня.
— Превосходно! — воскликнул он. — Но, Байрон, возвращайся скорей, не задерживайся в Англии. Останься ты там надолго, и сразу почувствуешь, как тяжело, невозможно уехать оттуда.
Я кивнул.
— Понимаю, — сказал я.
— У меня есть знакомая девушка в Лондоне. Она из нашей породы. — Он подмигнул. — Очаровательнейшая чертовка. Я напишу ей. Она будет тебя сопровождать, я надеюсь.
Он снова поцеловал меня.
— Она будет наставлять тебя, пока меня не будет рядом. — Он улыбнулся. — Не задерживайся, Байрон. Я потратил слишком много времени на поиски такого приятного товарища, как ты. Черт возьми, сэр, какую оргию мы
закатим, когда снова будем вместе. А теперь, — он поклонился, — с Богом Встретимся в Италии.
С этими словами он оставил меня, а спустя неделю я и сам покинул Афины. Путешествие, как вы сами можете представить, было не из приятных. Ни один день не прошел без того, чтобы я не думал о том, чтобы сойти с корабля, поселиться в каком-нибудь городе и никогда не возвращаться в Англию вновь. Но я нуждался в деньгах и испытывал тоску по моим друзьям, по моему дому и по последней возможности увидеть родину. Я испытывал также тоску по матери, по Августе, своей сестре, но мысли о них я старался изгнать из головы. Наконец после путешествия, длившегося месяц, и двух лет, проведенных за границей, после того как полностью преобразилась моя жизнь, я вновь ступил на берег Англии.
Глава 9
Среди рассеяний, обыкновенно сопровождающих лондонскую зиму, между различными партиями законодателей хорошего тона, появился один человек, более заметный по необыкновенным качествам, нежели по высокому состоянию. Он равнодушно смотрел на веселие, его окружавшее, и, казалось, не мог его разделять. По-видимому, его внимание привлекал один только звонкий хохот красавиц, который мгновенно умолкал от одного его взгляда, и внезапный страх наполнял тогда сердца, прежде предававшиеся беспечной радости. Никто не мог объяснить причины этого таинственного чувства: некоторые приписывали оное его мертвым глазам, которые, устремляясь на лицо особы, перед ним находящейся, казалось, не проходили во глубину, не проникали во внутренность ceрдца одним быстрым взглядом, но бросали какой-то свинцовый луч, тяготевший на поверхности, не имея силы проникнуть далее. Странность характера открыла ему вход во все дома, все его желали видеть, и те, которые привыкли к сильным впечатлениям и теперь чувствовали тягость скуки, радовались, имея перед собой предмет, способный привлечь их внимание. Несмотря на мертвенный цвет его лица, коего черты и очерк были прекрасны, но которое никогда не разогревалось ни румянцем скромности, ни пламенем сильных страстей, многие из самолюбивых красавиц старались привлечь его внимание и выиграть хотя что-нибудь, похожее на привязанность. Леди Мерсер, известная слабым поведением со времени замужества, захотела расставить ему сети и только что не одевалась в арлекинское платье, желая им быть замеченною…
Дж. Полидори. «Вампир» (пер. П. В. Киреевского)
Я должен был посетить Англию до того, как сбудется проклятие, висевшее надо мной. Я был один у матери, два этих года она прожила в Ньюстеде, нашем родовом гнезде. Я знал, с каким нетерпением она ждет моего возвращения. Но я не должен был встречаться с ней. Драгоценный аромат крови, который я впервые почувствовал в Афинах, мог бы оказаться роковым для нас обоих. Поэтому я остался в Лондоне, чтобы решить свои дела и повидать друзей. Один мой знакомый спросил, не написал ли я что-нибудь во время путешествия. Я показал ему рукопись «Паломничества Чайльд-Гарольда». Он пришел на следующий день, полный восторга и удивления.
— Пожалуйста, не обижайся, — сказал он, — но мне показалось, что в Чайльд-Гарольде ты изобразил себя. — Он прищурился, словно изучая меня. — Бледный прекрасный странник, погруженный в мрачные раздумья о смерти и тленности этого мира, приносящий несчастье своим близким Да, это произведение обязательно должно быть опубликовано. — Он снова изучающе посмотрел на меня и нахмурился. — Ты знаешь, Байрон, в тебе есть что-то странное, необычное. Я раньше этого никогда не замечал. — Он усмехнулся и похлопал меня по плечу. — Обязательно опубликуй свою поэму. Она прославит тебя.
Когда он ушел, я рассмеялся его неведению, затем накинул пальто и выскользнул на улицу. Почти каждую ночь я совершал подобные прогулки. Моя жажда становилась все сильнее. Она разгоралась с каждой минутой, предвещая невиданные наслаждения и превращая все остальные радости жизни в ничто. Однако, даже когда я утолял жажду, я знал, что уничтожаю себя, и все же испытывал огромную радость. С ростом луны усиливалась моя жажда крови матери. Иногда я приказывал закладывать экипаж в Ньюстед, но в последний момент менял решение и шел на поиски новой жертвы. Но я знал, что когда-нибудь поддамся искушению. Почти через месяц после моего приезда пришло известие о болезни матери. Я сразу же сел в экипаж и выехал. Ужас и желание, которые я испытывал, невозможно было описать словами. Я сгорал от нетерпения, представляя, как убью мать, как ее кровь золотым потоком разольется по моим венам. Я сделаю это. Меня лихорадило. Когда я проезжал по лондонскому предместью, меня настиг слуга с сообщением о ее смерти.
Я был сражен горем. Всю поездку до Ньюстеда я ничего не чувствовал. Я рыдал и смеялся у трупа матери, целовал ее лицо. К своему удивлению, я не отчаивался, словно вместе со смертью матери исчезла и жажда крови. Я оплакивал ее как сын оплакивает мать, в течение нескольких дней наслаждаясь забытым удовольствием от печали, испытываемой простыми смертными. Я был совершенно один на всем белом свете. Была еще сестра Августа, которую я совсем не знал. Она прислала в письме свои соболезнования, но в Ньюстед не явилась, и я, к своему облегчению, был рад тому, что не испытываю к ней «кровной тяги». Если бы я почуял ее кровь, то вскоре был бы охвачен жаждой, но я не чувствовал искушения найти ее, я страдал по матери. Я поклялся, что наши пути с Августой никогда не пересекутся. Неделю спустя после смерти матери я отправился на охоту в лес аббатства. Такого наслаждения я не испытывал с тех пор, как повстречал в Афинах своего ребенка. Возможно ли, что со смертью матери померкнут и воспоминания об этом? Я молился, чтобы это было так, и по истечении месяца начал верить в это.
И все же все было не так, как прежде. На Востоке я был свободным существом, упоенным новизной преступления, но здесь, в Англии, я стал другим, моя жажда стала более мучительной и нетерпеливой, а мир был слишком туп, чтобы понять это. Я оградил себя стеной холодности от несведущей толпы смертных, рыская в ней как неутомимый охотник. Все более и более я понимал, что значит быть чужим — духом среди плоти, пришельцем на земле, которая когда-то была его домом. Я упивался своим одиночеством и жаждал воспарить, как дикий сокол, высоко и свободно над бренной землей. Я вернулся в Лондон, в этот мощный водоворот порока и соблазнов, где взбирался на самые головокружительные вершины наслаждений. В темных закоулках города, где отчаяние притаилось ночным кошмаром, я стал воплощением ужаса, сея смерть вокруг себя. Я настигал свои жертвы и с жадностью утолял голод в безлюдных трущобах, окутанных туманом. Но я не собирался прозябать в нищих городских кварталах, как крыса в грязной вонючей норе, — я, вампир, существо наделенное необыкновенным могуществом Я знал, что весь Лондон будет лежать у моих ног. Я проник в салоны большого света, этого сверкающего мира особняков и балов.
Мой приятель оказался прав, говоря о «Чайльд-Гарольде». Проснувшись однажды утром, я обнаружил, что стал знаменитостью. Все обезумели не столько от поэмы, сколько от ее автора. Мне наносили визиты, искали моего расположения, желали меня видеть. Мое имя было у всех на устах. Но не поэзия, а скорее волшебные чары моего взгляда, таинственность облика покорили лондонских герцогинь и виконтов, словно каких-нибудь сельских простаков. Стоило мне зайти в гостиную, где кружились в вальсе богатые красивые пары, и в один миг сотня глаз устремлялась на меня, сотня сердец начинала учащенно биться при моем взгляде. Но все эти люди вряд ли осознавали, что с ними происходит, — откуда им было знать о вампирах и их тайной жизни? Но я-то знал и укреплял свою власть повелителя тьмы.
Но, несмотря на все доказательства моего могущества, я не был счастлив, находя своих жертв среди бедняков и аристократов с их надоедливым обожанием. Оба класса утоляли мою ненасытность, словно огонь сжигавшую мои внутренности, и, если бы я не пил кровь, страсть иссушила бы меня дотла. Стоило мне попытаться погасить пламя в душе, и оно разгоралось еще сильнее. Я страстно, как искупления, желал обыкновенной земной любви, чтобы она прохладным дождем остудила мое сердце. Но где найти такую любовь? Меня окружали покорные рабы, я их презирал, потому что они любили меня, как кролик — гремучую змею. Вряд ли я мог порицать их — ведь взгляд вампира так сладок и смертелен. Временами, когда жажда крови была утолена, могущество начинало тяготить меня. В такие минуты во мне оживал простой смертный.
Это случилось в зените моей славы на балу у леди Уэстморленд. Как обычно, толпа поклонников окружила меня в надежде поймать взгляд или слово, но среди присутствующих была одна дама, которая не обращала на меня внимания. Я попросил, чтобы меня ей представили, но получил отказ. Меня это сильно заинтриговало. Несколько дней спустя я снова встретил ее, на этот раз мы познакомились. Леди Каролина Лэм была замужем за сыном леди Мельбурн, чей особняк в Уайтхолле был одним из самых фешенебельных в городе. На следующее утро леди Каролина пригласила меня к себе, она приняла меня в своей комнате, одетая в костюм пажа.
— Байрон, — произнесла она, растягивая слова, — проведите меня в свой экипаж.
Я улыбнулся и исполнил ее приказание.
— К докам, — бросила она вознице.
У нее были хорошенькие губки, несколько костлявая фигурка, но в этом одеянии она очень напоминала мне Гайдэ. И я решил, что она обязательно будет моей. Вероятно, она тоже подумала об этом.
— Ваше лицо, — произнесла она драматическим шепотом, — я думаю, это моя судьба.
Она схватила мою руку.
— Какая холодная!
Я постарался скрыть за улыбкой свое недовольство. Леди Каролина задрожала от восторга.
— Да, — сказала она, порывисто целуя меня. — Ваша любовь осквернит, совершенно уничтожит меня!
Ее, казалось, увлекла эта идея. Она откинулась на спинку сиденья.
— Быстрей, — закричала она вознице, — быстрей, твой хозяин жаждет согрешить со мной!
Я овладел ею в грязной вонючей таверне, где-то на окраине доков.
— Как ужасно, — задыхаясь от наслаждения, говорила Каро, — быть объектом твоей похоти. Я опозорена, погублена, я убью себя!
Она снова страстно поцеловала меня.
— О Байрон, ты дьявол, порождение тьмы!
Я улыбнулся.
— Опасайся меня,'— насмешливо прошептал я. — Разве ты не знаешь, что мое прикосновение смертельно?
Она нервно засмеялась, ее лицо приобрело торжественное выражение.
— Да, — важно проговорила она, — я думаю, что так оно и есть.
Она выскользнула из моих объятий и выбежала из комнаты, я не спеша оделся, последовал за ней, и мы вместе вернулись в Мельбурн-хаус.
Как недалека была Каро от истины, называя меня дьяволом, ангелом смерти! Может, она что-то подозревала? Я сомневался, но был очарован ею и далек от выяснений. На следующий день я принес ей розу.
— Вашей милости каждый миг нравится все новое и редкое.
Каро посмотрела на розу.
— В самом деле, милорд? — прошептала она. — Мне казалось, что вы лучшего мнения обо мне.
Она истерично захохотала и начала срывать лепестки с цветка. Пресытившись наконец мелодраматической игрой, она провела меня в гостиную леди Мельбурн.
Войдя в комнату, полную гостей, я сразу же почувствовал присутствие еще одного вампира. Я глубоко вздохнул и огляделся по сторонам, и это чувство исчезло. Но я был уверен, что чутье не обмануло меня. Ловлас обещал написать письмо девушке нашей породы, чтобы она опекала меня, пока я буду в Лондоне. Я снова обвел глазами гостиную. Каро наблюдала за мной своими безумными горящими глазами. Леди Мельбурн и все присутствующие смотрели на меня. И только одна девушка, которую я заметил в дальнем углу зала, не обращала на меня внимания.
Такая манящая красотой, серьезная молодая девушка — слезы навернулись мне на глаза. Она так же напоминала Гайдэ, как гемма напоминает цветок. Но все же в ее юном лице была какая-то возвышенность, не свойственная ее возрасту. Она почувствовала мой взгляд и подняла глаза, полные глубокой печали к человеческому злодеянию, виновником которого был я. Она словно сидела у ворот Эдема, оплакивая тех, кто никогда не вернется. Девушка снова улыбнулась и отвела взор, и, как я ни пытался сверлить ее взглядом, она больше не посмотрела на меня.
Но позднее, вечером, когда я стоял один, она подошла ко мне.
— Я знаю, кто вы, — прошептала она.
Я уставился на нее.
— Неужели, мисс? — спросил я.
Она кивнула. Ее не по возрасту серьезный взгляд словно говорил, что его обладательница поглощена неотступной мыслью. Я было собрался произнести имя Ловласа, как вдруг мне в голову пришла странная мысль, и я промолчал. Если она вампир, где жесткость и холодное дыхание смерти в лице, где голод во взгляде?
— Вы можете быть благородным, — произнесла девушка.
Она замолчала, словно смутившись.
— Но вы прячете свою добродетель, — быстро заговорила она. — Прошу вас, лорд Байрон, никогда не теряйте надежду.
— А у вас она есть?
— Да, конечно. — Девушка улыбнулась. — У всех она есть.
Она помолчала, глядя себе под ноги.
— Прощайте.
Она снова взглянула на меня.
— Надеюсь, мы станем друзьями.
— Да, — ответил я.
Я проводил ее глазами, когда она выходила из гостиной. Злобная усмешка внезапно скривила мои губы.
— Возможно, — тихо прошептал я и вдруг весело рассмеялся, покачав головой.
— Вас позабавила моя племянница, милорд?
Я обернулся. Леди Мельбурн стояла сзади. Я вежливо поклонился.
— Ваша племянница? — переспросил я.
— Да. Ее зовут Аннабелла. Дочь моей старшей сестры. Она живет в провинции.
Леди Мельбурн посмотрела на дверь, за которой скрылась ее племянница. Я проследил за ее взглядом.
— Мне кажется, она необыкновенная девушка. — сказал я.
— Правда? — Леди Мельбурн посмотрела на меня. В ее глазах была издевка, рот скривила жестокая усмешка. — Не думала, что она принадлежит к тому типу женщин, который вам нравится.
Я пожал плечами.
— По-моему, она слишком добродетельна.
Леди Мельбурн снова улыбнулась. Она была по-настоящему привлекательная женщина — чувственная брюнетка с такими же сверкающими глазами, как у меня. Невозможно было поверить, что ей шестьдесят два. Она взяла меня под руку.
— Остерегайтесь Аннабеллы, — мягко произнесла она. — Слишком много добродетели — это опасно.
Я долго молчал, пристально глядя на мертвенно-бледное лицо леди Мельбурн, затем кивнул.
— Да, вы правы, — наконец сказал я.
В этот момент Каро позвала меня. Я обернулся через плечо.
— Вызови экипаж, — громко крикнула она через весь зал. — Я хочу уехать отсюда. Сейчас же!
Я увидел, как мрачно смотрит на меня ее муж, и повернулся к леди Мельбурн.
— Меня это не беспокоит, — сказал я ей, — сомневаюсь, что у меня будет время, чтобы попасть под влияние вашей племянницы. — Я улыбнулся. — Скорее это сделает со мной ваша невестка.
Леди Мельбурн кивнула, но не улыбнулась в ответ.
— Напротив, милорд, — прошептала она. — Будьте осторожны. Вы могущественны, но юны. Вы не знаете своей силы. А Каролина очень страстна. Если что-нибудь случится, дорогой Байрон, хорошо всегда иметь под рукой друга.
Она пристально посмотрела на меня. «Какая неземная красота, — подумал я, — но какая странная и жестокая, как у Ловласа». Но она была слишком стара для Ловласа. Я посмотрел на Каро, затем обратился к леди Мельбурн, уже собиравшейся уходить.
Она обернулась.
— Милорд?
— Леди Мельбурн… — Я рассмеялся и покачал головой. — Простите, могу я задать вопрос?
— Пожалуйста, — она замерла в ожидании, — спрашивайте.
— Вы на самом деле являетесь тем, кем кажетесь?
Она улыбнулась.
— Вы задаете вопрос, заранее зная ответ.
Я склонил голову.
— Нас так мало, — внезапно прошептала она, беря меня за руку, — избранных, чей поцелуй приносит смерть.
— Избранных, леди Мельбурн? — Я посмотрел на нее. — Меня не избирали.
Печальная улыбка играла на ее губах.
— Конечно, — сказала она, — я забыла.
Она отвернулась и, когда я попытался взять ее за руку, отстранила меня.
— Пожалуйста.. — Она вновь обратила на меня взгляд. — Прошу вас, забудьте о том, что я сейчас сказала.
В ее глазах сверкнуло предостережение.
— Не настаивайте, дорогой Байрон. Можете просить о чем угодно, и я помогу вам. Но не спрашивайте о причинах, которые привели меня к тому… чем я стала. Простите. Это была моя вина. Я никогда не упоминаю об этом.
Горечь промелькнула на ее лице, словно она вспомнила что-то.
— Будьте внимательны к ней, — прошептала она, — не смущайте ее ум. Она смертна, вы — нет.
Она улыбнулась, превратившись снова в гостеприимную хозяйку.
— А теперь, — произнесла она, отпуская меня, — не буду вас задерживать. — Она послала прощальный поцелуй. — Ступайте и соблазняйте жену моего сына.
Я сделал это той же ночью. Единственной причиной моей любви к Каро было желание забыть свою бессмертную сущность. Я мечтал о такой женщине, как Каро, — непокорной и ненасытной любовнице, чье желание было таким же неуемным, как и моя собственная жажда. За несколько недель отчаянная лихорадка поразила нас обоих, мы обезумели от страсти, яркими факелами зажглись наши чувства, даже моя ненасытная жажда крови, казалось, исчезла. Но болезнь вскоре прошла, и я понял, что приобрел лишь новую рабыню, подобную другим рабам. К тому же дикий нрав Каро делал эту привязанность невыносимой. Я не стал пить ее кровь, как сделал бы другой вампир, а поступил с ней более жестоко: я заразил ее обжигающей, безжалостной страстью, довел ее мозг до безумия. Впервые я понял, какой пагубной может быть любовь вампира и что высасывание крови не единственный способ убить жертву. Я ослепил Каро своей страстью, которая, подобно солнцу, была слишком яркой для простого смертного. Моя любовь скоро прошла, очень скоро. Но, к несчастью, Каро не могла забыть меня.
Вскоре ее безрассудство стало нестерпимым, и я, вампир, оказался ее жертвой. Каро посылала мне письма, подарки, являлась ко мне в полночь, следовала за моим экипажем, переодевшись пажом. Я отправлял ей жестокие послания, заводил любовниц, в отчаянии даже хотел убить ее. Но леди Мельбурн, узнав о моих планах, только рассмеялась и покачала головой.
— Зачем поднимать скандал? — Она погладила меня по голове. — Дорогой Байрон, я предостерегала тебя, чтобы ты был более сдержанным. Поменьше привлекай к себе внимание, будь благоразумным, как я, как все мы.
Я взглянул на нее и подумал о знакомой Ловласа, которую так и не встретил.
— Кто-нибудь еще нашей породы есть здесь, в Лондоне? — спросил я.
Леди Мельбурн наклонила голову.
— Конечно, — ответила она.
— Вы их знаете?
Она улыбнулась.
— Я говорила, что мы очень осторожны. — Она помолчала. — Честно говоря, Байрон, мы стараемся оградить себя от твоей силы, она делает тебя могущественным, но опасным. У тебя есть гениальность, поэтому будь осторожен.
Она взяла меня за руку, пристально глядя в лицо.
— Ты сомневаешься, что закон не пощадит нас, если мы обнаружим себя? У тебя ужасная репутация, твое разоблачение может уничтожить всех нас.
— Я не собираюсь скрываться, — лениво сказал я.
Но ее настойчивость произвела на меня впечатление, и с тех пор я стал прислушиваться к ее словам Я не стал убивать Каролину, но приложил все усилия, чтобы не подпускать ее к себе. Я старался не привлекать к себе внимание — заводил любовниц, пил, играл в карты, говорил о политике — иными словами, вел себя так, как все лондонские денди. Более того, я проводил все время с Хобхаузом, который был единственной опорой в моей жизни. Хобби никогда не расспрашивал меня о днях, проведенных без него в Греции, а я ничего не рассказывал ему. Как настоящий друг, он пытался удержать меня от ссор и скандалов, и я доверял ему так, как не доверял самому себе. Только поздно ночью, возвратившись из игорного клуба, я избавлялся от его общества и, выскользнув в темноту ночи, возобновлял тот образ жизни, о котором Хобхауз не подозревал. На несколько часов я становился самим собой. Но даже среди доков и грязных трущоб я помнил увещания леди Мельбурн и старался быть осмотрительным. Намеченные жертвы никогда не уходили от своего преследователя.
Однажды ночью, когда жажда особенно сильно мучила меня, Каро устроила сцену, заявившись поздно ночью ко мне в своем пажеском костюме, уговаривая меня тайно бежать с ней. Хобхауз был тверд как камень, и ей пришлось отступить, но меня трясла жесточайшая лихорадка от страстного желания сбросить все это притворство. Дождавшись ухода Хобхауза, я прокрался в ночные трущобы Уайтчепела, на его пустынные туманные улицы. Жажда крови была такой нестерпимой, что мне уже было не до осторожности. Мои шаги эхом отдавались в тишине грязного переулка. Теперь запах крови стал более ощутимым. Кто-то зашевелился позади. Я обернулся и увидел опускающуюся руку грабителя. Я схватил его и прижал к земле. Он увидел мое лицо и закричал. Я полоснул его по горлу. Воцарилась тишина, Я чувствовал только сладостный поток крови на моем лице. Насытившись, я опустил бездыханное тело в грязь и вдруг остановился, почувствовав запах крови другого человека. Подняв глаза, я увидел Каро.
Я медленно вытер кровь с губ. Безумными глазами, полными отчаяния, Каро смотрела на меня. Подойдя к ней, я провел пальцами по ее волосам, она вздрогнула, готовая бежать, но вдруг ее худенькое тельце начали сотрясать беззвучные рыдания. Она бросилась целовать меня, размазывая кровь по своему лицу. Я удержал ее.
— Каро, — мой шепот проникал в ее мысли, — ты ничего не видела сегодня ночью.
Она молча кивнула.
— Нам нужно идти, — сказал я, взглянув на труп, лежавший в луже.
Я взял Каро за руку.
— Пойдем, здесь не следует оставаться.
В экипаже Каро не проронила ни слова. По дороге в Уайтхолл я нежно любил ее. Я проводил ее в Мельбурн-хаус, мы простились с поцелуем. Возвращаясь к экипажу, я увидел свое отражение в зеркале. На меня смотрело прекрасное лицо, искаженное гримасой ужаса и отчаяния. Я задрожал, как Каро, страдание и злоба боролись во мне, но внешне я был холоден и спокоен. Завернувшись в плащ, я вышел на ночную улицу.
На следующее утро Каро, прорвавшись мимо слуги, преграждавшего ей путь, вбежала в мою комнату и закричала, чтобы мои друзья оставили нас одних.
— Я люблю тебя, — сказала она, когда мы остались наедине. — Я люблю тебя, Байрон, всем сердцем, больше жизни. Возьми мою жизнь, если не хочешь взять мое тело. — Она разорвала на себе одежду. — убей меня! Выпей мою кровь!
Я пристально посмотрел на нее и покачал головой.
— Оставь меня в покое, — произнес я.
Но Каро схватила мою руку и прильнула ко мне.
— Позволь мне стать таким же созданием, как ты! Позволь разделить с тобой жизнь! Я отрекусь от всего!
Я рассмеялся.
— Ты не знаешь, что говоришь.
— Знаю, — выкрикнула Каро. — Знаю, знаю. Я хочу получить поцелуй смерти! Я хочу разделить тьму, из которой ты явился! Я хочу испробовать волшебный вкус твоей крови! — Она начала рыдать и упала на колени. — Пожалуйста, Байрон! Пожалуйста, я не могу жить без тебя. Дай мне свою кровь, пожалуйста!
Я смотрел на нее, чувствуя страшную жалость и искушение. Позволить ей разделить свою жизнь, облегчить бремя своего одиночества… Но, вспомнив данный мной обет не посвящать никого в наше братство, я отвернулся от нее.
— Вы смешны со своим тщеславием, — произнес я, вызывая слугу. — Обрушивайте свои нелепые капризы на других.
— Нет, — причитала Каро и билась головой о мои колени, — нет, Байрон, нет!
Вошел слуга.
— Найдите для ее милости одежду поприличней, — приказал я. — Ей нужно идти.
— Я раскрою всем твою тайну, — закричала она, — и буду смотреть, как ты умираешь.
— Леди Каролина, вы все излишне драматизируете. Это всем известно. Кто поверит вашим словам?
Слуга проводил леди Каролину. Я достал чернила и бумагу и написал письмо леди Мельбурн о том, что произошло.
Мы оба согласились, что Каро следует отослать. Ее безумие стало опасным. Она прислала клок волос, слипшихся от крови, требуя взамен мою кровь. Она бесконечно преследовала меня, окликала меня на улицах, говорила своему мужу, что мы женаты. Тот лишь холодно пожимал плечами, отвечая, что не верит ее словам, — он был предупрежден леди Мельбурн. Наконец, благодаря совместным усилиям, Каро удалось отправить с семьей в Ирландию. Но она, как и предупреждала меня, успела разболтать всем о моем пристрастии к крови.
Слухи были настолько кошмарными, что я уже было собирался жениться на Каро, чтобы положить им конец. Я вспоминал Аннабеллу, племянницу леди Мельбурн, которая, как казалось мне, была воплощением добродетели. Но леди Мельбурн только посмеялась надо мной, когда я, послав ее племяннице предложение руки и сердца, получил отказ. Я не был задет или сильно удивлен; наоборот, я восхищался Аннабеллой и знал, что она заслуживает лучшего. Вскоре мои матримониальные амбиции начали проходить. Чтобы как-то утихомирить бродившие обо мне слухи, я покинул Лондон и отправился в Челтенхем.
Там я наконец обрел покой после бурного романа с Каро. Моя любовь погубила ее. Так в который раз сбылось тяготевшее надо мной проклятие. Никакие узы не держали меня больше в Англии. Я опять почувствовал лихорадочную тягу к путешествиям и решил уехать в Италию, как давно намеревался. Большую часть денег, вырученных за продажу поместья в Ньюстеде, поглотили налоги; целый месяц ушел на решение финансовых дел. Но мысль о моей причастности к вечности парализовала меня, я чувствовал, как становлюсь ее рабом. Как прав был Ловлас, когда просил меня не медлить. Почти каждую неделю я пытался строить планы по поводу предстоящего путешествия, но каждый раз решимость и энергия покидали меня. Чтобы жизнь забила ключом, не хватало бури и натиска. Мне нужно было действовать, чтобы взволновать кровь, чтобы пробудиться к жизни. Но ничего не происходило, побеждала скука. Я делал вид, что собираюсь уезжать за границу, но Англия не отпускала меня.
Я вернулся в Лондон. Здесь мысль об одиночестве еще больше стала угнетать меня. Мое существование, казавшееся в Греции таким богатым и разнообразным, в Англии было лишено всех красок жизни. Ведь что такое счастье, если не вечное волнение? И что есть волнение, как не полет воображения? Я стал нещадно растрачивать свои чувства, играя в карты, любя женщин, но высечь искру волнения, которое являлось смыслом жизни, с каждым разом становилось все труднее. Я вернулся к поэзии, к воспоминаниям о Гайдэ и о моем падении, пытаясь осмыслить, кем я стал. Все ночи напролет, яростно скрипя пером, я словно пытался вернуть утраченное, но лишь обманывал самого себя; занятия поэзией, подобно зерну, брошенному в бесплодную землю, истощили мои силы. Если в Греции кровь возбуждала все мои чувства, то в Лондоне я пил, чтобы утолить голод, чувствуя, как кровь убивает вкус к жизни. Так постепенно вампир победил во мне смертного. Я стал одиноким духом.
Я пребывал в глубинах своего отчаяния, когда в Лондон приехала Августа. Я не видел ее со времени своего приезда с Востока, но знал' что может сотворить со мной ее кровь. Когда я получил от нее письмо с предложением о встрече, мой злой гений был не в силах бороться с искушением. Я послал ей приглашение на обед, написав его красными чернилами. Я ждал ее в назначенном месте. Еще до ее появления я почуял запах ее крови. Когда она вошла, серый мир взорвался мириадами сверкающих искр. Августа подошла ко мне. Я нежно поцеловал ее в щеку, чувствуя нежный аромат крови, исходящий от нее.
Я замер, весь охваченный искушением, но решил не спешить. Мы сели за стол. Биение сердца Августы, пульсация ее вен отдавались в моих ушах. Ее голос нежной музыкой очаровывал меня. Мы говорили о всякой ерунде, смеялись и шутили, отлично понимая друг друга Обедать, разговаривать, смеяться — все эти радости жизни смертных вернулись ко мне. Я взглянул на свое отражение — румянец теплыми красками окрасил мои щеки.
В эту и последующие ночи я пощадил Августу. Она была некрасива, но привлекательна — моя единственная сестра, которую я страстно желал и которую никогда не знал. Я стал везде показываться с ней. Мое стремление к общению соперничало с жаждой. Иногда жажда крови совсем опустошала меня, темный туман застилал глаза, и я наклонял голову, нежно касаясь губами ее гладкой шеи. Я представлял себе, как прокусываю ее и упиваюсь драгоценной кровью. Но стоило Августе посмотреть на меня, и мы оба начинали смеяться. Я нащупывал клыки кончиком языка, снова касался губами шеи сестры и целовал ее, чувствуя пульсацию вен.
Однажды, кружась в ритме вальса, мы поцеловались и сразу же отпрянули друг от друга. Августа потупилась, но я чувствовал, как кипит в ней кровь. Она пугливо на меня посмотрела и задрожала. У меня потемнело в глазах от запаха ее крови. Августа откинула голову назад и попыталась освободиться, затем снова задрожала и застонала, когда я прильнул к ней и наши губы встретились. На этот раз мы не разомкнули объятий. Но, услышав чье-то приглушенное всхлипывание, я прервал поцелуй. Какая-то женщина спускалась вниз по лестнице в сторону гостиной. Это была Каролина Лэм.
Позднее вечером, спускаясь к ужину, я столкнулся с Каро. В ее руках был кинжал.
— Если ты любишь свою сестру, — прошипела она, — возьми хотя бы мою кровь.
Я молча улыбнулся и прошел мимо. Каро начала задыхаться и отшатнулась, а когда присутствующие попытались вырвать из ее рук кинжал, она полоснула им по предплечью и поднесла раненое место к моим губам.
— Ты видишь, на что я способна ради тебя! — закричала она. — Байрон, выпей мою кровь! Если не любишь меня, дай мне умереть!
Она поцеловала рану, испачкав губы в крови. На следующее утро скандал получил широкую огласку.
Этим же вечером ко мне ворвалась разъяренная леди Мельбурн, держа в руках газету.
— Я не ожидала от тебя такого.
Я пожал плечами.
— Не моя вина, что эта сумасшедшая преследует меня.
— Я ведь предостерегала тебя, Байрон, не доводить ее до безумия.
Я томно посмотрел на нее.
— Но вы не были настойчивы в своих предостережениях, не так ли, леди Мельбурн? Вспомните! А ваше нежелание рассказать о чарах любви вампира? — Я покачал головой. — Какая скромность!
Я улыбнулся, увидев, как побледнела леди Мельбурн.
Немного успокоившись, она произнесла:
— Я полагаю, что последней жертвой будет твоя сестра.
— Это Каро сказала вам об этом?
— Да.
Я пожал плечами.
— Ну, я не собираюсь это отрицать. Ситуация весьма щекотливая.
Леди Мельбурн покачала головой.
— Ты невозможен, — сказала она наконец.
— Но почему?
— Потому что ее кровь…
— Да, я знаю… — перебил я ее. — Ее кровь для меня — это пытка. Но я так боюсь потерять ее. С Августой, леди Мельбурн, я снова чувствую себя простым смертным. С Августой я забываю прошлое.
— Конечно, — невозмутимо заметила леди Мельбурн.
Я нахмурился.
— Что вы имеете в виду?
— Она с тобой одной крови. Тебя влечет к ней как к своей второй половине. Твоя любовь не убьет ее… — Она запнулась. — Но твоя жажда… Твоя жажда непременно сделает это.
Я пристально посмотрел на нее.
— Моя любовь не убьет ее? — медленно повторил я.
Леди Мельбурн вздохнула и погладила мою руку.
— Прошу тебя, — прошептала она. — Не позволяй себе любить Августу.
— Но почему?
— Разве это не очевидно?
— Потому что это инцест?
Леди Мельбурн язвительно рассмеялась.
— Любому из нас наплевать на приличия и принципы морали. — Она покачала головой. — Нет, Байрон, дело не в инцесте, а в том, что в Августе течет твоя кровь и она манит тебя. — Она взяла мою руку и крепко сжала ее. — Ты должен будешь убить ее. И ты это знаешь. Может быть, не сейчас, а позднее, через год, но это обязательно произойдет.
Я застыл.
— Нет, я не допущу этого.
Леди Мельбурн покачала головой.
— Ты сделаешь это. Мне очень жаль, но такова истина. У тебя нет других родственников.
Она заморгала. Мне показалось, что в ее глазах стояли слезы — или это был всего лишь блеск взгляда вампира?
— Чем больше ты ее любишь, — прошептала она, — тем труднее тебе будет сделать это.
Она нежно поцеловала меня в щеку и бесшумно вышла. Я не стал провожать ее. Всю ночь я просидел в одиночестве, размышляя над ее словами.
Они ледяными осколками засели в моем сердце. Я восхищался леди Мельбурн, самой проницательной и мудрой женщиной, которую я когда-либо встречал, но ее уверенность пугала меня. Я страстно боролся с самим собой. Я отдалился от Августы. И сразу же мое существование стало скучным и серым. Я поспешил вернуть сестру обратно, мне не хватало ее присутствия, запаха ее крови. Она была само совершенство, такая добрая и отзывчивая, не слишком здравомыслящая, но я был счастлив с ней. Разве мог я помышлять об убийстве? Но все же мысль об этом становилась все более навязчивой. Я понял, как права была леди Мельбурн. Я любил и мучился от жажды — казалось, не было никакого выхода «Я пытался обуздать своего демона, но безрезультатно» — писал я леди Мельбурн.
Странно, но эта мука возбуждала меня. После всего пережитого лучше агония, чем скука, лучше буря, чем полный штиль. Мое сознание раздирали противоречивые желания, я пытался забыться, погрязая в пороке, снова стал посещать светские салоны, напивался там до беспамятства, чего раньше со мной никогда не было. Но мое веселье скорее походило на лихорадку, на пир во время чумы; мои удовольствия были окрашены в мрачные тона смерти. Прекрасный призрак; Августы постоянно преследовал меня, противоречивые мысли о жизни и смерти, радости и отчаянии, любви и жажде снова стали одолевать меня. Такой пытки я не испытывал даже на Востоке во время наших с Ловласом оргий. Мои жертвы теперь представлялись мне ходячими бурдюками, наполненными кровью, но от этого жажда стала мучить меня сильней, чем прежде, и я оплакивал людей, которых мне приходилось убивать.
— Теперь они будут спать спокойно, — иронизировала леди Мельбурн.
И я знал, что она права, потому что говорить о жалости вампира — значит лицемерить. Чувствуя отвращение к самому себе, я убивал с меньшей жестокостью, сознавая, что жизнь человеческого существа уникальна и недолговечна, как быстро гаснущая вспышка. Представляя иногда, что моей жертвой стала Августа, я испытывал одновременно вину и удовольствие.
У меня появилась отчаянная надежда, когда я начал переписываться с Аннабеллой. В течение этого долгого и мучительного года в самые тяжелые минуты моего существования ее моральная сила, ее духовная красота, казалось, давали мне шанс на искупление; я был в таком отчаянном положении, что ухватился за эту девушку как за спасительную соломинку. Увидев ее впервые на вечере у леди Мельбурн, я постоянно думал о ней.
— Я знаю, кто вы, — сказала она тогда.
И в самом деле, хотя это может показаться странным, она будто знала, о чем говорит, потому что почувствовала боль моей души, жажду прощения. Она обращалась в своих письмах ко мне не как к монстру, каким я был., а как к человеку, которым я мог стать, и я понял, что она хочет пробудить во мне чувства, давно, как мне казалось, утраченные, чувства, которые не может испытывать вампир и которые можно назвать одним словом — совесть! Она обладала непонятной силой, внушая страх и благоговение. Подобно ангелу света, она восседала на троне, отделенная от всего окружающего мира. Откуда бралась сила в столь юном существе?
Хорошо, конечно, говорить о морали, когда испытываешь муки совести, но разве мораль может заменить вкус горячей крови? Мое восхищение Аннабеллой не могло сравниться с увлечением сестрой, страсть к которой становилась все более мучительной. Августа была беременна, и я боялся и надеялся, что ребенок окажется моим. Когда он родился, я задержался на несколько недель Ё Лондоне. Приехав наконец к Августе в деревню, я опасался, что убью своего ребенка Я вошел в дом, обнял Августу; она подвела меня к кроватке дочери. Я склонился над улыбающейся малышкой, но не почувствовал драгоценный аромат. Ребенок заплакал. Я повернулся к Августе с холодной улыбкой на устах.
— Мои поздравления твоему мужу, — произнес я. — Он подарил тебе прекрасного ребенка.
Я вышел, чувствуя одновременно разочарование и облегчение, и скакал галопом до наступления темноты. Когда луна начала бледнеть, ярость моя поутихла.
Затем разочарование прошло, но облегчение не наступало. Мы провели с Августой три недели в доме на берегу моря, в ее обществе я был почти счастлив. Я купался, ел рыбу, пил чистый бренди. В течение этих трех недель я никого не убивал. В конце концов жажда стала нестерпимой, и я вернулся в Лондон, но воспоминания об этих трех неделях навсегда останутся со мной. Мне начало казаться, что самые худшие мои опасения оказались ложными и что я смогу жить с Августой, победить жажду и свое естество вампира.
Но леди Мельбурн только смеялась над этими идеями.
В тот роковой вечер она сказала мне:
— Какая досада, что ребенок Августы не твой.
Я в замешательстве посмотрел на нее и нахмурился. Она заметила мое недовольство.
— Все дело в том, что Августа продолжает оставаться твоей единственной родственницей, — пояснила она.
— Да, это так, — ответил я и снова нахмурился. — Но я не понимаю почему. Ведь я так верил в свою силу воли, верил, что моя любовь победит жажду.
Леди Мельбурн печально покачала головой. Она провела рукой по моим волосам.
— Здесь так уныло и серо, — произнесла она. — Ты стареешь.
Я уставился на нее. Она слабо улыбнулась.
— Вы, конечно, шутите?
Леди Мельбурн широко раскрыла глаза.
— Почему ты так думаешь?
— Я вампир и никогда не постарею.
Сильное потрясение отразилось на ее лице. Она встала и, пошатываясь, подошла к окну. Ее лицо при свете луны, когда она повернулась ко мне, казалось холодным, как зима.
— Он ничего не рассказал тебе, — сказала она.
— Кто?
— Ловлас.
— Так вы знаете его?
— Да, конечно. — Она покачала головой. — Я думала, ты догадался.
— Догадался? — медленно переспросил я.
— Когда ты был с Каролиной, я думала, что ты знаешь. Вот почему я просила пощадить ее. — Леди Мельбурн рассмеялась, боль и раскаяние звучали в ее смехе. — Я увидела в ней себя и Ловласа в тебе. Теперь ты знаешь, почему я так тебя люблю. Я до сих пор, до сих пор… люблю его.
Слезы покатились по ее лицу, словно серебряные капли по мрамору.
— Я никогда не разлюблю его, никогда, никогда. Ты был добр, Байрон, что не одарил Каролину поцелуем смерти. Ее отчаянию придет конец. Моему — никогда.
Я застыл в своем кресле.
— Вы, — произнес я наконец, — вы были той девушкой, которой он писал.
Леди Мельбурн кивнула.
— Да.
— Но ваш возраст… Вы постарели…
Я лишился дара речи. Мне никогда не доводилось видеть такого ужасного взгляда, какой был у леди Мельбурн. Она подошла ко мне и обняла. Каким ледяным было ее прикосновение, какой холодной грудь, губы — как у мертвеца, когда она поцеловала меня в лоб.
— Расскажите мне, — попросил я, глядя на луну. Ее сияние показалось мне зловещим и жестоким. — Расскажите мне все.
— Дорогой Байрон… — Леди Мельбурн погладила свою грудь, осязая тонкие линии морщин, пересекающих ее. — Ты стареешь, — сказала она, — быстрее, чем простой смертный. Твоя красота померкнет и умрет. Если только не…
Не отрывая взгляда от луны, я спокойно спросил:
— Если только не?..
— Разве ты не знаешь?
— Договаривайте. Что значит «если»?
— Если… — Леди Мельбурн погладила меня по голове. — Если только ты не выпьешь золотистой крови, крови твоей сестры. Тогда ты сохранишь свою молодость и никогда не состаришься. Но это обязательно должна быть родственная тебе кровь.
Она низко наклонилась надо мной, коснувшись щекой моей головы, и начала утешать меня. Я долго молчал.
Я встал, подошел к окну и остановился, освещенный лунным светом.
— Что ж, в таком случае, — спокойно сказал я, — у меня должен быть ребенок.
Леди Мельбурн посмотрела на меня. Она слабо улыбнулась.
— Это выход, — произнесла она наконец.
— Значит, вы тоже это сделали.
Леди Мельбурн опустила голову.
— Когда? — спросил я.
— Десять лет назад. Это был мой старший сын.
— Хорошо, — холодно сказал я.
Я обернулся посмотреть на луну, чувствуя, как ее свет будит во мне жестокость.
— Если вы сделали это, я поступлю так же. Я стану жить с Августой, но, чтобы оградить ее от клеветы, я женюсь.
Леди Мельбурн с удивлением посмотрела на меня.
— Женишься?
— Да, конечно. От кого же мне еще заполучить ребенка? Вы ведь не думаете, что я буду плодить ублюдков?
Я зло рассмеялся, чувствуя, как отчаяние и жестокость сжимают мое сердце. Я вырвался из объятий леди Мельбурн.
— Ты куда? — закричала она мне вслед.
Я не ответил и выбежал на улицу. Ужас кричал во мне, как ветер завывает в проводах. Той ночью я убивал с сумасшедшей яростью. Я перегрызал глотки своих жертв зубами, выпивал кровь до последней капли, пьянея от запаха смерти. Когда солнце показалось на востоке, я был розовым от крови и разбухшим, как пиявка. Моя ярость начала стихать. Наступил день. Я прокрался в желанную темноту своей комнаты и притаился в ней, как ночная тень.
В тот же день я написал Аннабелле. Я знал, что наша переписка смягчит ее сердце. Мое первое предложение о женитьбе было отвергнуто, но во второй раз она сразу же приняла его.
Глава 10
Что по-настоящему беспокоит меня, так это его представления, состоящие в том, что он есть зло, должен нести зло, обречен волей какого-то невиданного инстинкта следовать своей судьбе, творя насилие над своими чувствами. Под влиянием этого выдуманного фатализма он наносит самые страшные раны тем, кого любит, страдая от этого не меньше своих жертв. Таким образом, он верит, что миром правит Злой дyx, и в то же время убежден в том, что сам он — падший ангел, хотя и стыдится этого, а после того, как я указала ему на все это, он стал более хитрым и скрытным… Несомненно, я в первую очередь являюсь предметом его раздражения, поскольку он мнит себя (как он выражается) злодеем, женившимся на мне, добавляя, что чем больше я люблю его, тем сильней его проклятье.
Леди Байрон. Заключение для врача о предполагаемом душевном расстройстве ее мужа
— Почему я женился на ней? — Лорд Байрон сделал паузу. — Чтобы стать отцом. Но почему на ней, почему на Аннабелле? Это, должно быть, стало неизбежным
для меня. Именно это предсказывала леди Мельбурн, узнав имя моей избранницы. Она понимала меня, возможно, лучше, чем я сам. Она видела, как жестокие страдания отравляют мою душу, видела, как неистово она пылает глубоко внутри, скрытая ледяной оболочкой, видела, как это опасно.
— Ты ранен, — сказала она мне, — и поэтому обращаешься к Аннабелле в надежде, что она излечит тебя.
Я с презрением рассмеялся, но леди Мельбурн покачала головой.
— Я предупреждала тебя, Байрон. Остерегайся моей племянницы. Она обладает худшими из качеств моральной добродетели — силой и страстностью.
— Хорошо, — ответил я. — Это лишь усилит удовольствие, которое я получу, разрушив их.
Но я лгал самому себе, а леди Мельбурн была более проницательной, чем я мог предположить. Сумятица чувств по отношению к Августе, отвращение к самому себе, страх перед будущим — все это лишило меня покоя. Я не знал никого, кроме Аннабеллы, кто смог бы предложить мне покой, и, хотя это казалось пустой надеждой, у меня не было выбора. Я поехал на север, в дом ее родителей. Я ожидал ее в гостиной, у камина, совершенно один. Аннабелла вошла и остановилась на мгновение в дверях, поеживаясь от холода. Она пристально посмотрела мне в глаза. Тень легла на ее лицо, она увидела холодок смерти во мне — как мрачен я стал, как огрубел со дня нашей последней встречи. Я не отвел взгляда, но это было так ясно и красиво, что внутренне я сжался, как дух зла в присутствии добра. Затем она пересекла комнату, взяла мои руки в свои, и я почувствовал ее растущее сострадание ко мне, смешанное с любовью. Я склонил голову и нежно поцеловал ее. Все мои надежды сразу ожили, я не мог больше пренебрегать ими. И я решил, что обязательно женюсь на ней.
Я провел с Аннабеллой две недели и ни разу не пил крови, чувствуя себя все более истощенным. Дул ледяной ветер, еда была ужасной, родители холодны и скучны. «К черту, — думал я про себя, — я вампир, повелитель Смерти, и не обязан мириться с тоской». Когда наконец я сбежал на юг, испытывая жажду крови, я смог почти полностью забыть о моем желании иметь ребенка. Дата свадьбы приближалась, затем миновала, я продолжал беспечно проводить врел^я в лондонских притонах, и, когда я наконец их оставил, мои планы, связанные с женитьбой, казались столь же далекими, как и раньше. Каждый день я проходил по дороге, ведущей к дому Августы, меня тянуло туда; возвратившись домой, я написал письмо, отменяющее наше свидание. Я не смог быть этой ночью с Августой, она была со своим мужем; мои муки, связанные с разочарованием, были достаточно сильны, чтобы убедить меня порвать письмо. Вспомнив, что я собирался жениться, я выехал наконец из Лондона, встретился по дороге с Хобхаузом и затем медленно отправился на север к своей беспокоящейся невесте. Был конец зимы. Снег толстым слоем покрывал землю, весь мир, казалось, замерз. Моя душа тоже обратилась в лед.
Мы прибыли к месту назначения поздно вечером Я остановился у ворот. Впереди брезжил мерцающий свет. В противоположность ему темнота и искрящийся снег знаменовали собой свободу. Я страстно желал убежать, как волге, дикий и свирепый. Я хотел убивать. Как красиво бы выглядела кровь, разбрызганная на снегу. Но со мной был Хобхауз, и мне было не убежать. Аннабелла встретила меня с явным облегчением.
Мы поженились в гостиной дома ее родителей. Я отказался идти в церковь, этого оказалось достаточно для того, чтобы ее мать в тот момент, когда мы произносили клятвы, впала в истерику при мысли о том, что ее дочь может выйти замуж. Но сама Аннабелла, когда я надевал на ее палец кольцо, пристально глядела мне в глаза своим спокойным, печальным и величественным взглядом, и я почувствовал, как утихает мое беспокойство. Приема не было, вместо этого новая леди Байрон в один миг переменила свое платье на дорожный костюм, мы сели в экипаж и отправились в зимнее путешествие в отдаленный деревенский особняк под названием Холнеби-холл, находившийся в сорока милях от дома родителей. Там мы должны были провести наш медовый месяц.
По дороге я изучал мою жену. Она спокойно улыбалась в ответ. Внезапно я возненавидел ее. Я отвел взгляд, глядя на заснеженные поля. Я думал о Гайдэ, о голубом небе, жгучих удовольствиях, я думал о крови. Я мельком взглянул на Аннабеллу. И вдруг рассмеялся. Неужели эта девчонка может сковать меня, создание свободное и опасное, цепью слезливых обетов?
— Я все же буду с тобой, — прошептал я.
Аннабелла повернулась ко мне, пораженная. Я холодно улыбнулся и снова отвернулся к окну, рассматривая улицы, по которым ехал экипаж. Мы были в Дареме, вид большого числа людей разжигал мою жажду. На башне собора звонили колокола.
— На наше счастье, надо полагать? — сказал я с насмешкой.
Аннабелла молча посмотрела на меня, ее лицо было бледным. Я покачал головой.
— Это должно привести к разводу, — прошипел я.
Я подумал о судьбе, уготовленной ее ребенку.
— Тебе следовало выйти за меня замуж, когда я сделал тебе первое предложение.
Перед тем как я встретил Августу. Перед тем как я узнал весь ужас моей судьбы, которую теперь должны были разделить мы оба.
Внезапно я почувствовал ужасную вину. Аннабелла все еще не отвечала мне, но я ощутил боль, которую она испытывала. Я никогда не встречал такой боли среди смертных. В ней было так много и одновременно так мало от ребенка, и все же в ее глазах притаилась бесконечная глубина. Наконец мы прибыли в Холнеби-холл. Когда мы вышли из экипажа, она сжала мою руку, и я улыбнулся ей в ответ. Мы поцеловались. Позднее, перед ужином, я овладел ею на софе. Ее глаза все еще светились, когда она взглянула на меня, но теперь в них была страсть, а не боль. Было приятно доставлять ей удовольствие, так же приятно, как чувствовать свою власть над ней, чувствовать, как ее тело подчиняется мне, — тело, но не разум. За ужином ее лицо пылало от счастья. Я желал знать, какое соединение, возможно, произошло в ее чреве, какая искра чего-то нового зародилась там.
Эта мысль воодушевила меня. Темнота, казалось, взывала к моей жажде, и я сказал Аннабелле, что не хочу спать с ней. Но боль снова зажглась в ее глазах, она так нежно прикоснулась к моей руке, что я не смог отказать ей. Эту ночь я провел с ней, под малиновым балдахином нашего супружеского ложа. Впервые за долгое время я заснул Мне приснился ужасный сон. Я был в лаборатории. Беременная женщина лежала на каменной плите. Она была мертва. Фигура в черном склонилась над разрезанным пустым животом женщины. Я подошел ближе. Без сомнения, это был паша. Теперь я мог видеть, что он достает ребенка, вырезая мертвый плод из утробы матери. К голове этого крошечного существа были подведены провода. Они искрились, а плод двигался, открывал рот и кричал. Паша медленно согнулся над ним.
— Нет! — закричал я.
Паша прокусил его; я видел, как ребенок коченеет, затем тяжело падает, и кровь начинает сначала медленно, потом мощным потоком выходить из него, разливаясь по комнате и затопляя ее. Я дотронулся до плеча паши, заставил его повернуться и заглянул ему в лицо. Но это не было лицо паши. Это было мое лицо.
Я вскрикнул и открыл глаза. Свет огня пробивался сквозь малиновый полог.
— Я, наверное, в аду! — пробормотал я.
Аннабелла зашевелилась и стала рукой искать меня, но я отстранился. Я поднялся с кровати и сел, с изумлением уставившись на вересковую пустошь, покрытую снегом. Я поднялся и покинул свое тело, чтобы побродить в ветрах этой морозной ночи. Я встретил одинокого пастуха, блуждавшего в поисках овцы. Ему было не суждено найти ее. Кровь несчастного пролилась на снег, окрасив его в рубиновый цвет. Напившись вволю, я бросил жертву и вернулся в свое тело и в свою кровать. Аннабелла, почувствовав мое страдание, потянулась, чтобы коснуться меня, и положила голову мне на грудь. Но ее любовь не смогла усмирить мой дух, а лишь еще более растревожила его.
— Дорогая Белл, — сказал я, поглаживая ее волосы, — тебе следует найти более мягкую подушку, чем мое сердце.
На следующее утро я оставался в кровати до двенадцати. Когда я наконец поднялся, то нашел свою жену в библиотеке. Она посмотрела на меня. Я увидел слезы в ее глазах и подошел вплотную к ней, чувствуя ее тело рядом с собой. Я вдохнул ее запах и нахмурился, затем погладил ее по животу и опять нахмурился. Я бы не сказал, что она была беременна В ее утробе не шевелилось живое существо, не жил ребенок. Я вздохнул, Я прильнул к своей жене, словно желая защитить ее от собственной судьбы.
— Поверь мне, — прошептал я скорее самому себе. — Этот брак — самая чудовищная ошибка моей жизни.
Белл пристально посмотрела в мои глаза.
— Пожалуйста, — произнесла она нежным, исполненным отчаяния голосом. — Какую боль ты скрываешь от меня?
Я покачал головой.
— Я негодяй, — прошептал я, — я могу убедить тебя в этом в трех словах.
Белл не говорила ничего. Она вновь прижалась щекой к моей груди.
— Твоя сестра знает об этом? — спросила она наконец.
Я отошел назад. Меня била дрожь.
— Ради Бога, — прошептал я, — не спрашивай о ней.
Белл продолжала пристально смотреть на меня. Ее глаза, казалось, проникали в самую глубину моей души.
— Это не секрет, — сказала она. — Не имеет значения, насколько ужасно то, что разрушит нашу любовь.
Она улыбнулась тихой улыбкой сожаления и раздумья, ее лицо приняло обычное спокойное выражение, дышащее любовью. Я задыхался от волнения и отвернулся от нее.
Белл не последовала за мной, все последующие недели она не упоминала о тайне, которую, как она думала, я хранил в себе. Но я, как мужчина, которому нанесена рана, постоянно бередил ее, демонстрируя свою боль Белл, чтобы она могла видеть мои страдания; я приходил в ярость от ее спокойствия, часто впадал в неистовство. В таком настроении я ненавидел свою жену. Я постоянно намекал на несчастье, ожидающее нас, словно мое страдание было противоядием от женатого положения; слово «муж», а не «вампир» казалось мне более пугающим, и я вновь почти влюбился в свой рок. Но вскоре вернулось отвращение, а с ним и вина. Но любовь Аннабеллы не прошла В это время, когда я мог полностью доверять себе в отношении к ней, я был почти счастлив, и мои сны об искуплении постоянно возвращались ко мне. Но мой разум был смущен, и чувства менялись, как языки пламени в огне. Это был нелегкий медовый месяц.
Все это время моя жажда возрастала. Белл постоянно находилась рядом, и это сводило меня с ума. Мы вернулись в дом ее родителей — к плохой еде, к скучным разговорам. Я жаждал порока. Когда вечером тесть рассказал в седьмой раз свою историю, мое терпение лопнуло. Я объявил, что немедленно уезжаю в Аондон. Белл намеревалась поехать со мной. Я отказался. Разразился ужасный скандал. Новая черта проявилась в Белл — педантичность ее натуры, достойное качество, от которого мне еще не приходилось страдать. Она вновь повторила свои аргументы перед родителями, и мне не оставалось ничего другого, как смириться.
Я решил, что поеду с женой, но ярость моя к ней теперь была ледяной и жестокой.
— Мы посетим Августу, — внезапно объявил я, — у нас будет для этого время на обратном пути в Лондон.
Белл не была взволнована. Напротив, она казалась довольной.
— Да, я предвкушаю встречу с твоей сестрой, — сказала она, помолчала и слегка улыбнулась, — о которой я так много слышала.
Что ж, ей следовало знать намного больше, намного. После трех месяцев вдали от Августы мой голод к ней стал отчаянным, и моя страсть закружилась в вихре противоречивых желаний.
Наш экипаж подъехал к ее дому. Августа спустилась по лестнице, чтобы встретить нас. Сперва она поприветствовала Белл, затем повернулась ко мне. Ее щека слегка коснулась моей, и в этот момент словно искра пронзила меня до самой глубины души.
— Сегодня ночью, — прошептал я, но Августа лишь возмущенно отвернулась.
Белл остановилась, ожидая меня, чтобы взять за руку. Я прошел мимо, даже не взглянув на нее.
Этой ночью Белл рано пошла спать.
— Ты идешь, Байрон? — спросила она.
Я холодно улыбнулся, затем мельком взглянул на Августу.
— Мы обойдемся здесь без тебя, моя прелестница, — усмехнулся я, беря Августу за руку.
Лицо Белл побледнело, она изумленно взглянула на меня, но после молчания, длившегося несколько минут, повернулась и вышла, не сказав ни слова.
Когда она ушла, Августа поднялась. Она была рассержена и расстроена.
— Как ты можешь так обращаться со своей женой? Байрон, как ты можешь?
Она отвергла мои просьбы спать с ней.
— Раньше в этом не было ничего плохого, Байрон, но не сейчас, Байрон, не сейчас. Иди к Аннабелле. Будь с ней добр. Успокой ее.
Она выпроводила меня, я видел, что она плакала, когда выбежала из комнаты.
Я побрел в сад. Я ненавидел Августу, но вместе с тем любил ее, ее и Белл, я безумно любил их обеих. Именно их отчаянная боль больше всего возбуждала меня, блеск слез в их глазах, их любовь, борющаяся и смешивающаяся со страхом. Я поднял лицо к сияющей луне и почувствовл, что ее свет разжигает во мне ярость. Я бросил взгляд на комнату, где спала Августа. Ее запах донесся до меня с дуновением ветерка. Внезапно ногтями я расцарапал свое запястье. Закапала кровь. Я стал пить ее. Легкость, словно ртуть, струилась по моим венам. Я поднялся, и мои желания понесли меня по ветру, я плавно вошел в сны Августы. Ее муж храпел рядом, я возлег с ней, с моей милой сестричкой, и ощутил теплоту ее тела, ее кровь, кровь моей крови, дышащей вместе с моей, движущейся потоком. Облако сошло с луны, ее свет лег на кровать.
— Августа, — прошептал я, когда ее горла коснулся серебряный свет.
Я склонил голову и слегка сжал зубы. Как кожица персика, ее горло стало поддаваться. Я продолжал надавливать. Кожа по-прежнему поддавалась. Как легко было прокусить ее! Я ощутил вкус спелости, золотистая жидкость поднялась, чтобы встретить прикосновение моих губ, наполняя меня молодостью, вечной молодостью. Я напрягся, затем откинулся назад. Августа задыхалась, хватаясь за простыни, я двигался вместе с ней, наконец она затихла в моих руках. Я пристально всматривался в ее лицо, угадывая в нем собственные черты. Несколько часов я пролежал с ней. Уже стало раздаваться первое пение полусонных птиц. Как звезда, я блекнул с приходом света.
Белл не спала, когда я вошел к ней. Ее лицо было изможденным, а глаза полны слез.
— Где ты был? — спросила она.
Я покачал головой.
— Тебе не следует это знать.
Белл потянулась ко мне. Я вздрогнул от ее прикосновения. Она задрожала от холода.
— Ты ненавидишь меня? — спросила она наконец.
Я пристально посмотрел на нее. Вина, досада, сожаление, желание — все поднялось во мне, борясь за превосходство.
— Думаю, я люблю тебя, — сказал я, — но боюсь, дорогая моя Белл, что этого недостаточно.
Она заглянула в мои глаза, и, как всегда, я почувствовал, что она исцеляет меня и успокаивает мою ярость. Она нежно поцеловала меня в губы.
— Если любви недостаточно, — сказала она, — тогда что нам заменит ее?
Я покачал головой. Я обнял ее. В оставшуюся часть ночи ее вопрос терзал меня. Если не любовь, то что же? Я не знал. Не знал.
Ибо мы оба, Аннабелла и я, были связаны цепью моей судьбы. Любовь толкала нас по одной дороге, моя жажда — по другой. Я был напуган тем, что чуть не убил Августу, так легко это оказалось сделать; и я испытывал новый приступ отчаяния от невозможности спасти ее от себя и дать ей ребенка. Ужас сложившейся ситуации надолго поразил меня. Я не мог не позволить Аннабелле зачать ребенка и в то же самое время не мог позволить, чтобы она забеременела. Августа тоже продолжала мучить меня, и усилия, прилагаемые мной, чтобы уберечь Августу и чрево Аннабеллы, доводили меня до неистовства, граничившего с безумием. Я не мог больше спать с Белл. Вместо этого я бродил по полям и дорогам, утоляя свою жажду, давая волю бешенству. Но свежая кровь едва ли теперь могла успокоить мое бешенство, в течение часа моя потребность в крови становилась такой же отчаянной, как и раньше. Однажды ночью, когда я вернулся в дом Августы, ее запах опять неудержимо повлек меня к ней, и все, что я мог сделать, это, стоя у ее кровати, пытаться не впиться зубами в ее обнаженную шею. Отчаянным усилием воли я сдерживал себя и изнемогал в ритме ее дыхания. Я шагал по саду взад и вперед, и тогда-то, впервые за неделю, вернулся в свою постель.
Белл безмолвно подняла руки, приветствуя меня. Моя кровь была подобна яду. Белл вздрогнула и издала отчаянный животный крик.
— Твои глаза полны дьявольского огня, — сказала она, тяжело дыша.
Я улыбнулся; казалось, что огонь бурлит и в ее глазах, ее щеки пылали, губы были ярко красными. Внезапно она зарычала и потянулась к моим губам, ее невинность словно бы улетучилась. В этой шлюхе не было ничего от прежней Аннабеллы. Она начала кричать, корчась в экстазе, когда моя сперма проникла в нее, неся крошечное, пагубное семя жизни. Все ее тело выгибалось, она подняла руки, гладя пальцами мое лицо; затем она заплакала.
— Ты зачала, — прошептал я. — Наш ребенок растет внутри тебя.
Аннабелла посмотрела на меня, потом ее лицо исказилось и она отвела взгляд. Я оставил ее. Она лежала, бесшумно всхлипывая.
Плодами этой ночи были одновременно и жизнь, и смерть. Да, ребенок был уже там, в ее чреве, я прильнул щекой к животу Аннабеллы и уловил легкий драгоценный аромат. Но в этом аромате был привкус смерти, и смерть была в самой Аннабелле. Что-то умерло в ней в эту ночь, ее добродетель сгорела дотла. Она стала более холодной и грубой; вечность, светившаяся в ее глазах, потускнела, страстность превратилась в самодовольство. Она все еще любила меня — конечно любила, — но не так, как Каро, для которой это стало пыткой и гибелью. Казалось, ни для кого из нас теперь не было надежды искупления, с переменой в Белл я почувствовал, что умерла моя последняя надежда.
Теперь началось настоящее мучение. Мы оставили Августу и отправились в Лондон. Я снял дом на одной из фешенебельных улиц города — Пиккадилли, 13. Место, приносящее несчастье? Нет, мы сами принесли несчастье туда. Признаки беременности Белл были очевидными. Я ощущал запах ребенка в ее рвоте по утрам или в поте, который проступал на ее вздувшемся животе. Я едва мог выносить свою причастность к этому запаху. Итак, лорд и леди.
Байрон постоянно появлялись на людях под руку — обычная замужняя пара, преданный муж и его беременная жена. Но Белл, по крайней мере, видя желание на моем лице, была достаточно умна, чтобы понимать, что оно не относится к ней.
— Ты смотришь на меня с таким вожделением, — сказала она однажды ночью, — но в твоих глазах нет любви.
Я улыбнулся и внимательно посмотрел на ее живот, пытаясь представить под одеждой, в глубине тела, золотой спеющий плод.
Белл посмотрела на меня и нахмурилась.
— Твое лицо, Байрон — оно ставит меня в тупик.
Я поднял глаза.
— Правда? — спросил я.
Белл кивнула. Она вновь изучающе посмотрела на меня.
— Как может столь красивое лицо быть таким злым и грубым? Ты смотришь на меня или, скорее… — она обхватила свой живот, — ты смотришь на это так же, как ты обычно смотрел на Августу. Я помню, какими глазами ты провожал ее.
Мое лицо было бесстрастно.
— Но почему это озадачивает тебя, Белл?
— Это приводит меня в замешательство, — сказала она, — потому что пугает меня.
Она прищурилась. Ее глаза сверкнули холодно и сурово.
— Я боюсь, Байрон, я тревожусь о том, что ты сделаешь с моим ребенком.
— С нашим ребенком? — рассмеялся я. — Но что я могу с ним сделать?
Мое лицо вдруг стало холодным.
— Или ты думаешь, что я могу задушить его при рождении и выпить его кровь?
Белл внимательно посмотрела на меня. Ее лицо казалось таким искаженным., каким я раньше никогда его не видел. Она поднялась, обхватала живот и, не говоря ни слова, вышла из комнаты.
На следующей неделе Августа приехала к нам погостить. Она получила приглашение Аннабеллы. Это меня смутило. Я желал знать, догадывается ли Белл. Конечно, запах крови Августы привел меня в замешательство: я вновь стал впадать в дикое состояние; раздираемый желаниями, я настоял на том, чтобы она уехала. На все это Аннабелла смотрела холодными подозрительными глазами — она обхватывала руками свой живот, словно желая защитить его от меня. С этого времени я старался быть осторожным. Как предупреждала леди Мельбурн: «Не лишись своей жены до того момента, как получишь ребенка!» Я стал ночами оставлять Белл одну. Я ужинал, выпивал, посещал театр — и затем, полный черной и яростной жестокости, отправлялся на поиски жертв в самые скверные городские притоны. Я поглощал кровь до тех пор, пока моя кожа не становилась розовой и гладкой, пока полностью не насыщался. Только тогда я возвращался на Пиккадилли. Я ложился к Белл в кровать, обнимал ее, чувствуя вздувшийся овал ее живота. Мое ухо улавливало неясное, но настойчивое биение крохотного сердца. Злясь на самого себя, я сжимал живот моей жены; казалось, в нем что-то шевелится и журчит от моего прикосновения. Я представлял, что достаточно лишь надавить — и кожа и тело расступятся как вода. Я рисовал плод, липкий и голубой, с его невыносимо тонкой сетью вен и артерий, ожидающий моего прикосновения, ожидающий, когда я попробую его кровь. Я прокусывал его осторожно и сосал кровь, словно из губки. Эти страстные желания становились такими сильными, что меня начинало трясти. Я представлял, как убиваю свою жену, которая лежит здесь, разрезаю ее живот, отделяя мышцы и органы, и там я нахожу — свернувшегося в клубок и ожидающего — моего ребенка, мое создание. Я часто вспоминал свои сны о замке паши. Я тосковал по его ножу и операционному столу.
Я пробуждался от этих снов, содрогаясь от отвращения. Я пробовал забывать их, не придавать им значения. Но все было напрасно. Ничто не могло избавить меня от этих фантазий, почти реальных, ничто, ведь они были частью того яда, который находился в моей крови, — взрывная смесь ощущений и мыслей. Я не мог убежать от подобной мерзости, как не мог убежать от самого себя. Паша был мертв, но как сифилис живет в зараженной проститутке, так и его дьявольская жизнь продолжалась, пожирая мои вены и все, что я любил.
— Как я желаю, чтобы ребенок родился мертвым! — вскрикивал я, когда его кровь с золотистым ароматом стучала в моих ушах и мои фантазии, казалось, растворяли меня в себе.
Белл смотрела на меня с ужасом. Я старался сам себя успокоить.
— О Белл, — всхлипывал я, — дорогая Белл…
Я гладил ее волосы. Испуганная, она отступала и затем нерешительно тянулась к моей руке. Иногда она брала мою руку и сжимала ею свой живот. Она поднимала глаза и недоверчиво улыбалась, стараясь найти в моем лице отца ее ребенка, но никогда не находила его. Она отворачивалась с потухшими глазами.
Однажды ночью, когда уже подходил срок, она содрогнулась от моего взгляда и начала тяжело дышать.
— Белл, — сказал я, опускаясь рядом с ней на колени, — что с тобой? Белл!
Я попытался обнять ее, но она оттолкнула меня. Она продолжала тяжело дышать, и запах моего ребенка внезапным золотистым приливом вскружил мне голову и наполнил комнату. Белл застонала. Я потянулся к ее руке, но она оттолкнула меня. Я поднялся и позвал слуг. Войдя, они отпрянули от меня, настолько жестокой и холодной была темнота моих глаз.
Белл отнесли в спальню и уложили в постель. Я остался внизу. Запах крови моего ребенка тяжело висел в воздухе. За ночь и утро этот запах стал еще более прекрасным.
В час пополудни ко мне спустилась повитуха.
— Он умер? — спросил я. — Мой ребенок?
Я рассмеялся, увидев шок на ее лице. Я не нуждался в ответе. Я должен был только вдохнуть запах этой живительной крови. Дом был полон чудесных цветов. Шатаясь, я поднялся по лестнице, подобно Еве, приближающейся к запретному плоду. Я весь дрожал, задыхался, ощущал слабость от глубокой экстатической жажды. Я вошел в комнату, в которой рожала моя жена.
Няня преградила мне дорогу.
— Милорд, — сказала она, держа в руках маленький белый сверток, — наши поздравления! У вас родилась дочь.
Я опустил глаза на сверток.
— Да, — произнес я, задыхаясь.
Запах крови, казалось, жег мне глаза. Я едва ли мог разглядеть своего ребенка, а когда увидел его, то смог уловить лишь золотистый туман, исходящий от него.
— Да, — вновь выдохнул я.
Я заморгал и только спустя какое-то время увидел лицо своей дочери.
— О Боже, — прошептал я, — о Боже. — Я слабо улыбнулся. — Какое орудие пытки приобрел я с твоим появлением на свет!
Няня отпрянула от меня. Я смотрел, как она положила моего ребенка обратно в люльку.
— Убирайтесь! — выкрикнул вдруг я, обводя взглядом комнату. — Убирайтесь!
Слуги в испуге уставились на меня, затем склонили головы и выбежали вон. Я подошел к моей дочери. Она, казалось, была окружена ореолом огня. Я склонился над ней. В этот момент все чувства, мысли, ощущения покинули меня, растворившись в сверкающем тумане радости. Богатство крови моего ребенка, казалось, подступало к моим губам, искрясь золотом, как хвост кометы. Я поцеловал ее, затем взял на руки и вновь склонился над ней. Нежно я поднес свои губы к ее горлу.
— Байрон!
Я остановился и медленно обернулся. Белл усиленно пыталась встать.
— Байрон!
Ее голос был хриплым и отчаянным. Она скатилась с кровати, пытаясь подползти ко мне.
Я вновь взглянул на ребенка. Девочка ручками касалась моего лица. Какими крохотными были ее пальчики, какими великолепными были ее ноготки. Я стал рассматривать их, склонив голову еще ниже.
— Отдай ее мне.
Я повернулся к Белл. Она трепетала от волнения и, почти падая, протягивала ко мне руки.
— Я так долго ждал ее, — мягко сказал я.
— Да, — задыхаясь, ответила она, — да, но теперь она моя, я ее мать, прошу тебя, Байрон, — она тяжело дышала, — отдай ее мне.
Я, не мигая, смотрел на нее. Белл, выдержала мой взгляд. Я взглянул на своего ребенка. Она была такой красивой, мое создание. Она вновь подняла свою крошечную ручку. Забыв о себе, я улыбнулся ей в ответ.
— Прошу тебя, — сказала Белл. — Пожалуйста.
Я отвернулся и подошел к окну, наблюдая за холодным лондонским небом. Как тепло и уютно чувствовал себя ребенок на моих руках. Я ощутил чье-то прикосновение и обернулся. Выражение лица Белл было ужасным.
Я отвел взгляд и опять посмотрел на небо. Тьма сгущалась на востоке, и облака казались предвестниками ночи. Они надвигались на беспорядочный, суматошный Лондон. Я ощутил озноб от мысли., как огромен, как бесконечен мир. Все это — даже больше, чем это, — показывал мне паша в полетах своих снов, но тогда я не понял его, я его не понял. Я закрыл глаза, меня била дрожь, я ощутил неизмеримую природу вещей. Что значила человеческая любовь в этой вселенной? Лишь пузырек в грозном разрушительном потоке вечности. Искра, вспыхивающая на короткое мгновение в темноте вселенской ночи, через миг гаснет, и наступает пустота.
— Ты должна запомнить этот миг, — сказал я ей, не оборачиваясь. — Ты должна оставить меня, Белл. Не имеет значения то, что я буду говорить, не имеет значения, как резко я обращусь к тебе, — ты должна уйти!
Я обернулся и взглянул на нее. Глаза Белл, такие холодные недавно, теперь были полны слез. Она потянулась, пытаясь погладить мне щеки, но я покачал головой.
— Мы назовем ее Ада, — сказал я, передавая дочь в ее руки.
Я повернулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты.
— Ты сумасшедший, — сказала леди Мельбурн, когда я рассказал ей, что сделал. — Да, сумасшедший. Ты женился на девушке, она родила тебе ребенка. И что же теперь? Почему?
— Потому что я не могу это сделать.
— Ты должен. Ты должен убить ее. Если не Аду, так Августу.
Я вздрогнул и отвернулся.
— Не думаю, — сказал я. — Удовольствие всегда приносит большее удовольствие, когда его предвосхищаешь. Я буду стараться предвосхитить его.
— Байрон, — позвала меня леди Мельбурн. Ее бледное лицо выражало сожаление и презрение. — Все это время ты продолжаешь стареть. Посмотри на меня. Я была глупа, и все же я сдалась. Мы все сдаемся. Перебори себя. Выпей кровь своей дочери, пока ты еще молод. Ты обязан сделать это для нас.
Я нахмурился.
— Обязан? — спросил я. — Перед кем я в долгу?
Леди Мельбурн слегка приподняла бровь.
— Ты обязан всему нашему роду, — произнесла она.
— Почему?
— Ты убийца Вахель-паши.
Я взглянул на нее с удивлением.
— Я никогда не говорил тебе об этом, — сказал я.
— Мы знаем.
— Но как?
— Паша был носителем необычайной силы. Среди вампиров — повелителей Смерти он был почти что королем. Неужели ты не знал этого? — Леди Мельбурн помолчала. — Мы все ощутили его уход.
Я нахмурился. Рожденный из мрака моего воображения призрак паши внезапно предстал передо мной, бледный и ужасный, с лицом, искаженным невыносимой болью. Я тряхнул головой, и фантом исчез. Леди Мельбурн смотрела на меня с легкой улыбкой на бескровных губах.
— Теперь он мертв, — прошептала она мне на ухо, — а ты — его наследник.
Я холодно посмотрел на нее.
— Наследник? — повторил я и рассмеялся в ответ. — Это и глупо, и смешно. Ты забываешь, что я убил его.
— Нет, — сказала леди Мельбурн, — я не забываю.
— Тогда что ты имеешь в виду?
— А то, Байрон, — леди Мельбурн снова улыбнулась, — что он должен был выбрать тебя.
— Выбрать? Меня? Для чего?
Леди Мельбурн замолчала, и на ее лицо вернулось выражение ледяного спокойствия.
— Чтобы постигнуть тайны нашей породы, — сказала она. — Чтобы найти ответ перед лицом вечности.
— О, да, — рассмеялся я. — Всего лишь.
Я отвернулся, но леди Мельбурн взяла мою руку.
— Пожалуйста, Байрон, — сказала она. — Убей своего ребенка, выпей его кровь. Тебе понадобится сила.
— Для чего? Чтоб стать таким, как паша? Нет.
— Пожалуйста, Байрон, я…
— Нет!
Леди Мельбурн содрогнулась под моим взглядом. Она опустила глаза и надолго замолчала.
— Ты так молод, — произнесла она. — Но уже понимаешь, какой силой ты обладаешь.
Я покачал головой и обнял леди Мельбурн.
— Я не хочу этой власти, — мягко ответил я.
— Потому что ты уже имеешь ее. — Леди Мельбурн подняла глаза. — Что же ты еще желаешь?
— Покоя. Мира. Вновь стать смертным.
Леди Мельбурн усмехнулась.
— Несбыточные мечты.
— Да. — Я слегка улыбнулся. — И все же, пока живы Ада и Августа, тогда, возможно… — Я помолчал. — Тогда, возможно, какая-то часть меня все еще смертна.
Леди Мельбурн расхохоталась. Но я заставил ее замолчать, крепко сжав в своих руках; она заглянула в глубину моих глаз, как попавшая в ловушку жертва.
— Ты просишь меня, — произнес я медленно, — измерить глубину тайны нашей породы. Но нам, напротив, не следует знать эту тайну, нам следует бежать от того, что мы собой представляем. У вампиров есть сила, власть, знание, вечная жизнь, но все это — ничто, потому что мы постоянно жаждем крови. Ибо пока мы испытываем эту жажду, на нас будут охотиться и относиться к нам с отвращением. И все же, зная это, я чувствую, как день ото дня растет моя жажда, становясь более жестокой. И скоро кровь станет единственной вещью, способной доставить мне удовольствие. И все другие радости жизни будут услаждать мой вкус, как зола во рту. Это моя судьба, наша судьба, леди Мельбурн, не так ли?
Она не ответила. В ее зрачках я увидел свое лицо, горячее и резкое. Страсти, раздирающие мою душу, отражались в нем, как тени от облаков.
— Я найду спасение, — сказал я наконец. — Я буду искать его, если даже на это потребуется вечность. — Я помолчал. — Путь будет очень тяжелым, и паломничество — крайне мучительным, ведь я потерял большую часть человеческого в себе. Я не понимал этого раньше, но теперь осознал. Да, — я кивнул, — теперь я это понимаю.
Мой голос затих, и я уставился в темноту. Мне привиделась чья-то неясная фигура. В течение нескольких секунд передо мной маячило лицо паши. Я мигнул — и оно исчезло. Я обернулся к леди Мельбурн.
— Я уеду из Англии, — сказал я ей. — Я оставлю свою сестру и дочь и не стану пить их кровь.
Я отвернулся. Леди Мельбурн не пыталась остановить меня. Я пересек комнату и вышел в холл, звук моих шагов эхом раздавался в моей голове. Там я увидел Каролину Лэм. Она ужасно похудела, и, когда я проходил мимо, мне показалось, что ее улыбка напоминает оскал. Она поднялась и последовала за мной.
— Я слышала, вы уезжаете из Англии, — сказала она.
Я не ответил. Она взяла меня за руку.
— Что вы скажете своей жене? — спросила она. — Вампир…
Я резко обернулся.
— Подслушиваешь в замочную скважину, Каро? — спросил я. — Это может быть опасным.
Каро рассмеялась.
— Да, быть может, — сказала она.
Выражение ее лица было резким и странным, и, хотя Каро в упор глядела на меня, она не смогла вынести ярости, которая стояла в моих глазах. Она отступила, а я направился к выходу.
— Возьми меня с собой! — внезапно выкрикнула Каро. — Я буду стелить постели для твоих любовниц! Буду бродить по улицам и добывать жертвы для тебя! Прошу тебя, Байрон, пожалуйста!
Она побежала за мной и бросилась к ногам, схватила меня за руку и начала целовать ее.
— Ты падший, мой Байрон, но все же ты ангел. Возьми меня с собой. Пообещай, поклянись.
Все ее тело начало трястись как в лихорадке.
— Сердце вампира тверже железа, — пробормотала она, — оно размягчается на огне вожделения, но, остывая, становится холодным и твердым.
Она заглянула мне в лицо и дико расхохоталась.
— Да, холодным и твердым. Холодным, как смерть!
Я оттолкнул ее.
— Ты не осмелишься оставить меня! — сказала Каро; в ее голосе не было уверенности. — Такая любовь, такая ненависть, ты не осмелишься!
Я отвернулся и пошел прочь.
— Я прокляну тебя! Прокляну, прокляну, прокляну!
Голос Каро задрожал и затих. Я остановился и посмотрел на нее. Все еще стоя на коленях, Каро содрогалась всем телом, затем припадок прошел, и она смахнула слезы с лица.
— Я прокляну тебя, — повторила она, но уже тише. — Мой милый, моя любовь, я… — Она сделала паузу. — Спасу тебя.
Три недели спустя она посетила Белл, я не знал об этом. Конечно, я не смог уехать. Августа осталась с нами, но кровь Ады — о, кровь Ады была слаще ее крови! Поэтому я остался, и искушение во мне росло. Я знал, что леди Мельбурн была права и я уступлю. Однажды ночью, стоя у кроватки дочери, я чуть было не испробовал ее крови, но Белл помешала мне. Она посмотрела на меня странным взглядом и прижала ребенка к груди. Она сказала мне, что хочет покинуть Лондон, вернуться в деревню и остаться, возможно, на какое-то время в доме своих родителей. Я рассеянно кивнул. И вскоре после этого она уехала. Я сказал ей, что присоединюсь к ней. У экипажа, который должен был увезти ее, она поднесла ко мне дочь, чтобы я мог поцеловать ее. Затем она поцеловала меня, ее поцелуй был таким страстным и долгим, что мне показалось, что она никогда не уедет. Наконец она отпустила меня.
— До свидания, Байрон, — сказала она и села в экипаж; я проводил его взглядом, пока он ехал по Пиккадилли.
Я никогда не должен видеть ни ее, ни ребенка.
Несколько недель спустя пришло письмо с требованием о разводе. Тем же утром меня навестил Хобхауз.
— Я полагал, ты знаешь, — сказал он. — Самые невероятные слухи ходят по городу. Говорят, что твоя жена хочет с тобой развестись, и даже хуже.
Я швырнул Хобби письмо. Читая его, он становился все более мрачным. Потом он отдал письмо и взглянул на меня.
— Ты должен уехать за границу, обязательно, — посоветовал он.
— Но зачем? — спросил я. — Неужели эти слухи настолько ужасны?
Хобби помолчал, затем кивнул.
— Скажи мне.
Хобхауз улыбнулся.
— Ну, ты знаешь, — пробормотал он, взмахнув рукой. — Супружеская измена, содомия, инцест…
— Что еще?
Хобхауз пристально посмотрел на меня. Он налил вина и протянул мне бокал.
— Эта сука, Каролина Лэм, — признался он наконец, — она всем рассказала… ну, ты сам можешь догадаться…
Я слегка улыбнулся, выпил бокал и затем с яростью разбил его о пол. Хобхауз покачал головой.
— Ты должен уехать за границу, — повторил он. — Пожалуйста, старина, у тебя действительно нет выхода.
Конечно, выхода у меня не было. И все же я не смогу перенести эту разлуку. Чем больше меня проклинали в газетах или освистывали на улицах, тем с большим отчаянием я желал вернуть себе смертность, чтобы отречься от того, что знал обо мне весь свет. Но моя жизнь стала объектом пристального внимания. Каро слишком хорошо сделала свое дело. Однажды ночью я отправился на бал с Августой. Когда мы вошли в зал, собравшиеся, казалось, притихли. Все глаза были обращены на меня, а затем все отвернулись. Ни один человек не подошел к нам. Никто не заговорил с нами. Но я слышал лишь одно слово, шепотом произносимое за нашими спинами: «Вампир». Этой ночью мне казалось, что я слышу его повсюду.
Тогда я понял, что мое изгнание неизбежно. Спустя несколько дней я отправил Августу домой. Несмотря ни на что, она оставалась со мной, и ее любовь никогда не ослабевала. Без нее моя жизнь была бы одинокой. И все же я почувствовал облегчение, когда она уехала, так как теперь был уверен, что никогда не буду пить ее кровь. Я вспомнил о своем желании отправиться в путешествие. Мое отчаяние соединилось со страстным чувством свободы. Весь свет ненавидел меня, ну и пусть, я тоже ненавидел его. Я вспомнил о своих давних замыслах. Я отправлюсь в путешествие, я буду искать! Как предсказала леди Мельбурн, я познаю природу своей сущности. Я приказал изготовить экипаж, такой же, как у Наполеона В нем была двуспальная кровать, погребок для вин и библиотека. Для погреба я отобрал бутылки мадеры, смешанной с кровью, для библиотеки — книги по науке и оккультизму. Я нанял также врача, молодого человека, который издал несколько сочинений о свойствах крови. В медицинских кругах у него была репутация дилетанта Его знания, я полагал, могут мне пригодиться. Я позволил ему взять пробу моей крови для изучения. Доктора звали Джон Полидори.
Дата отъезда приближалась. Мой дом на Пиккадилли опустел. Я бродил по нему, и мои шаги эхом отдавались в пустых коридорах. В детской и в комнате Августы все еще питал легкий и дразнящий аромат крови. Я старался не обращать на него внимания. Теперь я редко выходил — мое лицо и имя были печально известны, но я, как и прежде, был занят делами и общением с друзьями. Кроме того, я завел любовницу. Ее звали Клер, ей было всего семнадцать лет. Я полагаю, она была достаточно мила, но со странностями; она отдалась мне, и я использовал ее, чтобы не думать о большем. Однажды она привела свою сестру.
— Это Мэри, — сказала она.
Ее сестра была такой же милой, но не такой дикой, как Клер. Она мельком взглянула на книги, которые я упаковывал к отъезду, взяла одну из них и прочла название на обложке: «Электричество и принципы жизни».
— Мой муж интересуется подобными вещами, — сообщила она, глядя на меня глубокими серьезными глазами. — Он тоже поэт. Может, вы знаете его?
Я приподнял брови от удивления.
— Шелли, — сказала Мэри. — Перси Шелли. Думаю, вам доставит удовольствие общение с ним.
— Я сожалею, — сказал я, указывая на дорожный сундук, — но, видите ли, я собираюсь за границу.
— Мы тоже, — кивнула Мэри. — Как знать, может, мы встретимся на континенте.
Я слабо улыбнулся.
— Да, может быть.
Но я сомневался в этом. Я видел нарастающие признаки безумия в глазах Клер, ее рассудок расстраивался под воздействием страсти, которую она испытывала ко мне. С этого дня я перестал с ней видеться. Я не желал больше терпеть ее трескотню и постоянные преследования. Если она будет продолжать гоняться за мной, что ж, для нее будет только хуже.
Последнюю ночь в Лондоне я провел в комнате Августы. Запах крови почти исчез. Я лег на ее кровать, вдыхая его последние слабые следы. В доме было темно и тихо, пустота висела в воздухе, как пыль. Несколько часов я лежал в полном одиночестве. Я ощущал, как голод и раскаяние борются в моих венах.
Вдруг я услышал шум шагов. И тут же я ощутил чье-то нечеловеческое присутствие в доме. Я осмотрелся. Никого не было. Я собрал всю свою силу, чтобы заставить это существо показаться, но комната оставалась по-прежнему пустой. Я встряхнул головой. Одиночество поглотило меня. Внезапно эта пустота показалась непереносимой, и, хотя я знал, что это всего лишь фантом, я страстно возжелал вновь увидеть лицо Августы. Из ее почти улетучившегося запаха я воскресил образ. Она стояла передо мной.
— Августа, — прошептал я.
Я протянул к ней руки. Она казалась невозможно реальной. Я попытался прикоснуться к ее щеке. К моему невообразимому удивлению, я почувствовал теплоту живой плоти.
— Августа?
Она ничего не сказала, но желание и любовь, казалось, зажглись в ее глазах. Я склонился и поцеловал ее. Лишь только я сделал это, как понял, что все это время я не чувствовал запаха ее крови.
— Августа? — вновь прошептал я.
Она слегка притянула меня к себе, наши щеки соприкоснулись, мы поцеловались.
И вдруг я вскрикнул. Ее губы, казалось, ожили тысячью движущихся частиц. Я отступил назад и увидел, что тело моей сестры покрыто чем-то белым, светящимся, извивающимся. Я вновь прикоснулся к ней, на палец мне упали личинки и поползли по нему. Моя сестра подняла руки, словно взывая о помощи, затем ее тело медленно рассыпалось, и пол оказался устланным извивающимися червями.
Пошатываясь, я отступил назад. Я почувствовал что-то у себя за спиной. Я обернулся. Это была Белл, которая протягивала мне Аду. Я попытался отмахнуться от нее. Я увидел, как Ада начала истекать кровью и таять на глазах; увидел, как плоть Белл застывает и ссыхается, обнажая кости. Вокруг меня были образы людей, которых я любил, они умоляли меня, кивали мне, старались дотянуться. Я отмахивался от них, казалось, они рассыпались от моего прикосновения, затем снова вырастали и, подобно вампирам, преследовали меня. Они дотрагивались до меня разлагающимися пальцами мертвецов, и я в отчаянии оглядывался; мне показалось, что впереди стоит фигура, закутанная в черный плащ. Человек в плаще повернулся. Я стал вглядываться в его лицо. Оно сильно напоминало лицо паши. Если это и был паша, то он сильно изменился. Его мертвенно-бледное лицо было совершенно гладким, оно имело желтоватый чахоточный оттенок. Но я видел его лишь какую-то долю секунды.
— Постой! — закричал я. — Что означают образы, что ты вызываешь для меня? Постой, я приказываю тебе, остановись!
Но фигура развернулась и исчезла так скоро, что я подумал, что это всего лишь моя фантазия. Как только я понял это, другие призраки тоже растворились, и я остался совершенно один. Я стоял на ступенях лестницы. Все было тихо. Ни малейшего
движения. Я сделал шаг вперед и тут же понял, что я все-таки не один.
Я ощутил запах ее крови еще до того, как услышал ее тихие всхлипывания. Это была Клер. Она пряталась за одним из дорожных чемоданов. Она тряслась от страха. Я спросил ее, что она видела. Она замотала головой. Я удерживал ее на месте взглядом. Меня возбуждал ужас, который она испытывала. Я знал, что нуждаюсь в крови. Видения, сны, которые являлись мне, — я знал, что только кровь может изгнать их.
Я дотронулся до горла Клер, затем остановился. Я чувствовал биение жизни в ее груди. Я взял ее за подбородок. Затем медленно притянул ее губы к своим. Меня трясло, я закрыл глаза и поцеловал ее. Затем еще. Она оставалась все такой же неподвижной в моих руках. Я овладел ею. Я задыхался. Она все еще была жива. Я сжал ее в объятьях и выпустил в нее свое семя.
— Я дарую тебе жизнь, — прошептал я и поднялся. — А теперь уходи, — сказал я. — И никогда не пытайся увидеть меня, так будет лучше для нас обоих.
Клер кивнула, ее глаза были широко открыты; она привела в порядок свою одежду и ушла, так и не сказав ни слова. Было почти утро.
Спустя час пришел Хобхауз, чтобы проводить меня. С ним был Полидори. К восьми часам мы были уже в пути.
Глава 11
Мне довелось быть благоговейным, но отнюдь не молчаливым участником долгих и многочисленных разговоров лорда Байрона и Шелли. В одном из них мы обсуждали различные философские доктрины, среди которых была и тема принципа жизни и самой возможности обнаружения и анализа его… Не исключено, что когда-нибудь оживление умерших станет возможным посредством гальванизма: что, если отдельные части живого тела можно искусственно воспроизвести, а потом собрать в одно целое, вдохнув в него живое тепло?
За беседой прошла ночь, и, наверное, вся нечистая сила улеглась, когда мы разошлись по спальням. Когда моя голова опустилась на подушку, заснуть сразу я не смогла, но и сказать, что я бодрствовала, тоже нельзя было. Мои фантазии, непрошеные, влекли и направляли меня, пронося передо мной картины, возникавшие в моем мозгу с живостью, далеко превосходящей повседневные границы воображения. Я видела с закрытыми глазами, но обостренным внутренним зрением, — видела бледною адепта дьявольской науки, стоявшего на коленях перед собранным им существом. Я видела, как ужасающий призрак мужчины вытянулся, а затем, под напором какой-то мощной машины, показал признаки жизни, с трудом повернулся, сделав полуживое движение. Как это, наверное, страшно, невообразимо страшно, страшны любые потуги человеческого существа к сотворению жалкого подобия колоссального механизма Создателя…
Мэри Шелли. Предисловие к «Франкенштейну»
— Вот так и завершилась, — сказал лорд Байрон, — моя тщетная попытка жить жизнью смертного человека.
Ребекка заметила, как на его лице появилось смешанное выражение вызова и сожаления.
— С этого времени я должен был быть самим собой, это единственное, что мне оставалось.
— Единственное?
Ребекка обхватила себя руками. Ее голос после столь долгого молчания прозвучал резко.
— Тогда кто…
— Да? — Лорд Байрон насмешливо приподнял бровь.
— Кто…
Взгляд Ребекки был прикован к бледному лицу ее прародителя.
— Чьим потомком я являюсь? — прошептала она наконец. — Не Аннабеллы? Не Ады?
— Нет.
Он смотрел сквозь нее во тьму комнаты. И снова его лицо, казалось, исказилось гримасой боли и вызова.
— Не сейчас, — тихо произнес он.
— Но…
Его взгляд будто пронзил ее.
— Я сказал: не сейчас!
Ребекка проглотила подступивший к горлу комок, но, сколько она ни старалась, она не смогла скрыть своей обеспокоенности. Ее не так поразила его внезапная вспышка ярости, как то, что беспокоило его самого. После стольких лет, подумала она, когда можно было бы свыкнуться с тем, чем он стал, одиночество, казалось, все еще подавляло его. И она почувствовала к нему жалость. Лорд Байрон, словно читая ее мысли, внезапно посмотрел на нее и расхохотался.
— Не оскорбляйте меня, — сказал он.
Ребекка нахмурилась, делая вид, что не понимает.
— В безнадежности есть великая свобода, — произнес лорд Байрон.
— Свобода?
— Да. — Лорд Байрон улыбнулся. — Даже состояние полной безнадежности может быть раем.
— Я не понимаю.
— Конечно не понимаете. Вы смертны. Как вы можете знать, что значит быть проклятым? А я знал — в то утро, покидая берега Англии. И все же безнадежность казалась мне более сладостной, чем хоть какой-то проблеск надежды. Я стоял под развевающимися парусами и смотрел, как белые утесы Дувра исчезают за волнами. Я отправлялся в изгнание. Я был проклят и изгнан из своей родной земли. Я оставил свою семью, своих детей и все, что я любил. Мне не суждено было стать кем-то другим. Чем я стал — отверженным изгоем, блуждающим в темных лабиринтах своего разума? Моя безнадежность несла на себе печать едва сдерживаемой улыбки, которая отражалась и на моем лице.
Лорд Байрон умолк. Он пристально смотрел в глаза Ребекки, словно желая вызвать в ней понимание. Он вздохнул и отвел взгляд, но улыбка, насмешливая и гордая, не угасла.
— Я оставался на палубе. Все еще были видны вдали белые скалы, затем они исчезли. «Я — вампир», — сказал я самому себе.
Выл ветер, гнулась мачта, и мои слова, казалось, потонули в дыхании шторма Но они не исчезли бесследно. Потому что они, как и я, были частицей бури. Я прильнул к борту корабля, волны вздымались и опускались, как лошадь, которая знает своего седока У меня в руке была бутылка Она была откупорена Я вдыхал смешанный аромат вина и крови. У меня возникло непреодолимое желание швырнуть ее в море. Кровь радугой разбрызгивалась на ветру, я поднялся вместе с ней и стал парить, такой же свободный и дикий, как сам шторм. Я ощутил, как неистовое веселье наполняет мою кровь. Да, размышлял я, я выполню свое обещание, найду секреты своего естества вампира, стану пилигримом, блуждающим в вечности. Все, что мне нужно было сделать, это обуздать шторм.
Я отпил из бутылки, затем поднял ее, чтобы выкинуть. Кровь из горлышка бутылки расплескалась по моей руке. Я напрягся и вдруг почувствовал чье-то прикосновение.
— Милорд… — Я обернулся. — Милорд…
Это был Полидори. Он держал листки со своими каракулями.
— Милорд, я хотел, чтобы вы посмотрели мою трагедию.
Я взглянул на него с недоверием.
— Трагедию? — спросил я.
— Да, милорд.
Полидори кивнул и протянул мне стопку бумаг.
— «Каэтан», трагедия в пяти частях, полностью называется «Трагическая история Каэтана».
Он неловко начал листать свою брошюрку.
— Я в особенности застрял вот здесь: «Итак, тяжело вздохнув, могущественный Каэтан…»
Я ждал.
— Ну? — спросил я. — И что же могущественный Каэтан сделал?
— В этом-то и проблема, — пожал плечами Полидори. — Я не уверен.
Он протянул листок бумаги, но ветер вырвал его из рук, и я наблюдал, как он, пролетев над кораблем, исчез в волнах.
Я резко повернулся.
— Меня не интересует ваша трагедия, — сказал я.
Полидори уставился на меня, его глаза готовы были вылезти из орбит.
— Милорд… — запинаясь, произнес он. — Я действительно думал…
— Нет.
Он захлопал от негодования глазами.
— Вы поэт, — важно заявил он. — Почему я не могу им быть?
— Потому, что я плачу тебе за медицинские исследования, а не за то, чтобы ты тратил время на всякую дрянь.
Я отвернулся и уставился на волны. Полидори что-то бормотал, запинаясь, затем я услышал, как он развернулся и пошел прочь. «Неужели уже поздно отослать его обратно? — думал я. — Да, — решил я со вздохом, — вероятно, поздно».
В последующие дни я с трудом пытался улучшить наши отношения. Полидори был пустой и смешной человечек, но в то же время обладал блестящим пытливым умом исследователя, его знания о границах науки были глубоки. Мы плыли на юг, а я расспрашивал его о теориях природы жизни, о творении, о бессмертии. По крайней мере, в этих темах Полидори проявил себя как профессионал. Он знал о последних экспериментах, исследованиях в области клеток, которые бесконечно воспроизводятся, о потенциале произвольного воспроизведения жизни при помощи электричества. Часто он упоминал тексты, которые я видел в библиотеке паши. Я захотел узнать о них побольше. Почему паша так интересовался гальванизмом и химией? Неужели он искал научное объяснение своему бессмертию? Искал ли он принцип жизни — принцип, который смог бы устранить потребность в крови для поддержания жизни? Если дело действительно было в этом, то леди Мельбурн права: у меня гораздо больше общего с пашой, чем я мог себе представить.
Один или два раза, как прежде в Лондоне, мне казалось, что я видел его. Это всегда было только мимолетное впечатление, и его лицо, как и раньше, имело чахоточный желтый оттенок. И все же я никогда не испытывал того ощущения, которое, как я знал, охватывало меня, если я находился рядом с существом, подобным мне; и в любом случае я знал, что паша мертв. Я начал расспрашивать Полидори о работе мозга, о галлюцинациях, о природе сна. И вновь теории, выдвигаемые Полидори, были дерзкими и глубокими. Он написал, как он сказал мне, статью о сомнамбулизме. Он предложил загипнотизировать меня. Я рассмеялся и согласился, но глаза смертного Полидори не могли противодействовать моему взгляду. Именно я овладел разумом Полидори. Оказавшись в его снах, я нашептал ему, чтобы он бросил занятия поэзией и оказал должное уважение, которого достоин его хозяин. Когда он пробудился, его реакцией было затянувшееся надолго плохое настроение.
— Черт побери, — выругался он, — вы властвуете даже в моем подсознании.
За целый день он не произнес ни слова и вместо разговоров со мной демонстративно засел за свою трагедию.
К этому времени мы были уже в Брюсселе. Я страстно желал увидеть поле Ватерлоо, где за год до этого произошла великая битва. На следующее утро после описываемого события Полидори достаточно оправился от своего дурного настроения, чтобы сопровождать меня.
— Это правда, милорд, — спросил он, когда мы выехали, — что вам нравится, когда вас называют Наполеоном рифмы?
— Так говорят другие люди. — Я взглянул на него. — Как, Полидори? Только поэтому вы поехали сейчас со мной? Чтоб увидеть меня на Ватерлоо?
Полидори решительно кивнул.
— Конечно, милорд, я верю, что ваша слава великого поэта была неоспоримой долгое время, но я думаю, — он откашлялся, — нет, я уверен, что моя трагедия станет вашим Веллингтоном.
И вновь я рассмеялся, но ничего не ответил, ибо к этому моменту почувствовал запах запекшейся крови. Я пустил лошадь легким галопом. Впереди лежала холмистая равнина, казавшаяся пустынной и тихой. Но да, я вдохнул его снова, этот запах смерти, тяжело висевший в воздухе.
— Это место битвы? — Я обернулся с вопросом к проводнику.
Он кивнул. Я огляделся по сторонам, затем поскакал галопом вперед. Копыта моей лошади увязали в грязи, и казалось, что сквозь эту вспенившуюся жижу сочится кровь. Я подъехал к тому месту, где Наполеон разбил лагерь в день своего окончательного поражения. Сидя в седле, я обозревал эту долину смерти.
Пшеница колыхалась от легкого дуновения ветерка. Мне казалось, что я слышу, как она шепчет мое имя. Я почувствовал, как странная легкость наполняет меня, я поскакал вперед, пытаясь стряхнуть ее. Но грязь под ногами засасывала меня все глубже и глубже. Я пустил коня галопом по полоске травы. Однако грязь все еще просачивалась. Я посмотрел вниз и увидел, что трава окрашена в красный цвет. Куда бы ни ступала нога моей лошади, везде из земли, пузырилась кровь.
Я огляделся по сторонам. Я был один. Не было никаких следов моих спутников, небо вдруг потемнело и окрасилось пурпуром. Все звуки смолкли — пение птиц, стрекотание кузнечиков, шелест пшеницы. Тишина, как и небо, была холодной и мертвой. Никаких признаков жизни по всей широкой равнине.
Вдруг из-за холма до меня донесся еле уловимый звук. Это была барабанная дробь. Она смолкла, затем сильнее, чем прежде, раздалась вновь. Я направил туда своего коня. Бой барабана стал убыстряться. Когда я взбирался на холм, дробь, казалось, эхом отдавалась в небесах. Достигнув вершины, я остановил лошадь. Сидя в седле, я наблюдал разворачивающуюся передо мной картину.
Кровь сочилась из земли так, словно та была бинтом, наложенным на незаживающую рану. Земля смешалась с лужами запекшейся крови, и по всему полю комья грязи и кровь стали приобретать очертания. Вскоре я смог различить человеческие тела, освобождающиеся из своих могил. Они рядами вставали из-под земли, я видел сгнившие лоскуты их обмундирования. Я завороженно смотрел на эти полки, батальоны и армии мертвецов. Я видел их остекленевшие глаза. Их кожа разлагалась, носы провалились, тела вызывали омерзение видом крови и слизи. Через секунду все стихло. Затем, словно повинуясь единому порыву, солдаты сделали шаг вперед. Они сорвали свои шляпы и с чудовищной медлительностью подбросили их вверх, приветствуя меня.
— Vive l’Empereur!
— Да здравствует император! Повелитель мертвых!
Я выпрямился в седле, вспомнив последнюю ночь, проведенную на Пиккадилли. Меня охватила уверенность, что это видение тоже родилось в моем воображении. И я искал существо, которое походило бы на пашу. Я увидел его на коне, вырисовывающимся силуэтом на фоне пурпурного неба.
— Вахель-паша? — Я прищурился. — Неужели это вы?
Он приподнял шляпу, подражая приветствию мертвых солдат. Затем пустил лошадь галопом, удаляясь от меня; я бросился вслед за ним, чтобы уничтожить его и вернуть контроль над своими видениями. Существо обернулось. На его лице было выражение удивления. Внезапно, прежде чем я успел заметить его стремительное движение, я ощутил его пальцы на своем горле. Под натиском я отпрянул назад. Давно я не сталкивался с силой, подобной моей. Я стал бороться с ним и снова заметил на лице пяти удивление и сомнение. Я почувствовал, как он слабеет. Я стал хлестать его по лицу. Он оступился и покатился на землю. Я шагнул к нему и тут услышал крик.
Я обернулся. Полидори пристально смотрел на меня. Он заглянул в мои глаза и снова закричал. Я вновь обратил взор туда, где лежал паша, — его там не было. Я выругался и вздохнул. Теперь я слышал пение птиц и, взглянув на поле битвы, увидел лишь траву и невытоптанные колосья.
Я бросил взгляд на Полидори. Он все еще был без сознания и, стеная и корчась от боли, катался по земле. Наши проводники подбежали к нему. Хорошо, подумал я. Они помогли Полидори. Я развернул коня и поехал по полю. Крестьяне предлагали мне сломанные сабли и черепа. Я купил несколько. Теперь я ехал один, размышляя о крушении наполеоновской армии и фатальной быстротечности человеческой жизни.
Когда мы возвращались в Брюссель, Полидори продолжал молча смотреть на меня. Его глаза были полны подозрения и ужаса. Я не обращал на него внимания. Только поздно ночью, убив жертву, напившись крови и чувствуя сытость, я занялся им. Он спал. Я грубо растолкал его и схватил за горло. Я предупредил его, чтобы он никогда впредь не пытался проникать в мои видения.
— Но я видел, что вы в трансе, — выдавил, задыхаясь, Полидори. — Я подумал, что это может быть интересно, прочесть ваши мысли. В самом деле, — воздух со свистом вырвался из его груди, — как ваш врач, я полагал, что это мой долг.
Я провел пальцем по его щеке.
— Не пытайтесь сделать это вновь, — прошептал я.
Полидори злобно посмотрел на меня.
— Но почему нет, милорд? — спросил он. — Неужели вы думаете, что мой разум не такой, как ваш?
Я улыбнулся.
— Да, я так думаю, — мягко прошептал я.
Полидори открыл было рот, но, увидев мои глаза, побледнел и издал какой-то невнятный звук. Наконец, он склонил голову. Затем повернулся и вышел. Я надеялся, я думал, что он понял.
Но ничто не могло сдержать его тщеславие. Полидори продолжал размышлять о случившемся.
— Почему, — внезапно спросил он несколько дней спустя, — солдаты приветствовали вас как императора?
Я с удивлением посмотрел на него и холодно улыбнулся.
— Это был всего лишь сон, Полидори.
— Сон? — Он выпучил глаза и в возбуждении закивал головой. — Сон.
Я отвернулся и уставился в окно экипажа, наслаждаясь красотами Рейна, вдоль которого мы ехали. Я посоветовал Полидори сделать то же. Он послушался моего совета. Несколько миль мы ехали в полном молчании. Затем Полидори начал тыкать мне пальцем в грудь.
— Почему вы? — снова разразился он. — Почему?
Он похлопал себя по груди.
— Почему не я?
Я взглянул на него и расхохотался.
Полидори тяжело дышал, он был разъярен. Затем он перевел дыхание и попытался успокоиться.
— Умоляю вас, милорд, скажите, что именно вы умеете делать лучше, чем я?
Я слегка улыбнулся.
— Не считая написания стихов, которые я продаю? — Я наклонился вперед. — Три вещи. — Я достал пистолет и взвел курок. Полидори отпрянул назад. — Я могу попасть в замочную скважину с тридцати шагов. — Я жестом показал на Рейн. — Я могу переплыть эту реку. И третье… — Я поднес дуло пистолета к виску Полидори. Я заглянул в его глаза и овладел его волей. Я вызвал в его сознании видение, будто он сам с содранной кожей пригвожден к собственному операционному столу. Я заметил, как краска сходит с лица Полидори. Я рассмеялся и откинулся назад. — И в-третьих, — повторил я, — как видите, я могу наполнить вас таким ужасом, который сведет вас с ума. Итак;, доктор… не искушайте меня.
Полидори дрожал, судорожно глотая воздух. Мы вновь погрузились в тишину. Он не проронил ни слова, пока экипаж не остановился для ночлега Выходя из него, Полидори обернулся ко мне.
— Почему именно вы стали императором? — спросил он. — Почему солдаты приветствовали вас?
Чувства обиды и зависти омрачили его лицо. Он отвернулся и побежал в гостиницу.
Я не останавливал его. Мне нравились его вопросы. Леди Мельбурн называла меня преемником паши, а сам паша был кем-то вроде короля. Я не желал подобной власти, времена королей прошли, и, хотя я был вампиром, я все еще дорожил свободой. Но те мертвецы на поле Ватерлоо, что боготворили меня, были ли они заколдованы словно в насмешку надо мной? Но кем? Самим пашой? Но он давно мертв, в этом я был уверен, ибо сам пронзил его сердце. Я почувствовал, что он мертв, я знал, что я это почувствовал.
Это не могло быть его лицо — в таком случае чье лицо я видел на Пиккадилли и чью мертвенно-бледную маску наблюдал на фоне неба над Ватерлоо? Я постарался избавиться от таких мыслей, дабы они не тревожили мне сердце. Если какое-то существо за пределами этого мира собирается помериться со мной силами, что ж, пусть, но я сомневался, что оно обладает силой, равной моей.
Мы продолжали путешествие и вскоре пересекли границу Швейцарии. Заснеженные и величественные Альпы возвышались над нами. Все это время я не видел ничего необычного. Ничто не вторгалось в мои сны. То существо, кем бы оно ни было, оставалось в тени. Я был доволен, но не удивлен. Мне вспомнилось, как я хлестал его лицо на поле Ватерлоо. Было бы глупо осмелиться бороться со мной дальше. Когда мы прибыли в Женеву, я стал понемногу успокаиваться… Что, как оказалось, было непростительной ошибкой.
Байрон замолчал и задумался.
Ребекка ждала.
— Паша? — спросила она наконец.
— Нет-нет. — Лорд Байрон покачал головой. — Нет, это было другого рода потрясение. Мы прибыли в отель «Англетер». Я вышел из экипажа и направился в холл. И тут я ощутил запах. Это был до боли знакомый, непреодолимый смертельный запах. Я похолодел от ужаса, затем огляделся по сторонам, предполагая увидеть Августу. Но возле меня был только Полидори и персонал отеля. В оцепенении я заполнил журнал для прибывающих. Добравшись до графы «Возраст», я ощутил ужасное, давящее отчаяние. «Сто лет» — написал я. Я поднялся в свою комнату, стараясь ни о чем не думать, но это было невозможно. Везде витал резкий аромат золотистой крови.
Спустя час я получил записку. Разорвав конверт, я прочел: «Любимый, мне жаль, что ты так постарел, хотя мне показалось, что прошло целых двести лет за время твоего долгого путешествия. Я здесь с Мэри и Шелли. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я так много хочу тебе сказать. Но сейчас пусть небеса пошлют тебе сладкие сны, я так счастлива».
Письмо было подписано просто: «Клер».
— Плохие новости? — спросил Полидори с обычной тактичностью.
— Да, — медленно произнес я. — Можно сказать так.
Полидори ухмыльнулся.
— О Господи, — сказал он.
В течение двух дней я ухитрялся избегать Клер. Но она докучала мне своими записками, и я знал, что в конце концов она доберется до меня. Ведь она пересекла пол-Европы, чтобы оказаться рядом со мной, поэтому не приходилось сомневаться в ее безумии. Однажды утром она нашла меня, когда я совершал прогулку в лодке по озеру вместе с Полидори. Она стояла на берегу вместе с двумя спутниками, ожидая меня. Я оказался в западне. Приближаясь к ней, я ощущал запах все сильнее и сильнее. Я выбрался из лодки и медленно подошел к ней. Она протянула мне руку, и я неохотно поцеловал ее. И тут от жажды у меня закружилась голова. Я решительно отпустил руку Клер и повернулся к ней спиной — к ней и к нашему еще не родившемуся ребенку.
— Лорд Байрон?
Один из спутников Клер вышел вперед, чтобы поприветствовать меня. Я пристально посмотрел ему в лицо. Оно было тонким и нежным в обрамлении длинных золотистых волос — лицо поэта, подумал я, почти лицо вампира.
— Мистер Шелли? — осведомился я. — Рад встретиться с вами.
Я пожал ему руку и взглянул на третьего спутника. Шелли, проследив за моим взглядом, взял девушку за руку и подвел ко мне.
— Я полагаю, вы уже встречались с Мэри, сестрой Клер?
Я улыбнулся и кивнул.
— Да, я уже встречался с вашей женой.
— Она мне не жена.
Я с удивлением посмотрел на Шелли.
— О, простите, я полагал…
— Шелли не верит в брак, — просто сказала Мэри.
Шелли застенчиво улыбнулся, глядя на меня.
— Я слышал, у вас самого мало находится времени для исполнения супружеского долга.
Я рассмеялся, лед между нами был растоплен. Клер подбежала ко мне, сердясь на то, что ее оставили одну. Она пыталась взять меня за руку, но я отстранил ее.
— Приходите ко мне на ужин, — прошептал я на ухо Мэри. — Но не берите с собой Клер.
Затем, поклонившись двум сестрам, я сел обратно в лодку.
Шелли действительно пришел тем вечером, и пришел один. Мы проговорили до рассвета. Его речи очаровали меня. Он был неисправимым бунтовщиком. Он проклинал не только брак, он проклинал священников, тиранов и самого Господа Бога.
— Это зима мира, — сказал он мне. — Все кажется серым и скованным.
Но эти выводы все же не вызывали в нем отчаяния. Напротив, его вера в будущее разгоралась подобно пламени, и я, тот, который забыл, что такое страстная надежда, слушал его с восторгом. Шелли верил в человечество, верил, что оно достигнет высот. Я, конечно, насмехался над ним, над многими его идеями, так как он говорил о вещах, которые не мог знать. Я был также заинтригован, когда услышал, что его разум открыт космосу и что его ощущения натянуты подобно струнам лиры, так что его воображаемые чувства могут бесконечно расширяться и обогащаться.
— В мире существуют странные силы, — поведал он мне, — невидимые для нас, но такие же реальные, как вы и я.
Я улыбнулся.
— Каким образом вы собираетесь войти с ними в контакт?
— С помощью страха, — тотчас ответил Шелли. — Ужаса и секса. Оба эти чувства могут помочь открыть нам мир неизведанного.
Я снова улыбнулся и пристально посмотрел в глаза Шелли. И снова подумал, какой красивый вампир получился бы из него.
Я решил остаться в Швейцарии. Шелли и его родственницы уже обосновались в доме на берегу озера. Я снял виллу приблизительно в двухстах ярдах от них, на этом расстоянии запах, исходящий из чрева Клер, был не таким сильным. Сама Клер все еще продолжала вести себя назойливо, и бывали времена, когда она отказывалась оставаться в стороне. Но в основном я успешно избегал ее и ту пытку, которую она носила в своем чреве. С Шелли, конечно, я виделся все это время. Мы катались на лодке, ездили верхом и вели беседы до поздней ночи.
После нескольких недель, проведенных здесь, погода стала заметно ухудшаться. Стоял бесконечный туман, не прекращались шторм и проливной дождь. Мы все дни и ночи проводили на моей вилле, вечерами собирались в гостиной. Огонь мерцал в огромном камине, пока за окном ревел на озере ветер, ударяя в стекла балконных дверей. Мы часто стояли у окон и смотрели на молнии над пиками заснеженных гор. Эти картины заставляли меня снова задуматься о вопросах гальванизма, электричества, о принципах жизни. Шелли также интересовали подобные спорные вопросы, и в Оксфорде, как оказалось, он даже ставил какие-то эксперименты.
— И успешные? — спросил я.
Шелли рассмеялся и покачал головой.
— Но я все еще верю, что возможно воссоздать жизнь, — сказал он. — Вернуть мертвое тело к жизни.
— О да, — заявил Полидори, вмешиваясь в наш разговор. — Лорд Байрон знает об этом все, не так ли, милорд?
Его лицо стало подергиваться.
— Император мертвецов, — прошипел он.
Я слабо улыбнулся и пропустил его слова мимо ушей. Полидори ревновал меня к Шелли. И у него были на то причины. Мы с Шелли продолжали беседу. После нескольких попыток вмешаться в наш разговор Полидори выругался и в негодовании удалился.
Он принес свою трагедию и начал вслух громко читать ее. Клер захихикала. Полидори прервался и вспыхнул. Он внимательно обвел взглядом комнату. Все молчали.
— Вы, — внезапно сказал Полидори, указывая на Шелли. — Моя поэма. Что вы думаете о ней?
Шелли молчал.
— Вы превосходный доктор, — произнес он наконец.
Полидори покачал головой.
— Вы оскорбляете меня? — спросил он тихим дрожащим голосом.
Шелли с удивлением смотрел на него.
— Нет, я не хотел вас обидеть. — Он пожал плечами. — Но боюсь, что ваша поэма не удалась.
Полидори с шумом бросил рукопись на пол.
— Я требую сатисфакции, — закричал он и подбежал к Шелли. — Да, сэр, я требую сатисфакции!
Шелли залился смехом.
— Ради Бога, Полидори, — произнес я, растягивая слова, — Шелли миролюбивый человек. Если вам так хочется драться на дуэли, бросьте вызов мне.
Полидори мельком взглянул на меня:
— Вы насмехаетесь надо мной, милорд.
Я улыбнулся:
— Да, если вам угодно.
Внезапно плечи Полидори поникли. Удрученный, он повернулся к Шелли.
— В чем, как вы думаете, не удалась моя поэма?
Шелли задумался. В этот момент сверкнула молния, озарив серебряным светом всю комнату.
— Поэзия, — сказал. Шелли, когда стих гром, — должна быть… — Он помолчал. — Должна быть вспышкой огня, электрическим разрядом, дающим жизнь этому мертвому миру, открывающим глаза, которые долго были закрыты.
Я улыбнулся его словам.
— Как и ужас?
Шелли кивнул, его глаза были широко раскрыты и вдохновенны.
— Да, Байрон, как ужас.
Я поднялся.
— У меня есть идея, — сказал я. — Давайте проверим, верна ли теория Шелли.
Мэри нахмурилась.
— Как? — спросила она. — Что вы имеете в виду?
Я подошел к полке и достал книгу.
— Я прочту вам истории о привидениях, — сказал я. — И затем каждый из нас, по очереди, расскажет свою историю.
Я прошел по комнате, наполовину погасив свет. Шелли единственный, кто помогал мне. Полидори смотрел с презрением, в то время как Мэри и Клер выглядели неуверенными и испуганными. Я собрал всех у камина и начал. Снаружи раздался подобающий случаю раскат грома. Но я не нуждался в буре, мой голос сам по себе наводил ужас, и я знал об этом. Другим казалось, что я читаю по книге, но я не нуждался в ней — ужасная история, рассказанная мной, была моей собственной. В ту ночь я сочинил две истории. В первой любовник обнимает свою невесту, целует ее и вдруг чувствует, как она превращается в труп всех девушек, которым он изменил. А во второй…
Лорд Байрон замолчал. Он улыбнулся Ребекке.
— Вторая история повествует об одной семье. Ее основатель за свои грехи был обречен даровать поцелуй смерти всем своим потомкам.
Лорд Байрон замолк.
— Всем своим близким по крови. Да.
Он кивнул, глядя на Ребекку, которая застыла в своем кресле, похолодев от ужаса.
— Я помню, что Клер не понравилась эта история. Она обхватила свой живот, как это делала Белл. И тогда запах ее ужаса ободрил меня. Я рассказал им мою собственную историю, вызывающую, конечно, отвращение, историю о двух друзьях, которые путешествовали по Греции, и о том, что произошло там с одним из них. Когда я закончил, стояла гробовая тишина. Я с удовольствием заметил, какое сильное впечатление произвела она на Шелли. Его широко раскрытые глаза почти вылезли из орбит из-за судороги мышц, а лицо напоминало маску. Его волосы, казалось, сверкали, а кожа побледнела настолько, что почти просвечивала насквозь.
— И это… это была всего лишь выдумка? — спросил он наконец.
Я приподнял бровь.
— А почему вы спрашиваете?
— То, как вы рассказали историю, — его глаза расширились еще больше, — кажется… ну… вы рассказали ее так, словно в ней заключена какая-то страшная правда.
Я слабо улыбнулся и собрался было ответить, но Полидори прервал меня.
— Теперь моя очередь! — сказал он, вскакивая на ноги. — Предупреждаю вас, леди, — добавил он, галантно кланяясь Мэри, — я расскажу вам леденящую кровь историю. История была, конечно, нелепая. У одной женщины по неизвестной причине вместо головы был череп. Она любила подсматривать в замочные скважины. Что-то удивительное с ней произошло, я не помню, что именно. В конце концов…
Полидори упорно продолжал свой рассказ, он закончил дни своей героини в могиле, опять же, как я понял, по неизвестной причине. Этот вечер, который, казалось, был наэлектризован страхом, теперь перешел в глупое веселье.
Внезапно в разгар нашего хохота Мэри пронзительно вскрикнула. Балконные двери распахнулись, и ветер пронесся по комнате, задув все свечи. Мэри снова вскрикнула.
— Все в порядке! — Шелли бросился закрывать двери. — Это всего лишь буря!
— Нет, — сказала Мэри, указывая куда-то. — Там что-то есть на балконе. Я видела.
Я нахмурился и вышел вместе с Шелли на балкон. Там было пусто. Мы пытались что-то разглядеть в темноте, но дождь лил на озере стеной, мешая что-либо увидеть. Я не чувствовал никакого запаха.
— Я видела лицо, — настаивала Мэри, когда мы начали зажигать свечи. — Отвратительное, дьявольское лицо.
— Оно было бледным? — спросил я. — С горящими глазами?
— Да. — Она закивала головой. — Нет. Его глаза… — она взглянула на меня, — его глаза, Байрон, были совсем как ваши.
Шелли мельком взглянул на меня. Выражение его лица было странным. Внезапно я рассмеялся.
— В чем дело? — спросил Шелли.
— Ваша теория, кажется, подтверждается, — сказал я. — Посмотрите на нас. Все нервничают. Полидори, примите мои поздравления.
Полидори улыбнулся и поклонился.
— Ваша история не так уж и смешна, как мне показалось. У всех нас была галлюцинация.
— Мне это не привиделось, — возразила Мэри. — Там действительно что-то было.
Шелли подошел к ней и взял за руку, но все это время он продолжал пристально смотреть на меня. Он дрожал.
— Я хочу спать, — сказала Клер низким голосом.
Я посмотрел на нее.
— Хорошо.
Она поднялась, оглядела комнату и вышла.
— Шелли? — обратился я.
Он нахмурился. На его бледном лице выступила испарина.
— Существует некая сила, — сказал он, — какая-то ужасная тень невидимой силы.
Я знал, что он все глубже и глубже погружается в темноту моих глаз. Я заглянул в его мысли и увидел, какую любовь он питает к наслаждению страхом. Подобно лунному свету на поверхности моря, я отбрасывал отблеск какого-то отдаленного мира на его душу. Он задрожал, приветствуя нарастающий в душе ужас, повернулся к Мэри, пытаясь унять свой страх. Но ему было не так-то легко убежать от меня. Снова моя сила овладела его разумом. Когда Шелли взглянул на Мэри, он увидел ее обнаженной, бледной, ужасной; вместо ее сосков были закрытые глаза, внезапно они открылись, и их отблеск был подобен отблеску в глазах вампира — насмешливому, зовущему. Шелли вскрикнул и посмотрел на меня. Кожа на его лице покрылась бесчисленными Морщинками, застыв в непередаваемой гримасе ужаса. Он обхватил голову руками и выбежал из комнаты. Полидори взглянул на меня и последовал за ним.
Мэри также поднялась.
— Этот вечер был слишком трудным для всех нас, — сказала она после долгой паузы.
Она бросила взгляд в темноту ночи.
— Я полагаю, мы можем спать здесь?
Я кивнул.
— Конечно. Вы можете располагаться там, где вам захочется. Но мы так и не услышали вашей истории.
— Я знаю. Но я очень плохая выдумщица Я попытаюсь что-нибудь придумать.
Она поклонилась и вышла.
— Мэри, — позвал я ее.
Она обернулась и посмотрела на меня.
— Не беспокойтесь о Шелли. Все будет в порядке.
Мэри слабо улыбнулась. Затем, не говоря ни слова, вышла, оставив меня одного.
Я стоял на балконе. Дождь прекратился, но буря все еще неистовствовала. Я вдыхал носом ветер, надеясь почувствовать запах того существа, которое видела Мэри. Но ничего не было. У нее, должно быть, после всех этих рассказов разыгралось воображение. Хотя странно, подумал я, что ее галлюцинация была так похожа на мою собственную. Я пожал плечами. Была странная, опьяняющая ночь. Я снова загляделся на яростную бурю. Вдалеке, подобно клыкам, мерцали горы, и луна, скрытая облаками, была полной — я знал это. Ощущение собственной власти стучало в моей крови. В далекой Женеве часы пробили два. Я повернулся, закрыл балконные двери и в полной тишине направился через всю виллу в комнату Шелли.
Они лежали обнявшись, обнаженные и бледные.
Мэри застонала, когда моя тень легла на нее, и повернулась во сне, Шелли тоже зашевелился и повернулся лицом и грудью в мою сторону. Я стоял подле него. Как он был прекрасен! Подобно отцу, поглаживающему щеки спящей дочери, я пробежался по его мыслям. Они были очаровательными и странными. Мне никогда еще не доводилось встречать такого смертного. Он говорил о желании познать секрет власти, власти мира, лежащего за пределами человеческого сознания, и я знал, что Шелли достоин этого. Этим вечером внизу, в гостиной, я дал ему возможность увидеть мельком то, что лежит за пределами этой жизни. И все же я мог дать ему значительно больше, я мог создать его в собственном воображении, я мог дать ему вечную жизнь.
Внезапно я ощутил отчаянное страдание. Как страстно я желал иметь спутника, такого же, как я, которого бы любил. Да, мы были бы вампирами, это правда, отрезанными от всего остального мира, но не жалкими и одинокими, каким я был сейчас. Я склонился над спящим Шелли. И не было греха в том, чтобы сделать его таким же, как я сам. Я даровал бы ему другую жизнь, а жизнь была даром Божьим. Я положил руку ему на грудь. Его сердце билось, готовое раскрыться моему поцелую. Нет. Я бы создал не раба, не монстра, а любовника на все времена. Нет. Не ошибка, не грех. Я пробежал пальцами по груди Шелли.
Он не пошевелился, но Мэри снова застонала, словно пытаясь пробудиться от какого-то кошмара. Я взглянул на нее, затем на Шелли и медленно отвел губы от его груди.
Паша смотрел на меня. Он стоял у двери, закутанный в черный плащ, его бледное лицо было бесстрастным. Его глаза, подобно свету, пронзили мою душу. Он отвернулся и исчез. Я поднялся с постели Шелли и, крадучись, последовал за пашой.
Но он исчез. Дом казался пустым, даже в воздухе не осталось запаха, свидетельствовавшего о присутствии постороннего. Хлопнула дверь, я услышал, как сквозняк промчался по коридору. Я поспешил вслед за ним. Дверь в конце коридора хлопала при порывах ветра. За ней был сад. Я вышел из дома в поисках своей жертвы. Буря не утихала, стояла непроницаемая тьма. Вдруг вспышка молнии сверкнула над вершинами, осветив чей-то темный силуэт на фоне волн озера. Я полетел вслед за ветром и опустился на берег. Когда я приблизился к призраку, он взглянул на меня. Его лицо имело тот же желтый оттенок, и все черты казались более жестокими, чем в жизни. Но это был он. Никакого сомнения!
— Из каких глубин ада, из какой невообразимой бездны ты вернулся?
Паша улыбнулся, но ничего не сказал.
— Будь ты проклят, проклят навеки! Зачем ты появился здесь?..
Я подумал о Шелли, спящем в доме.
— Неужели ты хочешь отказать мне в спутнике? Неужели я не могу сделать то, что сделал со мной ты?
Улыбка паши стала шире. Его желтые зубы были отвратительны. Гнев, такой же яростный, как ветер, толкнул меня вперед. Я схватил пашу за горло.
— Помни, — прошипел я, — что я твое создание. Всюду я вижу блаженство, недоступное мне одному. Я был человеком, а ты сделал из меня дьявола. Не смей насмехаться надо мной за то, что я страстно желаю найти счастье, и не пытайся мешать мне в этом.
Паша продолжал ухмыляться, оскалив зубы. Я усилил хватку.
— Оставь меня, — прошептал я, — ты мой создатель и потому — мой вечный враг.
Шея паши затрещала под моим натиском. Его голова откинулась, и кровь из горла брызнула на мои руки. Я бросил тело на землю. Когда я взглянул на него, то увидел, что у паши лицо Шелли. Я склонился над ним Тело медленно потянулось ко мне. Оно поцеловало меня в губы. Когда оно открыло рот, вместо языка у него оказался червь — мягкий и жирный. Я отпрянул назад. И понял, что целую зубы черепа.
Я отвернулся, а когда снова посмотрел вниз, то увидел, что труп исчез. Я услышал дикий смех, раздававшийся в самых глубинах моего сознания. Я начал озираться по сторонам. Я был один на берегу озера, но смех звучал все громче, пока не стал отдаваться эхом на озере и в горах, — мне показалось, что сейчас он оглушит меня. Достигнув наивысшей силы, он умолк, и в этот самый момент стекла балконных окон разбились, двери под порывом ветра распахнулись, а книги и бумаги были подхвачены бурей. Подобно нашествию насекомых, они разлетелись по лужайкам и по берегу, где я стоял, паря в воздухе и приземляясь вокруг меня, увязая в грязи или медленно погружаясь в воды озера. Я поднял намокшую книгу, которая лежала у моих ног, и прочел название: «Гальванизм и принципы человеческой жизни». Я вспомнил, что читал такое название в башне паши. Я собрал другие книги и листы — остатки библиотеки, которую взял с собой, — и сбросил их в кучу на берегу. Когда шторм стих, я разжег огонь. Вяло и неохотно разгорался этот погребальный костер. Когда взошло солнце, его приветствовал черный дым, стелющийся по поверхности озера.
Лорд Байрон замолчал. Ребекка пристально посмотрела на него.
— Я не понимаю, — сказала она.
Лорд Байрон прикрыл глаза.
— Я чувствовал себя осмеянным, — тихо произнес он.
— Осмеянным?
— Да. Мои надежды, они были чьей-то насмешкой.
Ребекка нахмурилась.
— Вы имеете в виду ваши поиски принципа жизни?
— Вы понимаете, — лорд Байрон с горечью улыбнулся, — как пусто, как мелодраматично должны всегда звучать подобные слова?
Он покачал головой.
— И все же я думал, что получил свободу. Я был вампиром.
Стоя на берегу тем утром и наблюдая, как ветер разносит пепел погребального костра из моих книг, я не чувствовал ничего, кроме бессилия. Я обладал великими возможностями, но я знал теперь, что существует некто, кто обладает более мощными силами, которые все еще недоступны для нас, а самыми неизмеримыми силами обладала вселенная. Как я мог осмелиться искать искру жизни? Это было безнадежное честолюбие — честолюбие, более подходящее для какого-нибудь готического рассказа или для научной фантастики.
Лорд Байрон остановился. Его губы растянулись в улыбке.
— И поэтому моя ненависть к паше, моему создателю, которого, как оказалось, я не смог уничтожить, разгорелась еще яростнее, чем прежде. Я страстно желал развязки, решающей схватки. Но паша, как истинный бог, теперь оказался скрытым от меня.
Меня вновь начало грызть беспокойство. Я думал уехать в Италию, но мое нежелание расстаться с Шелли было слишком велико, и мы продолжали наши совместные прогулки по озеру. Я все еще хотел его, хотел дать ему свою кровь, сделать его принцем вампиров, каковым был и я, но я не хотел навязывать ему такую судьбу. Моя ненависть к паше была для меня предостережением: получить то же, что и он, — вечную ненависть того, кого ты создал. Поэтому я искушал Шелли, намекая ему о том, что могу ему дать, нашептывая ему темные тайны и необычайные возможности. Неужели Шелли понимал? Возможно — да, возможно, — уже тогда он все понял. Однажды произошло вот что. Мы катались в лодке по озеру. Налетел шторм. И наш руль оказался сломанным. Мы уже начали погружаться. Я скинул с себя жакет, но Шелли продолжал спокойно смотреть на меня.
— Вы знаете, — сказал он, — я не умею плавать.
— Тогда позвольте мне спасти вас, — выкрикнул я, протягивая ему руки, но Шелли отпрянул.
— Я боюсь получать какие бы то ни было подарки жизни от вас, — сказал он.
— Но вы утонете.
— Это лучше, чем…
— Чем что? — Я невольно улыбнулся. — Чем что, Шелли? Чем жизнь?
Он ухватился за борта лодки, затем поднял глаза и посмотрел на меня.
— Я боюсь, — сказал он, — что меня начнет затягивать все глубже и глубже.
Он продолжал сидеть гам, где сидел, скрестив руки, и я знал, что мне не удастся осуществить свои планы, по крайней мере этим летом. Буря начала стихать, и лодка удержалась на плаву. Никто из нас никогда не упоминал о том, что произошло между нами. Но теперь я был готов уехать в Италию.
И все же я остался. Меня удерживала здесь кровь моего неродившегося ребенка. Как и прежде, она стала пыткой для меня. Опасность со временем все нарастала и нарастала. Я старался не оставаться наедине с Клер. Шелли также ощущал себя неловко, а Полидори был невыносим. Из всей этой группы я чаще всего виделся с Мэри. Она писала книгу. Мэри утверждала, что ее вдохновили ночные кошмары, которые посетили ее во время бури. Это была история об одном ученом. Он создал живое существо. Его творение возненавидело своего творца, а творец возненавидел свое творение. Мэри назвала свой роман «Франкенштейн».
Я прочел часть рукописи. И она произвела на меня глубочайшее впечатление. В ней было очень много из того, что я узнал.
«О, Франкенштейн, — сказал этот монстр своему создателю. — Я должен быть твоим Адамом, но я скорее падший ангел, который, не совершив ни одного злодеяния, был лишен радости».
Я содрогнулся от этих слов. После этого я уговорил Шелли уехать, взять Клер с собой и попросил позаботиться о ее
ребенке. Наконец они уехали. Теперь я был готов. Я должен был преследовать своего собственного Франкенштейна. И все же… — Лорд Байрон умолк. — Нет, паша не был похож на Франкенштейна, книга производила такое ошеломляющее впечатление вовсе не потому, что содержала в себе правду. Роман, несмотря на всю его силу, все же был вымыслом.
Не существовало научной возможности воссоздания жизни. Творение оставалось загадкой. Но меня по-прежнему поражала смехотворность собственных амбиций. Я радовался, глядя на то, как сгорает моя библиотека.
Я прогнал Полидори. Теперь я не нуждался в нем. Я щедро вознаградил его, но он принял деньги с привычной для него неблагосклонностью.
— Почему именно вы, — говорил он, пересчитывая деньги, — должны обладать такой силой, чтобы сделать это, а не я?
— Потому что я не похож на тебя.
— Да. — Полидори прищурил глаза. — Думаю, вы не такой, как я.
Я рассмеялся.
— Я никогда не сомневался, что ты обладаешь великой проницательностью, Полидори.
Он обернулся и злобно посмотрел на меня, затем достал из кармана крошечный сосуд. Он поднес его к свету.
— Ваша кровь, милорд.
— Ну и что с того?
— Вы собирались мне платить за то, что я буду исследовать ее, помните?
— Да. И что ты в ней обнаружил?
И снова Полидори злобно посмотрел на меня.
— Осмелитесь ли вы, — он ухмыльнулся, — осмелитесь ли вы презирать меня после того, что я узнал?
Я пристально посмотрел на него. Полидори задрожал и начал что-то бормотать сквозь зубы. Я вторгся в его сознание, поверг его в состояние полного ужаса.
— Не угрожай мне, — прошептал я.
Я взял сосуд с кровью из его рук.
— А теперь убирайся.
Полидори поднялся и, спотыкаясь, вышел из комнаты. На следующий день я уехал, не попрощавшись с ним.
Я поехал вверх, в горы, по дороге, пролегающей через Альпы. Хобхауз присоединился ко мне, и мы путешествовали вместе. Чем выше мы поднимались, тем головокружительнее и отвеснее становились горы. Над нами возвышались скалы изо льда, окруженные глубокими ущельями;н над снежными вершинами парили, широко расправив крылья, орлы.
— Почти как в Греции, — сказал Хобхауз, — помнишь, Байрон? В Албании…
Он осекся и обернулся через плечо, охваченный невольным ужасом. Я также обернулся. Дорога была пуста. Наверху торчали стволы засохших сосен. Их кора была содрана, а ветки мертвы. Они напомнили мне мою семью. По другую сторону тропы лежал ледник, напоминавший застывший ураган. Да, подумал я, если он вообще придет, то придет сюда. Я был готов встретить его. Но тропа была пуста, как и прежде.
На фоне заката, спустившегося на Гриндельвальд, мы услышали топот копыт. Мы обернулись и стали ждать. К нам приближался человек, он был один. Его лицо, как я заметил, имело желтоватый оттенок. Я вытащил пистолет и затем, когда всадник подъехал к нам, вложил его обратно.
— Кто ты? — выкрикнул я.
Это был не паша.
Странник улыбнулся.
— Агасфер, — сказал он.
— Кто ты? — спросил Хобхауз.
Он взвел свой пистолет и держал его наготове.
— Странник, — ответил всадник.
У него было удивительное произношение. Оно обладало красивейшей и трогающей душу мелодичностью.
Он снова улыбнулся и поклонился мне.
— Я странник, как и ваш друг, Хобхауз, всего лишь странник.
— Вы нас знаете?
— Ja, naturlich.
— Вы немец? — спросил я.
Незнакомец улыбнулся.
— Нет-нет, милорд! Это правда, я люблю немцев. Они принадлежат к расе философов, а без философии кто поверит в меня?
Хобхауз нахмурился.
— А почему они не должны верить в вас?
— Потому, мистер Хобхауз, что мое существование — вещь невозможная.
Он улыбнулся и повернулся ко мне, словно почувствовав блеск моих глаз.
— Кто вы? — прошептал я.
Путник ответил мне взглядом таким же глубоким, как и мой собственный.
— Если вам нужно как-то обозначить меня, милорд, зовите меня… — он помолчал, — жидом. — Он улыбнулся. — Да, евреем, ибо подобно всем, кто принадлежит к этой необычной и заслуживающей уважения расе, я принадлежу ко всем странам и одновременно ни к одной.
Хобхауз нахмурился.
— Этот человек сумасшедший, — прошептал он мне в ухо.
Я жестом велел ему успокоиться. Я изучал лицо странника. В нем невероятным образом смешались юность и старость. Его волосы были длинными и седыми, но глаза — такими же глубокими и сверкающими, как и мои. На его лице не было ни одной морщинки. Он не был вампиром, по крайней мере он не казался таковым, и все же его окружал ореол некой тайны, отталкивающей и одновременно вызывающей благоговение.
— Не хотите ли проехаться вместе с нами? — спросил я.
Агасфер поклонился.
— Тогда в путь, — сказал я, разворачивая лошадь. — Нам предстоит ехать еще около часа, прежде чем мы доберемся до гостиницы.
На протяжении всего пути я изучал его. Мы вели беседу. Он говорил по-английски, но иногда переходил на другие языки, не то современные, не то древние — я так и не смог узнать их. Вскоре я понял, что он бывал на Востоке.
Он был с нами за ужином, но рано ушел спать. Я не спал и наблюдал за его комнатой. В два часа я увидел, как он выскользнул из гостиницы. Я последовал за ним.
Он стал взбираться по скалам с необыкновенной скоростью. Он скакал через расщелины и змеей извивался по ледникам. Впереди возвышались вершины гор, словно город мертвых, словно насмешка над человеческими силами, но Агасфер не был смертным, и его не могли остановить эти стены. Нет, я знал, кем он был. Я вспомнил призраков на Пиккадилли, как они меняли свой облик перед моими глазами. Я вспомнил, как схватил пашу за шею и как обнаружил, что держу в руках скелет. Какой силой обладал он, как мог изменяться — я не знал, но был уверен в одном: сейчас в горах я преследовал пашу.
Все время я следил за ним. Вел ли он меня умышленно? Меня это не беспокоило, один из нас должен был умереть, я вряд ли отдавал отчет, кто именно. Я достиг вершины скалы. Моя жертва все еще была впереди. Я огляделся по сторонам Внезапно горы стали пустыми и голыми. Я устремил взгляд вниз, в туман, который клубился вокруг ледника. И тут я услышал шаги позади себя. Я обернулся. Передо мной стоял паша.
Я бросился на него. Он пошатнулся, я увидел панику на его лице, когда он начал падать вниз. Он ухватился за меня и потянул за собой, мы покатились вместе к краю обрыва — пропасть, казалось, звала нас. Я почувствовал, как паша меняется и исчезает у меня в руках, но я крепко держал его и начал бить головой о камни, пока его кровь и мозги не забрызгали все вокруг. Я продолжал бить, даже когда его голова превратилась в череп. Паша начал слабеть. Наконец он затих, и я остановился — его остекленевший взгляд говорил о смерти. Затем разбитое лицо начало медленно меняться. Теперь передо мной лежал Агасфер. Но. я вряд ли осознавал это. Я пронзал его сердце кинжалом вновь и вновь. Я столкнул его тело, наблюдая, как оно сползает в пропасть.
Пребывая в экстазе, я спустился с горы. Я чувствовал жажду. Мне нужно было спуститься на дорогу и найти нут-ника, чтобы насытиться кровью. Впереди из глубокой расщелины бил водопад, подобно развевающемуся на ветру хвосту белой лошади, — это был конь Блед, на котором выезжала Смерть в Апокалипсисе.
— Смерть, — прошептал я, и услышал отзвук этого слова: — Смерть!
Оно прозвучало так, как будто я никогда не слышал его прежде. Внезапно оно показалось мне странным, пугающим, незнакомым.
— Смерть! — ответили эхом горы на мой крик.
Я обернулся. Агасфер улыбался мне. Его лицо, как и прежде, было гладким. Медленно он преклонил колено.
— Ты достоин быть императором.
Я посмотрел на него и на то место, где он стоял, возле бьющего из земли потока.
— Паша.. — сказал я и нахмурился. Меня начало трясти. — Ты — не он. Паша умер.
Выражение лица Агасфера не изменилось.
— Где бы он ни был… ты теперь император. — Он внезапно улыбнулся и отсалютовал мне. — Да здравствует император!
Я вспомнил крик на поле Ватерлоо.
— Все это время, — медленно произнес я, — с того момента как я покинул Англию, ты преследуешь меня, насмехаешься надо мной. Почему?
Агасфер пожал плечами и склонил голову в знак согласия.
— Мне скучно, — сказал он. — Эта вечность невыносима.
Агасфер взглянул на туман, который клубился подобно океану вдали.
— В мире существуют силы, — произнес он наконец, — полные необъяснимой власти и величия. Вы сами, милорд, являетесь подтверждением этого. В вас соединены два полюса — жизни и смерти; то, что люди ошибочно разделяют, вы объединяете. Вы великий, милорд, ужасающе великий, но есть силы и существа, которые могущественнее даже вас. Я говорю это, чтобы одновременно предостеречь и помочь вам в ваших страданиях.
Он погладил меня по щекам и поцеловал.
— О милорд, — сказал он, — ваши глаза так же глубоки, прекрасны и опасны, как и мои. Вы необыкновенный, удивительный.
Он взял мою руку и увлек на вершину скалы.
— Я иногда появляюсь перед людьми, чтобы мучить их мыслями о вечности, но перед вампирами, которые лучше понимают меня и испытывают большее благоговение, — никогда. Но вы, вы нечто особенное. До меня дошли слухи, что повелитель Смерти избрал себе нового императора. Ваша слава распространилась по всему миру. Лорд Байрон, лорд Байрон — ваше имя вертелось у всех на языке. Я был заинтригован. И явился к вам. Я испытал вас.
Агасфер замолчал и улыбнулся.
— Милорд, я могу обещать вам, что вы станете таким императором, какого еще не знали вампиры. И все же я предупреждаю вас. Если я и насмехался над вашими надеждами, то только чтобы напомнить вам, что вы не сможете убежать от своей природы. Мечтать о чем-то другом значит мучить себя. Не доверяйте науке смертных, милорд. Не в ее силах объяснить что-либо такому существу, как вы. Неужели вы действительно хотите спастись от собственной жажды? — Агасфер рассмеялся и повел рукой. — Если бы бездна смогла извергнуть свои секреты…
Он ждал. Пропасть под нами была такой же молчаливой, как и прежде. Агасфер снова рассмеялся.
— Настоящая правда невыразима, милорд. То, что знаю я, вам недоступно. Довольствуйтесь своим бессмертием.
— А вы пьете кровь?
Агасфер посмотрел на меня, но ничего не ответил.
— Вы пьете кровь? — с горечью повторил я. — Как вы можете говорить мне «довольствуйся»? Я проклят. Как вы не можете понять это?
Агасфер слабо улыбнулся. Мне показалось, что я увидел в его глазах отблеск насмешки.
— Любое бессмертие, милорд, есть проклятие.
Он помолчал и взял меня за руки.
— Примите его, примите его таким, какое оно есть, и оно станет для вас благословением. — Его глаза расширились. — Это шанс, милорд, пребывать среди богов.
Он поцеловал меня в щеку и прошептал:
— Проклятие не должно вызывать к себе ненависть у тех, на кого оно падает, не надо ненавидеть самого себя, не надо ненавидеть собственное бессмертие. Приветствуйте величие, которое вы готовы принять.
Он жестом указал на небо и горы.
— Вы достойны править, более достойны, чем кто-либо из вашей породы. Так правьте же, милорд! Будьте императором! Я могу помочь вам только тем, что буду уговаривать вас оставить свою смехотворную вину! Посмотрите — мир лежит у ваших ног! Тот, кто превосходит и подавляет человечество, должен быть выше ненависти черни. Не бойтесь того, кем вы являетесь. Восторжествуйте!
Под нами клубились белые и серые облака, подобно пене Стикса. Но когда я стал вглядываться, то увидел, что они начали расступаться, и моему взору открылась глубокая бездна. Мой дух, подобно свету, стрелой пронзил пространство. Я почувствовал пульс жизни, наполняющий небеса Сами горы, казалось, шевелятся и дышат, и я представил, что по их каменным венам течет кровь. Я так ярко представил это, что мне захотелось разорвать горы и напиться их крови, крови всего мира. Я подумал, что эта страсть, жажда бессмертия переполнит меня, и все же этого не случилось, ибо мое сознание расширилось до невероятных размеров под воздействием красоты гор и моих собственных мыслей. Я повернулся к Агасферу. Он изменился. Он вытянулся высоко над горами, прямо в небо — гигантской тенью на фоне рассвета, поднимавшегося над Монбланом. Я почувствовал, как поднимаюсь вместе с ним, летя на крыльях ветра. Я увидел Альпы, простирающиеся внизу.
— Кто ты? — спросил я снова. — Какова твоя природа?
Я почувствовал, как голос Агасфера рефреном звучит в моем сознании:
— Ты достоин править! Восторжествуй!
— Да! — закричал я, смеясь. — Да!
Затем я почувствовал под ногами землю. Я стоял на скале, и ветер, завывая, дул мне в спину. Ветер был холодным. Я был один. Агасфер исчез.
Я вернулся на дорогу и убил первого же крестьянина, которого встретил. Я обескровил его. И ощутил, каким чудовищем я был, ненасытным и одиноким. Позднее мы проезжали с Хобхаузом мимо тела моей жертвы. Вокруг собралась толпа. Какой-то человек склонился над мертвецом. Когда мы поравнялись с ним, человек поднял глаза и взглянул мне в лицо. Это был Полидори. Мы пристально смотрели друг на друга, пока он не отвел взгляд. Я дернул поводья и рассмеялся при мысли, что Полидори преследует меня. Я был вампиром, неужели этот глупец не понимает, что это значит? Я снова расхохотался.
— Ну, — сказал Хобхауз, — мне кажется, ты внезапно повеселел.
Мы спустились с Альп в Италию. На всем пути я безжалостно убивал и пил кровь. Однажды вечером в окрестностях Милана я захватил красивого мальчика-пастуха. Вкус его крови был такой же нежный, как и его губы. Едва насытившись, я почувствовал чье-то прикосновение сзади.
— Черт возьми, Байрон, у тебя всегда был отличный вкус. Где ты нашел такое прекрасное создание?
Я повернул голову и улыбнулся.
— Ловлас.
Я поцеловал, его. Он был таким же ослепительным и жестоким, как и прежде.
Мы рассмеялись и обнялись.
— Мы ожидали тебя, Байрон, — сказал он. — Добро пожаловать в Милан.
В городе собрались и другие вампиры. Они прибыли, как сказал мне Ловлас, чтобы выразить мне свое почтение. Я не нашел это странным. После всего, что случилось, они обязаны были воздавать мне почести. Их было двенадцать, двенадцать вампиров Италии. Все очень опасные и красивые. Их власть была велика, как власть Ловласа. Но все же я превосходил их, я хорошо чувствовал это, даже Ловлас, казалось, был обескуражен. Я поведал ему в сдержанных намеках о своей встрече с Агасфером. Он никогда не слышал о нем прежде. Это обрадовало меня. Когда-то он был моим учителем, теперь господствовал я. Он и другие вампиры не смели ослушаться моего приказа не трогать Хобхауза. Вместо этого мы охотились за другими жертвами, и на наших пиршествах кровь лилась рекой.
У нас стало обычаем перед каждой оргией посещать оперу. Однажды вечером мы с Ловласом и другим вампиром, прекрасным и жестоким, как мы все, с графиней Марианной Лукрецией Ченчи, отправились туда. Выйдя из экипажа и расправляя подол своего малинового платья, графиня вдруг принюхалась, ее зеленые глаза сузились, она повернулась ко мне.
— Здесь кто-то есть, — сказала она. — Он преследует нас.
Она провела перчатками вдоль руки, как кошка, которая вылизывает свою шерсть.
— Я убью его.
Я нахмурился. Я тоже ощутил запах крови нашего преследователя.
— После, — сказал Ловлас, беря Марианну под руку. — Поторопимся, или мы пропустим начало оперы.
Марианна бросила на меня взгляд. Я кивнул ей. Мы заняли места в нашей ложе. Этим вечером давали «Дон Жуана» — оперу про человека, который соблазнил и бросил тысячи женщин. Когда началась опера, у всех нас засверкали глаза, потому что казалось, что опера написана для нас. Ловлас обернулся ко мне и улыбнулся.
— Вы вскоре увидите, Байрон, как этого плута отчитывает жена. Он бросит ее, потому что он закоренелый злодей.
Он ухмыльнулся.
— Этот человек мне по сердцу, — ответил я.
Вошла жена, и Дон Жуан выбежал, оставив ее на попечении слуги. Тот начал петь ей, описывая подвиги своего хозяина по всему миру:
— В Германии — двести тридцать одна; сотня — во Франции; в Турции — девяносто одна.
Я сразу же узнал арию и повернулся к Ловласу.
— Это та самая мелодия, которую ты все время напевал, — сказал я, — когда мы охотились в Константинополе и Греции.
Ловлас кивнул.
— Да, сэр, но мой собственный список намного длиннее.
Марианна обернулась ко мне, оглаживая длинные черные волосы.
— Deo, это рождает во мне убийственную жажду.
В этот самый момент нас потревожили. Дверь в нашу ложу с шумом распахнулась. Я обернулся. Изможденный молодой человек пристально смотрел на меня. Это был Полидори… Он поднял руку и указал на нас.
— Вампиры! — закричал он. — Они вампиры, я видел их, у меня есть доказательства!
Когда вся публика повернулась в нашу сторону, Марианна встала.
— Mi scusi, прошу прощения, — прошептала она.
В ложу вошли солдаты. Она что-то прошептала им. Те кивнули, грубо схватили Полидори под руки и выволокли из ложи.
— Куда его? — спросил я.
— В темницу.
— За какое преступление?
— Один из солдат будет утверждать, что Полидори оскорбил его. — Марианна улыбнулась. — Так обычно делают, милорд.
Я кивнул Опера продолжалась. Я смотрел, как Дон Жуана поглотил ад.
— Покайся! — приказывали ему.
— Нет! — кричал он в ответ.
— Покайся!
— Нет!
Я восхищался его силой духа. Марианна и Ловлас испытывали то же.
Мы вышли в темноту улиц, их глаза загорелись от жажды.
— Ты идешь, Байрон? — спросил Ловлас.
Марианна покачала головой. Она улыбнулась мне и взяла Ловласа под руку.
— У милорда сегодня вечером другие дела.
Я кивнул и подозвал свой экипаж.
Полидори ждал меня.
— Я знал, что вы придете, — сказал он, содрогаясь, когда я вошел в камеру. — Вы собираетесь убить меня?
Я улыбнулся.
— Я обычно не убиваю своих знакомых.
— Вампир! — внезапно выкрикнул Полидори. — Вампир, вампир, вампир! Проклятый, отвратительный вампир!
Я зевнул.
— Да, спасибо, наконец-то вы догадались.
— Кровопийца!
Я рассмеялся. Полидори вздрогнул от моего смеха. Он прижался к стене.
— Что вы собираетесь со мной сделать? — спросил он.
— Вы будете выдворены из Милана. Уедете завтра.
Я бросил ему мешочек с монетами.
— Вот, возьмите это и никогда не пытайтесь преследовать меня.
Полидори с недоверием уставился на монеты. И вдруг бросил их обратно.
— У вас есть все, не так ли? — выкрикнул он. — Здоровье, талант, власть — и теперь даже благородство. О, великолепно! Сатана, который был так добр… Ну и черт с вами, Байрон, катитесь в ад. Вы проклятый обманщик, вот вы кто, я ненавижу вас, ненавижу! Если бы я был вампиром, я бы стал господином всего!
Он тяжело упал и, всхлипывая, пополз к моим ногам. Я протянул к нему руку. Полидори отпрянул.
— Будьте вы прокляты! — снова закричал он.
Он снова пополз вперед и положил голову мне на колени. Я нежно гладил его волосы.
— Возьми деньги, — прошептал я, — и уходи.
Полидори поднял на меня глаза.
— Иди к черту.
— Уезжай.
Полидори молча стоял на коленях.
— Я был бы созданием ужасной силы, — произнес он наконец, — если бы стал вампиром.
Воцарилась тишина. Я смотрел на него со смешанным чувством жалости и презрения. Затем он внезапно захныкал. Я оттолкнул его ногой. Лунный свет лился через окно в камеру. Полидори упал на место, освещенное луной. Он заскулил, когда я начал срывать с него рубаху. Моя кровь разжигала меня. Я поставил ногу на грудь Полидори. Он лишь смотрел на меня. Я прокусил ему горло, затем полоснул по груди кинжалом. Я Ьил кровь, которая хлестала из раны, и разрывал кожу до костей, до тех пор пока не обнажил сердце. Оно все еще билось, слабо, но все слабее и слабее. Его нагота была ужасной. Когда-то и я так лежал обнаженный — лишенный достоинства, жизни, своей человеческой сущности. Сердце подергивалось, как рыба, выброшенная на берег реки, и вдруг затихло. Я прошел мимо тела. Я преподнес ему Дар.
Лорд Байрон замолчал. Он пристально смотрел на что-то, находящееся в темноте, чего Ребекка не могла видеть. Он пропустил пальцы через завитки своих волос.
— Дар, — сказала Ребекка. — Что это такое?
— Нечто ужасное.
Ребекка ждала.
— Неописуемое?
Лорд Байрон посмотрел на нее.
— Да, до тех пор пока вы не получите его.
Ребекка не обратила внимания на слова «до тех пор».
— А Полидори, — спросила она, — он… с ним было все в порядке?..
Она поняла, насколько глуп был ее вопрос.
Лорд Байрон выпил еще один бокал вина.
— Он очнулся от смерти, если вы это имеете в виду.
— Но как? Я имею в виду…
Лорд Байрон улыбнулся.
— Как? — переспросил он. — Его глаза раскрылись, он тяжело задышал, судорога пробежала по его конечностям. Он взглянул на меня. Челюсть его отвисла, он забормотал что-то невнятное, несмотря на то что от его оскала на щеках образовались складки. Возможно, он и говорил что-то, но я не слушал; он протянул руку, чтобы удержать меня, но мне невыносим был вид этого тела, этого отвратительного монстра, которому я даровал жизнь. Я повернулся и вышел. Я заплатал охране, чтобы они тотчас проводили Полидори до границы. Но все они были найдены мертвыми несколько дней спустя — разорванными на части, без единой капли крови. Все было сохранено в тайне.
— А Полидори?
— Что с ним стало?
— Вы видели его потом?
Лорд Байрон улыбнулся. Он уставился горящими глазами на Ребекку.
— Неужели вы не догадываетесь? — спросил он.
— Не догадываюсь?
— Тот самый человек, который прислал вас сюда этой ночью. Тот человек, который показал вам бумаги. Человек на мосту. — Лорд Байрон кивнул. — О да, — сказал он, — я еще не раз встречался потом с Полидори.
Глава 12
Не поднимайте тот покров, который
Зовут живые жизнью: пусть на нем
Лишь вымысел мерцает беглым сном,
Все то, чему хотели б верить взоры, —
Два духа, Страх и Чаянье, как воры,
Таятся там, во мраке роковом,
И тени ткут в провале снов глухом,
Над бездной создают свои узоры.
Был некто, кем покров приподнят был:
Любить хотел он, — но в широком мире
Он никого, увы, не полюбил.
Свет в тени, зрячий меж слепых на пире,
Ждал правды он, спасения от зол,
И, как Пророк в пустыне, не нашел.
Перси Биши Шелли. «Сонет» (перевод К. Д. Бальмонта)
— Полидори? Был… тем человеком?
Ребекка застыла в кресле.
Лорд Байрон улыбнулся.
— Почему это так вас удивляет? Я думал, вы догадались.
— Откуда мне было знать?
— Кто же еще был так заинтересован в том, чтобы прислать вас сюда?
Сердце Ребекки учащенно забилось; чтобы как-то успокоить себя, она начала оглаживать волосы.
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказала она.
Улыбка лорда Байрона стала жесткой. Он рассмеялся и поднял бровь.
— Очень хорошо, — насмешливо произнес он, — значит, вы не понимаете.
Ребекка прислушивалась к биению сердца, биению своей крови, крови Рутвенов, крови Байрона. Она облизала пересохшие губы.
— Полидори, наверное, все еще ненавидит вас? — медленно спросила она. — Даже несмотря на то, что вы дали ему то, о чем он вас просил? Он не испытывает к вам благодарности?
— О, он любит меня. — Лорд Байрон скрестил руки на груди. — Да, он всегда любил меня. Но в Полидори любовь и ненависть переплелись чудовищным образом, и невозможно было отделить их друг от друга.
— Вы боялись его?
— Боялся?
Лорд Байрон в удивлении посмотрел на нее. Он покачал. головой, и вдруг стало тихо. Ребекка закрыла лицо руками. Она увидела себя подвешенной на крюке, из сотни ран на ее теле фонтаном хлестала кровь. Она была мертва Ребекка открыла глаза.
— Неужели вы не понимаете, какой властью я обладаю? — Лорд Байрон улыбнулся. — Я — боюсь? Нет.
Ребекка задрожала и попыталась встать.
— Сидите.
И вновь ее сознание парализовал страх. Она попыталась бороться с ним. Но он стал еще сильнее. От ее смелости не осталось и следа. Ноги ее подкосились, и она упала в кресло. И вдруг страх прошел. Взглянув невольно в глаза лорда Байрона, она почувствовала, как на нее снизошло необычное спокойствие.
— Нет-нет, — произнес он. — Страх? Я не испытывал его. Вину — да, но не страх. Я сделал с Полидори то, что когда-то сделал со мной паша. Ведь я поклялся, что никогда не сделаю это, а сам превратил Полидори в живого мертвеца. Какое-то время я даже испытывал раскаяние от содеянного и ничего не мог сказать своим друзьям После того, что произошло в тюрьме, я не желал больше видеть Полидори, но графиня Марианна, которая любила меня, нашла доктора. Он сидел в холле гостиницы и истерично смеялся, как сумасшедший. Однако, узнав в Марианне вампира, сразу же успокоился. Он рассказал, что его нанял австрийский граф.
— Он простудился и попросил меня. — Полидори опять одолел приступ хохота. — Он попросил меня, ха, ха, ха, он попросил меня пустить ему кровь! Ха, ха, ха, ха! Ну… я и сделал это. Он сейчас наверху. Мне пришлось объяснить ему, что у него начался рецидив!
Полидори охватил приступ безудержного веселья, затем он разрыдался, и его лицо застыло холодной маской.
— Скажите Байрону, — прошептал он, — после того, что он сделал со мной, мне нужны деньги. Он поймет.
Его глаза вылезли из орбит. Язык, как у бешеного пса, вывалился наружу, с него стекала слюна; все тело содрогалось от конвульсий. Он повернулся спиной к Марианне и выбежал на улицу. Она не стала преследовать его.
Ее совет, когда она рассказала мне о Полидори, был прост:
— Убейте его. Так будет лучше. Есть люди, милорд, которые не умеют принять Дар. Тем более от вас. Ваша кровь слишком могущественна. Она лишила его разума Его нужно уничтожить.
Я не мог пойти на это. Мне хотелось как-то загладить свою вину. Я послал ему деньги, о которых он просил, но с одним условием: Полидори должен был вернуться в Англию. Я решил поселиться в Венеции. Мне не хотелось, чтобы Полидори отправился вслед за мной.
— И он уехал?
— Да, когда получил деньги. До нас доходили слухи, что его наняли англичане в качестве доктора Все они умерли. Никто не заподозрил Полидори. Говорили лишь, что он переусердствовал с пиявками. — Лорд Байрон улыбнулся. — Наконец он вернулся в Англию. Я узнал об этом, потому что он начал досаждать моему издателю своими скучнейшими пьесами. Эта новость позабавила меня. Я предупредил издателя, чтобы он закрывал окна на ночь.
— И он действительно больше не преследовал вас?
Лорд Байрон помолчал.
— Он не осмеливался появиться мне на глаза, пока я был в Венеции.
— Но почему?
— Потому что Венеция была моим оплотом, пристанищем, моим двором. Там я был неуязвим.
— Да, но почему Венеция?
— Почему Венеция?
Лорд Байрон нежно улыбнулся.
— Я всегда мечтал о таком городе и, к счастью, не был разочарован в нем. Почему Венеция? Вы хотите знать? Ах да, я забыл, что все изменилось. Но когда я жил там…
Лорд Байрон снова улыбнулся.
— Очаровательный остров печали и смерти. Грязные дворцы, крысы, рыскающие в темных лабиринтах каналов, переполненных призраками. Политическая слава и власть в Венеции были пустым звуком, Венеция погрязла в удовольствиях и разврате. Все в ней было необычно и чудесно: роскошь и грязь, грациозность и жестокость. Она была как шлюха, чье любвеобилие скрывает болезни. В камне, воде и свете Венеции воплотились мои красота и порочность. Она была вампиром городов. И я провозгласил в ней свое владычество.
Я поселился в палаццо у Большого канала. Я был не один в Венеции. Со мной был Ловлас и другие вампиры, именно графиня Марианна первая убедила меня приехать. Она жила во дворце, расположенном на острове. Она показала мне темницы своего дворца. Они были сырыми, как могилы, со стен все еще свисали цепи. В былые времена, объяснила мне Марианна, на них поджаривали узников.
— Теперь все намного сложнее, — сказала она. — Все рассказывают об этом небылицы, droits. — Она произнесла слово по-французски, на языке Революции, которая свергла старый порядок в Венеции. Она рассмеялась. — Простате меня, милорд. Настоящие развлечения аристократов ушли в прошлое.
Но в самой Марианне сохранился жестокий дух Борд-жиа. Она тщательно отбирала свои жертвы или сама выращивала их. Графиня развлекалась с ними, украшая их, наряжая херувимами, устраивая с ними спектакли. На этих вечерах графине прислуживали ее рабы — бездумные существа, подобных которым я видел в замке паши.
Ловлас, когда напивался, язвительно говорил мне:
— Тебе повезло, Байрон, что ты познакомился с графиней, уже став императором. Посмотри на него, — он показал на одного из рабов, — когда-то он, как и ты, был рифмоплетом и осмелился написать стихи о графине. И что ты думаешь, он до сих пор пишет свои сатиры?
Но шутки Ловласа не вызывали во мне улыбки, я хмуро смотрел на этих истуканов, как они с оцепенелым безразличием подавали нам еду. Хотя Агасфер и наделил меня властью, мне не хотелось менять заведенный порядок. Жестокость Марианны была частью ее красоты, ее вкуса, ее любви к искусству, поэтому я не порицал ее. Но позднее, когда я возвращался домой, впечатления об увиденном во дворце графини вновь нахлынули на меня, давая пищу для размышлений.
Мысли о том, кем я стал, все еще продолжали терзать меня. Я садился в черную гондолу, окаймленную золотой полосой, и отправлялся на охоту. Я тенью скользил по каналам в поисках человеческих отбросов — проституток, сводников, убийц. Я выпивал их кровь и выбрасывал тела за борт, кормя ими крыс, затем плыл дальше по каналам из города в тихие лагуны. Там в полнейшей тишине я заново переживал то, что произошло со мной за ночь. Чувства мои притупились. В них исчезла новизна; чем больше крови я пил, тем быстрее умирала моя душа. Я был вампиром, более того — величайшим из вампиров. Агасфер преподал мне хороший урок. Я не мог отказаться от своего естества, но продолжал сожалеть о том, что утратил. Я вспоминал оперу «Дон Жуан» и занимался любовью так, как ее герой, подавляя в себе все человеческое. Я имел своих бесчисленных любовниц — графинь, проституток, крестьянок — на балах, в гондолах, на улицах у стен, на столах. Да, это была жизнь, это была жизнь, и все же…
Лорд Байрон замолчал. Он вздохнул и покачал головой.
— И все же даже в высочайшие моменты наслаждения и желания я испытывал печаль и сомнение. И эти чувства росли с каждым днем. Я ничего не чувствовал; занимаясь любовью, я уподобился постаревшему развратнику, у которого иссякли силы, но похоть осталась. Я был взбешен до отчаяния. Я думал об этом во время моих одиноких прогулок в гондоле. Кровь была моим единственным наслаждением, смертный человек умер во мне, теперь я едва мог вспомнить того юношу, каким был раньше. Мне приснилась Гайдэ. Мы были вместе с ней в пещере у озера Трихонис. Я хотел поцеловать ее, но вдруг увидел, что лицо Гайдэ превратилось в разлагающуюся зловонную массу, а когда она открыла рот, он был полон воды. Но ее глаза сочились упреком, я отвернулся от нее, и сон исчез. Проснувшись, я попытался вспомнить, каким я был в те времена, когда еще не повстречал пашу. Я начал писать поэму. Она называлась «Дон Жуан». Словно в насмешку над самим собой я выбрал этого героя. Он не был чудовищем — он не соблазнял, не грабил, не убивал, он просто жил. Я отобразил в поэме всю свою жизнь, когда был смертным. Таким образом я прощался со своим прошлым. Моя жизнь прошла, остались только воспоминания. Я продолжал писать мою великую историю жизни, не имея ни малейшей иллюзии, что что-то может спасти меня. Я был тем, кем был, — повелителем вампиров, демоном смерти.
Я снова стал чувствовать себя одиноким. Марианна, Ловлас и другие вампиры всегда были рядом со мной, но я был их императором и поэтому не позволял себе показывать им свою меланхолию. Они все равно не поняли бы меня, потому что были слишком бездушны, их ничто не интересовало, кроме крови. Я снова начал страстно мечтать о друге, родственной душе, с которой мог бы разделить бремя вечности. Это должна была быть исключительная личность. И мне приходилось ждать. Но если бы такой человек нашелся, я бы завладел им и сделал бы его таким же могущественным вампиром, как и я сам.
Через два года пребывания в Венеции я узнал, что Шелли едет в Италию. Вместе с ним путешествовала Клер, она была с моим ребенком, с моей дочерью. Мне недавно сообщили о ее рождении. Я пожелал, чтоб ее назвали Аллегрой, в честь одной проститутки, которой я какое-то время был увлечен. Теперь Аллегру должны были прислать ко мне. Она носила в себе драгоценный, роковой для меня, аромат крови.
Шелли приехал в Италию, и я написал ему письмо, в котором просил посетить меня в Венеции. Но он отказался. Это сильно обеспокоило меня. Я вспомнил Швейцарию, подозрения Шелли по поводу меня, его страхи. Затем он написал мне письмо, предлагая встретиться. Для меня это было большим искушением — увидеть Шелли и Аллегру, да, это было настоящее искушение. Но я боролся с ним, потому что боялся снова почувствовать золотистый аромат, потому что очень хотел увидеть Шелли. Я ждал и не уезжал из Венеции.
В начале апреля меня постиг большой удар. Я узнал, что умерла леди Мельбурн. Тем же вечером она появилась в моем палаццо. Ее очень позабавило мое удивление.
— Ты уехал из Англии, — сказала она. — Неужели ты думал, что я останусь там одна? Кроме того, поползли слухи, почему я не старею.
— А теперь? — спросил я. — Что ты собираешься делать?
— Все. — Леди Мельбурн улыбнулась. — Все, что заблагорассудится. Я стала истинным духом Смерти. Ты тоже, Байрон, можешь последовать моему примеру.
— Нет, не могу, я все еще купаюсь в лучах своей славы.
— Да. — Леди Мельбурн смотрела на воды Большого канала. — До нас в Лондоне дошли слухи о твоем распутстве. — Она мельком взглянула на меня. — Я стала ревнивой.
— Тогда оставайся здесь. Тебе понравится Венеция.
— Я знаю.
— Так ты останешься?
Леди Мельбурн пристально посмотрела мне в глаза, затем вздохнула и отвернулась.
— Здесь Ловлас.
— Да. Так что с того?
Леди Мельбурн дотронулась до морщин на своем лице.
— Мне было двадцать, — в задумчивости произнесла она, — когда он видел меня в последний раз.
— Ты все еще прекрасна, — сказал я.
— Нет. — Леди Мельбурн покачала головой. — Нет, я не вынесу этого.
Она дотронулась до моего лица. Провела рукой по волосам.
— И ты, — прошептала она. — Ты тоже стареешь, Байрон.
— Да. — Я легко рассмеялся. — Морщины в уголках глаз оставляют неизгладимые следы.
— Неизгладимые. — Леди Мельбурн помолчала. — Но не неизбежные.
— Нет, — медленно сказал я и отвернулся.
— Байрон.
— Что?
Леди Мельбурн многозначительно промолчала. Я подошел к столу, взял письмо Шелли и показал его леди Мельбурн. Она прочла и вернула обратно.
— Пошли за ней, — сказала она.
— Ты так думаешь?
— Ты выглядишь на все сорок, Байрон. Ты полнеешь.
Я пристально посмотрел на нее. Я знал, что она говорит правду.
— Хорошо, — сказал я. — Я сделаю так, как ты предлагаешь.
Мою дочь привезли ко мне. Я отказался видеть Клер, она все еще была без ума от меня, поэтому Аллегру привезли в сопровождении няни-швейцарки. Ее звали Элиза. От Шелли, к моему большому разочарованию, не было никаких вестей.
Леди Мельбурн осталась жить в моем палаццо, скрываясь от Ловласа. Она хотела удостовериться в том, что моя дочь действительно приедет.
— Убей ее, — сказала она в первый же вечер, когда увидела играющую на полу Аллегру. — У бей ее сейчас же, пока ты не успел привязаться к ней. Вспомни Августу. Вспомни Аду.
— Я сделаю это, — заверил я ее. — Но не теперь, когда ты рядом. Я должен быть один.
Леди Мельбурн склонила голову.
— Я понимаю, — сказала она.
— Ты не останешься здесь, в Венеции? — снова спросил я.
— Нет. Я пересеку океан и уеду в Америку. Теперь я мертвая. Лучшего момента для посещения Нового Света не придумаешь.
Я улыбнулся и поцеловал ее.
— Мы снова встретимся, — пообещал я.
— Конечно. В нашем распоряжении целая вечность.
Она отвернулась и вышла. Я наблюдал с балкона, как она села в гондолу, ее лицо скрывал капюшон. Я подождал, пока гондола исчезла из виду, затем отвернулся и внимательно изучил свое лицо в зеркале, отмечая следы старения. Я взглянул на Аллегру. Она улыбалась мне, протягивая игрушку.
— Папа, — сказала она. — Bon di, papa.
Она снова улыбнулась.
— Завтра, — пробормотал я. — Завтра.
Я вышел из дворца и нашел Ловласа. Всю ночь я убивал с особой жестокостью.
Наступил следующий день, и я не смог убить Аллегру. И на следующий день, и в день, который пришел вслед за ним. Но почему, хотите вы спросить? Разве нужно спрашивать? В ней было слишком много от Байронов, от меня и от Августы. Она так же, как мы, хмурилась и надувала губы. Глубоко посаженные глаза, ямочка на подбородке, насупленные брови, белоснежная кожа, сладкий голос, любовь к музыке, самостоятельность — все выдавало в ней нашу породу. Я брал ее на руки, раскрывал губы, и она улыбалась мне так же, как это всегда делала Августа. Нет. Я не мог это сделать.
И все же мучительная пытка становилась все невыносимее. Возможно, я забыл о силе тяготевшего надо мной проклятия? Я заметил, что Элиза стала более подозрительной, меня это не беспокоило, но я боялся, что она может написать Шелли. Она не отходила ни на минуту от Аллегры, и все это время моя любовь к моему маленькому Байрону становилась сильнее, и я знал, что в конце концов не смогу убить ее, не смогу увидеть, как ее глаза закроются в последний раз. Это была медленная агония — держать Аллегру рядом с собой. Поэтому я отослал ее в дом британского консула. Дворец вампира не лучшее место для воспитания ребенка.
Но некоторым показалось странным, что Аллегра находится под присмотром посторонних людей. Однажды мы сидели за завтраком с Ловласом и обсуждали наши планы на вечер, когда мне доложили о приходе Шелли. Я поднялся и радостно приветствовал его. Шелли ответил мне тем же, но сразу приступил к цели визита. Он объяснил мне, что его попросила приехать сюда Клер, потому что она беспокоится об Аллегре. Я попытался унять его тревоги. Мы поговорили об Аллегре, о ее здоровье, ее будущем. Шелли, казалось, успокоился, но я так настойчиво пытался убедить его, что он несколько удивился. Ловлас наблюдал за мной своими изумрудными глазами с легкой улыбкой на устах, и, когда я предложил Шелли остаться у меня на лето, Ловлас прыснул от смеха. Шелли повернулся и с враждебностью посмотрел на него. Он взглянул на завтрак Ловласа — кровавый бифштекс, — вздрогнул и отвернулся.
— В чем дело? — спросил Ловлас. — Вам не нравится вкус мяса? — Он ухмыльнулся в мою сторону. — Байрон не говорил, что вы вегетарианец!
Шелли в бешенстве уставился на него.
— Да, я вегетарианец, — сказал он. — Почему вы смеетесь? Потому что я не обжираюсь мертвой плотью? Потому что вид крови и сырого мяса вызывает во мне отвращение?
Ловлас еще громче расхохотался, но вдруг замер. Он не отрывал взгляда от бледного лица Шелли, обрамленного, как и у Ловласа, золотистыми кудрями, и мне показалось, что это жизнь и смерть отражают красоту друг друга. Ловлас задрожал, затем снова ухмыльнулся и повернулся ко мне.
— Милорд.
Он поклонился и вышел.
— Кто он? — прошептал Шелли. — В нем есть что-то нечеловеческое.
Я заметил, что он дрожит, взял его за руку и попытался успокоить.
— Пойдем со мной. — Я указал на гондолу, покачивающуюся у ступеней дворца. — Нам о многом нужно поговорить.
Мы подплыли к песчаному берегу Лидо. Там я держал лошадей. Мы взобрались в седла и поехали вдоль дюн. Это было мрачное пустынное место, размытое приливами и отливами. Шелли повеселел.
— Я люблю такие пустынные места, — произнес он, — где все кажется безграничным и твоя душа раскрывается вселенной.
Я взглянул на него.
— Ты все еще мечтаешь, — спросил я, — овладеть секретами предвидения и власти?
Шелли улыбнулся мне и пришпорил лошадь, а я помчался вслед за ним. Мы скакали по волнам, ветер бил освежающей струей нам в лица, и волны плескались о берег, наполняя наше одиночество восторгом. Вскоре мы замедлили галоп наших скакунов и возобновили беседу. Ощущение бесконечного счастья нахлынуло на нас. Мы все время смеялись, наш разговор был откровенным, увлекательным и остроумным. Только когда мы повернули лошадей к дому, разговор перешел на мрачные темы, словно попал в тень пурпурного облака, нависшего над нашими головами. Мы начали говорить о жизни и смерти, о свободе воли и судьбе; Шелли, как обычно, оптимистично смотрел на вещи, но я, который знал намного больше, чем мой друг мог себе представить, придерживался мрачного взгляда. Я вспомнил слова Агасфера.
— Правда может существовать, — сказал я, — но даже если это так, она не отобразима. Мы не можем взглянуть на нее.
Я посмотрел на Шелли.
— Даже те, кто проник в тайны смерти.
Какой-то отблеск промелькнул на его лице.
— Возможно, ты прав, — сказал он, — в том, что мы беспомощны перед нашим собственным неведением. И все же я верю, что Судьба, Время, Случай, Изменчивость существуют ради вечной Любви.
Я усмехнулся.
— Ты говоришь об утопии.
— Ты так уверен в этом?
Я остановил свою лошадь и пристально посмотрел на Шелли. Я знал, что мой взгляд стал холодным.
— Что ты можешь знать о вечности?
Шелли отвел взгляд. Но наша прогулка подошла к концу. Все еще не отвечая мне, он слез с седла и сел в гондолу. Я присоединился к нему. Мы плыли по лагуне. Вода, освещенная лучами заходящего солнца, казалась огненной, но белые башни и дворцы Венеции на фоне темного неба выглядели прекрасными и мертвыми призраками. Я знал, что мое лицо совершенно бледно. Мы проплывали мимо острова, на котором стоял дворец Марианны. Звонил колокол. Шелли взглянул на голые стены и задрожал, словно почувствовал исходящие от них отчаяние и боль.
— А есть ли настоящая вечность, — задумчиво спросил он, — что лежит за пределами смерти?
— Если и есть, — ответил я, — осмелился бы ты познать ее?
— Возможно. — Шелли замолчал и опустил пальцы в воду. — Но это так долго, что я не хотел бы терять душу ради этого.
— Душу? — Я рассмеялся. — Я думал, что ты язычник, Шелли. Что это за разговоры о потерянной душе? Ты говоришь как истинный христианин.
Шелли покачал головой.
— Я говорю о душе, которую я, ты и все мы разделяем с душой космоса. Я надеюсь…
Он взглянул на меня. Я насмешливо
поднял брови. Пауза затянулась.
— Я бы решился, — произнес он наконец. — Да, я смог бы это сделать.
Мы больше ни о чем не говорили, пока не добрались до палаццо, а там снова возобновились шутки и веселье. Я был доволен. Шелли не сможет сопротивляться, он будет вынужден прийти ко мне, прийти и спросить. Я приготовился ждать. Он остался на лето, но не в Венеции, а через лагуну, на итальянском берегу. Я знал, что ему не нравится город, он как-то сказал мне, что под внешней красотой Венеции скрываются грязь и упадок; в этом Венеция была похожа на Ловласа с Марианной, которых Шелли с первой встречи возненавидел. Я видел, что ему не нравятся мои привычки и настроение, источником которых, как он считал, были отчаяние и презрение ко всему, и в то же время я очаровывал его, потому что он никогда не сталкивался с таким существом, как я. Мы много разговаривали, совершали прогулки верхом вдоль берегов Лидо. Все это время я мучил его соблазнами. Шелли смотрел на меня взглядом, полным тоски и почтения. Он был на грани падения, я чувствовал, что он готов уступить. Как-то раз мы просидели до поздней ночи, разговаривая в который раз о мирах, скрытых от простых смертных. Я говорил о том, что испытал на собственном опыте, Шелли — о своих мечтах. Я уже был готов открыть ему правду, но было почти пять, и над Большим каналом забрезжил рассвет, ночь уходила. Я попросил Шелли остаться.
— Пожалуйста, — умолял я. — Мне очень многое… — я улыбнулся, — очень многое нужно открыть тебе.
Шелли пристально посмотрел на меня, он дрожал, готовый, как мне показалось, согласиться. Но затем он поднялся.
— Я должен идти.
Я был разочарован, но не стал возражать. Впереди было еще много времени. Я наблюдал за его гондолой, пока она не исчезла из виду. Затем я перенесся через Венецианский залив и посетил Шелли в его снах. Я не пил кровь, но искушал его. Я показал ему Истину — могущественную тьму, исполненную силы, источающую мрак, бесформенную бездну смерти, Истину, дающую жизнь, Истину, открывающую тайны бессмертия. Шелли наблюдал, но не шел за мной. Я обернулся и улыбнулся ему. Шелли в отчаянии протягивал ко мне руки. Я вновь улыбнулся, поманил его и исчез во тьме. Завтра, подумал я, завтра ночью он согласится пойти за мной. Это произойдет завтра.
Наутро, когда я седел за завтраком, ко мне пришел Ловлас. Он сел за стол. Мы поболтали о разных пустяках.
— Да, — заметил Ловлас, внезапно оскалившись, — твой друг, вегетарианец. Ты разве не слышал, что он уехал?
Я замер. Ловлас еще шире улыбнулся.
— Я думал, он сказал тебе об этом прошлой ночью. Разве нет?
Он рассмеялся, я в ярости отшвырнул от себя стол и закричал, чтобы он оставил меня одного. Ловлас удалился с улыбкой на устах. Я приказал слугам пересечь залив и побывать в доме Шелли, чтобы удостовериться, абсолютно удостовериться в том, что он уехал, но я знал, что Ловлас сказал правду, — Шелли сбежал от меня. Несколько недель я пребывал в отчаянии. Ведь он вот-вот должен был стать моим. Осознание этого утешило меня. Он вернется. Я был уверен, что он не сможет отказаться от Дара. Он был так близок к падению. Мне оставалось только ждать.
И все же, воспрянув духом после мрачного состояния, я понял, что мое страстное желание обрести друга так и не было удовлетворено. Я решил уехать из Венеции. Мне наскучили ее развлечения, я понял, что наслаждения простых смертных не для меня, мне нужно что-то большее. Кровь по-прежнему вызывала во мне трепет, но даже охота за жертвами казалась мне теперь пустой и бесполезной. Ловлас в особенности докучал мне. Я понимал, что его ликование по поводу отъезда Шелли было проявлением ревности, и, даже понимая это, я не мог простить ему и намеренно избегал его общества. Мне опять в снах начала являться Гайдэ; я видел ее так живо, что у меня порой возникали мысли покинуть Венецию и уехать в Грецию. Но Гайдэ была мертва, а я — одинок. Зачем ворошить прошлое? И я остался в Венеции. Мое отчаяние росло. Другие вампиры, казалось, боялись меня.
Только Марианна понимала, как я одинок. Это удивило меня. Она спросила о Шелли. Я поначалу говорил о нем с иронией, но, видя ее симпатию, полностью открылся ей.
— Ждите, — посоветовала она. — Он придет. Лучше, когда смертный сам желает получить Дар. Вы помните, что случилось с Полидори?
— Да, — согласился я. — Да.
Я не мог рисковать рассудком Шелли. Но я знал, что уже вот-вот…
— А пока, — Марианна улыбнулась мне, — мы должны найти вам другого спутника.
Я усмехнулся.
— О да, графиня, конечно. — Я взглянул на нее. — Но кого?
— Смертного.
— Я боюсь за его рассудок.
— У меня есть дочь.
Я с удивлением смотрел на нее.
— И вы не убили ее?
Марианна покачала головой.
— Я обещала ее графу Гвичиолли. Вы помните его? Вы видели его в Милане.
Я кивнул. Он был среди тех вампиров, которые пришли выказать мне свое уважение. Скрюченный злой старик с жадными глазами.
— Но почему ему?
— Ему нужна была жена.
Я нахмурился.
— Разве вы не знаете? — удивилась Марианна. — Дети нашей породы очень высоко ценятся. Они могут одарить любовью вампира и не сойти при этом с ума. — Марианна помолчала. — Терезе всего лишь девятнадцать.
Я улыбнулся.
— И она замужем за графом Гвичиолли, вы говорите?
Марианна вытянула пальцы так, словно ее ногти стали когтями.
— Конечно, для него будет большой честью, милорд, уступить свою невесту вам.
Я снова улыбнулся и поцеловал Марианну долгим поцелуем в губы.
— О да, конечно, — пробормотал я. — Конечно, это будет честью для него.
Я помолчал.
— Позаботьтесь об этом, графиня.
И Марианна позаботилась.
Конечно, графу это не доставило удовольствия, но какое мне было до этого дело? Разве я не был его императором? Я приказал ему привести Терезу на маскарад. Он сделал это и представил ее мне. Я был очарован. Она была чувственной, с пышной грудью и золотисто-каштановыми волосами. Чем-то она напоминала Августу. Ее глаза затуманивались, когда я смотрел на нее; она полностью поддалась моим чарам, и это, казалось, нисколько не грозило ее рассудку.
— Она будет моей, — шепнул я графу.
Выражение его лица говорило само за себя, но он склонил голову в знак повиновения. Первые несколько месяцев я позволил ему жить с нами, но спустя какое-то время почувствовал, что это стесняет меня, и приказал ему уехать.
Тереза была в восторге. Может, она и любила раньше, но теперь она вся отдалась этому чувству.
— Пэр Англии, величайший поэт — и мой возлюбленный!
Она целовала меня, затем хлопала в ладоши от восторга.
— Байрон, саго mio! Ты подобен греческому богу! О Байрон, Байрон, я буду любить тебя вечно! Твоя красота прекрасней самых заветных грез!
Я был также увлечен ею. Она восполнила часть моего прошлого. Мы покинули Венецию, этот город вампиров, и уехали в местечко близ Равенны.
Я был счастлив там, счастливее, чем когда-либо с момента своего падения. Я жил почти как смертный. Конечно, я был вынужден охотиться за жертвами, но Терезу, если она и знала о моих наклонностях, это нисколько не беспокоило, она была жизнерадостна и безнравственна. Я внимательно искал в ней признаки безумия или депрессии, но она оставалась прежней — импульсивной, красивой, очаровательной, обожающей меня и обожаемой мной. Я пытался, как мог, изгнать из себя все, что напоминало о моей сущности. Аллегра, которую я взял с собой из Венеции, к тому времени уже подросла Ее кровь становилась все слаще и искусительней день ото дня. В конце концов я отослал ее в монастырь. Иначе я убил бы ее, ибо не смог бы дольше сопротивляться желанию испить ее крови. Я также пытался изгнать образ Гайдэ из своих снов. Равенна в это время была близка к революции. Итальянцы, как и греки, мечтали о свободе. Я оказывал им поддержку деньгами, своим влиянием. Я принял участие в борьбе за свободу Гайдэ, за свободу моей первой и единственной любви. Мои сны о ней стали меркнуть, и, когда она действительно являлась мне, укор в ее глазах уже не казался полным боли и страдания. Я стал ощущать себя свободным.
В таких настроениях прошел год, пока я ждал Шелли. Я знал, что он приедет. Он писал мне иногда. Он говорил о неясных планах, о каких-то обществах, которые мы должны организовать. Он никогда не упоминал о той последней ночи в Венеции, но я чувствовал, хотя он и не говорил об этом в письмах, что он тоскует по тому, что я предложил ему тогда. Да, я был уверен, что он приедет. Между тем мы жили с Терезой очень уединенно. Я наполнил наш дом животными — собаками, кошками, лошадьми, обезьянами, павлинами; у нас был даже египетский журавль — кровь этих животных, как я обнаружил, не вызывала во мне желания.
Лорд Байрон замолчал и оглядел комнату.
— Вы, наверное, заметили, что я все еще люблю окружать себя домашними любимцами.
Он нагнулся и погладил голову спящего пса.
— Я был счастлив, — сказал он, — в этом дворце с Терезой, так счастлив, как не был счастлив со дня своего падения.
Лорд Байрон кивнул и нахмурился.
— Да, — сказал он, — я был почти счастлив.
Он умолк.
— Но однажды вечером, — произнес он наконец, — я услышал крик Терезы.
Он помолчал секунду, словно растревоженный воспоминанием, затем отпил из бокала и продолжил:
— Я схватил пистолеты и поспешил в ее комнату. Собаки на лестнице испуганно лаяли, птицы, хлопая крыльями, бились о стены.
— Байрон!
Тереза выбежала мне навстречу. Она сжимала грудь. Едва заметная ранка была на ее коже.
— Кто это сделал? — спросил я.
Она покачала головой.
— Я спала, — пробормотала она сквозь рыдания.
Я вошел в комнату и тотчас почувствовал запах вампира Но в воздухе витал еще какой-то, более резкий, запах. Я вдохнул его и нахмурился. Ошибки быть не могло. Это была кислота.
— Кислота?
Не отдавая себе отчета, Ребекка подалась вперед в кресле.
Лорд Байрон улыбнулся ей в ответ.
— Да.
Улыбка сошла с его лица.
— Кислота. Неделю спустя пришло письмо. В нем говорилось, что Полидори умер. Самоубийство. Он был найден бездыханным вместе со своей дочерью, рядом лежала наполовину пустая бутылка с химикалиями. С синильной кислотой, как уточнялось в письме. Я перечел его еще раз, затем разорвал и бросил на пол Как только я это сделал, я снова почувствовал горький аромат.
Я обернулся. Полидори смотрел на меня. Он выглядел омерзительно — кожа была жирной, рот с вываленным наружу языком широко открыт.
— Прошло много времени.
Как только он заговорил, зловоние, исходившее от него, заставило меня отвернуться.
Он страшно улыбнулся.
— Прошу прощения за свое неприятное дыхание.
Он уставился на меня и нахмурился.
— Но вы сами выглядите неважно. Постарели. И уже не столь красивы, милорд.
Он замолчал, его лицо подергивалось.
— Ваша маленькая дочурка еще жива?
Я с ненавистью посмотрел на него. Он опустил глаза. Даже теперь он был моим созданием, а я его господином. Полидори отпрянул назад. Грызя костяшки пальцев, он уставился выпученными глазами на мои ноги. Затем он содрогнулся и захихикал.
— Я убил свою дочь.
Он задрожал. Я прикоснулся к его руке. Она была липкой и холодной. Полидори не отдернул руку.
— Когда? — спросил я.
Его лицо внезапно исказилось от горя.
— Я не мог бороться с этим, — сказал он. — Вы не говорили мне. Никто не говорил. Я не мог сопротивляться зову крови.
Он принялся стучать костяшками пальцев.
— Я пытался остановить себя. Я хотел покончить жизнь самоубийством. Я выпил полбутылки яда, милорд. И он, конечно, не подействовал. Тогда я вынужден был убить ее — мою маленькую девочку, — он захихикал, — мою сладкую маленькую девочку. А теперь, — он выдохнул мне в лицо, — у меня во рту стоит привкус этого яда. Всегда! — Он внезапно выкрикнул: — Всегда! Вы никогда не говорили мне, милорд, никогда, но я благодарю вас, благодарю, я сам понял, что вампир не стареет, когда пьет эту золотистую кровь.
Я почувствовал жалость к нему — да, конечно. Кто бы мог лучше меня понять его боль? Но одновременно я ненавидел его, ненавидел так сильно, как все остальное. Я снова мял ему руку, пытаясь успокоить, но он, окинув меня безумным взглядом, сплюнул на нее. Я инстинктивно отпрянул, схватился за пистолет и приставил его к подбородку Полидори. Но он расхохотался.
— Вы не можете причинить мне вред, милорд! Разве вы не слышали, официально я уже мертв!
Он захихикал, брызгая слюной, а я ждал, пока он умолкнет. Затем я холодно улыбнулся и дулом пистолета оттолкнул его. Он уткнулся в стену. Я стал надвигаться на него.
— Ты всегда был смешон, — прошептал я. — Неужели ты осмелишься бросить мне вызов? Посмотри, кем ты стал, и умерь свой пыл. Я могу сделать так, что твое существование станет невыносимым, намного невыносимее теперешнего.
Я пронзил его разум так, что он вскрикнул от боли.
— Намного невыносимее. Ведь я — твой создатель. И я — твой император.
Я опустил пистолет и отступил назад.
— Не искушай меня снова, доктор Полидори.
— Я тоже обладаю силой, — заикаясь, произнес он. — Я такой же, как и вы, милорд.
Его вид — выпученные глаза, широко раскрытый рот — рассмешил меня. Я спрятал пистолет за пояс.
— Убирайся, — сказал я.
Полидори замер от ужаса. Затем задрожал и начал что-то бормотать себе под нос. Он схватил меня за руки.
— Позаботьтесь обо мне, — прошептал он. — Позаботьтесь обо мне. Вы правы, я — ваше создание. Покажите мне, что это означает. Покажите мне, кто я есть на самом деле.
Я пристально посмотрел на него. На какое-то мгновение я заколебался. Но затем покачал головой.
— Ты должен идти собственным путем, — сказал я. — Мы все одиноки, все, кто странствует по океану Времени.
— Одиноки?
Его крик был неожиданным и ужасным — вопль зверя. От него кровь застыла в жилах.
— Одиноки? — повторил Полидори.
Он дико расхохотался. Он начал задыхаться, затем что-то бессвязно забормотал и посмотрел на меня глазами, горящими от ненависти.
— У меня на самом деле есть сила, — внезапно сказал он. — Вы думаете, что ваша жизнь полна страдания, но я могу сделать так, что даже свет луны будет ненавистен вам.
Он злобно взглянул и вытер рот.
— Я уже отведал крови вашей шлюхи.
Я схватил его за горло и притянул к себе. И снова я ворвался в глубины его мозга, пока он не забился в безумной агонии. Я все пронзал и пронзал его сознание, а он все кричал и бился от боли. Наконец я отпустил его. Он захныкал, лежа распростертый у моих ног. Я смотрел на него с удовлетворением.
— Тронешь Терезу, и я уничтожу тебя, — сказал я. — Ты понял?
Полидори что-то пробормотал, затем кивнул.
Я схватил его за волосы. Как и его кожа, они были липкими и сальными, когда я к ним прикоснулся.
— Я уничтожу тебя, Полидори.
Он захныкал и выдавил из себя:
— Понимаю.
— Что ты понимаешь?
— Я не буду, — фыркнул он, — я не буду… Я не буду убивать тех, кого вы любите, — просопел он наконец.
— Хорошо, — прошептал я. — Держи свое слово. И тогда… Кто знает? Возможно, я даже смогу полюбить тебя.
Я выволок его на лестницу и столкнул вниз. Он упал и загремел по ступенькам, вспугнув стаю цесарок. А я вернулся на балкон и наблюдал, как Полидори бежит через поля. Тем же вечером я объехал границы своих владений, но его специфический запах улетучился, испарился. Я не был удивлен, потому что нагнал на Полидори такого страху, что вряд ли бы он вернулся. Но я предупредил еще раз Терезу, чтобы она остерегалась запаха химикалий.
Однако теперь я тревожился не только об одной Терезе. Я получил письмо от Шелли, в котором он предлагал встретиться, и я тотчас ответил ему, приглашая погостить у себя. К моему удивлению, однажды вечером он въехал в ворота моего поместья. Я не видел его три года. Я поцеловал его в шею, слегка прокусив кожу до крови. Шелли напрягся, прижался к моей щеке и рассмеялся от удовольствия. Мы засиделись, как всегда, до глубокой ночи. Шелли говорил на свои обычные темы. В них присутствовали непристойные шутки, безумные планы, утопии, видения свободы и революции. Во мне нарастало нетерпение — я знал, зачем в действительности он пришел. Часы пробили четыре. Я вышел на балкон. Свежий воздух повеял на меня прохладой. Я обернулся к Шелли.
— Ты знаешь, кто я? — спросил я.
— Ты — могущественный и мятущийся дух, — ответил он.
— То, что я имею, мою силу, я могу передать тебе.
Шелли долго молчал. Даже в темноте его лицо светилось бледностью, как и мое, его глаза горели почти так же ярко.
— Космос, — сказал он наконец, — нуждается в быстрых и прекрасных созданиях Божьих, когда он устает от пустоты, но не так сильно, как я нуждаюсь, Байрон, в твоих творениях. Я отчаялся соперничать с тобой. Ты… — Он остановился. — Ты ангел в раю для смертных, в то время как я… — Его голос затих. — В то время как я — ничто.
Я приблизил его к себе.
— Мое тело не подвержено тлену, — сказал я.
Я погладил его волосы и склонил его голову к себе на грудь.
— Как и твое тело, — прошептал я.
Шелли поднял на меня глаза.
— Ты стареешь.
Я нахмурился и прислушался к биению своего сердца. Я ощутил, как моя кровь очень медленно движется по венам.
— Существует способ, — сказал я.
— Этого не может быть, — прошептал Шелли. Казалось, он бросает мне вызов. — Нет, этого не может быть.
Я улыбнулся и склонился над ним. Во второй раз я прокусил его горло. Кровь единственной рубиновой каплей заблестела на серебре его кожи. Я коснулся языком капли, затем поцеловал рану и начал пить кровь. Шелли застонал. Я пил его кровь и освобождал его мысли от ограничений бренного существования, наделяя его даром предвидения. Я снова поцеловал его и отодвинулся. Шелли медленно посмотрел на меня. На его лице, казалось, зажегся огонь иного мира. Он слабо пылал.
— Но убивать, — пробормотал он наконец, — оставлять после себя кровавый след. Как это можно делать?
Я отвернулся от него и вперил взгляд в горизонт.
— Жизнь волка означает смерть для ягненка.
— Да. Но я не волк.
Я улыбнулся про себя.
— Пока нет.
— Как я могу решиться на это? — Он помолчал. — Не сейчас.
— Подожди, если тебе угодно. — Я повернулся к нему. — Конечно, ты должен подождать.
— А тем временем?..
Я пожал плечами.
— Чем больше ты становишься философом, тем больше докучаешь мне.
Шелли улыбнулся.
— Уезжай из Равенны, Байрон. Приезжай и живи с нами.
— Чтобы помочь тебе решиться?
Шелли снова улыбнулся.
— Если тебе так нравится.
Он поднялся и тоже вышел на балкон. Мы долго стояли, не проронив ни слова.
— Возможно, — произнес он наконец, — я не буду избегать убийства… — Он замолк.
— Да? — спросил я.
— Если… Если мой путь через пустыню будет обагрен кровью деспотов и угнетателей…
Я улыбнулся.
— Возможно.
— Какую услугу ты и я, вместе, могли бы оказать делу свободы!
— Да, да! Разделить бремя моей власти! Посвятить себя свободе! Управлять, но не быть тираном. Что бы нам еще такого сделать?
— Светает, — заметил Шелли. Он взглянул на меня. — В Греции восстание, там идет борьба за освобождение. Ты слышал об этом?
Я кивнул.
— Да, я слышал.
— Если у нас будет сила, — Шелли умолк, — божественная сила Прометея, мы принесем этот тайный огонь, чтобы согреть отчаявшееся человечество.
Он взял меня за плечи.
— Байрон, разве ты не согласен?
Я смотрел мимо него. Мне показалось, что я увидел вызванную игрой света и тени от лучей восходящего солнца фигуру Гайдэ. Этот обман зрения длился лишь секунду, и потом исчез.
— Да, — ответил я, встретив взгляд Шелли, — да, мы смогли бы.
Я улыбнулся.
— Но сперва ты должен подождать, должен подумать и решиться.
Шелли погостил у меня еще неделю, затем вернулся в Пизу. Вскоре я последовал за ним. Я не хотел трогаться с места, но ради Шелли я поехал. В Пизе собралось достаточно большое общество англичан, не самое худшее, но в литературном отношении малоинтересное. Шелли редко приходил, чтобы застать меня наедине. Мы ездили вместе верхом, упражнялись в стрельбе из пистолетов, обедали, мы всегда были подобны двум противоположным, но сходным полюсам, вокруг которых вертелся весь остальной мир. Я ждал нетерпеливо (у меня никогда не было терпения), но с хищническим чувством ожидания. Однажды Шелли показалось, что он увидел Полидори. Он сказал мне об этом. Это встревожило меня; не то чтобы я боялся самого Полидори, но Шелли мог узнать правду, и его могло бы привести в замешательство то, кем стал доктор. Я пытался настаивать, воздействуя на разум Шелли. Однажды я пришел к нему ночью. Мы долго говорили допоздна Мне показалось, что он готов.
— В конце концов, — внезапно сказал он, — что плохого может со мной произойти? Жизнь может измениться, но она не исчезнет. Надежда может исчезнуть, но ее нельзя истребить.
Он погладил меня по щекам.
— Но сначала позволь рассказать мне все Мэри и Клер.
— Нет! — резко возразил я.
Шелли с удивлением посмотрел на меня.
— Нет, — повторил я, — они не должны ничего знать. Существуют вещи, которые следует держать в тайне.
Шелли посмотрел на меня. На его лице не было никакого выражения. Я подумал, что потерял его.
Но затем он кивнул.
— Скоро, — прошептал он и сжал мою руку. — Но если я не могу рассказать им, по крайней мере дай мне время, несколько месяцев, чтобы побыть с ними в облике смертного.
— Конечно, — согласился я.
Но я не сказал Шелли правду о том, что вампир должен распрощаться с любовью к смертным, и я не сказал ему правду более страшную, чем эта Конечно, я чувствовал беспокойство из-за того, что вынужден был молчать. Кроме того, Клер через Шелли начала докучать мне, чтобы я взял Аллегру из монастыря и вернул ее родной матери.
— Клер видит дурные сны, — пытался объяснить мне Шелли. — Ей снится, что Аллегра умрет в этом месте. Она почти убедила себя в этом. Прошу тебя, Байрон, ее ночные кошмары ужасны. Верни Аллегру. Позволь ей жить вместе с нами.
— Нет, — я покачал головой, — это невозможно.
— Прошу тебя. — Шелли схватил меня за руку. — Клер становится бешеной.
— Ну и что с того? — Я нетерпеливо пожал плечами. — Женщины всегда устраивают сцены.
Шелли напрягся. Кровь отхлынула от его лица, он сжал кулаки, но сдержал себя. Он поклонился.
— Вам, конечно, виднее, милорд.
— Мне жаль, Шелли, — сказал я, — мне действительно жаль. Но я не могу вернуть Аллегру. Так и передай Клер.
Шелли сделал это. Но ночные кошмары Клер становились все более ужасными, а ее страх за дочь более неистовым. Шелли, который ухаживал за Аллегрой, когда она была еще ребенком, симпатизировал Клер, и я почувствовал, что между нами возникла размолвка. Но что я мог поделать? Ничего. Я не мог теперь рисковать Аллегрой. Я не смел видеть ее. Ей было пять лет, и зов ее крови был для меня непреодолим Поэтому я продолжал отвергать просьбы Клер, надеясь, что Шелли наконец-то решится, Но он не решался, лишь становился все более отстраненным и холодным.
Затем пришло известие, что Аллегра больна. Она была слаба, ее била лихорадка, она, казалось, страдала от потери крови. В тот же день ко мне пришел Шелли. Он рассказал мне, что Клер вынашивает безумные планы по спасению Аллегры. Она решила выкрасть ее из монастыря. Я был напуган, однако скрыл свое замешательство. Одна лишь Тереза заметила его.
Этим вечером мы, как обычно, ужинали с семейством Шелли. Разошлись рано. Я сел на лошадь и скакал до самого рассвета Возвращаясь в свою комнату, я замер на ступенях…
Голос лорда Байрона затих.
Он перевел дух.
— Я замер на ступенях, — повторил он, — и содрогнулся. Я почувствовал самый изысканный запах. Не было ничего более прекрасного в мире. Я тут же понял, что это было. Я пытался бороться с ним, но не смог и вошел в комнату. Этот аромат наполнял меня, каждую вену, каждый нерв, каждую клеточку. Я был его рабом. Я огляделся. На моем столе стояла бутылка… Я подошел к нему. Она была откупорена. Меня трясло. Комната, казалось, растворилась в забвении. Я пил. Я ощутил вкус вина, смешанного с ней, смешанного с ней…
Лорд Байрон замолк. Его глаза, казалось, сверкали лихорадочным светом.
— Я пил. Это была кровь, кровь Аллегры… Что я могу сказать? Она доставила мне на какой-то миг райское наслаждение. Но этого было недостаточно. Всего лишь миг, и ничего более, — это могло свести меня с ума. Я нуждался в большем. Мне нужно было выпить еще крови. Я вновь наполнил бокал вином и опустошил его во второй раз. Жажда казалась еще более ужасной. Я посмотрел на бутылку и разбил ее о пол. Я должен был получить еще. Я должен быть получить еще.
Он проглотил подкативший к горлу ком и прикрыл горящие глаза.
— Но откуда она взялась? — тихо спросила Ребекка. — Кто принес ее вам?
Лорд Байрон рассмеялся.
— Я не смел даже думать об этом. Нет, скорее я был слишком одурманен, чтобы думать об этом. Я знал только, что мне необходимо еще. Я боролся с искушением весь следующий день. Из монастыря пришли новости: Аллегре стало хуже, она слабела, теряя кровь, никто не знал отчего. Шелли хмурился, встречая меня, и отворачивался. Мысль о том, что я лишаюсь его, ожесточила меня, но я не хотел уступать. Прошел еще один день, наступил вечер. И вновь я долго скакал верхом. И вновь вернулся поздно ночью в комнату. И вновь… — Лорд Байрон замолк. — И вновь на столе стояла бутылка, ожидая меня. Я выпил ее и ощутил, что жизнь словно серебро наполняет мои вены. Я оседлал лошадь. Когда я сделал это, я услышал смех, и до меня донесся запах кислоты. Но я обезумел от желания и уже не мог остановиться. Я проскакал галопом всю ночь. Я вошел в монастырь, где лежала умирающая Аллегра. Чувствуя вину, я прокрался в тень, не замеченный монахинями. Но Аллегра почувствовала мое присутствие. Она открыла глаза. Ее пальчики потянулись ко мне. Я взял ее на руки и поцеловал. Нежная кожа обожгла мне губы. Я прокусил ее. Эта кровь… Ее кровь…
Лорд Байрон пытался продолжать, но не смог, он тяжело дышал. Скрестив пальцы, он уставился в темноту. Затем опустил голову.
Ребекка наблюдала за ним. Она спрашивала себя, испытывает ли она к нему жалость? Она вспомнила бродягу у моста Ватерлоо. Она вспомнила свое видение, в котором увидела себя подвешенной на крюке.
— Вы получили то, что хотели? — спросила она.
Ее голос прозвучал холодно и отдаленно.
Лорд Байрон поднял голову.
— Хотел? — эхом отозвался он.
— Ваше старение… Кровь дочери прекратила его?
Лорд Байрон посмотрел на нее. Огонь в его глазах потух, они казались мертвыми.
— Да, — произнес он наконец.
— А Шелли?
— Шелли?
— Он?..
Лорд Байрон бросил взгляд на Ребекку. Лицо его все еще было безучастным, глаза — мертвыми.
— Он догадался? — тихо спросила Ребекка. — Он узнал?
Лорд Байрон медленно улыбнулся.
— Я, кажется, говорил вам о теории Полидори.
— О сомнамбулизме?
— О сомнамбулизме и природе снов.
— Понимаю. — Ребекка помолчала— Он вторгся в сны Шелли? Он мог это сделать?
— Шелли был смертным, — коротко ответил лорд Байрон.
Он закусил губу от внезапной боли.
— Со дня смерти Аллегры Шелли стал избегать меня. Он говорил своим друзьям о моей «ненавистной близости», жаловался на приступы необъяснимого страха. Выходя на берег моря и наблюдая отражение лунного света в воде, он видел обнаженного младенца, поднимающегося из глубины. Все это передавалось мне. Я подумывал о том, чтобы разыскать Полидори и убить его, как обещал. Но этого, я знал, было недостаточно. Именно Шелли был теперь моим врагом. Именно с Шелли я должен был бороться и переубедить его. Он только что купил яхту и намеревался предпринять путешествие по морю. Мне нужно было встретиться с ним до его отплытия.
Накануне стояла ужасная духота. По пути к его дому я слышал отовсюду мольбы о дожде. Уже смеркалось, когда я добрался до места назначения, жара была непереносимой. Я притаился в тени, дожидаясь, пока разойдутся домочадцы. Только Шелли не шел спать. Я видел, что он читает. Я подошел к нему и, незамеченный, сел в кресло подле него. Шелли не поднял головы, но задрожал. Его губы произносили строки из Данте. Я прочел вместе с ним:
— «Nessun maggior dolore» — «Тот страждет высшей муки…»
Шелли поднял голову. И я закончил:
— «Кто радостные помнит времена в несчастии…»
Воцарилась тишина. Затем я снова заговорил:
— Так ты решился?
Взгляд Шелли был полон холодного презрения и ненависти.
— У тебя лицо убийцы, — прошептал он. — Да. Очень гладкое, но в то же время залитое кровью.
— Что ты говоришь, Шелли? Ты ведь знал, что я питаюсь кровью.
— Но я не знал всей правды.
Он поднялся.
— Мне снились странные сны. Позвольте мне рассказать их вам, милорд.
Он произнес мой титул, точно как Полидори, с обжигающей горечью.
— Прошлой ночью мне приснилось, что Мэри беременна. Я увидел отвратительное создание, склонившееся над ней. Я оттолкнул его и увидел собственное лицо. — Он перевел дыхание. — Мне приснился второй сон. Я снова встретил самого себя, идущего по террасе. Но этот человек, похожий на меня, был бледнее, ужасная печаль застыла в его глазах. Он остановился.
«Сколько времени тебе потребуется, чтобы удовлетворить свое естество?» — спросил он.
«Сколько?» — непонимающе переспросил я.
Он улыбнулся.
«Разве ты не слышал? — спросил он. — Лорд Байрон убил свою дочь. И теперь я иду, чтобы убить свое собственное дитя».
Я закричал и проснулся в объятиях Мэри. Но не в ваших, лорд Байрон. Я никогда не буду вашим.
Он посмотрел на меня. Его глаза сверкнули отвращением. Я почувствовал, как отчаянное одиночество охватывает мою душу. Я попытался взять его за руку, но он отвернулся от меня.
— Сны были посланы врагом, — сказал я.
— Но была ли ложь в их предостережении?
Я безнадежно пожал плечами.
— Вы убили Аллегру, милорд?
— Шелли… — Я протянул ему руки. — Шелли, не оставляй меня одного.
Но он повернулся ко мне спиной и вышел из комнаты, не взглянув на меня. Я не стал преследовать его — что толку было в этом? Вместо этого я спустился в сад и вскочил на лошадь. Я поскакал сквозь душную ночь. Жара стала еще более мучительной.
Впервые за несколько месяцев я заснул. Тереза не тревожила меня. Мои сны не были приятными. Они были тяжелыми от чувства вины и мрачными от дурного предчувствия. Я проснулся в четыре. Все еще стояла духота Одевшись, я услышал отдаленный раскат грома, прокатившийся над морем. Я выглянул в окно. Горизонт подернулся пурпурной дымкой. Я поскакал к пустынному берегу. Море было все еще прозрачным и светилось на фоне сгустившихся, почерневших туч. Снова прогремел раскат грома, и вспышка света серебряным огнем осветила небо. Внезапно море превратилось в хаос бурлящих волн, когда порыв ветра налетел на бухту. Я остановил лошадь и стал смотреть на море. Я заметил лодку. Она появилась и пропала, затем снова появилась и наконец совсем исчезла за горой волн. Ветер свистел в моих ушах.
«Я не умею плавать».
Я до сих пор слышу эти слова, произнесенные им много лет назад. Он тогда отказался от моей помощи. Я снова стал искать глазами лодку. Она боролась со стихией. Затем я увидел, как она перевернулась и начала тонуть.
Я расцарапал запястье. Я пил кровь. Я поднялся, подставляя себя буре, вдыхая тьму, исходящую от моря. Я увидел обломки потерпевшей кораблекрушение лодки, раскачивающиеся на волнах. Я узнал эту лодку. С отчаянием я всматривался, надеясь отыскать Шелли. Затем я увидел его. Он вцепился в обломок борта.
— Будь моим, — прошептал я ему. — Будь моим, и я спасу тебя.
Шелли стал дико озираться. Я потянулся к нему и схватил его.
— Нет! — закричал Шелли. — Нет!
Он выскользнул из моих объятий. Он боролся с волнами. Он посмотрел на небо и, как мне показалось, улыбнулся, затем море поглотило его, и волны сомкнулись над его головой. Он погружался все глубже, глубже и глубже, на самое дно.
Глава 13
Зато я жил, и жил я не напрасно!
Хоть, может быть, под бурею невзгод,
Борьбою сломлен, рано я угасну,
Но нечто есть во мне, что не умрет,
Чего ни смерть, ни времени полет,
Ни клевета врагов не уничтожит,
Что в axe многократном оживет
И поздним сожалением, быть может,
Само бездушие холодное встревожит.
Лорд Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (перевод В. Левика)
Его тело было выброшено на берег десять дней спустя. Все оно было изъедено рыбами, выбелено морской водой, его нельзя было узнать. Овечья туша — все, что я мог сказать. Я подумал о Гайдэ. Я надеялся, что ее тело — гниющую массу в мешке наемника — не найдут, я надеялся, что ее кости лежат непотревоженные на дне озера Труп Шелли, лишенный одежды, представлял ужасное зрелище. Мы соорудили погребальный костер на берегу моря и зажгли его. Когда пламя стало разгораться, запах пропитанной водой плоти стал невыносим. Он был сладковатым и гнилостным, запах моего провала.
Я спустился к морю, срывая рубашку. Я огляделся по сторонам и увидел стоящего на холме Полидори. Наши глаза встретились, его толстые губы расплылись в усмешке. Столб дыма от костра разделял нас Я отвернулся и вошел в море. Я плыл, пока пламя костра не потухло. Но я все еще не чувствовал себя очистившимся. Я вернулся к пепелищу. Там не было ничего, кроме пепла. Я сжал пепел в кулаке и пропустил сквозь пальцы. Слуга что-то показал мне среди пепла. Это сердце Шелли, объяснил он мне, оно не сгорело — возможно, я этого хотел? Я покачал головой. Теперь было слишком поздно, слишком поздно, чтобы овладеть сердцем Шелли.
Лорд Байрон замолчал. Ребекка сидела в ожидании, она нахмурилась.
— А Полидори? — спросила она.
Лорд Байрон посмотрел на нее.
— Вы не покорили сердце Шелли. Вы его потеряли. И все же, когда вы увидели Полидори, вы не отомстили ему, но позволили уйти. И он все еще жив. Почему? Почему вы не уничтожили его, как намеревались это сделать?
Лорд Байрон слабо улыбнулся.
— Вы недооцениваете удовольствия, доставляемого ненавистью. Это удовольствие, достойное вечности.
— Нет. — Ребекка покачала головой. — Нет, я не понимаю.
— Человечество любит второпях, но чтобы ненавидеть нужно много времени. А я его имел и имею, — он прошипел эти слова, — много времени.
Ребекка нахмурилась еще сильнее.
— Неужели вы серьезно? — спросила она с внезапными раздражением и страхом.
Она крепко обхватила себя руками.
— Вы действительно могли уничтожить его?
Лорд Байрон холодно посмотрел на нее.
— Думаю, что да, — сказал он наконец.
Ребекка чувствовала, как ее сердце медленно бьется. Она боялась лорда Байрона, но не так сильно, как ночью накануне, когда Полидори так напугал ее на берегу Темзы выражением сумасшествия на лице и ядовитым дыханием.
— Только думаете? — спросила она.
Глаза лорда Байрона были все еще холодны, когда он ответил:
— Да, конечно. Как вы можете быть уверены в обратном? В венах Полидори течет часть моей крови. И это мой Дар — вот что я имею в виду. Да, — сказал он с внезапной страстностью, — я мог убить его, да, конечно, я мог это сделать. Но вы спрашиваете меня, почему я не убью его, почему не сделал это тогда, в Италии, после того как утонул Шелли. По той же самой причине. В Полидори текла моя кровь. Он был моим созданием, завещавшим мне одиночество и ставшим от этого еще более дорогим для меня. Я все более ненавидел его и все более понимал, что у меня больше никого нет. Возможно, Полидори и должен был стать таким парадоксом. Я не знаю. Даже Иегова, наслав потоп на человечество, не смог перенести полного разрушения своего мира. Как же мог я надругаться над духом Шелли, поступив еще хуже, чем христианское божество?
Лорд Байрон зловеще ухмыльнулся.
— Потому что дух Шелли и дух Гайдэ предстали предо мной. Не в буквальном смысле, даже не на столь долгий срок, как видение в моих снах, но — как опустошение. Моим дням не было числа, мои ночи были бессонны, и все же я не мог расшевелить себя, я ничем не занимался, кроме того, что убивал, размышляя о жизни, и пописывал стихи. Я вспоминал свою юность, когда сердце мое было переполнено волнением и эмоциями; и вот теперь, в свои тридцать шесть (еще не столь ужасный возраст), я ворошил уже угасшие угольки в сердце, принадлежавшем мне, и не мог разжечь в нем даже слабое пламя. Я растратил свое лето еще до того, как закончился май. Гайдэ была мертва, погиб Шелли, и дни моей любви тоже умерли.
И те же самые воспоминания вывели меня из оцепенения. В течение этого мертвого, словно стоячая вода, года в Греции очень быстро разгорелось восстание. То, о чем мечтала Гайдэ, — революция, которой Шелли так страстно желал руководить; борцы за свободу, к которым я себя причислял, обратили свой взор на меня. Я был знаменит, богат. Как мог я не предложить свою поддержку грекам? Я рассмеялся в ответ на это требование. Греки даже не понимали, о чем они меня просят, — я был смертоносным существом, мой поцелуи отравлял своим прикосновением. И все же, к моему удивлению, я обнаружил, что это привело меня в чувство — сделало то, что я считал уже невозможным. Греция — земля красоты и романтики; свобода — основа всего того, что я любил. И я согласился. Мне хотелось поддержать греков не только своим богатством — я собирался сражаться среди них. Мне хотелось покинуть Италию и вступить еще раз на священную землю Греции.
Ибо это, я понимал, есть мой последний шанс, чтобы оправдать свое существование и, возможно, умилостивить тех духов, которых я предал. И все же сам я не питал никаких иллюзий. Я не мог избежать своего естества, свобода, за которую я боролся, не была моей собственной, и, хотя я отстаивал независимость порабощенного народа, я был более запятнан кровью, чем самый кровожадный из турок. Я почувствовал сильное волнение, когда увидел вдали берег Греции. Сколько лет прошло с тех пор, когда я увидел ее впервые. Каким испытаниям вечности подвергся я за это время, вечности перемен… Это была та самая земля, где я любил Гайдэ, где я был смертным со свободной кровью. Печально, так печально было смотреть на горы Греции и думать о том, что умерло и было утрачено. И все же во всем этом была какая-то радость, смешанная с болью, так что невозможно было отделить их друг от друга Я и не пытался. Я был здесь для того, чтобы вести войну. Для чего же еще я приехал в Грецию, как не для того, чтобы расшевелить свой окостеневший мозг? Я удвоил свои усилия. Я старался ни о чем не думать, кроме как о борьбе с турками.
И все же при приближении к Миссолунги тени ужаса и сожаления вернулись ко мне, еще более мрачные, чем прежде. Когда мой корабль пересек лагуну и вплыл в бухту, с греческих кораблей начали палить пушки и на стенах собралась толпа, приветствуя нас. Но я едва замечал их. Надо мной вдалеке на фоне голубого неба возвышалась гора Аракинтос, а за ней, я знал это, находилось озеро Трихонис. И сейчас он ожидал меня — Миссолунги, где я получил избавление, убив пашу и присоединившись к Хобхаузу, будучи уже не смертным, а вампиром. Я вспомнил живость моих ощущений того дня, пятнадцать лет назад, глядя на цвета болота и неба. Эти цвета были такие же насыщенные, как и прежде, но, когда я смотрел на них, я видел смерть в их красоте, болезнь — в зеленых и желтых оттенках болот, дождь и лихорадку — в пурпуре облаков. И сам Миссолунги, как я увидел его теперь, показался мне жалким и убогим местом, построенным на болоте, окруженным лагунами, зловонным и переполненным, источающим болезни. Он казался местом, обреченным на героизм.
Все так и оказалось. Окруженные врагами греки были более заинтересованы в борьбе, чем сами турки. Деньги текли как вода сквозь мои пальцы, но на какие-то второстепенные цели, как я понимал, не считая трат на перебранки, которые так любили греки. Я старался примирить многочисленных вождей и восстановить дисциплину в войсках, у меня были деньги и сила принуждения во взгляде, но все указы, что я издавал, были легковесны и недолговечны. Все это время беспрестанно лили дожди, так что, даже если мы были готовы к атаке, мы не могли ничего сделать, столь мрачными и безнадежными становились условия. Грязь была повсюду, болотный туман висел над городом, воды лагуны начали подниматься, дороги превратились в хлюпающее болото. Не переставая лил дождь. Я готов был вернуться обратно в Лондон.
Вследствие этого свобода потеряла свой блеск. По приезде в Грецию я уменьшил число своих убийств, но теперь снова стал обильно пить кровь. Каждый день под холодным зимним дождем я покидал город. Я ехал по болотистой размокшей тропе вдоль берега лагуны. Убивал, пил кровь и бросал тела своих жертв в грязь и тростник. Дождевые потоки смывали трупы в грязные воды лагуны. Прежде я пытался не убивать греков, которых приехал защищать, но теперь делал это не задумываясь. Если бы я не стал убивать их, это сделали бы турки.
Как-то раз, подъезжая к озеру, я увидел фигуру, закутанную в лохмотья, стоявшую на тропе. Человек, кем бы он ни был, казалось, ждал меня. Я был голоден, потому что еще не убил никого, и пришпорил лошадь. Внезапно она встала на дыбы и заржала от страха. С большим трудом я заставил ее повиноваться.
Фигура в лохмотьях выступила вперед.
— Лорд Байрон.
Это был женский голос — надтреснутый, хрипловатый, но что-то странное слышалось в нем. И я вздрогнул, услышав его, охваченный одновременно восторгом и ужасом.
— Лорд Байрон, — позвала она вновь.
Я увидел блеск сверкающих глаз из-под капюшона. Она указала костлявой узловатой рукой на меня.
— Смерть за Грецию!
Эти слова будто ножом полоснули меня.
— Кто ты? — выкрикнул я, перекрывая барабанную дробь дождя.
Я увидел улыбку женщины, и вдруг мое сердце словно остановилось: ее губы напомнили мне… Хотя не знаю, чем именно… они напомнили мне Гайдэ.
— Постой! — воскликнул я.
Я поскакал к ней, но женщина исчезла. Берег был пуст. Вокруг не раздавалось ни звука, кроме стука капель дождя по воде.
Этой же ночью у меня был приступ: мое тело пронзила судорога. Я ощутил, как ужасный страх охватил меня, я пришел в неистовство, стал скрежетать зубами. Казалось, что все мои чувства покинули меня. Через несколько минут я очнулся, но все еще ощущал страх; и я испытывал, пока длился приступ, отвращение к самому себе, какого я не знал раньше. Оно возникло, и я понимал это, из-за женщины, которую я повстречал на тропе у лагуны. Воспоминания о Гайдэ, страдания из-за вины, страстное желание невозможного — все это нахлынуло на меня как шторм. Но я оправился.
Прошли недели, а я все пытался навести порядок в своих
войсках, мне даже удалось предпринять небольшое наступление на озере. Но все это время я помнил потрясение от той встречи и был полон странного предчувствия, ожидая увидеть ту женщину вновь. Я знал, что она придет. Ее требование эхом отдавалось в моем мозгу.
— Смерть за Грецию!
Лорд Байрон замолчал Он уставился в темноту, и Ребекке показалось, будто позади нее вновь раздался какой-то шум. Лорд Байрон тоже, казалось, услышал его. Он повторил свои слова, словно пытаясь заглушить шум. И они повисли в воздухе как приговор судьбы.
— Смерть за Грецию!
Он отвел взгляд от тьмы и взглянул в глаза Ребекке.
— Она действительно пришла вновь два месяца спустя. Я выехал со своими товарищами на разведку. В нескольких милях от города нас настиг проливной дождь, он лил как из ведра. Я увидел ее: она сидела, скорчившись, на корточках в грязи. Медленно, как и прежде, она указала на меня. Я задрожал.
— Вы видите ее? — спросил я.
Мои спутники обернулись, но дорога была пуста.
Мы вернулись в Миссолунги, промокнув до нитки. Я был весь в поту, мои кости ломило от лихорадки. Тем вечером я лежал на софе в беспокойстве и меланхолии. Образы прошлого, казалось, проплывали перед моими глазами. Как в тумане я слышал перебранку солдат на улице, они, как обычно, неистово ругались. Но я не обращал на них внимания. Я ни на что не обращал внимания, кроме своих воспоминаний и сожалений.
На следующее утро я попытался стряхнуть с себя отчаяние. Мы выехали верхом. Стоял апрель, и погода, как ни странно, была превосходной, мы скакали по дороге и перекидывались шутками. И вдруг в оливковой роще она вновь предстала предо мной — скорчившийся призрак в грязных отрепьях.
— Агасфер? — закричал я. — Агасфер, это ты?
Я проглотил подступивший к горлу ком. Мои губы пересохли. Слова ранили сердце.
— Гайдэ?
Я стал вглядываться. Кем бы она ни была, она исчезла. Мои друзья отвезли меня обратно в город. Я бредил и звал ее. Вновь вернулся приступ ужаса и отвращения к самому себе. Я слег в постель.
— Смерть за Грецию! Смерть за Грецию!
Слова, казалось, вместе с кровью стучали в моих ушах. Смерть — да, но я не мог умереть. Я был бессмертен, в конце концов, до тех пор пока питался живительной кровью. Мне показалось, что я увидел Гайдэ. Она стояла у моей кровати. Ее губы были приоткрыты, глаза сверкали, а лицо выражало смешанное чувство любви и отвращения.
— Гайдэ? — позвал я и потянулся к ней. — Ты действительно не умерла?
Я попытался дотронуться до нее, но она исчезла, и я остался один. И я поклялся, что не буду больше пить кровь. Я хотел пренебречь своими страданиями и побороть свою жажду. Смерть за Грецию? Да. Моя смерть может принести намного больше, чем жизнь. А для меня самого? Облегчение, угасание, небытие. Если мне действительно это дано, я желал этого.
Я оставался в постели. Проходили дни. Я все время был в лихорадке, моя боль усилилась и стала непереносимой. И я боролся с ней, даже когда моя кровь начала гореть, когда казалось, будто мои конечности скрючились, когда я чувствовал, что мой мозг, подобно сухой губке, прилипает к черепу. Как мухи, слетающиеся на гнилое мясо, собрались доктора. Видя, как они жужжат и суетятся вокруг, я страстно желал их крови, хотел истощить их всех. Вместо того чтобы бороться с искушением, я выгнал их, мои силы и здоровье продолжали угасать. Мало-помалу доктора стали собираться вновь. Вскоре мне уже не хватало сил, чтобы отсылать их обратно. Меня беспокоило, что они могут спасти меня, но, слушая их разговоры, я понял, что ошибаюсь, и даже с каким-то облегчением поощрял их. Боль стала ужасной, чернота сжигала мою кожу, я терял сознание. И все же я не умирал. Казалось, даже доктора не могут свести меня в могилу. И тогда они предложили вновь пустить мне кровь.
На их первую просьбу я ответил отказом Той крови, что текла в моих венах, уже почти не было — истощение причиняло мне ужасную муку, и я был не способен терпеть какую-либо боль. Я впал в отчаяние. Полностью потеряв силы, я согласился. Я почувствовал, как пиявки впились в мой лоб. Каждая жгла, как огненная искра Я закричал. Разве можно было стерпеть такую боль?
Доктор, видя, как я мучаюсь, взял меня за руку.
— Не беспокойтесь, милорд, — прошептал он мне на ухо. — Вам вскоре станет лучше.
Я рассмеялся. В моем воображении лицо доктора превратилось в лицо Гайдэ. Я выкрикнул в бреду ее имя. Должно быть, я потерял сознание. Когда оно вернулось, я вновь увидел пред собой лицо доктора. Он надрезал мне вены на запястьях Тоненькая струйка крови потекла из раны. Я хотел Гайдэ. Но она была мертва. Я выкрикивал ее имя. Мир завертелся в водовороте. Я начал выкрикивать другие имена — Хобхауза, Каро, Белл, Шелли.
— Я умру, — кричал я, погружаясь во тьму, исходившую из присосавшихся к моему лбу пиявок.
Мне показалось, что все мои друзья собрались у моей постели.
— Я буду таким, как вы, — сказал я им, — таким же смертным. Я буду смертным. Я умру.
Я застонал. Тьма надвигалась. Она окутывала мою боль. Окутывала мир.
«Это смерть?» — возникла мысль, как последняя свеча в темноте вселенной, и погасла. Не было больше ничего. Лишь тьма.
Я очнулся и увидел лунный свет. Он освещал мое лицо. Я пошевелил рукой. Я не чувствовал боли. Я провел рукой по лбу. Там, где были пиявки, я нащупал ранки. Я опустил руку, и лунный свет вновь осветил раны на лбу. Когда я прикоснулся к ним снова, они показались мне менее глубокими, в третий раз — они полностью исчезли. Я потянулся и встал. На фоне звезд я видел пик горы.
— Нет лучшего лекарства, милорд, чем наша красавица луна.
Я обернулся. Ловлас улыбался мне.
— Разве ты не рад, Байрон, ведь я спас тебя от этих миссолунгских шарлатанов?
Я мрачно посмотрел на него.
— Нет, иди к черту, — сказал я наконец, — я надеялся, что их искусство сведет меня в могилу.
Ловлас рассмеялся.
— Ни один шарлатан не сможет убить тебя.
Я медленно кивнул.
— Я понял это.
— Ты нуждаешься в хорошем лекарстве, восстанавливающем силы.
Он жестом указал мне на двух лошадей. За ними находился человек, привязанный к дереву. Он задергался, когда я посмотрел на него.
— Лакомое блюдо, — сказал Ловлас. — Я полагал, что ты, как истинный греческий воин, сможешь оценить кровь мусульманина.
Он ухмыльнулся, глядя на меня. Я медленно подошел к дереву. Турок начал корчиться и извиваться. Он застонал, у него во рту был кляп. После столь долгого воздержания, кровь казалась восхитительной на вкус. Я выпил всю кровь из своей жертвы до последней капли. Затем, слабо улыбаясь, поблагодарил Ловласа за его заботливость.
Он пристально посмотрел мне в глаза.
— Неужели ты думаешь, что я оставил бы тебя в твоих страданиях? — Он помолчал. — Я порочный, жестокий, я законченный негодяй, но я люблю тебя.
Я улыбнулся. Я верил ему. Я поцеловал его в губы, затем огляделся по сторонам.
— Но как ты доставил меня сюда? — спросил я.
Ловлас подбрасывал в руках кошель с монетами. Он ухмыльнулся.
— Никто так хорошо не берет взятки, как твои греки.
— И где мы находимся?
Ловлас склонил голову и не ответил.
Я огляделся. Мы были в лощине среди скал и деревьев. Я снова посмотрел на вершину горы. Эти очертания, силуэт на фоне звезд…
— Где мы? — спросил я снова.
Ловлас медленно обратил на меня свой взор. Лунный свет подчеркивал бледность его лица.
— Как, Байрон, — удивился он, — разве ты не припоминаешь?
Я застыл на мгновение, охваченный ужасом, затем прошел мимо деревьев. Впереди я увидел вспышку серебряного света. Деревья остались позади. Подо мной простиралось озеро, освещенное лунным светом, по воде шла рябь от легкого ветерка. Над головой знакомым силуэтом возвышалась гора. Позади… Я обернулся — картина была все та же. Я медленно подошел к выходу из пещеры. Ловлас встал рядом со мной.
— Почему? — прошептал я.
Возможно, бешенство и отчаяние сверкнуло в моих глазах, ибо Ловлас, испуганный, отпрянул назад и закрыл лицо. Я отнял его руки, заставив его смотреть мне в глаза.
— Почему, Ловлас? — Я сжал его сильнее. — Зачем?
— Оставь его.
Голос, доносившийся из пещеры, был слабым и почти неслышным. Но я узнал его, узнал тотчас, и я понял, услышав его в тот момент, что его отголоски никогда не стирались из моей памяти. Нет, он всегда был со мной. Я разжал руки. Ловлас отскочил назад.
— Это он, — прошептал я.
Я не спрашивал, я был уверен в этом. Ловлас кивнул. Я наклонился к его поясу, вытащил пистолет и взвел курок.
— Послушай его, — сказал Ловлас— Послушай то, что он должен сказать тебе.
Я промолчал. Я огляделся вокруг, посмотрел на луну, гору, озеро и звезды. Я так хорошо помнил их. Сжав крепче рукоять пистолета, я повернулся и пошел в темноту пещеры.
— Вахель-паша. — Мой голос эхом отдавался в глубине пещеры. — Они сказали мне, что ты покоишься в своей могиле.
— Так оно и есть, милорд. Это правда.
Этот голос, все еще слабый, доносился из глубины пещеры. Я всмотрелся в тени и разглядел фигуру, распростертую на земле. Я сделал шаг вперед.
— Не смотри на меня, — сказал паша. — Не подходи ближе.
Я презрительно рассмеялся.
— Именно ты привел меня сюда. Поэтому слишком поздно отдавать мне подобные приказания.
Я встал над пашой. Он прижимался к скалам. Медленно он повернулся ко мне.
Я вздрогнул от неожиданности. Кости на его лице были разрушены, кожа пожелтела, печать боли сквозила в его взгляде… Но не лицо так ужаснуло меня. Нет, но его тело! Оно было голым, вы понимаете? Голым, лишенным одежды, — да, с содранной кожей, а местами — даже с вырванными мускулами и нервами. Рана на его сердце все еще была открытой и незажившей. Кровь, подобно воде из крошечного источника, слегка пузырилась с каждым мучительным вдохом. Вся его плоть была синей от гниения. Я наблюдал, как он чистит рану на своей ноге. Белый и жирный червь выпал из нее. Паша раздавил его пальцами и вытер руку о скалу.
— Вы видите, милорд, в какое произведение красоты вы превратили меня?
— Мне очень жаль, — произнес я наконец. — Я думал, что убил вас.
Паша расхохотался и закашлялся, когда кровь пеной выступила на его губах. Он сплюнул, и кровь запачкала его подбородок.
— Вы хотите мести, — сказал паша. — Ну так смотрите, чего вы достигли. Вот ужас, который намного страшнее любой смерти.
Наступило долгое молчание.
— Еще раз повторяю, — сказал я. — Мне очень жаль. Я не хотел этого.
— Такая боль, — паша пристально смотрел на меня, — такая боль пронзает мое сердце в том месте, где прошла ваша сабля. Такая боль, милорд.
— Вы казались мертвым Когда я оставил вас там, в ущелье, мне казалось, что вы умерли.
— Это было почти так, милорд. — Он помолчал. — Но вы даже представить себе не могли, насколько я могущественнее вас.
Я нахмурился.
— Что вы имеете в виду?
— Таких величайших вампиров, милорд, как я, — он опять помолчал, — и вы, не так-то легко убить.
Я так сильно сжал пистолет, что суставы моих пальцев побелели.
— Но есть ли выход?
Паша попытался улыбнуться. Его усилия разрушила гримаса боли. Когда он заговорил снова, это не было ответом на мой вопрос.
— Долгие годы, милорд, я лежал в могиле. Моя плоть смешалась с грязью, мои пальцы обвили черви, всякие ползучие твари земли оставили на моем лице липкие следы грязи. Я не мог пошевелиться, так; велика была тяжесть земли, сковавшая мои руки и ноги, она преградила мне путь к живительному свету луны и ко всем тем живым существам, чья кровь могла бы воскресить меня. О да, милорд, рана, которую вы мне нанесли оказалась тяжелой и мучительной. Долгое время она сковывала меня, не давая восстановить силы и вырваться из объятий могилы. И даже теперь, вы видите, — он указал на себя, — как много мне предстоит претерпеть.
Он сжал свое сердце. Кровь, пузырясь, потекла по его руке.
— Рана, которую вы мне нанесли, милорд, все еще кровоточит.
Я стоял, похолодев от ужаса. Пистолет, казалось, растворился в моей руке.
— Так вы поправляетесь? — спросил я.
Паша слегка склонил голову.
— И вы в конце концов вновь обретете свой прежний вид?
— В конце концов да. — Паша улыбнулся. — Если только способ, о котором я упомянул…
Его голос затих. Я все еще не двигался. Паша потянулся ко мне, чтобы взять меня за руку. Я не сопротивлялся. Медленно я наклонился и встал на колени. Он повернулся и пристально посмотрел мне в глаза.
— Вы все еще прекрасны, — прошептал он, — после всех этих лет.
Его губы искривились в усмешке.
— Хотя постарели. Вы, наверное, отдали бы все, чтобы восстановить свою прежнюю красоту?
— Я бы отдал все, чтобы вновь стать смертным.
Паша улыбнулся. Видимо, мой ответ поразил вампира, потому что в его глазах я увидел боль и печаль.
— Мне жаль, — прошептал он, — но это невозможно.
— Почему? — воскликнул я с внезапной яростью. — Почему я? Почему именно меня вы выбрали для своего, своего…
— Для своей любви.
— Для своего проклятия.
И вновь он улыбнулся. И вновь я увидел печаль и сожаление в его взгляде.
— Потому что, милорд…
Паша потянулся, чтобы дотронуться до моей щеки. Это усилие заставило все его тело содрогнуться. Я почувствовал его окровавленный палец на своей коже.
— Потому что, милорд, — он запнулся, и вдруг его лицо словно осветилось страстью и надеждой, — потому что я увидел ваше величие.
Он судорожно дышал, но даже боль не могла заглушить эту внезапную вспышку страсти.
— Когда мы впервые встретились, уже тогда я понял, кем вы можете стать. Моя вера была оправданной, вы — создание более могущественное, чем я, без сомнения, величайшее из всего нашего рода. Мои ожидания оправдались. У меня есть преемник, готовый взвалить на себя тяжкую ношу и продолжать поиск. И там, где я потерпел поражение, милорд, именно вы сможете достичь успеха.
Его рука бессильно упала. Все его тело вновь затряслось словно от боли, которую причиняла ему его речь. Я с изумлением посмотрел на пашу.
— Поиск? — переспросил я. — Какой поиск?
— Вы говорили о проклятии. Да. Вы правы. Мы прокляты. Наша потребность, наша жажда — это то, что делает нас существами отвратительными, вызывающими страх. И все же, милорд, я верю, — он перевел дыхание, — в нас есть величие… Если только… Если только…
Он снова начал задыхаться, кровь брызнула ему на бороду.
Я посмотрел на темно-красные пятна и кивнул.
— Если только, — прошептал я, продолжая его фразу, — если только мы не будем испытывать жажду.
Я вспомнил Шелли и закрыл глаза.
— Чего мы сможем достигнуть, не испытывая жажды?
Я почувствовал, как паша сжал мою руку.
— Ловлас говорил мне, что к вам приходил Агасфер.
— Да. — Я посмотрел на него с внезапным удивлением. — Вы знаете его?
— У него есть множество имен. Вечный Жид — это человек, который насмехался над Христом во время его пути на Голгофу. И за это он был обречен на вечное скитание. Но Агасфер и тогда был древним, когда Иисус подвергся поруганию. Агасфер был древним и вечным, как весь его род.
— Его род?
— Род бессмертных, милорд. Не как мы, не вампиры… Настоящие бессмертные.
— А что значит «настоящее бессмертие»?
Глаза паши загорелись еще ярче.
— Свобода, милорд, свобода от необходимости пить кровь.
— И она существует?
— Мы должны верить в это.
— Так вы никогда не встречали этих бессмертных?
— Подобно вам — нет.
Я нахмурился.
— Тогда откуда вы знаете, что они действительно существуют?
— Имеются доказательства, слабые, порой сомнительные, но тем не менее доказательства существования нечто. Тысячу двести лет, милорд, я искал их. Мы должны верить. Мы должны. Разве есть у нас другой выбор или надежда?
Я вспомнил Агасфера, как он явился ко мне, его странные речи. Я покачал головой и поднялся.
— Он сказал, что для нас нет надежды, — сказал я, — нет выхода.
— Он солгал.
— Откуда вы знаете?
— Потому что он должен был открыть секрет.
Паша попытался приподняться.
— Неужели вы не понимаете? — страстно воскликнул он.
— Существует какой-то способ достичь бессмертия. Истинного бессмертия. Разве стал бы я тратить на это долгие годы, если бы у меня не было надежды? Оно существует, милорд. И у вашего паломничества, возможно, будет конец.
— У моего? Но почему не у вашего?
Паша улыбнулся, лихорадочное возбуждение вновь зажглось в его глазах.
— Моего? — переспросил он. — У моего пути тоже есть шанс завершиться.
Он взял меня за руку и притянул к себе.
— Я устал, — прошептал он. — На меня слишком долго возлагались надежды всего рода.
Он крепче сжал мою руку.
— Примите эту ношу, милорд. Я столетиями ждал такого, как вы. Сделайте то, о чем я вас попрошу, освободите меня. Отпустите меня с миром.
Я осторожно провел рукой по его лбу.
— Так это правда, — прошептал я, — и я могу даровать вам смерть?
— Да, милорд. Я был могущественным властелином среди повелителей Смерти. Таким вампирам, как вы и я, невозможно умереть, так я думал долгое время. Но не такую жизнь я искал эти долгие годы. Смерть тоже имеет свои секреты. В библиотеках, в развалинах древних городов, в таинственных храмах и забытых гробницах я искал их.
Я пристально посмотрел на него.
— Так скажите мне, — неторопливо произнес я, — что же вы нашли?
Паша улыбнулся.
— Способ.
— Какой?
— Это должны быть вы, милорд. Вы, и никто другой.
— Я?
— Это может быть только тот, кого я сделал вампиром. Только мое творение.
Паша кивком головы подозвал меня. Я приблизил ухо к его губам.
— Чтобы положить этому конец, — прошептал он. — Чтобы освободить меня…
— Нет! — почти закричала Ребекка.
Лорд Байрон сощурил глаза.
— Не говорите это. Пожалуйста. Прошу вас.
Жестокая усмешка исказила его губы.
— Почему вы не хотите знать? — спросил он.
— Потому что…
Ребекка начала жестикулировать руками, поскольку не могла говорить.
— Неужели вы не понимаете?
Она откинулась на спинку кресла.
— Знание может оказаться опасной вещью.
— Да, может. — Лорд Байрон насмешливо кивнул. — Конечно может. Но ведь таким образом вы отказываете себе в праве на мысль. Не сметь, не искать, а закоснеть и гнить?
Ребекка перевела дух. Темный страх и надежда смешались в ее рассудке, Ее горло, казалось, пересохло от сомнения.
— Так вы сделали это? — спросила она наконец. — Вы сделали то, что он просил?
Прошло много времени, прежде чем лорд Байрон ответил.
— Я обещал ему, что сделаю это, — произнес он. — Паша поблагодарил меня — просто, но с учтивостью. Затем он улыбнулся.
— В обмен на это, — сказал паша, — я кое-что приберег для вас.
— Он рассказал мне о своем наследии: бумагах, рукописях, результатах тысячелетней работы. Он спрятал их для меня на Ахероне.
— На Ахероне? В замке паши?
Лорд Байрон кивнул.
— Почему там? Почему он сразу не отдал их вам?
— Я задал ему тот же вопрос.
— И?
— Он ничего не ответил.
— Почему?
Лорд Байрон замолк. Он снова посмотрел на тени за креслом Ребекки.
— Он спросил меня, помню ли я подземную гробницу. Я, конечно, помнил ее.
— Там, — сказал он мне, — вы найдете мой прощальный дар. Остатки замка были погребены под землей. Но гробница никогда не может быть разрушена. Ступайте, милорд, и найдите то, что я для вас оставил.
Я снова спросил его, почему он не принес бумаги с собой. Паша улыбнулся мне в ответ и покачал головой. Он взял меня за руку.
— Обещайте, — прошептал он.
Я кивнул в знак согласия.
Он снова улыбнулся и повернулся лицом к стене пещеры. Какое-то время он молча лежал, потом повернулся и посмотрел на меня.
— Я готов, — прошептал он.
— Еще не слишком поздно, — сказал я. — Вы можете поправиться и продолжить свои поиски вместе со мной.
Но паша покачал головой.
— Я решился, — произнес он.
Он взял мою руку и прижал, ее к своему обнаженному сердцу.
— Я готов, — прошептал он мне на ухо.
Лорд Байрон замолк. Он улыбнулся Ребекке.
— Я убил его, — сказал он, наклоняясь вперед. — Хотите знать как?
Ребекка молчала.
— Это тайна. Смертельная тайна.
Лорд Байрон расхохотался. Похолодевшей от ужаса Ребекке показалось, что он говорит это не ей, а кому-то другому.
— Я раскроил его череп, разорвал грудь на части. И затем…
Он сделал паузу. Ребекка прислушалась. Она была уверена, что слышала шум — тот самый скрежет, который раздавался раньше; он исходил из темноты за ее креслом. Она попыталась подняться, но взгляд лорда Байрона был устремлен на нее, она сидела словно парализованная. Вся комната снова погрузилась в тишину. Ребекка не слышала ни звука, кроме биения собственного сердца.
— Я съел его сердце и мозг. Все оказалось так просто.
Лорд Байрон пристально смотрел во тьму.
— Паша умер без единого стона. Вид его разбитого черепа был отвратителен, но его лицо под коркой запекшейся крови было спокойным и умиротворенным. Я подозвал Ловласа. Мы встретились у входа в пещеру. Он был поражен, увидев меня, однако улыбнулся и погладил меня по лицу.
— О Байрон, — сказал он, — как я рад. Да ты вновь стал красавцем!
Я нахмурился.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я.
— То, что ты прекрасен. Прекрасен и молод, как прежде.
Я дотронулся до щек.
— Нет.
Они были гладкими, без единой морщины.
— Нет, этого не может быть.
Ловлас усмехнулся.
— Но это так. Ты такой же красивый, как и при первой нашей встрече.
— Но…
Я улыбнулся, поймав усмешку Ловласа, затем расхохотался, охваченный внезапным восторгом.
— Я не понимаю… как? — Я вновь расхохотался. — Как?
Я задыхался и не верил произошедшему. И вдруг я все понял Я обернулся и посмотрел в глубину пещеры на истерзанное тело паши.
Ловлас впервые увидел то, что я сделал. Он подошел к телу и с ужасом посмотрел на него.
— Неркели он мертв? — спросил он. — Действительно мертв?
Я кивнул. Ловлас содрогнулся.
— Но как?
Я погладил его по голове.
— Не спрашивай, — ответил я.
Я поцеловал его долгим поцелуем:
— Ты не захочешь об этом знать.
Ловлас кивнул. Он наклонился над трупом и с удивлением посмотрел на него.
— Что теперь? — произнес он, взглянув на меня. — Мы сожжем тело или предадим его земле?
— Ни то и ни другое.
— Байрон, он был мудрым и могущественным, ты не можешь оставить его здесь.
— Я не собираюсь это делать.
— Тогда что?
Я улыбнулся.
— Ты возьмешь тело в Миссолунги. Греки должны получить своего мученика А я…
Я прошел к выходу. Черные тучи набежали на звезды. Я потянул носом воздух. Надвигалась буря. Я повернулся к Ловласу.
— Мне необходима свобода. Лорд Байрон умер. Умер в Миссолунги. Пусть эта новость разнесется по всей Греции и всему миру.
— Ты хочешь, — Ловлас показал на тело, — чтобы его тело приняли за твое?
Я кивнул.
— Но как?
Я похлопал по его кошельку с монетами.
— Греки, как никто на свете, поддаются на подкуп.
Ловлас неторопливо улыбнулся. Он склонил голову.
— Хорошо, — ответил он, — если ты так желаешь.
— Да, я так желаю.
Я поцеловал его, затем вышел из пещеры и отвязал лошадь. Ловлас наблюдал за мной.
— Что ты собираешься делать? — спросил он.
Я рассмеялся и вскочил на лошадь.
— Мне нужно кое-что разыскать, — сказал я.
Ловлас нахмурился.
— Разыскать?
— Последний дар, если хочешь знать.
Я пришпорил лошадь.
— Прощай, Ловлас. Я буду ждать, когда грянут пушки по всей Греции, возвещая о моей смерти.
Ловлас снял шляпу и изящно поклонился. Я помахал ему рукой, развернул лошадь и галопом помчался вниз с холма. Вскоре пещера исчезла за скалами и рощами. Буря застигла меня на янинской дороге. Я остановился в таверне. Греки, находившиеся в ней, ворчали, что никогда еще не слышали подобного грома.
— Наверное, великий человек ушел от нас, — соглашались они друг с другом.
— Кто бы это мог быть? — поинтересовался я.
Один из них, бандит, судя по пистолетам за поясом, перекрестился.
— Молитесь Богу, чтобы это был не лордос Байронос, — сказал он.
Его товарищи согласно закивали. Я улыбнулся. Там, в Миссолунги, я знал, что солдаты на улицах, должно быть, причитают и оплакивают меня.
Я подождал, пока стихнет буря. Я скакал всю ночь и весь день. К сумеркам я добрался до дороги на Ахерон. У моста я встретил крестьянина. Он закричал, когда я затащил его к себе на лошадь:
— Вурдалак! Вурдалак вернулся!
Я перегрыз ему горло, напился крови и сбросил его тело в реку, ниже по течению. Луна ярко светила в небе. Я пришпорил лошадь и поскакал через ущелья и овраги.
Арка, посвященная повелителю Смерти, стояла, как и прежде. Я проскакал под ней, миновав утес, и затем, обогнув мыс, поскакал к деревне и замку паши, который возвышался на скале. Я миновал деревню. От нее ничего не осталось, сохранились лишь могильные холмы из булыжников и сорной травы, а когда я приблизился к стенам замка, то обнаружил, что их словно поглотили скалы, будто их никогда и не было. Но как только я достиг вершины, где находился замок, я замер от удивления. Странные вывороченные камни мерцали в лазурном мраке, будто покрытые плесенью. Я медленно спустился. От бывшего здесь когда-то могучего величавого сооружения не осталось и следа. Кипарисы, плющ и сорная трава разрослись на заброшенных руинах. Я задавал себе вопрос, неужели это я разрушил замок, неужели я навлек на него проклятие, вонзив саблю в сердце его господина.
Я искал большой зал. Не осталось и следа от колонн и лестниц, повсюду валялись обломки, и я ощутил все возрастающее чувство безнадежности. Как раз в тот миг, когда я был близок к отчаянию, я узнал фрагмент камня, скрытого сорной травой. От камня мало что осталось, но я различил решетку, украшенную узором. Она обрамляла беседку, ведущую в храм Смерти. Я вырубил сорняки, и моему взору открылась зияющая тьма. Я стал вглядываться в нее. Там были ступени, ведущие вниз. Вход был почти полностью разрушен. Я удалил обрывки плюща и стал спускаться в глубь подземелья.
Я спускался все ниже и ниже. В темноте вспыхнули факелы. Когда их пламя стало ярче и сильнее, я различил фрески на стенах, те самые, которые видел здесь, спустившись сюда впервые столько лет назад. Я остановился у входа. Там, в глубине, по-прежнему стоял алтарь. Я вдохнул тяжелый спертый воздух. И вдруг замер, почувствовав запах другого вампира. Что подобному существу нужно здесь? Меня охватило волнение. Осторожно я вошел внутрь.
Фигура в черном плаще стояла напротив огня. Она повернулась ко мне и подняла капюшон, закрывавший ее лицо.
— Так, значит, ты убил его, — сказала Гайдэ.
Я, казалось, молчал целую вечность, отрешенно вглядываясь в ее лицо. Оно было сухим и изборожденным морщинами, преждевременно постаревшим. И только глаза сохранили ту живость, которую я помнил. Но это была она. Это была она! Я сделал шаг вперед, протягивая к ней руки. Я рассмеялся с облегчением, радостью и любовью. Но Гайдэ, взглянув на меня, отвернулась.
— Гайдэ!
Она вновь обернулась.
— Пожалуйста, — прошептал я.
Она не отвечала. Я замолчал.
— Пожалуйста, — произнес я снова. — Позволь мне обнять тебя. Я думал, что ты умерла.
— А разве нет? — спросила она тихим голосом.
Я покачал головой.
— Мы те, кто мы есть.
— Разве? — возразила она, снова посмотрев на меня. — О Байрон, — прошептала она, — Байрон…
Слезы брызнули из ее глаз. Я никогда раньше не видел, чтобы вампир плакал. Я подошел к ней, и на этот раз она позволила обнять себя. Она начала рыдать и целовать меня, ее пересохшие губы почти с отчаянием прижимались к моим; все еще всхлипывая, она начала бить меня в грудь кулаками.
— Байрон, Байрон, ты чувствуешь, чувствуешь, что позволил ему победить? Байрон…
Ее тело начало содрогаться от злости и рыданий, затем она вновь поцеловала меня, более настойчиво, чем раньше, и обняла меня так, словно никогда не позволила бы мне покинуть ее. Она все еще дрожала и прижималась ко мне.
Я погладил ее волосы, посеребренные сединой.
— Как ты узнала, что я буду здесь?
Гайдэ смахнула слезы.
— Он рассказал мне о своих намерениях.
— Так, значит, он изначально собирался прислать меня сюда?
Гайдэ кивнула.
— Он мертв? Действительно мертв?
— Да.
Гайдэ взглянула мне в глаза.
— О да, я вижу, что это так, — прошептала она. — Ты прекрасен и юн, как и прежде.
— А ты, — спросил я, — он тоже оставил тебе свой Дар?
Она кивнула.
— Ты можешь поступить так же, как я. Ты можешь вернуть…
— Свою прежнюю красоту? — Она горько рассмеялась. — Свою юность?
Я ничего не ответил, лишь склонил голову.
Гайдэ отступила.
— Я стараюсь не пить человеческую кровь, — сказала она.
Я нахмурился и с недоверием посмотрел на нее. Гайдэ улыбнулась мне. Она распахнула свой плащ. Под ним было сморщенное, иссохшее тело старухи, местами почерневшее.
— Иногда, — сказала она, — я пила кровь ящериц и других животных. Однажды это был турок, который пытался убить меня. Но других…
Я с ужасом посмотрел на нее.
— Гайдэ…
— Нет! — внезапно выкрикнула она. — Нет! Я не вурдалак! Я не вампир!
Она задрожала и сжала грудь, словно желая разорвать свою плоть. Я попытался прикоснуться к ней, но она отстранилась.
— Нет, нет, нет…
Ее голос затих, но в горящих глазах не было ни слезинки.
— Но паша, — прошептал я, — он был убийцей, он был турок.
Гайдэ расхохоталась ужасным, раздирающим душу смехом.
— Неужели ты так и не понял? — спросила она.
— Что?
— Он был моим отцом. — Она дико посмотрела на меня. — Моим отцом! Плоть от плоти, кровь от крови.
Она посмотрела на меня и снова задрожала. Она отступила назад, и теперь ее голову обрамляла огненная стена.
— Я не могла, — прошептала она, — я не могла! Не имеет значения, что он сделал, я не могла, не могла! Ты понимаешь? Разве я могла пить кровь собственного отца? Того, кто даровал мне жизнь!
Она рассмеялась.
— Ну конечно, я забыла, ты — то самое создание, которое убило собственного ребенка.
Я с ужасом посмотрел на нее.
— Я никогда не знал, — произнес я наконец.
— О да.
Она откинула назад волосы.
— Он воспитал меня. Он всегда был отцом для своих крестьян. Но я была другой. По какой-то причине я тронула его сердце. Возможно, он даже по-своему любил меня. Он оставил меня в живых. Конечно, он использовал меня, но оставил в живых. Свою дочь. Свою возлюбленную дочь.
Она улыбнулась.
— Много лет назад он намеревался отдать меня тебе. Не правда ли, как странно? Ты должен был стать его преемником, а я твоей невестой-вампиром. Не удивительно, что он был очень огорчен, когда узнал, что мы упорхнули от него.
Я перевел дух.
— Он сам рассказал тебе это?
— Да. Но прежде он… — Ее голос затих. Она крепко обхватила себя за плечи и начала раскачиваться из стороны в сторону. — Но прежде он сделал меня монстром.
Я взглянул в ее горящие глаза вампира.
— Но после этого? — спросил я и отчаянно замотал головой, не желая верить. — Ты никогда не пыталась преследовать меня?
— О да.
От ее слов веяло холодом. Он обжигал мое сердце.
— Я никогда не видел тебя.
— Неужели?
— Это правда.
— Быть может, дело в том, что я не могла выносить твое присутствие.
Она отвернулась и стала смотреть на огонь. Она долго наблюдала за узорами пламени, затем повернулась ко мне.
— Подумай, — с внезапной страстностью сказала она. — Ты уверен? Думай, Байрон, думай!
— Это ты была в Миссолунги?
— О да, конечно, и в Миссолунги тоже.
Гайдэ рассмеялась.
— Как же я могла удержаться, чтоб не взглянуть на тебя? Услышать твое имя после стольких лет, имя мессии, пришедшего с Запада Оно было у всех на устах. И я надеялась, почти не имея на то оснований, что ты придешь…
Она умолкла.
— А ты вспоминал обо мне?
Я пристально посмотрел на нее. Ответ был не нужен.
— Байрон…
Она взяла мои руки и крепко сжала их.
— Ты так прекрасен. Даже когда постарел, огрубел, разъезжая верхом по болотам.
Я вспомнил, как она кричала мне у болота.
— Почему ты желала моей смерти? — спросил я.
— Потому что я все еще люблю тебя, — ответила она.
Я поцеловал ее. Она печально улыбнулась в ответ.
— Потому что я старая и уродливая, а ты, ты, Байрон, ты тоже вампир, ты был когда-то таким смелым и добрым…
Она умолкла и склонила голову, затем взглянула на меня.
— Но… как я сказала, это был не первый раз, когда я следовала за тобой.
Я пристально посмотрел на нее.
— Когда? — спросил я.
Она ниже наклонила голову.
— Гайдэ, скажи мне когда?
Ее глаза встретились с моими.
— В Афинах, — тихо сказала она.
— Вскоре после того…
— Да, ровно через год. Я пошла за гобой и видела, как ты убивал. У меня был жалкий вид. Возможно, я еще несколько раз обнаруживала себя…
Она остановилась.
— И еще когда? — спросил я.
Она улыбнулась в ответ, и внезапно я понял. Я вспомнил улицу, женщину с ребенком на руках, аромат золотистой крови.
— Это была ты, — прошептал я. — Ребенок на твоих руках был нашим ребенком, твоим и моим.
Гайдэ молчала.
— Ответь мне, — сказал я. — Скажи мне, что я прав.
— Значит, ты все помнишь, — сказала она наконец.
Она сделала шаг вперед, отдаляясь от пламени. Я обнял ее и посмотрел через ее плечо на огонь.
— Ребенок… — прошептал я. — Плод того последнего мгновения, когда мы были вместе.
Нить, хоть и очень тонкая, протянувшаяся от нашего последнего мига смертной любви. Воспоминания, облеченные в человеческую форму, хранившие печать того, кем мы были раньше. Связь, последняя связь со всем тем, что мы потеряли. Ребенок…
Лорд Байрон покачал головой.
Он пристально посмотрел на Ребекку и медленно улыбнулся.
— Это был мальчик. Гайдэ отослала его от себя, потому что не могла вынести его запах. Конечно, я также был опасен для него. Он обучался в школе в Нафплионе. Я не мог приехать и увидеть его собственными глазами, но, покидая Ахерон, мы с Гайдэ решили обеспечить его будущее. Я отправил его в Лондон. Там его воспитывали как истинного англичанина. В конце концов он взял себе английскую фамилию, — он вновь улыбнулся, — вы догадываетесь какую?
Ребекка кивнула.
— Конечно, — машинально ответила она.
— Рутвен.
Она сидела, похолодев от ужаса, и слышала шум, который доносился из темноты за ее спиной. Встретившись взглядом с лордом Байроном, она облизала пересохшие губы.
— И вы, — спросила она, — так и продолжали оставаться вдали от Англии и вашего сына?
— От Англии в основном да. Я взял рукописи паши. Вместе с Гайдэ мы продолжали поиски через континенты и скрытые миры. Но Гайдэ вскоре стала слишком старой, чтобы путешествовать, на нее было страшно смотреть.
Ребекка кивнула, напуганная. Она все поняла.
— Так, значит, Гайдэ и есть то существо, которое я видела в склепе?
— Да. Она так ни разу и не пила человеческой крови. Она лежит, погребенная в этом склепе. Рядом с ней покоится тело паши, под надгробием в часовне. Два долгих столетия они гниют там вместе — мертвый паша и живая Гайдэ, напрасно ожидающая окончания моих поисков.
— Так, значит, — Ребекка перевела дух, — вы все еще не нашли выход?
Лорд Байрон зловеще усмехнулся.
— Нет, как видите.
Ребекка крутила локон своих золотисто-каштановых волос.
— Думаете, вам это в конце концов удастся? — осмелилась она спросить.
Он поднял бровь.
— Возможно.
— Вы найдете то, что ищете.
— Благодарю. — Он склонил голову. — Могу я вас спросить, почему вы так думаете?
— Потому что вы все еще существуете. Вы могли прекратить свои поиски, но вы не сделали этого. И как обещал паша, должна существовать надежда.
Лорд Байрон улыбнулся.
— Возможно, вы правы, — сказал он. — Но умереть от руки Полидори для меня невыносимо.
Он нахмурился.
— Нет. Быть уничтоженным своим врагом, убившим псе, что я любил… Нет.
Он пристально посмотрел на Ребекку.
— Вы понимаете, что ваше присутствие только разжигает его ненависть. Он всегда присылал ко мне кого-нибудь из каждого поколения рода Рутвенов. Боюсь, Ребекка, что вы не первая, но единственная, оставшаяся из этой многочисленной ветви.
Ребекка посмотрела на него. В его взгляде смешались отстраненная холодность и сожаление. И только теперь она поняла, что проклята. Ее судьба была уже предрешена.
— Так, значит, Полидори, — спросила она твердым голосом, — он не знает, что вас можно уничтожить?
Лорд Байрон улыбнулся.
— Нет, не знает.
Ребекка проглотила подступивший к горлу ком.
— Тогда как я знаю.
Он снова улыбнулся.
— Да, действительно.
Ребекка встала. Медленно. Лорд Байрон тоже поднялся. Ребекка напряглась, но он прошел мимо, пристально глядя на нее, и встал в тень. Царапанье, доносившееся из темноты, стало более настойчивым. Ребекка тщетно пыталась разглядеть что-либо во мраке. Лорд Байрон наблюдал за ней. Его бледное лицо светилось, как пламя огня.
— Мне очень жаль, — сказал он.
— Пожалуйста.
Он медленно покачал головой.
— Прошу вас, — она начала пятиться к двери. — Почему вы рассказали мне все это? Неужели лишь для того, чтобы убить меня?
— Затем, чтобы вы смогли понять, что пришла ваша смерть. Так будет легче. — Он помолчал и взглянул на тень. — Для вас обеих.
— Обеих?
И вновь донеслось скрежетание. Ребекка посмотрела в темноту.
— Другого пути нет, — прошептал лорд Байрон. — Это должно произойти.
Но он говорил это не Ребекке, а кому-то другому, вглядываясь в темную фигуру, стоящую рядом. Дрожагцей рукой он погладил ее по голове. Медленно фигура вышла из тени, свет от свечи упал на нее.
Ребекка увидела ее и застонала.
— Нет! Нет!
Она закрыла глаза.
— И все же когда-то она была совсем как вы, Ребекка. Это очень странное сходство…
Лорд Байрон взглянул на нее со смешанным выражением сожаления и страсти. Он неслышно подошел к ней.
— Осмелитесь ли вы еще раз взглянуть в ее лицо? Нет? И все же я скажу вам…
Ребекка почувствовала нежное прикосновение его губ к своим губам.
— …У нее ваше лицо, ваша фигура, ваша красота. Так, словно…
Его голос затих.
Ребекка открыла глаза. Она пристально смотрела на лорда Байрона. Он нахмурился. Выражение страдания и надежды промелькнуло на его лице.
— Пожалуйста, — прошептала она. — Прошу вас.
— Вы знаете, как вы похожи на нее.
— Прошу вас.
Он покачал головой.
— Она должна убить вас. Она должна наконец выпить свою собственную кровь. Прошло двести лет, и теперь… вы здесь, ваше лицо должно стать ее собственным. Поэтому…
Он снова нежно поцеловал Ребекку в губы.
— Мне очень жаль. Очень жаль, Ребекка. Но я надеюсь, возможно, теперь вы в конце концов поймете и простите меня, Ребекка.
Он сделал шаг назад. Ребекка словно зачарованная смотрела на его лицо, освещенное пламенем Он опустил взгляд на создание, притаившееся в ожидании у его ног. Она также опустила взгляд. Внезапно красные глаза, яркие, словно угольки, встретились с ее взглядом. Ребекка задрожала. Она повернулась и кинулась к двери. Та была открыта, и, спотыкаясь, девушка выбежала, с шумом захлопнув за собой дверь.
Она побежала. Длинный коридор протянулся перед ней. Она не помнила его раньше. Он был плохо освещен, и Ребекка едва различала дорогу перед собой. Дверь позади была закрыта. Внезапно Ребекка остановилась. Ей показалось, что она увидела что-то, подвешенное к потолку. Оно покачивалось из стороны в сторону и поскрипывало. Затем Ребекка услышала стук капель о пол.
Она глубоко вдохнула и медленно подошла к висящему перед ней предмету. Он был бледным, как она теперь смогла рассмотреть, и мерцал в темноте; кровь застыла у нее в жилах, ибо она увидела, что это мерцание исходит от тела, человеческого тела, подвешенного пятками за крюк. И вновь капля упала на пол Ребекка посмотрела вниз. Капля крови повисла на носу жертвы, затем сорвалась и со звоном упала на пол, на полу растекалась лужа крови. Теперь Ребекка разглядела, почему тело было таким ослепительно белым. Не осознавая, что делает, Ребекка дотронулась до трупа. Он был холодный и обескровленный. Снова упала капля. Ребекка присела на корточки и заглянула в лицо трупа. Она хотела закричать, но не смогла издать ни звука. Она взглянула еще раз — это было лицо ее матери. Она встала и, содрогаясь, побежала.
Весь коридор был увешан трупами. Ребекка старалась проскочить мимо них, но они преграждали ей путь, раскачиваясь перед ее лицом, ей приходилось отстранять их, они были липкие и гладкие на ощупь. Она продолжала, пошатываясь, бежать вперед, все новые и новые тела убитых Рутвенов возникали перед ее глазами. Наконец Ребекка упала на колени, захлебываясь от ненависти, страха и отвращения. Она обернулась и посмотрела на ряд крюков, который миновала, и застонала. В конце коридора рядом с телом ее матери висел пустой сверкающий крюк. У Ребекки появился наконец голос, и она закричала. Крюк начал раскачиваться. Ребекка закрыла лицо руками и снова закричала. В оцепенении она продолжала сидеть на полу.
Немного спустя, собравшись с силами, она осмелилась поднять глаза. Коридор был пуст. Страшный ряд ее предков исчез. Ребекка огляделась по сторонам. Ничего. Совсем ничего.
— Где вы? — закричала она. — Байрон! Где вы? Убейте меня, если вам нужно, но не мучьте этими видениями!
Она посмотрела туда, где висели тела. Но коридор по-прежнему оставался пустым.
— Гайдэ! — Ребекка сделала паузу. — Гайдэ!
Ответа не было. Ребекка поднялась. Она увидела дверь перед собой. Она подошла к ней, открыла и увидела пламя свечей. Ребекка прошла через дверь и замерла от ужаса. Она очутилась в подземелье.
Перед ней была гробница; у дальней стены находилась лестница, ведущая наверх, в церковь. Ребекка прошла к ней. Она поднялась по ступеням и толкнула дверь. Та была закрыта. Она толкнула дверь снова. Никаких результатов. Ребекка села на верхнюю ступеньку и навалилась на дверь. Подождала. Все было тихо. Дверь, ведущая в гробницу, все еще была открыта, но Ребекка не осмелилась бы еще раз заглянуть в этот коридор. Она подождала несколько минут. Тишина. Она осторожно спустилась на одну ступеньку. Остановилась. Ничего не произошло. Она спустилась вниз и осмотрелась по сторонам. Беззвучно струился фонтан. Ребекка посмотрела на дверь, находившуюся за гробницей. Возможно, ей удастся это сделать. Если она побежит и найдет дверь, ведущую на улицу, да, ей удастся выбраться наружу. Она осторожно подошла к гробнице. Ей было страшно, потому что она
знала, что, если хочет убежать, она должна это сделать прямо сейчас.
Когтистая лапа схватила ее за горло. Ребекка закричала, но крик заглушила вторая рука, закрывшая ее рот, отчего она стала задыхаться. Пыль слепила глаза, и она ощутила запах приближающейся смерти. Ребекка заморгала. Она подняла взгляд на дряхлое от старости существо. Это была Гайдэ. Два красных горящих глаза, беззубый рот, ссохшаяся голова насекомого. Эта тварь казалась такой хрупкой, но ее сила была неумолимой. Ребекка почувствовала, как рука, схватившая горло, стала душить ее. Она начала задыхаться. Она видела, как существо занесло над ней вторую руку. Когти на ней были длинными, как сабли. Тварь провела пальцем по коже Ребекки. Кровь полилась из раны. Девушка попыталась вывернуться из цепких объятий. Существо склонилось над ней, его зловонное дыхание было ужасным. Ребекка снова почувствовала его когти на своей шее. Она ждала. Вот существо приблизило губы к ране. Девушка закрыла глаза. Она молилась, чтобы смерть оказалась быстрой.
Затем Ребекка услышала тяжелый вздох. Она напряглась, но ничего не произошло. Она открыла глаза. Существо подняло голову и пристально смотрело на Ребекку своими горящими глазами. Оно тряслось.
— Сделай это, — услышала Ребекка голос лорда Байрона.
Существо не отрывало взгляда от Ребекки. Девушка посмотрела на Байрона. Он стоял у гробницы. Существо медленно перевело взгляд на него.
— Сделай же это, — снова сказал он.
Существо молчало.
Лорд Байрон положил руку на лысый череп существа.
— Гайдэ, — прошептал он. — Другого пути нет. Пожалуйста.
Он поцеловал ее.
— Прошу тебя.
Но существо безмолвствовало. Лорд Байрон пристально посмотрел на Ребекку.
— Она знает тайну, — сказал он. — Я все ей рассказал.
Он ждал.
— Гайдэ, мы договорились. Она знает нашу тайну. Ты не можешь отпустить ее.
Существо затряслось. Его худые, ободранные плечи вздрагивали. Лорд Байрон протянул руки, чтобы успокоить его, но существо оттолкнуло их. Оно вновь взглянуло в глаза Ребекке… Его собственное лицо было искаженным, словно от слез, но горящие глаза оставались сухими. Оно медленно открыло рот, затем покачало головой. Ребекка почувствовала, как рука, сжимавшая горло, ослабила хватку.
Существо попыталось подняться, но пошатнулось. Лорд Байрон подхватил его на руки. Он держал его, целуя и укачивая. Не веря в случившееся, Ребекка поднялась на ноги. Лорд Байрон взглянул на нее. Его лицо было ледяным от боли и отчаяния.
— Уходи, — прошептал он.
Ребекка не двинулась с места.
— Уходи!
Она зажала руками уши. Этот крик был так ужасен. Ребекка выбежала из склепа. На лестнице она остановилась и обернулась. Лорд Байрон склонился над своей возлюбленной. В этот момент он походил на отца, держащего на руках дитя. Ребекка постояла, застыв на месте, и поспешно покинула склеп.
На самом верху лестницы был выход. Она бросилась туда, повернула ручку, открыла дверь и задохнулась от восторга, увидев улицу. Уже смеркалось. Солнечный закат полосами ложился на удушливое лондонское небо. И она взглянула на эта краски с восхищением и радостью. На мгновение она задержалась, прислушиваясь к отдаленному шуму города, к звукам, которые уже не предполагала вновь услышать, — к звукам жизни. Затем торопливо пошла по улице. Лишь один раз она мельком взглянула назад. Дом лорда Байрона был все еще погружен во тьму. Все двери заперты. Казалось, никто не преследует ее.
Тем не менее, задержись она хоть на миг, чтобы абсолютно в этом увериться, она бы заметила, как какая-то фигура выскользнула из тьмы. Она бы увидела, как этот человек пошел вслед за ней. Она бы, возможно, ощутила характерный запах. Но Ребекка не остановилась, поэтому не заметила своего преследователя. Он пошел за ней по улице и затем пропал из виду. Слабый запах кислоты, витавший в воздухе, вскоре рассеялся.
Постскриптум
Лицо трупа не имело даже отдаленного сходства с моим дорогим другом — искаженный, полуоткрытый рот обнажал зубы, которыми он, бедняга, когда-то так гордился и кои совсем изменили цвет под воздействием формалина. Усы, оттенявшие его верхнюю губу, придавали лицу совершенно новое выражение. Щеки раздулись, нависая над челюстью, нос заострился, косматые брови хмурились, а кожа напоминала тусклый пергамент. Не верилось, что это был Байрон.
Джон Кэм Хобхауз. Дневники.
РАБ СВОЕЙ ЖАЖДЫ
Посвящаю своим родителям.
Кровь проявит себя.
«Чушь, Ватсон, чушь! Какое нам дело до ходячих трупов, которых удержишь в могилах, лишь пронзив их сердца колами? Чистое безумие».
Сэр Артур Конан Дойл. «Приключение вампира из Суссекса»
«Кровь — это жизнь».
Брэм Стокер. «Дракула»
* * *
Лондон.
15 декабря 1897 г.
Всем, кого это касается!
Если вы читаете это письмо, то, несомненно, осознаете, в какой опасности находитесь. Адвокатам, к которым вы обратились, даны указания снабдить вас документами, выявляющими ужасную историю. В сущности, я понял ее до конца лишь недавно — когда мне прислали из Калькутты экземпляр книги Мурфилда с пачкой писем и журналов. Начало — в воспоминаниях Мурфилда, с главы под названием «Гибельное задание», где я оставил три письма в том виде, как нашел их между страницами книги. Остальные документы упорядочены мною лично. Прочтите их в том порядке, в каком они расположены.
Мой бедный друг! Кто бы ты ни был, когда бы ты ни прочел все это — прошу не сомневаться, что все описанное произошло на самом деле.
Да защитит тебя рука Господня!
Твой в горе и надежде
Абрахам Стокер.
ЧАСТЬ I
Выдержки из воспоминаний сэра Уильяма Мурфилда, полковника королевских стрелков во владениях в Индии, кавалера орденов Вани, Святого Михаила и Святого Георгия 3-й степени, «За безупречную службу», «С винтовками в Радже» (Лондон, 1897).
ГИБЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Тайное задание • Шмашана Кали • Поездка в горы • Кровавый идол • Зловещее открытие
Вот я и приступаю к самому, пожалуй, из ряда вон выходящему эпизоду всей моей долгой карьеры в Индии. В конце лета 1887 года, когда скука гарнизонной службы стала почти, невыносима, меня неожиданно вызвали в Симлу. Подробно о сути задания не сообщили, но поскольку на равнинах стояла палящая жара, я не противился вылазке в горы. Я всегда любил горы, а Симла, взнесенная ввысь на уступах над кедрами и туманами, — город поразительной красоты. Однако восхищаться пейзажем у меня не было времени, ибо не успел я прибыть к месту предписанного расквартирования, как мне принесли депешу от некоего полковника Роулинсона с приказом немедленно явиться к нему. Быстро побрившись и сменив мундир, я вновь оказался на рысях. Если бы я знал, каковы будут последствия нашей встречи, я бы, наверное, не шагал так бодро, но в крови моей вновь взыграло волнение солдатского долга, и я не променял бы его ни на что на свете!
Полковник Роулинсон жил в стороне от штаба, на боковой улочке, такой темной, что там пристало бы находиться туземному базару, а не квартировать британскому офицеру. Однако вся неуверенность, которую я почувствовал вначале, сразу прошла, как только я увидел самого полковника Роулинсона — высокого сурового человека со стальным блеском глаз. Я инстинктивно почувствовал к нему расположение. Он провел меня прямо в кабинет, отделанный панелями из такового дерева, заваленный картами и украшенный развешанной на стенах весьма необычной коллекцией индусских божеств. Там, за круглым столом, нас ждали двое. Одного я узнал сразу — старина Пампер Пакстон, мой командир по Афганистану! Я не видел его уже лет пять, но он по-прежнему выглядел бодрым и сердечным. Полковник Роулинсон подождал, пока мы обменяемся приветствиями, и лишь после этого представил второго человека, сидевшего до того времени в тени:
— Капитан Мурфилд! Познакомьтесь с Хури Джьоти Навалкаром.
Человек поклонился, качнув головой по-туземному, и я понял, что он даже не военный, а типичный бабу
[3], полный и вспотевший канцелярский служака. Это открытие привело меня в замешательство, которое я даже не попытался скрыть. Полковник Роулинсон, по-видимому, заметил мое удивление, но не предложил никакого объяснения тому, что этот бабу здесь делает, а вместо этого начал листать какие-то бумаги, после чего снова взглянул на меня, и глаза его сверкнули сталью.
— Вы делаете выдающуюся карьеру, Мурфилд, — похвалил он.
Я почувствовал, что краснею.
— Ну что вы, сэр, — пробормотал я.
— Насколько мне известно, вы хорошо себя проявили в Белуджистане. Да и в горах бывали не раз…
— Да, сэр, пришлось участвовать в нескольких боях.
— Не хотите ли снова отправиться в горы?
— Поеду куда пошлют, сэр.
— Даже если это задание выходит за рамки вашей воинской службы?
Я нахмурился и взглянул на старину Пампера, но он только молча отвел глаза в сторону. Я повернулся к полковнику Роулинсону:
— Готов выполнить любую задачу, сэр!
— Молодец! — улыбнулся он, похлопал меня по плечу и, взяв стек, подошел к висевшей на стене большой карте. Лицо его вновь приняло серьезное и даже строгое выражение. — Взгляните, Мурфилд, — сказал он, постукивая стеком по длинной пурпурной линии, — здесь проходит граница нашей империи в Индии. Граница протяженная и, как вы сами хорошо знаете, слабо охраняемая. А вот здесь, — он снова постучал стеком, — территория его императорского величества российского царя. А теперь обратите внимание на вот эту зону, сплошь горы и степи, — она не принадлежит ни России, ни нам. Буферные территории, Мурфилд, всегда служат площадкой для игр шпионов и авантюристов. И вот как раз сейчас, если мои сведения верны, здесь готовится буря, мощный ураган, и, похоже, он идет к нашим границам в Индии. — Он постучал по району на левом поле карты. — Точнее говоря, сюда, в место под названием Каликшутра.
— Никогда не слышал о таком, сэр.
— Не удивляюсь, Мурфилд. О нем мало кому известно. Взгляните сюда, — он вновь постучал по карте, — видите, как это далеко. Чертовски высоко, и ведет туда одна дорога, вот эта. Других путей не существует. Мы всегда старались обходить эту местность стороной. Знаете, никакой стратегической ценности… — Полковник замолчал и нахмурился. — Так, по крайней мере, — пробормотал он, — мы всегда считали.
Помрачнев еще больше, он некоторое время вглядывался в карту, а потом сел в кресло и наклонился через стол ко мне:
— До нас доходят странные слухи, Мурфилд. Там что-то заваривается. Месяц назад сюда явился один из наших агентов, бледный как смерть, весь в шрамах и еле живой от усталости. Он привез первые надежные новости для нас. «Я видел их, — прошептал этот человек, и лицо его при этом исказила гримаса крайнего ужаса. — Кали. — Он закрыл глаза, словно не в силах произнести то, что хотел сказать, а затем повторил: — Кали». Мы оставили его одного, чтобы он хорошо выспался. А на следующее утро…
Полковник Роулинсон помедлил. Его худощавое загорелое лицо побледнело.
— На следующее утро, — полковник закашлялся, — мы нашли его мертвым… Бедняга застрелился.
— Застрелился? — не веря своим ушам, переспросил я.
— Пальнул прямо в сердце. Всю грудь разворотил, редко такое увидишь.
— Боже мой! — Я глубоко вздохнул. — Что же побудило его к этому?
— Именно это, капитан, мы и хотим, чтобы вы узнали.
В комнате стало вдруг очень тихо. Мне казалось, что проклятые индусские божества скалятся на меня со стен. В том, что мы столкнулись с настоящей тайной, я не сомневался. Я знал, сколь опасна разведывательная работа и какие храбрецы заняты в ней. Такие люди не имеют привычки стреляться, обезумев от страха. Что-то лишило этого человека душевного равновесия. Что-то… Но что? Я снова взглянул на Роулинсона:
— Вы полагаете, сэр, в этом деле замешаны русские?
Полковник Роулинсон кивнул:
— Мы в этом абсолютно уверены. — Он помедлил и понизил голос: — Две недели тому назад прибыл второй агент.
— Надежный?
— О, самый лучший, — кивнул полковник. — Мы зовем его Шри Сингх — Лев. Да, самый лучший.
— Он видел русских, — сообщил Пампер, склоняясь ко мне. — Сотни этих бродяг, переодетых туземцами, идут по дороге в Каликшутру.
Я нахмурился. Мне как раз кое-что пришло в голову.
— Каликшутра, — повторил я, повернувшись к Роулинсону. — Ваш первый агент, сэр, тот, который умер, говорил только о «Кали», насколько я помню. Не могло так случиться, что он имел в виду нечто иное?
— Нет, — заявил бабу, о присутствии которого я совершенно забыл.
— Прошу прощения? — холодно обратился я к нему, поскольку не привык, чтобы меня перебивали, не говоря уже о том, что это посмел сделать какой-то бенгальский канцелярист.
Но бабу, казалось, не смутил мой раздраженный взгляд; он нахально воззрился на меня в ответ и почесал задницу.
— Кали — богиня индусов, — растолковал он тоном школьного учителя, выговаривающего отстающему ученику, — а не название местности.
Подобное обращение привело меня в бешенство, но Роулинсон довольно резко поспешил вмешаться.
— Хури — профессор санскрита в Калькуттском университете, — пояснил он, словно оправдываясь.
Я взглянул на профессора, и. тот ответил мне равнодушным взглядом холодных, как у рыбы, глаз.
— Я всего лишь простой англичанин, — произнес я (льщу себя надеждой) с едким сарказмом, — и не притворяюсь ученым, ибо мой учебный класс — военный лагерь. Поэтому я попрошу вас растолковать мне связь между Кали, богиней, и Каликшутрой, названием местности, поскольку с готовностью признаю, что сам таковой связи не наблюдаю.
Бабу кивнул:
— С удовольствием, капитан.
Он поерзал в кресле, потом наклонился и взял в руки большую черную статуэтку.
— Вот это, капитан, — сказал он, ставя ее передо мной на стол, — богиня Кали.
«Слава Небесам, что я — христианин», — только и мог я подумать, ибо богиня Кали оказалась ужасным страшилищем. Черное как смоль туловище, в шести руках — мечи, язык выкрашен в кроваво-красный цвет. А изображена она была танцующей на человеческом трупе. И это еще было не самое худшее, ибо, присмотревшись получше, я разглядел ее пояс и гирлянду на шее.
— Бог ты мой! — непроизвольно пробормотал я.
С пояса свисали окровавленные руки, а гирлянда состояла из человеческих голов!
— У нее много имен, капитан, — прошептал мне на ухо бабу, — но всегда она остается Кали Грозной.
— Ну, в этом нет ничего удивительного, — ответил я. — Только взгляните на нее!
— Вы не понимаете, что может означать этот титул, — неприятно улыбнулся бабу. — Прошу вас, капитан, постарайтесь понять: ужас в нашей индуистской философии не что иное, как открытие абсолютного. То, что отталкивает, вдохновляет, то, что разрушает, может созидать. Когда мы переживаем ужас, капитан, мы познаем то, что в ведах называется ШАКТИ — вечная сила — женская энергия, лежащая в основе вселенной.
— Боже мой! Да неужели? Не скажите!
Сколько живу, никогда еще не слышал такой белиберды, и я откровенно дал ему это понять, но бабу нисколько не обиделся. Он лишь одарил меня еще одной масляной улыбкой.
— Попытайтесь взглянуть на положение вещей так, как глядим мы, несчастные язычники, капитан, — пробормотал он.
— А на какого дьявола мне это?
Бабу вздохнул:
— Страх перед богиней, ужас перед ее властью… для вас это все ерунда, но другие относятся к этому иначе. Чтобы познать врага своего, познай его мысли. Там-то и ждет вас богиня Кали.
Он медленно склонил голову и принялся бормотать про себя какую-то молитву. И вдруг бабу изменился буквально у меня на глазах. Чертовщина какая-то, но он неожиданно словно превратился в солдата, полного самообладания и холодного рассудка. Следующие слова его прозвучали так, будто он отчитывал начальников штабов:
— Я просил бы вас, капитан Мурфилд, оценить сущность преданности, на которую может вдохновить Кали, потому что, вероятно, она будет вашим самым могучим врагом. Не осуждайте богиню только потому, что считаете ее отталкивающей и странной. Поклонение может быть не менее опасным, чем ружья ваших солдат. Помните, всего пятьдесят лет тому назад жрецы Кали в Ассаме еще приносили богине человеческие жертвы. Если бы вы, британцы, не присоединили к себе их королевство, эти жертвоприношения совершались бы и по сей день. А Каликшутру англичане так и не завоевали. Мы не можем знать, какие обычаи до сих пор бытуют там.
— Боже мой! — вскричал я, едва веря своим ушам. — Надеюсь, вы не имеете в виду… человеческие жертвоприношения.
Бабу покачал головой.
— Я ничего не могу утверждать, — ответил он. — Ни один агент правительства не проникал вглубь этой области. Однако…
Голос его прервался. Некоторое время он молча смотрел на статуэтку, на ее ожерелье из черепов и кроваво-красный язык.
— Вы спрашивали о связи между богиней и Каликшут-рой? — наконец заговорил он.
Я кивнул. Похоже, этот тип начинал мне нравиться, и я почувствовал, что он готов выложить что-то весьма горяченькое.
— Давайте же, — подбодрил я его.
— Каликшутра, капитан Мурфилд, в буквальном переводе означает «земля Кали»
[4]. И все же, — замедлил он свой рассказ, — я бы оскорбил свою религию, если бы сказал, что Каликшутра принадлежит индусам, ибо в других районах Индии этой богине поклоняются как воздающему божеству, другу человека, матери всей вселенной…
— Но в Каликшутре? — спросил я.
— Но в Каликшутре… — Снова бабу прервал речь и пристально посмотрел на осклабившееся лицо статуэтки. — В Каликшутре ей поклоняются как королеве демонов. Шмашана Кали!
Эти слова он выговорил едва слышным шепотом, и едва он успел их произнести, как в комнате вдруг будто потемнело и откуда-то повеяло холодом.
— Кали Погребальных Костров, из рта которой кровь течет нескончаемым потоком и которая обитает среди огненных пристанищ мертвецов. — Здесь бабу проглотил слюну и заговорил на непонятном мне языке: — Ветала-панча-Виншати, — услышал я повторенное дважды, затем бабу снова сглотнул, и голос его умолк.
— Что вы сказали? — выдержав для приличия паузу, переспросил старина Пампер.
— Демоны, — кратко ответил бабу, — так говорят жители предгорных деревень. Старый санскритский термин. — Он вновь повернулся и взглянул на меня. — И они так боятся этих демонов, капитан, что те, кто живет ниже Каликшутры, отказываются ездить по дороге, ведущей туда. Вот почему мы можем быть уверены, что люди, которых наш агент видел взбирающимися вверх по дороге, не местные, а чужаки.
Он остановился и назидательно помахал пальцем:
— Вы понимаете меня, капитан? Ни один из местных никогда не ступит на эту дорогу!
Воцарилась тишина, и Роулинсон обратил на меня пристальный, изучающий взгляд.
— Вы оценили опасность? — угрюмо спросил он. — Мы не можем оставить русских в Каликшутре. Если они зацепятся в таком месте, черта с два их оттуда выкуришь. А если они там заложат базу… Она же будет на самой границе Британской Индии! Губительно, Мурфилд, смертоносно! Думаю, вы не нуждаетесь в подробных объяснениях…
— Они излишни, сэр.
— Мы хотим, чтобы вы вытурили этих русаков.
— Есть, сэр!
— Выступаете завтра. Через день за вами последует полковник Пакстон со своим полком.
— Есть, сэр. А сколько людей идет со мной?
— Десять. — У меня, наверное, был удивленный вид, потому что Роулинсон улыбнулся. — Хорошие ребята, Мурфилд, не беспокойтесь об этом. Помните, вы только, разведаете местность. Если вам удастся самостоятельно справиться с русскими, что ж, прекрасно. Если же нет, — Роулинсон кивнул на Пампера, — позовите полковника Пакстона. Он будет ждать у начала дороги, и у него хватит людей, чтобы разобраться с ними как положено.
— Еще один вопрос, сэр…
— Да?
— Почему нам не выступить всем полком?
Роулинсон провел пальцем по усам:
— Политика, Мурфилд.
— Не понимаю.
— Полагаю, речь идет о каких-то дипломатических играх, — вздохнул Роулинсон. — В Лондоне не хотят проблем на границе. Хоть я и не должен вам это говорить, но раньше мы уже сделали вид, что не заметили ряда нарушений в этом районе. Не знаю, помните ли вы или нет, но примерно три года назад там же похитили леди Весткот с дочерью и двадцатью людьми.
— Леди Весткот?
— Жену лорда Весткота, который командовал войсками в Кабуле.
— О Господи! — вскричал я. — Кто же ее похитил?
— Мы не знаем, — вмешался Пампер, поднимая искаженное гневом лицо. — Нам запретили тогда вести следствие по этому делу. И расследование остановили политиканы.
Роулинсон бросил на него быстрый взгляд и вновь обратился ico мне:
— Дело в том, что колониальная администрация не имеет права вмешиваться в некоторые вопросы.
— Немного поздновато для принятия мер, — хмыкнул бабу.
Все мы проигнорировали его замечание.
Полковник Роулинсон вручил мне аккуратно переплетенную папку:
— Здесь лучшие из карт, что мы смогли найти. Боюсь, однако, они все же недостаточно хороши. К ним приложены заметки профессора Джьоти о культе Кали и сообщения от Шри Сингха, нашего агента в предгорьях, о котором я, по-моему, уже упоминал.
— Да, сэр, вы упоминали о нем, о Льве. А сейчас он тоже там?
Полковник Роулинсон помрачнел:
— Если он и там, капитан, то не надейтесь на встречу с ним. Разведчики играют по другим правилам. Правда, одного парня вы все же можете попытаться разыскать — врача-англичанина по имени Джон Элиот. Он работает среди туземцев уже несколько лет, основал больницу, ну, и все в таком духе. Вообще-то он не желает иметь никаких дел с колониальными властями, этакий бунтарь-отшельник, понимаете? Но в данном случае он в курсе вашего задания, капитан, и окажет вам помощь, если сможет. Вам стоит заставить его раскинуть умом. Он знает многое о том, что там творится. А на местном жаргоне говорит не хуже настоящего туземца — так мне сообщали, во всяком случае.
Я кивнул, сделал пометку на обложке папки и поднялся — судя по всему, мой инструктаж подошел к концу.
— С Богом, Мурфилд, — напутствовал полковник Роулинсон, пожимая мне руку на прощание. — Слркба — дело суровое.
— Постараюсь сделать все, что смогу, сэр! — ответил я, глядя ему прямо в глаза.
Произнося эти слова, я вспомнил застрелившегося агента и подумал о неизвестном ужасе, доведшем его до могилы… Много ли я смогу сделать?
Полученная информация побудила меня поскорее выступить, ибо никто не любит рассиживаться и валять дурака, когда предстоят скверные дела. Пампер Пакстон, сам побывавший во многих переделках, видимо, понимал, что я чувствую, ибо в тот вечер радушно пригласил меня к себе в бунгало, где мы пропустили по маленькой и поболтали о былом. Дома у него были жена и юный сын Тимоти, отличный парнишка, который сразу заставил меня маршировать перед ним взад-вперед по дому. Он был самым многообещающим инструктором по строевой подготовке, с каким мне когда-либо приходилось встречаться!
Мы на редкость чудесно провели время, ибо я всегда был любимцем юного Тимоти и от души порадовался, что он еще помнит меня. Когда пришло время ему ложиться спать, я сел рядом и почитал ему рассказики из какой-то приключенческой книжки. Помнится, наблюдая за ним, я подумал, что придет день — и Тимоти станет гордостью своего отца.
— У тебя прекрасный мальчуган, — сказал я потом Памперу. — Он напоминает мне о том, зачем я ношу этот мундир.
Пампер пожал мне руку.
— Ерунда, старик, — отмахнулся он. — Тебе никогда не надо об этом напоминать.
В ту ночь я лег спать в хорошем расположении духа, а когда проснулся на следующее утро, моих мрачных предчувствий как не бывало. Я был готов к бою.
Мы двигались из Симлы по большой дороге в горы. Солдаты мои, как и обещал полковник Роулинсон, оказались хорошими ребятами, и мы быстро продвигались вперед. За месяц нашего путешествия я воистину уверовал в то, о чем часто говорили: нет в мире мест красивее. Воздух тут свеж, растительность пышна, а Гималаи над нами уходят вершинами в самые небеса. Я вспомнил, что эти горы почитаются индусами как обитель богов. И действительно, от громадных пиков исходило ощущение какой-то великой тайны и власти.
Впрочем, постепенно пейзаж вокруг начал меняться. Чем ближе мы подъезжали к Каликшутре, тем суровей и безлюдней становилось вокруг, хотя царственное величие гор оставалось прежним. Унылость ландшафта лишь способствовала моим раздумьям. Как-то поздно вечером мы вышли на распутье и очутились у отходящей на Каликшутру дороги. Рядом с дорогой распласталась деревушка, нищая и убогая, но мы были рады и ей, ибо появилась надежда встретиться с людьми — ведь вот уже почти неделю мы не видели здесь ни единой живой души. Однако когда мы вошли в деревушку, то увидели, что она покинута жителями — даже собаки не выбежали встретить нас. Мои люди отказывались вставать здесь лагерем, говорили о скверных предчувствиях — а внутреннее чутье у солдат, как правило, развито очень хорошо. Мне тоже не терпелось продолжить наше продвижение к цели, так что в тот же вечер, хотя солнце почти село, мы ступили на дорогу, ведущую в Каликшутру. За первым же крутым поворотом мы наткнулись на статую, выкрашенную в черный цвет. Камень износился, и черты лица практически стерлись, но я сразу узнал черепа в ожерелье на шее и понял, кого представляет эта статуя. У ног богини лежали цветы.
Весь следующий день и еще день за ним мы взбирались по склону горы. Тропа становилась все уже и обрывистее, шла зигзагами вверх по почти голой скале, а над пропастью сияло безжалостно палящее солнце. Я начал понимать, почему обитателей Каликшутры, если они вообще существуют, следует считать демонами: трудно было поверить, что в таких условиях могут жить люди. И конечно же, мое восторженное отношение к горам немного поостыло! Но на исходе второго дня тропа, по которой мы продвигались, стала выравниваться, а среди скал впереди замаячили проблески зелени. Когда лучи заходящего солнца исчезли за утесом, мы обогнули нагромождение скал и увидели перед собой густую поросль деревьев, тянущихся к пурпурным облакам, и сверкающие призрачной белизной пики далеких гор. Некоторое время я стоял, завороженный этим прекрасным видом, как вдруг услышал крик одного из моих людей, продолжавших двигаться по тропе. Я, конечно, бросился следом и сразу услышал жужжание мух.
Я догнал кричавшего за ближайшей скалой. Он показывал на статую. Прямо за ней начинались джунгли, и статуя стояла словно часовой, охраняющий подходы к зарослям. Солдат обернулся ко мне с гримасой отвращения на лице. Подойдя ближе, я увидел, что вокруг шеи идола колышется что-то живое. Воздух был отравлен кошмарным запахом гниющего мяса Присмотревшись к ожерелью на идоле, я понял, что оно кишмя кишит мухами и личинками, — бесчисленные тысячи их образовали живой покров и питались тем, что находилось под ними. Я ткнул в это сонмище рукояткой пистолета; мухи взлетели жужжащим черным роем, и на свет появился сплошь покрытый червями комок внутренностей. Я подрезал их, и они с глухим шлепком упали на землю. И тут, к моему удивлению, сверкнуло золото. Стерев кровь, я разглядел на шее идола украшение — судя по всему, весьма ценное. Даже я, не разбирающийся в женских безделушках, понял, что вещица была довольно древней работы. Я пригляделся к ожерелью повнимательнее: оно состояло из тысячи крохотных капелек золота, сплетенных в нечто вроде сетки, и стоило, должно быть, больших денег. Я потянулся к ожерелью, намереваясь снять его. И в это мгновение раздался выстрел.
Пуля просвистела у меня над плечом и со звоном ударилась о скалу. Я взглянул вверх и сразу обнаружил нападавшего: какой-то человек стоял на краю ущелья. Он еще раз навел винтовку, но я опередил его, удачно попав ему в ногу. Человек покатился вниз по склону, и я подумал, что с ним наверняка покончено; но нет, он поднялся и, используя винтовку как костыль, заковылял через дорогу к тому месту, где мы стояли. Он что-то выкрикивал, показывая на статую. Я, конечно же, не разобрал ни слова, но понять примерный смысл его речи было нетрудно. Я отошел от статуи и поднял руки, показывая, что совершенно не интересуюсь золотом идола. Человек продолжал пристально следить за мной, и мне представилась возможность рассмотреть его получше. Это был старик в поношенных розовых одеждах, с лицом и руками, вымазанными каким-то крайне дурно пахнущим веществом, так что разило от него до самых небес. Короче говоря, мы столкнулись с настоящим брамином. Он был бледен, и в глазах его стояли слезы. Я взглянул на его ногу. Она сильно кровоточила, и я нагнулся, чтобы перевязать рану, но едва я вознамерился сделать это, как брамин отскочил от меня и вновь принялся молоть языком. На этот раз мне показалось, что я услышал слово «Кали».
— Кали, — повторил я, и человек кивнул.
— Хан, хан, Кали
[5],— вскричал он и разрыдался.
Ну что же, беседа складывалась хорошо, и меня нисколько не беспокоило то, что я буду делать дальше. Однако вдруг за спиной у меня послышались шаги.
— Может быть, я смогу вам помочь? — произнес чей-то голос мне в ухо.
Я обернулся и увидел, что позади стоит человек — не в мундире, но тем не менее европеец, с заострившимся лицом и большим носом, напоминающим клюв хищной птицы. На вид ему было не больше тридцати, но выражение глаз делало его гораздо старше. «А этот тип откуда здесь взялся?» — подумал я. И тут на меня снизошло озарение.
— Доктор Элиот?
Молодой человек кивнул. Я представился.
— Знаю, — отрывисто сказал он. — Меня предупреждали о возможности вашего появления.
Он взглянул на жреца — тот лежал на земле, держась за ногу и что-то бормоча себе под нос.
— Что он говорит? — спросил я.
Вместо ответа Элиот встал на колени перед брамином и занялся его ногой.
Я повторил вопрос.
— Он обвиняет вас в святотатстве, — сообщил доктор, не поднимая головы.
— Я же не взял золото.
— Но вы срезали внутренности, не так ли?
Я фыркнул.
— Спросите его, зачем они это делают, — приказал я. — Спросите, зачем они мажут идола кровью.
Элиот что-то сказал, жрецу. Зрачки старика расширились от ужаса; я увидел, как он показал на статую и махнул рукой в сторону джунглей. Услышал я и то, как он пробормотал: «Ветала-панча-Виншати» — слова, слышанные мною от бабу еще в Симле. Вдруг старик пронзительно закричал. Я было нагнулся к нему, но Элиот решительно отодвинул меня.
— Оставьте беднягу в покое, — велел он. — Ему очень больно. Вы уже подстрелили его, капитан Мурфилд. Может быть, достаточно?
Что ж, признаюсь, замечание его меня задело, но я понял и точку зрения доктора: здесь я ничем помочь не мог. Однако меня заинтриговало упоминание о демонах, о которых говорил и бабу. Элиот словно прочел мои мысли — он снова взглянул на меня и сказал, что позднее сам подойдет ко мне. Я опять кивнул и отошел Манеры Элиота были резки, но он произвел на меня впечатление здравомыслящего человека, которому можно доверять. Я направился проследить за тем, как мои люди разбивают палатки. Элиот появился позже, когда выставили часовых и разбили лагерь, а я, оставшись в одиночестве, с наслаждением покуривал трубку.
— Как ваш пациент? — спросил я.
Элиот кивнул.
— Выкарабкается, — сказал он, вздохнув, и опустился рядом со мной.
Он долго ничего не говорил, просто смотрел на огонь. Я предложил ему трубку, он взял и сам набил ее. В молчании прошло еще несколько минут. Наконец он потянулся, как кот, и обернулся ко мне.
— Не надо было вам трогать статую, — медленно проговорил он.
— Факир что, еще дуется?
— Естественно, — кивнул мой спутник. — Он отвечает за умиротворение богов. Отсюда и золотые украшения, капитан, и козлиные кишки…
— Козлиные кишки? — прервал я его.
— А что, по-вашему, там висело? — глаза Элиота сверкнули.
— Ничего, — проворчал я, выколачивая трубку. — Просто странно как-то: столько шума из-за внутренностей животного.
— Не совсем, капитан, — проговорил Элиот, вновь опуская взор. — Видите ли, оскорбив богиню, вы оскорбили ее почитателей, жителей Каликшутры, тех самых, в чью страну вы вот-вот вторгнетесь. Брамин боится за свой народ, живущий здесь, в предгорьях. Он говорит, теперь ничто не защитит их от возможных нападений.
— Но кого они боятся? Тех, кто живет выше, в горах?
— Да.
— Не понимаю… Я же не тронул золото, ведь только оно по-настоящему имеет ценность! К чему столько внимания козлиным кишкам и крови? Неужели внутренности животного могут защитить от врагов?
Элиот вяло пожал плечами:
— Здешние суеверия подчас весьма необычны.
— Да, мне говорили. Поклонение демонам и все такое. Но что за этим стоит, как вы думаете?
— Не знаю, — сказал Элиот.
Он поворошил костер и уставился на взлетающие в ночь искры; потом снова взглянул на меня, и его внешняя расслабленность вдруг исчезла. Меня, как и при первой встрече, поразила глубина его глаз, весьма необычная для человека гораздо моложе меня.
— Два года я проработал здесь, — неторопливо проговорил он. — И уверен лишь в одном, капитан: горцы напуганы чем-то, и это не просто суеверие. По сути дела, именно это заставило меня впервые приехать сюда.
— Что вы имеете в виду? — спросил я.
— О, разные странности, о которых сообщалось в журналах для узкого круга читателей.
— Например?
Глаза Элиота сузились.
— В самом деле, капитан, вас это вряд ли заинтересует. Это весьма малоизвестная отрасль медицинских исследований.
— Попробуйте мне растолковать.
— Речь идет о циркуляции и структуре крови… — насмешливо улыбнулся Элиот.
Мое лицо, должно быть, выдало меня, потому что улыбка доктора стала шире и он покачал головой:
— Попросту говоря, капитан, белые кровяные клетки в здешних краях живут чересчур долго.
Услышав подобное заявление, я аж подпрыгнул и удивленно уставился на своего собеседника.
— Что? Уж не хотите ли вы сказать, что можно продлить жизнь человека?
— Не совсем, — замялся Элиот. — Это лишь иллюзия. Видите ли, эти клетки… также мутируют.
— Мутируют?
— Да. Словно в крови распространяется рак. А заканчивается все тем, что разрушаются нервная система и головной мозг.
— Звучит довольно-таки мрачно. И что же это за болезнь такая?
Элиот покачал головой и отвернулся.
— Не знаю, — неохотно признался он. — У меня лишь пару раз была возможность обследовать больных.
— Но вы же приехали сюда изучать эту болезнь!
— Первоначально — да. Но вскоре я узнал, что туземцы не одобряют интерес к этому таинственному заболеванию. Поскольку я здесь гость, мне ничего не оставалось, кроме как уважить их пожелания и остановить исследования. У меня и так было дел по горло — я организовал больницу и лечил прочие хвори.
— Но даже в этом случае… Вы говорите, что видели пару человек, страдающих вашей таинственной болезнью?
— Да. Вскоре после того, как похитили леди Весткот, — вы, наверное, слышали об этом несчастье?
— Разумеется. Ужасный случай.
— Судя по всему, — бесстрастно продолжал Элиот, — любое вторжение из внешнего мира беспокоит страдающих этой болезнью, выгоняет их из укрытий и заставляет рыскать по предгорьям и окружающим джунглям.
— Бог ты мой! — воскликнул я. — По-вашему, они вроде диких зверей?
— Да, — подтвердил Элиот, — именно так в основном к ним и относятся здешние туземцы — как к смертельным врагам. И я, исходя из собственных наблюдений двух упомянутых мною случаев, считаю, что местные жители имеют веские причины для страха, поскольку болезнь воистину смертоносна — она заразна и разрушает разум Вот почему я хочу вам помочь. Присутствие здесь русских в высшей степени опасно. Если они задержатся… Бог знает, насколько быстро способна распространяться инфекция.
— И лекарств от нее нет? — в ужасе спросил я.
— Насколько я знаю, нет, — пожал плечами Элиот. — Но те двое больных, которых я лечил, пробыли у меня недолго — неделю или около того, — и это была борьба против процесса атрофации. В конце концов я потерпел поражение — болезнь добралась до головного мозга, после чего оба больных исчезли.
— Исчезли?
— Вернулись туда, откуда пришли, — Элиот повернулся и показал на лес и горные вершины вдали. — Знаете легенду? Там живут демоны.
— Вы это серьезно?
И снова Элиот прикрыл глаза.
— Не знаю, — сказал он наконец. — Но чем выше в горы, тем чаще встречаются случаи этой болезни. Согласно моей теории, местные жители не раз наблюдали этот феномен в прошлом и для его объяснения создали целую мифологию.
— Вы имеете в виду разговоры о демонах и прочую чушь?
— Именно так.
Элиот помедлил и открыл глаза. Он взглянул через плечо, и я невольно тоже оглянулся. Луна, призрачная и бледная, как горные вершины, была почти полной, а джунгли за нами казались сотканными из синих лоскутков.
— Ветала-панча-Виншати, — вдруг промолвил Элиот. — Когда брамин произнес эти слова, вы ведь их узнали?
Я кивнул.
— Откуда они вам известны?
— Мне их растолковал профессор санскрита, — ответил я.
— А, — медленно кивнул Элиот. — Так вы познакомились с Хури?
Я попытался вспомнить, так ли звали бабу.
— Он был толстый, — сказал я. — И чертовски грубый.
— Да, это Хури, — улыбнулся Элиот.
— Так вы, стало быть, тоже его знаете? — спросил я.
Глаза Элиота сузились:
— Он иногда появляется здесь.
— В горах? — хмыкнул я. — Но он же жуткий толстяк! Как ему удается взобраться сюда, черт возьми?
— О, когда дело касается его исследований, он готов пойти на любые муки. — Он полез в карман. — Вот, — сказал он, вытаскивая ворох сложенных бумаг, — статьи, о которых я говорил, те, что побудили меня приехать сюда… Их написал профессор. — Он передал мне бумаги. — А вот эту он прислал мне всего месяц тому назад.
Я взглянул на статью: «Демоны Каликшутры. Исследование по современной этнографии». А ниже мелким шрифтом шел подзаголовок: «Санскритский эпос, гималайские культы и традиция насыщения кровью». Я помрачнел.
— Простите, это должно меня заинтересовать?
Во взгляде Элиота, казалось, мелькнула насмешка.
— Так Хури вам не сказал, что означает «Ветала-панча-Виншати»?
— Сказал конечно. Так называют демона.
— По правде говоря, в здешних местах это означает нечто иное.
— Да неужто?
— Да, — кивнул Элиот. — Нечто такое, что меня всегда интриговало. На Востоке миф зачастую связан с медицинским фактом…
— Знаю, знаю, — закивал я. — Но скажите же наконец, что означают эти проклятые слова?
Элиот вновь повернулся и осмотрел джунгли.
— Это означает «кровопийца», капитан, — проговорил он. — Теперь вы понимаете? Вот почему горцы мажут свои статуи козьей кровью. Они боятся, что иначе демоны придут и выпьют их кровь.
Он тихо рассмеялся, и смех его звучал очень странно.
— Ветала-панча-Виншати, — прошептал он себе под нос и взглянул на меня. — В нашем языке есть одно обозначение, гораздо более точное, чем «демон». Это «вампир», капитан. Вот что это значит!
Я молчал, вглядываясь в его лицо, омываемое серебряным светом луны. Спустя некоторое время я было раскрыл рот, чтобы спросить, неужели он в самом деле считает, что местные племена пьют кровь, однако в этот миг до нас донеслись возгласы часовых. Я оглянулся и вскочил на ноги. Внезапно раздался выстрел из ружья. Вот и конец разговору, подумал я. Такова судьба солдата. Зов боевой тревоги — и все. Я бросился к часовым и увидел, что они стоят у края тропы.
— Русские, сэр, — отрапортовал один их них, указывая винтовкой. — Вон там, трое или четверо. Думаю, одной сволочи я в спину попал.
Я выхватил револьвер и осторожно двинулся по тропе туда, где начинались джунгли.
— Вон там они были, сэр, — заявил часовой, тыча оружием в густую тень.
Я прошел через подлесок — никого не видно. Раздвигая вьющиеся растения, я осмотрелся. В джунглях по-прежнему тишина и покой. Я шагнул вперед и… вдруг почувствовал, как чьи-то пальцы схватили меня за ногу.
Я глянул вниз и тут же выстрелил. Помню бледное лицо, широко раскрытый рот и холодный, мертвый взгляд. Пуля разнесла неизвестному череп — он разлетелся на куски, и в лицо мне ударил фонтан крови и костей. Неприятно, но, странное дело, я был абсолютно спокоен. Я отер с глаз мерзкое месиво и всмотрелся в труп у моих ног; все вокруг было забрызгано кровью. Склонившись над телом, я увидел круглое отверстие от пули в спине — один из моих солдат всадил ему пулю прямо в позвоночник.
— Да его давно убили, еще до того как вы пальнули в него, сэр, — сказал часовой, рассматривая дырку от пули.
Не обращая внимания на его слова, я перевернул труп. На мертвом была местная одежда, но, пошарив у него в карманах, я нашел смятую рублевую бумажку.
Я разогнулся и всмотрелся в темную гущу лиан и деревьев. Черт их дери, они же там, наверху.
Разведданные Роулинсона подтвердились: в Каликшутре действительно появились русские. Кровь моя чуть не вскипела от этой мысли. Бог знает, какие пакости они там готовят! Бог знает, какие дьявольские заговоры чинят против британской власти в Индии! Я вновь бросил взгляд на труп у своих ног.
— Похороните его, — отдал я приказ, пиная мертвеца. — А когда сменитесь, хорошенько отоспитесь — хотя бы несколько часов. Впереди долгий день — выступаем завтра, как только забрезжит рассвет.
Письмо д-ра Джона Элиота профессору Хури Джъоти Навалкару
6 июня 1887 г.
Любезный Хури!
Выхожу завтра с Мурфилдом и его людьми. Сегодня ночью один из часовых застрелил русского солдата, и Мурфилд хочет удостовериться в присутствии здесь противника. Пойду с ним до Калибарского перевала.
Оставляю вам эту записку, ибо, возможно, буду сопровождать его дальше. Если так случится, то в равной степени возможно, что я уже никогда не вернусь. За два года, прожитые среди обитателей предгорий, я стал почти одним из них. Все это время я держал свое обещание и не пытался проникнуть за перевал, в саму Каликшутру. Если найду в себе силы, то сдержу этообещание и сейчас, ибо не хочу предавать тех, кто проявил по отношению ко мне такие радушие и щедрость. Но то, чего боялись местные жители, уже началось: с перевала воистину спускается хаос. Хури, этот русский, которого убили сегодня ночью… Я провел вскрытие. Сомнений нет: все его белые клетки заражены.
Я очень боюсь, что болезнь станет распространяться и дальше. Еще слишком рано говорить об эпидемии, но присутствие русских солдат в Каликшутре отменяет запрет на проникновение за Калибарский перевал. Если мы засвидетельствуем другие случаи заболевания, я сочту своим врачебным долгом более подробно исследовать его сущность. Надеюсь, если я смогу найти лекарство, местные жители меня простят. Козья кровь и золото могут оказаться недостаточной защитой.
Не стану отрицать: при мысли о том, что наконец-то мне удастся проникнуть в Каликшутру, меня охватило определенное возбуждение. Болезнь, что властвует там, очень и очень необычна Если я смогу определить ее природу, вся программа моих исследований будет, возможно, успешно завершена. И ваша теория, Хури, состоящая в том, что это заболевание объясняет миф о вампирах, также может получить подтверждение.
Надеюсь, нам представится возможность обсудить все это.
Так что до встречи.
С наилучшими пожеланиями
Джек.
Выдержки из «С винтовками в Радже» (продолжение)
В КАЛИКШУТРУ
Экспедиция в джунгли • Первая кровь • Странный сон Дурга • Кошмарная смерть солдата • Каликшутра • Ужасный ритуал
Я знал, что мои люди без труда вынесут марш-бросок, и на следующее утро мы выступили в путь в хорошем расположении духа. Однако я не забыл позаботиться о прикрытии тыла Самый быстроногий из моих солдат был послан назад с депешей Памперу и его полку, где им предписывалось продвигаться как можно быстрее. Еще двум людям я поручил охранять верхнюю часть дороги. Оставшиеся семь солдат сопровождали меня, и с нами был доктор Элиот. Он сказал, что нам понадобится проводник, ибо путь трудный, и что он доведет нас до Калибарского перевала, то есть до ворот в саму Каликшутру. Я выдал ему армейский револьвер. Он вначале отказался, заявив, что никогда им не воспользуется, но в конце концов внял моим настояниям. Я был рад его обществу, ибо он крепкий мужик, а тропа воистину оказалась очень коварной. Как я уже упоминал, я слыл довольно хорошим охотником и в свое время мне довелось повидать джунгли, но ничто не могло сравниться с теми лесами, через которые нам пришлось прорубаться. Природа не могла создать более действенной преграды, и мной стало овладевать очень странное чувство, что обычному человеку просто не место здесь. Назовите это солдатским суеверием, назовите чем хотите, но у меня вдруг возникло дурное предчувствие касательно того, что лежит впереди. Естественно, я не показывал вида, но все равно что-то меня тревожило — опасность я нюхом чуял, поскольку немало поохотился на тигров и другую крупную дичь и научился доверять своим инстинктам. А сейчас мы вышли на самую опасную дичь — на человека! — поэтому в любое время удача могла отвернуться от нас, и мы из охотников превратились бы в добычу.
Весь день мы провели в трудном походе. И лишь к ночи джунгли стали реже. Наконец, когда я устало взобрался на очередной уступ, Элиот, стоявший рядом, указал вперед.
— Видите вон тот утес? — прошептал он. — С него открывается отличный вид на Калибарский перевал.
Взглянув в указанную им сторону, я увидел дорогу, круто вьющуюся вверх по склону горы. Она была открыта и, следовательно, опасна, но именно по ней нам предстояло идти дальше, ибо с другой стороны перевала горы вздымались к небесам сплошной скалистой стеной высотой в сотни футов. А на самом верху этого скального образования, очевидно, находилось плато.
Элиот тоже смотрел туда.
— Каликшутра за вершиной, — сказал он.
— Господи, неужели? — проговорил я. — Тогда мы вляпались. Более подходящего места для засады я в жизни не видел.
И действительно, в гот же миг тишину джунглей разорвал выстрел. Я повернулся и нырнул в подлесок — впереди замаячили какие-то фигуры, словно духи, среди деревьев. Мои люди открыли огонь, и фигуры стали падать. Наша стрельба была быстра и смертоносна. Вскоре русские исчезли из поля нашего зрения — были убиты или бежали. Джунгли вновь замерли в безмолвии.
Мы продолжали продвигаться вперед, к дороге на Каликшутру, но не прошли и полумили, как на нас опять напали. Правда, мы снова успешно отбили налет и двинулись дальше. Вскоре мы добрались до плоской и открытой площадки, где горная дорога подходила вплотную к джунглям, и я понял, что если мы посмеем сделать еще хоть один шаг, то угодим прямо в западню. Я осмотрелся. По обочинам дороги высились обломки скал, и я приказал своим людям занять позицию за ними. Но не успели солдаты выполнить мой приказ, как воздух прорезал нечеловеческий вопль.
— Боже мой, — пробормотал Элиот.
Из тьмы, словно из-под земли, возникла цепь людей — лица их были бледны, а глаза ярко горели. Я привел в готовность свое войско и рявкнул: «Огонь!». Раздалась смертельная трескотня, и семеро противников упали навзничь в пыль.
— Огонь! — повторил я, и мы пробили еще одну брешь в их рядах.
Но они шли и шли. Было видно, как из темноты поднимаются все новые и новые фигуры: положение становилось весьма напряженным. Я бегло окинул взглядом противника и заметил, что позади всех стоит русский в чалме и принюхивается к воздуху. Он ничего не говорил, но солдаты безоговорочно подчинялись каждому его жесту, и я сразу понял, что это командир. Я склонился вперед и заговорил с рядовым Хаггардом, лучшим стрелком среди нас. Хаггард прицелился, среди скал эхом прокатился звук выстрела, и русский в чалме, зашатавшись, упал. Нападающие мгновенно утратили всю свою уверенность.
— Пальни в него еще разок, — приказал я Хаггарду, вскакивая на ноги. — Бей их, ребята!
С криками мы бросились в атаку. Противник дрогнул и моментально рассеялся, оставив после себя лишь трупы. И снова воцарилась тишина. Дорога принадлежала нам.
Я знал, что передышка будет лишь временной, а поэтому первой моей задачей было выставить часовых. Тем временем Элиот ходил среди убитых, убеждаясь, что среди них не осталось тех, кто мог бы нуждаться в его помощи. Вдруг он замер на месте и подозвал меня.
— Этот еще жив, — сказал он, — хотя и не знаю каким образом.
Я подошел к доктору. Тот стоял на коленях над стройным человеком в чалме, командиром. Русский был дважды ранен в живот, и кровь фонтанчиками хлестала из жутких ран. В руках Элиота тело офицера выглядело чрезвычайно хрупким, и я тоже сначала не поверил, что этот человек еще жив. Я наклонился ниже и заглянул раненому в лицо. И тут же присвистнул, вскричав:
— Боже мой!
Передо лшой лежал не мужчина, а женщина, и к тому же хорошенькая. Лицо ее было бледным, оно казалось почти прозрачным, и до меня вдруг дошло, что я никогда не видел женщины и наполовину столь прекрасной. Даже Элиот, которого я считал довольно хладнокровным типом, похоже, был восхищен ее красотой, но все же в ней присутствовало что-то отталкивающее, что-то неописуемое, отвратительное. Красота и ужас смешались, так что сквозь ее привлекательность проглядывало нечто адское. Прочитав это, вы решите, что я просто перегрелся на солнце… Что ж, было действительно очень жарко, но думаю, что моим инстинктам, проверенным в боях, все же можно доверять. Я сдвинул чалму женщины, и длинные черные волосы рассыпались по моей руке. Увидев блеск разных побрякушек, я отшатнулся, потому что сразу узнал их — они были точь-в-точь похожи на украшения на шее идола Я нагнулся пониже и вгляделся, но тут наша пленница открыла глаза, глубокие и большие, — такие глаза считаются эталоном красоты на Востоке. Однако взгляд их обжигал как огонь, и я почувствовал, что меня бросило в дрожь: столь полны они были ненависти и дьявольской силы.
— Спросите, кто она, — приказал я, вскакивая на ноги.
Элиот что-то прошептал, но женщина ничего не ответила, и глаза ее вновь закрылись.
Я взглянул на рваные раны, зиявшие на ее теле.
— Вы можете спасти ее?
Элиот покачал головой:
— Повторяю, я не могу ничего сделать. Эта женщина должна была умереть сразу же.
— Так почему ж она не умерла? Может, это как-то связано с теми самыми белыми кровяными клетками?
Он пожал плечами:
— Возможно. Однако, заметьте, на ее лице нет признаков слабоумия, которые я бы обязательно увидел, будь у нее эта болезнь, и которые, кстати, явственно проступают на лицах других солдат… Не знаю, как и поступить. Дам ей опиума — что еще можно сделать?.. Чувствую себя довольно беспомощным, должен вам признаться.
Я оставил его за врачебными хлопотами и, обеспокоенный словами Элиота, задумчиво побрел среди тел убитых, всматриваясь в лица мертвецов. В отличие от своего командира солдаты были явно русские, но чересчур рыхлого сложения, с кожей, бледной как воск. Я вспомнил человека, который схватил меня за ногу позапрошлой ночью и которому я вдребезги разнес череп, — его лицо было таким же белым. О, сколь мертвен был взгляд его глаз! Элиот прав: у русских были лица слабоумных, у всех до единого, кроме, конечно, проклятой бабы с прожигающим насквозь взглядом. Я начал размышлять об этой болезни, о том, сколь заразной она может оказаться на деле. Но я не мог позволить себе погружаться в раздумья и присоединился к своим солдатам, чтобы поговорить с ними и выпить кружку чаю. Они заслужили передышку — день был жестокий, и один лишь Господь ведает, что ждет завтра. Я взглянул на вьющуюся впереди дорогу. Чем больше я ее изучал, тем меньше она мне нравилась. Двинувшись дальше, я проявлю глупую, никому не нужную браваду. Я подумал., может быть, нам стоит подождать Пампера и его людей, однако мне не терпелось разведать лежащие впереди земли и еще раз как следует потрепать засевших там русских. Вспомнил я и о нашей пленнице. Кем бы или чем бы она ни была, женщина может оказаться полезной заложницей… Я поднялся и, пожелав своим людям доброй ночи, вернулся к Элиоту, который все еще сидел возле необычной пациентки.
— Ну так что? — спросил я. — Жить будет?
По его лицу, казалось, пробежала тень.
— Взгляните, — ответил он и откинул одеяло.
Глаза пленницы были по-прежнему закрыты, но на губах ее играла слабая улыбка, а щеки налились румянцем. Элиот поправил одеяло, встал и перешел на другую сторону от костра, где, как я заметил, неподвижно лежало второе тело.
— Кто это? — поинтересовался я.
Элиот нагнулся, отбросил одеяло, и я узнал рядового Комптона, хорошего парня, который всегда мог служить олицетворением крепкого здоровья. Но сейчас кожа его невероятно побелела, прямо как у русских, а взгляд открытых глаз казался остекленевшим и мертвым.
— Взгляните-ка. — Элиот начал расстегивать рубашку пациента.
На груди Комптона набухли и вздулись царапины.
— Что это с ним? — спросил я. — Что?
— Не знаю.
— А это оцепенение… взгляд его глаз? Черт побери, Элиот, это же ваша зараза!
Он поглядел на меня и медленно кивнул головой.
— Где он ее подцепил?
— Говорю же вам — не знаю.
Признание в собственном невежестве, похоже, причиняло ему боль. Сквозь пламя костра он смотрел на тело пленницы.
— Я полагаю, она, возможно, тоже заражена, — сказал он, махнув рукой в сторону женщины. — Кожа ее очень холодная, довольно бледная, но все первичные признаки болезни отсутствуют. Может быть, она — носитель, передает болезнь, но сама остается незараженной. Хотя проблема в том, что я даже не знаю, как распространяется заболевание.
Элиот вздохнул и взглянул на раны на груди бедняги Комптона. Казалось, он готов был сказать что-то, но, передумал и вновь уставился на пленницу.
— Буду следить за ней. За ней и за Комптоном. Не беспокойтесь, капитан. Оставьте меня с пациентами, а если что-нибудь случится, я сразу поставлю вас в известность.
— Но ради Бога, прошу, — проговорил я, — не дайте ей умереть. Если бы мы только смогли заставить ее заговорить… А что, если ей известен другой путь на этот чертов утес?
Элиот кивнул. Снова он вроде бы хотел что-то сказать, но слова и во второй раз словно застряли у него в горле. Я пожелал доктору доброй ночи и оставил его за осмотром лица Комптона и вытиранием испарины со лба бедняги-солдата.
Нам обоим было над чем поразмыслить. Я почувствовал необходимость в доброй трубочке, сел и закурил. Но, видимо, я устал больше, чем мне казалось, ибо даже с трубкой из верескового корня в зубах почувствовал, что мои веки опускаются. Не успел я подумать об этом, как сознание мое погасло.
Мне снился очень странный сон. Это было необычно для меня — я снов не вижу. Но этот сон весьма смахивал па явь. Мне привиделось, что женщина, наша пленница, находится рядом со мной. Я стоял словно в трансе, пригвожденный к месту, и сжимал в руке револьвер, но в то же время, глядя ей в лицо, чувствовал, как мои пальцы на рукоятке револьвера медленно разжимаются. Револьвер упал на землю, и это бряканье вывело меня из транса. Я огляделся и понял, что нахожусь на бруствере, а противник волнами прорывается сквозь наш огонь. Мои люди падали один за другим, и было ясно, что скоро их окончательно растопчут. Я должен им помочь, расставить их у стен, иначе нас сметут и уничтожат весь полк! Но я не мог пошевелиться, и это было ужаснее всего — меня буквально заморозил взгляд женщины, поймал, как муху в паутину. Она засмеялась. Я снова огляделся и увидел, что все мертвы… мои люди… противник… все, кроме меня. Даже женщина рядом со мной была мертва, и все же она двигалась, обходя меня, как голодная пантера. Со всех сторон ко мне тянулись мертвецы. Глаза их были идиотски вытаращены, и тела., белые, холодные, как могила Я почувствовал, как легкие холодные руки тащат меня вниз. Я увидел Комптона Его лицо прижалось к моему. Он открыл рот, и в глазах его вдруг вспыхнула чудовищная жадность, а губы задвигались, как присасывающаяся к чему-то пара голодных улиток. Я знал, что он собирается насытиться мною. Губы коснулись моей щеки, и… я проснулся от того, что Элиот тряс меня.
— Мурфилд, — в отчаянии вскричал он, — вставайте. Они ушли!
— Кто? — вскочил я. — Женщина?
— Да, — сказал Элиот, странно поглядев на меня. — Вам она приснилась?
Я в изумлении уставился на него:
— Что за черт, откуда вы знаете?
— Потому что мне она тоже приснилась. Но это не самое худшее, — добавил он. — Комптон тоже ушел.
— Комптон? — переспросил я, не веря своим ушам и пристально глядя на Элиота.
Шок от услышанного оказался столь велик, что я наорал на беднягу доктора. Он же, выслушивая мои гневные тирады, молча изучал меня внимательным взглядом, склонив голову набок, отчего стал еще больше похож на ястреба.
— Вы закончили орать? — уточнил он, когда мой гнев в конце концов иссяк.
Прежде чем ответить, я обвел взглядом горные вершины и дорогу, ведущую к ним сквозь гималайскую ночь.
— Пропал британский солдат, — медленно проговорил я, сжимая кулаки, — один из моих солдат, Элиот. Черт побери, теперь я точно не отступлюсь. Они не заставят меня поджать лапки.
Элиот воззрился на меня и долгое время ничего не отвечал.
— Вы понимаете, — сказал он наконец, — что если мы продолжим движение по этой дороге, то нас просто-на-просто сметут?
— А у нас есть какой-то иной выбор?
Элиот без слов повернулся и пошел к утесу. Я последовал за ним. Создавалось впечатление, что он борется со своей совестью, и я был не так уж расстроен, чтобы не заметить этого. Вскоре он остановился и повернулся ко мне.
— Мне не следовало говорить вам это, капитан…
— Но вы собираетесь?
— Да. Потому что иначе вам не избежать гибели.
— Я не боюсь смерти.
Элиот слабо улыбнулся:
— Не беспокойтесь, вы, скорее всего, все равно погибнете.
Улыбка его тут же погасла, и он указал на стену гор за перевалом. Вершины их вздымались так высоко, что разглядеть их было практически невозможно.
— Вон там лежит еще один путь наверх, — пояснил он.
Этот путь был, по-видимому, тропой паломников.
— Тропу называют Дурга. Это одно из имен богини Кали, и переводится оно как «трудный подступ». Очень верное название. Брамины говорят, что человек, который сможет преодолеть эту тропу, достоин взглянуть на саму Кали. Только величайшие из аскетов взбираются здесь, только те, кто очистился за десятилетия покаяния и медитации. Когда они достигают совершенства, то восходят на утес. Многим это не удается, и они возвращаются — именно от них я узнал о трудности этого пути. Но немногим, очень немногим, это удается. И когда они достигают вершины… — Он помедлил. — Им открывается Истина.
— Истина? А это что за чертовщина?
— Мы не знаем.
— Что ж, если браминам удается добыть Истину, то почему бы и нам не попробовать?
Элиот еле уловимо улыбнулся:
— Потому что, капитан, они никогда не возвращаются.
— Что? Никогда?
— Никогда. — Улыбка Элиота погасла, и он снова обратился к вздыбившимся горам. — Так что, вы все еще хотите идти туда?
Воистину излишний вопрос! Естественно, я сразу же принялся готовиться к походу. Я выбрал самого опытного из своих людей, рядового Хаггарда, и самого крепкого силача, старшего сержанта Каффа; остальным поручил следить за проходом и ждать старину Пампера, который, как я надеялся, должен был довольно скоро появиться здесь со своим войском. За несколько часов до рассвета мой маленький отряд выступил из лагеря. Мы пробирались к дальней стороне перевала — сначала по скалам, а потом, когда утес стал круче, по ступенькам, вырубленным в голом камне.
— Брамины говорят, — сказал Элиот, — что эти ступеньки составляют примерно четверть пути. Дальше будет проще.
С трудом мы полезли вверх. Ступеньки были вырублены грубо и зачастую представляли собой всего-навсего зацепки в скале, а иногда и совершенно исчезали. Икры мои сводило судорогами, и после пары часов такого пути мне подумалось, что из браминов, наверное, вышли бы отличные солдаты, ибо таких тренировок не пожелаешь никому! Я остановился перевести дух, и Элиот указал на лежащий впереди уступ, по которому вились ступеньки.
— Последний рубеж, — крикнул он. — Считайте, худшее позади. Дальше к плато ведет пологий подъем.
Но ради всех святых, до этого пологого подъема надо было еще добраться. Здесь, на унылом открытом месте, ветер рвал и метал, намереваясь скинуть нас в бездонную пропасть, разверзшую свою темную пасть под нашими подгибающимися ногами. Это было весьма суровое испытание, и только я подумал, что хуже, пожалуй, и быть не может, как вдруг услышал крик. Он был очень слаб и вскоре утонул в свисте ветра. Я напрягся, и Элиот, шедший следом, тоже приник к скале. Ветер утих, и до нас донесся второй крик со стороны перевала. Но разглядеть, что там творится, мы не смогли — мешал выход скальных пород, который мы пересекали. Кровь во мне заледенела; продолжать путь, думая только о том, за что зацепиться, куда поставить носки сапог, думать о себе, а не о своих людях — все это было наихудшим из мучений. Хотя, надо признать, раздавшиеся внизу крики подстегнули меня, и я стал двигаться быстрее. Достигнув безопасного места, я вышел на тропу, вьющуюся по скале, и глянул в ущелье. Дно его было не настолько далеко, чтобы не увидеть наши палатки. Кроме того, близился рассвет, с каждой минутой становилось все светлее. Можете представить мое волнение, когда я обнаружил, что внизу нет ни одного из моих солдат. Никакого намека на движение. Ни единого признака человеческого присутствия.
Я продолжал всматриваться, насколько мне позволяло зрение, но такое впечатление, что, мои люди просто растаяли в воздухе. Я вспомнил о недавних криках и, признаюсь, заподозрил самое худшее. Такие же опасения терзали и рядового Хаггарда. К этому времени мои три спутника присоединились ко мне и тоже принялись рассматривать опустевший лагерь.
— Они, наверное, ушли разведать окрестности, сэр, — невозмутимо сказал старший сержант и показал на Хаггарда. — Получше присматривайте за ним, сэр, — прошептал он.
И рассказал мне то, о чем я даже не подозревал.
Оказывается, Хаггард входил в ту экспедицию, которая потеряла леди Весткот, — он бывал в здешних местах раньше и видел довольно странные вещи. Он был весьма храбрым, но в то же время суеверным парнем. Рядовой английский солдат не колеблясь схватится один на один с зулусом, но стоит при нем упомянуть вуду, глядь, а нашего бравого вояки и след простыл. Сейчас мы шагали по ровной земле, и я уже начинал жалеть об этом — уж лучше бы мы и дальше карабкались по скалам, Хаггард хоть отвлекся бы…
Плато, которое мы пересекали, было шириной с милю. Двигались мы осторожно и вскоре вышли на вьющуюся между скал тропу, на которой заметили свежие следы босых ног. Спустя некоторое время мы очутились у подножия еще одной стены гор, казавшейся куда более неприступной, чем утес, на который мы только что взобрались. Элиот остановился и всмотрелся в скалы.
— Вон там, — вдруг показал он вдаль. — Вон там, где тропа подходит к горам…
Я увидел ярко раскрашенную часовню, вырубленную в скале, и стал оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать способ незаметно ее миновать. Но стоило мне приподняться с места, где я лежал, как на мое плечо легла твердая рука Элиота.
— Подождите, — прошептал он. — Страдающие этой болезнью чувствительны к свету…
Он махнул рукой на восток. Я увидел, как зарозовели горные вершины. Элиот был прав — до восхода солнца оставалось совсем немного.
— Сэр, — зашептал Хаггард. — Чего мы ждем?
Я жестом приказал ему замолчать, но Хаггард лишь покачал головой.
— Все было точно так же, когда похитили несчастных Весткотов, — забормотал он, — леди с дочкой, похитили их и охрану, растворились в ночи, растаяли в воздухе… — Он вскочил и принялся одичало озираться вокруг. — А теперь они охотятся на нас!
Отчаянным рывком я повалил его обратно на землю и услышал, как Элиот зашипел, чтобы мы лежали тихо. Я взглянул на тропу. В подлеске что-то зашевелилось, и оттуда появилась группа людей в русских мундирах. Лиц их не было видно, ибо люди стояли спинами к нам. Затем один из них повернулся и стал вроде бы принюхиваться. Словно уверившись в чем-то, он уставился на скалу, у которой мы все лежали, и рядовой Хаггард громко застонал. Глянув вперед, я почувствовал, как что-то кольнуло меня в сердце: передо мной на тропе стоял человек, которому позапрошлой ночью я прострелил голову! Рану его — месиво из крови и костей — было трудно не узнать, но как стервец умудрился выжить, уму непостижимо. И все-таки он выжил! Глаза его сверкали яростным огнем.
— Нет! — вскричал вдруг Хаггард. — Чур меня! Чур!
Он прицелился из винтовки и одним выстрелом вдребезги разнес лицо русского, затем вырвался из рук пытающегося удержать его старшего сержанта и начал карабкаться по скалам к часовне.
— Быстрей! — выругавшись, заорал Элиот. — Нам тоже надо бежать!
— Бежать? От противника? Никогда! — крикнул я.
— Они же заразные. Вы что, не видите?
Он показал вперед, и, повернув голову, я, к своему ужасу, обнаружил, что русский, уложенный Хаггардом, медленно поднимается на ноги! Челюсть его была отстрелена и свисала с черепа на тонкой жилке; в горле пенилась кровь, оно сжималось и раскрывалось, словно голодный рот в ожидании пищи. Русский шагнул в нашу сторону. Его товарищи, сгрудившиеся за ним, тоже стали всей стаей медленно подбираться к нам.
— Прошу вас, — принялся умолять Элиот. — Ради Бога, бежим!
Он резко повернулся и дернул меня за руку. От неожиданности я поскользнулся, но удержал равновесие. Тем временем один из русских оторвался от стаи и заковылял прямо на меня, как голодный дикий зверь. Я вскинул револьвер, приготовившись стрелять, но рука моя превратилась в свинец. Я взглянул в глаза русского — в них горела поистине ужасающая жажда, и в то же время они оставались, как и прежде, холодными, что в целом создавало впечатление непередаваемого кошмара. Невольно я отшатнулся — узрев это, мои противники издали некий странный шелестящий звук, который, не будь он столь зловещим, можно было бы принять за смех. Вдруг русский оскалил зубы и буквально ринулся на нас, видимо намереваясь разорвать мне глотку. Я было поднял руки, чтобы оттолкнуть его, как вдруг за моей спиной раздался револьверный выстрел, и русский рухнул замертво — пуля попала ему точно между глаз. Я обернулся — сзади стоял Элиот с дымящимся револьвером в руке.
— Я думал, вы не хотите применять оружие, — заметил я.
— Обстоятельства заставили, — пожал плечами он, глядя на русского, который вдруг задергался, как и его прежде уложенный сподвижник. — Капитан, старший сержант, — в отчаянии прошептал Элиот, — прошу вас, ради Бога, бежим отсюда!
И мы, конечно, уступили его просьбам. Когда я пишу это сейчас, в уюте своего кабинета в графстве Уилтшир, то знаю, что это звучит позорно, но бежали мы не от людей, а от их адской болезни. И, клянусь Господом, «больные» передвигались довольно резво. Когда Элиот, старший сержант и я, обнаружив сбоку от часовни ступени, начали взбираться по склону горы, русские кинулись за нами вдогонку. По этим ступеням карабкаться было легче, и мы быстро лезли вверх, но ужасные существа неотвратимо приближались. Даже самый средненький русский солдат — весьма опасный противник, но наши преследователи особой ловкости не проявляли — по скалам, они карабкались неуклюже, спотыкаясь, и можно было с уверенностью сказать, что двигало ими исключительно желание поймать нас. Трудно было поверить, что это люди, — столь голодно и дико сверкали их глаза. Скорее они напоминали стаю дхол, диких собак с Декканского плоскогорья, почувствовавших нашу кровь.
Мало-помалу они начали настигать нас, и вот уже ближайший из них отставал всего на вытянутую руку! Но тут я решил, что хватит показывать противнику спину. Я уж было хотел повернуться и встретить свою участь лицом к лицу, но…
— Нет! — отчаянно вскричал Элиот и показал на восток, на горные вершины. — Уже почти рассвело!
Однако русские были слишком близко, чтобы убежать от них. И снова в меня впился взгляд холодных и вместе с тем жгучих глаз. Русский зашипел, как ядовитая гадина, напрягся и присел, готовясь к прыжку. И в этот самый миг первый луч солнца озарил небо, и вершина горы потонула в красном мареве. Русский сразу замедлил шаг; его товарищи тоже остановились.
Вдруг буквально в дюйме от моего носа просвистела пуля. Вонзившись в скалу, она осыпала нас и наших преследователей дождем каменных осколков. Я взглянул вверх и увидел, что на гребне стоит Хаггард и целится из винтовки, готовясь выстрелить во второй раз.
— Ты что, парень, черт тебя дери! — заорал я. — Давай вверх, по тропе!
Но Хаггард, взвинченный до предела, не обратил на меня никакого внимания — впервые солдат не подчинился моей команде.
— Нет, сэр! — пронзительно закричал он. — Это же вампиры! Надо их всех уничтожить!
— Вампиры?
Я взглянул на Элиота и покачал головой. Хаггард заметил это и, боюсь, понял меня не так, как надо.
— Я с ними уже сталкивался, — надрывался Хаггард, — когда они пришли и забрали леди Весткот… Леди Весткот и ее очаровательную дочку… Они их сожрали, а теперь и нас хотят растерзать!
Я, конечно же, попытался ему объяснить, что эти люди просто больны, и обратился к Элиоту, чтобы тот подтвердил мои слова, но Хаггард только рассмеялся.
— Это вампиры! — повторял он. — Говорю вам, это они!
Он выстрелил еще раз, но промахнулся, потому что дрожал всем телом. Шагнув вперед, чтобы получше прицелиться, он опустил винтовку и вдруг поскользнулся. Я крикнул ему, чтобы он был поосторожнее, но было уже поздно. Он успел выстрелить, однако пуля, не причинив никому вреда, ушла в небо, а сам Хаггард оступился и, отчаянно размахивая руками, покатился вниз с утеса. Посыпалась галька, и тело его с противным глухим ударом упало в кусты у часовни. Кусты смягчили падение и тем самым спасли солдату жизнь, однако подняться он не мог — ноги его были переломаны…
Тем временем наши преследователи сгрудились в кучку и наблюдали за нами пылающими холодным огнем глазами. Когда на востоке засияли первые лучи солнца, они застыли на месте, но, увидев, как бедняга Хаггард упал с утеса, сразу напряглись и словно ожили. Пару минут они следили за тем, как он старается выбраться из кустов, после чего дружно направились в его сторону. Их глотки издавали странный клекочущий звук, который я раньше принял за смех. Они начали удаляться от нас, шагая еще медленнее, чем раньше, словно солнечный свет, подобно воде, мешал им идти. И все-таки они продолжали двигаться. Я беспомощно смотрел, как они дошли до часовни и окружили лежащего в кустах Хаггарда Руки и ноги его задергались, он пронзительно закричал и снова попытался подняться, но тщетно. Русские, наблюдавшие за беднягой, как коты за мышью, придвигались все ближе. Вот один из них бросился вперед, за ним. — второй, и вскоре все сгрудились вокруг Хаггарда, склоняя головы к его кровоточащим ранам.
— Боже мой, — прошептал я, — что они делают?
Элиот не ответил, ибо мы оба слышали легенды Каликшутры и сейчас убедились в их правдивости. Русские пили кровь Хаггарда! Эти отродья — я уже не мог думать о них как о людях — пили его кровь! Один из них прервал пиршество и сел, довольно откинувшись. По его губам и подбородку стекала кровь, и я понял, что он разодрал Хаггарду глотку. Я выстрелил в нечисть, но рука моя дрогнула, и я промахнулся. Но все же русские попятились. Труп Хаггарда остался лежать у часовни, весь в глубоких рваных ранах, с побледневшей обескровленной кожей. Спустя некоторое время русские возобновили свою кошмарную трапезу, а я позволил им это, потому что ничего сделать не мог.
Я повернулся и двинулся вверх по тропе. Я шел долго… очень долго… не оглядываясь.
На нашем восхождении на гору в тот ужасный день я не намерен останавливаться. Достаточно сказать, что оно нас прямо-таки доконало. Подъем был ужасен. Большая высота и ужасные события, свидетелями которых нам пришлось стать, вымотали нас до предела. Ближе к вечеру, когда тропа наконец-то стала менее крутой, все мы находились на грани измождения. Отыскав уступ с нависшей сверху скалой, которая могла защитить нас как от порывов ветра, так и от рыскающих чужих глаз, я приказал остановиться и немного отдохнуть. Я тоже прилег и почти мгновенно крепко уснул. Проспал я недолго — во всяком случае, так мне показалось. Минут десять, не больше… Однако сон мой был столь глубок, что я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Не стану будить остальных, решил я про себя, ведь еще только полдень… Первое, что я увидел, открыв глаза, был бледный блеск полной луны.
Она была завораживающе прекрасна, и от такой картины у меня на мгновение перехватило дыхание. Предо мной высились величественные вершины Гималаев, а далеко внизу расстилались долины, окутанные густыми синими тенями. Под нами плыли мелкие хлопья облаков, словно выдохнутые каким-то божеством гор, и над всем этим разливался серебряный обжигающий свет луны. Я вдруг осознал, что нахожусь в мире, в котором нет места человеку, в мире, который пережил и переживет все эпохи, в мире холодном, прекрасном и ужасном. Почувствовал я и то, что часто чувствуют англичане в Индии: как далек я от дома, далек от всего близкого и понятного мне. Я осмотрелся по сторонам и вспомнил о смертельной опасности, грозящей нам. Кто знает, станет ли это странное место моей могилой, где мои затерянные, безымянные кости будут лежать, вдали от Уилтшира и моих близких?
Но солдат не может долго тяготиться печальными раздумьями. Нам грозила смерть, а слезами делу не поможешь. Я разбудил Каффа и Элиота, и, как только они встали, мы снова отправились в путь. Дорога была непримечательной. Тропа становилась все более пологой, вместо скал появились кусты. Вскоре мы вновь вошли в джунгли, и ветви над нашими головами переплелись так густо, что через них не проникал даже свет луны.
— Очень странно, — сказал Элиот, присаживаясь на корточки у большого цветка. — Такой растительности на этой высоте быть не должно.
Я слегка улыбнулся.
— Не расстраивайтесь так! Вы что же, предпочли бы сейчас оказаться на открытой местности?
Не успел я произнести эти слова, как сквозь деревья что-то блеснуло. Я направился туда и обнаружил гигантский столп, сильно выщербленный и заросший вьюнками, но прекрасной работы и украшенный по бокам каменным ожерельем из черепов.
Элиот осмотрел столп.
— Знак Кали, — прошептал он.
Я кивнул и выхватил револьвер.
Теперь мы двигались крадучись. Вскоре нам на пути стали попадаться еще столпы. Некоторые лежали на земле и были почти полностью скрыты зарослями, другие массивно вздымались вверх. И на каждом было одинаковое украшение — ожерелье из черепов. Деревья поредели, и вдруг я увидел белую как кость арку, выступающую из-за темноты вьюнков и сорняков. Она была украшена в цветистом индусском стиле: резьба по камню вилась, как кольца змеи. Я присмотрелся к одной из этих петель, и она внезапно задвигалась! Петля и в самом деле оказалась телом кобры, свернувшейся в кольцо, — вот он, дух-хранитель этого смертоносного места. Кобра уползла в темноту, а я шагнул вперед и ощутил под ногами мраморные плиты. Впереди, освещаемые серебряным светом луны, замаячили какие-то камни, и, выйдя наконец из-под сени деревьев, я оказался среди дворцов и стен, выстоявших невзирая на сжимающуюся вокруг них хватку джунглей.
«Кто построил эти дворцы? — подумал я. — И кто покинул их?»
Я не эксперт, но, на мой взгляд, этим дворцам были многие века. Я пересек главный двор. От него расходились ряды колонн, над которыми были возведены другие колонны. Я догадался, что очутился в центральной части дворца.
Подойдя ближе, я увидел, что колоннам придана форма женщин, поражающих своим бесстыдством, столь характерным, к сожалению, для древних статуй Индии. Не буду останавливаться подробно на их описании, скажу только, что они были совершенно нагие и выглядели невероятно похотливо. Но больше всего меня смутили их лица. Они были чрезвычайно мастерски высечены и несли на себе выражение крайней порочности, в которой смешались желание и удовольствие. Взоры каменных дев были устремлены в дальний конец храма, на гигантские статуи, призрачно маячащие в глубине. Я поспешил дальше. Наконец колонны закончились, и передо мной открылся небольшой двор. У лестницы возвышались огромные фигуры. Я подошел поближе и почувствовал, что ступил во что-то липкое. Я опустился на колени, и запах крови буквально ударил мне в нос. Дотронувшись до плит, я поднял руку к свету луны. Да, все так! Кончики моих пальцев окрасились красным!
Я приблизился к гигантским статуям, чтобы внимательнее разглядеть их. Их было шесть, они стояли симметрично на восходящей лестнице, по три с каждой стороны, и представляли собой женщин, смотрящих вверх, на пустой трон. Прямо перед троном, перед этим проклятым сооружением, была установлена еще одна статуя — фигура девочки. Я взошел по липким от крови ступеням.
Элиот последовал за мной. Я вдруг услышал, что он остановился, и повернулся к нему.
— Что это? — спросил я.
— Посмотрите-ка, — ответил Элиот, — узнаете?
Он указал на ближайшую статую. Теперь, поднявшись по ступеням, мы смогли увидеть ее лицо, освещенное серебряным светом луны. Все это, конечно, было чистой случайностью, ведь храму исполнились многие века, но я сразу понял, что Элиот имел в виду: статуя была точной копией захваченной нами женщины, прекрасной и впоследствии исчезнувшей пленницы.
Я повернулся к Элиоту.
— Может, это ее прапрапрабабушка? — пошутил я.
Но Элиот не улыбнулся. Он склонил голову набок, словно прислушиваясь к чему-то.
— В чем дело? — поинтересовался я.
Несколько секунд он не отвечал.
— Вы ничего не слышали? — наконец спросил он. Я мотнул головой, и Элиот пожал плечами. — Ветер, должно быть, — сказал он, слегка улыбаясь. — Или сердце у меня бьется.
Я шагнул вперед, намереваясь взобраться на пустой трон, но Элиот вновь замер:
— Вот… Сейчас слышите?
Я прислушался и на этот раз расслышал какие-то слабые звуки. Похоже, били в барабаны, но не так, как у нас на Западе, а словно играли на табла, разливающемся гипнотизирующей, бесконечной дробью. Звуки доносились из-за пустого трона. Я положил руку на подлокотник и, содрогнувшись от всеподавляющего, почти физического страха, невольно отшатнулся. Опустив глаза, я обнаружил, что трон весь покрыт запекшейся кровью, а на его каменном сиденье валяются кости, внутренности и куски мяса.
— Опять козлы? — уточнил я у Элиота.
Он, склонившись, рассматривал что-то похожее на сердце. Лицо его застыло, и он медленно помотал головой. Теперь дробь табла стала отчетливее и набрала силу. За троном находилась крошащаяся стена; я подошел к ней и, встав на колени, заглянул в щель в каменной кладке. Дыхание мое перехватило, ибо мне открылись руины большого города, заросшего, как и дворец, вьюнками и деревьями, но все же полного жителей. Обитатели необычного града поспешно ковыляли мимо растрескавшихся арок и колонн к какому-то месту сбора, скрытому от нас высокой стеной. Вдалеке виднелись отблески пламени, и мне вдруг вспомнилось, что пораженные болезнью существа испытывают сильный ужас перед светом. Над всем этим господствовал колоссальный храм, и даже с такого расстояния я разглядел, что внутри его масса статуй. Храм величественно высился на фоне звездного неба, а его подножие освещалось оранжевыми отблесками пламени.
Я увидел, что Элиот определяет направление ветра.
— Все в порядке, — сообщил он. — Ветер дует в нашу сторону.
— Прошу прощения, сэр? — не понял старший сержант.
— Хочу сказать, — пояснил Элиот, — что они не смогут обнаружить нас по запаху. Вы же видели, они иногда останавливаются и принюхиваются.
Обычное упрямство, обычная сдержанность покинули его лицо, и глаза доктора загорелись тем сумасшедшим огнем, что пылает в каждом искателе истины. Он снова повернулся к вздымающемуся контуру храма.
— Начинается охота, друзья мои, — провозгласил он. — Пойдемте посмотрим, что мы сможем найти.
Чуть ли не ползком мы преодолели примерно с четверть мили. То и дело мимо нас шныряли какие-то фигуры, но благодаря нашей осторожности нас не заметили и не учуяли. Башня маячила все ближе, и вскоре до нас донеслись звуки других музыкальных инструментов — над разрушенным городом, завывая, словно призраки, поплыли звуки ситаров и флейт. Барабанный бой становился все более неистовым, близясь к какому-то рубежу, но высокая стена по-прежнему загораживала нам вид. Мною овладело сильное желание увидеть наконец, что же за ней скрывается…
Участилась дробь табла, и мы тоже прибавили ходу, бегом преодолев открытую площадку. Руины остались позади, вьюнков и деревьев стало поменьше, и мы, ведомые неуемным любопытством, оказались чуть ли не у всех на виду. Один раз мне даже почудилось, что нас заметили: группа горцев, ковыляющая мимо, яростно блеснула в нашу сторону глазами. Однако нас, как ни странно, не обнаружили. Мы подождали, пока они пройдут, и бросились к стене. Когда-то стена, видимо, была бастионом разрушенного города, да и сейчас она осталась мощным, хотя и несколько обшарпанным, сооружением, поэтому вскарабкаться на нее оказалось нелегко. Но вот мы стоим на гребне под яростный бой табла и стон ситаров, возносящийся к звездам. До нас донесся крик множества голосов, нечто среднее между приветственным возгласом и рыданием, вслед за чем раздался скрежещущий, скрипящий звук. Я подполз к бойнице и осторожно выглянул.
Под стеной, на которой мы находились, собралось около сотни людей. Они стояли молча и совершенно неподвижно — спинами ко мне и лицами к стене огня. Языки пламени выбивались из расщелины в скале, а над ними высоко возносился изогнутый мостик, узкий и украшенный резьбой. От мостика вверх по утесу вилась тропа. Она вела к храму, который был словно вырублен в скале и угрюмо и массивно высился над окружающим ландшафтом Черные статуи, окрашенные в яростные оттенки красного огня, мрачно взирали на собравшуюся внизу толпу. Вид каменных дев угнетающе подействовал на меня, и, взглянув на верхушку храма, я почувствовал, что сердце мое забилось с перебоями.
Из расщелины вырвался особенно яркий язык пламени, и в оранжевом свете появилась какая-то адская фигура. Статуя Кали! Лицо ее было прекрасно, и от этого излучаемая им невероятная жестокость производила еще более жуткое впечатление. Мне даже померещилось, что статуя ожила — и не только ожила, а еще и пристально уставилась на меня. Я заметил, что все взгляды устремлены на статую, и я тоже всмотрелся в нее, пытаясь постичь тайну, позволившую ей завладеть вниманием стольких людей. У статуи было четыре руки — две подняты вверх с зажатыми в пальцах крючьями, а две другие опущены, и в каждой богиня держала нечто похожее на пустую миску. Ноги ее, как я заметил, были прикреплены к металлическому основанию, а основание, в свою очередь, — к каким-то шестерням и колесам. Послышался лязгающий звук, статуя сдвинулась с места, и я увидел, что перемещается она при помощи механизма. Толпа взревела, и в ее дьявольском реве звучали предвкушение и жадность. И тут я почувствовал, как Элиот постучал меня по плечу.
— Если не ошибаюсь… — заговорил он.
— Да?
Он указал вдаль:
— Это, случаем, не рядовой Комптон?
Я вначале не понял, о чем говорит Элиот, ибо различил лишь группу туземцев с неподвижными, мертвенными лицами, в изорванной одежде, вымазанной кровью. И вдруг сердце мое остановилось.
— Боже всемогущий! — прошептал я, узрев человека, бывшего когда-то моим солдатом, а сейчас стоявшего с омертвевшим взглядом и в испачканных запекшейся кровью лохмотьях.
— Но послушайте, Элиот, — в крайнем ужасе произнес я, — неужели мы ничем не можем ему помочь?
Взгляд проницательных глаз Элиота выдавал всю глубину его отчаяния.
— Сожалею, капитан… Пока я ничего не могу сделать. Эта болезнь оказалась более ужасной, чем я мог себе представить. — Лицо его внезапно помрачнело. — Выбросьте его из головы, капитан. Он уже не ваш солдат. И ни в коем случае не приближайтесь к нему, ибо я подозреваю, что укус, даже царапина, может грозить смертью.
Я снова взглянул на Комптона. Совершенно верно, от прежнего рядового не осталось ничего. Ничего! Комптон теперь мертв для нас. Но не успел я подумать это, как увидел, что он начал меняться, и отнюдь не к
лучшему. Лицо Комптона исказила гримаса, зубы оскалились, в глазах заблестела полоумная дикость. Он застонал так же, как стонала вся толпа Что бы это могло означать или предвещать?
Музыка дошла до высот неистовства, а толпу, казалось, охватила яростная лихорадка. И тогда, прорезав всеобщий гомон стонов, раздался ужасный крик. Надеюсь, мне никогда не доведется услышать ничего подобного, ибо вопль этот проник мне в кровь и заморозил всю душу. Толпа затихла, но было видно, что в глазах собравшихся здесь горит голод. Вновь вопль разорвал тишину ночи, на этот раз неподалеку от нас. Медленно толпа начала расступаться. Ритм табла зазвучал быстрее… еще быстрее.
Из темноты выступила процессия — ряд изможденных людей, скованных между собой цепями и связанных веревками. Процессию вели двое мужчин в русских мундирах, с лицами столь же мертвенными, как у Комптона. У одного из них в животе зияла рана от пули, и я узнал в нем солдата, которого мы уложили на Калибарском перевале и оставили валяться среди прочих трупов. Но он выжил и сейчас вел людей, которые некогда были его боевыми товарищами. Один из пленников что-то закричал по-русски, и до меня дошло, что это он вопил раньше. Сейчас его охватило еще более глубокое отчаяние. Но что могло вызвать у него такой страх? Охранник ударил русского по лицу — бедняга умолк, и над гнетущей сценой воцарилась тишина Процессия остановилась перед статуей Кали. Я внимательно рассмотрел ряды пленников. Русские и горцы вперемешку — мужчины, женщины, даже ребенок лет семи-восьми.
— Сэр, — прошептал старший сержант. — Смотрите, там, позади всех…
Я взглянул и выругался про себя, ибо увидел солдат, которых оставил охранять Калибарский перевал. Их связали шея к шее, как скот. Один из них посмотрел на Комптона, но на лице того не отразилось ничего, кроме вырождения и жадности.
И тут в моей голове раздался женский шепот. Чертовщина какая-то! Сейчас я готов думать, что это была игра моего воображения, но Элиот и Кафф заявили потом, что и они слышали этот напевный голос, слова, произносимые тем же мелодичным тоном. Что это было? Как случилось, что все мы услышали одно и то же? Должен признаться, однако, что любому служившему в Индии солдату раз-другой довелось испытать то, чего никак нельзя понять. Шепчущий голос был одним из подобных необъяснимых явлений. Я привык считать себя уравновешенным человеком и надеюсь, что читатель не отнесет меня к шарлатанам или сумасшедшим. Однако (какое ужасное слово!) полагаю, что мы столкнулись с какой-то колдуньей, способной читать мысли. Она без труда проникла в наши разумы, ее напевный голос был одной из самых приятных из всех слышанных мною когда-либо мелодий, и я почувствовал, что тело мое окаменело. Словно в тумане я сознавал, что нам надо быстренько сматываться, поскольку укрытие наше, скорее всего, обнаружено. Поговорив позднее с Элиотом, я узнал, что он ощутил то же самое. Но я не мог пошевелиться… Элиот и Кафф тоже застыли в неподвижности.
Я закрыл глаза, и перед моим мысленным взором возникло женское лицо, темноглазое и милое, с ожерельем из капель чистейшего золота. Это было лицо нашей беглой пленницы, оказавшейся на деле богиней. Не спрашивайте, как я узнал, — я не знал, я чувствовал, и вскоре мною целиком завладела какая-то отвратительная звериная похоть. И все время, пока нарастало это чувство, а я пытался сдержать себя, адская женщина напевала, и я прислушивался к ее голосу, что неудивительно, ибо он был столь же мил и прекрасен, как ее лицо. Одно слово, постоянно повторяющееся в строках песни, я узнал — Кали! Музыка достигла своего апогея и оборвалась. Наступила тишина. Я сжал руками уши и открыл глаза.
Русского пленника развязали и, подтащив к статуе Кали, подняли перед лицом богини. Тем временем один из охранников опустил верхние руки статуи, и я понял, что они специально устроены так, чтобы их можно было по желанию поднимать и опускать. Я заметил, что охранник протирает блестящий стальной крюк, служащий богине кистью… и только тогда до меня наконец дошло, что за отвратительная церемония здесь вершится. Я хотел отвернуться, но не смог — во мне продолжали звучать напевы завораживающего голоса, наполняя душу сладким ядом. Так что я остался, где был, и продолжил наблюдать за происходящим. Руки русского крепко связали вместе и положили на острие крюка. Охранник нажал на них, и русский пронзительно закричал, когда металл, пронзив человеческую плоть, окрасился кровью несчастного. Под непрекращающиеся стоны и рыдания русского охранники уже выводили очередного пленника — юную девушку-индуску. С ней проделали ту же адскую процедуру, после чего охранники подняли руки богини, а жертвы остались висеть на крюках, как туши, в мясной лавке. Бедная девушка кричала и пыталась пошевелиться, но боль, пронзавшая ее запястья, была столь велика, что вскоре индуска обмякла в агонии и повисла без движения. Откуда-то сзади вырвались оранжевые языки пламени и взметнулись в ночь, но ни девушка, ни русский, ни статуя не пошевелились, застыв темным силуэтом непередаваемого ужаса
[6].
Затем я услышал как машина заскрежетала и заскрипела. Богиня повернулась, при этом русский и туземная девушка пронзительно закричали, ибо боль от рывка, пронзившая их запястья, была поистине непереносимой. Статуя содрогнулась, остановилась, и из толпы донесся низкий вопль разочарования. Побелевшими пальцами я сжал пистолет. Как я желал, чтобы сейчас при мне был какой-нибудь пулемет, к примеру «максим»! Но я был беспомощен и ничего не мог поделать, кроме как лежать и наблюдать за происходящим. Вновь заунывно зазвучал ситар, и его звуки тяжело повисли в воздухе, будто нагнетая страх. Статуя вдруг дернулась, и тут к звуку ситара присоединился барабанный бой. По мере разворота статуи ритм табла все учащался и учащался. Свисавшие с крюков жертвы начали судорожно извиваться, их пронзительные крики были ужасны, а обороты статуи все возносили и возносили их вверх, словно некая ужасная карусель. Толпа зашевелилась, все алчно шагнули вперед, в чьей-то руке сверкнула сабля. Взмах клинка — и в воздух дугой брызнула струя крови, а эти чудовища — теперь я не мог даже думать о них как о людях — подняли свои морды, чтобы приветствовать кровавый ливень. Тем временем статуя все вращалась и вращалась под пронзительные крики извивающихся несчастных жертв. Вновь сверкнул клинок, еще раз, и вот уже сабли превратились в искры огня, окрашенные в красный цвет отблесками пламени и живой кровью.
— Пойдем отсюда, — проговорил я, отчаянно пытаясь подняться на ноги. — Пойдем!
Но мы не могли пошевелиться — нас приковала к месту какая-то адская сила. Мы видели, как тела несчастных разрубают на куски, видели, как Комптон, один из наших, британский королевский стрелок, омывает лицо в крови невинных! Теперь, по крайней мере, мы могли быть уверены, что несчастные жертвы мертвы, ибо тела их разрезали на куски. Из живота русского вывалились кишки — часть их отлетела в толпу, а часть упала в миски, которые держала статуя. Через некоторое время скорость оборотов статуи замедлилась, и наконец машина, заскрипев и резко дернувшись, остановилась. С обоих крюков свисали теперь лишь истекающие кровью обрубки — ничто в них не напоминало людские тела. Эти окровавленные останки сняли с крюков и презрительно швырнули в огонь, в расщелину. Однако миски из нижних рук богини были взяты с величайшим почтением, и их содержимое осторожно опорожнили в гигантскую золотую чашу. Затем миски заменили, а статую тщательно обтерли. Тем временем среди ожидающих своей участи пленников были выбраны две новые жертвы. Запястья их уже связывали.
— Нет! — прошептал я. — Нет!
Но это было правдой: на этот раз к хищным крюкам статуи вели… моих солдат!
За спиной у себя я услышал шаги и быстро повернулся. У подножия стены стояло какое-то существо. Оно не видело нас, но, похоже, знало, о нашем присутствии, ибо принюхивалось, словно ожидая, что вот-вот почует наш запах. Я вспомнил о создавшемся у меня впечатлении, что женщина, читающая наши мысли, разыскивает нас, и понял — назовите это, если хотите, суеверной чушью, — что наше присутствие действительно обнаружено. Я прижался спиной к стене и жестом велел моим спутникам сделать то же самое. Мы замерли, и. существо уже собралось было уйти. Но тут я услышал пронзительный крик… потом еще один. Не сдержавшись, я выглянул в бойницу и, должно быть, испустил вздох ужаса, ибо мои солдаты уже болтались на адских крюках, а статуя вновь постепенно разгонялась. Я замер, но поздно — существо внизу заметило меня. Я увидел, что за ним следует большая стая его дружков, и, признаюсь, с дрожью осознал, что время наше истекло. Я разрядил верный револьвер, мои спутники разрядили свое оружие, но существа подступали к нам все ближе. Я уложил одного из них кулаком, а второго двинул в челюсть, но в это время у меня за спиной раздались самые ужасные крики, которые я когда-либо слышал. Повернувшись, я увидел, что под ударами сабель, нарезающих живых людей на ломти, от моих солдат осталось лишь месиво из крови и внутренностей. Но тут кто-то со всей силы врезал мне по затылку — помню, я еще очень удивился, как моя голова не разлетелась вдребезги от такого удара. Я пошатнулся и рухнул. На меня глядел какой-то ужасающего вида тип. От него жутко разило, но, как ни странно, эта вонь что-то мне напомнила. Затем его изображение расплылось. Я прошептал про себя имя своей дорогой женушки, и все погрузилось во тьму и забвение.
Письмо профессора Хури Джьоти Навалкара полковнику Артуру Пакстону
9 июня 1887 г.
Полковник!
Вы должны продвигаться вперед как можно быстрее. Настоятельная необходимость, повторяю — настоятельная, в том, чтобы вы атаковали не пулями, но факелами. Здесь царит ужасная болезнь, но яркий свет приводит заболевших ею в ужас. Поэтому, когда прибудете, сразу поджигайте город. Поверьте мне, клянусь, иного пути нет.
Пойду вперед. Боюсь, Мурфилд и его люди в смертельной опасности. Может оказаться, что помощь им придет слишком поздно.
Если они или кто-либо еще приблизится к вам и при этом не узнает вас, стреляйте не задумываясь. Вгоняйте пулю прямо в сердце. Не подходите близко! Для передачи болезни, способы лечения которой неизвестны, достаточно одного укуса. Расскажите об этом всем вашим людям.
Торопитесь, полковник! И Бог вам в помощь!
Хури.
Выдержки из «С винтовками в Радже» (продолжение)
ОТЧАЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В темнице • Шри Сингх • Занимаем позицию • Отчаянное отступление • Необычное видение • Проклятие брамина
Я пробудился от звука воды, капающей на камни, и открыл глаза. Вокруг было темно. Я попробовал пошевелиться, услышал над собой побрякивание цепей и понял, что запястья мои прикованы к холодной каменной стене.
— Мурфилд! Ну, слава Богу!
Это был голос Элиота. Я попытался разглядеть его, но тьма вокруг стояла кромешная.
— Что случилось? — спросил я. — Как Кафф?
— Думаю, жив, но все еще без сознания. А вас сильно оглушили.
— Ничего, — ответил я. — Как вы?
— Боюсь, что тоже не отличился. Какая-то сволочь проткнула мне ногу копьем.
— Какое, черт возьми, невезение. Надеюсь, не очень болит?
Элиот слабо рассмеялся:
— Ерунда. Думаю, нам осталось недолго ходить по этой земле. Так что едва ли это имеет значение.
— Мы должны бежать, и. немедленно! — воскликнул я.
Элиот сухо усмехнулся.
— У вас есть какие-нибудь соображения? — поинтересовался я.
Он не ответил.
— Элиот? — окликнул я.
— Вон там, — вдруг проговорил он.
— Что?
— Слушайте!
Я замер, но не услышал ничего, кроме слабого звука капающей воды.
— Слышите? — спросил Элиот.
— Что? Как вода капает?
— Ну да, — в нетерпении сказал он. — Это в дальнем углу темницы. Там, где прикован старший сержант.
Я, признаться, не сразу понял, куда он клонит.
— Вода откуда-то просачивается, — объяснил он. — Подземный источник. А раз так, в том месте, где течет вода, каменная кладка будет явно слабее.
— Почему же эти существа приковали его там? — нахмурился я.
— Не уверен, что сейчас стоит волноваться об этом.
Поэтому, когда Кафф очнулся, мы попросили его рвануть посильнее свои оковы.
— Хорошо, сэр, — ответил старший сержант.
Было слышно, как он дергается, затем раздалось крепкое ругательство.
— Безнадежно? — поинтересовался я.
— Пока да, сэр. Но я не собираюсь загибаться у какой-то дикарской стены. Дайте время, сэр, и посмотрим, что можно будет сделать.
Тяжело дыша, он начал вновь дергать цепи, и до нас донеслись его приглушенное бормотание и ругательства.
— Похоже, это надолго, — наконец проговорил Элиот.
— Вы не знаете Каффа, — возразил я. — Он самый крепкий парень из всех, с кем мне доводилось встречаться.
— Приятно слышать, сэр! — напряженно выдохнул старший сержант, и в тот же миг мы услышали, как стена подалась.
Раздался звон цепей, и Кафф с глухим стуком упал на пол.
— Все в порядке? — спросил я.
— Да, сэр, — ответил Кафф. — Редко чувствуешь себя лучше.
— Отличная работа!
— Большое спасибо, сэр!
По великому счастью, в моих карманах оказалось несколько спичек. Я сообщил старшему сержанту об этой удаче, он потянулся за спичками и, чиркнув о камни, зажег одну из них. В краткой вспышке света я увидел, что цепи Каффа полностью выворочены из стены и он намеревается разорвать ручные оковы. Вены на его лбу и шее вздулись, и одна из оков вдруг хрустнула и подалась. После чего спичка погасла.
Старший сержант подошел к нам и взялся за оковы Элиота. На этот раз, по-видимому, металл оказался слишком крепок для него.
— Зажгите еще спичку, — прошептал я, ибо напряженность нашего положения стала сказываться на моих нервах. — Посмотрите, может, найдете что-нибудь, что поможет вам.
— Хорошо, сэр!
Он взял вторую спичку, вновь вспыхнул свет. Кафф оглядел темницу, представлявшую собой, как я теперь заметил, облицованную грубыми камнями зловещего вида камеру. Кафф заглянул во тьму дальнего угла, и, как раз перед тем как спичка вот-вог должна была погаснуть, я услышал его удивленный вздох.
— Что там, старший сержант? — спросил я, увидев, что он нагибается. — Что-то нашли?
— Да, сэр. Вроде нашел.
Он шагнул ко мне и взял третью, и последнюю, спичку. Чиркнув ею о стену, в свете пламени он передал мне ка-кой-то металлический предмет. Это был ключ.
— Какого черта… — прошептал я.
Старший сержант нагнулся к Элиоту, вставил ключ и повернул его. Оковы наручников упали с запястьев Элиота.
— Отлично! — проговорил я, наблюдая за ним.
Потом спичка погасла. И в тот же миг где-то неподалеку раздались шаги. Кто-то спускался вниз, к двери камеры.
— Кафф, Элиот, — приказал я сквозь зубы. — Назад, к стене!
Они поспешно бросились к оковам, и я принялся молиться Богу, чтобы они успели всунуть запястья в цепи. Удостовериться в этом я не успел, ибо в замочной скважине уже заскрежетал ключ, и в распахнувшуюся дверь хлынул ослепляющий свет раннего утра.
Я заморгал. В дверном проеме стояло какое-то существо. На ступеньках позади него виднелось несколько человеческих фигур, но наиболее опасным был тот, кто вошел первым. Я собрался с духом. Вошедший был бледен, как и остальные, глаза его скрывались под полуопущенными веками, но я сразу заметил, что он из другой породы, нежели существа за его спиной. От него веяло холодом, как от высеченной изо льда статуи, и все же, хотя на его лице отражались подлость и жестокость, было в нем что-то мягкое, как в избалованной женщине, а поэтому он производил впечатление ужасной, наглой силы. Мне показалось, что я уже видел его раньше. Я покопался в памяти — и вспомнил: это лицо возникло передо мной, когда нас пленили, оно пристально смотрело на меня перед тем, как я отключился. Элиот, похоже, тоже узнал его — он чуть не вскрикнул, но сдержался. Существо шагнуло вперед, и нас окутало зловонием Я сразу припомнил старика брамина, которого ранил в ногу, — от него пахло точно так же.
Существо зашло в камеру, за ним последовали еще три фигуры с мертвенным взглядом Предводитель их раскрыл глаза, и я увидел, что они отнюдь не мертвы, но хихцно поблескивают. Он бегло осмотрел запястья Элиота и Каффа, и на мгновение мне показалось, что мы разоблачены, но существо уже склонилось ко мне и вытащило из недр своего одеяния какой-то небольшой кол. Пристально вглядевшись в мое лицо, последователь Кали поднял кол, делая вид, что готовится пронзить им мое сердце. Но вдруг подмигнул мне и резко повернулся к одной из тварей у себя за спиной.
Две фигуры покатились по полу в яростной схватке, но человек с колом умудрился вытащить своего противника на солнечный свет, и сопротивление существа ночи сразу ослабло.
Я увидел, что Элиот тоже сбросил цепи и борется с одним из существ, призывая Каффа на помощь.
— Только осторожнее! Не дайте им попробовать вашу кровь! — вскричал он, вышвыривая противника на освещенные солнцем ступени.
Тут раздался страшный крик, долгий и клокочущий, и вверх ударил мощный фонтан крови. Одно из существ лежало замертво с колом, пронзившим сердце, его кровь хлестала ввысь и стремительно просачивалась сквозь пол. Наш спаситель поднялся на ноги и выдернул кол из груди мертвого чудовища, направляясь к Каффу, который прижал своего соперника к стене.
— На солнечный свет! — сказал этот необычайный человек.
Кафф швырнул существо в сторону двери. Если раньше оно еле двигалось, то теперь было словно парализовано.
— Да, да, — кивнул странный человек, — давайте, прямо в сердце.
Он отдал Каффу свой кол.
— К чертям эту сосудистую деятельность!
Кафф действовал строго по инструкции, и в потолок ударил новый фонтан крови.
— А теперь, — пробормотал индус, подходя к Элиоту, — покончим с последним. Отойдите-ка, Джек. Знаю, трудная работенка для нас, вегетарианцев.
Элиот улыбнулся и встал, а индус вновь исполнил свое зловещее действо. Когда все было кончено, он поднялся на ноги, пожал руку Элиоту и повернулся ко мне.
— Как бы сказали вы, капитан, — произнес он, разводя руками, — чертовски кровавое зрелище!
Я нахмурился. Не может быть…
— Неужели это вы? — изумился я. — Неужели вы… профессор Джьоти?
— Ну наконец-то!
Индус стер грим с лица, и, глядя на него сейчас, я и представить не мог, как это я не узнал его. Меня ловко одурачили, и озадаченность столь явно проступила на моем лице, что индус, которого я больше никогда не буду называть бабу, громко рассмеялся.
— Это действительно вы, старина, — прошептал я. — Как вам это удалось?
Профессор Джьоти почесал нос.
— Знай врага своего, — сказал он.
— Но… послушайте… ради Бога… Откуда?
Профессор распрямился во весь рост.
— Шри Сингх знает все, — гордо заявил он.
Я неверяще таращился на него, нисколько, скажу вам, не смущаясь своего изумления.
— Боже ж ты мой! — прошептал я, понимая, как я недооценил этого человека.
Даже сейчас, тридцать лет спустя, воспоминание о моем презрении к нему заставляет меня краснеть, ибо, вне сомнения, профессор оказался одним из самых отчаянных храбрецов, каких мне только доводилось встречать, а в свое время я знавал многих славных вояк. Размыкая мои наручники, профессор рассказал, что несколько дней инкогнито находился в Каликшутре и что местные приняли его за одного из себе подобных. Он видел, как мы дрались на стене, и, когда нас схватили, позаботился о том, чтобы нас не заразили смертельной болезнью. А потом, прикинув, что старший сержант Кафф — самый сильный из нас, он оставил его прикованным там, где стена была наиболее слаба, и у его ног положил ключ от наших оков.
— Тогда я не мог вас освободить, — объяснил он, — ибо, как вы сами убедились, эти несчастные сильнее всего по ночам. Днем же совсем другое дело. К счастью, — сказал он, стряхивая цепи с моих запястий и оглядывая камеру, — все прошло так, как я рассчитывал.
— Но, Хури, — вступил Элиот, — если вы все это время были среди этих людей, почему они так и не обнаружили вас? Ведь болезнь дает им возможность чуять человеческую кровь.
Профессор Джьоти засмеялся:
— Сколько раз я говорил вам, что там, где наука бессильна, за дело берется народная мудрость.
Глаза Элиота засверкали, как у ястреба.
— Продолжайте.
— Вы сейчас чуете меня? Как вы считаете, от меня изрядно несет?
— Да. От вас пахнет, как от браминов, живущих у подножия гор.
— Это потому, что я сидел у их ног и учился у них.
Профессор снял с пояса сумку и открыл ее. Как только мы заглянули внутрь, нам в ноздри ударила нестерпимая вонь. Я увидел что-то напоминающее труху растения, белую и влажную, и тут же отвернулся, не в силах больше выносить смердение. Но Элиот настолько заинтересовался, что сунул палец в сумку и вынес месиво на свет.
— Что это? — спросил он.
— Большая редкость, высоко ценится в деревнях Востока. По-английски это растение называется «киргизское серебро».
— А есть у него научное наименование? — нахмурился Элиот.
— Не слышал о таком
[7]. И вообще, по-моему, об этом растении знают лишь брамины. — Профессор тряхнул головой и улыбнулся. — Потрите этой штукой лоб.
Элиот повиновался.
— Ну вот, — сказал профессор. — Теперь эти существа не смогут вас учуять. Легенда старая, но, как я доказал, весьма правдивая.
Он снова раскрыл сумку.
— Все вы должны намазаться этим. Нет, погуще, погуще, — пояснил он, когда я слегка мазнул себя по щеке. — Иначе… иначе у нас не будет никакой надежды выбраться отсюда.
К этому времени все мы освободились от своих оков и были готовы повиноваться приказам профессора. Однако перед уходом Элиот настоял на том, чтобы осмотреть всех нас. Я спросил, что он ищет.
— Следы укусов или царапины, — ответил доктор, внимательно рассматривая мою грудь.
— Но ведь если бы болезнь проникла в нашу кровь, мы бы уже знали об этом.
— Не обязательно, — вмешался профессор Джьоти. — Все зависит от силы духа жертвы. Я знал человека, продержавшегося почти две недели.
— Две недели? Боже милостивый! И кто же это был?
— Разве вы не помните? — удивился профессор Джьоти. — Ведь полковник Роулинсон упоминал вам о нем.
— Ну конечно! — вскричал я, щелкая пальцами. — Тот агент, ну, который…
— Застрелился. Да, капитан, — кивнул профессор Джьоти и пристально посмотрел мне в глаза. — Это был мой брат.
Он опустил голову, повернулся и вышел из камеры. Я не последовал за ним, но сочувствовал ему от всей души. Значит, его брат был таким же храбрецом. «Замечательная пара, — подумал я. — Да, замечательная пара!»
Мы вновь встретились с профессором, когда Элиот признал всех нас здоровыми. Темница наша располагалась под землей, и, выбираясь по ступенькам на дневной свет, — а я уж думал, что никогда не увижу солнце, — я сразу узнал, куда дикари привели нас. Позади высился разрушенный храм, через который мы пришли накануне ночью, а впереди стояли гигантские статуи и пустой трон. Оттуда несло запекшейся кровью, и повсюду кишели мухи. Я взглянул на трон — кровь и внутренности на нем выглядели намного свежее, чем те, которых я коснулся предыдущей ночью. Все мы невольно зажали руками рты.
— Что это?! — воскликнул старший сержант.
— Останки жертв, принесенных прошлой ночью, — медленно проговорил Элиот. — Посмотрите туда… — Он указал на огромную золотую чашу. — Помните ее? В нее собирали угощение для Кали.
Он повернулся к профессору:
— Верно, Хури? Этот пустой трон — трон Кали, не так ли?
Профессор Джьоти вскинул голову:
— Мы можем так предполагать… — Он обвел рукой статуи шести женщин. — Хотя взгляните на эти фигуры. Согласно легендам горцев, они охраняют святыню богини, охраняют в отсутствие своей владычицы, а когда она возвращается, стражницы пропадают. Хорошо, что они здесь. Это дает основание предположить, что сама Кали отсутствует…
— Послушайте, старина, — запротестовал я. — Вы так говорите об этой женщине, что можно подумать, будто она существует в действительности.
— Действительность? — профессор улыбнулся и развел руками. — А что мы понимаем под «действительностью»?
— Черт меня побери., если я знаю. Вы профессор, вы нам и скажите.
— Если Кали существует — если, — голос его дрогнул, — то она — нечто ужасное, находящееся за пределами человеческого понимания.
Некоторое время мы молча смотрели на профессора, затем старший сержант вежливо прокашлялся.
— И эта леди… если ее здесь нет…
— Да?
— Тогда, сэр, где же она может быть?
— А-а, — пожал плечами профессор. — Это совершенно другой вопрос. Но сейчас ее тут нет, и это самое важное. А потому, — вдруг рассмеялся он, — в путь, друзья. Давайте воспользуемся полученным преимуществом и покинем это место как можно скорее.
И мы отправились в путь. Казалось, вокруг не было ни души, однако, как и раньше, мы шли с осторожностью — нас нельзя было учуять, но нас можно было увидеть. Мы шли довольно быстро, и Элиот, как я заметил, вскоре начал отставать.
— В чем дело, старина? — спросил я его.
— О, ничего, — ответил он, — только вот нога меня беспокоит.
Я взглянул на его ногу. Копье оставило весьма глубокую и наверняка болезненную рану. Но доктор уверил меня, что все в порядке, и мы продолжили путь, хотя Элиот шел все медленнее и медленнее. В конце концов он упал, и, вновь осмотрев его рану, я понял, что она гораздо серьезнее, чем он сам считает. Было очевидно, что некоторое время он не сможет идти дальше.
По этому поводу мы созвали краткий военный совет. Будучи отважным человеком, Элиот просил нас продолжать путь, но никто на это не соглашался. Мы знали, что Пампер где-то неподалеку и, если нам удастся продержаться, все закончится хорошо. Главное же, что нас беспокоило, это полное отсутствие боеприпасов. Но и здесь профессор вновь оказался на высоте. Он рассказал, что набрел на крупный склад оружия и взрывчатки, которые завезли русские, намереваясь использовать против британских колониальных войск. Сейчас этот склад заброшен. Было сразу решено, что мы должны попытаться захватить его. План имел лишь один небольшой недостаток: склад находился поблизости от разрушенного города.
Так что пришлось повернуть назад, и, надо сказать, это было мучительно. Шли мы осторожно, как и раньше: периодически в тени деревьев мелькали бледнолицые существа, но мы тщательно избегали их, и, похоже, нас не заметили, хотя у меня внутри шевельнулся червячок беспокойства. Профессор Джьоти тоже насторожился — он то и дело смотрел на сверкающее в небе солнце.
— Полдень миновал, — сказал он мне на одном из привалов. — Солнце клонится к закату.
— Ну, до захода еще далеко, — возразил я.
— Да, — кивнул профессор, озираясь. — Как и до полковника Пакстона с его полком.
Наконец мы подошли к участку стены, где находился оружейный склад. Слава Богу, оружие было еще там. Мы начали вооружаться, но Элиот, которого мы поставили часовым, вдруг воскликнул:
— А у нас компания. Взгляните-ка вон туда!
Я поднял глаза. Из развалин города появилось около тридцати фигур — существа стояли и спокойно наблюдали, как мы выкапываем оружие. Я взглянул направо… налево… вон еще сидят, стервецы, и следят за нами. Их план был ясен: отрезать нам пути к отступлению, прижав к глубокой пропасти. Я взглянул на мост и, к своему удивлению, обнаружил, что его не охраняют. У башни рядом с ним тоже не было ни души.
— Какая-то подозрительно заброшенная башня. Ничего необычного за ней не числится? — обратился я к профессору Джьоти.
— Ну да, заброшенная, — медленно произнес он. — Но это не значит, что башня пуста.
«Что верно, то верно», — подумал я. Но приходилось рисковать — другого выбора у нас не было. Я раздал все, что мы нашли на складе: оружие, взрывчатку, боеприпасы. Остальное приказал скинуть в пропасть. Для наших целей расщелина оказалась достаточно глубокой. Мы даже не услышали, как выброшенные нами винтовки достигли дна. Нам пришлось отступить к мосту. Как я уже говорил, он был украшен прекрасной резьбой, но я знал, что вскоре этому шедевру суждено погибнуть, ибо у подножия стены собралась уже огромная толпа и я боялся, что в любой момент существа кинутся на нас. К счастью, опыт сапера, полученный в Пенджабе, сослужил мне хорошую службу — я живо начинил мост взрывчаткой, и мы, укрывшись, стали ждать, как будут разворачиваться события. Однако ничего не происходило. Полуденное солнце клонилось к закату, а существа продолжали следить за нами, оставаясь у стены. Однако с каждым часом число их возрастало.
Вскоре пики на западе подернулись розовой дымкой.
Во мне нарастало нетерпение. Я не хотел ждать темноты, чтобы начать сражение. Я хотел вступить в бой пораньше, чтобы задать хорошую трепку этим сволочам и показать, чего мы стоим. Взглянув в дальний край расщелины, я заметил статую Кали на ее ужасной машине, и мне в голову пришла одна идея.
— Профессор, — сказал я, — прикройте нас огнем Мы с Каффом пойдем и сбросим этот ужасный инструмент пыток в пропасть. Если это не сработает, значит, этих тварей уже ничто не поднимет.
Профессор нахмурился и кивнул. Он опустил винтовку, и мы со старшим сержантом перебежали через мост. Когда мы кинулись к статуе, я услышал, как толпа за нами зашевелилась. Я обернулся — вперед двинулись немногие, но как только Кафф, раскачав статую, продемонстрировал наши намерения, до нас донесся низкий рев и весь строй существ пришел в движение.
— Скорее! — крикнул нам Элиот.
Мы поднажали, но статуя все не опрокидывалась. Вдруг от толпы отделились трое или четверо и заковыляли к нам.
— Пробуем в последний раз! — призвал я.
Позади уже слышались шаги, но мы упорно продолжали раскачивать статую, а потом старший сержант выкрикнул ужасное проклятие, и тут же раздался грохот металла и дерева. Статуя зависла на краю пропасти. Солнце осветило блестящие крюки, на какое-то мгновение окрасив их красным, и проклятая машина рухнула наконец вниз. Я проводил ее взглядом, но вдруг почуял за спиной вонь разлагающейся плоти и, обернувшись, увидел прямо перед собой ужасные, мертвые глаза. Я свалил существо добрым хуком слева. Оно начало было опять подниматься, но я прострелил ему сердце, и тварь осталась лежать, дергаясь, как подстреленная птица.
«Одним гадом меньше, — подумал я. — Но сколько их тут еще?»
Мы отступали, а толпа, придя в движение, старалась отрезать нас от моста. Я уж было решил, что мы до него не доберемся, ибо эти стервецы буквально хватали нас за пятки. Мы кинулись через мост, за нами — туча преследователей. Когда мы добежали до дальнего конца моста, я услышал, как по змейке фитиля у моих ног, шипя, пробежал огонь. Мы рванулись вперед, упали и заткнули уши. Мост взлетел на воздух, а наши враги посыпались вниз, в бездонную расщелину.
Все прошло как по маслу, и мы получили передышку. Толпа отхлынула от взорванного моста, а оставшихся мы легко перебили. Но тем временем уже сильно стемнело, и я понял, что ночью начнется настоящее сражение. Вскоре на небе зажглись звезды, и мы двинулись вдоль городской стены. К счастью, несмотря на события последних дней, мой бинокль остался цел. В него я разглядел, что замыслили эти проклятые твари.
— Они рубят деревья и тащат их наверх. Клянусь Господом, мы должны остановить их, прежде чем они доберутся до расщелины, — пробормотал я.
Мы устроили отличный спектакль! Как только существа приблизились, мы встретили их всей мощью ружейного огня и на некоторое время задержали. Но они не гибли… Мне раньше не доводилось сражаться с таким противником, и они в конце концов одолели нас своей численностью. Вскоре эти сволочи сгрудились у края пропасти, перекинули через расщелину дерево и начали карабкаться по нему. Мы навели ружья и открыли по импровизированному мосту плотный огонь. Это была чертовски трудная задача, но вскоре облепленное мерзавцами дерево рухнуло в пропасть. Впрочем, мы догадывались, что на их место встанут другие и рано или поздно они переберутся к нам. Я начал подумывать о том, что пришло время отступить, ибо на башне отбиваться будет легче, чем на открытой местности. Я отдал приказ, и мы стали готовиться к отходу. Кафф нес Элиота и ящик с боеприпасами, а профессор прикрывал их. Я же остался на позиции, уничтожая наступающих тварей, но положение становилось отчаянным, ибо я был похож на комара, пытающегося остановить рвущегося напролом слона. Раздался сильный треск, и второе дерево рухнуло на нашу сторону пропасти. По стволу его уже ползли бесчисленные сонмища гадов.
«Пора сматываться», — подумал я.
Стараясь сохранять достоинство, я отступил к башне. Позади кучка существ пересекла пропасть и с завываниями двинулась за нами. У самой башни меня поджидал старший сержант Кафф, он и провел меня через двор в наш последний бастион. Мы оказались в длинном помещении с низкими потолками, похожем на молельню храма. Здесь, как и во дворце, главное место занимал пустой трон. Двери позади него вели в темноту, но сбоку, из незаметного коридора, проникал свет. Туда-то мы и направились. Мы взбежали по лестнице. Проход становился все рке, и на бегу я услышал шаркающие шаги наших преследователей — очевидно, существа заметили, куда мы зашли, и теперь гнали нас в ловушку. Свет становился все ярче, и наконец я увидел факел в руках профессора Джьоти — ученый поджидал нас, скрючившись в коридоре.
— Весьма необычная находка, — улыбнулся он нам. — Посмотрите на эти фрески. Им, должно быть, многие века.
Он поднял факел, проведя им вдоль стены, и передо мной замелькали весьма непристойные изображения — женщины, в разной степени раздетые, питались чем-то похожим на человеческие останки. Весьма подходящие к нашему положению картинки, и, признаюсь, на мгновение у меня захватило дух — столь живыми они казались. Но времени изучить их повнимательнее не было — шаги преследователей раздавались все ближе, и, обернувшись, я увидел блеск бесцветных глаз.
— Где Элиот? — закричал я.
— Наверху, — показал профессор. — Там мы займем оборону.
— Отлично.
За своей спиной я почувствовал исходящий от существ смрад и понял, что далеко нам не убежать — догонят.
Ступени вдруг стали круче. Я поднял голову и почувствовал, как в лицо мне повеял свежий воздух, увидел блеск звезд.
— Эй! — раздался сверху голос Элиота. — Кто там?
— Только мы, сэр, — отозвался старший сержант. — Правда, за нами идет кой-какая компания.
Он отступил в сторону, и профессор взобрался по ступеням. Преследователи тем временем почти настигли нас.
— Скорее, сэр! — крикнул Кафф, но, потеряв стольких своих людей, я не собирался рисковать жизнью еще одного человека. И это был не просто героизм — старший сержант нес ящик с боеприпасами, а я знал, что если мы лишимся патронов, то пропадем.
— Давайте же, вперед! — заорал я.
Но старший сержант не пошевелился.
— Черт вас дери, я вам приказываю! — завопил я, и лишь тогда он стал взбираться наверх!
Когда я попытался последовать за ним, то почувствовал, как чьи-то холодные пальцы схватили меня за ногу.
Попробовав отбросить напавшего, я потерял равновесие и упал назад в темноту, на каменный пол. Я открыл глаза и увидел лицо. Оно казалось совершенно безгубым, ибо складки плоти вокруг рта полностью сгнили. Но оскаленные зубы были на месте, а вонь дыхания, когда тварь склонилась к моему горлу, была сродни смраду сточной канавы или разрытой могилы. Все произошло в считанные секунды, и не успел я дать отпор, как: услышал яростный рев. У моей головы затопали чьи-то ноги, а существо, чуть не вцепившееся мне в горло, снова подняло голову.
— Ух вы, сволочи! — раздался рев старшего сержанта. — Ублюдки! Стервецы поганые!
Существа кинулись к нему. «Ему конец», — подумал я, ибо у сержанта не было ни места, ни времени воспользоваться винтовкой. Зато у него имелся ящик с боеприпасами, и старший сержант не колеблясь швырнул его. Ящик, как я упоминал, весил довольно прилично, а Кафф швырнул его с такой яростью, что первый ряд существ почти целиком рухнул на землю.
— Болван! — заорал я. — Ты, конечно, храбрец, но дурак чертов! Марш наверх!
— Слушаюсь, сэр, — пролаял Кафф и умчался прочь.
Я последовал за ним, поспешая, как мог, чтобы меня не стащили вниз еще раз. Но существа не двигались. Я оглянулся: упавшие на землю так и остались лежать. Мне были видны их глаза, следящие за мною полоумными взорами, а поодаль, в коридоре, сгрудилось множество человеческих фигур. Меня вдруг охватил отвратительный страх. Испугали меня, однако, не эти существа, а весьма странное ощущение, что они разделяют мой страх и что приближается нечто еще более ркасное. Внезапно, когда я еще пребывал во власти этого ужаса, существа зашевелились, повернулись и низко склонились к земле. Я взглянул в дальний конец коридора, но свет сразу как-то потускнел, словно из глубин земли сюда просочилась темнота. Я знаю, все это звучит как бред сумасшедшего, и даже сейчас не вполне уверен, что именно тогда увидел я сам. Но в то время у меня не было сомнений — я стал свидетелем очень скверной магии. Ибо нарастающая тьма втягивала в себя свет, как промокашка впитывает пролитые чернила. Что скрывалось в этой тьме, я не желал знать. Я вскарабкался по ступеням и вдохнул свежий воздух.
— Капитан, смотрите! — профессор Джьоти возбужденно дернул меня за рукав.
Я огляделся. Мы находились на самой верхушке храма, на его куполе. Все вокруг было усеяно каменными и деревянными статуями. Некоторые из деревянных статуй были сломаны на баррикады — очевидно, Элиотом, ибо он выглядел усталым и бледным, а из ноги его сочилась кровь. «Вряд ли, — подумалось мне, — ему еще доведется пользоваться ею». Было ясно, что этот купол станет нашим последним оплотом.
— Капитан, да смотрите же!
Профессор жестом подозвал меня. Я поспешил к краю купола и взглянул вниз, на то, что творилось там. А там. из джунглей выступила цепь солдат в красных мундирах. Впереди развевался «Юнион Джек», флаг Британской империи, и горный бриз донес до нас слабые звуки «Марша британских гренадеров».
— Но черт возьми, — пробормотал я, — они доберутся сюда слишком поздно…
— Что вы хотите сказать? — спросил профессор.
Я оглянулся на ступени, уходящие назад во тьму.
— Боеприпасы… Мы их потеряли.
— Потеряли?! — Профессор уставился на меня, потом на продвигающиеся вперед британские войска.
Я повернулся к стоящему на страже старшему сержанту Каффу:
— Ну как там, шевелятся?
— Да, сэр, собирают силы.
— Подожгите баррикады! — крикнул я Элиоту, — Пусть старина Пампер знает, что мы здесь.
— Сэр! — вдруг вскричал Кафф. — Эти твари поперли наверх!
Я бросился к ступеням. Кафф отбил голову у какой-то статуи, подкатил к краю ступеней и обрушил вниз. Это был самый меткий бросок, который мне когда-либо доводилось видеть, ибо с одного удара все «кегли» были повалены. На некоторое время воцарилась тишина. Затем внизу, во тьме, вновь зашевелились человеческие фигуры, и у подножия ступеней хищно заблестели глаза У Каффа в руках оказался еще один увесистый камень. Я взглянул на баррикаду. Там начало заниматься пламя. Я снова перевел взгляд на ступени. Существа подступали.
— Ну ладно, — прошептал я и взмахнул рукой. — Давай!
Сшибая все на своем пути, вниз покатился еще один камень. Но у нас уже не оставалось «кегельных шаров» — запас голов статуй иссяк. Тогда мы подняли каменную плиту и закрыли ею дыру, но я сомневался, что это надолго задержит противника. Тем временем в джунглях разгоралось пламя, люди Пампера уже подходили к расщелине, но и наши дела шли все хуже и хуже, ибо каменная плита под ногами старшего сержанта начала подпрыгивать, а зажженный нами огонь распространялся не так быстро. Мы нее собрались у каменной плиты, стараясь удержать ее на месте, а огонь у нас за спинами оставался слабым и бесценные минуты тихо проходили одна за другой. Вдруг под ногами у нас все задрожало, и каменная плита треснула пополам. В трещину сунулись чьи-то руки, и мы все отступили.
Баррикада к этому времени уже пылала вовсю, поэтому мы поспешили укрыться за ней, ибо знали, что противник не выносит огня. И действительно, на какое-то время огонь задержал их. Все больше и больше существ собиралось у ступеней, но дальше они не совались, а солдаты Пампера в красных мундирах подходили все ближе и ближе. Мои надежды начали крепнуть. И вдруг противник кинулся на нас! Мы открыли огонь, быстро истратив немногие остававшиеся у нас пули, но, хотя камни перед нашей баррикадой залоснились от крови, существа продолжали напирать, накатываясь словно приливная волна. Мы принялись швырять в них горящие ветки. Одной твари я попал в лицо и увидел, как ее глазные яблоки сморщились и растеклись. Другое существо вспыхнуло, как мешок соломы. Снизу до нас донесся ружейный огонь, и я понял, что Пам-пер, наверное, добрался до подножия храма. Только бы продержаться! Только бы закрепиться! А противник продолжал напирать. Я почувствовал, как слабеют мои силы. Мы все почувствовали это. Если противник опрокинет наши фланги, мы наверняка погибнем. Отовсюду звучали пронзительные вопли существ, охваченных пламенем, но я заметил, что их численный перевес уже сказывается. Я взглянул на дальний фланг. Тело вспыхнувшего человека корчилось в муках, но позади маячили новые существа. Дело проиграно, наш фланг опрокинут. Но внезапно твари ослабили натиск, прекратились их вопли. Не было слышно ничего, кроме потрескивания пламени. Над кошмарной сценой воцарилась тишина. Вдали, внизу, снова раздались выстрелы британских винтовок, но теперь я не поддался искушению надежды, ибо знал, что нас ожидает смерть. Я посмотрел на пламя, собрался с духом и помолился за то, чтобы не впустую отдать свою жизнь.
И тогда меня вновь охватил страх. Я боролся с ним, но, словно темная лихорадка, он не отпускал меня, намереваясь выжать всю мою душу. «Человеку всегда больно чувствовать, что храбрость оставляет его, — сказал я себе. — И все же что такое храбрость, как не продолжение страха?» Я крепко сжал горящую палку и подошел к краю баррикады. Если уж умирать, то благородно, лицом к лицу с врагом. Я не позволю страху победить себя. Я поднял факел и шагнул вперед.
За баррикадой никого не было. Вернее, гам не было никого из оставшихся в живых. Хотя трупов хватало. В огне, на куполе, на
ступенях — везде валялись наши враги. Я в изумлении огляделся по сторонам, после чего вернулся к товарищам, чтобы сообщить, что мы спасены, но они тоже исчезли — я остался совершенно один в этом древнем и страшном месте. Я взглянул на огонь, словно адское пламя пожирающий мертвецов. Я заметил, что трупы горят, как дрова, а от их плоти клубится жирный и черный дым. Языки пламени образовали пелену, и за этой пеленой появились шесть человеческих фигур.
Я пораженно отшатнулся и решил, что, наверное, заболел и меня прихватил приступ застарелой малярии. Но в то же время я не чувствовал озноба, и никогда раньше мой ум не был столь ясен и трезв. Я вновь взглянул на человеческие фигуры. Они вышли из огня и теперь неотрывно смотрели на меня. Очень привлекательные женщины, и одна из них — та, которую мы захватили в плен. Она улыбнулась мне, и внезапно меня охватила животная похоть, божественная и жестокая. Моя душа словно раскрылась навстречу этим женщинам. Я шагнул к ним, но они отвернулись и покачали головами, и я заметил, что они с восхищением смотрят на трон, словно взнесенный ввысь языками пламени. Я понял. Они не заговаривали со мной, не было произнесено ни единого слова, но я понял. Мы будем жить. Мы забрели в одно из самых мрачных мест мира, но останемся в живых. Странно, но я вновь почувствовал, что меня охватывает ужас. Мой взгляд, как магнитом, притянуло к трону, и я осознал, что на нем теперь сидит женщина Две тени выросли у нее по бокам — у одного существа было лицо Элиота, хотя это был, конечно, не Элиот, а другая фигура явно принадлежала европейцу, хотя человека этого я не знал. Но я смотрел не на них, а на сидящую на троне женщину, казавшуюся мне самой желанной из всех дам, на кого я когда-либо бросал взор. Я пытался вызвать в памяти образ моей жены, но безрезультатно. Меня заполонило желание, адская, звериная похоть, которая сжигала внутренности. Нет, я ощущал не только похоть, но и ужас — и все это стягивало мне голову, как обручем. А когда я в последний раз взглянул на трон и тень фигуры на нем, то ощутил, что теряю сознание. На меня надвигалась тьма. Я закрыл глаза и упал на каменные плиты.
Так что же произошло? Не стану притворяться, будто знаю. Очнувшись, я не смог вспомнить ничего из того, что случилось после падения нашего фланга. Как оказалось, ничего не помнили и мои товарищи по оружию. Они тоже потеряли сознание в эти последние минуты, поэтому нам пришлось довольствоваться тем, что рассказал нам Пакстон. Он сообщил, что нас нашли сваленными в кучу за баррикадами, огонь еще горел, а все вокруг было усеяно трупами нападавших. Некоторое время существовало опасение, что мы тоже умрем, ибо все мы находились в довольно глубокой коме и прошла пара дней, прежде чем мы очнулись. К этому времени Каликшутра осталась далеко позади, а когда я пытался вспоминать о ней, на меня накатывали волны ужаса, чередующиеся с провалами в памяти. Лишь недавно ко мне вернулась память о том, что произошло, и я впервые изложил это здесь, в своих записках.
Но события той странной ночи остаются тайной до сего времени. Кто восседал на троне? Кем был человек с лицом Элиота, и кем был его спутник, стоявший по другую сторону трона? Почему нас пощадили? Было ли это все на самом деле? Я отдаю себе отчет в том, что меня можно принять за слегка «тронутого». Может, я действительно помешался тогда, ибо время, проведенное нами в горах, было довольно бурным. Но в глубине души я не могу поверить, что стал жертвой обыкновенной галлюцинации, — как же я тогда выжил, чтобы поведать вам эту историю? Окончательное суждение, однако, я должен предоставить своему читателю. Пусть он сам судит мой рассказ и мое поведение.
Мне не довелось больше побывать в Каликшутре. В определенном смысле наше задание было выполнено удачно, ибо мы могли быть уверены, что никаких русских там нет и вряд ли они появятся там в будущем. Похоже, колониальная администрация тоже была заинтересована в том, чтобы оставить это королевство в покое, ибо Пам-перу, как выяснилось, было строго запрещено присоединять эти места к владениям Британской короны. Я, полдню, очень разгорячился, полагая, что Каликшутра может лишь выиграть от введения британского колониального правления, ибо в зловещей порочности тамошних местных обычаев не могло быть никакого сомнения. Но я знал, что Пампер вряд ли позволит себе не подчиниться приказу. И действительно, позднее под строгим секретом он сообщил мне, что будущее Каликшутры служит предметом каких-то споров в очень высоких лондонских кругах. Засим мы оставили разговоры об этом королевстве, хотя, сказать по правде, я бы не очень расстроился, если бы мне довелось снова побывать там.
К моему рассказу остается добавить всего одно примечание, но примечание печальное и ужасное. Уже приближаясь к ущелью, которое должно было вывести нас на Тибетскую дорогу, мы поравнялись со статуей Кали, и я увидел сидящую перед нею фигуру в одежде, посыпанной пеплом, и с головой, склоненной в пыль. Медленно человек поднял голову и взглянул на нас. Это был брамин, старый факир. Неуверенно поднявшись на ноги, он указал на нас пальцем и принялся пронзительно кричать, а потом направился в нашу сторону. Стоило ему приблизиться к нам. с Пампером, взор его вспыхнул ненавистью. Он напомнил мне женщину, которую мы взяли в плен, и я заметил, что кожа его блестит так же, как блестела у той женщины.
— Он болен той болезнью! — вскричал я.
— Вы уверены? — нахмурился Пампер и, когда я утвердительно кивнул, приказал брамину убираться.
Но брамин подходил все ближе, и, хотя ему во второй раз было приказано уйти, он не послушался, так что Пам-перу не оставалось ничего другого, кроме как ударить его. В пылу гнева Пампер влепил брамину пощечину, и старик, зашатавшись, упал в пыль. Все это выглядело очень скверно, и Пампер, ужаснувшись тому, что натворил, поспешил брамину на помощь, но Элиот вовремя придержал его за руку.
— Дайте ему денег, — сказал он, — но, ради Бога, держитесь от него подальше.
Пампер медленно кивнул. Он прокричал приказ своей колонне и, когда его люди проходили мимо, бросил жрецу кошелек с рупиями. Но старик швырнул деньги в грязь, вскочил и горящим взором уставился на проходящие мимо войска. Нам вслед эхом летели его проклятия. Думаю, что среди нас не было ни одного человека, кто бы не содрогнулся от этих воплей.
Я спросил у Элиота, что именно кричал нам брамин. Элиот нахмурился, явно чувствуя себя не в своей тарелке, и, когда наконец он все объяснил, я тоже испытал довольно скверные ощущения. Оказалось, что деревня брамина пала жертвой болезни и он посчитал, что это мы навлекли гнев Кали.
— А его проклятие? В чем оно выражалось? — спросил я.
Элиот посмотрел мне в глаза.
— Полковник; Пакстон, берегись! — перевел доктор.
— Берегись чего?
Элиот нахмурился и пожал плечами.
— Берегись гадостей, о которых знает брамин.
Это обеспокоило меня, и я попросил Пампера следить за тылами. Но он был старый лев и высмеял мои страхи. Проходили дни, и я почта забыл о брамине. Мы добрались до Симлы. Там меня на некоторое время задержали разные любители рапортов, и мне пришлось долга расшаркиваться и щелкать каблуками. Естественно, я часто виделся с Пампером, а также с Элиотом, поврежденная нога которого к этому времени стала заживать. Доктор решил вернуться в Англию, ибо его вера в исследования была сильно подорвана пережитым, и он сказал мне, что, по его мнению, эта болезнь в Каликшутре неизлечима. Его соображения встревожили меня, поскольку я сам видел, как быстро эта болезнь может распространяться, и я задумался над тем, удастся ли ей навсегда остаться в пределах Гималайских вершин. Вспомнил я и о брамине. Пару раз мне показалось, что я видел его. Я сказал себе, что, по-видимому, ошибся или воображаю всякие глупости, но как-то вечером Элиот сообщил мне, что и он встретился со жрецом лицом к лицу на базаре. Брамин ускользнул, но Элиот не сомневался, что это был он. Сообщили медицинским властям, и начался поиск. Однако ничего не обнаружили — ни следов брамина, ни признаков болезни.
И все равно я снова предупредил Пакстона, чтобы он был бдителен. Он согласился не расставаться с револьвером, но, думаю, больше из чувства компромисса, чем из убежденности, что ему действительно угрожает опасность. У меня создалось ощущение, что он подтрунивает надо мною. Шли дни, брамина так и не отыскали, и я уже стал задумываться, не оказался ли я в дураках. Пампер начал отпускать свою охрану. Он то и дело поддевал меня и как-то вечером в клубе заставил согласиться с тем, что опасность, судя по всему, миновала. Он от души смеялся над моими страхами, я поддакивал ему, и тот вечер мы закончили в довольно веселом настроении. Мы вышли, пошатываясь, довольно поздно, и, поскольку Пампер квартировал ближе к клубу, чем я, он предложил мне переночевать у него. Я согласился, да и дом у Пампера был приятнее, чем моя квартира, — там чувствовался семейный дух. Тонга
[8] прогрохотала по мостовой и остановилась у бунгало Пампера. Мы сошли и расплатились с извозчиком. Вокруг стояла тишина, и мы задержались на веранде, засмотревшись на звезды. Вдруг из дома донесся пронзительный крик, а за ним последовал выстрел.
Мы со всех ног бросились внутрь и застали ужасную картину: госпожа Пакстон стояла с дымящимся пистолетом в руке, а на полу лежал мертвый брамин. Я склонился над трупом. Каким-то чудом пуля попала прямо в сердце, и, перевернув тело, я довольно усмехнулся.
— Конец ему! — констатировал я.
Но госпожу Пакстон вдруг охватила неудержимая дрожь.
— Нет, нет, — всхлипывала она. — Вы не понимаете…
Она уронила пистолет, повернулась и показала на открытую дверь.
— Тимоти… Он, — она сглотнула, — он… он мертв!
И разразилась рыданиями.
Мы кинулись в комнату Тимоти. Мальчик лежал на постели. Горло его было разорвано, а противокомарная сетка вся забрызгана кровью.
— Нет! — вскричал Пампер. — Нет!
Он упал на колени у постели Тимоти и принялся гладить мальчика по волосам. Мое сердце разрывалось при виде того, что этот храбрый человек плачет как ребенок, но я знал, что ничего не могу сказать. Госпожа Пакстон подошла к нему, он приподнялся и обнял ее. Вдруг она замерла.
— Он пошевелился! Я видела! — вскрикнула она. — Говорю вам, я видела — он пошевелился!
Пампер и я впились взглядами в лицо Тимоти. Теперь на нем играла улыбка, которой совершенно точно раньше не было!
— Что же это… — прошептал Пампер.
Внезапно Тимоти открыл глаза.
— О Боже мой, — рассмеялась госпожа Пакстон. — Он жив! Жив!
— Позовите Элиота, — сказал я.
— Но зачем? — удивилась госпожа Пакстон. — С ним же все в порядке!
— В порядке? — переспросил я.
Мы вновь посмотрели на Тимоти. Он приподнялся, и в ране на его горле все еще бурлила кровь. Но что ужаснее всего, глаза его голодно блестели, побелевшее лицо мальчика словно сморщилось.
— Позовите Элиота, — повторил я.
Госпожа Пакстон зарыдала и, повернувшись, выбежала из комнаты. Пампер и я последовали за ней, заперев за собой дверь на засов.
Через двадцать минут появился Элиот. Мы с ним вошли в комнату Тимоти, и я сразу увидел на его лице отчаяние.
— Оставьте меня! — велел Элиот.
Я повиновался, а через несколько минут приехал профессор Джьоти.
— Мне сообщили, — проговорил он и без каких-либо дальнейших объяснений прошел в комнату Тимоти.
До нас донеслись приглушенные голоса, доктор и профессор, похоже, спорили. Затем дверь отворилась, Элиот вышел и заговорил с госпожой Пакстон. Он попросил разрешения оперировать, она без слов согласилась, и Элиот кивнул. Выглядел он ужасно и, судя по всему, никаких надежд не питал. Он закрыл за собой дверь, и до нас донесся скрежет ключа в замочной скважине. Появился доктор лишь часом позже. Рубашка его была забрызгана кровью, а на лице был явно запечатлен провал.
— Мне очень жаль, — пробормотал он, и, Боже мой, он действительно скорбел. Элиот подошел к госпоже Пакстон, взял ее руки в свои и сжал их. — Я ничего не мог сделать…
Он попросил Пакстона не входить в комнату, но Пампер настоял:
— Он же мой сын… был… моим сыном!
Мы вошли вместе. Вся комната была забрызгана кровью. Тимоти лежал, распростершись на кровати, и походил на анатомический муляж, ибо грудь его была вскрыта, а сердце вынуто.
Пампер не мог оторвать глаз от трупа сына.
— Неужели это было необходимо? — спросил он наконец.
Профессор Джьоти, стоявший в дальнем углу комнаты, слегка качнул головой.
— К сожалению! — прошептал он.
Пампер кивнул, пристально вглядываясь в лицо Тимоти, которое абсолютно лишилось юных мальчишеских черт, — перекошенное, побелевшее, заострившееся в жестокости.
— Не позволяйте моей жене заходить сюда, — с этими словами Пампер повернулся и вышел из комнаты.
Тело он приказал отвезти в морг.
Вот так и закончилось наше приключение в Каликшутре.
На следующий день пришли приказы для меня. Возвращаясь назад, на равнины, я постарался выбросить из головы ужасы прошлого месяца. Меня ждал мой полк, и вскоре времени обращаться к прошлому совсем не осталось. Новые приключения, новые задания…
Письмо д-ра Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Симла 1 июля 1887 г.
Хури!
Что мы наделали? Что я наделал?
Я — врач. Хранитель человеческой жизни. А вы убедили меня стать убийцей.
Да, я возвращаюсь в Англию. Эти ваши разговоры о вампирах, жестоких демонах и кровожадных богах… Как мог я вас послушать! «Все это существует», — говорили вы. «Нет! И еще раз нет!» — отвечаю я.
В Индии, может быть, верят в такое, но я, как вы часто напоминали мне, не индус. Так что я вернусь, как, без сомнения, должны вернуться все мы, британцы, в свой мир, где я смогу быть уверен в том, что есть и чего нет. Где смогу заниматься практикой, как мне велит совесть. И где искуплю свою ошибку, где буду спасать, а не уничтожать человеческие жизни.
Выезжаю в Бомбей завтра. Билет на пароход до Лондона уже заказан. Сомневаюсь, что мы когда-либо еще встретимся.
Жаль, Хури, так расставаться.
Засим и остаюсь. Ваш невольный друг
Джек.
ЧТО МЫ НАТВОРИЛИ?!
ЧАСТЬ II
Письмо д-ра Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Лондон, Уайтчепель, Хэнбери-стрит,
«Подворье Хирурга» 5 января 1888 г.
Мой любезный Хури!
Как видите, я теперь прочно обосновался в Лондоне. Думаю, что вы запомните адрес и, несмотря на то, как мы расстались, воспользуетесь им, написав мне. Сейчас у меня мало возможностей участвовать в спорах, которыми мы увлекались раньше. Я никогда не был особо уживчивым человеком и все же иногда чувствую себя более одиноким в этом могучем шестимиллионном городе, чем когда-то среди Гималайских вершин. Из моих самых старинных друзей одного, Артура Рутвена, нет в живых — он, по-видимому, пал жертвой жестокого и бессмысленного убийства. Трагическая потеря! Мне его очень не хватает, ибо это был великолепный человек. Другой мой друг, сэр Джордж Моуберли, — вы, может быть, читали о нем в газетах, ибо он сейчас министр в правительстве, — практически забыл меня, так что я лишился его, как и бедняги Рутвена. Я оплакиваю их обоих.
Хотя не могу сожалеть о своей изоляции. Вообще-то, в моем распоряжении мало времени. Число моих пациентов все время растет, так что работой я загружен с головой. Мой кабинет расположен в самом отверженном районе этого великого города отверженных. Нет ни одного вида пороков или ужасов, которые бы не порождали здешние улицы, поэтому в течение целого месяца я ничего не чувствовал, кроме гнева и отчаяния. Отправиться за границу меня подвигла гордыня — почему я решил, что мне надо ехать на Восток, чтобы облегчить бремя человеческих страданий, когда здесь, в богатейшем городе мира, царит столь ужасное отчаяние?
Вам я могу признаться в своих чувствах к этому городу. С другими, однако, да и с самим собой, я холоден как лед. Иначе и быть не может. Ибо как еще я смогу пережить все, что вижу вокруг? Человек в подвале умирает от оспы, его жена на девятом месяце беременности, их дети ползают голые в грязи. Маленькую девочку, которая две недели как умерла, находят под кучей ее живых братьев и сестер. Вдова, больная скарлатиной, продолжает торговать своим телом в крохотной комнатушке на чердаке, в то время как ее дети мерзнут на пронизывающем ветру внизу, на улице. Даже в трущобах Бомбея мне не доводилось видеть подобного. Эмоции в таких условиях — пламя свечи на сильном ветру, и даже гнев я едва ли могу себе позволить. Но, к счастью, я по природе своей, как вы помните, существо бесстрастное. Силы логики и. рассудка, на которые я опираюсь сейчас в Уайтчепеле, всегда были преобладающими чертами моего склада ума. Несмотря на все ваши усилия, Хури, меня так и не тронули восточные учения. Вы, может быть, думаете, что все мои годы, проведенные в Индии, пропали зря. Но ничего не могу поделать с тем, каков я есть. Для меня никогда не будет иной реальности, чем та, которую я наблюдаю и на основании которой иногда делаю выводы.
«А как же то, что ты видел в Каликшутре?» — наверняка спросите вы меня. Сомневаюсь ли я в реальности тех событий? Могу ли я объяснить все это логически? Признаюсь, пока еще нет, но я много работаю и в один прекрасный день смогу найти объяснение. Пока же ясно одно, Хури: я не приемлю ваших толкований. Демоны? Вампиры? Какое науке дело до таких фантастических идей? Никакого. Вновь повторю: меня не интересует невозможное. Врач, исповедующий подобные идеи, вскоре опускается до уровня знахаря. Я не стану выродившимся врачом, знахарем, свершающим ужасные ритуалы для умиротворения ужасов и духов, которые он не может понять. Воспоминания о бедном сынишке Пакстона до сих пор тревожат меня. Боль в его глазах, поток крови, хлынувший из его развороченного сердца… Кем он стал, Хури? Жертвой ужасной и необъяснимой болезни — да, но не призраком, не существом, подлежащим уничтожению. Вне сомнения, я не мог ему помочь, и все же меня угнетает сознание того, что я даже не попытался вылечить мальчика, а вместо этого убил, предумышленно убил его! И, совершив это, я предал дело всей своей жизни.
Ибо, подчеркиваю, я оптимист и ученый. Это главное, чем я могу гордиться. Тайны, над которыми я работаю, должны иметь ответы, данные, которые я исследую, должны быть наблюдаемы. Помните мои методы? Поиск, изучение, выводы… Я остаюсь тем, кем всегда был — рационалистом, и моя жизнь, посвященная науке, сохраняет ценность. Как видите, я не отказался от исследований. Наоборот, построил небольшую лабораторию и при помощи имеющегося здесь оборудования обрабатываю данные, собранные в горах. К этому письму прилагаю экземпляр написанной мною краткой статьи, где изложены некоторые мои предварительные размышления. Вы заметите, что я еще не потерял интерес к этим белым кровяным клеткам, которые изучал ранее, и загадке их примечательной живучести. Предо мной еще долгий путь, но, пройдя его до конца и решив проблему, вряд ли я обнаружу, что во всем виноваты вампиры.
Напишите мне. Как вы поймете из этого письма, я не прочь продолжить наши споры. Ответьте поскорее и не церемоньтесь со мной.
Джек.
Письмо мисс Люси Рутвен сэру Джорджу Моуберли
Лондон, Клеркенвелл,
Мидлтон-стрит, 12.
12 апреля 1888 г.
Дорогой Джордж!
Пишет вам Люси, ваша верная подопечная. Нет, я не умерла, не погрязла в разврате, не пала до низости, как предупреждала ваша дорогая супруга, а живу хорошо и счастливо. Расскажите об этом Розамунде. Уверена, она будет рада. Все мы знаем, как добра была ко мне ваша жена.
Надеюсь, по крайней мере вы, дорогой Джордж, не ненавидите меня. Вот уже много месяцев, как я ушла от вас, и едва ли я вела себя так, как полагается вести добродетельной подопечной. Но сейчас я стараюсь внести некоторые поправки в наши отношения, и пусть я покажусь глупой, но то, что я должна вам рассказать, выглядит очень странным — особенно в свете того, что я, как вы знаете, не склонна к суеверным страхам. Так что вы посмеетесь, Джордж, когда я вам скажу, что прошлой ночью видела ужасный сон, столь кошмарный, что до сих пор не могу прогнать его от себя. Может, вы поймете, насколько я должна обожать вас, чтобы рассказать об этом сне с риском заслужить ваши насмешки?
Вам, конечно, не надо напоминать, что сегодня исполняется ровно год, как тело бедняги Артура нашли в водах Темзы. Джордж, я видела это прошлой ночью, видела во сне, но все выглядело ужасающе, будто наяву.
Его труп покачивался в грязной реке, и, вглядевшись, я заметила, сколь обескровлено и бледно его дорогое лицо. Мы все, его семья и друзья, собрались на берегу в траурных одеждах, а за нашими спинами на открытом катафалке стоял гроб. У одного из могильщиков в руках был длинный шест с крюком на конце. Им он и зацепил тело Артура. Труп протащили по грязи и положили на катафалк. Мы стояли, вглядываясь в лицо Артура, а потом возница щелкнул кнутом, и катафалк медленно покатился по унылой маленькой улочке. Я не могла смотреть ни на катафалк, ни на могильщиков. По какой-то причине они вселяли в меня страх, ибо тьма, в которую они уходили, была тьмой смерти, а они сами и катафалк — ее посланцами. Все мы, оплакивающие покойного, словно окаменели, когда катафалк прогрохотал мимо и цоканье подков начало замирать в темноте.
И тогда я вдруг обнаружила, что за катафалком идете вы и Розамунда, рука об руку. Розамунда выглядела прекрасно, еще более мило, чем обычно, но в то же время лицо ее, частично закрытое черными волосами, было бледно как смерть, столь же бледно, как и лицо Артура Вашего лица, Джордж, я не разглядела, вы держались спиной ко мне, но я знала, что вам грозит смертельная опасность. Я силилась предупредить вас, но ни звука не сорвалось с моих губ, а вы все шли и шли. Наконец и вас, и Розамунду полностью поглотила тьма, а вскоре затихло даже громыхание катафалка. Только тогда мне удалось закричать, и от своего пронзительного крика я проснулась. Но ужас, однако, остался и живет в моей душе до сих пор.
Не могу избавиться от ощущения, что мой кошмар был предупреждением: вы и Розамунда каким-то образом идете к ужасной гибели. Вы ответите, что такую мою взволнованность объясняет годовщина смерти Артура. Вне сомнения, это так, и все же, дорогой Джордж, не забывайте, что убийство моего брата остается неразгаданным по сей день, а значит, мои страхи, как бы они ни выражались, может быть, не совсем напрасны. Так что прошу вас: будьте осторожны, если не ради себя, то ради Розамунды. Я не люблю ее, но не хочу, чтобы она разделила судьбу бедняги Артура. Не могу пожелать такого никому.
Очень хочу повидаться с вами, но, к несчастью, пока не могу. Через пару вечеров начинается новый сезон в «Лицеуме», и мне надо выступать на открытии! Как часто говорит мистер Стокер (директор нашего театра), у нас еще столько дел. Но потом, Джордж, мне бы хотелось с вами увидеться, если смогу, и навести мосты, которые нужно навести. Чувствую, что мы слишком долго были в разлуке. Я всегда ссорилась с вашей женой, но с вами — никогда.
Может быть, вы придете посмотреть, как я выступаю в «Лицеуме»? Придете или нет, дорогой опекун, остаюсь вашей любящей, хотя и чересчур суеверной подопечной.
Люси.
Письмо леди Розамунды Моуберли мисс Люси Рутвен
Лондон, Мэйфейр,
Гросвенор-стрит, 2.
13 апреля 1888 г.
Дражайшая Люси!
Надеюсь, вы простите меня, что пишу вам в то время, когда, насколько мне известно, ваше внимание полностью сосредоточено на грядущем первом выступлении, но я в таком расстройстве, что не могу не связаться с вами. Умоляю, прочтите, пожалуйста, это письмо, а не выбрасывайте его сразу же. Дочитав до конца этот абзац, вы поймете, что у меня не остается иного выбора, кроме как обратиться к вам по ужасному делу, о котором я хочу рассказать. Сегодня утром я получила письмо. С рассыльным, Мои имя и фамилия были написаны большими буквами на конверте, само письмо тоже состояло из больших букв. Подписи не было. Поэтому я не знаю, кто его послал. А содержание письма было необычным и устрашающим.
«Я — СВИДЕТЕЛЬ УБИЙСТВА ДЖ.» — было написано в письме.
Если я скажу вам, что мой дорогой Джордж уже неделю как пропал и еще до исчезновения, очевидно, стал целью какого-то ужасного заговора, вы поймете, почему я опасаюсь самого худшего. Я попросила одного человека расследовать эту тайну для меня — не полицейского, даже не частного детектива, а старого друга Джорджа, человека замечательных способностей, чему я сама была свидетельницей. Уверена, вы помните его — его зовут доктор Джон Элиот, и он, вероятно, вскорости навестит вас. Поэтому, полагаю, лучше всего будет, если я дам вам полный отчет о моей встрече с ним — не только для того, чтобы вы подготовились к его стилю расследования, весьма своеобразному, но и чтобы ознакомить вас с фактами, сопровождавшими исчезновение Джорджа, в том виде, как я представила их самому доктору Элиоту.
Я навестила доктора сегодня утром. Было необычно холодно и сыро, даже самые процветающие кварталы Лондона выглядели безрадостно, когда я по ним проезжала, направляясь к доктору. Выехав из Сити, я вообще сочла, что попала на крути ада, и даже самый благоприятный климат не смог бы скрасить ужасные сцены, которые мне довелось увидеть. Джордж предупреждал меня, что доктор Элиот обладает тем, что мой муж однажды в насмешку назвал «миссионерским духом». И все же даже миссионеры, видимо, как-то внутренне сжимаются, прежде чем входить в районы, где одетые в лохмотья существа дрожат от холода, а молодые девчонки оголяются без малейшего намека на стыд. И конечно же, молодая замужняя женщина, как я, воспитанная за городом и посему непривычная к таким сценам, почувствовала большое облегчение, когда мы наконец добрались до места назначения. Выйдя из кэба, я чуть не задохнулась от ядовитых испарений и мерзкого запаха гнилой рыбы и овощей. Мостовая, на которую я ступила, утопала в грязи. «Этот доктор Элиот, — подумала я, выискивая местечко почище, — и в самом деле особенный человек, поскольку решился не только вести медицинскую практику в таком месте, но и жить здесь же!»
Войдя в его хирургическую клинику, я несколько отошла от потрясения. После гама переполненных улиц царившей здесь тишине можно было только порадоваться, а воздух, если не считать легчайшего запаха крови, был относительно свеж и чист. Я попросила впустившую меня медсестру сообщить доктору Элиоту о моем прибытии.
— Если вам нужен доктор Элиот, — ответила она, — то вам следует подняться наверх и самой побеспокоить его. Когда он у себя в кабинете, иначе его внимания не привлечешь. Вверх по лестнице, первая дверь налево.
Она повернулась и торопливо ушла, а слова моей благодарности потонули в плаче детей из соседней палаты. Предо мной мелькнули их тела на колченогих кроватях, и дверь захлопнулась. «Время, — подумала я, — особо ценно в таком месте». Осознав это, я без промедления поднялась по лестнице. На площадке я постучала в дверь, к которой меня направила медсестра. Ответа не было, и я постучала снова Опять никакого ответа, поэтому я осторожно повернула ручку и распахнула дверь.
Кабинет, а это явно был он, выглядел приятно. В камине пылал огонь, толстые ковры и глубокие кресла завершали впечатление уютной жизнерадостности. Повсюду стопками громоздились книги, а на стенах были развешаны украшения иноземного, если не сказать экзотического, вида. Самого доктора Элиота не было видно, так что я вошла и огляделась по сторонам. Дальний конец кабинета сильно отличался от остальной части комнаты. По сути он представлял собой химическую лабораторию: повсюду виднелись пробирки, трубки, а на конторке полыхала горелка. Склонившись над этой конторкой, спиной ко мне стоял какой-то человек. Он наверняка слышал, как я вошла, но не обернулся. Вместо этого, как я с некоторым удивлением заметила, он нацелился шприцем себе в руку, тычком вонзил иглу, и шприц начал наполняться пурпурной кровью. Затем он осторожно вынул иглу и добавил кровь к какому-то веществу на тарелке.
— Прошу садиться, — произнес доктор Элиот, по-прежнему не оборачиваясь.
Я повиновалась. Пять минут я молча наблюдала за ним, а он изучал получившуюся смесь и делал какие-то пометки. Наконец я услышала, как он, отодвинув стул, нетерпеливо пробормотал:
— Никуда не годится! — и повернулся ко мне.
Тонкие черты его лица излучали поразительную энергию, а проницательные глаза блестели.
— Извините, что заставил вас столько ждать, — произнес он, гася пламя горелки. При этом словно погас и огонь, озарявший его лицо и отражавшийся в глазах.
Он подошел ко мне и опустился в кресло напротив. От его недавней энергичности не осталось ни малейшего следа — он как будто погрузился в спячку.
— Чем могу быть вам полезен? — поинтересовался он, еле поднимая веки.
— Доктор Элиот, я жена вашего дорогого друга.
— А, — глаза его открылись пошире. — Леди Моуберли?
— Да, — кивнула я, нервно улыбнувшись. — А как вы узнали?
— Боюсь, у меня не много друзей, и еще меньше среди них таких, кто недавно женился. Очень жаль, что мне не удалось побывать у вас на свадьбе.
— Вы ведь были тогда в Индии?
— Я вернулся около шести месяцев назад. Я писал Джорджу по возвращении, но он был занят государственными делами. Как я понимаю, он стал важным человеком.
— Да.
Видимо, что-то проскользнуло в моем голосе, какая-то отчаянная нотка, ибо доктор Элиот внезапно взглянул на меня с интересом и наклонился вперед.
— У вас проблема? — спросил он. — Леди Моуберли, скажите, с Джорджем что-то случилось?
Я попыталась собраться с духом.
— Доктор Элиот, — выговорила я наконец, — боюсь, что Джорджа, уже нет в живых!
— Нет в живых? — Он ничем не выдал тех горьких чувств, которые охватили его при этом известии, но выражение его лица вновь стало собранным, а изучавшие меня глаза заблестели. — Но это лишь опасения? Вы не уверены в его смерти?
— Он пропал., доктор Элиот.
— Пропал? И давно?
— Почти с неделю.
— Вы сообщили в Скотланд-Ярд? — нахмурился доктор Элиот.
Я покачала головой.
— Почему?
— Есть обстоятельства, доктор Элиот. Особые… обстоятельства.
Он медленно кивнул:
— Итак, из-за этих обстоятельств вы пришли ко мне?
— Да.
— Могу спросить почему?
— Джордж много рассказывал о вас. Он высоко ценил ваши способности.
— Под способностями Джордж имел в виду те логические фокусы, которые я демонстрировал в университете, чтобы произвести на него и бедного Рутвена впечатление?
Он не стад, ждать, пока я отвечу, и вдруг покачал головой:
— Сейчас я этим не занимаюсь. Нет, нет! Это были детские игры, пустая трата времени!
— Почему же детские игры, — запротестовала я, — если они помогут вернуть мне Джорджа?
Доктор Элиот сардонически улыбнулся:
— Боюсь, вы несколько преувеличиваете мои способности, леди Моуберли!
— Зачем вы так говорите? О вас ходили легенды, я сама слышала истории о том, как вы раскрывали тайны, ставившие в тупик полицию!
Доктор Элиот подпер подбородок кончиками пальцев — похоже, он вновь впал в спячку.
— Мы были большими друзьями — ваш муж, Рутвен и я, — сообщил он. — Но после Кембриджа наши пути разошлись. Рутвен стал блестящим дипломатом, Моуберли увлекся политикой, а я… а я, леди Моуберли, осознал, что я не такой великий гений, каким себя всегда считал. Вскоре открыл и то, что логические фокусы, столь впечатлявшие Моуберли, всего-навсего видимость. Короче, я начал учиться скромности.
— Понятно, — пробормотала я, хотя мне ничего не было понятно, и спросила, что научило его скромности.
— Профессор в Эдинбурге. Доктор Джозеф Белл, — ответил он. — Я учился у него, чтобы продолжить свои исследовательские работы. У профессора Белла был такой же дар, как и у меня, — он мог определить основные черты характера человека с первого взгляда. Профессор использовал свой талант для объяснения студентам принципов диагноза. Мне, однако, он преподал иной урок, ибо знал, что мои способности к дедукции очень велики, поэтому меня он предупредил о противоположном, о том, что дедукция может быть логична, но не всегда верна. Он побуждал меня к проявлению моих талантов, и, хотя я частенько оказывался прав, иногда я весьма сильно заблуждался.
«Это вам урок, — предупреждал он меня. — Всегда помните о том, что вы упустили. Помните о том, что вы не смогли признать, о чем не отважились помыслить».
Он был совершенно прав, леди Моуберли. Опыт научил меня тому, что нет ничего более коварного, чем ответы, кажущиеся самыми верными. В науке всегда есть нечто непостижимое, а в поведении людей — тем более.
Элиот помолчал и пригвоздил меня к месту внимательным взглядом.
— Вот почему, леди Моуберли, — сказал он наконец, — я ограничил свои исследования медициной.
Дорогая Люси, представьте себе, как я была удручена!
— Так, значит, вы мне не поможете? — огорчилась я.
— Не расстраивайтесь, прошу. Я просто предупредил вас, леди Моуберли, что мои возможности весьма ограниченны.
— Почему же? Потому что у вас нет практики?
— В области расследования преступлений — да!
— Но, я уверена, такие навыки несложно восстановить.
— Право, леди Моуберли, — произнес доктор Элиот, слегка помедлив, — вам лучше было бы обратиться в полицию.
— Но ведь восстановить эти способности можно? — настаивала я, не обращая внимания на его слова.
Какое-то время доктор Элиот молчал, пристально глядя на меня сверкающими глазами.
— Возможно, — проговорил он наконец.
И тогда, дорогая Люси, я почувствовала сильное искушение расшевелить его, ибо мне показалось, что его неохота на деле не что иное, как тщеславие, и он нуждается в возможности проявить себя.
— Что вы видите во мне? — вдруг спросила я его. — Что вы можете прочесть по моей внешности?
— Как я уже предупредил, мои рассуждения могут быть неверны.
— Нет, доктор Элиот, неверны могут быть ваши умозаключения, но не рассуждения. Не так ли?
Он слабо улыбнулся.
— Ну, — нажала я на него, — так что вы можете сказать?
— О, ничего особенного. Только то, что явно бросается в глаза.
Я с удивлением взглянула на него:
— И что же это?
— Вы из богатой, но не аристократической семьи, ваша горячо любимая матушка недавно умерла, и вы редко выезжаете из дома, ибо смертельно боитесь высшего общества. Все это достаточно ясно. В дополнение к этому я бы отважился предположить, что в прошлом году вы ездили за границу, возможно в Индию.
— Вплоть до самого последнего замечания, доктор Элиот, — рассмеялась я, — я боялась, что вы обманываете меня и мой муж просто рассказывал обо мне в письмах.
На лице его появилось выражение крайнего разочарования.
— Так я ошибся? — промолвил он. — Вы не были за границей?
— Никогда.
Он как-то обмяк, лицо его вытянулось от отчаяния:
— Видите, что я имею в виду? Мои способности уже не те.
— Вовсе нет, — утешила я его. — Все остальное было совершенно верно. Но прежде чем вы объясните мне свои выводы, я хотела бы спросить: почему вы сочли, что я была за границей?
— У вас на шее, — ответил он, — я заметил пару пятнышек, очень похожих на комариные укусы. Я часто наблюдал такие пятнышки и знаю, что если они когда-то были септичны, то сохраняются как слабые метки на коже в течение нескольких лет. Вот почему я решил, что вам на каком-то этапе довелось побывать за границей. Я предположил Индию, оценив ваше ожерелье и серьги. Они явно сделаны там, и я подумал, что такого рода ювелирные изделия редко встречаются в Англии.
— После такого объяснения, — улыбнулась я, — я почти почувствовала себя виноватой, что никогда не была за границей. Однако вряд ли моя жизнь располагала к этому. А пятнышки, которые вы заметили, — просто аллергия на скверный лондонский воздух.
— Так, значит, вы воспитывались вдали от столицы?
— Да, — кивнула я, — под Уитби, в Йоркшире. Я там провела двадцать два года, а в Лондоне живу с тех пор, как полтора года тому назад вышла замуж за Джорджа.
— Ясно!
Нахмурившись, он вновь принялся изучать пятнышки у меня на шее.
— А украшения? — наконец спросил он.
Я подняла руку и потрогала ожерелье. Вы наверняка видели его, дорогая Люси! Прелестная вещица из мастерски выточенных капелек золота, которая значит для меня гораздо больше, чем стоит.
— Эти украшения, — произнесла я, — подарил мне дражайший Джордж.
— На свадьбу, наверное?
— Вот и нет. На день рождения.
— Дану!
— Я увидела этот комплект на витрине в лавке. Мы были вместе с Джорджем, и он, наверное, запомнил мой восторг.
— Очаровательно!
Я поняла, что его интерес начал угасать. Глаза Элиота вновь закрылись, и я, побоявшись лишиться выигранного мною преимущества, предложила ему объяснить другие логические выводы, оказавшиеся столь замечательно точными.
— А остальное? — поспешила спросить я. — Можете вы рассказать мне, как пришли к своим заключениям?
— О, это просто.
— Значит, отсутствие благородных кровей написано на моем лице?
Доктор Элиот подавил смешок:
— Ваше воспитание, леди Моуберли, во всех отношениях безупречно. Но одно вас все же выдает. Вы носите брошку с гербом семьи Моуберли и браслет на запястье, сделанный в том же стиле. Совершенно очевидно, что эти украшения изготовлены достаточно давно. Одним словом, это фамильные украшения, и они — часть наследства Джорджа, а не вашего. В то же время вы явно привязаны к воспоминаниям о собственной семье. Так почему же вы не носите драгоценности из наследства вашего семейства? Вероятно, потому, предположил я, что на них нет герба, а вам приятнее надевать настоящие фамильные драгоценности, на которых этот герб есть.
— Боже, — пожаловалась я, — да у вас невысокое мнение о моем характере.
— Отнюдь, — добродушно рассмеялся доктор Элиот. — Но верно ли я рассудил?
— Совершенно точно, — согласилась я. — Хотя признаюсь в этом со стыдом. У вас все так просто получилось. Но не понимаю, как вы узнали о моей привязанности к памяти о семье. Вам, наверное, Джордж сообщил?
— Ни в коем случае, — покачал головой доктор Элиот— Просто я рассмотрел ваш зонтик.
— Мой зонтик?
— Позвольте мне сделать вам еще один комплимент, леди Моуберли. Я заметил, что ваше платье в точности отражает ваше богатство и вкус Однако зонтик несколько не соответствует всему остальному. Он явно старый, потому что на ручке его видна пара искусно замазанных трещин, а инициалы, вырезанные на дереве, не принадлежат вам. Было бы глупо предполагать, что вы не можете позволить себе купить новый зонт, значит, этот имеет для вас какую-то сентиментальную ценность. А когда я заметил тонкую черную ленточку, все еще привязанную в знак траура к его ручке, то моя уверенность окрепла и стала фактом. Так чей же это зонтик? Очевидно, он раньше принадлежал женщине старше вас, ибо сам по себе зонтик почти антикварный. Поэтому я сделал вывод, что это, наверное, зонт вашей матери.
Он помедлил, словно озадаченный рациональной холодностью своего голоса:
— Прошу принять извинения, леди Моуберли, если слова мои причинили вам боль.
— Нет-нет, — возразила я и, помолчав немного, чтобы собраться с мыслями и убедиться, что голос не выдаст меня, когда я заговорю вновь, продолжила: — Прошло почти два года, и я начала привыкать к утрате.
— Вот как? — нахмурился Элиот. — Значит, ваша мать так и не увидела, как вы выходите замуж? Жаль…
Я покачала головой, а потом в каком-то эмоциональном порыве рассказала ему, как мы с Джорджем поженились, как поклялись друг другу в вечной любви, когда ему было всего шестнадцать, а мне — двенадцать и он был сыном владельца поместья, а я — дочерью состоятельного человека, самостоятельно выбившегося в люди.
— Знаете, семья Джорджа, — сообщила я Элиоту, — потеряла большую часть своего состояния, и, имея виды на мое приданое, они были готовы посмотреть сквозь пальцы на неблагородное происхождение невесты.
— Неудивительно, — сардонически улыбнулся доктор Элиот. — Но простите мою настырность — а вас саму это устраивало?
— О да, конечно, — ответила я. — Поймите, доктор Элиот, Джордж был моим возлюбленным с очень давних пор. И когда моя мать умерла, к кому еще я могла обратиться?
— Но Джордж уехал из Йоркшира раньше вас, как я понимаю. Виделись ли вы с ним после этого?
— Не виделись лет шесть или семь.
— И все это время вы жили неподалеку от Уитби?
— Да. Матушка была очень больна. Мне пришлось ухаживать за ней, такая она была нервная и слабая.
Он мягко кивнул:
— Ну да, этим все объясняется.
— Что объясняется? — поинтересовалась я.
— Помните, — на губах его заиграла еле заметная улыбка, — я заметил, что вы, по-видимому, не любите высшее общество…
— Да, — промолвила я, ибо он был совершенно прав. Нахмурившись на мгновение, я безмятежно улыбнулась: — Ну конечно же, вы пришли к такому выводу, зная, что я провела молодость в далеком Йоркшире, — стало быть, я буду чувствовать себя неловко в салонах столицы. Как все просто!
— Да, именно так, — улыбнулся доктор Элиот. — За исключением того, что я ничего не знал о вашей юности.
— Не знали? Но… — Я озадаченно взглянула на него. — Но откуда вы?..
— О, все еще проще, чем вы предположили. Ваша рука, леди Моуберли!
— Рука?
— Точнее, правая рука. У вас брызги грязи на плече и рукаве. Значит, вы прислонялись к борту пролетки. Однако леди вашего положения должна выезжать в собственном экипаже. Тому, что вы не делаете этого, есть лишь одно объяснение: вы считаете затраты на содержание такого экипажа нецелесообразными. Отсюда следует, что у вас нет привычки часто выезжать на прогулку или в гости.
— Замечательно! — воскликнула я.
— Заурядно, — отозвался он.
— Вы абсолютно правы, — произнесла я (да вы это хорошо знаете, дорогая Люси, я еще не вполне приспособилась к городской жизни, столь отличной от знакомой мне с детства жизни в деревне). — Аллергическая реакция на скверный воздух в Лондоне в сочетании с природной застенчивостью сделали из меня фактически затворницу.
— Жаль слышать такое, — склонил голову доктор Элиот.
— У меня
есть несколько подруг в городе, но никого, кому бы я могла довериться.
— У вас есть муж.
— Да, сэр, — кивнула я, опустив голову. — Был.
На бесстрастном лице доктора Элиота не появилось ни тени каких-либо эмоций. Сомкнув кончики пальцев, он изогнул кисти рук и осел в глубины своего кресла.
— Надеюсь, вы понимаете, — медленно проговорил он, — что я ничего не могу обещать.
Я кивнула.
— Тогда, — сказал он, делая жест рукой, — леди Моуберли, пододвиньте ваше кресло поближе и расскажите мне все об исчезновении Джорджа.
— Это необычный рассказ, — промолвила я.
— Не сомневаюсь, — слегка улыбнулся он.
Я откашлялась. Облегчив душу, исполнившись внезапной надежды, я разнервничалась, дорогая Люси, как нервничаю сейчас, ибо рассказанное доктору Элиоту я должна повторить в письме к вам и боюсь, что подробности могут причинить вам большую боль. В рассказе моем речь пойдет о смерти вашего брата. Не вините Джорджа в том, что он скрыл от вас детали, дражайшая Люси, ибо я убеждена, что мотивы его станут ясны из моего рассказа. И действительно, только сейчас я могу рассказать вам обо всем, поскольку боюсь, что подобный ужас, может быть, довелось испытать и Джорджу. Но читайте — я уверена, у вас хватит сил узнать все, что до сих пор скрывали от вас.
— У моего мужа, — сказала я доктору Элиоту, — всегда были большие амбиции, поэтому он увлекся политикой.
— Амбиции, — пробормотал доктор Элиот, — но не способности, насколько я припоминаю.
— Это верно, — признала я. — Джордж считал повседневную политическую жизнь утомительной. Но у него были надежды, доктор Элиот, и благородные мечты, а я всегда знала, что, если ему дать возможность, он прославит свое имя. И, хотя Джордж мужественно боролся за продвижение своей карьеры, его усилия оказывались тщетны. Я видела, как болезненно он относится к провалам. Он никогда не признавался мне, но я знала, что его отчаяние усугубляется успехами нашего общего знакомого Артура Рутвена. Карьера Артура в Индийском кабинете была блестящей, и, хотя ему едва исполнилось тридцать, о нем говорили как об одном из самых блестящих дипломатов. Подробности мне не известны, но он отвечал за исполнение заданий очень деликатного и доверительного характера.
— Связанных именно с Индией? — прервал меня доктор Элиот.
Я кивнула.
— Отлично, — он снова закрыл глаза. — Продолжайте.
— Артур Рутвен, — продолжала я, — был очень хорошим другом — вряд ли мне нужно говорить вам об этом. Он знал о желании Джорджа выдвинуться в правительстве и, уверена, помогал ему, как мог. Не поймите меня неправильно, доктор Элиот. Артур всегда был живым воплощением. порядочности и такта Он бы никогда не пошел против своих убеждений и не совершил ничего недостойного. Но он мог перекинуться парой слов с министром, мог намекнуть кому нужно. Достаточно сказать, что примерно два года тому назад, незадолго до нашей свадьбы, Джордж наконец-то вошел в правительство.
— То есть его взяли в Индийский кабинет? — спросил доктор Элиот.
— Да.
— И каковы были его обязанности?
— Я не уверена… Это имеет значение?
— Если вы мне ничего не скажете, — резко заметил он, — то как я могу судить, важно это или нет?
— Мне известно, — медленно проговорила я, — что этим летом он должен был провести через палату общин какой-то законопроект. Он не обсуждал со мной свои дела, но, по-моему, речь шла о границах в Индии.
— О границах в Индии? — К моему удивлению, услышав это, доктор Элиот вдруг словно пробудился. Он наклонился вперед, и я заметила, что глаза его опять заблестели. — Поясните, — нетерпеливо произнес он. — О чем именно шла речь?
— Не могу сказать, — я беспомощно пожала плечами. — Джордж никогда не говорит со мной о своей работе. Ведь я всего-навсего его жена, доктор Элиот.
Он вновь осел в кресло с явно разочарованным видом.
— Но этот парламентский законопроект, — спросил он, — за который отвечал Джордж… Не знаете ли вы, не работал ли он над ним вместе с Артуром Рутвеном?
— Да, — ответила я. — В этом я совершенно уверена.
— Джордж как министр, а Артур как дипломат?
— Да!
— Хорошо. Это наталкивает нас на кое-какие предположения…
— Не понимаю вас, — поморщилась я.
Доктор Элиот с отчаянием взмахнул рукой:
— Ну же, леди Моуберли, если вашего мужа постигла судьба Артура Рутвена — простите за прямоту, но мы должны рассмотреть эту возможность, — нам нужно установить, что могло связывать этих двух мужчин. Оба они работали над законопроектом о границах в Индии. Я бы сказал, это довольно деликатный вопрос. Видите, леди Моуберли, какая интересная линия расследования сразу открывается перед нами?
— Да, — кивнула я. — Уверена, что вы правы.
Он с интересом взглянул на меня:
— Так у вас есть какие-либо еще сведения относительно этого?
Я проглотила комок в горле:
— Вы ищете то, что связывает этих двух мужчин. Что ж, доктор Элиот, связь есть. Имеет ли это отношение к работе Джорджа, я не знаю. Сам Джордж предполагал, что имеет, но, думаю, для него это было такой же великой тайной, как и для меня сейчас.
— Ага, — несколько сдержанно сказал доктор Элиот. Он откинулся в кресле и лениво махнул рукой. — Продолжайте, леди Моуберли.
Я снова проглотила комок в горле. Будьте готовы, Люси, ибо то, что вы сейчас прочтете, вам будет нелегко воспринять.
— Это случилось чуть больше года тому назад, — медленно проговорила я, — Артур приехал к нам на ужин…
И затем я описала доктору Элиоту то, что мы обсуждали в тот вечер: в основном, дорогая Люси, речь шла о вас и вашем намерении играть на сцене. Вспомните, как противился этому ваш брат, но все же к концу вечера он с восхищением смеялся над вашим стремлением и говорил так, словно собирался поддержать вас. «Вижу, Люси настроена стать Новой Женщиной, — сказал тогда Артур, — и не свернет с пути. Ибо всякая одержимость нерациональна, почти демонична, и мы заблуждаемся, если думаем, что ею болеют лишь молодые».
— Действительно, — проговорил доктор Элиот, который во время моего рассказа как будто дремал. — Помню, в колледже у Рутвена была своя всем памятная одержимость.
— И в чем она заключалась? — поинтересовалась я.
— Он был страстным коллекционером древнегреческих монет.
— Он еще собирал их, когда мы познакомились. Действительно, он часто заявлял в моем присутствии, что его коллекция непревзойденна.
— Занятно, — еле пробормотал доктор Элиот.
— Да. Мы тоже так подумали. Артур с готовностью признавал, что в его страсти присутствует нечто абсурдное, особенно если учесть, что в остальном он человек весьма здравомыслящий и сдержанный.
«Но я ничего не могу с собой поделать, — оправдывался он в тот вечер, — когда гоняюсь за монетой древнегреческой эпохи. Мне нужно поддерживать честь моей коллекции. И я, видимо, приобрел скандальную известность, поскольку, — он пошарил у себя в сумке, — сегодня мне был брошен вызов».
«Вызов? — помнится, воскликнул Джордж. — Какого черта вы имеете в виду?»
Артур слегка улыбнулся и вместо ответа положил на стол красную деревянную шкатулку. Он открыл ее, и мы увидели, что внутри находится кусочек картона, на котором что-то написано.
«Что это?» — удивленно спросила я.
«Посмотрите сами», — предложил Артур, передавая мне карточку.
Я взяла ее. Карточка была из картона высочайшего качества, но почерк на ней был неряшливый, чернила какие-то странные — темно-пурпурные, осыпающиеся хлопьями при малейшем прикосновении. Сама же записка показалась мне еще более странной, настолько странной, что я до сих пор отлично помню ее содержание.
«Сэр, вы дурак, — гласила записка. — Ваша коллекция ничего не стоит. Вы допустили, чтобы величайший из призов проскользнул у вас между пальцев». Подпись была проста: «Соперник».
Джордж взял записку у меня из рук и прочел ее, потом расхохотался, и вскоре мы присоединились к нему. Артур смеялся громче всех, хотя, думаю, гордость его была сильно задета. Мы спросили его, как он намерен ответить наглому сопернику. Артур покачал головой и вновь рассмеялся, но я была уверена, что он намерен распутать эту тайну. И за его смехом я почувствовала воинственность и решимость.
Через неделю я спросила Артура, узнал ли он, кто его соперник. Он не ответил на вопрос, а лишь, как всегда, сдержанно улыбнулся, но было видно, что тайна не дает ему покоя. И через две недели после этого Артур Рутвен исчез. Неделей позже труп, нагой и совершенно обескровленный, нашли плавающим в Темзе у Ротерхита. По словам Джорджа, вид у Артура был поистине ужасным.
Я перевела дух. Не открывая глаз, доктор Элиот сплел пальцы как будто в молитве.
— Из вашего рассказа, — произнес он наконец, — следует, что между исчезновением Артура и получением им незадолго до этого странной шкатулки существует какая-то связь.
— Да, — сказала я, прокашлявшись. — Когда Артура вытащили из реки, кулак его был плотно сжат. Пальцы разогнули, и на ладони оказалась монета., греческая монета.
— Интересно, — заметил доктор Элиот, — но это еще не доказательство.
— Монету оценили очень дорого.
— Вы сообщили полиции?
— Да.
— И что они?
— Они были очень вежливы, но…
— Понятно, — слегка улыбнулся доктор Элиот. — Так у вас не осталось шкатулки?
— Ее так и не нашли.
— Ясно, — кивнул доктор Элиот — Жаль. — Его глаза сузились. — Но коль скоро вы, леди Моуберли, сочли необходимым прийти сюда, осмелюсь предположить, что вам известно что-то еще.
— Да, известно, — прошептала я, опуская глаза.
И вновь, дорогая Люси, мне пришлось собраться с духом.
— Несколько месяцев тому назад, — медленно начала я, — на наш адрес пришла посылка. Внутри оказалась шкатулка…
— Такая же, как та, что получил Артур?
— Почти.
— Примечательно, — заявил доктор Элиот, потирая руки. — И там тоже была карточка, но теперь уже адресованная Джорджу?
— Нет, сэр. Карточка была адресована мне.
— Что ж, тем более интригующе. И что же было в записке, леди Моуберли?
— Записка была оскорбительная.
— Ну разумеется!
— Почему разумеется?
— Потому что записка, полученная Артуром, тоже была оскорбительной. А что было в вашей, леди Моуберли?
— Мне не хотелось бы об этом говорить.
— Нет уж, будьте любезны сказать. Я должен знать все факты.
— Что ж… — Я вздохнула и повторила записку по памяти: — «Мадам, вы слепы. Ваш муж вас не любит. Женщин у него хватает и без вас».
Я поперхнулась и замолчала.
— Вы совершенно правы, — мягко сказал доктор Элиот, — действительно оскорбительно… У вас с собой эта записка и шкатулка?
Я кивнула, достав шкатулку и передавая ему. Он осторожно взял ее, подошел к свету и внимательно осмотрел.
— Не ахти какая работа, — заключил он. — Явно для пересылки товаров… да… взгляните сюда… тут, под краской, что-то написано по-китайски… Думаю, это из доков, из порта…
Я покачала головой:
— Какое отношение кто-то из обитателей доков имеет к Джорджу или ко мне?
— Что ж, в этом и состоит тайна, не так ли?
Слегка улыбнувшись, он открыл шкатулку и вынул карточку. Но улыбка его тут же погасла, и он помрачнел.
— Тот, кто написал это, — промолвил он, — лучше владеет пером, чем хочет показать. Ибо буквы слишком уж небрежны. А писала это женщина — чисто женский стиль. Чернила же, как вы могли догадаться, — смесь воды и крови.
— Крови? — воскликнула я.
— Несомненно!
— Но… Вы уверены?.. Ну да, конечно, вы уверены…
Доктор Элиот нахмурил брови:
— Здесь ясно проступает намерение не только оскорбить, но и напугать вас.
Он снова осмотрел карточку, слегка пожал плечами и положил ее обратно в шкатулку.
— Вы показывали это мужу?
Я кивнула.
— И что он?
— Пришел в ярость… В дикую ярость…
— Он отвергал выдвинутые в записке обвинения?
— Решительно!
— А вы — простите за вопрос, леди Моуберли, — поверили ему?
— Да, сэр, поверила. Почему я должна была не поверить? Джордж всегда был прекрасным мужем, человеком с открытой душой. Если бы он изменял мне, я бы об этом знала.
Доктор Элиот медленно покивал.
— Хорошо… очень хорошо, — проговорил он, опускаясь в кресло. — Продолжайте, леди Моуберли. Что же случилось дальше?
— Спустя три дня после получения злосчастной шкатулки Джордж тоже исчез.
— Вот как? — Лицо доктора Элиота потемнело и напряглось. — Это был для вас, должно быть, ужасный удар.
— Признаюсь, я была напугана.
— И вы обратились в полицию?
— Нет, сэр. Я не могла, потому что боялась себе признаться, что его действительно нет в живых. И вдруг, после того как я провела две бессонные ночи, он вернулся! Бледный, с остекленевшими глазами… но это был мой милый Джордж, живой и невредимый. Однако его явно окружала какая-то тайна, ибо, едва я попыталась разузнать о причинах столь внезапного исчезновения, по лицу его пробежала тень и он попросил меня забыть, что куда-то уходил. Сон покинул меня, доктор Элиот, а Джордж, думая, что я заснула, частенько подходил к окну и выглядывал на улицу. Сам он подолгу ворочался в постели и бормотал во сне какие-то странные имена. И вот, недели через три после первого исчезновения он вновь пропал. Во второй раз он отсутствовал несколько дней, и к тому времени, как он вернулся, я почти сошла с ума. Я потребовала рассказать, что происходит, но Джордж увиливал от ответа. Впрочем, он намекнул, что тайна связана с его работой в правительстве. Каким образом — он не говорил, но у меня сложилось впечатление, что вокруг законопроекта, который он должен был провести через парламент и который занимал его внимание и время, сложился заговор. Джордж просил меня не беспокоиться и обещал, что когда-нибудь расскажет мне всю правду. Пока же мне придется мириться с его периодическими отлучками из дома и долгими часами работы в министерстве. Он просил у меня поддержки и понимания.
— И вы вняли его просьбам?
— Конечно.
— Отлучки еще случались?
— Время от времени.
— А работа в министерстве?
— Полагаю, шла великолепно. Вы, должно быть, не знаете о теперешней репутации Джорджа. Он слишком молод для своего поста. Таинственное поведение, связанное с продвижением законопроекта, показывало, что речь идет о его дальнейшей политической карьере. И все-таки… — Я заглянула в глаза доктора Элиота, ярко сверкавшие на его бледном лице. — И все-таки… я боюсь…
— Что ж, — резко сказал доктор Элиот, — это неудивительно. Насколько я понял, на этот раз он отсутствует больше недели?
— Неделю и один день.
— Это необычно?
— Да. Прежде он никогда не пропадал больше чем на четыре дня кряду.
— Поэтому вы пошли наперекор его просьбам и приехали ко мне искать помощи?
— Есть и другие причины.
— Да?
— Буду откровенной, доктор Элиот. Я боюсь худшего и в то же время опасаюсь за себя. Надеюсь, вы не сочтете меня сумасшедшей…
— Ну что вы! — запротестовал он. — Если вас это утешит, леди Моуберли, то вы показались мне исключительно здравомыслящей женщиной.
— Очень любезно с вашей стороны, — ответила я, — хотя в последнее время бывают моменты, когда я сама в этом сомневаюсь. Вот что случилось со мной прошлой ночью. Я поздно легла спать. Служанка помогла мне раздеться, я отпустила ее и некоторое время сидела в задумчивости, теряясь в догадках о том, где может быть Джордж, а потом встала и подошла к окну. Ночь была скверная, и я смотрела на сочащийся дождем лондонский пейзаж, словно отыскивая ключ, который может привести меня к Джорджу. До меня донеслись чьи-то приглушенные шаги по булыжнику. Я всмотрелась. В свете газового фонаря внизу стояли две фигуры — мужская и женская. Я увидела, что под плащом на джентльмене надет фрак. Лицо его было необычного цвета, заросшее черной густой бородой, и я догадалась, что он иностранец. Лица леди не было видно, она стояла спиной ко мне, в развевающемся черном плаще с капюшоном. Потом она повернулась, взяла мужчину под руку, и они пошли дальше. Уходя, дама обернулась и посмотрела вверх, как будто отыскивая взглядом меня. Я не могла разглядеть ее лицо, поскольку оно оставалось в тени капюшона, но на секунду отблеск фонаря попал ей на кожу, и она засветилась! Доктор Элиот, клянусь, кожа ее засветилась! Затем дама отвернулась, и они ушли, а я осталась, объятая непонятным ужасом. Я не могу это объяснить. Но все было, было на самом деле. И я чувствовала, что увидела нечто ужасное.
— Что именно показалось вам ужасным? Эта женщина?
— Я знаю, это звучит смешно…
— Да, — медленно произнес он, — но и интригующе тоже.
— Вы не считаете меня сумасшедшей?
— Наоборот… Вы можете рассказать что-нибудь еще? Итак, вы все-таки легли спать…
— Да, я приняла лекарство.
— Успокоительное?
— Да.
— И что это было за лекарство?
— Настойка опия.
Доктор Элиот медленно кивнул:
— Простите, леди Моуберли. Вы легли спать…
— Да. И спала хорошо. Я всегда хорошо сплю. Но в четыре часа ночи меня разбудил бой церковных часов. Я снова погрузилась в сон, однако на этот раз он был беспокойным. И вдруг я вновь проснулась, открыла глаза, и… кровь застыла у меня в жилах. Эта женщина… Я сразу узнала ее, ту самую, с улицы… Она находилась у меня в комнате и наблюдала за мной! На ней был надет тот же плащ, но капюшон был откинут, и на меня смотрело самое прекрасное лицо из всех, какие мне только пришлось когда-либо видеть. В то же время это было самое ужасное лицо!
— В чем именно заключался его ужас?
— Не могу сказать. Но оно наполнило меня страхом. И, глядя на него, я была абсолютно парализована.
— Вы заговорили с ней?
— Пыталась, но не смогла. Не могу объяснить это, доктор Элиот. Боюсь, вы сочтете меня слабоумной.
Элиот вскинул голову:
— Опишите незнакомку.
— Она была… трудно сказать, каков ее возраст… может, молодая, но… нет. — Мой голос почти замер. — Мне показалось, что она… вне времени и вне возраста… У женщины были темные длинные волосы — мне почему-то они показались именно такими, хотя об этом трудно было судить, ибо они скрывались под плащом. Лицо ее было очень бледным и будто освещалось каким-то пламенем изнутри. Губы были ярко-алыми, а глаза — темными и блестящими.
— Темными и блестящими одновременно?
— Да.
— И что же делала эта замечательная женщина?
— Ничего. Просто стояла и смотрела на меня. А потом вдруг улыбнулась, повернулась и вышла из моей комнаты. Через открытую дверь я увидела, как она словно плывет к лестнице.
— Вы двинулись за ней?
— Не сразу. Говорю вам, меня парализовало. Но наконец я собрала всю свою решимость, встала с постели, подошла к двери и вышла на площадку лестницы, спускающейся в холл. Женщина стояла внизу, у нижней ступеньки, накидывая капюшон. Затем отворилась дверь кабинета моего мужа, и оттуда появился этот джентльмен-иностранец. Под мышкой у него была пачка бумаг.
— Иностранец… Опишите его.
— Крупный, чернобородый, как я говорила, смуглый…
— И что он сделал? Подошел к женщине?
— Да Она, кажется, заговорила с ним, хотя слов я не расслышала. А потом они оба повернулись и посмотрели на меня. Лица их были какие-то пустые, а глаза горели ужасным огнем.
Доктор Элиот нахмурился еще больше:
— И что же дальше?
— Женщина взяла его под руку. В другой руке он держал бумаги. Парочка повернулась и прошла через холл. Я бросилась вниз по лестнице и увидела, что они выходят через открытую парадную дверь. Я выбежала на улицу, взглянула в обе стороны, но их и след простыл. Они будто растворились в свете раннего утра. Я вернулась в дом и разбудила прислугу. Мы тщательно осмотрели все комнаты, но следов взлома нигде не нашли. Даже в кабинете моего мужа ни один ящик, ни один шкаф не был взломан.
— Вы сказали об открытой парадной двери. Ее взломали?
— Нет, насколько я заметила.
— А окна?
— Вряд ли. Хотя точно не знаю.
— Тогда как же они вошли, леди Моуберли?
— Признаюсь, это и озадачивает меня. В первые часы после случившегося я думала, что стала жертвой какой-то галлюцинации, возникшей в моем истощенном волнениями мозгу. «Может, я схожу с ума?» — спрашивала я себя. А потом принесли утреннюю почту. Среди писем было одно без марки. И боюсь, доктор Элиот, что я совсем не сумасшедшая.
Письмо было у меня с собой. Я вынула его и передала доктору Элиоту. Доктор прочел письмо, и лицо его потемнело. Да, Люси, это была та самая, написанная заглавными буквами, записка, о которой я уже упоминала: «Я — СВИДЕТЕЛЬ УБИЙСТВА ДЖ.».
Доктор Элиот изучил записку, встал и подошел к лампе на своей конторке.
— Так я и думал, — сказал он, поворачиваясь спиной ко мне, — эту записку явно послала женщина.
— С чего вы это взяли? — спросила я, вставая.
Он указал на какие-то мазки на задней стороне конверта:
— Это пудра. Записку писали на туалетном столике, на который, бывает, просыпается косметика. Видите, вот тут следы отчетливее всего. Я бы сказал, что писавшая часто и помногу пудрит свое лицо.
Он повернул конверт к свету.
— Да, — показал он на отметину ближе к краю. — Видите, как лоснится? Это след косметики. Доказательство неоспоримо.
Неоспоримо, дорогая Люси. Я была готова признать правоту слов доктора. Но кого из женщин могла я заподозрить в написании этого письма? Одну я не отваживаюсь упомянуть, другая же — это вы. Люси, я в отчаянном положении и должна говорить напрямик. У меня нет знакомых актрис, кроме вас. Тем более я не знаю никаких актрис, которые состояли бы в интимных отношениях с Джорджем. Признайтесь, это вы написали мне записку? Я понимаю, вы не испытываете ко мне дружеских чувств, но Джорджа вы любите, и от его имени я взываю к вам. Если это не вы писали мне, то я должна опасаться самого худшего — того, что Джордж мертв и что незадолго до убийства он изменял мне. Однако не могу поверить, что он был способен на такое. Не могу! Поэтому я обращаюсь к вам. Вы писали это письмо? И если да, то прошу вас, Люси, помогите доктору Элиоту!
Должна сказать вам, что он согласился заняться этим делом. Я упомянула ваше имя в связи с письмом, и он наверняка вскоре навестит вас. Не бойтесь его. Даже если это писали не вы, уверена, вы сможете быть ему полезной. Я посвятила вас во все подробности тайны, поскольку считаю, что пришло время открыть вам правду и что в ваших силах помочь распутать это дело. Не отвергайте мою просьбу, дражайшая Люси, ради Джорджа и себя самой.
Остаюсь, хотя вы и не верите этому, вашей дражайшей подругой.
Розамунда, леди Моуберли.
Р. S. Дописываю поздно вечером. Только что меня навестил доктор Элиот. Я удивилась, увидев его. Когда я была у него утром, он сказал, что ему нужно некоторое время, чтобы разобраться с делами в клинике, но, как оказалось, освободился быстрее, чем предполагал.
— Ллевелин, мой коллега по клинике, уезжал на три недели, — сказал он, когда лакей принял его шляпу. — Теперь он вернулся и может подменить меня на несколько дней.
Я удивленно взглянула на него:
— Вы думаете, этого времени будет достаточно?
— Увидим, — пожал он плечами и оглядел холл.
Я догадалась, что он хочет осмотреть кабинет Джорджа, и показала ему, куда идти. Несколько минут он рыскал по кабинету, словно гончая, вынюхивающая добычу.
— Что ж, — хмыкнул он наконец. — Следов проникновения через окна не видно, но вот это, — он указал на поверхность конторки, — представляет некоторый интерес.
Я посмотрела туда, куда он указывал, но не увидела ничего необычного.
— Полагаю, — продолжал доктор Элиот, — с прошлой ночи вы запретили слугам входить сюда?
— Я хотела оставить все так, как застала.
— Отлично! — воскликнул он. — Чересчур добросовестная горничная может погубить жизнь сыщика. А теперь посмотрите внимательно, леди Моуберли. На конторке очень тонкий слой пыли, ровный везде, кроме этого места. Видите? Прямоугольник точно совпадает с размерами вон той красной шкатулки.
Он подошел к столу, на котором стояла одна из шкатулок с правительственными документами Джорджа.
— Очевидно, ее вчера ночью сдвигали с места, и, следовательно, она была предметом внимания ваших непрошеных гостей. Что в этой шкатулке?
— Бумаги Джорджа.
— По законопроекту о границах в Индии?
— Полагаю, что так.
— Что ж, посмотрим! — Доктор Элиот нажал защелку шкатулки. — Заперто. — Он осмотрел шкатулку. — Опять-таки никаких следов взлома.
— Может быть, взломщика спугнула сообщница, прежде чем он успел открыть шкатулку?
— Может быть, — нахмурился доктор Элиот. — У вас есть ключ?
— Нет.
— Ну, раз так… — Он пошарил в кармане. — Думаю, Индийский кабинет простит меня.
В руках у него оказался кусок проволоки, который доктор вставил в замок, повернул, подергал, и после нескольких неудачных попыток замок поддался. Доктор Элиот улыбнулся.
— В Лахоре воры клянутся этим маленьким инструментом, — сообщил он, пряча в карман свой «ключ» и открывая крышку шкатулки.
Он отшатнулся, а я вскрикнула. Представьте мой ужас, Люси, — шкатулка была пуста! Бумаги исчезли!
Доктор Элиот казался, однако, удовлетворенным.
— Этого и следовало ожидать, — проговорил он, обводя взором кабинет. — Сомневаюсь, что мы найдем тут что-нибудь более интересное, леди Моуберли. Так что теперь, с вашего разрешения, мне хотелось бы осмотреть вашу спальню.
Все еще ошарашенная масштабами только что раскрытого нами преступления, я провела доктора наверх. И снова доктор Элиот начал рыскать по комнате. У туалетного шкафчика он остановился и нахмурился, затем взял в руки склянку с лекарством.
— Это помогает вам справиться с лондонским воздухом? — спросил он.
Я сказала, что да.
— Но пузырек полон, — заявил он почти обвиняюще.
— Да, я только начала им пользоваться.
— Когда?
— Вчера вечером.
— У вас остался пузырек от лекарства, которое закончилось до этого?
— Горничная, наверное, выбросила его.
— А можно его извлечь?
Я вызвала звонком горничную и приказала ей принести пустой пузырек.
— Вы подозреваете, что кто-то пытался одурманить меня? — спросила я доктора Элиота, пока мы ждали.
— Таинственная женщина разбудила вас как раз в ту самую ночь, когда вы сменили лекарство. Подозрительно, не так ли?
— Что вы предполагаете, доктор Элиот?
Он оставил мой вопрос без внимания:
— Вы ведь всегда спали крепко, кроме прошлой ночи?
Я подтвердила его слова.
— Но зачем кому-то понадобилось одурманивать меня? — настаивала я.
— Что-то в этом доме представляет большую ценность для наших незнакомцев, — пожал плечами он.
— Бумаги Джорджа?
На его тонких губах появилась улыбка. Я поинтересовалась, приблизился ли он к раскрытию тайны.
— Кое-какой свет, возможно, блеснул, — ответил он, — но я могу ошибаться, ведь мы только начали, леди Моуберли.
В этот момент вошла служанка с пустым пузырьком. Элиот осторожно взял его, посмотрел на свет и попросил разрешения взять и тот пузырек, из которого я принимала лекарство. У меня полно этого зелья, и я охотно согласилась, спросив, что еще могу сделать.
— Ничего, ничего, — промолвил он. — Я видел все, что необходимо.
Он повернулся, и я проводила его до двери. Уже на выходе он вдруг задержался.
— Леди Моуберли, — сказал он, повернувшись ко мне, — должен задать вам еще один вопрос… Ваш день рождения… Он пришелся как раз на один из дней сразу после первого исчезновения Джорджа, не так ли?
Я с удивлением взглянула на него:
— Ну да… Точнее, на день после его возвращения. Но я не понимаю, почему…
Он сдержал меня движением руки.
— Я вам сообщу, как пойдет дело, — пообещал он, повернулся и, не оглядываясь, зашагал по улице, а я провожала его взглядом, пока он не исчез вдали, и гадала, какой же след ему удалось обнаружить.
Я размышляю об этом до сих пор. Из окна своей спальни я вижу пустынную улицу. Часы на церкви только что пробили два. Пора ложиться спать. Надеюсь, что усну. Чувствую сильную усталость. Мне кажется, что тайна разрослась до огромных размеров. Но, может быть, дражайшая Люси, для вас она перестанет быть тайной. Мне остается только надеяться на это и верить, что вскоре все обернется к лучшему. Спокойной ночи. Вспоминайте о Джордже и обо мне в ваших молитвах.
Роза.
Письмо почтенного Эдварда Весткота мисс Люси Рутвен
Лондон, Постоялый двор Грея.
14 апреля 1888 г.
Дражайшая Люси!
Для меня невыносима мысль о том, как вы страдаете. Я знаю, вас тревожит какая-то ужасная тайна, и все же, дорогая моя, между нами не должно быть секретов. Вы сделали меня счастливейшим человеком на Земле, в то время как сами, напротив, столь несчастны, что это причиняет мне боль. Леди Моуберли опять выкинула одну из своих штучек? Или вновь восстают фантомы вашего прошлого? Вчера ночью во сне вы упоминали Артура. Но ваш брат мертв, так же как мертвы мои мать и сестра. Нам надо смотреть вперед, любовь моя. Что было, то прошло навсегда. Перед нами будущее.
Прежде всего, дражайшая Люси, вы не должны позволять себе отвлекаться сегодня вечером Только подумать, первое выступление в «Лицеуме»! На одной сцене с мистером Генри Ирвингом! Не многие актрисы могут этим похвастать! Уверен, вы станете звездой Лондона! Я буду так горд, дорогая. Удачи, удачи, удачи и еще раз удачи, дорогая Люси. Вечно любящий вас
Нэд.
Повествование, оставленное Брэмом Стокером и датируемое началом сентября 1888 года
Без малейших трудностей вспоминаю я события, о которых должен здесь поведать, ибо сами по себе они были столь поразительны и примечательны своим завершением, что произведут впечатление на любого. Однако есть у меня дополнительные причины оставить о них память, ибо случилось так, что в то время я искал хороший сюжет, который можно было бы переделать в пьесу или (кто знает?) даже в роман. В начале апреля, сразу откроюсь вам, сложились весьма особые обстоятельства.
Известный актер, у которого я управляю театром, мистер Генри Ирвинг, только что вернулся из успешного турне по Соединенным Штатам. Завоевав Америку, он теперь готовился вновь сорвать лавры в Лондоне, в великом храме искусства — театре «Лицеум». Мистер Ирвинг и я решили на открытие летнего сезона поставить «Фауста», самый впечатляющий спектакль, остающийся неувядающим фаворитом лондонских зрителей. Постановка, однако, не была премьерой, как и пьесы, которые мы наметили на более позднее время в сезоне. Мистер Ирвинг сам это хорошо знал и в разговоре со мной сознался, что сожалеет об этом. Прошло много вечеров, когда мы встречались за бифштексом и бокалом портера для обсуждения новых ролей, которые мог бы сыграть мистер Ирвинг, и много таких вечеров еще предстояло. В эти апрельские вечера мы, впрочем, не смогли найти ничего подходящего. Наконец я предложил, что сам напишу новую пьесу. К сожалению, мистер Ирвинг лишь посмеялся над этим предложением и назвал его «ужасным», но тем не отбил у меня охоту. Наоборот, с этого времени я начал носиться в поисках возможной темы и неустанно фиксировал в своих записках разные необычные события и идеи, пришедшие мне на ум.
Должен сознаться, однако, что несколько недель я занимался этим без особого вдохновения. Моя дорогая женушка приболела, добавьте к этому домашнему кризису нагрузки на любого управляющего театром перед открытием сезона, и, думаю, провал моих литературных потуг можно извинить. Сезон у нас должен был открыться 14-го, и по мере приближения этого дня время мое принадлежало мне все меньше и меньше. Наконец наступило 14-е число, и, как часто бывает в эпицентре бури, я с удивлением почувствовал вокруг себя внезапную тишь. Я сидел у себя в кабинете, зная, что сделал все, что мог, и в то же время задаваясь вопросом, хватит ли этого. Но я мог только ждать и надеяться на лучшее. Тогда-то и передали мне визитную карточку некоего доктора Элиота.
Я взглянул на визитку. Имя на ней мне ни о чем не говорило. Но я пребывал в таком расположении духа, что приветствовал любой предлог отвлечься, и потому попросил пропустить доктора Элиота. Он, видимо, ждал за дверью, ибо сразу вошел, словно по срочному делу. В облике его проступали решимость и в то же время спокойствие. Воистину, он казался абсолютно непроницаемым, что весьма примечательно в столь молодом человеке, поскольку ему было не больше тридцати. И все же я мог представить себе, какую власть он имеет над своими пациентами.
Он присел к моему столу и взглянул мне прямо в лицо, будто стараясь проникнуть в самые глубины моих мыслей.
— У вас тут есть такая актриса… мисс Люси Рутвен, — резко сказал он.
Я признал этот факт:
— Она должна играть в постановке «Фауста» сегодня вечером.
— Большую роль?
— Нет, но и не малую. Она очень молода, доктор Элиот. И очень хорошо играет, так что заслужила эту роль.
Он лукаво прищурился:
— Так вы восхищены ее талантом?
— О да! — согласился я. — Замечательная актриса!
Я запнулся и вдруг покраснел, подумав, что мой энтузиазм можно истолковать превратно. Но доктор Элиот не заметил моего смущения.
— Мне надо с ней поговорить, — сообщил он. — Сейчас ее в театре, видимо, нет?
— Нет, — ответил я. — До четырех она не появится. Впрочем, если хотите оставить ей записку, я проведу вас к ней в гримерную.
Элиот склонил голову:
— Было бы весьма любезно с вашей стороны!
Он поднялся и последовал за мной по лестницам и узким коридорам театра.
— Пришлось потрудиться, чтобы найти мисс Рутвен, — заметил он. — Мне сообщили, что юридически она находится под опекой сэра Джорджа Моуберли. Однако выяснилось, что она у него не проживает.
— Не проживает, — согласился я. — Не знаю, известно ли вам, что она стала подопечной сэра Джорджа после печальной кончины ее брата, Вы, может быть, слышали об убийстве этого бедного джентльмена?
— Да-да! — торопливо закивал Элиот, словно не желая обсуждать эту тему. — Но разве не странно, что мисс Рутвен сейчас не живет у сэра Джорджа? Сколько ей лет?
— Полагаю, всего восемнадцать.
— Тогда вы правы, действительно молоденькая… Я навестил семью Моуберли вчера вечером. И мне показалось, что при упоминании о мисс Рутвен тон леди Моуберли стал весьма холодным… Боюсь, между ними возникла какая-то неприязнь.
Это было сказано с вопрошающей интонацией в голосе, и я кивнул в ответ:
— Думаю, вы правы… Вероятно, леди Моуберли не одобряет намерения мисс Рутвен выступать на сцене.
— Признаюсь, я и сам был слегка удивлен. Видите ли, я хорошо знал ее брата. Они из очень хорошей семьи.
— Да, — нахмурился я, — именно поэтому она играет здесь, в «Лицеуме», где мистер Ирвинг столько сделал для поднятия престижа актерской профессии.
— Прошу вас, — торопливо заговорил он, — не сочтите за оскорбление, но признайте, мистер Стокер, редко у девушек ее происхождения возникает желание играть на сцене.
— Не уверен, доктор Элиот. Хотят многие. Однако мало кто отваживается осуществить такое желание.
— Да, — промолвил он после некоторого раздумья. — Возможно, вы правы.
— Доктор Элиот, мисс Рутвен — девушка с крепким характером и большой целеустремленностью. У нее, если можно так выразиться, мужской ум, но сердце и природная чистота истинной женщины. Она украшает сцену и прославит имя своего рода Не бойтесь за нее, доктор Элиот. Она — личность замечательная во всех отношениях.
Элиот медленно покивал головой. Я вновь покраснел, поперхнулся и заторопился дальше по коридору. Элиот молча шел за мной до самых гримерных.
— Вот мы и пришли, — заключил я, доставая из кармана ключи. И тут заметил, что дверь в комнату мисс Рутвен слегка приоткрыта.
— Вам повезло, — повернулся я к Элиоту. — Она уже пришла.
— Странно, — удивился он, — что она сидит в темноте.
И он оказался совершенно прав — в комнате действительно было темно. Почему-то мы оба несколько замешкались у двери. Меня охватило какое-то странное предчувствие, чего — не могу сказать… Не страх, а какая-то вроде неуверенность, и, переговорив позднее со своим спутником, я узнал, что и он испытал нечто подобное. Я заметил, что его впалые щеки вспыхнули. Он взглянул на меня и слегка нажал на дверь.
— Люси! — позвал он, тихо постучав. — Люси!
Медленно он распахнул дверь, и я вслед за ним вошел в гримерную.
Элиот потянулся к лампе, чиркнула спичка, и комната озарилась мягким оранжевым светом. Высоко подняв лампу, Элиот всмотрелся во что-то позади меня. Лицо его потемнело. Я обернулся и отшатнулся, ибо там, в кресле, возлежал какой-то мужчина.
Это был молодой человек очень привлекательной наружности, с тонкими чертами лица и курчавыми черными волосами. Глаза его были закрыты, и сидел он столь неподвижно, щеки его были столь бледны, что я счел бы его трупом, если бы не легкое трепетание ноздрей, словно он принюхивался к какому-то изысканному аромату. Молодой человек медленно открыл глаза, и они засверкали. Меня загипнотизировал его взгляд, он напомнил мне чем-то взгляд Генри Ирвинга, но был холоднее и какой-то нерешительный, как будто выражал великое отчаяние и гордость, которые не смог бы сыграть актер. Молодой человек заметил мое смущение, ибо по полным красным губам его пробежала легкая улыбка, и тяжело поднялся на ноги. Под длинным плащом на нем был дорогой, отличного покроя костюм.
— Боюсь, я удивил вас, — сказал он. — Разрешите извиниться.
Голос у него был очень музыкальный и такой же гипнотический, как взгляд.
— Приехал навестить кузину, двоюродную сестру, — продолжал он, протягивая руку. — Меня зовут Рутвен, лорд Рутвен.
Я пожал ему руку. Она была холодна как лед.
— Очень приятно, — поклонился Элиот, в свою очередь пожимая руку лорда Рутвена. — Я был другом Артура, вашего старшего двоюродного брата.
По лицу лорда Рутвена пробежала тень.
— Я его никогда не знал, — проговорил он. — Он ведь умер, не так ли?
— При весьма прискорбных обстоятельствах, — ответил Элиот.
— Да, я слышал об этом, — признался лорд Рутвен. Глаза его сузились и слегка моргнули. — Я всю жизнь прожил за границей и лишь недавно вернулся в Англию. В число отличительных черт настоящего путешественника входит то, что родственники мало значат для него. Но иногда… даже родственники могут удивить. Например, — он взял конверт со столика, — оказалось, что у нас в семье появилась актриса Это более чем удивительно. Это романтично!
Он вскрыл конверт и вынул театральную программку с гербом театра «Лицеум». Лорд Рутвен передал мне программку, и я увидел, что фамилия мисс Рутвен в ней подчеркнута красным.
— Мне ее прислали сегодня.
Элиот оторвал взгляд от листка, который изучал из-за моего плеча.
— Ах, вот как, — нахмурился он. — А кто?
— Подписи не было.
— А конверт? На нем было что-нибудь написано?
Лорд Рутвен поднял брови:
— Нет… Его оставили для меня в клубе. — Он слегка улыбнулся. — А почему вас это столь занимает, сэр?
Элиот пожал плечами:
— Просто интересно было бы знать, кто послал его, вот и все.
— О, тут, должно быть, нет никакой тайны. Несомненно, послала письмо сама милейшая мисс Рутвен… Вот почему я жду тут. Я решил прийти на представление сегодня вечером, и мне нужна отдельная ложа. Раз уж моя кузина до сих пор не объявилась, может быть, вы мне поможете?
— Боюсь, милорд, ваша просьба невыполнима, — признался я. — Помилуйте, открытие сезона, свободных лож просто нет.
— Разве? — произнес он спокойным тоном, в голосе его не было никакой угрозы, но, несмотря на это, не знаю почему, меня вдруг охватил страх.
Человек я крупный, сильный и не трус, однако я вдруг почувствовал, что дрожу как лист. Красота лорда Рутвена казалась ослепительной и в то же время отталкивающей. Красота змеи, смертельной и жестокой. Он вытягивал из меня всю силу — я отер выступивший на лбу пот.
— Однако, — тихо пробормотал я, — какие-то места наверняка найдутся.
— Отлично, — приятным голосом промолвил, вставая, лорд Рутвен, и мое чувство ужаса куда-то улетучилось. Он подошел к двери. — Где вы оставите для меня билет?
— На слркебном входе, милорд. — Я оглянулся на Элиота, который сидел за столом и что-то писал. — Вы можете попросить мисс Рутвен оставить для вас записку там же, доктор Элиот.
— Доктор Элиот? — На бледном лице лорда Рутвена промелькнула искра интереса— Вас так зовут?
— Да, — наморщил лоб Элиот. — А что, мое имя вам что-то говорит?
Лорд Рутвен не ответил. Он улыбнулся и, пожав плечами, отвернулся. А поворачиваясь, задел один из костюмов мисс Рутвен. К моему удивлению, лицо его вдруг ожило — на щеках заиграл румянец, глаза вспыхнули огнем, а ноздри вновь начали раздуваться, словно он вдохнул какое-то благовоние, но, когда он вышел, я поднес костюм к носу, нюхнул и ничего не почувствовал.
— Сумасшедший какой-то! — заметил я, обращаясь к Элиоту.
Элиот ничего не сказал, уставившись на дверной проем, за которым только что исчез лорд Рутвен. Затем он обвел взглядом гримерную мисс Рутвен, нахмурился и вернулся к своим записям, а я не хотел ему мешать, ибо мне надо было спешить обратно, в свой кабинет. Элиот недолго писал записку. Закончив, он поднял ее и подержал перед светом, словно изучая, после чего оставил ее прислоненной к настольной лампе. Мы вернулись в коридор и в полном молчании пошли обратно через театр. Я показал Элиоту, где служебный вход, и расстался с ним.
Вскоре я совсем забыл о нем, ибо не успели мы расстаться, как начал подниматься прилив того, что называется открытием сезона, и вскоре волны его унесли меня. У меня не было времени размышлять о странности сегодняшних событий. Проходя мимо мисс Рутвен, я вспомнил о докторе Элиоте: интересно, к какому соглашению они пришли? Но не остановился и не стал спрашивать. Одно мне было известно: Элиота на спектакле не будет. Когда я его спросил об этом, он сказал, что не относится к числу больших любителей театра и вообще всего выдуманного.
Но то, как давали «Фауста» в вечер открытия сезона, захватило бы даже Элиота Это был ошеломляющий триумф, и главные аплодисменты достались, как всегда, мистеру Генри Ирвингу и мисс Эллен Терри. Впрочем, те, что снискала мисс Люси Рутвен, отстали не намного. Она стала открытием если не для меня, то для
публики, и после спектакля все говорили только о ней. У служебного входа я увидел лорда Рутвена и поинтересовался, что он думает об игре своей кузины. Он беседовал с Оскаром Уайльдом, но прервал разговор, когда я к ним подошел, и слегка улыбнулся.
— Брэм! — позвал Уайльд, тоже заметив меня. — Брэм, дорогой! Ваша юная актриса мисс Рутвен… слышал, это ее первая ведущая роль? Отказываюсь поверить! Только годы репетиций и старания режиссера могли научить ее выглядеть столь триумфально неиспорченной!
Я склонил голову:
— А вы, лорд Рутвен? Вам понравилась игра вашей двоюродной сестры?
— О, необычайно! — Глаза его заблестели. — Она была очаровательна! Однако я совершенно не согласен с вами, мистер Уайльд. У нее тот редкий тип свежести, который не назовешь позой. Она, конечно, увянет, ибо девушка такой красоты и, несомненно, ума быстро поймет, что стиль превыше истины, но пока, — глаза его вновь блеснули, — это было восхитительное зрелище…
Он прервался и посмотрел мне за плечо.
— Кстати о Люси, — пробормотал он, — вон идет еще один поклонник.
Я обернулся и обнаружил, что по лестнице поднимается Элиот.
— Поклонник? — переспросил я.
— Я так понял, — улыбнулся лорд Рутвен. — Иначе зачем еще мужчины навещают актрис?
Я нахмурился, еще раз оглянувшись на Элиота. Он уже поднялся и задержался явно в нерешительности, не зная, в какую дверь войти. Я извинился перед лордом Рутвеном и Уайльдом и протолкался сквозь толпу к Элиоту. Увидев меня, он направился мне навстречу.
— Мистер Стокер, — спросил он, — как бы мне пройти?..
— В гримерную мисс Рутвен? — уточнил я. — Сюда Через сцену.
— Мне не нужны сопровождающие. Я помню дорогу.
— Нет-нет, — промолвил я, — меня нисколько не затруднит пройти с вами.
— Что ж, весьма признателен.
Я провел его к сцене.
— Вы пропустили замечательный спектакль! — заметил я, думая о том, как сказать то, что я собирался сказать.
— Да, говорят, — ответил он. — Вроде мисс Рутвен имела триумфальный успех?
— Да, — коротко отрубил я.
Элиот улыбнулся:
— Слышал, она стала любимицей?
— Да, — повторил я еще более отрывисто, резко остановился и повернулся к нему. — Доктор Элиот…
— Да?
— Я должен вам. сказать…
— Что именно?
— Должен вам сказать… э-э… мисс Рутвен… ее сердце… буду откровенен… уже принадлежит другому.
Он уставился на меня, и постепенно хмурое выражение его лица сменилось удивленной улыбкой.
— Дорогой мой, — заговорил он, расхаживая по сцене, — вы заблуждаетесь относительно сути моего интереса к мисс Рутвен.
— Разве?
— Да, уверяю вас. — Он подавил смешок. — Мозг мой открыт лишь для размышлений и подсчетов. Его никогда не занимал слабый пол По сути дела, это машина. Будьте уверены, мистер Стокер, я никому не соперник.
В глазах его все еще вспыхивали искорки, словно он увидел нечто забавное.
— Но скажите, кто этот счастливец?
— Какое у вас дело к мисс Рутвен? — в ответ спросил я. — Вы хотите помочь ей?
— Если смогу. А почему вы решили, что ей требуется моя помощь?
— Потому что, — со вздохом произнес я, — последнее время ее что-то гнетет, доктор Элиот. Она боится.
— И сейчас? — На щеках его появился румянец интереса. — Думаете, это связано с ее любовными делами?
— Я бы не сказал.
— Не сказали, но подумали… Что ж, если это имеет отношение к делу, мисс Рутвен, вне сомнений, сама мне обо всем расскажет. А моя задача — узнать.
К этому времени мы подошли к гримерной мисс Рутвен. Дверь была распахнута настежь. Элиот постучал и вошел.
— Люси? — позвал он. — Надеюсь, не помешал?
Она сидела у зеркала, почти скрытая большими букетами цветов, и поправляла шляпку на собранных в косу золотых кудрях. В лице девушки было еще столько детского, что ее голубые глаза вначале показались нервными, как у фавна, но когда она узнала нас, ее свеженькое личико просияло от счастья.
— Джек Элиот… — прошептала она— Это вы, Джек?
Она протянула руки вперед.
Доктор Элиот поцеловал кончики ее пальцев, затянутых в белые перчатки.
— Замечательно, что мы опять встретились, — засмеялась она, — после… ух… стольких лет! — Она отступила и присела в элегантном книксене. — Ну как, я выросла, милый Джек?
— Да уж, вымахала, — согласился доктор Элиот. — Ты теперь настоящая дама!
Мисс Рутвен рассмеялась и повернулась ко мне:
— Видите ли, мистер Стокер, он и в глаза меня не видел с тех пор, как я заплетала косички, играла в куклы и маялась скверными зубами.
Элиот покачал головой.
— Ну же, Люси, не самоуничижайтесь! Вы и ребенком были столь же прекрасны, сколь милы сейчас.
— Ах, вы, оказывается, льстец, Джек Элиот! Но я все помню! Он всегда был холодный как рыба, мистер Стокер. Женщин он считал слишком ветреными.
Элиот слегка улыбнулся:
— Я вам это говорил?
— Да, и весьма торжественно, а мне было тогда всего двенадцать. Вы знаете, что Артур… — Улыбка слетела с ее губ, — Артур, мой брат, мистер Стокер… — Она собралась с духом, и легкий румянец вновь прилил к ее щекам. — Артур называл Джека ходячими счетами.
— Очень лестно! — поклонился Элиот.
— И вы все еще сохранили ваши способности к подсчетам, а, Джек?
Элиот пристально взглянул на нее. Голос ее вдруг прозвучал отдаленно и странно. Она мягко дотронулась до ожерелья на шее. С него свешивалась подвеска, и, поглаживая ее, словно амулет, она, не мигая, смотрела на Элиота огромными бездонными глазами.
— Джек, — прошептала она, — Джек… Надеюсь, ваша сила осталась при вас. Потому что она нужна нам. Боюсь, происходит нечто ужасное.
Лицо Элиота оставалось бесстрастным, а затем он медленно приподнял бровь.
— Нам? — уточнил он.
— Да, нам, — прошептала мисс Рутвен и протянула руку. — Нэд! — позвала она, и из-за двери, из-за стены цветов, вышел молодой человек — очень молодой, такого же возраста, как мисс Рутвен, и столь же привлекательный, как она, с тонкими чертами лица и вьющимися черными волосами.
— Джек, мистер Стокер… — Мисс Рутвен улыбнулась и взяла молодого человека под руку. — Позвольте мне представить Эдварда Весткота, самого милого юношу на свете. Должна зам сказать — в этом уже нет секрета: мы поженились, дорогие друзья! И живем вместе как муж и жена.
Признаюсь, я был ошеломлен и на мгновение даже растерялся, не зная что сказать. Элиот же, похоже, не был удивлен и выглядел так, словно ожидал услышать нечто подобное.
— Мои поздравления, госпожа Весткот, — произнес он.
Он поцеловал… (Я теперь не могу называть ее мисс Рутвен, пусть дальше она будет просто Люси.) Он поцеловал Люси в обе щеки и пожал руку Весткоту.
— Поздравляю! — эхом отозвался я.
— Мистер Стокер, — окликнула Люси, — надеюсь, вы не сердитесь?
— Ну что вы, — сказал я. — Крайне рад за вас. Просто… удивляюсь, что вы скрыли это от меня.
— Но, дорогой мистер Стокер, никто же не знал.
— Почему бы и нет? Я был бы не против.
Легкая тень пробежала по лицу Весткота.
— Вы — да, — согласился он, пожимая руку жене, — но были и другие, мистер Стокер.
— Ах так? — удивился Элиот. Он пристально посмотрел на Весткота, затем на Люси. — Не могу поверить, что Артур стал бы возражать.
— Он и не возражал, — ответила Люси.
— Тогда почему такая секретность?
— Помните, мистер Стокер, какое-то время тому назад я несколько месяцев сильно болела.
— Да. Вы как раз у нас начинали. Жаль, что это отсрочило вашу карьеру.
— И все же я пробыла тут достаточно долго, чтобы познакомиться с Нэдом. — Она очаровательно покраснела. — Когда я заболела, он стал моей сиделкой. Мое решение выйти за него замрк выковалось в эти долгие месяцы уединения. Мой брат… Вы совершенно правы, Джек, Артур не возражал.
— Тогда отказываюсь понимать, в чем проблема.
— Артура убили, Джек. Его убили еще до объявления о нашей помолвке.
— Сожалею, Люси… Очень сожалею…
— Знаю, Джек. — Вновь она погладила подвеску, свисающую с ее ожерелья, другой рукой крепче обнимая мужа. — После его смерти, как вы знаете, моим опекуном стал Джордж Моуберли.
— Но все же… я не понимаю. Джордж всегда терпимо относился к мужчинам и обожал вас. Он бы тоже не возражал.
— Нет… Но леди Моуберли возражала бы…
— А, — кивнул Элиот. — Я мог бы догадаться… Но почему?
— Почему она ненавидит меня? — с неожиданной страстностью прервала его Люси. — Не знаю, Джек, но это так. Вначале она была очень добра, она относится с добротой почти ко всем окружающим, но потом, когда я заболела, она даже не навестила меня — ни разу за все время, что я была больна. А когда я поправилась и она узнала о Нэде, Розамунда сильно охладела ко мне, даже рассердилась на меня. Она отказалась принимать его у себя в доме.
— Что у нее было против вас? — спросил Элиот у Весткота.
— Не знаю, — ответил тот. — Я никогда ее даже не видел.
— Она враждебно относилась не к Нэду, а ко мне, — покачала головой Люси.
— Очень странно, — задумчиво пробормотал Элиот. — Леди Моуберли произвела на меня впечатление очаровательной женщины.
— Такое впечатление она производит на всех.
Глядя на юную пару, Элиот помрачнел еще больше.
— Что ж, ее отношение расстроило вас обоих. Но имело ли это значение? Ведь опекуном был Джордж…
— А богатой — леди. Моуберли. И у нее в руках тесемки от кошелька. Джек, Джордж всегда был по уши в долгах, — легко улыбнулась Люси, — Он не стал бы рисковать всем и идти наперекор жене.
— Что ж, — задумался Элиот. — Звучит разумно.
— Угу, звучит, — согласилась Люси. — Как видите, выбора у нас не было. Нам надо было втайне пожениться. Мы ждали почти два года. И так любили друг друга, что не могли ждать больше ни дня.
— Ну конечно же! — Элиот взглянул на Весткота. — А как насчет вас, сэр? Вашим родителям известно?
— Мой отец в Индии, — сказал Весткот, помедлив. — Пока не было возможности известить его. Но придет время, и я его извещу.
Элиот склонил голову набок и стал похож на коршуна, наблюдающего за полевой мышью.
— А ваша мать? — медленно поинтересовался он.
Весткот поперхнулся.
— Мать моя… — начал он, но голос его сорвался, и он прокашлялся. — Мать моя, к сожалению, умерла.
Люси придвинулась к нему и сжала его руку. Весткот уставился прямо перед собой.
— Она исчезла примерно два года тому назад. Их в Гималаях похитили туземные племена Тело моей сестры так и не нашли, а мать бросили непогребенной на горной дороге. Она была совершенно обескровлена, и горло ее было перерезано. Ужасно, доктор Элиот. Ужасно!
— Сожалею, — проговорил Элиот. — Простите меня за расспросы. Мне не следовало лезть не в свое дело.
— Вы не могли этого знать.
— Да, — сказал Элиот. — Не мог.
— Вообще, — продолжал Весткот, нежно глядя в глаза жене, — именно боль потери сблизила меня с Люси. Вы, кажется, старый друг ей, доктор Элиот, и знаете, конечно, что она сирота и отец ее тоже исчез, был убит. Прости меня, дражайшая Люси, что я затрагиваю такую тему, но ведь из-за этого мы здесь.
Люси встретила его пылкий взгляд, но не ответила.
— Люси! — У Весткота был почти отчаявшийся вид. — Ты ведь скажешь мне, не так ли?.. — Он повернулся к нам. — Ей угрожает какая-то опасность. Ее отца убили, выкачали из него всю кровь, как из моей дорогой матушки. Брат ее в прошлом году разделил ту же судьбу. Этого достаточно… Достаточно, чтобы говорить о проклятии — проклятии над семейством Рутвенов… А теперь у Люси какие-то тайные страхи, но она не говорит о них со мной, хоть я ее муж и готов отдать за нее жизнь!
Люси продолжала пристально смотреть ему в глаза.
— Дорогой мой, — прошептала она, — я ошибалась, скрывая это от тебя.
Она погладила его по кудрявым волосам, нежно поцеловала и повернулась к нам.
— Нэд совершенно прав, — проговорила она. — Я видела нечто ужасное. — Она показала на Элиота. — Он знает, что именно.
Лицо Элиота оставалось бесстрастным, но я заметил, что глаза его настороженно засверкали.
— Вы рассудили верно, Джек. Это я написала леди Моуберли, что Джорджа, возможно, убили.
Элиот пожал плечами.
— Это было просто! — Он взял письмо с туалетного столика Люси, и я узнал то письмо, что он писал сегодня утром. Элиот перевернул листок бумаги. — Видите, Люси, пудра! На вашем письме леди Моуберли были точно такие же следы.
Весткот в изумлении уставился на Люси.
— Ты писала ей, этой… — От возмущения он не мог подобрать нужного слова. — Но, Люси, зачем?
Люси оглядела комнату и, оправив юбку, села. Я приготовился уйти, чувствуя, что она готова сделать какое-то заявление для узкого круга, но она подняла руку и попросила меня остаться.
— Хочу, чтобы вы поняли, почему недавно я была столь расстроена, мистер Стокер. И особенно последние несколько дней. Знаю, со мной было нелегко. Но я боюсь не за себя, дорогой мой! — обратилась она к мужу. — Ты действительно думаешь, что я скрыла бы такое от тебя? Нет, Нэд, никогда. Но я боюсь, ркасно боюсь за Джорджа Моуберли.
Элиот распрямил свои длинные пальцы.
— Ах да, Джордж… — Он снова сжал пальцы и опустил на них подбородок— Так, значит, его убийство… Расскажите, что вы видели.
— Убийство?! — вскричал я.
Элиот медленно кивнул.
— Если я правильно понял, Люси, вы стали свидетелем убийства?
— Думаю, да! — проговорила Люси, поглаживая подвеску-амулет.
— Только думаете? — нахмурился Элиот.
— Я не видела труп, Джек.
Он приподнял бровь:
— Интригующе… Так что именно вы видели?
— Он стоял у окна.
— Где?
— Оно выходит на Бонд-стрит. Я проходила там пару дней тому назад. Накануне мне приснился сон… о смерти моего брата и о том, что Джорджу угрожает та же ркасная участь. Я знаю, это звучит глупо, Джек, но на меня сильно повлиял этот кошмар, он был очень похож на правду. Я даже послала Джорджу письмо, где описала свой сон, но потом решила — к сожалению, очень поздно, — что письма недостаточно. Мне надо было с ним повидаться.
— Отлично, но почему на Бонд-стрит?
— Там есть ювелирная лавка. Ее содержит старый слуга Джорджа Когда мои отношения с леди Моуберли ухудшались, я часто встречалась там с Джорджем.
— Какой дом?
— Девяносто шесть.
Элиот записал и жестом велел Люси продолжать рассказ. Она все еще поглаживала подвеску, но голос ее уже не колебался и звучал отчетливо:
— Было довольно поздно. Мы усердно репетировали. Когда я подъехала к «Хэдли», так называется ювелирная лавка, то увидела, что она закрыта. Я отступила от двери, оглядывая верхний этаж дома, — там находились комнаты мистера Хэдли с женой, и я хотела посмотреть, не пробивается ли оттуда свет. Но окна были темны, и я уж было повернулась и пошла назад по улице, как вдруг заметила движение этажом ниже. Я увидела силуэт человека за оконным стеклом. Он заметил меня, шатаясь подошел и прижался лицом к стеклу. Он был смертельно бледен, и взгляд его был ужасен. Но это был Джордж! Никакого сомнения, это был он. Он, очевидно, звал меня, но чьи-то руки оттащили его от окна, и кто-то попытался заткнуть ему рот тряпкой. Джордж высвободился, и я увидела, что подбородок у него весь в крови, но затем ему ко рту снова прижали тряпку, и он рухнул. Огни погасли, и больше ничего не было видно. Я все стучала и стучала в дверь, что вела в помещения над лавкой, но никто не отзывался. Тогда я позвала полисмена.
— Минутку, прошу вас, — поднял руку Элиот. — Вы все время стояли у дверей?
— Да, — ответила Люси.
— Никто не мог выйти незамеченным?
— Нет.
— И другого выхода в доме нет?
— Нет.
Элиот кивнул.
— Отлично. Это очень важное обстоятельство… Так, говорите, вы позвали полицейского?
— Да, — промолвила Люси, и глаза ее засверкали. — Я рассказала ему, что видела. Он довольно вежливо выслушал меня, но подумал, видимо, что я истеричка, ибо в действиях его не было никакой спешки. И, когда он допрашивал меня, я почувствовала сомнение в его голосе. Мы, однако, подошли к лавке «Хэдли», и, пользуясь куском проволоки, он открыл дверь. Оттолкнув его, я бросилась вверх по лестнице, ко второй двери, подергала за ручку, но было заперто. Я крикнула, чтобы полисмен пошевеливался, однако тут заскрежетал засов и дверь отворилась. Слуга — я говорю «слуга», но голос его, когда он заговорил, показался мне голосом джентльмена — спросил, чем он может мне помочь. На мгновение я окаменела — глаза слуги были непередаваемо жестоки, как у гремучей змеи, изо рта у него дурно пахло, так отвратительно, словно он напился хими-калиев. Он вновь спросил, что мне угодно, но к этому времени я опомнилась и проскочила мимо него в надежде застать убийцу врасплох. Впрочем, комната, куда я ворвалась, была пуста — никаких следов насилия или кровопролития, воплощение безмятежной роскоши. Только фрак, небрежно брошенный на высокую спинку кресла, казался здесь лишним. Никаких признаков зверского убийства. Мне стало стыдно за свое глупое поведение.
Полисмен, который подошел к нам, придерживался того же мнения. Он рассказал слуге о том, что я видела, но даже не пытался придать моей истории правдоподобие. Широкая улыбка расползлась по лицу слуги.
«Боюсь, что хозяина нет, но хозяйка здесь, — произнес он низким и каким-то шипящим голосом. — Если хотите, я могу спросить у нее, не совершила ли она недавно убийство».
Он гадостно захихикал, и все его тело затряслось, извиваясь словно в экстазе. Он повернулся и, поманив полисмена, провел его через дверь. Я осталась в передней одна.
Несколько минут спустя дверь отворилась, и вошла женщина. Как я могу описать ее? Она была в великолепном платье из красного бархата с большим декольте. Черные волосы длинными прядями спадали на плечи. Лицо ее было так прекрасно, что больно было на него смотреть. Я почувствовала к ней какое-то странное притяжение. В ней было нечто… какая-то сила… ошеломляющая привлекательность.
Люси закрыла глаза и некоторое время ничего не говорила.
— Но она, она наполнила меня ужасом, — прошептала наконец Люси. Голос ее ослаб. — К тому времени, — продолжила она несколько отстраненно, — я начала сомневаться, видела ли я вообще что-нибудь. Но, Джек, когда вошла эта женщина, я поняла: то были не галлюцинации. Я на самом деле узрела нечто ужасное. И потом, когда я получила письмо леди Моуберли… — Голос ее прервался, она нахмурилась и покачала головой. — Я осознала… осознала…
— Осознала что? — нетерпеливо спросил Элиот.
— Женщина, с которой я встретилась, была той самой, которая преследовала леди Моуберли. — Люси посмотрела на Весткота и на меня. — Леди Моуберли видела ее… она вломилась к ней в дом.
— Но почему вы так уверены, что это та самая женщина?
— Письмо… ее описание… Помните, леди Моуберли не смогла толком описать взломщицу? По ее словам, это было самое необычное лицо, которое она когда-либо видела… Так вот, я ощутила то же смятение. Как я уже сказала, Джек, лицо ее было прекрасно… О, как прекрасно! Но в глазах читались опасность, колдовство, зло, величие… Как описать все это? Не могу. Просто не могу…
Она сжала руку в кулак и поднесла к губам, терзаясь тем, что не может определить, что именно она увидела.
— Я чувствовала, как она., совращает меня, — тихо прошептала Люси. — Да, совращает… В конце концов с большим усилием мне удалось оторвать от нее взгляд…
В комнате воцарилось долгое молчание. Элиот скрестил руки на груди и прислонился к стене.
— В Лондоне много поразительных женщин, — заявил он.
— Нет, Джек, я вам еще не все рассказала— Люси разжала пальцы и повернулась к нам. — Леди Моуберли видела второго человека — джентльмена-иностранца, смуглого, из Индии или Аварии.
— Ага, — сразу оживился Элиот. — Вы тоже видели похожего человека?
— Да Полисмен вернулся в холл и сообщил, что обыскал всю квартиру, но не нашел никаких следов борьбы, не говоря уже о трупе. Он извинился перед хозяйкой дома и предложил, чтобы мы с ним ушли. И тут на лестнице послышались шаги. Кто-то поднимался…
— Поднимался? — прервал ее Элиот.
— Да, — кивнула Люси.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
— Простите, — пробормотал Элиот, — продолжайте, пожалуйста!
— Через парадную дверь вошел джентльмен. Он был в вечерней одежде, хотя без фрака, но я так поняла, что на высокой спинке кресла лежал именно его фрак. Он выслушал рассказ полисмена об увиденном мною и очень удивился, а потом мы ушли. У меня не было никаких причин подозревать его в чем-то. И лишь когда я получила письмо леди Моуберли, мои страхи подтвердились. Джек! Я видела Джорджа там, наверху! Я видела, как его убили!
Элиот слушал все это, полузакрыв глаза.
— Согласен, — пробормотал он, — тут много пищи для размышлений… Но скажите, как этот иностранный джентльмен отреагировал на ваше присутствие в комнате? Обеспокоило это его как-нибудь?
— Никоим образом. Он был исключительно спокоен. Словно поддразнивал меня. Его самообладание было каким-то величественным… И это поразило меня.
— А он говорил с вами?
— Так, простые любезности.
— Ага. — Лицо Элиота потемнело, а глаза открылись шире. — Тогда это весьма загадочный случай… Как я понимаю, дорогая Люси, вы хотите, чтобы я расследовал это дело как можно доскональнее?
— Ну конечно, Джек! Артур уже умер — и при таких странных обстоятельствах, о которых я лишь недавно узнала. Мысль о том, что и Джорджа постигла столь же ужасная судьба…
— Что ж, — Элиот взглянул на часы, — если вам больше нечего сказать, тогда разрешите откланяться…
— Есть, Джек, есть!
— Что же? — удивленно поинтересовался Элиот.
— Сегодня вечером… я видела их опять… сегодня вечером они были здесь.
— В театре? — воскликнул я. — Эта леди и иностранец?
— Я уверена, это были они. Они сидели в отдельной ложе справа, ближайшей к сцене, вот почему я заметила их. На втором акте женщины не было, но джентльмен оставался до конца спектакля. Он ушел лишь в финале, когда мистер Ирвинг выступал с благодарственной речью…
Элиот повернулся ко мне:
— Вы записываете тех, кто заказывает у вас ложи?
— Естественно, — ответил я. — Подробности у меня в конторе.
— Тогда пойдемте туда! — Элиот повернулся к Люси. — Не бойтесь! — Он взял ее за руку. — Я сделаю все, что смогу, чтобы расследовать это дело!
Он поцеловал ее и вышел из комнаты, а я — за ним. Мы двинулись по коридору к моему кабинету, но позади вдруг раздались шаги. Мы обернулись — нас догонял Весткот.
— Доктор Элиот! — окликнул он. — Я должен знать… Люси в большой опасности, как вы думаете?
— Слишком рано утверждать что-либо, — пожал плечами Элиот.
— Если я чем-нибудь могу помочь, какое-нибудь опасное дело…
— Оставайтесь с женой, — посоветовал Элиот. — Не отходите от нее ни на шаг… 14 будьте готовы ко всему.
Весткот в неуверенности уставился на него:
— Так я лучше всего смогу помочь ей?
— Вот именно. — Элиот улыбнулся и похлопал Весткота по плечу. — Удачи. Будьте достойны женщины, на которой женились.
Мы продолжили путь, а Весткот направился обратно к жене.
— Вы и вправду думаете, что мисс Рутвен грозит опасность? — спросил я, как только мы зашли ко мне в кабинет.
— Вы имеете в виду миссис Весткот?
— Конечно, — поправился я, — миссис Весткот.
Элиот взял конторскую книгу, которую я ему вручил, и покачал головой:
— Думаю, нет… Но дело все же не столь простое, как я ранее предполагал.
Он нахмурился и посмотрел на страницу, которую я открыл.
— Вот, — показал я. — Вот эта ложа. Боже мой! Доктор Элиот! Ради Бога, что с вами?
Ибо Элиот вдруг смертельно побледнел. Глаза его уставились на запись в регистрационной книге, а рот раскрылся от изумления.
— И все же, — пробормотал он, вставая, — это просто совпадение…
Его глаза подернулись поволокой, и он погрузился в какие-то глубоко личные размышления. Я взглянул в книгу, чтобы узнать, что повергло его в такое изумление. Ложа была заказана на имя раджи Каликшутры.
— Раджа! — вскричал я. — Так мисс Рутвен была права. Это индус.
— Да, — ответил Элиот. — По крайней мере, похоже на то.
— Эта Каликшутра вам о чем-нибудь говорит?
— Да, кое о чем.
Он вновь вгляделся в запись в книге. Лицо его стало бесстрастным, как и раньше. Он пожал плечами и захлопнул книгу.
— Уже поздно, — заявил он. — Завтра будет долгий день. Мне пора идти, мистер Стокер. Благодарю вас за уделенное мне время.
— Я пойду с вами, — сказал я, запер кабинет и проводил Элиота на улицу.
Мы пошли по Друри-лейн в поисках извозчика, но было несколько позже, чем я думал, и даже у Ковент-Гарден улицы были почти пусты. Мы вышли на Флорал-стрит, и тут я заметил, что за нами едет экипаж — черный, с розовым гербом на дверце. Колеса его громыхали по булыжной мостовой. Когда лошади поравнялись с нами, кто-то постучал тростью в окошко, и экипаж остановился. Окошко отворилось, и чья-то бледная рука поманила нас. Элиот не обратил на это внимания, продолжая шагать по улице.
Из экипажа высунулся лорд Рутвен. Он улыбался.
— Доктор Джон Элиот! — позвал он. — Как я понимаю, вашей хирургической клинике ужасно не хватает средств?
Элиот повернулся, с удивлением взглянув на него.
— Если даже и так, то вам какое до этого дело?
Лорд Рутвен выхватил какой-то конверт и бросил его на мостовую.
— Прочтите! — крикнул он. — Это может вам пригодиться.
Он стукнул тростью по крыше, возница тряхнул поводьями, и экипаж стал быстро удаляться.
Элиот провожал его взглядом, пока лошади не скрылись за ближайшим углом, потом нагнулся и поднял конверт. Вскрыв его и прочтя записку внутри, он передал все мне. По адресу, вытисненному в верхней половине листа, я понял, что улица находится в Мэйфейр.
«Навестите меня, — писал лорд Рутвен, — нам надо многое обсудить».
— Вы поедете? — взглянул я на Элиота.
Он вначале ничего не ответил. Ему стало зябко, и он поплотнее закутался в пальто.
— Свалились тут всякие тайны на мою голову, — наконец буркнул он, взял письмо из моих рук и зашагал дальше по улице.
— Если могу помочь вам.. — окликнул я его.
Он не обернулся.
— Знайте, — вновь крикнул я, — я сделаю все, чтобы отвратить опасность от мисс Рутвен.
— На Бонд-стрит, завтра, — проговорил он не оборачиваясь, — в девять…
— Непременно буду, — пообещал я.
— Доброй ночи, мистер Стокер!
Он продолжал шагать и быстро исчез в темноте.
На следующее утро на Бонд-стрит я ожидал увидеть его у лавки ювелира, но он стоял у двери справа от «Хэдли», где, как я понял, находился вход на верхние этажи. Увидев меня, Элиот улыбнулся и подошел пожать мне руку.
— Стокер! — жизнерадостно приветствовал он меня, вцепляясь в мою руку железной хваткой и не позволяя идти дальше, и затем по-прежнему жизнерадостным голосом, будто предлагая вместе позавтракать, добавил: — Не показывайтесь перед дверью ювелирной лавки.
И действительно, со стороны можно было подумать, что один из друзей приглашает другого в гости. Он открыл дверь, впустил меня, вошел следом и запер дверь.
— Где вы достали ключ? — с удивлением спросил я.
— Лахор, — ответил он.
От его радушной улыбки не осталось и следа. Он взглянул на лестницу, и лицо его стало совершенно непроницаемым.
— Заметили что-нибудь интересное? — осведомился он, обернувшись ко мне.
Я осмотрелся вокруг.
— Нет.
— А ковер?
Я взглянул вниз и внимательно рассмотрел ковер.
— Вроде бы ничего необычного! — наконец промолвил я.
— Я не сказал, «необычное», я сказал «интересное», — поправил Элиот. — Что ж, подождем с этим.
Он повернулся и стал подниматься по лестнице.
Я последовал за ним.
— Что мы будем делать дальше? — спросил я.
Элиот остановился у двери на площадке второго этажа. Ключ все еще был у него в руках. Он вставил его в замок и лишь тогда обратился ко мне.
— Не беспокойтесь, — успокоил он. — Я всю ночь наблюдал за этой квартирой. Тут никого нет.
— Но, силы небесные, — торопливо зашептал я, — это же взлом! Элиот, одумайтесь, что вы творите!
— Одумался, — ответил он, поворачивая ключ. — По-другому не получится.
Он открыл дверь и быстро впустил меня внутрь. Заперев дверь, он взглянул мне прямо в глаза.
— Вы верите, что Люси говорила правду? — спросил он.
— Конечно.
— Это и есть оправдание тому, что мы делаем, Стокер, ибо, боюсь, тут замешано великое зло. Мы с вами оказались в крайне сложной ситуации. Поверьте, у нас нет иного выбора, кроме как вломиться сюда.
Мы осмотрелись по сторонам. Комната была точно такой же, как нам ее описали. Обстановка — богатая, отделка — утонченная и с большим вкусом, но все же было в комнате что-то чрезмерно пышное, почти, я бы сказал, упадочное, так что красота казалась перезрелой, словно у орхидеи, уставшей цвести. Я почувствовал какую-то странную нервозность, да и Элиот, оглядываясь по сторонам, вроде как-то дернулся. Я проследил за его взглядом. Он указал на стену, в которой были два эркера с видом на улицу.
— Вот здесь стоял Джордж, когда Люси увидела его, — пробормотал Элиот.
Вынув из кармана небольшую лупу, он подошел к стене и опустился на колени. Внимательно изучив ковер, он нахмурился и покачал головой, после чего направился ко второму эркеру, где вновь наклонился и тщательно осмотрел пол Я присоединился к нему. Ковер на полу был толстый, яркой окраски, и сразу было видно, что пятен на нем нет. Но вдруг послышался тихий вскрик Элиота.
— Вот! — прошептал он, показывая половицу у самого окна. — Стокер! Что это, по-вашему?
Я пригляделся. Пятнышко, столь крохотное, что невооруженным глазом и не разглядишь, а над ним — еще пара пятнышек.
Элиот поскреб одно из них ногтем и поднес палец к свету. Кончик ногтя окрасился в ржаво-бурый цвет. Он нахмурился и коснулся ногтя кончиком языка.
— Ну? — спросил я нетерпеливо.
— Да, — ответил Элиот, — это, несомненно, кровь.
Я побледнел.
— Так Люси была права, — пробормотал я, — беднягу все-таки убили!
Элиот покачал головой:
— Она видела, что лицо его было вымазано кровью.
— Да, — тихо сказал я. — И к какому выводу вы пришли?
— Чья бы кровь это ни была, она не могла течь из серьезной раны. — Он снова указал на половицу. — Это всего-навсего крохотные пятнышки, такая малость даже кусок ткани не намочит. Тот факт, что пятнышки все еще здесь, говорит о том, что серьезной раны не было вовсе.
— Почему же?
— А потому, что пятнышки не стерли, — проговорил Элиот. — Их просто не заметили… Не Люси, а те, кто живет в этой квартире. Взгляните на ковер. — Люси была совершенно права На нем нет пятен крови, по меньшей мере пятен различимых. Нет, — он поднялся, — эти следы крови лишь еще больше запутывают дело. С одной стороны, они подтверждают, что Джордж вряд ли мог истечь кровью до смерти. С другой стороны, говорят о том, что Люси ничего не выдумывала, утверждая, что видела, как ему затыкают рот тряпкой, смоченной кровью. Это все крайне запутывает.
Он направился к двери в дальнем конце комнаты, открыл ее, и я последовал за ним по какому-то коридору. Как и холл, коридор был богато обставлен, а комнаты, в которые он вел, были столь же роскошны, как и все остальное. Бросалось в глаза отсутствие спальни, и я указал на эту странность Элиоту.
— Эту квартиру используют не для жилья, — объяснил он.
— Но для чего тогда?
— Может, это место отдыха, этакий приют странников в центре столицы. А где главное гнездо, нам пока не известно.
— Ну, там уж, наверное, все исключительно утонченно…
— Да? — Элиот резко взглянул на меня. — Почему вы так думаете?
— Да потому, что они вложили хсучу денег в квартиру, в которой даже не живут!
— Верно, — согласился он, — и огромную кучу, ошеломляюще огромную. Именно это вызывает у меня сомнение, что наши подозреваемые в открытую снимают какую-нибудь квартиру.
— Я вас не понимаю.
Элиот сделал нетерпеливый жест:
— Да, Стокер, вы правы, здесь щедро швыряются деньгами. Но почему здесь, в какой-то квартирке над лавкой, пусть даже на Бонд-стрит? Ясно, что хозяева могут позволить себе жилье получше… Все это крайне трудно объяснить. Если только… — Он прервался и уставился перед собой, а потом его лицо просветлело, озаренное надеждой. — Что ж, все ясно, здесь мы не найдем никакого трупа. Может быть, наши поиски в другом направлении завершатся большим успехом. — Он тронул меня за руку. — Идемте, Стокер. Мне нужна ваша помощь в одном эксперименте.
Мы вернулись к входной двери, и Элиот открыл ее.
— Вы заметили, — сказал он, указывая вниз, — какой толстый ковер на лестнице? Я сразу заметил и пытался еще внизу привлечь к этому ваше внимание.
— Извините, — понурился я, — но я до сих пор не понимаю, в чем примечательность сего факта.
— Право, Стокер… — удивился Элиот. — Толстый ковер заглушает звук шагов! — воскликнул он и взглянул в сторону верхнего этажа. — А теперь будьте любезны взойти вон туда и спуститься мимо этой двери к следующему лестничному пролету, но — тихо! Как можно тише!
— Тихо? — изумился я. — Боюсь, у меня походка не из легких.
— Вот именно! — подтвердил доктор Элиот, захлопывая дверь прямо перед моим носом и оставляя меня в полном одиночестве.
Поняв наконец, чего он хочет (боюсь, вы подумаете, что до меня все долго доходит), я в точности исполнил его просьбу. Спустившись, я подождал у парадной двери и, когда Элиот так и не появился, взобрался обратно по лестнице. Теперь я шел нормальной походкой, и сразу дверь квартиры распахнулась.
— Отлично! — вскричал Элиот, выходя мне навстречу. — Сейчас, когда вы снова топаете как слон, я вас отлично слышу, но, когда вы спускались, не раздалось ни малейшего скрипа! Думаю, вы согласитесь, что это наводит на кое-какие мысли.
Он запер дверь в квартиру и поднялся по лестнице на третий этаж.
— Вы думаете, что убийца — этот индус? — полюбопытствовал я, следуя за ним.
— Мы просто изучаем возможности. И мы разрушили алиби нашего раджи. Да, было слышно, как он восходит по лестнице, но это не доказывает, что он пришел с улицы. Он мог спрятаться, пока Люси бегала за полицией, а потом как можно тише отступить к парадной двери.
— Но куда он дел труп?
— В этом-то и заключается тайна. — Элиот снова вынул из кармана лупу и склонился над ковром, тщательно изучая его, но через несколько мгновений покачал головой и встал. — Больше следов крови нет. Конечно, их могли смыть, но при этом остались бы отметины. Нет… и это сужает возможности.
— Так у вас есть какая-нибудь теория?
— Мы явно приближаемся к разрешению загадки, вот только…
Он прервался, и ноздри его расширились, словно он взял след. Глаза его блеснули как стальной клинок.
— Пошли, Стокер, — велел он, направляясь к лестнице. — Навестим-ка лавку ювелира!
Что мы и сделали. Как только мой спутник открыл дверь, к нему подошел невысокий седовласый человек.
— Чем могу помочь, сэр? — спросил он, потирая руки, словно намыливая их.
Элиот несколько свысока обозрел владельца лавки и прошелся взглядом по полкам и шкафам. Минуло несколько секунд.
— Полагаю, — наконец произнес Элиот, растягивая слова, — вы мистер Хэдли, ювелир леди Моуберли?
— Да, — несколько неуверенно ответил человек. — Имею честь!
— Отлично. — Элиот отвел от него взгляд. — Некоторое время тому назад я обедал у нее и сэра Джорджа, на ее дне рождения. На леди Моуберли были поразительные драгоценности, купленные, полагаю, именно в вашей лавке. Они были подарены ей сэром Джорджем.
Мистер Хэдли насупился и почесал голову:
— Обождите, сэр, я проверю по книгам.
Он просеменил было к прилавку, но Элиот отрицательно качнул головой.
— Да нет, — нетерпеливо бросил он. — Не надо смотреть. Уверен, вы и так вспомните эти драгоценности. Они отличаются от других — серьги и ожерелье из Индии, из района под названием Каликшутра…
Последнее слово Элиот выделил специально, и, когда он заговорил вновь, в голосе его зазвучала некоторая напряженность:
— Вы же помните их, уверен, что помните.
Владелец лавки с беспокойством покосился на нас.
— Они никогда мне не принадлежали, — наконец выдавил он.
— Но они красовались у вас в витрине, не так ли? — нахмурился Элиот. — Да, припоминаю, леди Моуберли упоминала об этом. Она увидела их в вашей витрине, гуляя с сэром Джорджем, а он потом зашел к вам и купил их. В вашей лавке. — Глаза Элиота сузились. — И ни в какой другой. Ведь вы были слугой у сэра Джорджа, если я не ошибаюсь?
Старик в явном волнении вновь начал потирать руки.
— Оно, конечно, так, — нетвердо пробормотал он. — Сэр Джордж и леди Моуберли действительно увидели эти драгоценности у меня в витрине. Но повторяю, сэр, они были не мои, и я не мог их продать. К тому времени, как сэр Джордж пришел снова, я их уже вернул.
— Вернули? — фыркнул Элиот. — Я вас не понимаю.
— Мне их дали взаймы.
— Кто?
Ювелир поперхнулся:
— Человек, который хотел вести со мной дела.
— Так это ему принадлежали драгоценности из Каликшутры?
— Да, но, если вас интересует, у меня имеются драгоценности из других районов Индии, да и вообще со всего мира.
— Нет-нет, — прервал его Элиот, — меня интересует Каликшутра. Если у вас нет этих драгоценностей, придется обратиться к тому, у кого они есть. Как я могу с ним связаться?
— А кто вы такой? — с внезапной подозрительностью поинтересовался мистер Хэдли.
— Меня зовут доктор Джон Элиот.
— Вы, значит, друг леди Моуберли?
— А что, я не могу быть ее другом? — поднял брови Элиот.
В его глазах вспыхнула вдруг настороженность, и я почувствовал, что последнее замечание очень заинтересовало его. Но он не стал развивать свою мысль, а облокотился о прилавок и заговорил весьма дружелюбным тоном:
— Мы с мистером Стокером заядлые коллекционеры всяких редкостей с Гималаев. Стокер, дайте, пожалуйста, вашу визитную карточку мистеру Хэдли.
Элиот подождал, пока старик ознакомится с моим адресом, а затем, не говоря ни слова, сунул через прилавок гинею.
— Так вот, — продолжил Элиот, когда ювелир взял монету, — мы хотим отыскать вашего коллегу. Может быть, вы расскажете, какие у вас с ним взаимоотношения, чтобы мы знали, как лучше подойти к делу.
Старик наморщил лоб:
— Он пришел ко мне… э-э… месяцев шесть или семь тому назад… вроде как.
— Отлично, — кивнул Элиот. — И что предложил?
Старик нахмурился, словно гадая, зачем мы к нему пожаловали.
— Прошу вас, мистер Хэдли, — взмолился Элиот. — Что же он предложил?
— Предложил, — повторил старик, — предложил., сделку.
— Естественно, — холодно хмыкнул Элиот. — Вряд ли он предложил вам выйти за него замуж. Послушайте, мистер Хэдли, что-то вы темните!
— Всему свое время, — вызывающе пробормотал ювелир. — Он сказал, этот мой коллега… сказал, что у него есть первосортные драгоценности. Я ему сначала не поверил — в нашей области торговли много всякой дряни, уверен, вы понимаете… Но, как оказалось… Что ж, сэр, вы и сами видели кое-что на шее у леди Моуберли, прекрасные, просто прекрасные вещицы. Он заявил, что у него лавчонка где-то в доках.
— Где именно? — спросил Элиот.
— В Ротерхите, сэр.
— У вас есть адрес?
Мистер Хэдли кивнул, наклонился и открыл ящик конторки.
— Вот, сэр, — подал он Элиоту карточку.
— Джон Полидори, — прочел Элиот, — Ротерхит, Колдлэйр-лейн, 3.— Он что, итальянец, этот мистер Полидори?
— Если и итальянец, то говорит по-английски лучше любого иностранца, с которым мне довелось встречаться.
— У лорда Байрона какое-то время был личный врач Джон Полидори, — вспомнил я. — Он написал повесть, которую мы как-то переделали для постановки в «Лицеуме».
— Не хотите ли вы сказать, что это тот же человек? — удивился Элиот. — Сколько же ему сейчас лет?
— О нет, — покачал головой я, — Полидори, врач лорда Байрона, покончил жизнь самоубийством, насколько я помню. Простите, Элиот, я вспомнил об этом чисто случайно.
— Понятно. Вы восхитительны, Стокер, с вашими театральными воспоминаниями! — Элиот повернулся к старику. — Но мы отвлеклись. На чем мы остановились? Да, этот мистер Полидори пришел к вам… с драгоценностями. И что он хотел от вас?
— У него была проблема, — улыбнулся мистер Хэдли. — Товар-то у него имелся, но больше ничего. Я хочу сказать, кто же поедет в Ротерхит? Никак не знатные люди, не джентльмены с деньгами. Если уж открывать лавку, сэр, то только на Бонд-стрит.
— Вот тут-то вы ему и подвернулись?
— Ну да, сэр. Он поставлял мне товар, а я помещал его в свою витрину.
— А драгоценности из Каликшутры… почему он не оставил вам эти изделия, чтобы вы сами продали их?
— Как я уже сказал, сэр, у него своя лавка. Вот адрес, у вас на карточке.
— Отлично. — Глаза Элиота вновь заблестели. — Ну а что еще?
— Иногда он хотел, чтобы определенные покупатели приходили к нему.
— Почему?
— Покупатели, которыми, как он считал, двигает особый интерес к драгоценностям. Коллекционеры, если хотите. С ними он предпочитал вести дело напрямую.
— Так вы сводили их с ним?
— Если так вам будет угодно, сэр. Дело было выгодное, он всегда платил мне приличные комиссионные.
— А сэр Джордж? Он тоже был одним из тех, кого вы направили в Ротерхит?
— Да, сэр. И мистер Полидори особо настоял на этом. «Достаньте мне сэра Джорджа, — умолял он. — Чего бы он ни попросил, когда придет, говорите, что у вас этого нет. И пришлите его ко мне».
— Вам это не показалось удивительным?
— Нет, сэр. А почему мне должно было так показаться?
— Потому что, насколько я знаю, сэр Джордж никогда в жизни не коллекционировал драгоценности. С чего же ваш коллега заинтересовался им?
Под усами мистера Хэдли мелькнула легкая улыбка.
— Для себя он, может, и не коллекционирует. Но есть… люди, для которых он собирает драгоценности. — Он подмигнул. — Вы понимаете меня, сэр?
— Понимаю, — отрубил Элиот, не отвечая улыбкой на улыбку. — Думаю, что понимаю.
Старик вдруг забеспокоился.
— Только не истолкуйте мои слова превратно, сэр, — запинаясь проговорил он.
— Превратно?
— Ну, — поперхнулся ювелир, — я осознаю, сэр, что леди Моуберли, должно быть, беспокоится, да и я, честно говоря, тоже переживаю…
— Вот как, Хэдли? Почему?
Старик помрачнел, и взгляд его вдруг опять стал враждебным.
— Если, сэр, — заговорил он
размеренным и холодным голосом, — вам приходится задавать такие вопросы…
— То что? — нетерпеливо нажал Элиот.
— То я не имею права на них отвечать. — Мистер Хэдли смотрел не мигая, с окаменевшим лицом. — Раз вы ничего не знаете, сэр, то не мне раскрывать вам чужие тайны. Простите… — Он помялся и выговорил последнее слово с почти оскорбительным равнодушием: — Сэр!
Элиот полез в карман.
— Оставьте при себе ваши подачки, — поморщился старик. — Больше вы меня на этом не проведете.
Элиот опустил руку.
— Ну и ладно, — фыркнул он. Я с удивлением отметил, что лицо его вдруг просветлело. — Тогда скажите мне хотя бы вот что…
Ювелир упорно молчал.
— Вы давно видели сэра Джорджа? Последние пару недель он тут не появлялся?
Старик не промолвил ни слова.
— Должен быть честным с вами, — уступил Элиот. — Я действительно работаю на леди Моуберли. Сожалею, что счел необходимым ввести вас в заблуждение. Но она всего лишь хочет знать, жив ли еще сэр Джордж. Она его жена, мистер Хэдли… Я знаю, вы сами женаты. Так что прошу вас, — заглянул он в глаза старика, — призываю… Видели ли вы сэра Джорджа за последние две недели? Умоляю… Леди Моуберли очень беспокоится.
Ювелир отвернулся, взглянул на улицу и вновь перевел взгляд на Элиота.
— Где? — рявкнул Элиот.
Мистер Хэдли и глазом не моргнул.
— На улице? Вы видели его там?
Старик пожал плечами.
— Ну хорошо… Когда?
— Два дня назад, — со вздохом выдавил ювелир.
— Спасибо, мистер Хэдли, — улыбнулся Элиот. — Вы, должно быть, очень любите сэра Джорджа?
— Я всегда его любил, — проворчал старик. — С пеленок.
— Да, приятно засвидетельствовать это.
— Приятно, сэр?
— Да, мистер Хэдли, приятно. — Элиот обернулся ко мне. — Пошли, Стокер. Наше дело здесь завершено.
Он взглянул на карточку, которую все еще держал в руке.
— В свое время я навещу мистера Полидори. — Элиот приподнял шляпу. — Доброго вам утра, мистер Хэдли. Вы нам очень помогли. Благодарю вас за то, что уделили нам время.
И с этими словами он вышел из лавки. Я последовал за ним на улицу.
— Ну, Элиот, — спросил я в нетерпении, — как он вам показался?
— Честным и преданным.
— Да, преданным сэру Джорджу. А вы ожидали обратного?
— Я не был уверен.
— Почему? Что вы подозревали?
Элиот указал на дом, из которого мы только что вышли.
— Семья Хэдли занимает не только лавку, но и жилые комнаты на третьем этаже. Все необычное, что происходит в этом доме, должно со временем обратить на себя их внимание. Это было ясно даже из рассказа Люси… А теперь предположим, что на Хэдли нажали. Предположим, Хэдли втянули в заговор против сэра Джорджа. Насколько осложнится тогда наше дело. Что бы Люси ни видела в этой квартире, это не было какой-то внезапной катастрофой, но скорее эпизодом в цепи событий, длящихся, вероятно, уже несколько месяцев. Сам Хэдли, вполне возможно, подозревал, что что-то происходит. Вряд ли он ничего не знал.
— Почему же тогда он молчит?
— Судя по всему, он считает, что тем самым проявляет верность сэру Джорджу. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что, по его мнению, опасность сэру Джорджу сейчас не угрожает.
— Да, конечно, — вспомнил я то, на что намекал старик. — Он вроде подразумевал, что у сэра Джорджа имеется любовная связь.
— Не могу сказать, что меня это удивило. Когда леди Моуберли впервые пришла ко мне, у меня сразу же возникло такое подозрение. Джордж всегда питал слабость к прекрасному полу. Естественно, я не поделился этой теорией с леди Моуберли.
— Так вы говорите, Элиот, это возможно?
— О, более чем возможно. Я почти с уверенностью могу утверждать, что у него был какой-то роман.
— Почему же тогда его убили?
— Ас чего вы взяли, что его убили?
— Но… — Я пришел в крайнее изумление. — Люси говорила… она видела, как его…
— Нет-нет! — замотал головой Элиот, прерывая меня. — Это совершенно невозможно. Вы сами осмотрели ковры. Там, в комнате, не происходило никакого кровопролития, и никому не перерезали глотку. И все же перед нами тайна. Люси видела Джорджа с улицы, но, когда она вошла в комнату, он исчез. Куда? Что с ним случилось?
— Признаюсь, я совершенно растерян.
— Конечно. Так вам не под силу догадаться?
Я задумался.
— Знаю! — внезапно вскричал я. — Сэра Джорджа задушили, а его труп спрятали в квартире Хэдли!
— Интересная теория. — На губах Элиота заиграла легкая улыбка. — Но маловероятная. Мы же согласились, что Хэдли предан своему прежнему хозяину. Осмелюсь предположить, что он не возрадовался бы возможности приютить убийцу с трупом сэра Джорджа на плечах.
— Вы, конечно, правы, — признал я со вздохом.
— Ну же, Стокер, думайте! Два решения напрашиваются сами собой.
— Правда?
— Да, это очевидно. — Элиот глянул на меня заблестевшими глазами специалиста, перед которым предстала задача на испытание его таланта. — Первое, к сожалению, самое маловероятное из двух, но возможно, что раджа это и есть сам сэр Джордж] Эта идея поразила меня во время рассказа Люси. Да-да, — торопливо сказал он, увидев, что я раскрываю рот, чтобы возразить ему. — Я уже согласен с тем, что это маловероятно. Люси видела раджу и говорила с ним. Она крайне наблюдательна и хорошо знает сэра Джорджа, к тому же она не из тех, кого легко провести. Кроме того, остается без объяснений то, что она видела в окне квартиры. Однако мы пришли к выводу, что у сэра Джорджа была любовная интрижка. Если мы правы, согласитесь, у него были причины изменить свою внешность. Наша теория также может объяснить присутствие раджи в театре вчера вечером — он пришел посмотреть первое выступление Люси. Так что мне не хотелось бы списывать со счетов эту идею. Я предпочел бы вначале сам понаблюдать за раджой.
— Вы не убедили меня, Элиот, — не согласился я, — Путаность этой теории перевешивает ее преимущества.
— Да, — ответил он. — Но надо подождать. Кто знает, что время и внимательное наблюдение откроют нам?
— Вы упомянули о второй теории… В чем она заключается?
— А вот здесь, — тощее лицо Элиота внезапно потемнело, — мы вступаем в более темные сферы…
— Можете мне рассказать? — спросил я, отметив сдержанность его голоса.
— Не в подробностях, — ответил он, — ибо здесь замешаны большие государственные дела, и если они связаны с исчезновением сэра Джорджа, а я боюсь, что это так, то тогда мы столкнулись с опасным и ужасным заговором. Вот почему я все же надеюсь, что таинственный раджа окажется сэром Джорджем Вариант, что раджа Каликшутры действительно тот, за кого себя выдает, слишком мрачен, чтобы допускать его возможность.
— Но почему? — ужаснулся я, одновременно преисполняясь любопытством. — В чем суть подозреваемого вами заговора?
— Вы помните, что мой интерес к этому делу вызвала не Люси, а леди Моуберли. Она высказала глубоко удручившее меня предположение, что исчезновение сэра Джорджа связано со смертью Артура Рутвена.
— Бог ты мой! — вскричал я. — Связано, Элиот? Но как?
— Одним своеобразным обстоятельством Обоих оскорбили анонимными посланиями. Первое было почти смешным. Артуру, у которого, как я полагаю, имеется больше редких монет, чем у кого-либо в Лондоне, написали, что его коллекция потеряла ценность. Второе послание, пришедшее через некоторое время вслед за первым, звучало более оскорбительно. Леди Моуберли, любившей мужа с юных лет, сообщили, что сэр Джордж ей изменяет.
— Ну, честно говоря, так и было.
— Истинность оскорбления не имеет значения. Имеет значение цель обоих посланий.
— Но они такие разные, на мой взгляд.
— Напротив, — возразил Элиот, — они весьма схожи. Не видите, Стокер? Они оба пытались спровоцировать необходимость в оправданиях.
— Что вы имеете в виду?
— С делом Артура Рутвена все ясно, как я понимаю? Хорошо. Теперь возьмем Джорджа… Стокер, вы женатый человек. Представьте следующий сценарий: вашей жене говорят, что вы ей неверны. Что бы вы сделали?
— Постарался бы убедить ее в своей верности.
— Ну конечно же… Вы бы попытались оправдаться. Но идем дальше. Через несколько дней у вашей жены день рождения. Что бы вы еще сделали?
— Купил бы ей что-нибудь, какой-нибудь чудесный подарок.
— Замечательный ответ! Именно так!
— Драгоценности! Разумеется! Он купил ей драгоценности!
— Как покупает их всем своим женщинам. Помните, что Хэдли сказал нам? Они хорошо знали эту его черту и на ней сыграли.
— Они?
Да, они… — Он помедлил, и его лицо напряглось от раздумий— Эти силы заговора, — пробормотал он, — сколь они коварны! Как глубоко раскинули они свои сети.
— Так вы думаете, этот Полидори…
— Ну, это тот еще пройдоха!
— Почему?
— Вся эта белиберда о лавках в Ротерхите и сказочных драгоценностях! Если у него такие бесценные изделия и он честный человек, что ж он не купил лавку на Бонд-стрит? К чему эта запутанная посредническая сеть? Нет-нет, это все патентованное жульничество! С ясной целью: заманить Джорджа в Ротерхит, в определенное место, — он взглянул на карточку— на Колдлэйр-лейн, 3. Но зачем? Зачем, Стокер, зачем?
— Вы сказали, у вас есть теория…
Он взглянул на меня, словно решаясь на что-то, и взял меня под руку. Подойдя к Ковент-Гарден, мы свернули в узкий переулок, в сторону от сутолоки у овощных рядов, туда, где желтые испарения, поднимающиеся с Темзы, заглушали наши голоса и окутывали фигуры.
— Помните, — произнес Элиот низким голосом, — драгоценности, которые Полидори давал взаймы, происходили из определенного района в Индии?
— Да, — ответил я — из Каликшутры.
— Хорошо, — кивнул Элиот. — Тогда вот вам несколько интересных фактов. Сэр Джордж Моуберли — министр, ответственный за наши границы в Индии. Артур Рутвен до исчезновения был высокопоставленным дипломатом, работавшим над проведением законопроекта. Каликшутра, как я знаю по собственному опыту, ибо до недавнего времени жил там, самое беспокойное королевство на всей границе. Вы сами, Стокер, должны помнить, что мать бедного Эдварда Весткота убили именно там. Уверен, вы согласитесь, что совпадений чересчур много…
— Вы полагаете, это попытка сорвать принятие законопроекта?
— Скажем, есть такая возможность.
— Но Артур Рутвен… его нашли убитым..
— Да, тело его было совершенно обескровлено.
— Тогда — сожалею, что говорю это, — не логично ли будет предположить, что сэра Джорджа тоже убили?
— Не обязательно. Нет, если его удалось изменить.
— Изменить?
Элиот вздохнул и долго смотрел на завихрения тумана.
— Я сказал, — промолвил он наконец, — что сам был в Каликшутре…
Он закрыл глаза, и его лицо с обтянутыми кожей скулами вдруг приобрело очень усталый вид.
— Там свирепствует ужасная болезнь, — проговорил он. — Помимо прочих симптомов она влияет на разум…
— Боже милосердный, что вы такое говорите? — вскричал, я.
— Интересно… просто интересно… — Голос его словно замер, заглушенный желтым туманом, проникшим ему в горло. — Не могло ли так случиться, что сэр Джордж каким-то образом оказался порабощенным этой болезнью? Тогда это объяснило бы то, что Люси видела с улицы. Джорджа не убивали. Просто, когда на лицо ему накинули тряпку, он окончательно утратил свой и без того уже слабый самоконтроль. Затем раджа провел свою жертву вверх по лестнице, где оба они затаились.
— Сэр Джордж оказался во власти раджи?
— Вот именно. И был сведен до уровня зомби, если хотите.
Я обдумал эту возможность.
— Да, — медленно произнес я наконец, — да, это почти соответствует фактам.
— Почти? — нахмурился Элиот.
— Тряпка… которую накинули на лицо сэра Джорджа… Вы полагаете, это был хлороформ или что-то в том же роде?
— Да, — отрывисто буркнул Элиот. — Что-то в этом роде.
— Но там, в комнате, вы нашли пятнышки… и сказали, что это определенно кровь…
— Да, это так. — Элиот отвернулся. Он разозлился оттого, что в такой мелочи, как эта, мои рассуждения оказались точнее его собственных. — Но вместе с тем я отметил, — произнес он с некоторой резкостью в голосе, — что случай наш еще не до конца прояснился.
Он зашагал в сторону уличного шума и сутолоки Стрэнда, а я последовал за ним. Элиот шел так быстро, что мне пришлось догонять его почти бегом. Он бросил взгляд на Веллингтон-стрит.
— Стокер, — воскликнул он, — смотрите-ка, мы вернулись к «Лицеуму»! Я слишком долго отвлекал вас от работы.
Ясно было, что я надоел ему больше, чем мог предполагать.
— И что вы собираетесь делать сейчас? — спросил я.
— Как вы только что сами отметили, надо еще очень многое расследовать.
— Могу ли я чем-то помочь вам?
— Не сейчас.
Я счел, что мне дают отставку, поэтому, попрощавшись с ним, повернулся и зашагал к театру.
— Стокер! — крикнул он.
Я обернулся.
— Люси будет в театре сегодня вечером?
— Должна быть, — ответил я. — А вам от нее что-нибудь нужно?
— Подвеску с шеи.
— Подвеску? — с удивлением воззрился я на него. — Но зачем?
— Значит, вы ее плохо рассмотрели, — подавил он смешок и потер руки. — Будем считать это моей прихотью. Увидимся. — Он приподнял шляпу. — Прекрасно]’о вам дня, мистер Стокер!
— Сгораю от желания быть у вас в помощниках, — прокричал я ему вслед.
— Ну еще бы! — ответствовал он, но не обернулся и вскоре исчез в водовороте уличного движения и тумана.
Я начал проталкиваться сквозь толпу прохожих. Меня ждал «Лицеум».
Я с головой ушел в дела театра, почти позабыв о море чудес, по которому плыл всего несколько часов назад. Мистер Ирвинг, как часто бывало с ним после триумфального первого представления, был раздражен и не в духе — он пребывал в том скверном настроении, какое охватывает любого великого артиста, после того как он отдает роли все свои душевные силы, и находиться с ним рядом было нелегко. Он преследовал меня как дух, одетый во все черное, и я даже стал бояться его высокой тощей фигуры как вестника печали или, по меньшей мере, источника приказов и жалоб. Вскоре я почувствовал, что изрядно измотан. Естественно, я почти забыл об Элиоте и удивился его появлению в начале вечера, когда я осматривал кресла бельэтажа.
Я был рад его видеть, тем более что лицо его отражало состояние удовлетворенности.
— Добились кое-какого успеха? — поинтересовался я.
— Полагаю, что так, — ответил он. — После полудня работал у себя в лаборатории.
— Ах вот как?
Элиот кивнул:
— Анализировал два пузырька из-под лекарств, которыми пользовалась леди Моуберли. Одно, которое она принимает сейчас, абсолютно безвредно. Другое, которое она только что закончила принимать и пузырек от которого выбросила, было напичкано опиатами.
— Вы хотите сказать, что ее одурманивали?
— Вне всякого сомнения. Именно потому, что лекарство в прежнем пузырьке закончилось и теперь она пила из нового, леди Моуберли проснулась, когда к ней проникли взломщики. Поэтому мы должны предположить, что они бывали у нее в доме и раньше.
— Но с какой целью?
— Увы, на эту тему я рассуждать не могу.
— Значит, это связано с делами государственной важности?
— Стокер, вы тактичный человек. Я вынужден просить вас не давить на меня.
— Извините. Мое любопытство только показывает, насколько я заинтригован этим делом.
Элиот улыбнулся:
— Так я могу надеяться, что вы снова хотите помочь мне?
— Если буду хоть чем-то полезен…
— Вы свободны сегодня вечером?
— После спектакля.
— Отлично. Возьмите кэб, и пусть он стоит в проулке у выхода из театра.
— А что, — спросил я, — вы чего-то ожидаете?
Элиот отмахнулся от вопроса, словно от назойливой мошки, и при этом я увидел, как в руке у него блеснуло что-то серебряное.
— А, так вы уже повидались с Люси? — удивился я. — Полагаю, это ее подвеска у вас в руке?
Элиот разжал ладонь.
— Посмотрите на нее повнимательнее!
Изучая подвеску, я увидел то, что пропустил раньше: это была монета, изумительной выделки и очень старинная.
— Откуда она?
— Из холодной руки мертвого Артура Рутвена, — ответил Элиот.
— Уж не хотите ли вы сказать, что…
— Да. Он сжимал ее, когда его труп выудили из Темзы.
— Но зачем? Вы думаете, это имеет какое-то значение?
— Это, — произнес Элиот, вставая, — я надеюсь сейчас разузнать. Нет-нет, Стокер, оставайтесь на месте. Увидимся вечером. И не забудьте заказать кэб.
Не успел я ответить, как он скользнул за занавеску за креслами и вновь исчез. Я бросился было за ним, но, выбегая из бельэтажа, чуть не сшиб Генри Ирвинга, бушевавшего из-за каких-то поломанных декораций, так что мне пришлось с места в карьер заняться этим занудством. Позднее я удовольствовался заказом кэба, а в остальном оставалось только ждать.
Время, однако, летело быстро. Вечерело, актеры надевали костюмы и гримировались. Я тоже натянул фрак и стоял, как положено, на лестнице у служебного входа, готовый встретить наших зрителей. Валом валил поток ярчайших звезд лондонского общества, и, приветствуя их, я чувствовал, никогда не преходящую приподнятость от того, что я директор театра «Лицеум» и величайший актер в этой своей роли. И все же, даже болтая с гостями и улыбаясь им, не переставал гадать, какие неожиданности принесет мне сегодняшний вечер, какие заговоры и мрачные тайны мы, может быть, раскроем. Все больше уютный мир театра казался мне странным и отдаленным, а толпы женщин в драгоценностях и мужчин в накрахмаленных манишках выглядели бесцветными и несущественными тенями по сравнению с яркими образами, теснящимися в моем воображении. Мне привиделось, что предо мною та странная женщина, которую описала Люси, женщина чрезвычайной красоты, с глазами, полными тайн. Мне привиделось также, что предо мною раджа, ужасный и жестокий… И вдруг в потоке людей, поднимающихся по лестнице, я увидел его! Раджа! Без сомнения, это был он! Он был во фраке и длинном развевающемся плаще, а выделяла его из толпы чалма на голове, ибо материал ее был сказочно богат. Прямо над его лбом сиял алмаз, такой огромный, каких мне никогда не приходилось видеть. По мере того как раджа проходил, люди хмурились или пятились, уступая ему дорогу.
Я без промедления подошел поприветствовать его на правах хозяина вечера, но, взглянув ему в лицо, почувствовал, что слова застряли у меня во рту. Не могу объяснить почему, но меня вдруг охватило чувство крайнего отвращения и брезгливости. Губы его, исключительно полные и влажные, были сложены так, что казалось, будто уголки рта кривятся в похотливой усмешке. Глаза — черны как ночь. Черты лица — словно высечены из камня, но в то же время в них присутствовала какая-то мягкость, намекавшая на несдержанность и блудливость. Чрезвычайная бледность его кожи бросалась в глаза. Короче говоря, я никогда не встречал человека, которого бы сразу так возненавидел. Я с трудом удержался от того, чтобы не сжать кулак и не ударить его. Раджа, по-видимому, почувствовал мою ненависть, ибо улыбнулся, обнажая зубы, белые, как жемчуг, и необычно острые, отчего жестокость выражения его лица лишь усилилась. Не в силах совладать с собой, я отступил на шаг. Раджа горько улыбнулся и, мелькнув плащом, ушел Я последовал за ним, чтобы посмотреть, где он сядет. Оказалось, в той же ложе, что и накануне. Заметив это, я в крайнем недоумении вернулся к себе в контору, размышляя, что скажет об этом Элиот.
Когда спектакль близился к концу, я поспешил на улицу — проверить, на месте ли наш кэб. Он стоял там, где я приказал ждать нас: в темном проулке, где его нелегко было заметить. Я дал вознице чаевые, велел ему быть готовым к выезду в любое время, повернулся и двинулся назад. Я было снова вошел в «Лицеум», как кто-то схватил меня за руку. Я резко обернулся. Это был Элиот.
— Слава Господу! — вскричал я. — Раджа здесь!
— Отлично! — Элиот потер руки.;— Я, вообще-то, подозревал, что он сегодня появится. Идемте внутрь. В это время года ветер слишком холоден.
Я провел его в фойе, откуда мы могли наблюдать за покидающими театр зрителями.
— А я весьма интересно провел время, — заметил Элиот, когда мы вошли внутрь. — Дело наше близится к завершению.
— Неужели? — изумился я. — С монетой все разрешилось удачно?
— Исключительно удачно, — ответил он, пошарил в кармане и, вынув монету, поднес ее к свету. — Обратите внимание на надпись, Стокер. Это по-гречески.
Он передал мне монету, и я медленно прочел едва видные буквы одну за другой:
— Киркеион… Что это? Город? Никогда не слышал о таком, — признался я.
— И не могли слышать, ибо слава его не дожила до наших времен. Монета же, без сомнения, абсолютно подлинная. А стоимость ее буквально не поддается определению.
— Кто вам это сказал?
— Эксперт из «Спинка», у которого я проконсультировался. Вы же знаете, Стокер, это самый известный дом по оценке монет в Лондоне. Артура Рутвена там хорошо знали. Все эксперты были знакомы с ним. Я переговорил с тем из них, кто проводил последнюю сделку с Артуром.
— И что же сообщил этот эксперт?
— Он хорошо помнил беседу. Артур был возбужден до крайности, все расспрашивал о том, не слышал ли эксперт о появлении в обращении редких монет. Эксперт поначалу ничего не мог припомнить, но Артур настаивал, и служащий вспомнил-таки, что ему приносили пару странных монет — серебряных, очень древних, из совершенно неизвестного города.
— Боже. — Я глянул на монету у себя в руке. — Таких, как эта?
— Именно. Эксперт очень взволновался, когда я показал ему монету, которую вы сейчас держите. Он принес мне две оригинальные монеты, оставшиеся непроданными с того дня, как Артур осматривал их. Их цена, как я уже говорил, астрономическая. Когда я их увидел, стало ясно, что эксперт совершенно прав: монеты происходят из одного и того же места.
— И что же это за место, как вы думаете?
— Неужели не догадываетесь? — слегка улыбнулся Элиот.
Он снова полез в карман, но на этот раз вынул записную книжку.
— К шкатулке с монетами была пришпилена карточка. Дальнейшие справки следовало наводить у указанного на ней лица. Эксперт любезно списал данные для меня. — Элиот раскрыл записную книжку. — Прошу!
— Джон Полидори, — прочел я, — Колдлэйр-лейн, 3… Но, Боже мой, Элиот, это же чрезвычайно!
— Совсем наоборот — ничего чрезвычайного. Просто подтверждает мое начальное подозрение, что и. Артура, и Джорджа намеренно заманили в Ротерхит.
— Тогда нам надо немедленно мчаться туда! — вскричал я. — Элиот, чего мы ждем?
Он похлопал меня по руке:
— Рад, что вы на моей стороне, Стокер, но прежде — немного терпения. Этот Полидори, кем бы он ни был, не единственная рыба, которую нам надо поймать. Вы говорите, раджа здесь, в театре? Вот и хорошо, подождем его.
И как раз в этот самый момент из зала донесся взрыв аплодисментов.
— Спектакль закончился? — спросил Элиот.
Я посмотрел на часы:
— Вроде пора.
— Тогда быстрее, — торопливо бросил он, — нам нельзя терять ни минуты.
Мы выскочили на улицу и кинулись, увертываясь от проезжающих мимо экипажей, к темному проулку, где в укрытии нас ждал кэб.
— Вперед! — шепнул Элиот вознице. — Чтобы мы могли проследить за теми, кто будет покидать театр через запасной выход. И не забудьте держаться в тени…
Возница повиновался, и мы увидели, как первая волна театралов выплеснулась на улицу.
— Вас не хватятся сегодня вечером? — обратился ко мне Элиот.
— Без сомнения, хватятся.
— Мистер Ирвинг вроде собирался вас отпустить?
— Не собирался, — улыбнулся я, — но мистеру Ирвингу иногда надо и отпор дать. А то он из меня все соки высосет!
Элиот, тоже улыбнувшись, хотел было что-то заметить, но вдруг замер и схватил меня за руку.
— Вон, — прошептал он, указывая, и я увидел, что по лестнице сходит раджа Опять перед ним расступалась толпа, а он, словно Моисей, шествовал по водам. Элиот наклонился. — Сложен он, как Джордж, — пробормотал он, — но лицо…
Голос его замер, а на лице появилось отврахцение, которое недавно испытал я сам..
— Вы почувствовали?.. — заметил я. — Это непонятное отвращение…
Лицо Элиота странно потемнело. Но он не ответил, а вместо этого шепнул на ухо вознице:
— За ним!
Кэб, заскрипев, двинулся вперед. Раджа тоже влез в кэб. Это озадачило меня, ибо я думал, что при такой богатой квартире у него просто обязан быть экипаж. Однако Элиот нисколько не удивился, а просто попросил возницу ни на минуту не терять кэб раджи из виду.
— Если сумеете остаться незамеченным, — добавил он, — гинея вам сверх платы за проезд!
Возница дотронулся до шляпы. Мы проследили за тем, как кэб с раджой промчался мимо. С минуту мы оставались на месте, потом возница щелкнул кнутом, и наш кэб тоже загрохотал по улице.
Выпутавшись из бедлама толпы и экипажей, мы набрали скорость. На подъезде к повороту на Лондон-бридж Элиот наклонился вперед. Лицо его приняло настороженное выражение, тело напряглось. Но кэб перед нами не свернул, продолжая грохотать по северному берегу Темзы. Элиот с недовольным видом сел обратно на место.
— Мои расчеты не оправдались, — сообщил он. — Нас обнаружили, любезный Стокер! Я был уверен, что наш раджа поедет в Ротерхит, к таинственному Полидори. Однако мы проехали последний мост через Темзу, а так и не свернули на юг. Дурак я, безнадежный дурак…
— Вы хотите прервать преследование? — уточнил я.
Элиот раздраженно пожал плечами и, махнув рукой, принялся вглядываться сквозь легкий туман в предмет нашего преследования. Кэб с раджой виделся во тьме лишь тусклым силуэтом, но сейчас он замедлил ход, ибо мы рке выехали из Сити и въезжали в Ист-Энд, а дорога под колесами кэба стала заметно ухабистее. Улицы тоже сузились, и туман вился белыми клочьями над скользкими камнями мостовой. Любой свет от уличного фонаря или из окон бара сочился еле-еле, ничего не освещая вокруг. Вскоре из виду исчезли даже фонари; виднелись лишь заколоченные досками витрины лавок и двери домов между кучами мусора, а если попадались прохожие, то лица у них были, как у грешников в аду, — бледные, с мертвенным взглядом. Время от времени они пронзительно кричали что-то нам вслед или зловеще хохотали. Мне стало не по себе, но с Элиота, который не спускал глаз с кэба впереди, спала апатия, и к нему вернулась прежняя бодрость.
— Держитесь подальше, — торопливо прошептал он, ибо кэб впереди нас замедлил ход, после чего свернул в темную узкую улицу и пропал.
Медленно мы подъехали к проулку. Элиот высунулся из кэба. Улица была пуста. Элиот махнул вознице, чтобы тот двигался дальше. Наш кэб запрыгал по выщербленным скользким камням. В окнах над нами появились огни — немногочисленные, красные и тусклые, — а за шторами временами мелькали чьи-то силуэты. Впереди у стены скопились какие-то тени. Некоторые из них поднялись при нашем приближении, но большинство остались на месте и в своей убогости едва ли походили на людей. Элиот оглянулся на них, и я заметил написанный на его лице ркас-ный гнев. Затем перед нами замаячил какой-то лес из тесно стоящих деревьев, и наш кэб потихоньку остановился.
— Опять эти тени, — шепотом проговорил Элиот, ибо улица и скопище домов остались позади.
Мы оказались у причала, уходящего влево от нас и заваленного мешками и ящиками. На фоне полной желтой луны виселицами прорисовывались черные мачты. За темными, тихими силуэтами виднелась Темза, несущая воды к морю.
— Вон там, — прошептал Элиот, показывая.
Я взглянул. Из кэба вышел раджа и зашагал вдоль зданий у причала; свернув в узкий проулок, он пропал из виду. Элиот сразу же выскочил из кэба, а я последовал за ним. Мы расплатились с возницей и осторожно двинулись за раджой. Войдя в проулок, Элиот жестом приказал мне пригнуться. Мы прокрались вперед и спрятались за грудой ящиков, откуда могли беспрепятственно наблюдать за улицей. Мы с трудом разглядели раджу, почти неразличимого в своем черном плаще на фоне грязных камней мостовой. Он разговаривал с какой-то женщиной, потом вдруг склонился над ней и схватил ее в объятия.
Элиот вдруг напрягся.
— Смотрите! — шепнул он.
Я присмотрелся к происходящему. Раджа, крепко сжимая женщину в объятиях, принялся целовать ее шею.
— А чего ради на это смотреть? — прошептал я. — Не вижу тут ничего опасного.
Но Элиот, к моему удивлению, был поглощен этим зрелищем, и лицо его замерло в угрюмом напряжении. Я никак не мог понять, чего он опасается. Сам я никоим образом не сомневался в намерениях парочки. Поцелуи раджи становились все дольше, и он стал медленно расстегивать блузку женщины. Прижав женщину к стене, он приподнял ее над мостовой, потираясь щеками об ее обнажившиеся груди. Элиот протянул руку, словно предупреждая меня о каком-то надвигающемся ужасе, но мне хватило этого зрелища, и я отвернулся. Вдруг раздался вскрик и стон, и, к своему удивлению, я услышал, как Элиот подавил смешок у меня над ухом. Я вновь вгляделся вдаль. Раджа и его потаскушка вовсю совокуплялись, но я не видел причины веселиться над столь скабрезным зрелищем. Элиот же сиял от удовольствия.
— Слава Богу, — сказал он. — Я действительно опасался, что мы узрим нечто куда худшее.
Он снова взглянул в проулок и опять подавил смешок.
— Думается, — шепнул он, — нам понадобится лодка. Проверьте, можно ли нанять ее. И ждите меня там.
Я раскрыл было рот, намереваясь потребовать объяснений, но Элиот махнул рукой, прогоняя меня, и уставился на раджу и его шлюху. Я покинул его, не понимая, что все это значит. Но моя вера в способности Элиота была по-прежнему сильна, и я поступил в соответствии с его указаниями: нашел старика лодочника, согласного сдать нам на прокат лодку, хотя и по откровенно грабительской цене. Затем с полчаса я лежал в укрытии у сходней, ведущих к лодкам, и дожидался возвращения Элиота Начал накрапывать мелкий дождь. Луна вскоре скрылась за черными клочьями туч.
Вдруг я увидел, что Элиот ищет меня. Я вскочил, замахал ему, и он побежал ко мне вдоль причала.
— Скорее! — сказал он, вскакивая в лодку. — Они уже отчалили, но у них весла, как и у нас, так что нагоним!
— Они? — спросил я, когда мы начали выгребать меж двух гигантских судов.
— Да, — кивнул Элиот, — в их лодке гребет какой-то ужасающий урод. Боюсь, он заставит нас попотеть. Крепок, черт!
— Я когда-то считался очень сильным гребцом, — поведал я ему.
— Отлично, Стокер! — вскричал он. — Тогда помогите лодочнику. А я, если не возражаете, сохраню энергию для предстоящего дела!
Он пробрался на нос лодки и принялся напряженно всматриваться в темноту, окутавшую поверхность реки.
— Вон там! — вдруг вскричал Элиот, показывая.
Неподалеку я заметил крохотную лодочку, борющуюся с течением и направляющуюся к дальнему берегу.
— Они плывут к Ротерхиту, — заявил Элиот с охотничьим блеском в глазах. — Уверен, что туда.
Его тонкое, возбужденное лицо осветила изнутри отчаянная энергия:
— Быстрее! Быстрее! Нам надо перерезать им дорогу, прежде чем они подгребут к берегу!
Гонка проходила весьма напряженно, ибо наши соперники были далеко впереди. Но постепенно мы начали нагонять их, а когда из темноты перед нами вдруг неожиданно выскочил буксир, прорезав тьму лучом своего фонаря, я довольно отчетливо различил фигуры преследуемых. Раджа сидел спиной, но когда он обернулся, я увидел, что ужасающая жестокость, ранее замеченная мною, исчезла с его лица, уступив место настороженности и почти что страху. Его спутник, сидевший в лодке лицом к нам, не выказывал никаких эмоций. Как и говорил Элиот, это было необычайно сильное и уродливое существо. Ужасающе бледное даже в свете огней дальнего берега лицо блестело. Глаза, однако, были настолько мертвенны, что, казалось, глазные яблоки у него отсутствуют. Короче говоря, вид его был жуток, и в темноте он походил на Харона, перевозящего мертвецов в царство теней. Вот так и гнались мы, борясь с грязными водами реки. Впереди мерцали огни Лондона, красноватые на фоне накрапывающего дождя, а по обеим сторонам не было ничего, кроме темноты, полной угрюмого безмолвия. Никто во всем великом городе не знал о нас, и мы вели свою битву на протекавшей через его сердце реке в страннейшей гонке, еще не виданной ее водами.
Мало-помалу мы настигали лодку противника.
— Они вроде направляются к верфям, — прокричал Элиот. — Но мы их нагоним!
Ему пришлось кричать, ибо к нам приближался торговый пароход и шум его машин звучал все оглушительнее. Я оглянулся — пароход возвышался над нами и расходящиеся от него волны принялись раскачивать нашу лодку. Я вовсю работал веслами, на пляшущих волнах, и вдруг Элиот выкрикнул что-то, прыгнул вперед и повалил меня за собой на дно лодки. В тот же миг я услышал, как мимо моего плеча что-то просвистело. Выглянув, я увидел, что гребец в лодке впереди нас вскочил, сжимая в руках револьвер. Он вновь прицелился, раджа рявкнул на него и хотел было схватить за руку, но урод отбросил его и вновь навел револьвер на голову Элиота. Однако в момент выстрела их лодку качнуло волной, и он промахнулся. Наш лодочник что-то проорал мне в ухо, но я не расслышал, ибо торговый пароход почти подмял нас и шум от машин стоял ужасный. Лодочник громко выругался и шмыгнул мимо меня. Он что-то вытащил из-под брезента, и я узрел в руке у него старый револьвер. Он прицелился в урода. Раздался выстрел. В это самое время лодку нашу сильно качнуло прихлынувшей волной, мы все попадали — в общем, я так и не понял, попал он или нет.
Когда я вновь взглянул на лодку впереди, то обнаружил, что урод распростерся на корме, рука его упала в воду и тащится за лодкой, а из головы стекает ручеек крови. Наш лодочник ухмыльнулся беззубой улыбкой.
— Бывал я в южных морях, — проорал он мне в ухо, — а там пираты… Быстро учишься стрелять при качке!
Волна, окатившая нас, теперь ударила по их лодке, отчего урода смыло в темные грязные воды, и он стал покачиваться на волнах, лицом вниз, как поплавок. Раджа вскочил и в ужасе уставился на плавающий труп. Лодочник вновь прицелился из револьвера.
— Не надо! — вскричал Элиот, хватая его за руку, но лодочник уже выстрелил, и раджа, заорав и замахав руками, упал в реку.
Волна подхватила его тело и почти подтащила к спуску с верфи, а нашу лодку, поскольку торговый пароход уже прошел мимо, течение вновь стало относить назад.
— Смотрите! — сказал Элиот.
К подножию верфи прибило какой-то ком тряпья. Ком зашевелился, и я понял, что это человеческая фигура. Она медленно поднялась на ноги и оглянулась на нас. Это был раджа. Элиот нахмурился, а костяшки пальцев, которыми он сжимал борт лодки, сильно побелели. Повернувшись к нам спиной, раджа начал взбираться на берег. Взобравшись, он шмыгнул в тень, и его поглотила темнота.
Тонкие черты лица Элиота угрюмо застыли. Он не промолвил ни слова, когда мы причалили к верфи, выскочил из лодки, помог выбраться мне и присел на корточки у спуска.
— Мы вам очень благодарны, — обратился он к лодочнику.
— Это вам обойдется в две гинеи, — ответил тот.
Элиот полез в карман, вынул монеты и сунул в ладонь речника.
— Труп, конечно, найдут, — пробормотал он.
— Найдут, — сказал лодочник, усмехнувшись. — А может, и нет.
— Так позаботьтесь об этом! — Элиот повернулся ко мне. — Идемте, Стокер. У нас ведь срочное дело.
Мы поднялись на берег. Я оглянулся на лодочника — он уже отплыл — и последовал за Элиотом.
— Что теперь? — спросил я.
Элиот, всматривавшийся в расходящиеся от верфи улицы, обернулся.
— Что теперь? — улыбнулся он. — Что ж, Стокер, мы приближаемся к разгадке тайны.
— Но мы упустили его!
— Кого?
— Право, Элиот, кого вы думаете? Конечно, раджу!
— А, да, естественно. Ну так пойдем и выследим его.
— Вы знаете, где его найти?
Элиот указал на мерзкого вида улицу прямо перед нами. Мы подошли к угловому дому, и Элиот ткнул в табличку на стене.
— Колдлэйр-лейн, — прочел я. — Боже, значит, ваши подозрения оправдались?
— Кажется, да, — кивнул он. — И все же, Стокер, боюсь, что я слегка запутался. Одна сторона этого дела мне до сих пор непонятна.
— Только одна?
— Ну да. Ведь сейчас дело вырисовывается очень ясно.
— Не для меня, — ответил я.
— Тогда сделаем так, — он зашагал по грязной Колдлэйр-лейн. — Навестим мистера Полидори.
Мы двинулись по улочке, заваленной мусором и на вид совершенно заброшенной, ибо окна домов на ней были заколочены досками, а на большинстве дверей висели цепи и замки.
— Ну, вот мы и пришли, — пробормотал Элиот, останавливаясь. Он постучал в дверь, на которой мелом была жирно выведена цифра «3». Подождав, Элиот отступил на середину улочки, я — за ним. Перед нами оказался вход в лавку. Над витриной висела вывеска, на которой было написано: «Дж. Полидори. Сувениры». На темной, обшарпанной витрине не было ничего, кроме какой-то дряни.
Элиот показал на окно над лавкой:
— Видите, там, за шторами, что-то слабо мерцает?
Я всмотрелся, но ничего не увидел. Комнаты наверху, как мне показалось, были погружены во тьму.
— Вон! — крикнул Элиот, и на этот раз я заметил какой-то оранжевый блеск, словно от искры. Элиот подошел к двери и забарабанил по ней. — Прошу вас! — закричал он. — Откройте!
— Тут пахнет коварным и ркасным преступлением, — объяснил он мне. — Когда нам откроют, надо действовать с величайшим хладнокровием. И тогда, надеюсь, нам удастся сорвать «заговор» нашего противника.
Он вновь поднял глаза на окно.
— Идет! — шепнул он.
Теперь и я услышал шаги из глубины лавки. Они остановились, заскрежетал отодвигаемый засов, и дверь со скрипом отворилась.
— Да?
Мне в нос ударила жгучая, кислая вонь. Я вспомнил, что нам рассказывала Люси о дыхании слуги.
— Мистер Полидори, — с крайней вежливостью заговорил Элиот, — мне ваш адрес дал друг. Думается, у нас могут оказаться общие… э-э… интересы.
— Интересы? — прошипел голос из-за полуоткрытой двери.
Элиот взглянул на окно над лавкой:
— Мы с другом приехали издалека…
Говоря это, он жестом показал на меня. Я старался не подавать вида, но, признаюсь, такой подход застал меня врасплох, ибо я не имел ни малейшего представления, о каких «интересах» идет речь. Полидори же, видимо, понял и, помедлив, открыл дверь.
— Тогда вам лучше войти, — пробормотал он, впуская нас в лавку.
Полидори запер дверь и повернулся к нам. Он был очень бледен, и шея его как-то странно изгибалась, но, если не считать этого, он был даже красив. На мой взгляд, ему было лет двадцать пять. Но что-то в его облике насторожило меня, не берусь объяснить что — возможно, какое-то беспокойство во взгляде и выражении лица. Оказавшись с ним в запертой лавчонке, я почувствовал напряжение и приготовился к самому худшему.
— Наверх? — спросил Элиот.
Полидори склонил голову.
— После вас, — произнес он шелестящим голосом.
Он жестом показал на ветхую лестницу, и мы поднялись по ней — друг за другом, ибо проход был очень узок. Взбираясь, я почувствовал, как во мне поднимаются сильный ужас и отвращение, необычные для меня, ибо меня так легко не испугаешь. Причина была, однако, скорее физиологическая, ибо к вони дыхания лавочника теперь примешивался другой смрад, тяжелый и сладкий, смрад коричневого дыма, курящегося в комнате наверху. Я ощутил, как какие-то странные образы, словно насекомые, зашевелились в уголках моего сознания; я попытался отогнать их, но в то же время испытал искушение поддаться им, ибо они, казалось, обещали необычные удовольствия, великую мудрость и убежище от моих страхов. Однако я вспомнил предупреждение Элиота и собрался с силами.
Наверху, у лестницы, висела штора из пурпурного шелка Элиот отодвинул ее, и мы вошли в комнату, полную бурого дыма, запах которого я ощутил еще внизу. Прошло несколько секунд, прежде чем мои глаза привыкли к этой пелене. На стенах висели изношенные гобелены, а в дальнем углу комнаты стояла металлическая жаровня. Время от времени она постреливала, летели искры, и я понял, что с улицы мы видели отблески горящего древесного угля. На огне стоял горшок, в нем что-то тушилось, а присматривала за всем старуха-малайка. Она взглянула на нас, и я про себя отметил, насколько она морщинистая и старая, с глазами, как тусклое стекло. Вдруг она принялась раскачиваться на стуле, громко смеясь, а человек, свернувшийся поблизости калачиком на диване, поднял голову и тоже засмеялся, после чего заговорил — резко, отрывисто, но монотонно, словно знал секрет бытия и хотел поделиться им, но у него не хватало слов.
— Кровь, — бормотал он, — в крови поколение… и жизнь… в крови…
Голос его затих, лицо исказила ужасная гримаса, и он недвижно замер. В руке у него была закопченная бамбуковая трубка, он поднес ее к губам, и, когда он вдохнул, я заметил, как в чашечке засветился красный огонек. По всей комнате виднелись такие же вспыхивающие и угасающие огоньки, и жертвы яда вдыхали свой дурман, не ведая ничего ни о нас, ни об окружающем мире. Они лежали скрюченные и онемевшие в фантастических позах и сквозь дым казались мне жертвами вулканического взрыва, забальзамированными в своих смертных муках в память и содрогание потомкам. Все это означало, что мы попали в царство могучего владыки Опиума.
— Самый лучший наш товар для вас, сэр!
Я обернулся. Полидори, зловеще ухмыляясь, протягивал мне трубку. Его зубы, обнажившиеся в ухмылке, были, как я заметил, очень остры. С приподнятой верхней губой он стал похож на хищного стервятника.
— Нет? — насмешливо удивился он, поворачиваясь к моему спутнику. — А вы, сэр? — Губы его вновь искривились. — Ну, вы-то уж точно у нас курнете… доктор Элиот.
Элиот, никак не отреагировав на то, что его назвали по имени, остался совершенно спокоен:
— Как я понимаю, мистер Полидори, вас уже предупредили о нашем интересе к вам?
Лицо и тело Полидори задергались, словно от хорошей шутки:
— Я был у Хэдли сегодня вечером. Он рассказал о вашем с мистером Стокером визите.
— Хорошо, — холодно сказал Элиот. — Тогда вы знаете цель нашего визита к вам.
— Вам нужен Моуберли, — осклабился Полидори.
— Вижу, мы отлично понимаем друг друга.
— Не совсем, доктор Элиот.
Брови моего спутника вскинулись:
— А что?
— Его тут нет.
— Я знаю, где он.
— С чего вы так уверены?
— Если вы не проведете меня к нему, я сам найду дорогу, — покачал головой Элиот.
Он шагнул вперед, но Полидори схватил его за запястья,
притянув Элиота к себе так, что лица их чуть ли не прижались друг к другу. Я увидел, как Элиот поморщился от дыхания Полидори.
— Отпустите его! — приказал я. — Отпустите!
Полидори оглянулся на меня и нехотя отступил от Элиота. Улыбка же его стала только шире.
Мой спутник, в свою очередь, остался по-прежнему невозмутим.
— Видите ли, — вежливо произнес он, — мы настроены решительно.
— Ну напугал! — нагло ощерился Полидори.
— Где ваша хозяйка?
— Хозяйка? — вдруг расхохотался Полидори. Плечи его опустились, и он начал потирать руки, словно купая их в пене услркливости. — Моя хозяйка, — простонал он. — Ах, моя прекрасная хозяйка, которую жаждет завалить весь мир! — Он вдруг выпрямился. — Понятия не имею, о чем вы!
— Кто бы и где бы она ни была, вы это знаете! — проговорил Элиот.
— Ну так расскажите мне!
— Вы заманили двух моих друзей, вы знаете, о ком я говорю, в этот притон порока. Вам нужно было сломить их и вызнать секреты дипломатической работы. Но вам-то, в конце концов, какой интерес с этого? Никакого. Поэтому благодаря логической дедукции становится ясно, что вы работаете на человека, которого интересует парламентский законопроект.
— Ах, доктор Элиот, доктор Элиот, — провыл Полидори, — вы такой ужасно умный!
Он выплюнул последние слова и кинулся вперед, но Элиот упреждающе крикнул, и не успел Полидори схватить меня, как я перехватил его руки. Полидори замер с презрительной ухмылкой на губах.
— Сейчас у меня нет желания продолжать этот неприятный разговор, — терпеливо промолвил Элиот. — Мне неинтересно выслеживать вашу… как назвать ее?., хозяйку?., сообщницу? Просто скажите мне, где вы держите Моуберли, и оставим друг друга в покое.
— О, вы исключительно внимательны!
— Предупреждаю, иначе я обращусь в Скотланд-Ярд.
— Что? — ухмыльнулся Полидори. — И испортите репутацию благородного министра?
— Предпочел бы избежать этого, — ответил Элиот, — но что бы он там ни испортил себе, я должен сохранить ему жизнь.
— Ей ничто не грозит.
— Так вы признаете, что он здесь?
— Нет. — Полидори помедлил, вновь скаля зубы в улыбке. — Но был, доктор Элиот.
Он слегка отступил, не сводя с нас глаз, и поднял руки. Не оборачиваясь, он передал трубку старухе-малайке, та зажгла ее, и Полидори, всунув чубук меж губ, три или четыре раза вдохнул дым, блаженно закрывая глаза.
— Ах, хорошо, — пробормотал он, — ах, как замечательно… К нам сюда издалека приезжают. — Глаза его вдруг открылись. — Приезжают, доктор Элиот… Поверьте мне, приезжают!
Он улыбнулся, и губы его окутала желтая пленка слюны. Он слизнул ее, и глаза, казавшиеся затуманенными, снова стали холодными и пронзительными.
— Вы очень умны, доктор Элиот. Но никакого заговора нет. Людям нужен опиум… даже министрам правительства.
— Нет, — качнул головой Элиот. — Вы заманили его сюда.
— Заманил? — Полидори откинулся в кресле. Глаза его опять заволокло туманом. — Заманил, заманил, заманил! Мне нужны богатые люди, — засмеялся он, — люди со средствами… джентльмены из Вест-Энда. — Смех его перерос в поток резкого, высокого хихиканья. — Ну да, я заманил их, доктор Элиот. — Он повторил эту фразу, медленно наклонился и принялся покачивать трясущимся пальцем перед лицом моего спутника. — Но если они попробовали наркотиков… если они попробовали… то пусть сами за себя отвечают…
Глаза его, преисполненные наставительной торжественности, потухли, и он в который раз разразился переливчатым хихиканьем. Элиот несколько отвлеченно наблюдал. за ним.
— Взгляните, — заметил он, — как деревенеют мускулы на его щеках. Явное свидетельство ступора, в который он погружается. — Он оглядел комнату. — Все может оказаться легче, чем я отваживался надеяться, — сказал он и стал осматривать тела лежащих в притоне, но быстро нахмурился и, повернувшись ко мне, помотал головой.
— Он, наверное, у раджи, — высказал я предположение.
— Кто?
Я в изумлении уставился на него:
— Сэр Джордж, кто ж еще! Разве мы не его ищем?
— Ну конечно, — ответил он, отворачиваясь.
Я рассердился на эту внезапную резкость.
— Я, может, очень глуп, — буркнул я, — но не вижу, почему вы так насмешливо относитесь к моему предположению.
— Извините, Стокер, если обидел вас. Но ваше предположение все же смешно, и у нас нет времени обсуждать его. И все-таки, — его глаза сузились, и голос стал тише, — все-таки направление ваших рассуждений, может быть, не столь глупо, как показалось вначале. Нет…
Он энергично подошел к стене и двинулся вдоль нее, нажимая на камни.
— Что вы делаете? — спросил я.
— У раджи, вы говорите? — хмыкнул он. — Я засмеялся, потому что никакого раджи не существует…
— Что?! — вскричал я.
— Раджи не существует… Но есть королева… Стала бы она жить в таком бардаке?
Он сделал какой-то жест, и взгляд его упал на жаровню в углу комнаты. Он сразу подошел к ней и, сдвинув в сторону, ударил по стене за нею. И только он сделал это, как старая карга, сидевшая, уставившись на угольки, подняла голову и пронзительно закричала. Вцепившись в пальто Элиота, она в страхе что-то забормотала. Я попытался ее успокоить, но старческие пальцы отказывались разжиматься. Она смотрела на стену, словно оттуда исходила какая-то угроза, а Элиот сдирал грязные, прокопченные тряпки, за которыми оказалась грубо сколоченная деревянная дверь.
— Она идет, — надрывалась малайка, — идет за кровью! Королева боли и наслаждения!
Старуха вдруг поперхнулась, и лицо ее исказила зловещая усмешка, напоминавшая оскал черепа.
— О моя богиня, — запричитала она, выпуская пальто Элиота и поднося руки к глазам. — О моя богиня жизни… моя богиня смерти…
Элиот нахмурился, глядя куда-то за меня. Я обернулся и увидел, что Полидори следит за нами. Он все еще сидел в кресле, но глаза его вновь открылись, чистые и ясные. Элиот отодвинул засов и распахнул дверь. Мне в лицо ударил прохладный ночной воздух — приятное облегчение после паров опиумного яда. Элиот шагнул вперед и обернулся к Полидори, который наблюдал за нами яркими и немигающими кошачьими глазами. Элиот взял меня за руку.
— Да идемте же, ради Бога, — прошептал он.
Я вышел за ним, и мы оказались на каком-то мостике. Под нами виднелась вода, впереди — стена из грязно-бу-рого кирпича. Я оглянулся: глаза Полидори по-прежнему следили за мной. Я с треском захлопнул дверь.
На лоб мне закапал мелкий холодный дождик. Ко мне вновь стали возвращаться энергия и храбрость. Я осмотрелся. Старый деревянный мостик, на котором мы оказались, был переброшен через узкую полоску воды, по которой когда-то давно проходили торговые суда, ибо на другой стороне высился склад. Но сейчас здесь было пришвартовано лишь одно крохотное суденышко, а когда я взглянул в сторону Темзы, то увидел ряды костылей, вбитых в стенки протоки, так что более крупные суда не могли зайти' сюда. Склад производил впечатление полностью заброшенного, стены его исчеркали черные потеки, а окна, как в домах на Колдлэйр-лейн, были заколочены досками. Меня охватило отчаяние — было ясно, что склад необитаем и мы никого в нем не найдем.
Мы оба как-то сразу притихли. Мне довелось испытать немало странного в этот вечер, но ничто не могло сравниться с открывшимся сейчас видом, и мне казалось, что я все еще нахожусь в курильне, удушаемый сном от ядовитого дыма. Нам померещилось, что мы очутились в зале какого-то фантастического дворца, даже не в зале, ибо это было что-то более странное и просторное, целый этаж, повисший в воздухе. Потолок уходил во тьму, а единственно различимые стены были за нами и перед нами. В самом центре этих стен находились эбеновые, черного дерева, двери, и по обеим сторонам от створок тянулись альковы. В каждом стояла статуя, и каждая из этих фигур была исполнена в особой манере — они воплощали разные культуры, разные эпохи: здесь — Египет, тут — Китай, а там — Индия. И в то же время в облике статуй было нечто общее, неразличимое и беспокоящее… Я еще раз прошелся взглядом по скульптурам и вдруг осознал, что, в какой бы манере ни были выполнены лица, все они отражали одно и то же: чувственность, красоту и крайнюю холодность. Словно все статуи изображали одну и ту же женщину.
Я пристально взглянул на череду лиц, вздрогнул и отвел взор, ибо, как бы глупо это ни звучало, я почувствовал, что глаза изваяний обращены на меня! Я всмотрелся в тени, отбрасываемые светом газовых факелов, светивших над каждым альковом. По бокам уходили вверх хрупкие, невозможные линии лестниц; говорю «невозможные», ибо их не поддерживали никакие конструкции, они словно нитями вились в воздухе. И у них не было ни начала, ни конца — явная иллюзия, ибо склад был не особенно велик, но все же эффект создавался весьма примечательный.
— Подумать только, сколько денег истрачено на все это! — повернулся я к Элиоту.
Он ответил не сразу, пристально рассматривая, как я понял, одну из статуй. Ее ваяла восточная рука, ибо по форме и по одежде статуя напоминала индийские произведения искусства, которыми я часто восхищался в лондонских музеях. Но эта скульптура по качеству работы отличалась от того, что я видел раньше. На лице ее, равно как и на лицах других статуи, читалась насмешливая чувственность — это производило одновременно отталкивающее и волнующее впечатление. Я почувствовал, как мурашки пробежали у меня по коже. Огромным усилием воли Элиот оторвал взгляд от скульптуры.
— Нам надо спешить, — проговорил он, обращаясь ко мне. — Не стоит здесь задерживаться.
Он подошел к одной из дверей перед нами, открыл ее и вошел, я — за ним. Впереди простирался длинный коридор, устланный коврами ярких расцветок и узоров, стены были красного цвета, инкрустированы золотом, а двери, располагавшиеся по сторонам коридора через равное расстояние, опять-таки были из эбенового дерева. В конце коридора, вдали от нас, тоже виднелась дверь. И вдруг, проникая мне в кровь, раздалось пение струн. До того я никогда не слышал столь прекрасной музыки. Она притягивала — ей невозможно было противиться. В ней было что-то неземное, почти пугающее… Я поспешил по коридору. Элиот пытался удержать меня, окав мою руку и дергая каждую из эбеновых дверей, но все они были закрыты. Меня же радовало, что они заперты. Только одну дверь я хотел открыть — дверь, которая приведет меня к музыке.
И все же, как быстро я ни шел по коридору, к двери так и не приближался. Это, конечно же, была иллюзия — пары опиума сыграли со мной злую шутку. Я встряхнул головой, пытаясь освободиться от действия наркотика, но заветная дверь осталась дразняще далеко, а когда я глянул через плечо, то обнаружил, что так же далека и дверь, через которую мы пришли.
Я посмотрел на Элиота. Он был очень бледен, на лбу у него блестели капельки пота. Он подергал ручку еще одной двери, ручка не поддалась. Очередная дверь — и тот же результат. Элиот прислонился к стене, вытирая лоб. На его лице, обычно столь собранном и сдержанном, отразилось мятущееся неверие. Он поднес руки ко рту.
— Моуберли! — крикнул он. — Моуберли!
Музыка сразу прекратилась. Я моргнул Звук голоса Элиота прогнал навеянный опиумом сон, ибо эбеновая дверь стала гораздо ближе. Я подошел и открыл ее.
За дверью находилась комната со стенами розового цвета Она очень походила на детскую маленькой девочки, ибо в углу весело потрескивал, огонь, а возле него стояло нечто похожее на кукольный домик и лежала стопка детских книжек. В центре комнаты высилась конторка, заваленная рукописями, а к стенам были пришпилены разные планы и схемы, некоторые из них очень старые. В углу собрались четыре человека с музыкальными инструментами: скрипками и виолончелями. Когда мы вошли, они вздрогнули и словно встрепенулись, но не взглянули на нас. Вместо этого головы их склонились на грудь, а открытые глаза невидяще уставились в пространство. Мне вдруг пришло на ум, что выражение их лиц очень походило на выражение лица человека, за которым мы гнались через Темзу.
— Кто вы? — раздался отчетливый высокий голос маленькой девочки из-за кучи рукописей на конторке.
Элиот был столь же удивлен, как и я.
Вместе мы приблизились к конторке. Там сидела девочка, исключительно прелестное дитя с длинными белокурыми волосами, стянутыми ленточкой, и тонкими чертами лица, как у фарфоровой куклы. На ней были надеты очаровательное розовое платьице и фартучек, а ножки в белых чулочках покачивались взад и вперед. Она держала перо, подняв его к губам, и ее широко распахнутые глаза выражали почти комическую торжественность. На вид ей было не более восьми лет.
— Вам не следовало заходить сюда, — сообщила она с самообладанием, столь типичным для детей ее возраста.
— Тысяча извинений, — вежливо произнес Элиот. — Мы ищем друга.
Она помедлила.
— Не Лайлу, случаем? — наконец спросила она.
— Нет, — ответил Элиот, качая головой. — Мне нужен мой друг, Джордж Моуберли.
— Ах этот!
— Вы знаете, где он?
— О, его вы найдете внизу, — фыркнуло дитя, морща нос в легком раздражении.
— А вы не могли бы проводить нас к нему?
Девочка решительно мотнула головой.
— Разве вы не видите, что у меня своя работа? — Она аккуратно положила перо на конторку и соскользнула со стула на пол. — Но я позову Стампса. Он вас проводит.
Она подошла к звонку, встала на цыпочки и потянула за шнурок. Затем указала на дверь у конторки, не эбеновую, как та, через которую мы вошли, но окрашенную в розовые и белые тона, как все остальное в комнате.
— Прошу сюда, — пригласила она— Он вас будет ждать снаружи.
Она кокетливо поправила волосы и подошла к стулу. Не успела она взобраться на него, как Элиот взял ее на руки и подсадил.
— Большое спасибо, — очень серьезно поблагодарила она. — А теперь я должна продолжить свои занятия.
— Конечно, — кивнул Элиот. — До свидания.
— До свидания, — попрощалась девочка, но даже не взглянула в нашу сторону, уже погрузившись в какую-то книгу на столе.
Элиот слегка улыбнулся и жестом велел мне выйти из комнаты. Закрывая за собой дверь, я вновь услышал звуки струн. Я хотел остановиться и послушать, но Элиот потянул меня за руку:
— Если не ошибаюсь, идет наш проводник.
Я глянул в ту сторону, куда он указывал Мы стояли на балконе, и лестницы, очень похожие на те, что мы видели раньше, спускались и поднимались прямо перед нами. Но теперь я был более, чем когда-либо, уверен, что пал жертвой навеянного опиумом сна, ибо ранее лестницы казались конструкциями из какого-то видения, тогда как сейчас я не заметил в них ничего странного, за исключением того, что они явно не подходили для склада. Это было, конечно, удивительно, но не невозможно. Я подумал, что владелец этого места склонен к гротеску и преувеличениям, и подходивший к нам слуга подтверждал данное предположение. В нем было не более трех футов росту, а лицо его походило на оплывшую свечку. Там, где должен быть нос, красовались лишь две дырочки, а нижняя челюсть так отвисла, что язык вываливался над черными изломанными зубами. На голом черепе шелушилась кожа. Руки и ноги у него были короткие и полные, как у ребенка, и все же, несмотря на униформу пажа, лет ему было немало. При взгляде на него я содрогнулся, но затем всмотрелся в его глаза, глубокие и выразительные, полные затаенной боли, и устыдился.
Он встал перед нами и что-то неразборчиво проворчал. Он явно спрашивал, чего мы хотим.
— Сэр Джордж Моуберли, — сказал Элиот. — Можете ли вы показать, где он?
Карлик вроде нахмурился, хотя трудно было сказать наверняка, столь искажено было его лицо. Он указал на лестницу и жестом попросил нас следовать за ним. Мы повиновались. На полпути я вдруг остановился, заметив, что за нами следит пантера. Я напрягся, но пантера просто зевнула и лениво начала облизывать лапы. В холле, под лестницей, вокруг кресла обвивалось что-то вроде питона, а далее, в комнате, мы спугнули двух оленят.
— Что это такое? — пробормотал я. — Никак мы в зоопарке?
Элиот не ответил, он все время подозрительно оглядывался, словно ожидая какого-то подвоха. Я тоже, видимо заразившись от Элиота, вдруг почувствовал страх.
Наконец карлик остановился у двери.
— Сюда, — выдохнул он.
Похоже, ему было трудно говорить. Он открыл дверь, Элиот поблагодарил его, а я ощутил, что страх перерастает в ужас, затуманивая мои мысли.
Элиот окал мою руку:
— С вами все в порядке?
На лбу его выступила испарина, глаза слегка выкатились, будто от ужаса, и я подумал, что сам я выгляжу не лучше. Странно, но меня как-то успокоило, что он чувствует то же, что и я.
— Итак, Элиот, — произнес я, — встретим лицом к лицу самое худшее.
Я ожидал, что там, за дверью, нас ждет еще одна галлюцинация вроде уже испытанных нами. Вместо этого нас окутала тяжелая, красно-бархатная темнота. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы привыкнуть к ней. Постепенно я понял, что там горят свечи, тонкие язычки огня. За ними проступили смутные силуэты Мебели, складки занавесей, богатых и мягких, как сама темнота, так что было трудно отличить одно от другого, и я почувствовал, что меня обволакивает, ловит в силки нечто тяжелое и живое. В воздухе стоял густой запах ладана, опиума и экзотических цветов. Темнота высасывала меня, и мне страстно хотелось бороться с ней. Только впереди, там, где полукруг свечей смыкался со стеной, темнота расступалась и занавески были раздвинуты. На стене висела освещенная картина, резко выделяющаяся бледным пятном на красном фоне. Портрет женщины. Лицо ее было похоже на лик одной из статуй в альковах наверху. На этой картине, однако, женщина была одета по последней моде. Красота ее была настолько отталкивающей, что мне пришлось опустить глаза. И, опустив их, я заметил на полу чье-то распростертое тело. Похоже, это был раджа Одежда его насквозь промокла, на ноге — рана, лицо вымазано кровью.
Элиот подошел к нему и перевернул. Возле головы раджи стояло большое серебряное блюдо, полное густой темной жидкости. Я коснулся жидкости пальцем и поднес к свету свечей.
— Элиот, — прошептал я, — да это же кровь!
— Неужели?
Я содрогнулся, озираясь:
— В этом месте присутствует что-то… что-то…
— Что же? — поинтересовался Элиот.
— Что-то сверхъестественное!
Элиот добродушно рассмеялся:
— Полагаю, нам нужно оставить все естественные объяснения, соприкасаясь с такой теорией, как эта. И вообще, — он перевернул тело, одновременно пытаясь нащупать пульс, — это не тот случай, когда брошен вызов законам природы…
Что-то в его тоне насторожило меня.
— Так вы нашли разгадку? — вскричал я.
— В конце концов все оказалось очень просто… — ответил он.
Я всмотрелся в лицо раджи. Это было то же… и не то же лицо. Черты были те же, что я видел на лестнице служебного входа театра, но жестокость смягчилась и почти исчезла, а щеки, проступающие сквозь размазанную кровь, были розовые и полные, а совсем не бледные.
— Не понимаю, — удивился я, — это лицо раджи, но оно… почти до невозможности изменилось.
— Согласен с вами, — кивнул Элиот, — это была чудесная маскировка Даже я, когда впервые увидел его, не смог узнать.
— Так кто же это? — спросил я.
— Как кто? — не понял Элиот. — Конечно же сэр Джордж Моуберли.
— Он…
— О да. Жив и здоров. — Элиот бегло осмотрел рану на ноге сэра Джорджа. — Это от пули… Ничего серьезного… Но нам надо его вытащить отсюда как можно скорее…
В это время пламя свечей заколыхалось, а комната вокруг меня будто начала пульсировать, и я почувствовал, как меня затягивает какая-то сила Язык мой превратился в кусок кожи, а кости начали рассыпаться в прах. Мои глазные яблоки высохли, словно оттуда была высосана вся влага. Притягиваемый неизвестной силой, я взглянул на картину на стене. Элиот, не отрываясь, тоже смотрел на нее.
— Вы чувствуете? — прошептал, я.
Он повернулся ко мне, но вдруг рассмеялся и покачал головой.
— Что это? — изумился я.
— Это, Стокер, — ответил он, — нечто вроде декораций в одной из пьес вашего театра: дом с привидениями… разные сопровождающие трюки… Но нет, — мотнул он головой, — здесь присутствует опасность, однако не от сверхъестественных сил. Противник перед нами дьявольский, но, увы, в человеческом облике… Пойдемте, — сказал он, подхватывая сэра Джорджа под руки, — нас не должны здесь застать. Наши заговорщики не возрадуются, узнав, что мы украли их трофей. Скорее, уходим отсюда…
Я взял сэра Джорджа за ноги и помог Элиоту поднять его, другой рукой открывая дверь. Я не помнил, чтобы закрывал ее, но молчал, не желая вновь подвергнуться насмешкам. Но все равно темнота в моем воображении затягивала меня. Тело мое настолько высохло, что руки и ноги, казалось, вот-вот зашуршат. Элиот тоже с трудом тащил ношу, будто он сильно ослаб, и, хотя он улыбался мне подбадривающе, лицо его побледнело и напряглось. Прежде чем выйти из комнаты, мы одновременно повернулись, чтобы взглянуть на картину в последний раз. Фигура женщины замерцала, комнату заволокло темным туманом, свечи погасли одна за другой, и все погрузилось во тьму.
— Ради Бога, — пробормотал Элиот, — давайте же выбираться отсюда.
Мы побрели по коридору. Сверху все еще доносились слабые звуки музыки. В конце коридора оказался большой холл, а на другой стороне холла обнаружились две тяжелые металлические створки, распахнутые настежь. Мы вышли через них и почувствовали, как нам на головы закапал дождь.
— Сюда! — Элиот указывал на мигающий газовый фонарь.
Пока мы шли, Элиот все время озирался, но никто за нами не гнался. Вскоре мы выбрались на главную улицу и почувствовали себя в безопасности, ибо на мостовой собралась большая толпа. Я удивился такому скоплению народа в столь ранний утренний час. Люди стояли в тени, поодаль от фонаря, и вначале трудно было понять, из-за чего они собрались. Над скорчившейся на земле фигурой навис полисмен. Элиот спросил его, что случилось, и констебль ответил, что на женщину напали и, возможно, убили. Конечно же, Элиот сразу предложил свои услуги. Склонившись над женщиной, он вдруг резко посуровел и взял руку несчастной за запястье.
— Скорее, дайте тряпку! — крикнул Элиот. Он перевязал запястье тряпкой, и сквозь ткань сразу проступило пурпурное пятно. Элиот взглянул на полисмена: — Вы что, не видели, что у нее запястье перерезано?
— У других тоже! — крикнула женщина из толпы. — Так и режут, так и режут тут всех подряд. Кому глотку режут, кого по телу режут, а кого и по запястьям.
— Всех подряд? — уточнил Элиот.
— Всех, всех вокруг, — кивнула женщина.
Из толпы раздались крики в ее поддержку:
— Полиция ни черта не делает! Им плевать на все! Все замалчивают!
Констебль, молоденький парнишка, только глотал воздух. Понизив голос, он рассказал. Элиоту, что ничего не знает об этом деле. Ротерхит — не его участок. Он приехал с северных доков расследовать стрельбу на Темзе, и, хотя никаких доказательств стрельбы не выявилось, он нашел женщину и постарался сделать все, что мог, несмотря на то что это не его территория.
Он нервно взглянул на окровавленное запястье женщины и снова глотнул воздух.
— Жить будет?
— Думаю, да, — кивнул Элиот. — Но ее надо срочно отвезти в больницу… Раз вы с северных доков, то вы, наверное, на катере?
Констебль кивнул.
— Хорошо, — сказал Элиот, поднимаясь. — Тогда переправьте нас через Темзу. Я подлечу эту женщину в Уайтчепеле.
Полисмен радостно закивал, но вдруг нахмурился:
— Простите за вопрос, сэр, а вы-то что тут делаете?
— Мы? — пожал плечами Элиот. — Мы… э-э… живем ночной жизнью доков. — Он указал на сэра Джорджа, рану на ноге которого, как я заметил, он тщательно укрыл. — И кое для кого из нас она оказалась слишком бурной.
— Да, сэр, — улыбнулся полисмен. — Это видно.
— Буду обязан, если оставите свое мнение при себе, — резко огрызнулся Элиот. — И не будем терять время. Поехали. Надо перенести бедняжку на ваш катер.
Таким образом, мы вскоре добрались по Темзе до Уайтчепеля, а там двое полисменов помогли внести раненую женщину в клинику. Прежде чем взяться за ее лечение, Элиот попросил меня поднять сэра Джорджа наверх.
— И ради Бога, — шепнул он, — пусть эта рана на ноге будет прикрыта!
Я кивнул, поднял свою ношу на второй этаж и оставался рядом с сэром Джорджем с полчаса. Наконец появился Элиот.
— Она выкарабкается, — сообщил он, садясь рядом с сэром Джорджем. — Я уложил ее спать внизу.
— А его? — показал я на сэра Джорджа.
— Его? — улыбнулся Элиот. — О, он очень плохо вел себя. Его мы сразу отошлем к жене.
— Так вы думаете, с ним все в порядке?
— Уверен. Но дайте-ка я его осмотрю и обработаю рану, которая, как вы можете убедиться, — он отбросил тряпку, — не более чем царапина.
Помедлив, он заглянул в лицо сэру Джорджу, усмехнулся и покачал головой, но внезапно посерьезнел, словно озадаченный чем-то, и принялся перевязывать рану. Однако в его улыбке промелькнула симпатия, которой крайне сложно добиться от такого холодного человека, как Элиот.
— Вы в близких отношениях с ним? — спросил я.
— Сейчас нет, — мотнул головой Элиот. — Но был когда-то. Нас влекло друг к другу, как часто бывает у людей с совершенно противоположными характерами. Меня… Рутвена… и Моуберли.
Я вгляделся в лицо сэра Джорджа.
— А когда вы узнали?.. — осмелился спросить я.
— Что? Что он и раджа — один и тот же человек?
— Да.
Элиот мрачно улыбнулся. Некоторое время он молча занимался своим делом, и я уже подумал, что он не ответит мне.
— Джордж всегда, — вдруг заговорил он, — всегда был… э-э… любителем женщин.
— Да, вы рассказывали, — кивнул я. — И та проститутка в переулке?..
— Именно так.
— Но… извините за нескромность… есть многие, которые… ну… как и раджа… могут… ну, сами знаете…
— Да, конечно, — буркнул Элиот. — Но я убежден, что если бы раджа был не сэром Джорджем, то цель его общения с проституткой была бы совершенно иная, чем секс.
— Вот как? — с удивлением покосился я на Элиота. — И какая же, Бога ради?
— Не будем об этом, — помрачнел он. — Это всего лишь моя догадка.
— Но все-таки…
— Я же сказал, не будем об этом! — повторил он ледяным тоном. Видимо, на лице у меня отразилось такое удивление, что Элиот сразу же извиняющимся жестом тронул меня за плечо. — Стокер, прошу вас, не касайтесь этой темы… Меня она приводит в определенное замешательство… Помните, я упоминал о болезни в Каликшутре? Я пытался выкинуть ее из головы, и все же мне это не удалось, ибо иногда я ловлю себя на том, что подозреваю ее проявление там, где ее просто не может быть. Впрочем, достаточно сказать, что мои предположения не оправдались, и я знал, знал, что сэр Джордж наш человек. Там, на реке, в лодке… выражение его лица, когда он увидел меня… Я был уверен…
— Впрочем, я кое-чего до сих пор не понимаю, — сообщил я.
— Вот как?
— Да! Как случилось, что черты его лица так изменились? Как получилось, что мы не смогли узнать его?
— Ах, это… Помните, Стокер, на Колдлэйр-лейн я сказал вам, что дело для меня ясно, за исключением одной-единственной детали? Так вот, вы затронули ту самую деталь, которая вводит меня в замешательство. Признаюсь, не могу ответить на ваш вопрос.
— И у вас нет никакой теории?
— Может, и есть… — медленно проговорил он.
— Какая?
— Нет… это невозможно, — покачал головой он.
— Но все-таки скажите, — нажимал я.
— Я просто подумал о совпадениях.
— Совпадениях?
— Помните, Люси, когда она увидела лицо Моуберли в окне, вообразила, что по нему течет кровь? И сегодня, когда мы его нашли, лицо его опять было вымазано кровью.
— Господи, Элиот! — вскричал я. — Вы совершенно правы! И что вы на это скажете?
— Ровным счетом ничего.
На моем лице, по-видимому, отразилось такое разочарование, что Элиот улыбнулся:
— Думаю, нам надо подождать, пока Моуберли придет в сознание. Может, тогда удастся пролить какой-то свет на происшедшее. И в связи с этим, Стокер, могу я вас попросить о последнем одолжении?
— Конечно, вы же знаете, что я полностью к вашим услугам.
Элиот подошел к конторке, сел за нее и стал что-то писать.
— Моуберли надо вернуть домой, к жене, — сказал он. — Леди Моуберли храбро перенесла его отсутствие. Мы не можем больше скрывать от нее мужа. Поэтому, Стокер, не могли бы вы отвезти министра домой?
— Никаких затруднений, — ответил я.
— Я бы поехал и сам, — проговорил Элиот, — но Ллевелин слишком долго работал без меня. — Он вернулся к своей записке. Наконец он закончил ее, запечатал в конверт и вручил мне. — Будьте любезны передать это леди Моуберли.
— А вы, в свою очередь, обещайте, что будете держать меня в курсе того, как пойдут дела.
— Ну конечно же, мой любезный Стокер, — улыбнулся Элиот. — К кому же еще я могу обратиться? Но думаю, что это дело больше не доставит нам особых хлопот. Похоже, мы разгадали загадку.
Засим я покинул его. Садясь в кэб, я подумал, что мне надо еще многое обмозговать, ибо я не был уверен, что все тайны действительно раскрыты. Я размышлял о пережитом и услышанном до тех пор, пока разные образы последних дней не стали сливаться в моем усталом сознании. Я увидел Люси, раджу, лорда Рутвена и сэра Джорджа. Мы с Элиотом гнались за ними на лодке по Темзе, а потом они очутились со мной в притоне Полидори. Я вспомнил о портрете в комнате с клубящимися благовониями… И вдруг резко пробудился, содрогаясь от этого воспоминания. Почему — не могу сказать. Красота той женщины казалась столь величественной, что я подумал, а не она ли так расстроила меня. Мы все еще не знали, кто она, с какой целью появилась в Ротерхите, а Элиот говорит, что дело решено…
Я покачал головой. Отказываясь сомневаться в человеке с такими необычайными способностями, я предполагал, что очень скоро получу от него известие…
Письмо доктора Джона Элиота леди Моуберли
«Подворье Хирурга», Уайтчепель.
16 апреля 1888 г.
Уважаемая леди Моуберли!
Я достиг некоторого успеха в нашем деле. Вверяю Джорджа в умелые руки мистера Брэма Стокера, а он, в свою очередь, надеюсь, доставит его вам. Общие черты тайны ясны, но с подробностями нужно подождать до выздоровления Джорджа, каковое, уверен, наступит очень скоро. Ему есть что сказать вам. Однако вы должны потребовать от него всей правды. Насколько припоминаю, он склонен привирать.
Как вы сказали, навещая меня, мне стоит только попросить вас о помощи, и вы сделаете все, что в ваших силах. Может быть, вы пожалеете об этом предложении, ибо у меня в самом деле появилась просьба. Прошу вас, леди Моуберли, помиритесь с Люси Весткот! Не знаю, в чем суть ваших расхождений, хотя догадываюсь. Может быть, для примирения достаточно будет того, что одна из вас сделает первый шаг?
Навещу вас на следующей неделе — посмотреть, как поправляется Джордж.
Остаюсь до тех пор, леди Моуберли, вашим слугой.
Джек Элиот.
Письмо леди Моуберли доктору Джону Элиоту
Гросвенор-стрит, 2.
24 апреля.
Уважаемый доктор Элиот!
Словами не выразить мою благодарность. Джордж рассказал мне все. Как вы понимаете, мне очень больно было это слышать. Ваше умение найти решение и вашу храбрость вряд ли можно переоценить. Джордж сам вам напишет, когда более или менее придет в себя. Пока же он очень слаб.
Не могу, конечно, игнорировать ваш призыв в отношении Люси. Действительно, с ней я чувствую себя неудобно. Она весьма взбалмошная молодая женщина, и я не могу одобрить ее поведение, чересчур парижское для меня. То, что кажется в порядке вещей для коренных лондонок, представляется, однако, очень аморальным такой деревенщине, как я. Но ссора у нас вышла не с самой Люси, но с молодым человеком, к которому она сбежала. Я всегда рада принять ее. Более того, я хочу убедить Джорджа оставить ей наследство, ибо знаю, что у нее туго с финансами и что за это в большой степени отвечаю я. Может быть, я ошибалась — но я хотела как лучше. Прежде чем судить меня строго, вам надо навестить Люси и вытянуть всю историю из нее. Повторяю, однако, и можете передать ей это: как только Джордж поправится, то распорядится о выделении ей денег. Уверена, можно будет организовать, чтобы ей не пришлось ждать до совершеннолетия.
Уважаемый доктор Элиот! Еще раз благодарю вас от глубины души. Ваш верный и преданный друг
Розамунда, леди Моуберли.
Дневник доктора Элиота (запись на фонографе)
24 апреля.
Многое надо записать. Утром получил многообещающее письмо от леди Моуберли. И поскольку у меня выдалось свободное время, решил действовать сразу же. Около девяти поехал на Ковент-Гарден. По пути странное ощущение — за мной следят. Явно нерационально, но не мог отделаться от этого чувства. Может, переработал? Может, надо отоспаться? Потом буду жалеть, если в результате пострадают пациенты.
Приехал в «Лицеум». Люси там еще не было, но Стокер был у себя и дал мне ее адрес. Вначале он покраснел при упоминании ее имени. Бедняга, он, похоже, по уши влюблен в Люси. Интересно, сам-то он об этом знает?
Он дал мне адрес в Клеркенвелле. Сразу направился туда. Дома на улице были не бедные, но и не фешенебельные. Вспомнил, леди Моуберли писала, что у Люси туго со средствами, и, поджидая ее в холле, я видел вокруг признаки того, что тут экономят. И точно, когда Люси сбежала вниз по лестнице поприветствовать меня, мне показалось, что, даже несмотря на теплоту приема, я заметил следы замешательства, будто она стыдилась, что ее видят в таком месте, — особенно старый друг ее брата, вроде меня. Был поэтому уверен, что она порадуется новостям, принесенным мною, но, к моему удивлению, она лишь засмеялась и покачала головой.
— Мы совершенно счастливы здесь, — настаивала она. — Мне надо бы рассердиться на вас, Джек, за то, что вы так неверно судите обо мне. Ссора никак не связана с наследством.
— А с чем она связана?
Она вызывающе посмотрела мне в глаза:
— Не знаю, спросите леди Моуберли. Я вам говорила, Джек, мне ее враждебность всегда казалась необоснованной.
— Что ж, — ответил я, — тогда вам незачем отвергать ее предложение о мире.
— Но я говорила вам, Джек, деньги нам не нужны.
— Так уж не нужны? — уточнил я.
Люси покраснела:
— Я зарабатываю, а Нэд получает пособие, пока учится на юриста.
— Но, Люси, можно найти жилье и получше. У Весткотов, семьи Нэда, к примеру, наверняка есть дом в городе.
Голос мой замер, когда я заметил, что Люси вдруг смертельно побледнела. Она затрясла головой, пытаясь улыбнуться:
— Извините, но ваше предложение о доме Весткотов… Нэд так заразил меня своим ужасом в отношении его, что я расстраиваюсь при одном его упоминании.
— Ужасом? — удивленно спросил я.
— С тех пор как исчезли его мать и сестра, Нэд уверяет, что трагедия затронула и этот дом. Не знаю почему, но он постоянно об этом упоминает. Он не может и порог его преступить. Мы однажды были в лесу под Хайгейтом, просто постояли у калитки, а потом повернулись и заторопились обратно. Как-то странно, Джек, но я тоже почувствовала… ощущение… да., ужаса. Почти физическое. И поняла, что Нэд имел в виду.
— Извините тогда за то, что поднял эту тему, — поклонился я. — Проявил бесчувственность…
— Но вы же не знали, — улыбнулась Люси, беря мои руки в свои. — Здесь, конечно, не Хайгейт, но очень уютно.
— Да, — сказал я, оглядывая лестницу, — именно так.
— Что вы этим хотите сказать? — игриво подмигнула Люси.
Я пожал плечами.
Люси попыталась поддеть меня притворным разочарованием:
— Ну, Джек, я вам удивляюсь. Всегда считала вас социалистом. Разве вам не приятно, что мы живем в трущобе?
— Я думал не совсем о вас.
— О ком же?
Я взглянул ей в глаза:
— Я больше думал о вашем ребенке.
Лицо Люси застыло.
— Так вы знаете! — прошептала она.
— Не так уж трудно было догадаться.
— Да, — сказала она, — уж вам-то это нетрудно. — Она вдруг засмеялась. — Черт вас дери, Джек, а я, как дура, нервничаю, что ребенок заплачет и все выдаст. Как вы узнали?
— Но, Люси, болезнь и уединение, затянувшееся на целый год, скоропалительное замужество, молодая девушка уходит из дома опекуна… Да вы все это можете описать в мелодраме и поставить в вашем «Лицеуме»!
— Вы пропустили вредную мачеху.
— Уж настолько ли она вредная?
— Конечно!
— Почему?
— Она не захотела и видеть Нэда.
— И вы ее вините за это?
— Джек!
— Вспомните, они там, в Йоркшире, не такие… прогрессивные.
— Что это должно значить?
— Вы актриса, вам платят за то, чтобы вы смотрели глазами других. Попытайтесь, Люси. Леди Моуберли приезжает в Лондон, всю жизнь до того прожив в Уитби. Подопечная ее мужа требует выхода на сцену. Потом вдруг оказывается, что эта же подопечная уже носит ребенка от какого-то незнакомца. Думаю, в таких обстоятельствах она просто обязана была проявить какой-то моральный гнев.
— Ну, — нахмурилась Люси, — может быть.
Я вынул письмо леди Моуберли:
— А сейчас она хочет примириться с вами.
Люси внимательно прочла письмо несколько раз.
— Но она по-прежнему не хочет видеть Нэда! — сказала она наконец.
— Не хочет, — согласился я. — Но вы наверняка понимаете почему?
Люси помотала головой.
— Потому что, виня его, она снимает необходимость винить вас.
— Вы правда так думаете?
Я кивнул.
— Дайте ей время, Люси. И все образуется. Но прежде всего вы сами должны дать ей шанс.
— Если бы я так хорошо не знала вас, Джек, я бы подумала, что вы поклонник Розамунды.
— Но вы знаете меня. Я действую на основании своих наблюдений.
— Да? — повела бровью Люси. — И каковы ваши наблюдения?
— А таковы. Нет оснований вам с ней не быть подругами.
— Что ж, — сложила письмо Люси, — может, вы и правы. — Она бросила взгляд на лестницу. — Вот и ребенок мой закопошился.
— Не вижу причин, почему это должно быть проблемой. Ведь только вашему мужу она объявила обструкцию.
— О Джек, — вдруг воскликнула Люси, — он же прекрасное дитя. Я не жалею о том, что случилось… После Артура… вы знаете, как мне его не хватало… Его таинственная смерть, ужас ее, вслед за отцом… — Она перевела дух и продолжила: — Кроме Нэда, Артур был всем, что у меня было. Я никак не могла поверить, что его больше нет…
Она повернулась и побежала по лестнице.
— Пойдемте же, — обернулась она ко мне.
— Зачем?
Она остановилась, чуть ли не топнув ногой:
— Нет, Джек, вы просто невозможны. Даже если вы не хотите полюбоваться на Артура, то хоть могли бы притвориться.
— На Артура?
— Джек, ради Бога, на моего сына! Пойдемте наверх и увидите, какой он замечательный.
Я последовал за ней. Оказалось, что юный Артур вновь уснул. Это был, как и говорила его мама, красивый и спокойный мальчик, точь-в-точь его дядя, только без усов. Я хотел сказать об этом, когда у входной двери позвонили.
— Посмотрите, чтобы он не заплакал, — приказала Люси, — а то я рассержусь на вас.
Она оставила меня в детской и поспешила вниз. В течение нескольких минут до меня доносились звуки разговора, хотя гостя не было видно. Потом послышались шаги на лестнице.
— Сюда, — шепнула Люси, открывая дверь детской.
За Люси кто-то замаячил, и, когда она впустила этого человека внутрь, я, заморгав от удивления, узнал в нем лорда Рутвена.
Он стал менее анемичным, чем раньше, на щеках появился слабый румянец. Он вообще очень красив, но в его присутствии я нервничаю и несколько тушуюсь от исходящей от него силы. Не понимаю почему — меня, вообще-то, аристократы не впечатляют.
Лорд Рутвен подошел к колыбели, нагнулся над спящим Артуром и с удовольствием улыбнулся, разглядывая его, а потом закрыл глаза и глубоко вдохнул, словно наслаждаясь приятным запахом. (Запомнить. Его реакция на костюм Люси, очень похоже. Интересно!) Наконец, вновь открыв глаза, он заговорил:
— Доктор Элиот! Какая приятная неожиданность!
Люси крайне удивилась, что мы знакомы. Я рассказал ей о том, как мы встретились, но, когда я упомянул, что театральную программку о спектакле с ее участием послали лорду Рутвену, на лице ее отразилось еще более глубокое удивление.
— Но я не посылала никакой программки. Скорее всего, ее послал кто-то другой.
— Это не важно, — ответил лорд Рутвен, беря руку Люси и поднося к губам. — Важен результат, а не причина.
— Вы действительно так думаете? — поинтересовался я.
— Особенно в минуты грусти, — он выгнул бровь в гримасе, характерной для семьи Рутвенов. — Вы не согласны, доктор Элиот? Помнится, происхождение той программки заинтересовало и вас.
— Обстоятельства показались мне весьма любопытными, — кивнул я.
— И что же это за обстоятельства?
Я вспомнил, как какие-то незнакомцы подобным образом вступали в контакт с Артуром Рутвеном и леди Моуберли, хотя совпадение в случае лорда Рутвена не вполне точно.
— Вы слышали, быть может, о некоем Джоне Полидори? — спросил я.
Неожиданно тень пробежала по его лицу, а затем выражение его вновь стало совершенно бесстрастным.
— Нет, — беззаботно произнес он, но я видел, что он лжет, и он знал, что мне это известно.
Он окинул меня ледяным взором и, не давая мне раскрыть рта, выхватил из колыбели Артура и прижал к груди.
Люси, невольно вздрогнув, подалась вперед.
— Вы разбудили его! — воскликнула она.
Но лорд Рутвен даже не извинился:
— Да ему уже надоело спать!
Артур словно был согласен с ним. Он не издал ни звука, а только вытаращил глазенки и попытался схватить ручонкой бледные гладкие щеки лорда.
— Я обычно не в восторге от детей, — пробормотал лорд Рутвен, — и вообще-то, очень уважаю царя Ирода… Однако это дитя… — В уголках его глаз вспыхнули огоньки удовольствия. — Это дитя… почти заставляет меня изменить свое мнение.
— Вы рисуетесь, милорд, — холодно промолвила Люси, — и притворяетесь более зловредным, чем есть на самом деле, когда говорите, что не выносите детей. — Она повернулась ко мне. — Мы с двоюродным братом познакомились в день первого представления «Фауста» в этом сезоне, но когда он впервые навестил меня, то уже знал, что в доме ребенок. Я ему не говорила. Так что он такой же умный, как и вы.
— Едва
ли, — пробормотал лорд Рутвен. — Может, у меня просто нюх на детей.
Он наморщил нос, отчего Артур поперхнулся и заплакал, но лорд Рутвен будто пронзил его взглядом, и плач младенца затих.
— Видите, какая у него сила? — сказала Люси. — Не правда ли, он был бы великолепной няней для Артура!
Лорд Рутвен засмеялся. Мне показалось, что в его смехе промелькнула какая-то холодность, почти насмешка.
— Мне пора идти, — откланялся я и, поцеловав Люси в обе гцеки, направился к лестнице.
— Доктор Элиот!
Голос лорда Рутвена был едва различим. Моим первым побуждением было не оглядываться, притвориться, что я ничего не услышал. Я чувствовал, что Рутвен интригует меня. Он вышел на лестницу с младенцем Люси на руках.
— Когда вы навестите меня? — спросил он.
Я пожал плечами:
— Мне не ясно, о чем вы хотите поговорить.
— О вашей работе, доктор Элиот.
— О работе?
— В начале года вы опубликовали статью «Испытания в Гималаях: сангвигены и агглюцинация». По-моему, так вы ее назвали?
— Да, было такое, но я не предполагал… — удивился я.
— Что меня интересуют такие вопросы?
— Это малоисследованная область медицины.
— Вне сомнения. И ваша статья особенно грешит незнанием, ибо в сложность предмета вы еще привносите радикализм ваших взглядов, если я правильно их понял. Но, с другой стороны, радикальное больше всего и интригует, не так ли?
— Интересное замечание от члена палаты лордов.
— Нам надо поговорить, доктор Элиот, — улыбнулся лорд Рутвен.
Я поразмыслил над его просьбой:
— В прошлый раз в нашем разговоре вы упомянули о средствах для хирургической клиники…
— Да.
— И взамен…
— И взамен вам нужно пообедать со мной.
— Боюсь, я занят…
— Дело не к спеху. В воскресенье, третий уик-энд в мае. У вас, таким образом, будет время почистить ваш дневник.
— Да… я уверен.
— Вот и договорились, — перебил лорд Рутвен. — Приезжайте в восемь. У вас есть мой адрес.
Он кивнул, повернулся и исчез, прежде чем я успел дать согласие. Но я, конечно, поеду. Даже небольшая дотация для нашей клиники будет неоценима. И кроме того, лорд Рутвен, по-видимому, интересный человек. Уверен, что его компания подействует на меня стимулирующе. Конечно же я поеду.
По дороге в Уайтчепель у меня опять возникло ощущение, что за мной следят. Длилось оно до Ливерпуль-стрит. Там меня поразила женщина удивительной красоты. Она садилась в экипаж и оглянулась на меня. Однако была она не черноволосая, а белокурая, с европейскими чертами лица. Мощное притяжение к ней… ничего подобного никогда не испытывал. Такого желания я не чувствовал даже к женщине, взятой Мурфилдом в плен на Калибарском перевале. И одновременно сильное ощущение, которое мы испытали на стене в Каликшутре: мой разум кто-то исследует… Ерунда конечно…
Нужно отоспаться. Лягу сегодня пораньше.
Записки Брэма Стокера (продолжение)
…Мой интерес к этому делу не угас, а с течением времени еще больше возрос. Желая узнать новости, я иногда приглашал Элиота пообедать со мной. Он отвечал на мои приглашения нерегулярно, ибо от природы был человеком весьма замкнутым, да и на работе дел у него хватало. Тем не менее мы иногда встречались. И я каждый раз умолял, чтобы он рассказал мне, как развиваются события. Он сказал, что сэр Джордж постепенно поправляется, но сам он еще не навещал друга. Зато о проститутке, которую мы спасли, он смог рассказать побольше. Ее звали Келли — Мэри Джейн Келли — и вообще-то, она была не из Ротер-хита, а жила в полумиле от клиники Элиота. Он сказал, что послал санитара по этому адресу. Там оказался мужчина, назвавшийся ее мужем, но совершенно не заинтересовавшийся ее состоянием Вел он себя нагло и был пьян. При таких обстоятельствах Элиот решил подержать пациентку в больнице подольше, хотя денег очень не хватало.
— Она не может жить у нас постоянно, — вздохнул он, — вечная беда с этими ассигнованиями, всегда так.
Как-то вечером он прислал мне записку, сообщая, что Келли на следующий день должна допрашивать полиция Ротерхита. Естественно, я вызвался присутствовать при допросе и даже отменил несколько важных встреч. Прибыв на следующее утро в Уайтчепель, я сразу направился в кабинет Элиота. Он по уши закопался в пробирки и горелки, но был рад меня видеть, хоть я ему и помешал.
— Не сомневался, что вы придете, Стокер, — сказал он, вставая поприветствовать меня. — Наши приключения далеко не закончились.
Он провел меня в отдельный кабинет, где к нам вскоре присоединился полисмен из Ротерхита. Элиот вышел и вернулся с Мэри Келли. Она явно нервничала, но быстро пришла в себя и согласилась рассказать, что помнила о том, как на нее напали. Я заметил, что Элиот следит за ней как-то неуверенно, а ее все время отвлекает уличный шум снаружи. Напротив окна находилась помойка, бездомные псы носами разгребали мусор в поисках объедков, и пациентка Элиота никак не могла отвести от них глаз. Когда Элиот спросил ее, как она себя чувствует, она уверила его, что очень хорошо. И допрос начался.
История ее была проста. Она пьянствовала в пабе у Гренландских доков и разговорилась там с матросом, который сказал, что его дружку нужна девушка. У Келли было туго с деньгами, и она согласилась пойти с ним. Матрос подвел ее к извозчику, стоявшему снаружи, дверца кэба отворилась, и Келли забралась внутрь.
Однако в этом месте своего рассказа она вдруг задрожала, вскочила и бросилась к окну, прижимаясь лицом к стеклу, и я заметил, что она опять пристально смотрит на собак. Элиот попытался усадить ее обратно, но она оттолкнула его и стала просить впустить собак, чтобы они посидели при ней, а когда Элиот отказал ей, то сжала губы и не проронила больше ни слова, продолжая смотреть на псов на помойке. Элиот забеспокоился еще больше и, стараясь удовлетворить прихоти своей пациентки, только начавшей поправляться, попросил привести одного пса. Келли с радостью приветствовала это и, посадив пса себе на колени, продолжила рассказ.
Там, в пролетке, в кэбе, ее поджидал дружок матроса. Но дружок оказался не мужчиной… Я сразу заметил, как Элиот подался вперед в кресле и с неослабным вниманием слушал, как Келли описывает оказавшуюся в кэбе женщину. Описание это, однако, не подходило ни к Люси, ни к леди Моуберли, ибо перед Келли оказалась негритянка, но такой красоты, что у Келли буквально захватило дух. Элиот заострил внимание на этом, и Келли призналась, что привлекательность негритянки даже испугала ее. Затем негритянка, — я краснею, когда пишу это, — расстегнула на Келли одежду и принялась ласкать ее самым грубым и похотливым образом. Келли очень разволновалась и не смогла протестовать. Негритянка же вдруг вынула какой-то сосуд из золота и чудесно украшенный, схватила Келли за запястье и полоснула по нему ножом. Кровь полилась в сосуд. Тут Келли вскрикнула, открыла дверцу пролетки и выпрыгнула. Кэб не остановился. Келли осталась лежать там, где упала, и постепенно потеряла сознание.
На этом месте она прервалась. Полисмен пытался задавать ей еще вопросы, но она отказывалась отвечать, гладя и лаская пса. Наконец полисмен вздохнул и поднялся. Элиот вызвал медсестру, чтобы она уложила Келли обратно в постель, но Келли не двинулась со стула. Вместо этого она вцепилась в пса, со стоном разглядывая рану на запястье. Она стала что-то неразборчиво выкрикивать и тереть шрам.
— Моя кровь, — кричала она, — моя кровь! Ее украли! Ее нет!
Она сорвала бинты, и густой ручеек крови закапал на пса. Келли, как зачарованная, смотрела на это, а пес начал лизать кровь, ерзая и вертясь у нее на коленях. Элиот попробовал отогнать животное, но Келли отчаянно цеплялась за него. Вдруг женщина содрогнулась всем телом, застонала и швырнула пса на пол Пес заскулил от страха, но, когда он попытался улизнуть из комнаты, Келли схватила его за глотку.
— Моя кровь! — крикнула она мне. — Не видишь, что ли, что ему дали мою кровь?
Голыми руками она разодрала горло бедного пса. Он отчаянно дергался, но, прежде чем кто-либо успел схватить Келли, она ногтями разорвала артерию, и пес издох, дико воя от боли. Кровь била из бедного пса, а Келли подставляла свое запястье под кровавый фонтан, словно стараясь напитать шрам. Санитары схватили ее и выволокли из комнаты, но она вырвалась и бросилась к стене, отчаянно царапая ее, будто желая пробиться наружу. Затем ее снова схватили и дали успокаивающего.
Элиот сидел у ее постели почти час.
— Психические заболевания не моя специальность, — признался он, выйдя наконец ко мне, — и все же придется отправить ее в дом умалишенных. А она была так близка к выздоровлению! — Он вздохнул и упал в кресло. — Не надо было устраивать ей допрос. Это я во всем виноват…
Дальше Элиот упомянул одно возможное направление расследования. Он считал, что разъяренная толпа, попавшаяся нам в Ротерхите, была совершенно права и Келли могла быть не единственной жертвой таинственной негритянки. Были сообщения об исчезновении и других женщин, а также матросов с иностранных судов. Никаких следов пропавших так и не обнаружили. Одну проститутку, однако, нашли в Ротерхите. Как и Мэри Келли, она была почти обескровлена и сейчас считалась клинически невменяемой. Элиот постучал по записной книжке:
— Я записал адрес дома умалишенных, где ее содержат. Если симптомы у Мэри Келли сохранятся, может быть, мне стоит туда съездить.
— Я поеду с вами, — сразу заявил я.
— Конечно, — улыбнулся Элиот, — но вначале посмотрим, как пойдет дело у бедняжки Келли. Не беспокойтесь, Стокер, я вам сообщу. А сейчас прошу простить, но у меня куча работы.
Засим я уехал от него, еще более расстроенный и озадаченный, чем прежде…
Письмо сэра Джорджа Моуберли доктору Дикону Элиоту
Лондон, Уайтхолл,
Индийский кабинет.
1 мая 1888 г.
Дорогой Джек!
Ну вы и зануда! Остерегайтесь тощих и умных… Кто-то это когда-то сказал… Наверное, Шекспир, он всегда изрекал подобные афоризмы, а если и не изрекал, то должен был изречь. Потому что из-за вас, Джек Элиот, я, как дурак набитый, пребываю с царапиной на ноге, раскрытыми любовными похождениями и Розамундой, которая злится на меня и вместе с тем расстраивается. Но это я говорю, что злится, а вообще-то, она не очень зла, ибо, по правде говоря, она довольно-таки невозмутимая бабенка Способность прощать характерна для Моуберли, чем Роза и хороша. Кроме того, это очень чутко с ее стороны, ибо правда жизни состоит в том, что мужчинам вечно хочется, а женщинам. — нет. Вы, Джек, поддержите меня в этом. Я имею в виду, такова уж биология, черт ее подери. Женщина создает и поддерживает семейный очаг, а мужчина выходит в мир и пробивает себе дорогу. Вот и я этим занимался — пробивал себе дорогу. Знаю, я скотина и свинья, но Господь свидетель — не всегда я был таким.
Вам это трудно объяснить: вы холодный как рыба и вас никогда не привлекал слабый пол. Но я за последние несколько месяцев сильно попал под каблучок, был очарован и упоен. Не беспокойтесь, Джек, я не сержусь на вас, что вы все испортили, ибо знаю, что вы оказали мне чертовски добрую услугу, и я благодарен, честно, благодарен: семья — священные узы, а эта вся дрянь… Но все же попытаюсь объясниться перед вами, чтобы вы не думали, что я полный осел. Ах, черт! Кто это там? Тут в дверь вошел какой-то служка муниципальный, что-то там. гундосит про какие-то дела, да провались он! Допишу позднее.
Позднее. Что ж, с делами как-то мы разобрались. Или нет… Ибо, строго между нами, Джек, эта мелкая суета оставляет меня равнодушным, у человека широкого размаха, как я, просто нет на нее времени. Вот почему я хотел бы дать более широкую картину… Подробности — это для клерков и бюрократов, для писак разных. И Лайла помогла мне это понять. Думаю, вам говорили, что я работаю над большим законопроектом, на карту поставлено будущее империи, ну и далее в том же духе — все жутко секретно. Да Роза вам наверняка сказала. Все это чертовски сложно, и до знакомства с Лайлой я сидел словно в болоте, а теперь все идет как по маслу, и троекратное ура мне, что я во всем разобрался. Я произвел большое впечатление, хотя говорить так о себе не слишком скромно. Вообще-то, политика оказалась сущей ерундой. Подумать только, я считал ее когда-то трудным делом… Но простите, Джек, я сбился с курса… Так о чем бишь я? Ах да, о моей связи с Лайлой… Как все началось.
Странно сказать, но виновата Розамунда. Не то что виновата, это было бы неверным словом. Но она зацепилась за эти драгоценности в витрине у Хэдли, а когда она что решит — сами знаете, как с женщинами, — ничто другое ей не нужно. Но тут-то и крылась загвоздка — эти драгоценности оказались какой-то чертовски экзотической штукой, индийской, и купить их можно было только в Ротерхите. Ротерхит! Не то место, где пристало бывать джентльмену. Но Роза на меня сердилась, и близился ее день рождения. А потому я на крыльях любви и всего прочего направился в Ротерхит, в ужасную дыру, кошмарней которой я в жизни не видал. Можно ли поверить, что люди способны жить в таком месте? Для меня это что-то чрезвычайное. Но, так или иначе, чувствуя себя благочестивым рыцарем, я прошел через огороды, засаженные турнепсом, и кучи дерьма, подошел к лавке, постучал, спросил хозяина, поинтересовался у него насчет драгоценностей… И знаете что? Мне весьма холодно ответили, что драгоценности только что были проданы!
Это, Джек, мне совсем не понравилось. «Ну и ладно, — подумал я, — черт с ними, Роза утешится каким-нибудь другим подарком. Я и так уже затратил кучу времени на эти драгоценности, а тут у нас империя, и ею надо управлять». Я выбегаю из лавки, вернее почти выбегаю, ибо до того, как я успел выбежать, мне неожиданно повезло. В двери вошла женщина — и какая! Джек, женщина столь потрясающая, какой я вовек не видел. Ухоженная, чертовски экзотическая, не то что наши пресные английские барышни, черноволосая, с ярко-красными губами; все остальное на месте. Не могу и отдаленно воспеть ее, для этого надо быть поэтом, а я не поэт и совершенно не обладаю талантами описывать внешность. Но скажу вам., Джек, увидь ее вы, у вас бы тоже голова пошла кругом. Она околдовывала, что я могу еще сказать? Глядя на нее, я почувствовал, что ее чары сразили меня. Я взглянул еще раз, и еще. И вдруг словно весна настала, и птички защебетали, и, Бог ты мой, все такое прочее.
А когда уж птички защебетали, назад ходу нет. Мы принялись болтать, я — галантно, а она — застенчиво, но в глазах у нее я прочел откровенный зов и понял, что мне сильно повезло. Не то чтобы я забыл о Розе, я же, черт возьми, все еще люблю ее, но удержаться не мог. Все было так, будто судьба предназначила мне эту красавицу, потому что тут вдруг вошел лавочник и сообщил, что именно она купила драгоценности, а она, узнав об этом, сразу предложила их мне. Я назначил цену. Ее экипаж был на улице. Я сел, и мы поехали к ней домой. Оказалось, что это недалеко от лавки, и видели бы вы, Джек, какой у нее шикарный дом! Не совсем в моем вкусе, понятно, немного роскошно для меня, но она-то заграничная штучка, и не ее вина, что она так воспитывалась!
Ну, она, значит, усаживает меня, выносит драгоценности, а слуги все время так и снуют туда-сюда, тащат и подушки, и шампанское, и черт знает, что еще, а я чувствую себя как восточный деспот. Хочу уйти и не могу, пошевелиться не могу, и вдруг, не осознавая, что делаю, я овладеваю ею прямо на подушках и попадаю в рай, ибо никогда я не обладал столь совершенной женщиной, которая бы двигалась так, как она, и умела вытворять подобные штучки. Извините за то, что вдаюсь в подробности, старина, но важно, чтобы вы поняли, как она на меня подействовала, ну и вообще, вы же доктор и знаете о таких делах. Джек, что я испытал с ней, что она мне дала — это был настоящий рай, Я сказал ей об этом, а она засмеялась и ответила, что у мусульман на небесах полно девушек, а что у христиан в раю, она не знает. Я сразу заявил, что в таком случае готов сразу сменить веру. Она приняла это предложение весьма торжественно.
— Ислам предполагает повиновение, — произнесла она. — Отныне я буду твоей религией. Поэтому ты должен повиноваться мне.
Что скажете? Разве не очаровательны женщины со своими причудами и ухватками? Мое повиновение оправдало себя, ибо в награду мне разрешили еще раз вознестись в рай, где я оставался всю ночь и весь следующий день. Чудесная женщина, Джек, просто чудесная! Но не хочу, чтобы вы подумали, будто между нами была просто звериная похоть. Мы разговаривали, и сам ее голос был пронизан магией. Я мог слушать ее все время, и, только подумайте, я так и поступал. Имя у нее было какое-то иностранное, непроизносимое, и, пытаясь его выговорить, я только плевался. Так что мы договорились, что я буду звать ее Лайла. Она сказала, что она торговка с Дальнего Востока, — это объясняло, почему она живет у доков, — но призналась и в том, что в ее жилах течет королевская кровь. Я нисколько не был удивлен. В ней присутствовало нечто такое… Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Я пытался разузнать, каких она королевских кровей, но Лайла лишь смеялась и говорила, что дом ее — весь мир. Однако я думаю, она из Индии или из Аравии, где жарко, где кожа у людей не такая бледная, как у нас, и где страсти гораздо более пламенные. Но она горда, Джек, горда, как дьявол, и со слугами своими управляется, словно кнутом щелкает. Со мною же, наоборот, — вам будет приятно услышать это, — она уважает меня и подчиняется, как рабыня. Можете представить, насколько это мне льстит. Что-то притягивает ее ко мне — может быть, естественный авторитет политика? Вы посмеетесь, Джек, и подумаете, будто я хвастаюсь, но ведь такая важная фигура, как я, должна излучать какой-то ореол власти! Вот на это, видимо, и отзывается Лайла, ибо она, в конце концов, женщина, к тому же иностранка, а я — министр правительства Ее Величества. Помимо того, Джек, я ношу титул английского джентльмена, а какая девушка-иностранка способна устоять перед этим? Мне по праву рождения предрешено приказывать и командовать. Наверное, Лайла просто признает мое высокое положение.
И я тоже как бы взглянул на себя со стороны. Странное дело, но до того, как я встретил ее, я не чувствовал такой веры в себя, а теперь обо мне говорят как о будущем министре иностранных дел. Министр иностранных дел — я, Джордж Моуберли! Тот, над кем вы с Артуром Рутвеном смеялись! Так вот, Джек, я остался смеяться последним, потому что открыл в себе таланты, о которых ранее лишь подозревал, — и в определенной степени все это благодаря помощи Лайлы. Не хочу сказать, что она дает мне советы в политике, подсказывает что-то, ибо это было бы смешно: она умна, но все равно она — женщина. И знаете, Джек, может быть, сам тот факт, что она женщина, помог мне — хотя она не разбирается в дипломатии и политике, тем не менее она слушает мои объяснения с милой и трогательной внимательностью, ловя каждое слово. Когда я говорю с Лайлой, мне думается более ясно, чем когда-либо раньше, проблемы тают, а решения сами приходят в голову одно за другим. Не фыркайте, Джек, — есть у вас такая любимая привычка, — а просто спросите себя: почему мой законопроект оказался столь потрясающе успешным? До нашего знакомства с Лайлой с ним были проблемы — кажется, я говорил вам об этом И к тому же — вряд ли такое признание вас удивит — я всегда был в ваших глазах каким-то придурком. Не отрицайте этого! Но смею вас уверить, Джек, дни моей придурковатости давно прошли, и я даже не смущаюсь, говоря вам это. Минули жалкие месяцы, старина, с тех пор как я встретил Лайлу, а моя работа — гордость кабинета министров. Вы осознаете это? Или то, что в печати меня называют «сверкающей звездой»? Меня! А мне всего тридцать! Вы когда-нибудь такое слышали? Вы с Артуром называли меня когда-нибудь «сверкающей звездой»? Думаю, нет. А вот без Лайлы, кто знает, удалось бы мне вырваться вперед?..
Так что она заменила мне все. Сначала я говорил Розамунде, что мои отлучки вызваны напряженной работой. Что ж, Джек, это была чистая правда. Не вся правда, но тем не менее… мне работалось лучше всего, когда рядом со мной сидела Лайла. Это факт. И мне приходилось думать не только о своей карьере, но и о будущем всех британских колониальных владений. А это довольно большая ответственность, как понимаете. Джек, как еще я мог поступить? Только так, как поступил. Я начал возить свои бумаги в Ротерхит, надрывался над черновой работой над законопроектом. С каждым месяцем я все больше зависел от Лайлы. Час в ее доме стоил целого дня работы в моем кабинете. Конечно, перед пасхальными праздниками было непросто заявиться к ней больше чем на ночь, но, как только парламент вновь начал работу, я примчался туда и зарегистрировался. Ну да, я почти слышу, как вы спрашиваете обычным подозрительным тоном, чем же я занимался все это время. Не стану отрицать, Джек, были пару раз и плотские удовольствия — черт подери, Джек, она же очаровательнейшая и милейшая женщина! Однако в промежутках между любовными утехами я работал, более того, работал усердно и хорошо. Могу доказать. Помните, Роза увидела меня в одежде раджи? Я бы никогда не стал заходить к себе в кабинет, если бы мне не потребовались бумаги из шкатулки. Впрочем, это происходило уже не впервые. В предыдущие разы мне удавалось напичкать Розу снотворным, чтобы она не видела меня и я мог беспрепятственно взять что угодно. Сейчас я осознаю, что вел себя как болван, но все не так просто, Джек, весьма непросто, ибо я считал, что, если Розамунда увидит меня, это лишь ухудшит положение. А вообще-то, это был план Лайлы. Среди ее товаров нашлось это лекарство с наркотиком, и не знаю как, но она убедила меня. То, как она умеет убеждать, просто удивительно. Я временами спрашиваю себя: уж не месмеристка ли она? Раз уж мы заговорили об идеях Лайлы, мой грим был одной из них. Знаю, в нем я выглядел довольно странно, но никто так, по-видимому, и не узнал меня. Впрочем, вы в конце концов узнали, но больше никто, даже Люси и Розамунда. Время от времени мы выходили в люди. Лайла любила бывать в Лондоне, для чего и купила квартиру над лавкой Хэдли — базу наших приключений в центре города. Там мы гримировались, переодевались, и я выскакивал в облике раджи. Однако сам я никогда не гримировался — в этом мастерицей была Лайла. Я так и не понял, что она использовала для грима, но это было нечто чертовски действенное. Только намажет меня этим своим составом, как я чувствую себя совершенно другим человеком. И не в том дело, что кожа моя становилась смуглой, она еще и блестела к тому же — само мое лицо совершенно менялось. Очень странно. Я даже пугался, когда смотрел на себя в зеркало. Сколько раз я спрашивал об этом Лайлу, но она лишь улыбалась и отводила взгляд, словно я принуждал ее выдать мне мистические тайны Востока. И постепенно, Джек, я начал подумывать, уж не был ли этот грим кровью — был он жидкий, красный и липкий, даже пахло от него, как от недожаренного бифштекса. Да нет, это была не кровь, но о том, что этот грим очень походил на нее, вы можете судить по реакции Люси, когда она увидела меня с лицом, испачканным гримом Вот чертовщина случилась, можете себе представить! Я невинно пребываю в гнезде супружеской неверности, выглядываю на улицу, а там моя подопечная смотрит прямо на меня с противоположного тротуара! Чертовски не подфартило, а? К счастью, рядом стояла Лайла. Она тряпкой втирает грим мне в лицо, я корчу еще одну ужасающую рожу Люси и пулей взлетаю вверх по лестнице. Жду, пока Люси и какой-то туповатый констебль зайдут в квартиру и пока Люси начнет орать про убийство и искать мой труп. А «труп» этот ржет до изнеможения! Вы знаете меня, Джек, как рискового парня, к тому же мне вдруг захотелось увидеть Люси. И я чертовски рискую: крадусь вниз по лестнице, жду на улице, затем поднимаюсь и захожу в квартиру. И, черт возьми, несмотря на то что Лайла только-только намазала мое лицо гримом, Люси не узнает меня! Более того, я явно внушаю ей отвращение!
Чертовски забавно! И хоть она не узнала меня, было здорово повидаться вновь с дорогой девочкой. Знаете, у нее ведь ребенок! А может, вы не знаете, и тогда мне не стоило говорить об этом. Впрочем, поздно. Но, так или иначе, Роза ругает любовника Люси за этого младенца, а Люси ненавидит Розу, и обе не хотят видеть друг друга. Люси никогда не приходит навестить меня. Добавьте ко всему этому время, что я провел с Лайлой, и поймете, почему я был рад вновь увидеть Люси, ибо за год мы стали почти чужими. Не буду отрицать, временами мне от этого очень пакостно. Я имею в виду, черт подери, ведь Люси моя подопечная, а как подумаешь о бедном Артуре и обо всем, что ей пришлось пережить в ее юном возрасте… то чувствуешь свою вину. Вот почему я пошел в «Лицеум». Не мог пропустить ее первое представление. А вот на второе представление идти не следовало — я искушал судьбу, вернее, искушал вас, Джек, и ваш мощный, все просчитывающий мозг, отточенный многими годами решения загадок и деления больших сумм. И я стал для него чересчур легкой добычей. Что ж, я получил свой урок, Джек, и вижу, каким полным и совершенным болваном был. Могу лишь обещать вам, что на неопределенное время визиты к Лайле откладываются. И это слово джентльмена.
Розамунда… Какое милое, всепрощающее существо, и, черт возьми, старик, какой я счастливчик, что вновь греюсь у семейного очага. Как я мог рисковать этим? Как мог быть таким ослом? Как мог причинить моей дорогой Розе такую боль? Нельзя сказать, что я сожалею о Лайле, — она слишком замечательная и совершенно другая, — но понимаю, что получил свое.
Приезжайте навестить меня, Джек. Прямо в контору. Кабинет у меня чертовски впечатляющий, а стол — самый большой в истории мира. Но если подумать, что за дела здесь вершатся, то сразу понимаешь: здесь маленьким столом не обойдешься. И я не хвастаюсь, просто очень хочу повидаться с вами, старина. Мы ведь давно не виделись, не так ли? Я бы и сам к вам приехал хоть сейчас, но я все еще немного слабоват — хотя мне уже разрешили работать за столом (за моим большим столом), меня никуда не выпускают. Позорище, но так и есть.
Всего наилучшего, старина! И снова от Розы и от меня — большое спасибо.
До скорого свидания, старикан!
Ваш преданный друг
Джордж.
Дневник доктора Элиота
7 мая.
Трудная неделя… Очень мало времени и на исследования, и на размышления. Хотя сегодня удалось поработать в лаборатории, а потом почитать Кляйнеланг-хорста о раковых клетках… Интересные аргументы, но где доказательства? Та же проблема и с моими теориями — нет подтверждения на практике… Словно я иду в никуда. Хотелось бы получить пробы крови из Каликшутры. Тогда у меня, по крайней мере, было бы над чем работать. Но пока я в совершенной растерянности.
Более удачно ротерхитское дело, хотя и здесь не все еще решено; есть нечто таинственное, что беспокоит меня. Но Джордж получил свой урок. Я настоял, чтобы он держался подальше от Лайлы, и если он сдержит свое слово и не вернется к ней, то опасность в будущем можно свести к минимуму. В начале этой недели он написал мне письмо, в котором сообщил, что вроде бы оправился после своих похождений. Страшно подумать, и это наш министр — чем больше он заблуждается, тем глупее ведет себя, он все тот же Джордж Моуберли. Однако… не совсем. Вчера вечером я приехал на Гросвенор-стрит навестить его и увидел, что он еще очень слаб. Я даже удивился тому, что он продолжает работать, — в Кембридже он по малейшему поводу залегал в постель, а сейчас трудится до упаду, как заводной.
— Это все его законопроект, — поведала мне с глазу на глаз леди Моуберли. — Он считает, что этим сделает себе карьеру, но если законопроект его доконает, что станется с перспективами?
Она попросила меня переговорить с Джорджем, и я охотно исполнил ее просьбу. Увы, на все мои доводы Джордж отвечал смехом, уверял, что с ним все в порядке, но я продолжал настаивать, и в конце концов он предложил обследовать его и определить, болен он чем-нибудь или нет. Я так и сделал, однако, признаюсь, ничего опасного не обнаружил. Но чем объяснить его столь явную слабость? Следуя интуитивной догадке, я проверил, нет ли на его теле шрамов. Нашел лишь одну царапину сбоку на шее, но Джордж заявил, что это порез при бритье, и у меня не было никаких причин оспаривать данное утверждение. Поэтому я, как врач, посоветовал ему не перетруждать себя, в ответ на что он рассмеялся — и правильно сделал, ибо он не привык выслушивать от меня такие советы.
Когда леди Моуберли вышла, Джордж опять заговорил со мной о Лайле. Его страсть к ней очевидна, но, к моему облегчению, он решил сдержать свое слово и всячески избегать встреч с нею. Засим последовали удары в грудь и восхваления собственной жены. Я спросил, как без помощи Лайлы продвигается его работа. Он пожал плечами и вроде обиделся, затем пробормотал, что я понял его письмо слишком буквально и его успехи не зависят от ее помощи. При этом он как-то принужденно смеялся. А когда я поинтересовался, не была ли Лайла родом из пограничных районов Индии, он расхохотался во второй раз и чуть ли не возмущенно спросил:
— А какого черта она должна быть оттуда?
Я пояснил и задал ему ряд вопросов, связанных с Каликшутрой. К примеру, я спросил, чья была идея назваться раджой этого королевства в регистрационной книге театра «Лицеум» — его или Лайлы?
Джордж насупился и задумался.
— Моя, — пробормотал он наконец. — Определенно моя… моя! — Эту фразу он повторял все более уверенно. — Видите ли, Джек, — добавил он, словно побоявшись, что его слова не убедили меня, — Каликшутра — одно из королевств, на которые распространяется действие моего законопроекта. Я как раз работал над решением о его статусе. Так что неудивительно, что это название пришло мне в голову. И конечно же, — прибавил он торопливо, — эти драгоценности, которые я купил у Лайлы, помните? Они ведь тоже из Каликшутры.
Я слегка улыбнулся, и Джордж угрожающе наклонился ко мне:
— На что вы намекаете, Джек?
Я пожал плечами и не ответил, спросив вместо этого, что он предлагает по Каликшутре в своем законопроекте.
— Вы же знаете, этого я сказать не могу! — возмутился он.
— Хорошо, тогда мои извинения, — ответил я. — Но все же меня интересует, Джордж, ваша работа по Каликшутре… Лайла как-нибудь вам в ней помогала?
Джордж секунду или две молча смотрел на меня, потом покачал головой и вновь рассмеялся:
— Ради Бога, Джек, я говорил вам: она — женщина и в политике не разбирается.
Он громко хохотал над моим предположением, и постепенно беседа наша перешла на другие темы. Временами, однако, я замечал, что он слегка хмурит лоб. Я решил истолковать это как обнадеживающий знак: если Джордж не принял во внимание мои слова, то настало время осознать мою правоту. Надеюсь, это и в самом деле побудит его держаться подальше от таинственной Лайлы. Пишу сии строки не из-за оскорбленных чувств леди Моуберли, а ради самого Джорджа. Не знаю, откуда исходит страх, здесь много обстоятельств, а я, видимо, боюсь гадать, какой оборот они могут принять. Иногда думаю о Хури: у него нашелся бы ответ, он смог бы определить этот оборот. Но наверняка оказался бы не прав, а я не могу терять время на невозможное. В одном лишь я уверен: эту тайну предстоит еще познать.
Обо всем этом вчера вечером я размышлял в кэбе, возвращаясь от семьи Моуберли. Странно, но меня вновь охватило уже испытанное ранее чувство, что кто-то или что-то следит за мной. Конечно, я понимаю, это ощущение не имеет под собой оснований, но вчера вечером оно столь давило на меня, что я высунулся из окошка кэба и внимательно осмотрел улицу. И ничего не увидел. Уже стемнело, и свет газовых фонарей окружали клочья пурпурного тумана, а на улице было полно экипажей. Я рассмеялся над своим страхом, обозвал себя идиотом и забился в угол кэба. Когда мы доехали до Уайтчепель-роуд, я расплатился с извозчиком и пошел к «Подворью Хирурга» пешком. Шум уличного движения стих, и, прежде чем свернуть на Хэнбери-стрит, я нырнул в какую-то арку и затаился, поджидая своего преследователя. Никто не появился. Я готов был выйти на улицу, как вдруг затопали копыта и по уайтчепельской грязи заскрипели колеса. Мимо проехал кэб. Занавеска на его окне отодвинулась, и из кэба выглянуло чье-то лицо. Секунда, и кэб проехал, тем не менее я успел узнать пассажира. Это была та белокурая женщина, которую я видел ранее. Поэтому я предположил, что интуиция меня не под вела, и женщина действительно следила за мной, хотя понятия не имею зачем.
Пункт к размышлению. И у Лайлы, и у негритянки, которую видела Мэри Келли, красота такая, что стынет кровь в жилах.
11 вечера.
Совершенно неожиданно ко мне приехал Джордж. Уже поздно, а сам Джордж на вид очень слаб. Он сразу перешел к делу. Он хочет навестить Лайлу и спросить ее, не из Каликшутры ли она. Значит, мои рекомендации действительно принесли плоды. Беспокоит только то, что Джордж подумывает о возвращении в Ротерхит. Я повторил свои предупреждения, потом усадил его и заставил написать письмо о том, что он насовсем прерывает всякие отношения с Лайлой. Я попросил его оставить письмо у меня и сказал, что сам отправлю его. Он уехал около полуночи, рассыпаясь в благодарностях.
15 мая.
Встреча с лордом Рутвеном Очень примечательный вечер, обещающий несравненные возможности для исследований. Я выехал поздно, было много работы в клинике, и приехал к нему к девяти часам. Дом у лорда Рутвена великолепен, но не производит впечатления обжитого, ибо мебель напоминает могильные памятники, чего человек с несомненным вкусом никогда не допустит. Я спросил, прав ли я, и он объяснил, что не очень любит английские холода, после чего с энтузиазмом заговорил о Греции. И все же для любителя солнечного климата он чересчур безразличен к темноте, царящей в доме, ибо во многих комнатах у него горело по одной свече. Даже в столовой освещение было крайне скудным, хотя и вполне достаточным, чтобы увидеть, что по крайней мере здесь лорд Рутвен не пожалел усилий, ибо столовая была со вкусом украшена, а стол ломился от яств.
— Прошу, угощайтесь, — жестом пригласил он. — Не терплю формальностей!
Я повиновался, а потрясающе миленькая девушка-слу-жанка подала нам вино. Я не эксперт по винам, но мог сразу сказать, что оно очень хорошее. Я спросил об этом лорда Рутвена. Он улыбнулся и ответил, что вино самое лучшее.
— У меня агент в Париже, — произнес он. — Он присылает мне вина лучших розливов.
Я, однако, заметил, что сам он практически не пьет и, хотя тарелка его была полна, почти ничего не ест. Но он не испортил мне удовольствие от вечера, ибо оказался замечательным собеседником — не могу припомнить более интересного и остроумного хозяина. В его привлекательности было что-то неземное, и, слушая магический тон его голоса, наблюдая за его прекрасным лицом, освещаемым золотым пламенем свечей, я ощутил ту же дрожь неуверенности, которую он и раньше пробуждал во мне — в театре, на лестнице у Люси. Сам не сознавая того, я стал сопротивляться удовольствию от этой беседы и старался не пить слишком много вина, словно опасаясь, что оно может каким-то образом совратить меня. Я начал спрашивать себя что такое совращение может значить, что сделает лорд Рутвен, если я паду, какие чары наложит на меня?
Мне как-то не сиделось, меня терзал вопрос: с какой целью он пригласил меня? Наконец, глянув на часы и отметив, что уже поздно, я попросил его разъяснить интерес к моей статье, сказав, что не в силах больше сдерживать свое любопытство.
— Вы совершенно правы насчет любопытства, — улыбнулся лорд Рутвен. — Но сначала нам надо подождать Гайдэ.
— Гайдэ? — переспросил я.
Он усмехнулся, но ничего не ответил. Повернувшись к горничной, он велел передать леди Рутвен, что доктор Элиот ждет в столовой. Горничная вышла, наступило молчание. Я предположил, что мы ожидаем жену лорда Рутвена, но Гайдэ оказалась очень бледной, крохотной, согбенной старушкой. Очевидно, что в свое время она слыла красавицей, и ее большие глаза до сих пор лучились очарованием и были ярки, как у лорда Рутвена. Но они не казались столь холодными, и Гайдэ, весьма походя на него, не наполняла меня странным беспокойством и страхом. Она поцеловала мне руку, подошла к своему стулу и уселась, словно восковой манекен. Невзирая на ее молчание, я почувствовал, что ее присутствие успокаивающе действует на меня.
Лорд Рутвен склонился и заговорил о моем труде. Он хорошо изучил основные положения и, не в пример моим коллегам, с энтузиазмом отнесся к ним. Особенно его заинтриговала моя теория сангвигенов и возможности классификации по наличию антигенных веществ в красных кровяных клетках. Он попросил меня объяснить, каков потенциал моего открытия для переливания крови. Я так и сделал, но, когда я упомянул о необходимости использования совместимых типов крови, он сразу напрягся.
— Вы хотите сказать, — проговорил он низким голосом, — что правильный сангвиген, взятый у донора, можно соединить с сангвигеном другого человека? И что все зависит лишь от типа крови?
Я повторил, что мои исследования еще не закончены, но лорд Рутвен нетерпеливо махнул рукой:
— Я понимаю ваше профессиональное нежелание говорить об этом как о чем-то определенном, но давайте примем за предпосылку то, что мы обсуждаем вероятности. Во всяком случае, вероятности лучше, чем ничего.
Он вновь склонился вперед, глядя на меня немигающими глазами, его бледная рука легла на мою.
— Я хочу это знать, доктор Элиот. Если мы найдем правильный «сангвиген», правильную… «группу крови» и соединим ее с моей кровью, то можно ли ожидать, что они окажутся совместимыми?
Я кивнул:
— Именно это и говорит моя теория.
— Сколько групп крови вы выявили?
— Пока четыре.
— Может, их больше? Может, есть очень редкие сангвигены?
Я пожал плечами:
— Возможно. Как я говорил, возможности для исследований ограничены. Моя работа не воспламенила мир науки.
— Но она заинтересовала меня. А я — очень богатый человек, доктор Элиот.
— Вы упоминали об этом.
Лорд Рутвен взглянул на Гайдэ. Несколько секунд ничего не было слышно, кроме тиканья часов. Гайдэ, которая, сев за стол, неотрывно смотрела на пламя свечи, медленно подняла глаза. Быстрым движением языка она облизнула губы, к я заметил, что зубы у нее очень острые.
— Мы оба, — она запнулась, — больны…
Голос ее прокатился по комнате градом серебряных монеток, и в то же время он был какой-то отдаленный, словно исходил с большой глубины.
— Мы хотели бы, чтобы вы помогли нам вылечиться, доктор Элиот.
— В чем состоит ваша болезнь? — спросил я.
— Это заболевание крови.
— Но как оно проявляется? Каковы симптомы?
Гайдэ взглянула на лорда Рутвена, который рассматривал свой бокал с вином.
— Полагаю, — сказал он, — что мы страдаем какой-то формой анемии.
— Понятно. — Я изучил их лица, отмечая бледность. — И отсюда ваш интерес к переливаниям крови?
— Да, — слегка наклонил голову он. — И поэтому, в свою очередь, мы хотим знать, к какому сангвигену, к какой группе крови мы принадлежим… Выясните это для нас. Верните нам здоровье. Вылечите болезнь, поразившую нашу кровь… Уверяю вас, доктор, вы не пожалеете, ведь я окажусь вашим должником.
— Не сомневаюсь, — ответил я, — но взятка, право, не нужна.
— Чушь. Взятка всегда помогает. Вы противоречите лишь из тщеславия.
Лорд Рутвен вынул из внутреннего кармана какую-то бумагу и взглянул на нее.
— Сколько будет стоить установка основного оборудования для вашей клиники?
Я тщательно прикинул и ответил:
— Пятьсот фунтов.
— Прошу! — сразу промолвил он, что-то быстро нацарапал на бумаге и пододвинул ее ко мне. — Предъявите моим банкирам завтра. Они позаботятся, чтобы вы получили деньги!
— Милорд, это потрясающая щедрость.
— Тогда отзовитесь на нее, — глаза его сузились, — своей щедростью.
Не сводя с меня глаз, он потянулся к руке Гайдэ и слегка пожал ее. По лицу его пробежала тень боли, но сразу исчезла.
— Мне нужны пробы вашей крови,'— заявил я, отодвигая стул.
— Конечно. Возьмите сейчас.
— Не могу, у меня нет оборудования, но если я приеду завтра…
Лорд Рутвен жестом остановил меня. Он полез вниз, послышался звук отпираемого ящика, из которого он что-то вынул, затем лорд Рутвен вновь выпрямился на стуле и положил передо мной два шприца.
Я покачал головой:
— Но кровь свернется…
— Нет.
— Но у меня нет нитрата натрия. Мне нужен…
— Не будем откладывать, доктор. Болезнь наша состоит в том, что кровь у нас всегда жидкая.
— Гемофилия?
Лорд Рутвен насмешливо улыбнулся:
— Шрамы рубцуются. Всегда рубцуются. Но когда нашу кровь берут из вены, как вы возьмете ее через кончик иглы, она не свертывается. Если не верите мне, доктор Элиот, попробуйте сами.
Я с сомнением взглянул на него, но он уже снял пиджак и закатал рукав. Он зажал синюю вену и смотрел на нее, чуть прикрыв глаза словно в экстазе.
— Мне нужен контейнер, колба для перевозки, — сказал я.
Лорд Рутвен усмехнулся и кивком головы подозвал горничную. Я увидел у нее в руках две бутылки из-под шампанского и открыл было рот, чтобы запротестовать, но лорд Рутвен поднял руку.
— Их вполне достаточно, — настоял он. — Так что, прошу, ни слова.
Я пожал плечами. У него явно был вкус к мелодраме, на который мне стоило обратить внимание. Я поставил одну из бутылок около лорда Рутвена и взял шприц. Кровь из вены потекла очень быстро, и, вынув шприц, я увидел у него на лице выражение глубокого удовольствия. Он, не мигая, следил, как я опорожнил шприц в бутылку, и затем заткнул сосуд пробкой. Подняв бутылку, лорд Рутвен посмотрел через толстое зеленое стекло на кровь.
— Какая очаровательная готика, — пробормотал он, протягивая бутылку мне. — За ваше доброе здоровье!
Я взял пробу крови и у Гайдэ. Вена ее оказалась толще, чем у лорда Рутвена. Мне не удалось проткнуть ее с первой попытки. Я извинился перед Гайдэ, но она будто не почувствовала никакой боли, а просто улыбнулась — как мне показалось, печально. Со второй попытки мне удалось взять кровь, которая оказалась до невозможности густой, темной и клейкой.
Я хранил обе пробы отдельно и каждую из них, в свою очередь, разделил еще на две части. Две пробирки я поставил на лед. А еще две сейчас предо мной, на конторке, в то время как я наговариваю это на фонограф. Хочу проверить утверждение лорда Рутвена, что его кровь не свертывается. Пусть постоит при комнатной температуре до утра. А сейчас уже поздно, пора ложиться спать.
16 мая.
Лорд Рутвен оказался совершенно прав. Такое кажется невозможным, но все пробы крови — и те, что стояли в холоде, и те, что хранились при комнатной температуре, — остались жидкими. Хочу их изучить повнимательнее. Займусь этим после утреннего обхода.
1 час дня.
Разделение красных кровяных клеток и плазмы ярко выражено. Удивительно быстрый процесс — он занял, по моим подсчетам, 13–14 часов вместо обычных суток. Что бы это значило?
2 часа дня.
Чрезвычайные результаты. Красные кровяные тельца — как в осадке на дне пробирок, так и в плазме на поверхности — мертвы. Диагноз лорда Рутвена совершенно верен, ибо количество красных телец крайне низко, около 20–15 % гемоглобина, по моим оценкам. Ввиду хорошего в остальных отношениях здоровья моих пациентов, это показание весьма озадачивает, но еще больший сюрприз преподнес анализ белых кровяных телец, которые, когда я взглянул на них в микроскоп, оказались еще живы. И не только живы — их концентрация увеличилась, а протоплазменная деятельность повысилась. Не укладывается в голове, как красные кровяные тельца могут быть мертвы, а лейкоциты — живы. Но именно это и произошло.
Поместил различные пробы лейкоцитов в различные температуры. Интересно, при какой начнется отмирание? Получу результаты — вернусь к лорду Рутвену.
Поздно ночью. Читал свои записки по Каликшутре. Примечательно, что многое соответствует рассматриваемому мною случаю. Не знаю, что и думать.
Почему Хури не написал мне?
18 мая.
Прошло два дня. Лейкоциты по-прежнему живы во всех четырех пробах. Никакого признака вырождения.
19 мая.
Пробы — как и ранее. В Каликшутре лейкоциты умирали через два дня после извлечения из вен. Тогда я думал, что это невозможно, но, видно, я не осознавал, что такое невозможность.
Дополнение. Послал телеграмму в Калькутту. Хури, наверное, на конференции в Берлине. В этом деле есть аспекты, которые он может счесть интересными. Посмотрим, как пойдут мои исследования.
20 мая.
Все чаще отвлекаюсь от работы в клинике, все мысли — о пробах крови, что стоят у меня в комнате. До сих пор белые тельца не выродились. Не уверен, что делать дальше.
Обнадеживающий разговор с Мэри Келли. С некоторым колебанием могу отметить, что она вроде на пути к полному выздоровлению. Она рассказала мне историю своей жизни. История печальная, как я и предполагал. Ужасно жаль, ибо женщина она достаточно смышленая. Она думает о том, чтобы вернуться к себе домой. Хотел бы помочь ей в чем-то большем, чем комнатка в доме-развалюхе. По крайней мере, сейчас, с помощью лорда Рутвена, могу позволить провести полный курс нужного ей лечения.
Поздно вечером. Записка от Джорджа. Он явно был пьян, когда писал ее. Он опять хочет навестить Лайлу, спрашивает, не поеду ли я с ним. Ответил ему сразу же, настаивал, чтобы он ни под каким предлогом не ездил в Ротерхит.
21 мая.
Еду к Джорджу в Уайтхолл. К моему удивлению, меня впускают. Джордж; какой-то квелый и как с похмелья, объясняет, что написал записку, потому что хочет откровенно поговорить с Лайлой о Каликшутре, но соглашается со мной: лучше не будить лихо, пока оно тихо. Снова дает мне слово. Утешаю его, восхищаясь его столом.
По возвращении в клинику Ллевелин сообщает мне, что Мэри Келли хочет о чем-то поговорить со мной. Когда же навещаю ее, она нервничает, расстраивается, говорит о каких-то пустяках. Но что-то ее тревожит, это видно.
Записка мисс Мэри Джейн Келли доктору Дикону Элиоту
Увожаемый доктор Элиот, это ужасно. Хатела вам сказать раньше, но не могла, а то она узнает что со мной. Она затихла сейчас. Долго не слышала ее голоса. Но она была там в начале моей крови почему боюсь патаму что не знаю что со мной и что она можит знать или слышать чего говорю или еще чего. Надеюсь вы понимаете.
Но, говорю, сейчас лучше. Хотя иногда хочу вернуть кровь что она у меня взяла. Чувствую голова кружется и не знаю что делаю. Когда увидела пса так почуствовала не могу справится с собой. Всегда животные. И я очень боюсь патаму что не понимаю. Почему у меня такие приступы? Очень сильные и я не могу им сапративлятся патаму что всю мою кровь отдали животным и знаю что заменили, а я хочу ее обратно. Иногда как такое приходит думаю что я беснаватая и ничего не сделать.
Но сейчас эти приступы затихают. Думаю мне лучше сэр. Большое вам спасибо.
С почтением,
Мэри Джейн Келли (мисс).
Дневник доктора Элиота
23 мая.
Любопытная записка от Мэри Келли. Ссылается на таинственную «ее» — ясно, что на негритянку, которая порезала ей запястья. Последующий опрос пациентки подтверждает это предположение. Келли очень неохотно говорит о напавшей на нее, а если и говорит, то еле слышным шепотом, все время вздрагивая. Бедная женщина! Она явно напугана, а я ничем не могу успокоить ее.
Меня сейчас отвлекают нерациональные страхи. Отказываюсь точнее определить их, пусть остаются на краю моего сознания. Вспоминаю, что случилось со мной в прошлый раз, когда я поддался суеверию. Не должен позволить, чтобы такое повторилось. Состояние проб крови — без изменений. Лейкоциты по-прежнему живы.
26 мая.
Мэри Келли говорит о выписке. Позднее узнаю, что рано утром ее навестил мужчина, некий Джозеф Барнетт, впервые со дня ее помещения в клинику. Заявлял, что он ей муж. Несомненно, он нечто худшее. Можно предположить, что у него кончились деньги.
Состояние лейкоцитов — без изменений.
30 мая.
Мэри Келли выписана Прибыл Джозеф Барнетт забрать ее домой. Я страшно опечалился из-за того, что она выписывается. Непрофессионально, конечно, принимать близко к сердцу судьбу какой-то одной пациентки, но она словно воплощает собой все растраченные впустую возможности — вот до чего доведены миллионы моих соотечественников. Она и все такие, как она, заслуживают гораздо большего.
Состояние лейкоцитов — без изменений.
В течение дня во мне нарастает какое-то странное, нервирующее беспокойство.
4 июня.
Мне передали, что, пока меня не было в клинике, заходил Джордж. Записки не оставил, но могу догадаться, в чем дело. Ллевелин говорит, что он зайдет завтра.
1 час ночи.
Около полуночи испытал странное покалывание в затылке. Обернулся. У меня за креслом стоял лорд Рутвен. Не слышал, как он вошел. Он весьма холодно пожелал мне доброго вечера, по одному его виду я понял, зачем он пришел. Я оглянулся на пробирки на конторке и вдруг содрогнулся при мысли о болезни лорда Рутвена. Сама мысль о живой крови, текущей в его венах, наполнила меня ужасом. Труднообъяснимое ощущение, но вполне реальное.
Лорд Рутвен был исключительно холоден, сдержан и вместе с тем зол — чувствовалась какая-то буря под коркой льда. Он тихо поинтересовался, как продвигается моя работа Объяснил ему, как веду исследования клеток его крови, но гнев его не унялся.
— Чему вы удивляетесь, доктор? — холодно спросил он. — Я уже сказал вам, что наша кровь никогда не свертывается, а что касается кровяных телец… — Он помедлил и впервые за эту ночь улыбнулся. — Вы же видели такое в Каликшутре, не так ли?
Я с удивлением взглянул на него и спросил, откуда он это знает.
— Прочел все ваши работы, даже самые малоизвестные.
Полагаю, мне должно было это польстить. Статья была опубликована только в Индии. Лорду Рутвену, видимо, пришлось затратить немало усилий, чтобы достать ее.
— Итак, доктор, — допытывался он, снимая сюртук и расстегивая жилет, — вы начали работу по лечению этой болезни?
— Болезни, милорд?
— Да-да, — нетерпеливо сказал он, — той самой болезни, которую вы описали в своей статье. — Внезапно он пристально посмотрел на меня с каким-то недоверием. — Что? — вскричал он. — За все это время вы не распознали ее в пробах нашей крови? Почему, как вы думаете, я вообще связался с вами?
— Но болезнь, описанная мною в статье, не существует нигде, кроме Каликшутры.
Лорд Рутвен поднял брови:
— Неужели?
— Если вы читали мою статью о типе крови, который я изучал там, то должны знать, что в Индии лейкоциты жили лишь сорок восемь часов. Ваши же сохраняют активность уже более двух'недель.
— Стало быть, в моем лице вы имеете гораздо более запущенный случай.
— Милорд, — произнес я, стараясь говорить как можно внятнее, — ваши клетки совершенно иного порядка, чем я видел раньше. Да, признаю, есть определенное сходство с тем, что я изучал в Гималаях. Но есть и весьма важное различие: ваши клетки не вырождаются. Они не влияют на вашу внешность и умственное здоровье, которое обычно ухудшается. Короче, ваши клетки не проявляют ни малейших признаков умирания.
Лорд Рутвен бросил на меня взгляд, похожий на тяжелый блеск драгоценных камней.
— Вы не понимаете, — настаивал я, — что я имею в виду?
Он слабо усмехнулся:
— Мне это достаточно понятно.
— Тогда, милорд…
— Довольно.
— Но разве вы не понимаете… здесь можно говорить о фактическом бессмертии!
Лорд Рутвен ничего на это не ответил. Но когда я открыл рот, чтобы повторить свои слова, то почувствовал, что язык мой высох и прилип к гортани. Смешно, но меня вновь охватил ужас. А лорд Рутвен улыбнулся и протянул мне руку. Ужас отхлынул.
— Я вам заплатил, — промолвил он, — чтобы вы провели программу исследований. Вам понадобится свежая проба моей крови. Возьмите ее.
Я повиновался. Пробу поставил на лед. Завтра надо провести анализы. Передам лорду Рутвену полученные мною результаты как можно скорее, ибо понимаю, что всяческими отсрочками настроил его враждебно. Но откуда моя неохота? Откуда мой, должен признаться себе, страх? Поведение клеток его крови из рядя вон выходящее, но должно же существовать рациональное объяснение их состоянию. Что может быть более волнующим в медицине, чем задача по выявлению такого объяснения? Кто знает, какие тайны удастся раскрыть?
Продолжу работу над сангвигенами завтра после полудня.
Телеграмма доктора Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Приезжайте как можно скорее. Замечательные разработки. Нужен ваш срочный совет. Больше не к кому обратиться.
Джек.
Дневник доктора Элиота
5 мая.
Позвольте мне напомнить самому себе о собственных методах. Это крайне важно, ибо боюсь погрязнуть в диких и нелогичных выводах. Нужно очистить голову от всего воображаемого, от лихорадочных эмоций, добычей которых я стал в последнее время, и подойти к данным с холодным безразличием ученого. Да, это действительно исключительное дело, но, судя по моему опыту, именно исключительное оказывалось наиболее многообещающим при внимательном рассмотрении. Мне следует отбросить все мысли о фантастическом, иметь дело лишь с фактами, голыми фактами. Дедукция — ничто, если она перестает быть точной.
Ну что ж… Сегодня утром начал делать анализ крови лорда Рутвена, стараясь определить его сангвиген. Взял мазок и поместил на стеклышко под микроскопом. Как и ранее, заметил, что красные кровяные тельца мертвы, а белые еще живы. Затем взял пробу своей собственной крови и добавил к мазку. Результаты незамедлительны. Фагоцитоз типа, выявленного Мечниковым: мои собственные кровяные тельца — как красные, так и белые — были атакованы белыми тельцами крови лорда Рутвена, поглощены и разрушены. Затем проба словно запульсировала, будто создавался какой-то заряд. Далее невооруженным глазом было видно, как мазок вздрагивает, расползаясь по стеклышку. Мои клетки были полностью подавлены и разрушены.
Повторил эксперимент с пробами недельной давности лейкоцитов лорда Рутвена и Гайдэ — те же результаты. Тогда я взял пробы у Ллевелина и двух медсестер, чьи типы крови, по моему определению, взаимно отличались, но у всех трех сангвигенов клетки также были атакованы и поглощены, а когда процесс закончился, все приняло такой вид, будто ничего не произошло. Однако красные тельца в крови лорда Рутвена вдруг ожили — результат столь необычный, противоречащий медицинской, да и вообще всей науке, что я в него едва могу поверить. Но доказательство неопровержимо: я продолжил опыты, беря кровь у всех добровольцев, кого только мог привлечь, — и результаты оказались теми же, что и ранее.
Вывод? По-видимому, у лорда Рутвена болезнь, никогда ранее не встречавшаяся в медицинской науке, а его тип крови представляется мне весьма странным. Но кроме этого, не могу и не хочу делать выводов.
Вспомнил о замечании своего старого профессора в Эдинбурге, доктора Джозефа Белла. «Исключите невозможное, — постоянно говорил он мне, — и оставшееся, как бы оно ни было неправдоподобно, всегда будет правдой».
Но если ничего не остается? Тогда нужно невозможное признать за правду?
6 вечера.
Надо бросить это направление исследований. Возможно, существует то, что человек не должен пытаться познать. Вспомнил Каликшутру и распоротое тело мальчика. Если невозможное устанавливается как реальность, то какие же рамки и границы остаются? И куда мы можем зайти?
11 вечера.
Поехал, несмотря на то что вначале решил не ехать. Лорд Рутвен принял меня в кабинете. Стоял погожий вечер, но шторы были задернуты, и лишь одна свеча освещала комнату. Однако я сразу заметил, что по обеим сторонам от лорда Рутвена сидят мужчины и женщины, их лица и руки отсвечивали в темноте. Когда я вошел, они улыбнулись — зубы у них были белые, как слоновая кость, и острые, а в облике этих людей проглядывало что-то хищное. Я ждал, что лорд Рутвен предложит им уйти, но он не предложил, и я едва ли этому удивился, ибо понял, что лорд Рутвен не один страдает от загадочной болезни. Всех присутствующих отличала одна и та же бледная красота в сочетании со странным выражением какого-то ужасного распада, зла. Лорд Рутвен жестом попросил меня придвинуть кресло. Я так и сделал и по его просьбе принялся рассказывать об опытах, которые проводил весь день.
— Короче говоря, — подвел я итог, — я не уверен, что ваша болезнь — анемия. Такой ее формы я прежде не наблюдал. Далее, она поддается… — здесь я прервался и взглянул в ждущие моего ответа глаза.
Они смотрели на меня, не мигая.
— Продолжайте, — приказал лорд Рутвен.
— Я хотел сказать, что ваша болезнь, представляющая собой нехватку гемоглобина в крови, поддается определенному лечению.
— То есть?
— Так ли уж необходимо говорить об этом?
— Говорите, — велела одна из его спутниц, кривя губы в усмешке.
Я опер подбородок о кончики пальцев.
— Кровь! — сказал я ей. — Ее можно вылечить свежей человеческой кровью…
Я вновь взглянул в глаза лорда Рутвена. Они были холодны, как и раньше, но уже не так непроницаемы: в них читались печаль и самоупрек, и я понял, что мои подозрения оказались верны. Но все же в этот момент я не мог принять их за правду. Я всмотрелся в лица сидящих предо мною, ища какие-нибудь признаки отрицания, но лица застыли, словно маски мертвецов, а от наступившей в комнате тишины у меня мурашки поползли по коже.
Один из собравшихся вдруг рассмеялся:
— Боюсь, милорд, этот малый подтверждает мое мнение, что доктора ужасающе тупы. Вы им платите деньги, а они приходят сообщить вам то, что вы уже знаете. — Он зевнул. — Черт меня дери, с каким же нетерпением я жду настоящего сюрприза.
Лорд Рутвен жестом руки велел ему замолчать и наклонился ко мне.
— Доктор Элиот, — проговорил он, — полагаю, вы согласитесь, что жажда крови уже сама по себе болезнь?
Я постарался сохранить бесстрастность:
— Согласен.
— Тогда, может быть, существует лечение от такой жажды? Кровь такого типа, который бы не поглощали наши клетки?
— Если она и существует, — медленно сказал я, — то ее еще надо найти.
— Но вы справитесь с этим? Если продолжите ваши исследования?
— Тогда мне нужно узнать нечто большее, чем вы готовы сообщить мне. Мне потребуется правда, милорд.
Ответа не было. И вновь от наступившей тишины у меня мурашки пробежали по коже.
— Он ничем не может нам помочь, — заявила одна из женщин, а другая кивнула. — Это несправедливо.
— Да? — вскинул бровь лорд Рутвен.
— Он смертен. Что он может знать? — проговорила женщина. — Лечения нет!
— Но мы еще толком не искали, — холодно возразил лорд Рутвен.
Женщина пожала плечами:
— Вы уже искали, милорд. Помните того, другого, доктора…
— Там все было по-другому.
— Почему же?
Тень пробежала по лицу лорда Рутвена. Не отвечая, он заглянул мне в лицо, и вдруг блеск его глаз поглотил меня. Как и раньше, я почувствовал, что рассудок мой охватывает ужас. Я сдался, как наркоман — дыму опиума, и предо мной предстали все мои мечты: перспектива завершения крупной работы, революция в медицине, изменение хода биологии и науки… Если только я смогу помочь ему, если только найду исцеление. И внезапно я почувствовал гнев, поняв, что он искушает меня, тряхнул головой и попытался освободиться.
— Лечение? — вскричал, я, обретя голос и вскакивая. — Лечение чего, милорд? — Я уставился на него, застывшего в своем кресле. — Что это за болезнь, на которую можно только намекать? Это жажда крови, в которую я бы никогда не поверил, если бы не разглядел ее в мазке под микроскопом?
Молчание. И вновь блеск глаз, которые нельзя было назвать человеческими. Тут я внезапно рассмеялся, глядя на них, на этих чудовищ, родившихся из тьмы фольклора и мифов, выявленных наконец-то современной наукой. Ирония эта позабавила меня.
— Вы правы, — сказал я, склоняя голову к обругавшей мою работу женщине. — Я не могу вам помочь. Извините. — Оглянувшись на лорда Рутвена, я направился прочь из комнаты.
— Постойте!
Я замер.
— Подождите!
Я обернулся. Лорд Рутвен привстал из кресла.
— Прошу… прошу вас, — прошептал он.
И вдруг его красивое лицо исказила ужасающая ярость, в которой смешались бушевавшие в его душе гордость, отчаяние и стыд. Он содрогнулся, крепко сжал подлокотники, но потом черты лица его приобрели прежнее спокойствие, а когда он заговорил, зубы его ощерились, как клыки зверя.
— Я не привык просить, — прошептал он. Холод в его глазах парализовал. — Не сомневайтесь, доктор, я мог бы довести вас, если бы захотел, до сумасшествия или смерти. Или до чего-нибудь… более худшего. — Он улыбнулся. — Не дерзите мне.
Одна из женщин взяла его за руку.
— Милорд, прошу вас, — слегка испуганно пролепетала она. — Отпустите его или убейте, и дело с концом.
Во взгляде лорда Рутвена все еще светилась ярость.
— Милорд, — снова потянула она его за рукав. — Не забывайте…
— Не забывать чего? — нахмурился он.
— Наши тайны всегда ошарашивают смертных, приобщившихся к ним. Вы же знаете… Вспомните Полидори.
Полидори… При звуке этого имени я вздрогнул. Лорд Рутвен, видимо, заметил гримасу моего удивления и фыркнул:
— Нет, Полидори жаден, он все хочет заграбастать. Этот человек другой, он не похож на Полидори.
— Так вы лгали, — тихо промолвил я. — Вы знали его.
Лорд Рутвен пожал плечами:
— Меня волновала ваша безопасность, доктор Элиот.
— Каким образом?
— Полидори опасен и совершенно выжил из ума… Да вы знаете, вы же встречались…
По собравшимся прошел ропот:
— Они встречались? Где?
— В Ротерхите. Не так ли, доктор Элиот?
Я медленно кивнул.
— Видите ли, доктор Элиот — великий сыщик, — указал он на меня. — Вы были правы, доктор Элиот, это Полидори послал мне программку на первое выступление Люси. Я теперь уверен в этом. И Полидори же заманил моего двоюродного брата Артура Рутвена в объятия смерти. Вот почему я предупреждаю вас: держитесь от него подальше.
— Ваши намеки, — наконец произнес я, взвесив его слова, — очень интригуют.
Лорд Рутвен повел бровью:
— Неужели?
— Смерть Артура Рутвена, например… Я считал, что она связана с его работой в Индийском кабинете. И в то же время вы говорите, что он погиб из-за родства с вами?
— А вы не думали, что обе теории могут оказаться правильными?
— Как?
— У вас свои секреты, — пробормотал лорд Рутвен, — а у меня — свои.
— Так вы мне скажете?
Он еле заметно кивнул:
— Может быть. В свое время.
— А программка, которую вам прислал Полидори… Вы не расскажете, в чем здесь опасность?
Лорд Рутвен покачал головой.
— Тогда скажите, в опасности ли Люси?
Как только я произнес это, лорд Рутвен вздрогнул Но лицо его осталось застывшим, и он ничего не ответил.
— Она же ваша двоюродная сестра, — настаивал я. — Если вражда к вам со стороны Полидори уже убила брата Люси, то не полагаете ли вы, что обязаны обеспечить безопасность девушки?
— Благодарю вас, — холодно отозвался лорд Рутвен, — за напоминание о моих обязанностях.
— Мне очень нравится Люси, — признался я, отчего лорд Рутвен скривил губы, но я проигнорировал его усмешку. — Если в Ротерхите действительно плетется какой-то заговор…
— То вам. лучше не вмешиваться в него, — прервал меня лорд Рутвен. — Доктор Элиот, это вам искренний совет. Несмотря на ваш сегодняшний отказ, мое восхищение вами остается непоколебимым. Вы предпочитаете оставаться в стороне. Что ж, будьте верны вашему решению. Не вступайте в борьбу с Полидори. — Он взял мою руку и пожал ее. — И не ездите в Ротерхит.
Прикосновение его пальцев было столь холодным, что я невольно содрогнулся. Лорд Рутвен улыбнулся и выпустил мою руку. — Прошу вас, — прошептал он, отступая. — Предоставьте Полидори мне.
Я продолжал смотреть на него, чувствуя, что наша беседа подходит к концу, а потом повернулся и направился к двери. На этот раз лорд Рутвен не пытался остановить меня. Но у двери я задержался и обернулся.
— Против вас выступает не Полидори, — бросил я. — В Ротерхите, вниз по Темзе, есть кто-то — что-то — гораздо сильнее его… гораздо сильнее вас, милорд.
Лорд Рутвен пристально посмотрел на меня, долго ничего не отвечая, и я испугался, что мои слова разозлили его. Наконец он вежливо кивнул, словно признавая мою правоту, и я понял, что они его почти не удивили. Я повернулся, вышел и заспешил прочь от его дома.
Направляясь к Оксфорд-стрит, я прошел мимо парадного подъезда дома семьи Моуберли. На первом этаже еще горели огни, и, вспомнив, что днем ранее Джордж заходил ко мне, я позвонил в дверной звонок и спросил, дома ли он. Его не было. Я уже было отошел от двери, как услышал доносящийся из ближайшей комнаты голос Люси. Я попросил привратника впустить меня и, войдя в гостиную, увидел, к своей радости и изумлению, что там сидят рядышком Люси и леди Моуберли. Они обе встали, приветствуя меня.
— Наш миротворец! — воскликнула леди Моуберли, пожимая руку Люси. — Видите, доктор Элиот, мы отлично подружились…
Они стали уговаривать меня остаться, но я не был настроен на беседу и не принял их предложение, согласившись, однако, как-нибудь отправиться с ними на прогулку.
Я спросил у леди Моуберли, где Джордж.
— Он работает допоздна у себя в конторе, — ответила она.
Я постарался не выдать беспокойства, но она, видимо, почувствовала что-то, ибо по лицу ее пробежала тень. Однако она не стала расспрашивать и предоставила Люси возможность проводить меня до дверей.
— Она в порядке? — шепнул я Люси.
Девушка кивнула.
— Да, спасибо, Джек, в полном порядке… — Она быстро поцеловала меня в гцеку и улыбнулась. — Вы такой ркас-но деловой, — махнула она рукой в сторону гостиной, — но все же вы увидели плоды вашей работы.
— Да, — задумчиво промолвил я, задерживаясь у двери. — Люси…
Я был в нерешительности, не зная, что сказать ей. Она ждала, вопросительно подняв брови, а я невольно вспомнил о лорде Рутвене, и кровь, должно быть, отхлынула от моего лица, ибо я вдруг заметил, что Люси встревоженно смотрит на меня.
— Джек, — удивилась она, — что с вами? Вы ркасно выглядите.
Я собрался с силами.
— Люси, — прошептал я, — будьте осторожны. Ради Бога, будьте осторожны! Предупредите Нэда и берегите сына и себя. И прежде всего… не доверяйте лорду Рутвену! Не подпускайте его к вашему ребенку…
Она нахмурилась и открыла было рот, чтобы расспросить меня, но я не стал ждать, ибо что еще я мог ей сказать? Я сам не осознаю величину угрозы. И все же, понимая всю серьезность ситуации, я знал, что никогда не смогу покинуть Люси.
И даже теперь, когда я могу оценить свое поведение более здраво, я все равно уверен, что сделал правильный выбор — я не могу свернуть со своего пути, несмотря на то что обещал лорду Рутвену не вмешиваться в его мир. Бог знает, во что я ввязался, но столь многое поставлено на карту, столькие жизни. И если мне еще раз придется очутиться за пределами науки, значит, быть тому. И прошу, Боже, не дай мне повторить прежние ошибки.
Для памяти. Надо как можно скорее переговорить с Хури.
12.30 ночи.
Ллевелин вернулся поздно. Передал мне записку, оставленную Джорджем сегодня утром. Я лихорадочно раскрыл ее и прочел следующее: «Уехал в Ротерхит. Не беспокойтесь, старина. Думал, вы поедете со мной, но, черт подери, вас не было. Ну, ладно. Всего хорошего, старик! Джордж».
Он идиот и всегда был таковым. Не знаю, что делать. Все это втягивает меня в гонку, в которой я не думал участвовать.
Но ведь ему грозит опасность…
1 час ночи.
Выбора нет. Надо ехать. Иду ловить кэб.
Телеграмма профессора Хури Джьоти Навалкара доктору Джону Элиоту
Организован ряд лекций Париже. Ситуация критическая? Если нет, приеду окончании.
Хури.
Дневник доктора Элиота
6 июня.
На конторке у меня телеграмма от Хури. Критическая ли ситуация? Не уверен. Не уверен больше ни в чем. Навещая в тот вечер лорда Рутвена, я еще мог быть в чем-то уверен, но все изменилось. Даже моя решимость встретиться лицом к лицу с невозможным кажется сейчас комичной и совершенно ненркной. И все же мне нужна уверенность. Через что же я прошел? Мне надо очистить свой рассудок. Забыть означает сдаться. Надо применить разум, вспомнить. Именно сейчас нельзя отказываться от моих методов.
Итак, около часа ночи я отправился в Ротерхит. Сидя в кэбе, я боялся, что поездка будет обескураживающей или бесполезной. Вначале первый вариант казался более вероятным, ибо, как только мы въехали в паутину улиц, я почувствовал, что безнадежно заблудился, а когда кэбмен стал проявлять нетерпение, пришлось заплатить ему и проводить его взглядом. Продолжил свои поиски пешком, но без особого везения. Странно, ибо у меня превосходное чувство направления и я был уверен, что запомнил место, где стоял склад. Не без труда нашел главную улицу; улицы, отходящие от нее, словно растаяли. Искал вход в склад почти с полчаса, а тем временем сгустился туман, и переулки стали еще более незнакомыми, приобрели странный вид. Наконец, бросив поиски, вернулся на главную улицу, оттуда прошел на Колдлэйр-лейн. Нашел без труда.
Витрина лавки была погружена во тьму, но дверь на улицу была приоткрыта. Внутри — никого. Приблизившись к лестнице, я вновь почувствовал вонь опиума и, поднимаясь по ступеням, услышал кашель наркомана, вдыхающего одуряющий дым. Отодвинув занавеску, я увидел, что комната, как и прежде, полна — из темноты проступили скрюченные, скорченные тела, большинство лиц казались знакомыми. Я вгляделся сквозь дым в угол. Там, скрючившись у жаровни, сидела старуха-малайка. Я шагнул к ней, и, заслышав меня, она вдруг подняла голову и оскалила зубы. На губах ее выступила желтая слюна, старуха втянула ее в себя, и, словно по сигналу, другие наркоманы зашевелились, зашипели, и общий шум стал весьма неприятен, будто доносился из ямы, кишащей разозленными змеями. Человек у моих ног забормотал что-то, застонал и потянулся ко мне, а когда я пнул его, другой попытался схватить меня за ногу, потом еще один… и еще…
Я отбивался тростью, и несколько секунд мне удавалось держать оборону, но боль для этих доходяг ничего не значила, столь полна была их приверженность к наркотику. Вскоре меня почти повалили на пол. Мягкие белые пальцы обхватили мое горло, подняли голову, и я увидел перед собой старуху-малайку. В руках у нее была трубка, и она протягивала ее мне. Я крикнул, чтобы она убиралась, но взгляд ее совершенно остекленел, и слова мои не возымели никакого действия. Когда чубук трубки коснулся моих губ, я крепко сжал зубы и почувствовал, как чьи-то пальцы стараются разжать мне челюсти. Пальцы наркоманов были влажны от пота и скользили, когда они пытались ухватить меня за щеки.
Вдруг старуха-малайка затряслась, и на губах ее появилась отвратительная ухмылка. Она вдохнула из трубки и склонилась надо мною. Ее слюна закапала мне на лицо, и я почти задохнулся, когда ее губы коснулись моих. Каким-то образом мне удалось не разжать зубы, я старался вздохнуть и не мог, ибо губы малайки припечатались к моим, и густой бурый дым наполнил мне рот. Я начал дергаться, но чьи-то руки прижали меня к полу, а малайка все держала меня, все длился ее поцелуй, и я понял, что вскоре мне придется сделать вдох. Я почувствовал, что комната завертелась вокруг меня, но все-таки не вдохнул. Глаза малайки закатились, лицо ее набрякло, рывок… и наконец я мог вздохнуть. Я ожидал почувствовать вкус дыма в горле, но он не появился. Я задышал, ощущая, как вкус опиума разбавляется воздухом, открыл глаза и осмотрелся. На меня с улыбкой на губах уставился Полидори.
— Зачастили к нам, доктор. Польщен. А их извините, — указал он на корчащиеся тела у его ног, — за то, что из-за опиума у них возникают не те мысли.
Медленно я поднялся, вздохнул поглубже.
Полидори насмешливо рассматривал меня.
— Зачем приехали? — наконец спросил он.
— Боюсь, за тем же, что и в прошлый раз.
— Ах, — Полидори потер руки. — Так у вас появляются привычки наркомана! Прошу сюда!
Он открыл дверь за жаровней, и я последовал за ним через мостик.
— Какой вы внимательный и преданный друг, — сказал он, открывая предо мною двери склада. — Все-то вы охотитесь за сэром Джорджем, все-то его спасаете. — Он осклабился. — Тоже мне, ангел-хранитель.
— Так с Джорджем все в порядке? — поинтересовался я.
— Как никогда лучше. Супружеская неверность укрепляет его здоровье, не находите?
— Вы не навредили ему?
Полидори напустил на себя вид, будто его жестоко оклеветали.
— Я?! — вскричал он. — Навредил сэру Джорджу? Чего ради должен я ему вредить? Кроме того, — забормотал он мне на ухо, — я бы не отважился… Ведь он любовник ее сиятельства…
Полидори приблизил свое лицо к моему, бледные глаза расширились, внезапно он разразился смехом и пинком распахнул дверь.
— Сюда! — рявкнул он, не оглядываясь.
Я последовал за ним через холл и вторую дверь.
Перед нами простирался коридор…
Для памяти. Странный эффект в наш предыдущий визит — несколько минут, как быстро мы со Стокером ни шли, мы не могли подойти к двери в конце коридора. Из разговора со Стокером стало ясно, что эта иллюзия посетила нас обоих. Тогда я предположил, что она могла быть вызвана испарениями опиума, но сейчас, следуя по коридору во второй раз, я считал, что избежал воздействия дурманящего дыма, и поэтому без труда дошел до дальней двери. Я даже поздравил себя, ибо сегодня вдохнул гораздо больше испарений, но ничего не почувствовал. Однако, взглянув на комнату за дверью, я сразу ощутил, что пары опиума все же оказали на меня какое-то воздействие.
Детской тут не было и в помине. Мои способности к наблюдению явно покинули меня, ибо меня провели в совершенно другой коридор, и теперь я стоял на чугунной лестнице, спиралью уходящей вниз, с черными перилами и замечательным орнаментом. Подо мной находилась комната, сам воздух которой, казалось, был насыщен различными оттенками света, и все же сказать, что это была комната, значило бы охарактеризовать ее в корне неверно. Это было нечто за пределами мастерства архитектора, нечто вроде фантазии, извлеченной из декадентских снов. Сейчас я, конечно, понимаю, что звучит это неправдоподобно, но иначе не могу передать свое впечатление — очень сильное и в то же время неизбежно реальное. Частично допускаю, что это был всего лишь сон, вызванный из подсознания опиатами. Но комната была совсем не галлюцинацией, хотя перед моим взором происходило нечто странное. Размеры ускользали от моего взгляда, и даже цвет стен менялся. Я не хочу сказать, что все струилось как в мираже. Наоборот, краски казались такими глубокими, сочными, прекрасными, что я не мог представить ничего более совершенного, но, отведя взгляд на секунду и взглянув вновь, я осознал, что раньше был слеп, ибо красота стала еще более насыщенной. Алый цвет занавесей, золото лакировки, детали гобеленов и предметов искусства — все красовалось предо мною, словно суля какое-то смутное наслаждение, тая находящийся вне моего понимания, дразнящий секрет.
Конечно, все это звучит смешно. И я ошарашен, прослушав фонограмму, — чувствуется, что в те минуты я утратил ясность мысли. И все же я считаю своим долгом с клинической точки зрения описать все то, что ощущал и видел, чтобы судить, до какой степени мое восприятие было одурманено или совращено красотой комнаты. С самого начала я обнаружил, что мои чувства явно отказывают мне, ибо во мне обычно преобладает рассудок. И стоя здесь, рядом с Полидори, я вдруг почувствовал себя в осаде. Но потом настороженность и чувство тревоги улетучились, а их место заняли странная возбуждающая эйфория и предвкушение еще более великих удовольствий и открытий. Меня охватила самая чудесная боль, которую я когда-либо испытывал Я начал понимать то, чего никогда не понимал ранее: каким образом человек может потерять рассудок и самоконтроль. Мне сразу стало ясно, что надо бороться, бороться против удовольствия и красоты комнаты, ибо они стали неразличимы для меня, в равной степени опасны. И тогда, помню, я собрался с силами и остался самим собой. Я начал медленно спускаться по лестнице.
Я подумал о том, что за сила скрывается в этой комнате, если она так взволновала и очаровала меня. Да, здесь царило почти сказочное богатство. Пол покрывали ковры, по кромкам расшитые шелком; стены были отделаны с потрясающим мастерством; мебель — из ценного, благоухающего дерева… Аромат сирени наполнял воздух, а из золотых треножников поднимался легкий дымок благовоний, волнующий и усыпляющий мои мысли. Я приостановился и, как и раньше, попытался прийти в себя, зная, сколь восприимчив человеческий мозг к увиденному и ощущаемому органами чувств. В таком месте, как это, мой рассудок нужно было охранять от неизвестных угроз, ибо он был единственным оружием, которым я располагал. Наконец я подошел к занавесу, разделяющему комнату. Собравшись раздвинуть его, я содрогнулся, чувствуя, что приближаюсь к какой-то великой тайне.
— Проходите же, — прошептал Полидори мне на ухо.
Я обернулся. Совсем забыв о его присутствии, я теперь почему-то не считал его опасным. Вместо этого мои мысли занял какой-то более значительный источник страха, который, словно бог в древней святыне, ждал меня по другую сторону.
Я зашел за полог. Если предыдущая комната была прекрасна, то эта — во сто крат прекраснее. Я сжал кулаки, намереваясь не поддаваться ее великолепию, сохранять рассудок и свои аналитические способности. Пред собою за столом я увидел девочку, сосредоточенно замершую над шахматной доской. Я узнал ее по нашему предыдущему посещению вместе со Стокером. Девочка вдруг взглянула на меня.
— Привет! — сказала она без тени удивления на лице и вновь вернулась к шахматной доске, сделав ход ферзем, сняв с доски короля и осторожно положив его в ряд с другими фигурами. Затем она одернула юбочку и, улыбаясь, повернулась на стуле.
Я проследил за ее взглядом и обнаружил, что на диване сидит Джордж, изучая какую-то карту. Я сделал шаг к нему, он поднял голову и уставился на меня.
— Боже! — вскричал он, — Джек! Все-таки вы приехали сюда!
Он поднялся было поприветствовать меня, но его словно что-то остановило.
И Джордж, и девочка смотрели на что-то. Что именно — я не мог различить: то ли на тени, отбрасываемые алыми язычками газа, то ли на тяжелые испарения ладана, курившегося в воздухе комнаты. На секунду мне показалось, что я стал жертвой оптического обмана. Мне почудилось, будто я вижу золото и красный, густо-красный цвет крови, кипящей, словно вода на большом огне. Я поморгал, потер глаза, и иллюзия исчезла. Вместо этого появилась женщина с золотым ожерельем на шее, в длинном красном платье. И хотя она оставалась в тени, я различал ее довольно отчетливо. У меня перехватило дыхание. Внешность женщины была ослепительна и необычна — никогда раньше я не видел такой красоты. Незнакомка подошла к свету и заглянула мне в глаза… И я примерз к полу.
Я сразу понял, что это Лайла, вспомнив, как Джордж писал мне: «…у вас бы тоже голова пошла кругом». Он писал это, опасаясь, что я ему не поверю, и вот я сам стою здесь, буквально остолбенев. Я боролся с ее привлекательностью, зная, что поддаваться ей нельзя, поэтому принялся изучать Лайлу аналитически. Было на что посмотреть! Она была одета по самой последней парижской моде: руки и плечи обнажены, красное платье плотно облегает талию и бедра. Двигалась она с прирожденной грацией. И все же, несмотря на то что она с легкостью носила европейскую одежду, это лишь еще больше подчеркивало ее иностранное, какое-то неземное происхождение. «Экзотичной» назвал ее Джордж, и такой она была — особенно здесь, в самом мрачном районе Лондона, среди сумятицы доков и складов, протянувшихся вдоль грязных вод Темзы.
Волосы ее были черны как вороново крыло, густые, с вплетенными золотыми нитями; кожа — коричневого цвета; черты лица тонкие, но примечательно твердые, а в носу у нее переливался аметист. Она напомнила мне ту разбойницу, которую Мурфилд взял в плен на перевале по дороге в Каликшутру. Правда, эта женщина выглядела в тысячу раз красивее и опаснее. Я сразу почувствовал недоверие к ней по причинам, которые объяснить не берусь, ибо мой метод — сопротивляться зову инстинктов, чтобы они не оказали влияния на процесс дедукции. И в то же время, признаюсь, я ощутил, что только инстинкты и остались во мне, ибо моя способность к анализу исчезла. Видимо, сама красота Лайлы вывела меня из равновесия, ибо дева лучилась, как солнце, и мне никак не удавалось рассмотреть ее. А может быть, сказалось воспоминание о старых страхах, темная память о Каликшутре, виденной мною статуе, измазанной кровью, легенды об ужасной Кали.
Я, конечно, был смешон — мое воображение чрезмерно разыгралось. Эта Лайла смогла оказать подобное воздействие даже на разум такого хладнокровного и устойчивого к сексуальным искушениям человека, как я, что говорило о ее способности вызывать всеобщее восхищение, и я теперь понял, почему Джордж столь безнадежно в нее влюбился. И не только первоначальные мысли о Каликшутре внушали суеверный страх, ибо мне стало ясно, что мои подозрения насчет Лайлы очень близки к истине. Сам Джордж — я даже рта открыть не успел — начал уверять меня, мол, дело совсем не в том, что он принес все к Лайле и спросил, интересуется ли она границами, она сказала, что это не так, и все пошло хорошо, он принялся работать над законопроектом, потому что именно здесь ему работается лучше всего, — в общем, не надо беспокоиться, все отлично. Временами он обращался к Лайле, и она поддакивала ему. Голос ее — как и ее лицо — был очарователен и совращал, напоминая голос лорда Рутвена — мягкий, звонкий и музыкальный. Естественно, мои мрачные подозрения вновь ожили, и я подумал.: что же она за человек, если пробудила во мне сомнения еще большие, чем лорд Рутвен? Я начал прокручивать в памяти все, что слышал о ней от Люси, Розамунды и Джорджа. И вдруг увидел, что Лайла улыбается, глядя на меня, будто читая мои мысли. Легким движением руки она остановила Джорджа и принялась расспрашивать меня о том, как я в первый раз нашел ее обитель. Я не хотел говорить с ней, но оказалось, что Джордж ей и так все рассказал, и у меня появилось ощущение, что она играет мной. Время от времени она бросала взгляд на девочку за шахматной доской, и, когда Джордж похвалил мои способности к дедукции, Лайла улыбнулась девочке, а девочка серьезно и внимательно посмотрела на меня и Джорджа. Я увидел, что Джордж как-то съежился под ее взглядом и резко прервался.
Лайла положила руку на голову девочки:
— Видишь, Сюзетта, доктор — настоящий сыщик. Он разгадывает тайны.
Сюзетта обдумала это, внимательно изучая меня.
— Но когда перед вами встает тайна, — спросила она меня, — как вы узнаете, что она закончилась?
Я взглянул на Лайлу и Полидори. Полидори осклабился, обнажая зубы.
— Это очень трудно, — признался я, повернувшись к Сюзетте. — Иногда тайны не кончаются.
— Это нечестно, — заявила она, покачивая ножками. — Если вы не знаете, когда закончится тайна, то вы можете сильно ошибиться и с ее началом. Вы даже можете оказаться в совершенно другой тайне и не заметить этого — что тогда?
— Трудности или что-либо похуже, — ответил я, бросив взгляд на Лайлу.
На лице ее застыла полнейшая безмятежность.
— Посмотрите-ка, — дернула меня за рукав Сюзетта. В руках у нее был журнал. — Мой любимый, — сообщила она, передавая журнал мне.
Я рассмотрел обложку… «Битонский рождественский ежегодник». Девочка улыбнулась и взяла журнал обратно, открыв на какой-то захватанной пальцами странице.
— В рассказах, — сказала она, — сыщики всегда знают, где кончается тайна. — Она прочитала заглавие вслух: — «Этюд в багровых тонах. Тайна Шерлока Холмса». Вы читали?
Я покачал головой:
— У меня не очень много времени на чтение.
— Но эту повесть вам надо прочесть. Сыщик очень хороший. Он мог бы помочь вам понять некоторые правила.
— Правила?
— Конечно, — терпеливо промолвила она. — Когда кого-нибудь убивают. — Она вновь посмотрела в журнал и медленно, смакуя, повторила название: — «Этюд в багровых тонах»… Это означает «этюд о крови»… А когда кровь проливают, то должны быть правила. Все это знают. Как вы справитесь, если не знаете этого?
— Но кровь еще не пролита.
— Пока.
— А будет?
— Ради Бога, — пробормотал Джордж, отворачиваясь.
Но Сюзетта игнорировала его протест и продолжала пристально и торжествующе смотреть на меня огромными
глазами.
— Вы должны надеяться на это, — произнесла она— Иначе какой смысл быть сыщиком? Ничего захватывающего не останется… — Она взяла журнал, слезла со стула и оправила платьице. — Будем надеяться, это вопрос времени.
Взор ее был крайне холоден. Крепко пожав мне руку, она добавила:
— Всего-навсего вопрос времени.
Наступило молчание, и вдруг Полидори расхохотался. Джордж посмотрел на него с нескрываемым отвращением, потом с явным содроганием взглянул на Сюзетту.
— Все это дурной вкус, — процедил он.
— Дурной? — уточнила Лайла.
Она сидела в бархатном шезлонге и курила сигарету, тонкую и длинную. Дым выписывал волнующие кривые, повторяя изгибы тела Лайлы.
— Ну да, черт возьми! — вдруг яростно взорвался Джордж. — Это дурно, чертовски дурно! Только поглядите на нее… Ей нельзя читать рассказы про убийства! Куклы, пони — вот что должно нравиться маленьким девочкам… магические представления, нечто вроде… А не эта кровавая чушь. Лайла, это же, черт подери, ненормально!
Сюзетта продолжала невозмутимо изучать его. Джордж сунул руки в карманы и отвернулся.
— Действует мне на нервы, — буркнул он мне. — Сидит тут все время, нагло глазеет и несет ужасную белиберду. Хуже лорда-канцлера.
— Пожалуйста, — изящно повела рукой Лайла, — не расстраивай ребенка.
— Ее расстроишь! — фыркнул Джордж. — Да ее ничем не прошибешь. Лайла, это ты портишь ребенка, вот что я тебе скажу. Только посмотри на нее!
Сюзетта наблюдала за ним столь же бесстрастно, как и раньше.
— Где, черт возьми, ее уважение?
— К тебе?
— Да, конечно, ко мне!
— Может быть, ты должен его заслужить, — предположила Лайла ледяным голосом, потушила сигарету и встала.
Джордж игнорировал ее, словно вообще не слышал.
— Черт подери, я знаю, она сирота, — хмыкнул он. — И чертовски мило с твоей стороны, что ты о ней заботишься. Бог видит, я хорошо отношусь к благотворительности, отлично, Лайла, говорю, отлично, но… — Глаза его сузились. — Факт остается фактом: она маленький звереныш.
Лайла слегка пожала плечами:
— И что ты предлагаешь?
— Самое простое, — сказал Джордж. — Прибрать ее к рукам.
Смех Лайлы был очаровывающим, каким-то нечеловеческим.
— И ты намереваешься справиться с этим?
— Я? — нахмурился Джордж. — Боже, нет, какая забавная идея! Я имел в виду няню! То, о чем мы говорим, — женское дело. Вот чего тебе не хватает, дорогая, — чертовски хорошей няни, которая возьмет мисс Сюзетту в детскую и научит ее всему, что должны знать маленькие девочки. Некоторым женским добродетелям, мягкости, доброте…
Лайла повернулась, словно ей наскучил этот разговор, и поправила волосы.
— Что ж, может, я последую твоему совету. Есть определенные возможности.
— Приятно слышать, — ответил Джордж.
— Но не сейчас… Я должна полагаться только на себя. — Лайла протянула руку. — Пойдем, Сюзетта. Ты раздражаешь сэра Джорджа. Пора спать.
Сюзетта подошла ко мне и крепко сжала мою руку.
— Я хочу, чтобы вы проводили меня, — попросила она.
Я взглянул на Джорджа и пошел за ней.
— Она никогда не видела сыщика, — прошептала Лайла мне на ухо, когда я проходил мимо. — У вас появилась поклонница!
Мы вышли в коридор. Там было темно. Я услышал постукивание каблучков Лайлы, когда она последовала за нами, и затем, когда закрылась дверь, все погрузилось в темноту. Вдруг позади что-то слабо засветилось. Через секунду я понял, что это светится кожа Лайлы. Она хлопнула в ладоши, и сразу бледные колеблющиеся лучики света прорезали темноту, а передо мной замаячило нечто похожее на массивную колонну, за которой виднелись арки и еще какие-то проходы, освещаемые тонкими лучиками, пробивающимися, словно плющ, сквозь камень. Освещение было не очень хорошим, и прошло некоторое время, прежде чем я, хоть и обладаю хорошим зрением, смог привыкнуть к нему. Я обнаружил, что стою у массивной лестницы, а увиденная мною колонна, поддерживающая ее спираль, была, по моей оценке, около пятнадцати футов толщиной, причем каждая ступень лестницы насчитывала в ширину более двадцати футов. Я предположил, что эта иллюзия либо подстроена, либо вызвана опиумом, ибо казалось невозможным, что в каком-то складе может существовать такое. Но только я начал подниматься по лестнице, Лайла и Сюзетта — рядом со мной, как под нашими ногами камни отозвались эхом шагов, и я потрясенно осознал, что все это происходит наяву. Вся конструкция была сделана из темно-пурпурной породы вулканического происхождения, кристаллической и отшлифованной до такой степени, что фигуры наши отражались в ее угрюмых глубинах. Мое отражение, вздрагивающее и искаженное полусветом, следовало за мной, словно какой-то отблеск, пойманный между стеклами. От этого эффекта становилось не по себе, и, вне сомнения, это тоже было подстроено.
Я взглянул на Лайлу. Она поднималась несколько впереди, но вдруг приостановилась и наклонилась, протягивая руку к чему-то в темноте.
— Разве она не прекрасна? — восхитилась она.
Я нахмурился. На меня уставилась пара немигающих зеленых глаз, и я узнал пантеру, которую видел раньше. Пантера зевнула, потянулась и неслышно стала спускаться по лестнице.
— Ручная? — спросил я.
— Не совсем, — прошептала Лайла, почему-то рассмеявшись. — Но очень красивая.
— И вам будет очень приятно, когда она порвет кого-нибудь на куски?
Лайла слегка улыбнулась.
— Не надо мрачных прогнозов. — Она проследила взглядом за пантерой. — Я люблю своих животных… Больше, чем людей. Им меньше нужно, и потому их зависимость более полная. Правда, Сюзетта?
— Да, Лайла, — ответила девочка.
— Смотрите, — Лайла подняла руку.
Я повернулся и обомлел. К тому времени я уже должен был закалиться и не удивляться сюрпризам, но ничто, даже события прошедших недель, не подготовили меня к тому, что я узрел. Предо мною простирался гигантский проход, весь заполненный животными и стаями птиц. Я различил льва, нескольких свиней, дремлющую змею. Рядом были еще какие-то звери, и этот проход уходил все дальше и дальше во тьму… Совершенно невозможное зрелище. Я повернулся к Лайле, чтобы спросить ее, в чем суть этой галлюцинации, но она подняла руку и прижала палец к моим губам. Я подумал, что Лайла собирается поцеловать меня, ибо ее губы полуоткрылись и оказались вблизи моих. Я даже почувствовал исходивший от нее аромат. Но она улыбнулась, отвернулась и встала на колени перед Сюзеттой, похлопав девочку по щечкам.
— Ну все, беги, — шепнула она. — Мне надо поговорить с доктором.
Сюзетта не ответила, на мгновение прильнула к Лайле, а потом повернулась и побежала по проходу. Вспорхнули и закружились у нее над головой испуганные птицы. Звери отпрянули к стенам, а Сюзетта бежала, и звук ее шагов эхом отдавался среди голых камней и наполнял все вокруг, даже когда девочка исчезла из вида. Издалека, как туман, начала наползать темнота. Вскоре животные превратились в смутные силуэты, а коридор стал зияющей черной дырой.
— Мне, наверное, надо прочистить мозги, — повернулся я к Лайле.
Она протянула руку, коснувшись меня, как несколькими мгновениями ранее, и улыбнулась:
— Пострадали от опиума у Полидори? — поинтересовалась она.
Глаза ее, как и у лорда Рутвена, были на удивление глубоки. Я нашел в себе силы увернуться от ее взгляда.
— Может быть.
— Пойдемте со мной, — кивнула Лайла.
Она взяла меня за руку. Мы опять двинулись вверх по лестнице, и я заметил, что свет на стенах как-то тускнеет. Я поднял голову. Надо мной навис огромный стеклянный купол, а за ним в безоблачном небе сверкали звезды.
— В Лондоне такой скверный воздух, — сообщила Лайла, — и так загрязнен газовым освещением. Но, как видите, при помощи оптики это можно свести к нулю.
— Замечательно! — воскликнул я. — Никогда не думал, что такое возможно.
— И тем не менее…
Я продолжал глядеть сквозь купол на небо, чувствуя на себе взгляд Лайлы и зная, что он крайне холоден, холоден, как звезды. И все же я не обернулся.
— Это напоминает мне, — нарочито медленно проговорил я, — напоминает чистое небо, простирающееся над горами в Каликшутре…
— Вот как?
Вопрос повис в воздухе. Лайла, подняв голову, смотрела теперь на звезды. И вновь я ощутил мощный прилив влечения к ней. В равной мере во мне поднялись страх и желание, борясь друг с другом, и, когда она потянулась ко мне, я чуть ли не с яростью отбросил ее руку.
— Вы не доверяете мне, — прошептала она, словно удивляясь этому.
Я почти засмеялся. Она почувствовала это и улыбнулась сама.
— Но почему? — проговорила она. — Вы вините меня в том, что я обманула вашего друга?
— И я прав, — холодно ответил я. — Вы обманываете его.
— Ну да, конечно, — пожала плечами Лайла— Это очевидно.
Я с удивлением взглянул на нее, ибо не ожидал такой откровенности.
— Не делайте вид, будто вас громом поразило, — продолжала она. — Уж перед вами я бы не отважилась это отрицать.
— Вы мне льстите.
— Думаете?
— Конечно. Вы же ничего не рассказываете Джорджу.
— Верно. Но Джордж — идиот.
— И мой друг… Почему бы мне не передать ему ваши слова?
Глаза ее блеснули, она покачала головой и стала подниматься по лестнице к стеклянному куполу. Спустя некоторое время она остановилась, вглядываясь во что-то, чего мне не было видно.
— Насколько я понимаю, — сказала она наконец, поворачиваясь ко мне, — вы работаете в Уайтчепеле, в самых ужасных трущобах.
— Да, я работаю в Уайтчепеле.
— Тогда вы, должно быть, сочувствуете бедным, неустроенным, угнетенным, доктор Элиот. Можете не отвечать, я знаю, мне рассказывал Джордж… Он называет вас святым Ист-Энда… Святой Ист-Энда… Он считает, что это шутка.
— Наверняка. Но что вы хотите этим сказать?
— То, что Джордж все считает замечательной шуткой. Например, свою работу в Индийском кабинете… А его отношение к людям, на чьи жизни он хочет повлиять, — небрежно, так небрежно, один росчерк пера, одна строка… Сама мысль о том, что он может ворочать жизнями миллионов — такой человек, как он… Шутка… Он считает это шуткой? И иногда, доктор Элиот… — Она прервала свою речь, вновь вглядываясь сквозь стекло. — Я тоже так считаю.
Я наблюдал за ней. Она была ужасающе прекрасна. Я подумал, что же со мной происходит, если в такой критический момент мной овладевает физическое влечение.
«Придерживайся своих методов, — велел я себе. — Будь верен им, иначе ты — ничто, иначе ты — труп».
Я медленно поднялся к стеклу, за которым величаво раскинулся Лондон. Мы находились на какой-то невозможной высоте, ибо город простирался подо мною скопищем красных и черных пятен, а сердце его, точно длинная кишка, прорезала река.
— Я злюсь оттого, — промолвила она, — что приходится впадать в блуд с таким человеком, как Джордж.
Она не обернулась ко мне, и, посмотрев на нее в профиль, я вспомнил другой профиль… статуи богини, вознесенной среди джунглей и горных вершин.
— Вы… вы… — тихо прошептал я.
Голос мой прервался. Лайла медленно повернулась ко мне.
— Я должен знать, — сказал я. — В Каликшутре о богине Кали говорят так, словно она на самом деле существует…
— Она действительно существует — в душах, поклоняющихся ей, в великом потоке мира…
— Это не то, что я имел в виду.
— Знаю, — Лайла широко открыла глаза в притворной невинности.
— Кто вы?
— Вы имеете в виду, что я — Кали? — рассмеялась Лайла.
Она вдруг притянула меня к себе, открывая мою шею для поцелуев… три… четыре… пять раз целуя меня словно в беспамятстве, и затем вновь засмеялась.
— Вы не так меня поняли, — сердито проговорил я, отстраняясь.
— Не смущайтесь. Вы же жили в Индии и знаете, что тамошние боги часто ходят по земле.
— И Кали тоже? — спросил я, пытаясь поймать ее взгляд.
— В Каликшутре — вероятно, — пожала плечами Лайла и отвернулась. — Ну да, я вас поддразниваю, — тихо призналась она, глядя в ночь. — Но не совсем. Каликшутра — место призраков, не от мира сего… Вы и сами это знаете, доктор. Фантазия и реальность переплетаются там. Тамошние места — особые.
— Да, — холодно произнес я, — я это заметил.
— Рада слышать, — в голосе Лайлы не было иронии. — Потому что, доктор, я и сама часть мифа В Гималаях обосновались не только индуистские боги. Там есть и другие верования, обычаи, сохраняющиеся в тех местах, где еще жив буддизм, в Тибете и Ладахе, вдоль крыши мира Они верят, что божество существует в человеческом облике, передается от наследника к наследнику, так что, когда носитель умирает, дух его возрождается в крохотном младенце. Младенца находят, о нем возвещают жрецы и воспитывают его как воплощение Бога В должное время он возглавит и защитит свой народ… Такое верование существует и в Каликшутре.
— Но оболочка, — сказал я, — скорее всего меняется…
Лайла вопросительно взглянула на меня.
— Ребенок, — продолжал я, — которого ищут жрецы… в Каликшутре ищут не мальчика.
Лайла склонила голову:
— Очевидно.
— Так вы их королева?
— Королева… Может быть… а может, больше чем королева.
— Это видно.
— Неужели, доктор Элиот?
Я нахмурился, ибо в ее словах прозвучала горечь, которой я раньше не замечал. Мне вдруг подумалось, что, может быть, я напрасно рисовал ее в своих страхах зловещими красками, и я почувствовал угрызения совести и замешательство.
— Как вы можете винить меня, — вдруг заговорила она, — вы, доктор Элиот, с вашим сочувствием слабым и угнетенным? Я должна была попытаться одурачить вашего друга, ведь речь идет о судьбе моего народа.
Я не ответил, заметив, что по лицу ее пробежала тень гнева.
— Когда-нибудь, — продолжала она, — сэр Джордж поймет, что значит быть слабым, быть предметом чьего-то небрежного бездушия. Может, тогда он перестанет распоряжаться судьбами людей с такой… бездумностью…
Мне стало стыдно за своего друга и за себя.
— Он добрый человек, — еле слышно проговорил я.
— И это служит ему оправданием?
— Вы должны сами принять решение.
— Нет, — заявила Лайла. — Это вы должны принять решение. Так вы передадите ему то, что я рассказала вам сегодня ночью? Разоблачите меня? Сейчас, когда вы узнали, кто я?
— Узнал, кто вы… — машинально повторил я.
Я отвернулся, посмотрел на небо и увидел, что на востоке уже занимается заря. Мне вспомнились слова Хури: «Они слабеют с приходом света».
Я вспомнил, как мы с Мурфилдом карабкались на утес, как ждали у часовни восхода солнца… Я вновь взглянул на Лайлу, изучая ее лицо. Она показалась мне еще милей, гораздо милей, чем прежде, гордой, сверкающей.
— Вы утверждаете, — медленно произнес я, — что я знаю, кто вы. Но я не знаю. И то, что я видел сегодня ночью… Опиум здесь ни при чем. Я не могу объяснить происшедшего, и это, — я выдержал ее взгляд, — признаюсь, приводит меня в замешательство.
— Да ну? Джордж мне рассказывал, что вы были в Каликшутре, но побоялись остаться там.
Я пропустил ее шпильку мимо ушей.
— Тут то же самое, — признался я.
— То же самое?
— То, что я видел в горах, — я замялся, подыскивая подходящее слово, — те же колдовские трюки.
— Колдовские трюки? — переспросила Лайла, удивленно вскинув брови, и вдруг рассмеялась. — Никакой магии здесь нет, доктор. Есть силы, которых вы не понимаете, силы, которые ваша наука не может объяснить. Но от этого они не становятся колдовскими трюками. — Она пожала плечами и вновь засмеялась. — Вы ревнуете.
— Может быть.
— Я могла бы научить вас кое-чему.
В ее предложении мне почудился отзвук слов лорда Рутвена.
— Опять боитесь? — нажимала она.
— Ваших сил?
— Ну что вы! Своего невежества. — Она взяла меня за руки и тихо зашептала мне на ухо: — Своего неумения понять природу…
Она отступила, и глаза ее сверкнули, заискрились. Они притягивали меня, как свет лампы притягивает мотыльков. Я погрузился туда, как в огромную бездну. За ними, вдруг понял я, находятся странные измерения, невозможные истины, которые надо постичь и поведать ничего не подозревающему миру, причем сам я выступлю как Галилей, а может быть, и как второй Ньютон. Искушение затягивало меня, влекло, и я осознал, что обязан противостоять ему.
С большим трудом я оторвался от взгляда Лайлы, переведя взор на Лондон в оранжевом сиянии рассвета. Я увидел, как Темза меж темных берегов окрасилась алым, увидел, как она течет, разглядел ее цвет, цвет гемоглобина. Я узрел лейкоциты, плывущие в плазме, которые качало гигантское невидимое сердце. Весь Лондон казался живым организмом, с которого содрали кожу. Я рассмотрел красные потоки улиц, беспредельную сеть капилляров и понял, что если еще немного подожду, то видение это откроет мне какую-то замечательную истину, я совершу потрясающее открытие в гематологии, надо лишь подождать… крохотный миг. Я взглянул прямо вниз, где текла Темза, плещась о верфи, и подумал, что будет, если те, кто работает на реке, вдруг поймут, что воды вокруг превратились в кровь. Я подумал о множестве утопленников, о трупах, кровь из которых вытекла в воды реки. И тогда я вспомнил Артура Рутвена. Я закрыл глаза и приказал видению исчезнуть.
Когда я вновь открыл их, то увидел лицо Лайлы.
— Я не убивала его, — сказала она.
Я ничуть не удивился тому, что она прочла мои мысли.
— Но вы заманили его сюда.
— Нет. Это Полидори.
— По вашему приказу.
Лайла пожала плечами:
— Не совсем.
— И что? Когда вы узнали, что Артур здесь, то…
— Он ушел. Он пробыл у меня всего час. Я сразу поняла, что он не годится.
— Но труп Артура нашли лишь через неделю.
— Я сказала вам, доктор Элиот, это не я. Зачем мне убивать его? Мне бы это не помогло. Помню, я боялась, что убийство Артура Рутвена может спугнуть сэра Джорджа. Повторяю, доктор Элиот, я не желала ему смерти. Скорее наоборот.
Я нахмурился, понимая, что ее доводы убедительны. Это беспокоило меня и ранее. Но мог ли я ей доверять? Ей или кому-нибудь еще?
— А что насчет Полидори? — спросил я.
— Полидори?
— Тело Артура было совершенно обескровлено… Ответьте, или, клянусь, мне не останется иного выбора, кроме как рассказать Джорджу все, что я знаю.
Глаза Лайлы сузились, голова ее слегка склонилась.
— Это был не Полидори.
— Откуда вы знаете?
— Я его сразу спросила, когда услышала о смерти Артура Рутвена. Он яростно отверг все обвинения… Он не лгал, — улыбнулась она, — я умею распознавать ложь.
— Не сомневаюсь, но, простите меня, это не доказательство.
— Вы считаете? Тогда поговорите с ним сами.
Я кивнул:
— Поговорю!
— Ну и хорошо. — Лайла потянулась к моим рукам. — Жду не дождусь, когда вы оставите это дело в покое. Хочу почувствовать, что вы доверяете мне. — Она прижалась щекой к моей щеке. — Понимаете, доктор? Ничто не мешает нам стать друзьями. — Она легко поцеловала меня в губы. — Ничто.
Не ответив, я повернулся и зашагал вниз по лестнице. Лайла взяла меня за руку, и, не говоря ни слова, мы спустились в комнату, где Джордж корпел над своими картами и изучал планы, разрабатывая пограничную политику в Индии. Полидори не было. Я взглянул на Лайлу. Она вывела меня из комнаты на мостик. Вскоре мы очутились в грязной лавке, где и обнаружили Полидори.
Я спросил, что ему известно о смерти Рутвена, и он, конечно же, принялся отрицать, что убил его.
— Почему вы обвиняете меня? — возмутился он. — Где у вас доказательства?
Разумеется, я не стал рассказывать ему о своем расследовании. Однако упомянул лорда Рутвена, чтобы посмотреть на его реакцию. Полидори заметно дернулся и бросил взгляд на Лайлу, словно раскрылся какой-то секрет, связывающий их обоих. Лайла, впрочем, осталась совершенно бесстрастной, и он, отвернувшись от нее, принялся потирать костяшки пальцев.
— И что лорд Рутвен? — поинтересовался Полидори.
— Он сказал, что вы заманили Артура на смерть.
— Так и сказал, да? — истерически захихикал Полидори.
— А что?
— А то, что если не знаете, — осклабился Полидори, — то сами его спросите.
— Нет… я спрашиваю вас.
— Это не я, — с внезапной яростью выговорил Полидори. — Я уже говорил вам — не я. Я не убивал его.
Этим подразумевалось, что обвинять надо кого-то еще — может быть, напарника, наемника Полидори… Кого? Лорда Рутвена? Полидори, казалось, намекал на это. Но они с лордом Рутвеном не походили на напарников, и, кроме того, какой мог быть мотив у лорда Рутвена убивать собственного двоюродного брата? Никакого.
Это дело все более запутывается. Мне вспоминается вопрос Сюзетты: «Как вы узнаете, что тайна подошла к концу?» Особенно — да, я должен это сказать — когда мотивы могут оказаться совершенно нечеловеческими… Но пока буду продолжать действовать своими методами, хотя боюсь и подумать о тех мерах, на которые может пойти Хури. Никогда не забуду того мальчика… Пусть Хури приедет, когда приедет. Не буду ему пока телеграфировать. Может, уже слишком поздно звать его.
А что же Лайла? В какую игру мы с ней играем? Хотя, скорее, это она играет со мной. Нежелание задумываться над этим слишком глубоко. И все же я должен. Ясно, что мне предстоит многое узнать о ней. Поэтому я ничего не сказал Джорджу. Пока придержу при себе все, что слышал и видел.
Письмо леди Моуберли доктору Джону Элиоту
Гросвенор-стрит, 2.
20 июня.
Уважаемый доктор Элиот!
Боюсь, вы начнете пугаться моих писем, ибо в них одни просьбы и страхи. Однако вновь полагаюсь на вашу дружбу с Джорджем и неоднократные доказательства вашего внимания ко мне. Поэтому простите за то, что еще раз злоупотребляю вашей добротой.
Вы, наверное, знаете, что Джордж опять стал ездить в Ротерхит. За последние две недели он был там уже три раза, хотя каждый раз не более одной ночи кряду, и он уверяет меня, что все это в интересах работы. Он просил меня, если я сомневаюсь, обратиться к вам., поскольку вы сопровождали его при первом возвращении туда и можете засвидетельствовать примерность его поведения. Хорошо, пусть будет так, я не хочу выглядеть обманутой женой. Пусть Джордж получит желаемое. Я забочусь не о морали, а о его ухудшающемся здоровье.
Понимаете, доктор Элиот, он увядает прямо на глазах. Вы испытали бы глубокое потрясение, если бы увидели его сейчас Он бледен и слаб, а также очень нервничает, словно изнутри его сжигает какая-то лихорадка. Я не считаю, что в прежние времена Джордж был худощавым и стройным, но сейчас он похож на настоящее пугало, и, откровенно сказать, я в ужасе. И он не признает, что с ним происходит что-то не то. Его законопроект близок к завершению, и Джордж работает над ним день и ночь. Но даже в краткие часы сна, перепадающие ему, он мечется и ворочается, словно его тревожат дурные сны. Его работа как призрак преследует его.
Не найдется ли у вас время осмотреть его и, может, перемолвиться с ним парой слов? Мы можем встретиться и обсудить его положение. Я знаю, вы человек занятой, но, если вы выкроите минутку, я могла бы воспользоваться вашим предложением сопроводить меня на прогулку. Люси с радостью присоединится к нам, ибо муж ее сейчас в отъезде, занимается делами своей семьи за городом, и она совсем одна. Последнее время я с ней часто вижусь, и, полагаю, благодаря вашим усилиям мы стали близкими подругами. Правда, мужа ее я так и не простила. Вы, несомненно, найдете это странным, но я даже не смогла заставить себя встретиться с ним. Он наверняка очаровательный молодой человек, и Люси, похоже, очень влюблена в него, и все же я не могу изгнать из памяти то, как безответственно он поступил с ней, когда они еще не были женаты. В таком положении вина всегда падает на женщину, не так ли? Я же предпочитаю винить мужчину.
Сообщите мне дату нашей прогулки. Мы могли бы отправиться с утра, чтобы Люси могла успеть в «Лицеум» к началу спектакля. Надеюсь, это не представит для вас проблемы? Мы могли бы съездить в Хайгейт, мое любимое место прогулок, — там, конечно, не загород, но отдохнуть от прокопченного лондонского воздуха можно.
До скорой встречи.
Остаюсь вашим преданным другом.
Розамунда, леди Моуберли.
Письмо миссис Люси Весткот почтенному Эдварду Весткоту
Театр «Лицеум».
27 июня.
Мой дражайший Нэдди!
Видишь, как я соскучилась в любви к тебе? До поднятия занавеса осталось полчаса, а я пишу тебе письмо. Поистине преданная жена! Если мистер Ирвинг застанет меня за этим, то ужасно рассердится — он не любит, когда его актрисы думают о ком-нибудь, кроме него самого. Он высасывает из нас все эмоции и с радостью поработил бы нас всех, если бы мог. К счастью, пока тебя не было, меня защищал мистер Стокер. Он, может, и не столь явный герой, как ты, милый, но очень добр и довольно храбр с мистером Ирвингом, если возникает необходимость. Но я не хочу, чтобы у него были неприятности, и, пока пишу это, буду скрывать письмо из виду под плащом. Вот идет мистер Стокер, улыбается мне. Такой приятный человек, хотя я жду не дождусь, когда он сбреет свою ужасную бороду и перестанет смеяться таким… мускульным… смехом. Вообще-то, Нэд, говоря о мистере Стокере, хочу сказать, что он пригласил нас к себе на ужин в следующем месяце. Будет и Оскар Уайльд, он, оказывается, когда-то ухаживал за женой мистера Стокера, хотя, должна признать, — если слухи верны — в это трудно поверить. Ах да, Джек Элиот тоже приглашен. Думаю, вы встречались. Ну конечно! Впрочем, может быть, он и не придет, но было бы хорошо, если бы пришел. Проблема в том, что он, видимо, предпочитает общество больных людей.
Нет, я чересчур зловеще описываю его. К примеру, сегодня утром он поехал с нами на прогулку, и, хоть это не слишком уж огромное достижение, все же это начало. К счастью, погода была приятная, а виды прекрасные, и потому, я надеюсь, Джек едва ли заметил отсутствие своих туберкулезников и одноруких. Мы взяли с собой Розамунду, и, поскольку Джордж, кажется, опять заболел, Джек смог поговорить с ней о его болезни. Может, именно поэтому он и поехал. Розамунда вновь была очаровательна. Мне она нравится все больше и больше. Если бы только она познакомилась с тобой и смирилась с нашим браком, думаю, в конце концов мы стали бы отличными подругами. Если бы ты был девушкой (хотя, конечно, я очень рада, что ты не девушка!), ты, наверное, был бы очень похож на нее. Не обижайся, дорогой, ибо Розамунда, как я тебе раньше говорила, исключительно хорошенькая — с такими же черными кудряшками и яркими глазами, как у тебя. Хотелось бы увидеть вас вместе, просто для сравнения. Может, и доведется вскоре. Не верю, что Розамунда будет долго упрямствовать.
Только что прошел мистер Ирвинг, вид у него в оперном наряде какой-то загробный. До начала спектакля остается совсем немного, и мне придется отложить письмо к тебе, дорогой Нэд, но есть кое-что, что я хочу тебе сказать. Ты, вероятно, уже и догадался, ибо слишком хорошо меня знаешь: я всегда болтаю, когда надо сознаться в чем-то скверном. А это и вправду нечто скверное, любовь моя, тем более сейчас ты далеко и занят делами своей семьи. Видишь ли, я нарушила данное тебе слово. Знаю, я обещала тебе не делать этого, но сегодня во время прогулки мы навестили дом твоей семьи в Хайгейте. Это случилось непреднамеренно, я даже не поняла, что мы подошли так близко, как вдруг, завернув за угол, увидела аллею, обсаженную деревьями и ведущую к твоему дому. Я хотела уйти, но Розамунда сказала, что это один из ее любимых маршрутов прогулок, и попросила, чтобы мы прошли дальше. И хотя Джек поддержал меня, как только я объяснила, в чем дело, я сама вдруг преисполнилась любопытства. Просто не смогла удержаться — мой страх, мое обещание тебе как-то забылись, и я пошла. Мы проследовали по аллее до ворот, а потом, не знаю почему, вместо того чтобы пройти мимо, я вошла в ворота. Они были незаперты, и я испугалась, что в поместье проникли взломщики. Но не буду притворяться, что именно это двигало мной. Как я сказала, мной овладело любопытство, вот и все. Мне надо было увидеть дом. Это стало для меня важнее всего в жизни.
Нэд, тебе будет приятно узнать, что дом цел и невредим. Ставни были закрыты, парадная дверь заперта, и внутрь мы попасть не смогли. Но, может, ты все-таки наймешь сторожа? Или на худой конец садовника — сад вокруг зарос, одичал, и все так заброшено… Когда я взглянула на все это, ко мне внезапно вернулся… страх, тот самый странный ужас, который мы с тобой тогда почувствовали. Розамунда вроде ничего не заметила, но Джек, судя по тому, как он вдруг сжал кулаки, наверное, что-то ощутил. Во всяком случае, когда я предложила продолжить прогулку, он с некоторой поспешностью согласился. Розамунда пошла с нами, но задержалась у ворот, вдыхая запах диких цветов. Она была очарована заросшим садом и уходила с неохотой. Конечно, она большая любительница природы, и ей очень не хватает подобных диких местечек. Мне же захотелось обратно в толпу, на запруженные народом улицы, и я не могла успокоиться, пока мы не остановили извозчика и не вернулись в город. И вновь, как и тогда, когда мы с тобой туда ходили, я не смогла объяснить глубину своих чувств. Боюсь только, Нэд, что ты прав: над этим местом витают тени зла.
Вот видишь, как актерство влияет на разум: начинаю писать как в мелодраме. Заканчиваю письмо, ибо мистер Ирвинг увидел меня и уже угрожающе скалит зубы — через пять минут начинаем. Прости меня, Нэд (надеюсь, что простишь, раз уж я поступила так благородно и созналась во всем). Скучаю по тебе, любовь моя. Напиши, когда тебя ждать. Возвращайся поскорее.
Зрители затихли. Раздается бой барабанов. Мистер Ирвинг подкручивает усы. Времени нет. Но я люблю тебя, Нэд. Даже на сцене буду думать о тебе.
Со всею любовью, вечно твоя крошка
Л.
P. S. Артур здоров и прекрасен. Сегодня он у Розамунды. Она его очень балует. Его присутствие словно наполняет ее силами. Странно, не правда ли, как все может сложиться?
Дневник доктора Элиота
1 июля.
Неделя началась приятно, но долго это не продлилось. Во вторник гулял с Люси и леди Моуберли на Хайгейтском холме. Люси была в хорошем настроении, хотя произошел странный случай. В леске у Хайгейтского кладбища мы вышли на аллею, ведущую к дому Весткотов. Люси сначала не хотела идти дальше, потом зашагала вперед с энтузиазмом, а в саду опять заколебалась. Дом впечатляющий, но полностью заброшен, что неудивительно, учитывая то, что, по словам самой Люси, ее беспокоит это место. Даже мне стало как-то не по себе у этого дома, но если его отремонтировать и вновь заселить, то уверен, что неприятные ощущения быстро пропадут. Мне понятно, что у Весткота плохие ассоциации с этим домом, но оставлять поместье в таком виде означает сдаться горю. Однако место все же какое-то гнетущее. Подметил, как оживилась Люси, когда дом остался позади.
Успокоить леди Моуберли было значительно труднее, она чересчур разнервничалась и расстроилась. Она описала состояние Джорджа в таких словах, что лично я счел ее диагноз преувеличением. Я сказал ей, что мне нужно повидаться с Джорджем самому, а она затем созналась, что ей трудно убедить мужа навестить меня, — работа полностью поглотила его. Он обещал, что навестит меня в конце недели, но леди Моуберли сомневается, что он сдержит слово.
К счастью, хотя и крайне поздно, Джордж наконец приехал. Я почти отказался от мысли увидеться с ним, когда он появился у меня, горько сетуя, что его оторвали от законопроекта. У леди Моуберли были серьезные основания опасаться за его здоровье, ибо внешний вид его просто шокировал… Он невероятно исхудал и был очень бледен; налицо были и признаки жара при неожиданно нормальной температуре. Анализ крови не показал никаких отклонений — значит, никакой анемии. Я провел опыт, добавив каплю своей крови к его. К моему великому облегчению, реакции не произошло, вид и поведение белых кровяных телец были совершенно нормальны. Но на шее и запястьях у него виднелись следы порезов, очень слабые, но обеспокоившие меня. Явно прослеживалась значительная потеря крови.
Я спросил его о Лайле. И сразу он почему-то разозлился, набычился. Так не похоже на Джорджа Словно, после того как я тоже познакомился с ней, он ревновал меня. Я попытался определить причину порезов. Джордж не мог предложить иного объяснения, кроме того, что уже давал мне раньше: неосторожное обращение с бритвой. А царапины на запястьях? Ответа не было. Я тогда поинтересовался, а не появились ли эти порезы во время визитов к Лайле. Он сказал, что нет. Спросил я его о дурных снах: снятся ли ему кошмары, когда он остается на ночь у Лайлы? Снова резкое отрицание. Он даже заявил обратное, сказав, что был крайне угнетен, когда вообще не виделся с Лайлой. Не вижу здесь взаимосвязи или решения проблемы.
Применили краткосрочное лечение — переливание крови, донорами были Ллевелин и я. Операция прошла успешно. Налицо признаки улучшения. Порекомендовал Джорджу поменьше трудиться, но, боюсь, мой совет останется без внимания. И действительно, он едва слушал меня, так ему не терпелось уйти. Я его не удерживал, но проводил аж до Коммершиал-стрит.
По пути произошел ужасный случай. Мы проходили мимо таверны, у которой сгрудились пьянчути, грубые мужики и проститутки. Одна из женщин особенно бросилась мне в глаза. Лицо ее было ярко размалевано, и лишь через секунду я узнал в ней Мэри Джейн Келли. Глаза ее сверкали, рот кривился, и даже косметика не могла скрыть ее крайнюю бледность. Сначала я подумал, что это из-за меня она так расстроилась, и хотел было перейти улицу, чтобы не смущать ее, но потом вдруг понял, что она даже не замечает меня, а вместо этого пристально смотрит на Джорджа. Она взглянула на свое запястье, и лицо ее исказили крайняя ненависть и страх. Она пронзительно и яростно закричала, ткнув пальцем в сторону Джорджа:
— Моя кровь! Глядите, у него на лице моя кровь!
Голос у нее был как у сумасшедшей. Она кинулась на Джорджа и, сбив с ног, повалила на мостовую. Вспомнив судьбу бедного пса, растерзанного ею, я быстро бросился к ней и оттащил от Джорджа, а потом, призвав на помощь, довел ее до клиники. Джордж, к счастью, остался невредим, не считая мелких синяков и царапин. Вряд ли стоит говорить, что он был потрясен случившимся.
— Очаровательные у вас тут места, — все повторял он, — прямо-таки очаровательные.
И поспешил уехать на извозчике.
С того времени Мэри Келли охватила лихорадка. Иногда она бросалась на стену, явно порываясь бежать, — все было как в прошлый раз, когда ею овладела похожая мания. В краткие минуты находившего на нее просветления я пытался выяснить, почему она напала на Джорджа. Но она не смогла дать внятного объяснения, кроме того, что ей привиделось, будто лицо Джорджа вымазано ее кровью, поэтому она пришла в ужасную ярость, вообразив, что он украл ее кровь. Больше ничего она не помнила. Санитары сказали мне, что она иногда бормочет о приюте для умалишенных, рыдает, стонет и боится, что ее туда заберут. Будем надеяться, до этого не дойдет.
Ее страх перед приютом для умалишенных напоминает мне, однако, то, что полиция рассказала мне несколько месяцев тому назад: еще одна проститутка была совершенно обескровлена, но все-таки выжила после нападения. Было бы интересно наведаться в сумасшедший дом, где ее содержат. Адрес я узнал.
Записки Брэма Стокера (продолжение)
…Пришло лето, и интерес Элиота к этому делу, кажется, уменьшился. Он с головой ушел в медицинские исследования, и поэтому я вижу его крайне редко. Во время наших нечастых встреч он сообщает мне о состоянии здоровья Мэри Келли, в остальном же хранит молчание о наших приключениях. Как-то я спросил его, считает ли он, что Люси до сих пор грозит опасность. Он посмотрел на меня ястребиным взглядом.
— Нет, если я могу помочь в этом, — резко ответил он и замолк.
Я не пытался давить на него, ибо вижу, что он намерен держать свои подозрения при себе.
Однако мне стало легче от того, что у Люси есть такой защитник. Ведь я не только испытываю к ней искреннюю дружбу, но и являюсь директором театра, а она сверкает как одна из наших ярчайших звезд. Как-то мистер Оскар Уайльд выразил заинтересованность ее способностями, и, зная, что он собирается писать комедию, я решил представить их друг другу. Ибо считаю, что мой долг — способствовать известности подающей надежды юной актрисы. Соответственно, я начал планировать званый ужин, который мог бы посодействовать дальнейшему продвижению Люси на сцене. Я пригласил гостей, которые, как я считал, могли бы помочь карьере Люси, и также решил пригласить доктора Элиота, который был нашим общим другом.
В одно ясное июльское утро я пешком отправился в Уайтчепель и застал Элиота как раз вовремя, ибо только завернул за угол Хэнбери-стрит, как заметил, что он подходит к кэбу. Похоже, он был рад видеть меня и, когда я пригласил его на ужин, принял приглашение, хотя с оговоркой — что на этом ужине он не должен будет блистать умом или живостью беседы. Я уверил его, однако, что никогда не встречал никого умнее его, и мне показалось, что он воспринял этот комплимент с благодарностью. Но, пожав мне руку, он жестом показал на кэб, в который собирался сесть.
— Впрочем, Стокер, вот доказательство моего бессилия… Помните Мэри Джейн Келли?
Я сказал, что, естественно, помню.
— Хорошо… Тогда, может быть, вспомните, что я недавно выписал ее. Но ее состояние снова резко ухудшилось. И, сознаюсь, мое лечение никак ей не помогло.
— Жаль слышать это, — ответил я. — Но какое отношение к этому имеет кэб?
— Да такое, что он отвезет меня в Нью-Кросс, где я собираюсь навестить Лиззи Сьюард, проститутку, которая осталась в живых после нападения, сходного с нападением на Мэри Келли. С тех пор несчастная Лиззи находится в сумасшедшем доме.
— Могу я поехать с вами? — поинтересовался я.
— Если у вас есть время, — кивнул он. — Очень буду рад, что вы снова рядом. Но предупреждаю, визит не из приятных.
Предупреждение Элиота оправдалось. Мы прибыли в заведение, которое, на мой взгляд, смахивало скорее на тюрьму, чем на больницу, и нас сразу провели в кабинет доктора Ренфилда, управляющего лечебницей. Доктор Ренфилд, почти сияя от гордости, описал свою пациентку, как ценный экспонат в зоопарке. Оказалось, что Лиззи Сьюард любит разрывать животных в клочки, а потом пьет их кровь и мажет ею свою кожу.
— Я даже слово придумал для описания ее состояния, — объявил доктор Ренфилд. Он помедлил, очень довольный собой. — Зоофаг — пожиратель живых существ. Очень ей подходит, как я полагаю. — Он встал и жестом пригласил нас за собой. — Прошу сюда.
Мы прошли по длинному коридору в палаты. Состояние интересующей нас пациентки было ужасно. Запертая в крохотной камере, вся в засохшей крови, сидя среди перьев и косточек, она смотрела на нас ничего не понимающими глазами.
— Вот взгляните-ка, — сказал доктор Ренфилд, подмигивая.
Он повернулся к клетке, поставленной здесь специально, и достал из нее голубя. Открыв дверь камеры, он выпустил туда птицу. Я заметил, что крылья у голубя подрезаны и он не может взлететь. Лиззи Сьюард тем временем забилась в утол и следила за происходящим сузившимися глазами. И вдруг со зловещим криком боли и ярости она схватила голубя, свернула ему голову и начала пить его кровь, жадно заглатывая ее, будто ожидая открыть в крови какие-то магические свойства. Затем она разорвала птицу пополам и стала втирать кровь и внутренности в лицо и волосы, словно намыливаясь ими. Затем осела на пол камеры, распростерлась среди перьев и потрохов и заплакала.
Элиот, как я заметил, побледнел от созерцания этого зрелища, но доктор Ренфилд, похоже, не заметил неудовольствия гостя.
— И забава еще не окончена, — прошептал он. — Посмотрите, что произойдет сейчас.
Только он произнес это, как пациентка начала корчиться: ее тело изгибалось дугой, будто бы готовясь вытошнить что-то вредоносное. Но после тщетных попыток ей удалось лишь пронзительно закричать, точь-в-точь как Мэри Келли. Потом она бросилась на стену камеры, пытаясь взобраться вверх по камням, царапая их ногтями, пока по кончикам ее пальцев не побежала кровь. Когда Элиот запротестовал, доктор Ренфилд укоризненно посмотрел на моего спутника, пожал плечами и вызвал двух санитаров. Они вошли в камеру, схватили пациентку, связали кожаными ремнями и прикрутили к доске, служащей ей постелью. Все это они проделали, всячески злоупотребляя ненужной здесь силой.
— Теперь я абсолютно твердо решил, — прошептал мне на ухо Элиот, — что Мэри Келли никогда не попадет в такое место.
Затем он спросил доктора Ренфилда о диагнозе.
— Зоофагическая истерия, — ответил тот, явно обиженный тем, что Элиот забыл придуманное им слово, — неизлечима!
Элиот кивнул, у него, похоже, не осталось больше никаких вопросов, и я подумал, что он, вероятно, будет разочарован плодами своей поездки. Однако, когда мы вышли из сумасшедшего дома, вид у него был ничуть не расстроенный. Наоборот, он почти лучился самодовольством. Мне он, впрочем, ничего не сказал, и, поскольку уже темнело, у меня не было времени беспокоить его расспросами. Подзывая кэб, чтобы тот отвез меня в «Лицеум», я попросил Элиота не забыть о моем приглашении и сразу обращаться ко мне, если ему понадобится помощь. Он уверил меня, что так и сделает, и я оставил его, сожалея об уклончивости моего спутника, но несколько воспряв при мысли, что наши приключения, может быть, еще не закончились…
Дневник доктора Элиота
6 июля.
Был в Нью-Кросс, осматривал Лиззи Сьюард. По пути встретил Стокера, он поехал со мной. Возглавляет сумасшедший дом тип хуже профана; условия, в которых держат пациентку, просто безобразны. Впрочем, визит наш не прошел впустую — открылось одно перспективное направление расследования. В приступах сумасшествия Сьюард царапает стену, пытаясь вырваться. Выйдя из сумасшедшего дома, я осмотрел здание, и мое предположение подтвердилось: стена, на которую бросалась Сьюард, выходит на север, в сторону Ротерхита. Вспоминаю теперь, что Мэри Келли бросалась на стену, выходящую на юго-восток, тоже на Ротерхит.
Я решил поехать туда немедленно и посмотреть, не смогу ли узнать еще что-нибудь об этом таинственном совпадении. Стокер не может сопровождать меня — его ждет «Лицеум». Когда мы попрощались, он пожелал мне удачи и был явно
шокирован тем, что увидел у Лиззи Сьюард. Надеюсь, это не слишком повлияет на его воображение. Поехал в Ротерхит в одиночку.
Сказал извозчику, чтобы он высадил меня у Гренландских доков. Поискав в улочках на задворках, нашел кабачок, упоминавшийся Мэри Келли, когда она рассказывала о том, что предшествовало нападению на нее. Паб был переполнен. Сначала мои расспросы встретили враждебное непонимание, но я пару раз поставил выпивку, и языки развязались. Похоже, по Ротерхиту гуляют мрачные слухи, о которых говорят только шепотом. Никто не помнит, что случилось с Мэри Келли, но слухи о прекрасной женщине, рыщущей по докам в поисках добычи, доходили почти до каждого посетителя паба. Один человек сообщил, что его друг исчез, другому рассказывали о чем-то подобном. Но когда я попросил описать таинственную женщину, мнения сильно разошлись. Одни говорили, что видели негритянку за занавесками в окне экипажа, другие описывали блондинку, и их рассказы напомнили мне женщину, которая следила за мной. Но у обеих женщин было одно общее, на чем сходились все до единого: красота — ужасающая, отталкивающая, леденящая кровь. Я описал им Лайлу — никто не видел такой дамы и даже не слышал о том, чтобы ее здесь встречали. Но ведь красоту Лайлы тоже можно описать как вызывающую тревогу. Трудно сказать, совпадение ли это, трудно прийти к какому-то заключению. Похоже, данное дело не поддается рациональному анализу.
Провел в кабачке несколько часов. Когда вышел, уже стояла ночь, пыльные улицы были пустынны. Мимо прогрохотал какой-то фургон, потом кэб, но ничего похожего на экипаж, который описывала Мэри Келли, видно не было. Казалось невозможным, что такой экипаж мог долго оставаться незамеченным. И только я подумал об этом, как увидел, что сворачиваю на Колдлэйр-лейн, и вспомнил, с каким трудом искал склад и не смог найти целое здание. Меня вдруг охватило чувство паники, какой я не знал с Каликшутры, когда передо мной тоже предстали необъяснимые факты, когда все логические построения, казалось, вот-вот рухнут, и я почувствовал, сколь опасны мои попытки решить это дело. Я вернулся на главную улицу, думая, что же делать дальше. Раздумывая, я посмотрел на витрину лавки на другой стороне улицы. Фургон, груженный товаром из доков, загораживал мне вид. Но вскоре он уехал, и я увидел, что у лавки стоит маленькая девочка в аккуратном пальтишке и шляпке, с ленточками в волосах. В руке она держала обруч. Это была Сюзетта. Она улыбнулась мне, повернулась и, не оглядываясь, покатила обруч по улице.
Я окликнул ее по имени, но она даже не остановилась, и я побежал за ней. Мимо проехал еще фургон. Я потерял Сю-зетту из виду. Я оглядел всю главную улицу — никакого следа Сюзетты — и глубоко вздохнул.
И вдруг за моей спиной раздалось бренчание ее обруча. Звук его как-то странно усилился. Я пораженно отметил, что все другие шумы — грохот уличного движения, голоса — затихли. Я заглянул в проулок. На долю секунды я разглядел Сюзетту, ее крохотную фигурку, убегающую от меня, а затем она исчезла Я последовал за ней. Поворачивая туда, где она исчезла, я снова услышал, как катится обруч, эхом отдаваясь в пустоте улицы, но вскоре обруч вдруг забренчал, падая, и затих. Завернув за следующий угол, я оказался на улице, которую мгновенно узнал — она вела к двери склада У двери стояла Сюзетта, поджидая меня. Когда я подошел, она смущенно улыбнулась и взяла меня за руку, а другой рукой снова катнула обруч. Я ни минуты не колебался, словно моя воля больше не принадлежала мне. Вместе мы прошли в открытую дверь.
В холле нас поджидал ужасный карлик-калека. Он снял с Сюзетты пальто и шляпку. Сюзетта улыбнулась мне и вновь взяла за руку.
— Сюда, — сказала она.
Изгибы лестницы озадачивали, как и раньше. Мы поднялись по одной из нескольких сдвоенных лестниц, вившихся необычными спиралями вопреки всякой силе тяжести. Поднимались мы долго, так высоко лестница просто не могла вести, и я почувствовал странное головокружение, которое охватило меня недавно на улице, ощущение того, что мое сознание не может справиться с открывающимися мне тайнами. Только раньше я чувствовал себя беспомощным, а сейчас начал выискивать среди своих прежних предположений новые формы, новые идеи и почувствовал не испуг, а взволнованность и потрясение.
— Лайла ждет вас, — сообщила Сюзетта. — Причем давно. Она не думала, что вы будете пропадать так долго.
Мы стояли на балконе у двери чудесной работы, инкрустированной в арабском стиле. Сюзетта отворила дверь.
— Вы должны извиниться перед ней, — прошептала она, и я вошел.
Комната была та же, что я помнил с предыдущего визита, но она слегка изменилась. Сбоку, где раньше висел занавес, теперь стояла стеклянная стена из панелей разного цвета — синего, темно-зеленого, оранжевого, как настурции, и красного, — так что свет, как и запах благовоний в комнате, был замечательно сочен и глубок, густ, как вода. В этой стеклянной стене были открыты двери, и за ними виднелась оранжерея. Послышалось журчание воды, и, проходя через двери, я увидел два фонтанчика, бьющих на одинаковом расстоянии от выложенной мрамором дорожки, по бокам которой деревья и разнообразные растения сливались в густую зеленую тень. Воздух был столь же насыщен, как и в комнате, но теперь это был аромат орхидей, клонящихся вниз тропических деревьев, цветов невозможных расцветок и странных, окрашенных в цвет человеческой плоти растений. Все это колыхалось перед моим взором, будто содрогалось от удушающего обилия пыльцы. Почувствовав легкое прикосновение к своей руке, я обернулся.
— Я расстроена тем, что вы смогли прийти только сейчас, — заявила Лайла.
— Да, — ответил я. — Сюзетта предупредила меня, что я должен извиниться.
— Ну так извинитесь.
Я улыбнулся:
— Извините…
Лайла взяла мою руку, отвечая улыбкой на улыбку.
— Сюда, — проговорила она, показывая на боковую дорожку, раздвигая лилии, загораживающие нам путь, и мы вошли в густую, ароматную тень деревьев.
Я взглянул на Лайлу. На ней было надето сари, а на длинные заплетенные волосы, скрепленные драгоценными камнями, была наброшена вуаль из чистейшего прозрачного шелка. Вуаль предназначалась, чтобы скрыть черты Лайлы, но на самом деле вид женщины, ее прикосновение, аромат одежд воздействовали на меня, как и сама оранжерея, подавляя, но в то же время возбуждая, вызывая странное благоговение, чувство причастности к новым ощущениям и идеям. Ее близость причина этому или густота воздуха, я затрудняюсь сказать, но я начал испытывать ощущение, будто замыслы и рассуждения мои были только снами, а мой мозг — теплицей, в которой могут расцвести и вырасти самые необычные растения. Мне страстно захотелось вырваться из этих джунглей, и, услышав впереди журчание фонтана, я предложил Лайле передохнуть там. У фонтана стояла каменная скамья, застеленная коврами и заваленная подушками. Сев на скамью, я стал наблюдать за бьющей водой. Лайла что-то прошептала, но так тихо, что я не расслышал ее слова, и из тени, потягиваясь, вышла пантера. Лайла улыбнулась и щелкнула пальцами. Пантера прыгнула к ней, а Лайла прильнула к зверю. Я почувствовал, что глазею на Лайлу как идиот, как незрелый юнец. Я пытался оторвать взор от ее обнаженных рук на фоне черной шерсти пантеры, от гибких очертаний ее груди под шелковыми складками сари, от полных ярких губ, от ее улыбки. Я знал, что мне надо уйти — от похоти в оранжерее, от одурманивающего, затягивающего, разрушительного вожделения, которое я всегда презирал и которое научился игнорировать. Я не сдамся ему и сейчас. С усилием я перевел взгляд на каменные плиты дорожки, заставляя себя мыслить, заставляя себя быть Джеком Элиотом.
Совладав наконец с собой, я сразу перешел к тайне, приведшей меня в Ротерхит, стал расспрашивать Лайлу о женщине-призраке, об этом наваждении в доках. Хотя Лайла пожимала плечами, ее ничуть не удивили мои вопросы.
Она не могла помочь мне. Тогда я рассказал ей о Мэри Келли и спросил, что она думает о странном притяжении, которое Келли и эта умалишенная в Нью-Кросс чувствуют к тому месту, где на них напали. Может ли Лайла объяснить столь примечательный феномен? Лайла взяла мою руку.
— Нет никакой магии, — сказала она. Она говорила мне это и раньше. — Но есть много путей к познанию тайн природы.
Это я понимал. Иначе зачем бы я поехал в Каликшутру и так долго работал там? И все же оказалось, не только в Каликшутре можно встретить тайны: в мире немало мест, над которыми навис таинственный покров, и Лондон — одно из них.
— Вы имеете в виду Ротерхит? — спросил я. — И все то время, что вы здесь?
Лайла улыбнулась и коснулась края вуали, как бы прикрываясь ею от моих расспросов. Жест ее был дразнящим, и она знала, что он окажется таким, вобрав на миг всю ее восхитительность, привлекательность и силу, чтобы дать намек на глубины, в которые я едва заглянул, и предложить их мне.
— Все то время, что я здесь? — нежно проворковала она и рассмеялась.
Но я понимал, что прав. Кем бы она ни была, сейчас или в прошлом, тайна всегда останется — темные, неисследованные черты мира, который я не мог объяснить, но теперь знал, что он существует, и не мог этого отрицать. Ибо истина всегда соберет последователей, а Лайла тем, на кого повлияло непознаваемое, могла бы предстать формой истины. Я подумал о темноте, поднимающейся в Ротерхите, и о всех тех существах, которых тьма понесет на своей волне. Негритянку в экипаже. Полидори. Меня самого.
От последней мысли я вздрогнул Лайла сжала мою руку и поднесла к губам Ее поцелуй заморозил меня. Я моргнул, стараясь восстановить ход своих мыслей, и принялся расспрашивать о Полидори. Объясняя Лайле свои взаимоотношения с лордом Рутвеном, я подумал — или это мне показалось, — что при упоминании его имени в глазах ее блеснуло то ли возбуждение, то ли беспокойство. Я никогда ранее не видел, чтобы Лайла со столь явным интересом отзывалась на упоминание чьего-либо имени, и поинтересовался про себя, какой силой должен обладать лорд Рутвен, чтобы причинить беспокойство такой женщине, как Лайла. Но хотя глаза выдали ее, она не произнесла ни слова, а только согласилась, когда я продолжил рассказывать о лорде Рутвене, что он и Полидори страдают от одной и той же болезни. О том, что это за болезнь, мне не надо было говорить, но, вспомнив о своих исследованиях крови лорда Рутвена и желая оценить их результаты и основанные на них выводы, я начал делиться с Лайлой теориями и надеждами.
Никогда поиск знаний не действовал на меня так возбуждающе. И пока мы говорили, я увидел, понял, почувствовал, что вот-вот ухвачу истину, о которой раньше и не подозревал. Сколько же времени мы с ней просидели? Казалось, немного. Поглощенный нашей беседой, я не замечал ничего вокруг, но когда наконец она закончилась и я вышел на улицу, луна уходила за горизонт, и на востоке забрезжили первые проблески зари. Я провел у Лайлы десять часов без еды и питья — за одними только разговорами. Мне казалось, я вырвался за рамки мира медицины и двигался куда-то вдаль. Если бы я смог повторить сейчас свои речи, наговорить все это на фонограф, какую революцию это могло бы произвести!
Но я ничего не помню. Вдохновение исчезло. Глубокий анализ проблем, доводы, атмосфера понимания, созданная Лайлой и мной, — все исчезло, растаяло в свете утра, как призрачная ткань воздушною замка И все же это было нечто большее, чем мираж. Я осознаю это разумом Истина может обветшать, но истина остается истиной. И разве не ее я сейчас ищу? Не туда ли меня ведет это дело? Не в сторону, а обратно к научным исследованиям? Ставки в этой игре с ходом времени все повышаются.
Письмо почтенного Эдварда Весткота миссис Люси Весткот
Поместье Алвдистон,
под Солсбери, Уилтшир.
7 июля.
Моя дражайшая Л.!
Смешная ты. Почему я должен тебя винить? Я не тот, кто что-либо тебе запретит. Будь я таким, сомневаюсь, что ты вышла бы за меня замуж. Черт возьми, Люси, ты же всегда отличалась здравым рассудком. Мне всегда в тебе это нравилось. Я бы никогда не стал вести себя, как мой папаша, который только и отдает приказы. Ненавижу приказы и всегда ненавидел. Да, верно, я не хотел, чтобы ты вновь ходила к дому моих родителей, но не потому, что боялся, что ты туда вломишься, или еще какой ерунды, а потому, что чувствую, с домом что-то не то, и не хочу, чтобы ты в это впутывалась. И ведь я оказался прав, а? Тебе не надо было туда ходить. «Тени зла» — это мне понравилось. Хорошо сказано. В самую точку.
Но на самом деле, Люси, тени, кажется, скоро исчезнут. У меня наивеликолепнейшие новости. На прошлой неделе получил письмо из Индии. Не от самого папаши (он колошматит язычников где-то на границе), а от како-го-то другого солдата, о котором я никогда не слышал, одного из его младших офицеров. Оказывается, моя сестра вовсе и не мертва. Ее видели в горах в том районе, где она исчезла. Абсолютной уверенности нет, но появились надежды, и младший офицер пишет, что в горы послали экспедицию. Ну, Люси, слышала ты когда-нибудь такую потрясающую новость? Не могу дождаться дня, когда вы с Шарлоттой познакомитесь. Уверен, вы станете близкими подругами.
Я настолько взволновался от этого письма, что задерживаюсь здесь с делами. Конечно же, планирую все завершить до ужина у мистера Стокера. И, естественно, я помню Джека Элиота. Мы встречались у тебя в театре. Он ведь тоже бывал в Индии, в горах? Может, он знает те места, где исчезла бедняжка Шарлотта? По меньшей мере, смогу хоть его спросить.
Дорогая Люси, скоро вернусь. Скучаю по тебе больше, чем могу выразить словами. Но ты это знаешь.
Со всей, всей любовью, моя дражайшая, к тебе и искусству.
Твой любящий муж
Нэд.
Дневник доктора Элиота
16 июля.
Почти неделю напряженно работал над своими исследованиями, пытаясь ухватить ту искру понимания, которую почувствовал у Лайлы и которая показалась мне такой оригинальной. Но труды оказались бесплодны. Лейкоциты лорда Рутвена остались без изменений, что вроде бы должно было подтолкнуть меня к дальнейшему теоретизированию, но вместо этого лишь парализовало мои мысли. Не вижу возможности обойти возникающие проблемы. В то время как я наговариваю это на фонограф, на конторке предо мною одна из проб. Под микроскопом клетки насмехаются надо мной своим неустанным движением, а покрытые записями листы бумаги громоздятся повсюду. Но эти кучи бумаги не привели ни к чему — я заблудился в путанице проблем, которые не могу понять.
Вчера почувствовал себя столь отупелым и рассеянным, что вновь поехал к Лайле — только лишь в надежде, что она поднимет мой дух. На этот раз без труда нашел ее склад. Я не осознавал, пока снова не оказался там, насколько мне не хватало исходящей от нее энергии. Мы сидели в оранжерее, с нами была Сюзетта, делавшая пометки в журнале, — снова «Этюд в багровых тонах». Обещал ей, что прочту его. Для такой беседы, что состоялась у нас с Лайлой вчера ночью, времени не было, ибо я смог отлучиться из клиники всего на несколько часов. Лайла интригующая собеседница, и мы пробыли вместе довольно долго, чтобы я смог восстановить искру понимания, утраченную мной ранее. Но теперь эта искра опять исчезла, и я не чувствую ничего, кроме рассеянности и озадаченности.
Выписка сегодня днем выздоровевшей Мэри Келли несколько улучшила мое настроение. Но причины ее рецидива все равно не могу объяснить и не уверен, что она излечилась полностью. Я предупредил ее, чтобы она ни в коем случае не возвращалась в Ротерхит, чтобы не приближалась к нему даже по противоположному берегу Темзы. Для ее успокоения я согласился хранить у себя запасной ключ от ее комнаты в «Миллерс-Корт». Повесил ключ на видное место рядом с часами у себя в кабинете.
20 июля.
Ничего не остается, как только посвятить своим делам вторую половину дня. Пытался сосредоточиться на исследованиях, но вдохновения, как и раньше, не было. Чем больше работал, тем больше нарастало чувство подавленности — все идет впустую. Пошел прогуляться, чтобы упорядочить свои мысли.
Проходя через Ковент-Гарден зашел к Стокеру, но он был занят, и я последовал дальше, через мост Ватерлоо и вдоль Темзы. Против своих намерений вдруг оказался в Ротерхите. Зашел к Лайле. К моему удивлению, дверь мне открыл Полидори. Он не очень-то обрадовался, увидев меня.
— Ее нет, — рявкнул он и захлопнул бы дверь прямо перед моим носом, если бы я не подставил ногу. — Если не возражаете, — еще грубее пролаял Полидори, — я очень занят.
Он повернулся ко мне спиной, а за ним в холле я увидел мужчину, которого узнал по опиекурильне. Глаза его были открыты, но ничего не выражали, а голова болталась, словно ему свернули шею. Я шагнул вперед — взглянуть, какую помощь я могу оказать, но Полидори грубо оттолкнул меня и взял мужчину за руку.
— Не лезьте не в свое дело, — прошипел он, так близко придвигая свое лицо к моему, что меня обдало его дыханием, и повернулся к своему спутнику. — Курить не умеет… Ну и перекурил… Эй, ты… — Он похлопал мужчину по щекам, но наркоман ничего не ответил.
Полидори взял его за подбородок и что было мочи дохнул ему в лицо, но человек так же молча тупо пялился на него.
— Ему нужна помощь, — сказал я.
— Но не ваша, — грубо ответил Полидори. — Спасибо, доктор, у меня медицинское образование.
— Тогда дайте я хоть помогу вам.
— О! Так ваши знания об опиуме сравнялись с моими? Вы так же хорошо, как и я, понимаете принципы наркотической зависимости? Может, вы жизнь посвятили изучению этой области? Нет. Я так не думаю. А поэтому будьте любезны, — даже вежливые обороты речи звучали в его голосе издевательской насмешкой, — валите отсюда и не надоедайте нам!
Он шмыгнул мимо меня и поволок своего пациента через холл к двери, которую я помнил со времени первого посещения. Эта дверь вела в комнату, в которой мы со Стокером обнаружили Джорджа.
— Что вы с ним сделаете? — крикнул я.
Полидори обернулся, задержавшись в дверях.
— А вы что думаете? — спросил он. — Засушу!
Он расхохотался шипящим смехом, захлопнул дверь, и я услышал, как в замке повернулся ключ.
— Почему это вас так волнует?
Я обернулся. С балкона над холлом за мной следила Сюзетта. Я пожал плечами.
Сюзетта поманила меня движением руки:
— Поднимайтесь, и мы вместе подождем Лайлу.
Я вздохнул и прошел через холл к лестнице.
— Вы ведь ненавидите его, не так ли? — осведомилась Сюзетта, протягивая мне руку.
— У меня нет ненависти к людям, — признался я. — Это было бы пустой тратой времени.
— Почему?
— Потому что поддаваться эмоциям — всегда пустая трата времени.
Сюзетта задумалась над моими словами. Ее строгое личико нахмурилось.
— А чему же тогда поддаетесь вы?
— Суждению.
— О чем?
— О том, как оценить чье-либо воздействие на окружающих.
— И если это плохое воздействие, то таких вы ненавидите?
— Нет, — покачал головой я. — Говорю, во мне нет ненависти. Я стараюсь… противодействовать.
— Противодействовать… — Сюзетта повторила это слово, будто на нее произвела впечатление его длина. — Так вы хотите противодействовать Полли?
Я заглянул в ее большие глаза и почувствовал себя не в своей тарелке от того, какой оборот принял разговор с маленькой девочкой. У меня появилось ощущение — необычное при разговоре с ребенком, — что она мной играет.
— Я не верю ему, — сказал я наконец, — вот и все.
Сюзетта молча кивнула. Мы вошли в комнату. Я опустился на диван, а Сюзетта уселась рядышком, продолжая смотреть на меня немигающим взглядом.
— Вы не верите ему, потому что он дает людям опиум?.
— Опиум, — нахмурился я. — Вы слишком юны, чтобы знать о таком.
— Но мы соседи с лавкой Полли. Как же я могу об этом не знать?
Она не улыбнулась, но мне показалось, что в глазах ее блеснул смешливый огонек, показывающий, что она считает нашу беседу забавной.
— Кроме того, — добавила она, играя колечком, стягивающим ее волосы, — Лайла говорит мне, что хорошо знать разное. Вы так не считаете?
— Нехорошо знать об опиуме.
— Но вы-то знаете.
— Да. Потому что я должен знать, от чего люди болеют.
— Тогда, выходит, вы сами курили опиум?
Я нахмурился, но ее лицо оставалось серьезным и полным интереса.
— Нет, — пробормотал я.
— А почему?
— Потому что предпочитаю, чтобы мозг у меня был чист и хорошо работал. Не хочу одурманивать его. Жажда опиума неутолима, Сюзетта. Вы понимаете, что такое ненасытность?
Она кивнула.
— Хорошо, — сказал я. — У меня тоже есть своя ненасытность, но к естественному возбуждению, к стимуляции моих мыслительных способностей. Я видел, как вы играли в шахматы… Вы, как и я, любите задачи и загадки.
Она снова медленно кивнула.
— Тогда обещайте, никогда, никогда не курить опиум. — Я постарался придать себе как можно более строгий вид. — Если уж зависеть от чего-то, так лучше от возбуждения своих же собственных сил, своих же умственных способностей.
— Как с Шерлоком Холмсом?
— Да, — подтвердил я, не желая признаваться, что еще не прочел ту повесть о нем. — Да, если хотите.
— В таком случае, — заговорила Сюзетта, вновь играя колечком, — когда хотите быть бдительным, настороже, вы…
— Да?
— Вы принимаете кокаин?
Она, должно быть, заметила мое удивление, но не моргнула и глазом. На лице ее, как и прежде, отражалось лишь невинное любопытство. Я отвернулся. Джордж был прав — ей действительно нужна по меньшей мере няня. И только я подумал о том, что надо сказать об этом Лайле, как на лестнице послышались шаги, и Сюзетта, соскочив с дивана, подбежала к двери.
— Лайла! — воскликнула девочка, бросаясь обнимать входящую Лайлу.
Та тоже обняла Сюзетту, подхватывая ее на руки. За ними высился какой-то человек в вечернем костюме — темнолицый, бородатый, с чалмой на голове. Я сразу узнал его — это был раджа.
Секундой позже я вспомнил, что на самом деле это Джордж. Такие ошибки памяти всегда дают пищу для размышлений, ибо, вглядевшись в лицо человека, я был поражен преобразившейся внешностью своего друга. Короче говоря, я не мог узнать его — вместо простодушного, жизнерадостного сэра Джорджа Моуберли на меня смотрел человек, обуреваемый ревностью и похотью.
— Джордж, — сказал я, протягивая руку.
Джордж взглянул на нее, и губы его задрожали, словно от ненависти ко мне. Однако он сдержался и пожал мне руку, а я вдруг содрогнулся. Не знаю почему, но меня охватили отвращение и страх. Я вспомнил, как Люси и Стокер рассказывали, что почувствовали при виде раджи. Теперь я тоже, даже зная, кто это на самом деле, испытал нечто подобное. Джордж, по-видимому, заметил мое отвращение и нахмурился, а я, чтобы не выдать себя, начал говорить ему комплименты, восхваляя качество его грима и костюма, улыбаясь как можно более добродушно…
— Весьма необычный вид, — закончил я.
— Да, — согласилась Лайла, беря его под руку. — Вид совсем зловещий.
Она потянулась поцеловать его, и Джордж прильнул было к ней, но Лайла освободилась из его объятий.
— Не при ребенке, — проговорила она.
— К черту ребенка!
Джордж злобно глянул на Сюзетту и что-то тихо пробормотала. Сюзетта же вдруг расхохоталась. Джордж нахмурился еще больше, и я увидел, что кулаки его сжались.
Лайла, должно быть, тоже заметила это, ибо отвела Джорджа в сторону.
— Пойдем, — позвала она, — смоем этот грим.
Мы направились в оранжерею. Идя рядом с Лайлой, я заметил, что она тоже изменилась, хотя не в такой степени, как Джордж. Лицо ее было накрашено не сильно, но ярко; волосы были намеренно приведены в беспорядок; я заметил на ней и украшения из золота Каликшутры. Платье ее было еще более смелого покроя, с декольте по последней моде. Она совсем не походила на ту женщину, с которой я беседовал во время предыдущего визита И вновь мне стало немного не по себе от такого ее превращения.
Мы остановились у фонтана, Джордж нагнулся и стер с лица грим. Когда он мылся под струей фонтана, я подметил, что краска расплывается в воде, как кровь. Интересно, особенно в свете того, что Люси видела на Бонд-стрит, когда Джордж накладывал, грим… Трудно объяснить, почему грим на лице выглядит как кровь. Я почувствовал облегчение, лишь когда Джордж закончил омовение и сел рядом с нами. Теперь он снова выглядел самим собой. Почти самим собой, ибо во взгляде его посверкивали огоньки подозрительности, а черты лица еще больше заострились. Было очевидно, что силы продолжают его покидать, и я попросил Джорджа зайти ко мне на днях. Он обещал, что зайдет, как только примут законопроект, голосование по которому было назначено на следующую неделю. Придет ли Джордж, не знаю, поживем — увидим.
Вскоре я поднялся и распрощался. Складывается какое-то неудобное положение. В будущем мне придется навещать Лайлу, когда у нее точно не будет Джорджа. Бог знает, что за картины рисует его воображение.
24 июля.
Неприятный случай, который описываю в крайнем замешательстве.
Пару дней тому назад достал наконец экземпляр «Ежегодника Битона» и впустую потратил целый час, пролистывая «Этюд в багровых тонах». По странному совпадению оказалось, что повесть написал Артур Конан Дойл. Мы не виделись с университетских дней. Его герой, Шерлок Холмс, — явная карикатура на доктора Белла: у них одинаковые дедуктивные методы. Во всяком случае, Дойл многое почерпнул из лекций Белла.
Само повествование весьма забавно. Я подумал о том, полностью ли поняла его Сюзетта. На следующий вечер, измученный тем, что мои исследования практически не двигаются, я подумал, что надо съездить в Ротерхит и поговорить с Сюзеттой. Вскоре стало ясно, что Сюзетта совершенно правильно поняла этот рассказ. Слишком острый ум у столь юной девочки. Мы долго обсуждали искусство дедуктивных рассуждений. В частности, Сюзетта очень хотела узнать, бывают ли такие ситуации, когда этот метод не срабатывает. Она вернулась к старому вопросу: что происходит, если ведешь дело, не зная его закономерностей? Я попытался объяснить ей, что в поведении людей, при всей его нерациональности, не может быть законов, результат зависит от наблюдений и всегда нужно применять только разум.
— Применять к чему? — спросила Сюзетта.
— К уликам, — ответил я. — Если они кажутся таинственными, следует найти им логическое объяснение.
Сюзетта нахмурилась:
— А если логического объяснения не существует?
— Оно должно быть.
— Всегда?
— Всегда, — кивнул я.
— И если бы его не было, — она вновь взглянула на журнал, — то Шерлок Холмс не смог бы распутать это дело?
— Думаю, не смог бы.
— И вы бы тоже не смогли? — сузив глаза, поинтересовалась она.
— Ты какой-то провокатор, а не девочка, — пожурила ее Лайла, беря Сюзетту на колени. — Что дядя Джек подумает? Маленькие девочки не должны задавать сложные вопросы.
Но я призадумался. И как только Сюзетту отправили спать, я спросил о ней у Лайлы. Оказалось, что Сюзетта была единственным ребенком любимой подруги.
— Очень давнишней подруги, — добавила Лайла с какой-то отстраненной улыбкой.
— Она всегда такая предусмотрительная?
— Предусмотрительная? О да!
— И смышленая тоже… Вы сами ее учите?
— Конечно. Для обычного учителя Сюзетта может оказаться слишком крепким орешком.
Лайла замолчала, словно прислушиваясь к какому-то шуму из холла внизу, потом разгладила волосы.
— Впрочем, в одном своем предложении, — проговорила она, — Джордж был, пожалуй, прав. Сюзетте нужна няня, нужно, чтобы кто-то ее укротил.
Она вновь замолчала. Теперь и мне стали слышны шаги. Кто-то шел по лестнице. Лайла взглянула на дверь и, улыбнувшись, повернулась ко мне.
— Надо будет поискать подходящую девушку.
В комнату вошел Джордж, ужасающе изможденный и бледный. Увидев нас, он задрожал, и я побоялся, что он рухнет на пол. Я бросился ему на помощь, но он выкрикнул что-то неразборчивое, пробормотав потом, что я предал его доверие. Я пытался успокоить его, потянулся пощупать пульс, но в это время Джордж сжал кулак и с размаху ударил меня в челюсть. От неожиданного удара я попятился, а Джордж ринулся за мной, занес кулак и во второй раз ударил меня, на этот раз в висок. Инстинктивно я ответил ударом на удар, и Джордж рухнул на пол, а я в смущении кинулся к нему, ибо он был столь слаб, что я опасался, не покалечил ли его. Но он упорно отказывался от моей помощи, стараясь подняться, и шипя изрыгал обвинения в мой адрес, а в глазах его горела неукротимая ненависть.
Лайла, наблюдавшая за сценой с легким интересом, вмешалась, склонившись над распростертым телом Джорджа и попросив меня уйти.
Я воспротивился — ведь Джорджу нужна была помощь.
— Может быть, — ответила Лайла. — Но от вас он ее не примет. Не беспокойтесь, я присмотрю за ним. Идите же, Джек, идите!
Некоторое время я стоял в растерянности, после чего повернулся и вышел. У дверей я оглянулся: Лайла целовала и обнимала Джорджа, помогая ему приподняться.
Какая неприятная сцена! Сам себе не верю, что допустил такую глупость. Я должен был догадаться, что Джордж не так все поймет, он переработал и плохо себя чувствовал. А теперь я не смогу лечить его. Сегодня рано вечером навестил Джорджа. Дворецкий сообщил, что сэр Джордж гостей не принимает.
Письмо леди Моуберли доктору Джону Элиоту
Гросвенор-стрит, 2.
24 июля.
Уважаемый доктор Элиот!
Боюсь, должна просить вас не навещать больше моего мужа. Не знаю, из-за чего вы поссорились, Джордж отказывается говорить мне, но, насколько я понимаю, ссора вышла серьезная, и, какова бы ни была ее причина, он сейчас не хочет и слышать о вас. Поэтому должна еще раз повторить: не навещайте его.
С глубоким сожалением пишу вам это — у меня так мало друзей в городе. Мне надо будет вскоре съездить в Уитби, уладить там кое-какие семейные дела, и, думая о доме своего детства, я с тем большей неохотой расстаюсь с обществом такого человека, как вы, человека, с которым я чувствую себя не так одиноко в лондонских дебрях. Надеюсь и верю, что вы оцените это. По правде говоря, сознаюсь, доктор Элиот, меня почти тянет остаться в Уитби по завершении моих дел и больше не возвращаться. Я нахожусь на грани помутнения рассудка, так Джордж переменился. Уверена, за таким изменением его характера стоит болезнь. Или это, или же мысли о речи, которую он должен произнести по завершении законопроекта на следующей неделе. Может быть, как только с работой будет покончено, он вновь станет самим собой. Мы, конечно же, должны на это надеяться.
Еще раз, доктор Элиот, с глубоким сожалением, искренне ваша
Розамунда, леди Моуберли.
Дневник доктора Элиота
25 июля.
С Джорджем случилась настоящая мелодрама, судя по письму его жены. Наверное, мне надо еще благодарить его за то, что он не вызвал меня на дуэль. Так заблуждаться! Он, должно быть, очень болен. Впрочем, меня он к себе не подпустит. Так что, видимо, ничего сделать не смогу.
Трудный день на работе, но благодарный. Вечером продолжил исследования пробы крови лорда Рутвена Мне пока не хочется отказываться от решения этой проблемы. Лейкоциты живы — этот факт сам по себе чудо. Но нет, слово «чудо» не годится, и в этом моя проблема. Я оказался вне пределов медицины, вне пределов самой науки. И чувствую растерянность. С другой стороны, меня утешает воспоминание о словах Лайлы — существует много путей к тайнам природы. Повторяя это сейчас, я похожу на безнадежно свихнувшегося, но ночью, в оранжерее у Лайлы, я счел это за истину. Более того, я видел, что это истина. Это настроение, этот дух взволнованности разума… мне надо как-то восстановить их. Но остается вопрос: по какому пути идти?
28 июля.
До сих пор никакого прорыва, а лейкоциты продолжают дразнить меня. Сейчас стало совершенно ясно, что имеющиеся у меня пробы нельзя изучать отдельно: в своем исследовании я должен сослаться на организм, из которого взяты кровяные тельца. В то же время я сам себя отрезал от лорда Рутвена и не могу ожидать от него каких-либо дальнейших разъяснений.
29 июля.
Все бесполезно. Дальше двигаться не могу. Нет ни ресурсов, ни опыта, ни ума продолжать работу.
30 июля.
Все еще сильно давит тяжесть моего провала. Не выношу такого признания, но слишком долго я строил свои дедуктивные умозаключения.
Слава Богу, сегодня у Стокера званый ужин. Не смог бы выдержать вечер в одиночестве.
Записки Брэма Стокера (продолжение)
…Я ожидал встречи с Элиотом с большим нетерпением, чем обычно, ибо надеялся, что он расскажет, что случилось за время, которое мы не виделись. Мне сообщили, что он заходил как-то во второй половине дня в «Лицеум», но я был занят с мистером Ирвингом и не смог с ним встретиться. Поэтому я решил подождать до своего званого ужина. Не знаю, на что я надеялся или чего опасался, но, ожидая прибытия гостей, нервничал все больше и больше, словно предвкушая рассказ Элиота.
Пришел доктор очень поздно, хотя и не последним. Я был рад видеть его, ибо почти убедил себя, что он не придет. Когда же он появился, радость моя сменилась огорчением. Ибо за месяц Элиот ужасно изменился. От него остались лишь кожа да кости, вид был измученный, взгляд — затравленный.
— Боже! — воскликнул я, глядя на его исхудавшее лицо, — Что с вами стало?
— Моя работа, — пробормотал Элиот, — идет не очень хорошо.
— Работа?
— Да-да, — нетерпеливо сказал он. — Один исследовательский проект, вряд ли вас заинтересует. Ну, Стокер, не будем же мы стоять тут весь вечер… Может, вы представите меня гостям?
— Да, конечно, — ответил я в некотором замешательстве.
Я оставил его с Люси и Оскаром Уайльдом, надеясь, что в обществе двух таких выдающихся гостей его угрюмость рассеется, и все же нервничая при виде его явной раздражительности. Когда я через несколько минут подошел к ним, то услышал, что Уайльд оживленно рассуждает о моде. Вдруг Элиот спросил его, не является ли интерес к данной теме пустой тратой умственных способностей и времени.
Уайльд рассмеялся, но, по счастью, вмешалась Люси.
— Вы должны извинить его, мистер Уайльд, — промолвила она, беря Элиота под руку. — Джек считает, что ничто не имеет ценности, пока не умрет и не ляжет под микроскоп.
— Весьма похвальный подход, — ответил Уайльд. — Вы явно знакомы с леди Брекенбери. Но нет ничего более неприятного для души и взора. А что вы скажете о тех, кто прекрасен?
— А что о них можно сказать?
— Вы обвинили меня в том, что я трачу время, что я несерьезен. Но серьезна ли красота юноши? Или, скажем, — он взглянул на Люси, — девушки?
— Серьезна? — нахмурился Элиот. — Нет. Серьезно то, что лежит за внешностью, в разуме или в потоке крови в венах. Но не красота… Я видел плоть и кости, составляющие ее.
— Какая очаровательная готика кроется в вашем замечании, — пробормотал Уайльд. — Но я не стал бы так далеко заглядывать. Я всегда сужу по внешности. Но я всего лишь своего рода глашатай времени: важно то, что лежит на поверхности. Вот почему завязывание галстука — вещь нешуточная. А красота сама по себе — форма гения и истины, высшая форма, поскольку красоте не нужно объяснений. В этом и заключается ее самоутверждение, а может быть, и опасность.
— Что ж, — произнес Элиот, слегка помедлив, — значит, мне повезло, что я не модельер галстуков.
— А мне повезло, что я не хирург, — рассмеялся Уайльд. — Видите ли, доктор, вы совершенно правы. Просто я предпочитаю оставаться в неведении. Есть такой очень нежный цветок: одно лишь соприкосновение с реальностью — и лепестки осыпаются. Полагаю, что я не вынесу вида крови.
Элиот улыбнулся, но не ответил — в тишине прозвучал гонг, зовущий к столу.
— Мы немного запоздали, — извинялся я. — Ждали последнего гостя. Однако он только что пришел, и, если все готовы, мы можем сесть за стол.
Я провел гостей в столовую, и все расселись по местам. Как раз в это время подошел последний гость, присоединяясь к нам и бормоча извинения. Я тепло приветствовал лорда Рутвена и показал ему, куда садиться. Сидевший напротив Элиот крайне удивился и взглянул на меня едва ли не с упреком. Я вспомнил, что он вроде не виделся с лордом Рутвеном после их первой встречи в гримерной Люси и наверняка не знает о том интересе, который его сиятельство проявляет к карьере своей племянницы, часто выказывая знаки заботы и поддержки. Я не мог не пригласить его на такой вечер. И все-таки мне казалось, что Элиот чем-то расстроен, а его нежелание разговаривать с лордом Рутвеном бросалось в глаза.
Вместо этого он погрузился в беседу с Эдвардом Весткотом, что удивило меня, ибо Весткот, приятный малый и достойный муж своей жены, всегда удивлял меня своей немногословностью. Элиот же беседовал с ним довольно оживленно. Я постарался подслушать, о чем разговор, и услышал, что Элиот говорит об Индии. Точнее, о мифах, властвующих в тех местах, где он жил, и о более интригующих тамошних суевериях. Лорд Рутвен тоже начал прислушиваться, а вскоре к разговору присоединились и другие гости, которые стали задавать Элиоту вопросы. Но тому вдруг расхотелось продолжать эту тему, и, когда лорд Рут-вен попросил его рассказать какой-нибудь миф о бессмертии, распространенный в Гималаях, Элиот лишь отрицательно качнул головой, откинувшись на спинку стула.
Уайльд же был явно заинтригован таким поворотом разговора.
— Бессмертие? — спросил он. — Вы имеете в виду вечную молодость? Что ж, очаровательная идея. Превращение эфемерного в вечное. Вряд ли есть что-нибудь приятнее… Вы не согласны, доктор Элиот?
— Может быть, — резко ответил тот. — Тогда красота стала бы серьезной.
— Но не приятной, — с легкой улыбкой на губах вмешался лорд Рутвен.
Впервые за вечер Элиот взглянул ему в глаза:
— Это, милорд, будет зависеть от цены, которую придется заплатить.
— Цена! — воскликнул Уайльд. — Поистине, доктор Элиот, вы говорите как настоящий биржевик, хотя таковым не являетесь.
— Нет, — Лорд Рутвен встряхнул головой. — Здесь он совершенно прав. В определении удовольствия подразумевается, что за него надо платить, не так ли? Шампанское, сигареты, клятвы любовников — все это приятно, но удовольствие преходяще по сравнению со страданиями, которые мы потом испытываем. Вообразите же, только вообразите, какой должна быть расплата за вечную молодость.
— И какова же она должна быть, как вы полагаете? — поинтересовалась Люси, сосредоточенно глядя на него.
Я увидел, что все за столом также замерли, уставившись на красивое бледное лицо лорда Рутвена. Освещенное пламенем свечей, оно казалось слегка позолоченным, чуточку неземным и совершенно нечеловеческим.
— Милорд, — напомнила ему Люси, — вы говорили о расплате за вечную молодость.
— Разве? — удивился лорд Рутвен. Он закурил тонкую сигарету и слегка пожал плечами. — По меньшей мере это должна быть черт знает какая расплата.
— О, по меньшей мере, — согласился Уайльд.
Лорд Рутвен улыбнулся, выдохнув облачко синего дыма, который заклубился над пламенем свечей, и, опустив глаза, посмотрел на Уайльда через стол.
— Как полагаете, потеря души — это приемлемая цена?
— На самом деле, — ответил Уайльд, — уж лучше это, чем расстаться с достойной жизнью, И во всяком случае, в сравнении с хорошим внешним видом что такое мораль? Всего лишь слово, которым мы облагораживаем свои пошлые предрассудки. Лучше быть добрым, чем уродом, но еще лучше, милорд, быть прекрасным и добрым.
Я заметил, что мою дорогую женушку очень обеспокоил тот оборот, который принял разговор.
— Нет! — несколько резко вскричал я. — Вы ступили на скользкую тропку, Оскар. Быть проклятым и жить вечно… это, должно быть, слишком ужасно. Это же не жизнь, а… а… — меня вдруг охватил ужас от одной этой мысли, — смерть заживо!
Лорд Рутвен слегка улыбнулся и выпустил еще один клуб дыма. Он взглянул на Уайльда, который рассматривал его, полуоткрыв рот и с блеском во взоре.
— Сколько вы готовы страдать, мистер Уайльд? — протянул он.
— За вечную молодость?
Лорд Рутвен склонил голову:
— За любую молодость вообще?
— Юность, — сказал Уайльд с торжественным выражением лица, — стоит прожить. Это чудо из чудес. Настоящий источник счастья.
— Вы и вправду так думаете? — засмеялся лорд Рутвен.
— А вы не согласны, милорд? Это потому, что вы сами до сих пор прекрасны. Вы, конечно, состаритесь. Пульс вашей жизни замедлится и станет неровным. Ваш лоб испещрят морщины, щеки впадут. Свет померкнет в слепнущих глазах. И тогда, милорд, вы будете ужасно страдать, вспоминая страсти и удовольствия, которые, как вы когда-то думали, по праву вечно принадлежат вам. Юность, милорд, юность! В мире нет ничего лучше юности!
Лорд Рутвен бросил взгляд на вино у себя в бокале.
— Красота, о которой вы говорите, мистер Уайльд, — иллюзия. Нестареющее лицо не что иное, как маска. Под внешним видом вечной молодости дух будет метаться в зловещей мешанине порока и зла. Мистер Стокер прав. Красота сможет скрыть, но не сумеет спасти.
— Вы меня удивляете, — сказал Уайльд. — Вас самого не искусило бы сие предложение?
Лорд Рутвен погасил сигарету. Я заметил, что он вдруг взглянул на Элиота, но больше не проронил ни слова.
— Вы чересчур честны в своих доводах, милорд, — фыркнул Оскар Уайльд. — Конечно же, вы прожигатель жизни, при вашей красоте вы никем иным быть не можете, а любители наслаждений обычно поддаются искушениям. Ведь только так можно от них отделаться в конце концов.
Лорд Рутвен откинулся на спинку стула:
— Да. Пожалуй, вы правы.
— Конечно прав, — продолжал Уайльд. — Ибо что такое страдания в сопоставлении с красотой? Ради красоты прощается все. Вы, милорд, можете быть повинны в самых ужасных грехах, можете быть прокляты навек, но красота ваша завоюет вам прощение, ваша красота — и любовь, которую она вдохновляет.
— Лично вы простили бы меня?
Мне показался странным этот вопрос, и я заметил, что, задавая его, лорд Рутвен вновь взглянул на Элиота.
— Мне прощать вас? — тягуче произнес Уайльд.
— Мне бы это не понадобилось. И вообще, я предпочитаю красоту опасную. Я предпочитаю пир с пантерами, милорд.
— Скажите лучше, вечерю с дьяволом, — пробормотал Элиот, неожиданно вставая. — Стокер, мне пора идти.
Все
воззрились на него с удивлением… все, кроме лорда Рутвена, который слегка улыбнулся и закурил новую сигарету. Но Элиот, как я заметил, не обратил внимания на реакцию присутствующих. Он повернулся, поблагодарил мою жену за ужин и поспешил к выходу. Я нагнал его в холле, ожидая, что он расстроился, но он, напротив, держался почти бодро. Я спросил его, почему он так внезапно уходит, но он ничего не ответил, лишь поблагодарил меня за, как он выразился, «ужин открытия».
— Открытия чего? — спросил я, но он лишь покачал головой.
— Вскоре увидимся, — сказал он, — и тогда я дам вам кое-какие ответы. А пока, Стокер, желаю вам доброй ночи.
С этими словами он ушел, оставив меня в еще большем недоумении, чем раньше.
Элиот, однако, был прав. Вскоре я действительно получил ответы — ответы более ужасные, чем я отваживался себе представить…
Дневник доктора Элиота
30 июля, поздно ночью.
Прорыв в исследованиях, на который я надеялся, возможно, очень близок. Сегодня вечером встречался с лордом Рутвеном — на ужин к Стокеру он пришел последним. Не ожидал, что он там будет. За столом я сидел напротив него, но изо всех сил старался не вступать в беседу и вместо этого большую часть ужина разговаривал с Эдвардом Весткотом. Люси кое-что рассказала мне о нем по пути в столовую. Оказывается, возникли слухи, что сестра Весткота вовсе не умерла.
Весткоту написал какой-то младший офицер, и в письме говорилось, что в горы направлена экспедиция. Люси, естественно, опасается, что муж ее будет разочарован, и подозревает, что все это какой-то грубый розыгрыш. Я спросил ее почему, и она слегка пожала плечами.
— Что-то не то в этом письме, — призналась она. — Почему, например, если сестру действительно нашли, Нэд не получил никакой весточки от отца? Он ведь тоже там, в Индии, а не написал ни строчки.
— Но кому нужно разыгрывать такую жестокую шутку?
— Не знаю. Но прошу вас, Джек, — уверена, что Нэд будет расспрашивать вас о Каликшутре, ибо знает, что вы сами жили в тех местах, — говорите с ним осторожно. Не хочу даже думать о том, что Нэд воспрянет духом, а потом все опять кончится ничем.
Это верно. И все же предпочитаю считать, что сестры его нет в живых, ибо, если она жива, страшусь подумать, в каком состоянии она находится. Как и просила меня Люси, я постарался охладить пыл надежды у Весткота. Он спокойно воспринял мои слова, но я почувствовал, что он не разделяет мой пессимизм, поскольку все равно продолжает расспрашивать о Каликшутре. Естественно, лорд Рутвен навострил уши, и мне расхотелось говорить об этом, но я счел своим долгом рассказать Весткоту все, что знал. Мне пришлось упомянуть и ту болезнь в горах, породившую столько страхов и суеверий. В беседу вмешался лорд Рутвен, а за ним — остальные гости. Последовал общий разговор о философии смерти, и вклад в него лорда Рутвена был очень мрачен. Он говорил со своей обычной грацией и остроумием, так что ужас того, что, как я знал, было самоанализом, почти скрыли его очаровательные манеры. Почти, но не совсем, ибо ужас остался, спрятанный под красотой, которую сам лорд Рутвен описал как маску, натянутую поверх агонии и гниения. Всего раз, один лишь раз, мне удалось заметить, что эта маска слегка соскользнула, и мельком взглянуть на то, что лежит под нею, — агония, самая настоящая агония. Потрясенный этим, не обладая искусством лицемерия, я решил уйти. Мне нужно было какое-то время побыть одному, подготовиться. Ибо я знал, что лорд Рутвен последует за мной.
Из Челси я возвращался пешком вдоль Темзы. У Воксхолл-бридж я услышал, как катится тяжелый экипаж. Я обернулся, экипаж притормозил и остановился у обочины. Дверца распахнулась, я вошел внутрь, и лорд Рутвен постучал по крыше своей тростью с серебряным набалдашником.
— Извините, — шепнул он, — за то, что вмешался сегодня в вашу беседу.
Я прислушался к грохоту колес тронувшегося экипажа.
— Мне просто было интересно узнать, не могли бы вы пересмотреть свое решение.
Наступило молчание, и я было подумал, что он ждет моего ответа. Но он повернулся, прижался щекой к стеклу окошка и смотрел, как на водах Темзы играют лунные блики.
— Вы ведь увидели это сегодня, не так ли? — спросил он.
— Увидел?
— Да, когда замолчали. Вы поняли. Я знаю.
— Боюсь, больные души не по моей части.
— Я не прошу вас лечить мою душу, — тихо рассмеялся лорд Рутвен.
— А что же тогда?
— Кровь… Вы же сами сказали, доктор, болезнь у меня в крови. И причина ее — физиологическая.
Он наклонился, взял меня за руки и заглянул в глаза. На его лице отразилось отчаяние.
— Вы должны мне помочь… и ради меня, и ради всех тех, кому я могу угрожать.
— А если нет?
— Ничего. С моей стороны вам ничего не угрожает, доктор Элиот, если вы это имеете в виду. Я не хочу, чтобы вы продолжали работу по принуждению. Совершенно верно, я убиваю, но только потому, что мне надо пить. Вы видели мои кровяные клетки и понимаете причину… Я не могу удержаться, так же как ваши пациенты не могут не поддаться воздействию заболеваний. Но я не маньяк-убийца. По крайней мере, — он помедлил, — я могу выбирать свои жертвы.
Он глотнул воздуха, и по лицу его пробежала тень. Не знаю каким образом, но на секунду его агония обнажилась передо мной.
— Вы должны помочь, — проговорил он, — во имя, — он горько улыбнулся, — гуманности.
Я долго не отвечал.
— Не могу, — сказал я наконец. — То, что вы просите, — излечение ваших кровяных клеток от жажды крови… Такое лечение, как я уже говорил, означало бы бессмертие.
Бессмертие, лорд Рутвен! Но найти это лечение превыше моих сил, превыше сил какого-либо человека вообще.
— Нет, — коротко бросил лорд Рутвен, — такая возможность должна быть. — Он наклонился ко мне. — Найдите ее… для меня, доктор. Сделайте все, что сможете. Где-то, как-то вы должны подарить мне надежду. Мне и всему моему племени. — Он сжал мне руку, вцепившись в нее пальцами. — Не отказывайтесь, доктор!
Экипаж остановился на перекрестке. Я высвободился из хватки лорда Рутвена и встал.
— Выйду здесь, — промолвил я.
Лорд Рутвен следил взглядом, как я открываю дверь и вылезаю на улицу, но не пытался меня удержать.
— Если хотите, мы могли бы довезти вас до Уайтчепеля, — предложил он.
— Предпочитаю пройтись. Мне надо о многом подумать.
Брови лорда Рутвена выгнулись:
— Действительно, надо.
— Я сделаю все, что смогу, — пообещал я. — Но пока, прошу вас, оставьте меня.
Я повернулся, перешел улицу и зашагал в гущу узких улочек, по которым не мог проехать его экипаж. Шагая, я улыбнулся, почти ликуя. Может быть, мои исследования не обречены на провал! Я думал только об этом, о том, что, раз теперь лорд Рутвен снова мой пациент, я все-таки добьюсь прорыва в исследованиях, над которыми так усердно и долго работал. Бессмертие… Слишком уж большая цель, чтобы просто думать об этом… Но были и другие цели, которые мне, может быть, удастся достичь. И, конечно же, мне очень нужен Хури. Он эксперт по миру вампиров. И как только я произнес про себя это слово — вампир, я осознал, сколь велико было мое нежелание произносить его раньше. Не удивительно, что мои исследования закончились провалом, — я никогда не отваживался признать то, что было их подлинным предметом. Но сейчас у меня не осталось колебаний, я не сдерживал себя, как раньше. Обстоятельства благословили мое решение. После получаса ходьбы я добрался до дома и, взойдя по лестнице к себе в кабинет, увидел, что дверь его распахнута настежь, а внутри мерцает свет. Осторожно приблизившись, я заметил, что свет очень слабый. Я вошел в комнату. На моей конторке стояло изображение Кали, украшенное гирляндами. Перед ним горели свечи, и из мисочек курился ладан. Под мисочками лежала книга. Я взял ее и прочел заглавие: «Мифы о вампирах в Индии и Румынии. Сравнительное исследование». Между первых страниц была всунута записка. Я вынул ее:
«Думал, вы вообще не выходите на улицу. Ситуация, видимо, изменилась. Зайду к вам завтра и узнаю все новости. Ваш Хури».
Что ж, вместе мы наверняка не пропадем!
31 июля.
В полдень пришел Хури. Он по-прежнему мастер менять внешность. Вначале не узнал его — в своих поездках по Европе он приобрел какой-то венский вид: пенсне, бородка клинышком, ужасная альпийская шляпа. Выдавала его только фигура — он стал еще круглее, чем был. Предложил ему разместиться у меня, но он отказался, заявив, что ни за какие коврижки не согласится жить в трущобах. Вместо этого он остановился в Блумсбери у старого друга — юриста из Калькутты. У юриста есть повар, который умеет готовить пищу по-бенгальски, а к ней Хури не терпится вернуться после месячной диеты на блюдах парижской кухни. Он боялся, что, оказавшись в такой гастрономической глуши, отощает до кожи и костей. Могу подтвердить, что этого не случилось.
Рассказал ему о событиях последних нескольких месяцев. Хури притворялся спокойным, но я видел, что это напускное, на самом деле он возбужден и обеспокоен. Никаких особых обсуждений или анализа с его стороны не последовало, но уверен, что до этого еще дойдет. Ибо сейчас наша неотложная задача — определить причины болезни Джорджа, и, если подозрения оправдаются, нужно как-то обеспечить его безопасность. Это нелегко, особенно ввиду того, что Джордж отказывается видеть меня, но я предложил Хури отправиться завтра на дебаты в палату общин. Будут голосовать по законопроекту Джорджа, и сам Джордж, как ответственный министр, будет отчитываться перед правительством. У меня свои обязанности, и я не смогу присутствовать, но у Хури, по крайней мере, будет возможность изучить Джорджа. Жду его заключений с большим интересом.
Пока есть только один намек на то, что Хури тоже разрабатывает теории касательно этого дела. Уходя, он замешкался и обернулся ко мне.
— Полидори… — проговорил он. — Этот ваш друг, торгующий опиумом… Вы уверены, что его зовут Полидори?
— Да. А что? Его имя вам о чем-то говорит?
— Он, наверное, доктор?
Я с удивлением взглянул на него:
— Да. По крайней мере был, согласно тому, что говорит лорд Рутвен.
— Ах, лорд Рутвен!
— Хури, скажите мне, откуда вам это известно?
— Помню, — улыбнулся он, — раньше вы никому не давали заглянуть в ваши карты. А теперь как аукнулось, так и откликнулось. Не беспокойтесь, старина, это всего лишь мое маленькое, так сказать, озарение.
Я пожал плечами:
— Как хотите.
Хури кивнул и стал спускаться вниз по лестнице, но вдруг остановился и вновь повернулся ко мне.
— Знаете, Джек, — произнес он, — вам не удалось добиться прорыва в этом деле, потому что вы не желаете увидеть невозможное. Ваш рассудок вам теперь не нужен. Вы должны искать такие ключи, каких просто не должно быть. Вот почему я вам понадобился. Я могу привести вас туда, куда вы сами не подумаете идти. И запомните, Джек, сейчас возможно все. — Он улыбнулся и встряхнул головой. — Все!
Да, конечно же, он прав. Как права Сюзетта. Правила этой игры не похожи ни на что известное мне. Пришло время овладеть ими.
Сборник Хэнсарда по дебатам в парламенте, том CCCXXIX (1 августа 1888 г.)
Повестка дня
ЗАКОНОПРОЕКТ О ГРАНИЦАХ ИМПЕРИИ (ИНДИЯ) [ЗАКОН 337]
(сэр Джордж Моуберли)
Рассмотрение
Законопроект рассмотрен с поправками.
Государственный секретарь по Индии (сэр Джордж Моуберли — от Кенсингтона) внес предложение, чтобы, ввиду подавляющей поддержки его законопроекта в обеих палатах, не принимать дальнейших поправок. Предложения по границам выдвинуты для соблюдения интересов как народов Индии, так и Британской империи. Полное и безоговорочное признание независимости королевств Бхушан, Катнагар и Каликшутра полностью соответствует принципам обеспечения прочного мира на границах Империи в Индии. Внимание почтенных членов парламента было обращено на законопроект об обороне Империи (закон 346) с указанием того, что с дальнейшими вопросами по военным расходам следует обращаться к государственному секретарю военного ведомства (мистер Э. Стенхоуп). Государственный секретарь по Индии завершил свое выступление благодарностью в адрес почтенных джентльменов палаты за помощь, оказанную ему в трудах по разрешению большого и сложного вопроса, который в настоящее время можно наконец считать решенным.
После обсуждения было решено поставить на голосование.
Законопроект был принят в третьем чтении.
Вырезка из газеты «Таймс» от 2 августа
СЭР ДЖ. МОУБЕРЛИ БОЛЕН
Сообщают, что сэр Джордж Моуберли, государственный секретарь по делам Индии, серьезно болен. Вскоре после успешного принятия закона о границах Империи (Индия) в палате общин вчера вечером и выступления сэра Джорджа с заключительной речью государственному секретарю стало плохо. Его отвезли домой в бессознательном состоянии. В настоящее время его состояние остается без изменений.
Дневник доктора Элиота
2 августа.
В газетах пишут, что Джордж потерял сознание прямо в парламенте. С утра у меня был Хури, подтвердил то, что было сообщено в газетах, но добавил, что Джорджу стало плохо, еще когда он выступал с речью, и ему пришлось прерваться на минуту. Очевидно, что, находясь на таком расстоянии от Джорджа (а Хури сидел на галерее для гостей), Хури не смог поставить какой-либо диагноз, однако он не увидел ничего противоречащего нашей первоначальной гипотезе.
Интересно, не преждевременны ли наши подозрения, по крайней мере в отношении Джорджа? Хури все еще убежден, я же не уверен, что доказательства обосновывают умозаключения, которые мы строим на их основе. Сегодня во второй половине дня мы навестили леди Моуберли, и нам показалось, что сейчас ее меньше беспокоит здоровье сэра Джорджа, чем раньше. Она убеждена, что он просто вымотался, не более, и настаивает на этом. Розамунда полагает, что ему ничего не грозит. Завтра она уезжает по семейным делам в Уитби и расстанется с мужем по меньшей мере на три дня. Печально, что она не может разрешить мне самому осмотреть Джорджа, поскольку его враждебность ко мне не утихает, но когда Хури заговорил о порезах на запястьях и шее Джорджа, она сказала, что они исчезли. Розамунда надеется убедить мрка съездить за границу — скажем, на юг Франции — и считает, что, пока он еще слаб, она вправе вновь встретиться со мной по возвращении из Уитби. Пообещала держать нас в курсе того, как будут развиваться события.
Однако вместе с Хури я к ней больше не поеду. Хури очень резко и грубо разговаривал с ней, фактически обвиняя ее в том, что она лгала о состоянии здоровья Джорджа. Есть у него такая неприятная черта — терпеть не может, когда опровергаются его теории. Впрочем, я и сам в этом грешен.
6 августа.
Хури нет уже несколько дней. Так и не знаю, над чем он работает. Достал пробы крови.
Просмотрел записи по проведенным исследованиям. Надо вскоре навестить лорда Рутвена.
8 августа.
Весь вечер вместе с Хури рассматривали наше дело. Согласились пока не ставить заключение о болезни Джорджа по причине недостаточных доказательств, но продолжать поиски убийцы Артура Рутвена. Если предположить, что существует вампир, которого мы ищем, то поле поиска значительно сужается. Хури горит желанием встретиться с Полидори. Поедем в Ротерхит завтра.
Письмо миссис Люси Весткот мистеру Брэму Стокеру
Лондон, Миддлтон-стрит, 12.
9 августа.
Уважаемый мистер Стокер!
Боюсь, ужасно разочарую вас и мистера Ирвинга, но вы должны предупредить Китти, чтобы она начала репетировать мою роль, поскольку я заболела, и сегодня не смогу играть в спектакле. Я не вполне уверена, что это за болезнь, мне снились дурные сны, а утром я проснулась столь слабой, что едва смогла подняться с постели. Вы, несомненно, подумаете, что я верна своему происхождению и разыгрываю из себя светскую даму, но уверяю вас, что по-настоящему была на грани обморока, ибо у меня все время кружится голова, я сильно побледнела — короче, вид у меня самый печальный.
Знаю, что очень подвожу вас. Но я болею уже с неделю и уверена, что если денек отдохну, то полностью восстановлю здоровье. Думаю, через день-другой вновь буду в театре. До тех пор, мистер Стокер, ваша несчастная подруга
Люси.
Дневник доктора Элиота
9 августа.
С утра утомительная работа. Поехали на извозчике на Колдлэйр-лейн, но лавка Полидори была закрыта, никаких признаков света внутри, а на дверях прикреплена записка:
«Закрыто по непредвиденным обстоятельствам. Откроется, когда вернусь».
Хури взял этот листик бумаги и положил в карман пиджака. Не думаю, что это такая уж ценность. Я знаю, что в своих расследованиях Хури зачастую прибегает к науке графологии, но сомневаюсь, что почерк Полидори скажет нам больше того, что мы уже знаем. Правда, эта записка, может быть, нужна Хури для другой цели — он по-преж-нему неохотно обсуждает со мной свои идеи.
Искал вход в склад, но не смог найти. Впрочем, не удивился этому. Вернулись в Уайтчепель. Сегодня вечером продолжу работу с записями по моим исследованиям.
5 ч. утра.
Проснулся от странного сна. Заснул, работая за конторкой. Весьма необычно. Приснилось, что я снова в Индии, на верхнем этаже храма в Каликшутре. Бушует огонь, повсюду разбросаны трупы, но наступила смертельная тишина, словно я один остался в живых. И мне надо лечить мертвецов, возвращать их к жизни. При этом с ужасающей срочностью, которой я понять не могу. Воскресить мертвых мне не удается, как ни стараюсь — они не воскресают. Знаю, что не хватает какого-то спрятанного от меня секрета. Начинаю рассекать трупы — сначала скальпелем, потом рву голыми руками. При этом присутствуют Люси, Хури и все мои знакомые, а я вспарываю животы, щупаю органы, раздираю их на куски, в отчаянии ища средство, которое оживит мертвецов. Начинаю оступаться и поскальзываться в месиве, которое сам наворотил. Пытаюсь очиститься, но чересчур сильно перемазан кровью и не могу ее смыть. И вот я уже барахтаюсь в крови. Она засасывает… поглощает меня. Не могу дышать. Мне кажется, что я умер. Открываю глаза. Предо мною Лайла, нагая. Губы ее алы и жестоки, глаза блестят чернотой из-под накрашенных полуопущенных век. Красота совершенно невообразимая, и все же она здесь, красота, созданная из самых фантастических страстей, великолепных снов, желаний всего мира, но в то же время она нечто большее, поскольку тронута перезрелостью и испорченностью. Как только я понимаю это, то чувствую, что еще больше жажду Лайлу, иду к ней, она обнимает меня. Конечно, я мелю чушь, но я ощущал все это и ощущаю сейчас, когда закрываю глаза. Она поцеловала меня, и от этого мой разум расширился, с секретов и тайн, мучивших меня, упал покров, и они открылись передо мной как на ладони. Я почувствовал, что просыпаюсь, но изо всех сил стал бороться, чтобы остаться во сне, ибо там я получу все, что захочу… Только бы остаться во сне… Остаться во сне… Там было удовлетворение, далекий лучик света, но по мере приближения к нему я осознавал, что вот-вот проснусь, покину объятия Лайлы и вновь стану самим собой. Я протянул руку, чтобы коснуться лучика света, и открыл глаза. Я сидел в кресле за конторкой. В полном одиночестве.
Сон очень и очень странный.
6 ч. вечера.
Все время отвлекаюсь. Не знаю, в чем дело. Бессмысленно продолжать работу в таком состоянии. Может быть, съездить к Лайле?
11 августа.
Две ночи не ночевал дома. Невероятно… Я же врач, мне всегда нужно помнить о времени, и все же, пока был у Лайлы, я явно позабыл о том, что проходят часы. Когда я вернулся из Ротерхита на Хэнбери-стрит, Хури уже ждал меня. Он говорит, что его беспокоит Лайла и то влияние, которое она на меня оказывает. Я понимаю его озабоченность, но не считаю, что она обоснованна. Провалы во времени, например, мне видятся признаком не злого влияния, а того, что я на верном пути, что я перехожу от эмпирического наблюдения к пониманию, которое может все решить. Хури не согласится, но я считаю, что темпы моего продвижения оправдывают любой риск.
И действительно чувствую, что впереди замаячили большие возможности. Лайла, похоже, ждала моего прихода. Она сидела на скамье в оранжерее, рядом с ней Сюзетта что-то подчеркивала в книге. Услышав мои шаги, она подняла голову, показывая мне раскрытые страницы. На каждой был нарисован узор, на первой — очень сложный и прекрасно вычерченный, а на второй — простой и небрежно набросанный.
— Который лучше? — спросила Сюзетта. Я показал на первый узор. Сюзетта улыбнулась. — Это мой. Значит, я победила. Мы состязались…
— Мы? — уточнил я.
Сюзетта кивнула:
— Мы с няней.
Я взглянул туда, куда показала пальцем Сюзетта. В тени, держа в руках поднос со сластями и напитками, стояла пухленькая девушка-индианка. Она поклонилась, заметив мой взгляд.
Я вопросительно взглянул на Лайлу.
— Последовав совету Джорджа, — блеснула глазами Лайла, — я нашла Сюзетте няню.
— Дура она, — заявила Сюзетта.
— Это все, что от нее требуется, — ответила Лайла. — Она должна просто присматривать за тобой.
— Женская работа, — лениво протянула она, — так, мне помнится, Джордж говорил об этом. — Она протянула руку и лениво поманила девушку: — Сармиста!
Девушка поставила поднос и торопливо, испуганно подошла. Лайла приказала ей уложить Сюзетту спать, а когда Сюзетта открыла было рот, чтобы возразить, взглядом заставила девочку замолчать. Няня протянула руку Сюзетте, и та взглянула на нее недобрым взглядом, непохожим на взгляд ребенка, настолько он был холоден и бесстрастен, но затем взяла руку няни и позволила отвести себя спать. Перед уходом няня оглянулась, прикрыла голову сари, будто опасаясь, что я увижу ее лицо, и вывела Сюзетту в дверь оранжереи.
Я поинтересовался у Лайлы, виделась ли она в последнее время с Джорджем. Пожав плечами, она сказала, что слышала о его болезни, но теперь, когда законопроект прошел и стал законом, ее это не особенно волнует. Вспомнив свои опасения насчет Джорджа, я заговорил о состоянии исследований и упомянул, что вновь работаю с лордом Рутвеном. Лайлу это очень заинтересовало, словно лорд Рутвен чем-то восхищал ее, хотя она и заявила, что никогда не видела его. Несомненно, она слышала о нем от Полидори. Я спросил ее об этом, но она не поддалась на уговоры и вернулась к теме моих исследований. Мы проговорили… не могу сказать сколько времени. Выйдя из оранжереи, мы поднялись к стеклянному куполу, сквозь который были видны звезды. И от этого вида рамки нашей беседы мгновенно раздвинулись. Одно направление рассуждений представилось особенно перспективным: а что, если существуют команды, записанные в каждой отдельной клетке, команды, которые можно выявить и, может быть, изменить или переписать? Тогда поиск свелся бы к поиску кирпичиков жизни. Но это, наверное, безнадежно. По крайней мере, мне так кажется, когда я сижу здесь. Но в беседе с Лайлой эта перспектива показалась крайне обнадеживающей, и мой мозг ожил, бурля идеями.
Помню, на один вопрос она упирала особенно (в свое время по этому поводу высказались и Сюзетта, и Хури): проницательность — свойство не только сознательного разума. Одних размышлений недостаточно, следует принимать и то, что лежит за пределами разума, значит, надо найти какую-то точку высвобождения, отправления в полет. Я ощущаю это в беседах с Лайлой, а без нее — нет. Когда я с Лайлой, наблюдаю за ней, слушаю ее соображения, передо мной открываются необъятные дали.
Так какой же ценой? Что я должен понять, прежде чем смогу решить, сколь далеко мне заходить?
12 августа.
Намечен визит к лорду Рутвену — по просьбе Хури, но мне это также нужно. Думаю, что исследование примечательного случая, оказавшегося у меня в руках, показывает, что концепция Вирхова о клеточной патологии фундаментально верна и нет морфологического элемента вне клетки, в котором могла бы проявляться жизнь. Поэтому надо сосредоточить анализ болезни лорда Рутвена на костном мозге, а посмотреть, было ли оказано влияние на производство клеток и если да, то какое. Подозреваю рак, деформирующий структуру ткани белых клеток, хотя его происхождение, не говоря о лечении, пока невозможно выяснить.
13 августа. Сегодня вечером вместе с Хури навестили лорда Рутвена. Не стали скрывать, кто такой Хури, — лорд Рутвен читал его работу и не протестовал, когда я представил Хури. Однако нас предупредили хранить тайну — не словами, а видением того, что мы лежим с перерезанными глотками и вывалившимися языками. Позднее мы узнали, что такие образы, почти одинаковые, возникли в воображении каждого из нас, что говорит о замечательной демонстрации телепатических сил.
Лорд Рутвен без слов согласился на предложенную мной операцию. Он отказался от анестезии, сразу лег на стол, и через несколько секунд глаза его стали стекленеть. Он как бы потерял сознание, хотя когда я попытался прикрыть ему веки, то не смог добиться, чтобы они сомкнулись. Я начал оперировать, чувствуя себя вначале несколько не в своей тарелке, а когда принялся резать мышцу, чтобы добраться до бедренной кости, то не поверил своим глазам — на лице лорда Рутвена не отразилось и тени страдания. Даже когда я раздвинул ткани и начал сверлить кость, подбираясь к костному мозгу, мой пациент остался совершенно неподвижен, и операция прошла без затруднений. В течение нескольких последующих дней продолжу работу над пробой костного мозга. Лорд Рутвен, пробудившийся от того, что я могу назвать самогипнозом, не чувствовал никакой боли. Он жаждет знать результаты, и это чувствовалось, хоть он не нажимал на меня и приказал не спешить с работой. Надеюсь, его вера оправданна. Я же не ощущаю уверенности. Мне остается лишь надеяться на вдохновение.
Хури же, наоборот, так и лучится от уверенности в себе. Его осмотр лорда Рутвена явно подтвердил какую-то из его теорий. Я попросил его поделиться со мной, но он лишь покачал головой, сказав, что хочет быть уверен и надо провести еще кое-какие исследования. Затем он резко сменил тему разговора и спросил меня, часто ли я обращаюсь к чтению поэзии.
— Нет, — ответил я. — А что?
Хури пожал плечами и, улыбнувшись, встряхнул головой.
— Жаль, — проговорил он и больше не произнес ни слова.
Поэзия… Хури упомянул о ней явно не случайно. Но мне еще не ясно, где тут связь. Похоже, силы мои слабеют.
Письмо профессора Хури Джъоти Навалкара доктору Джону Элиоту
Британская библиотека.
14 августа.
Дорогой Джек!
Смиренно прошу вашего прощения, но не смогу с вами сегодня встретиться, как мы ранее договорились. Мне надо выехать — крайне срочно — на просторы вашей прекрасной страны. Представилась восхитительная возможность осмотреть сельскую местность в Англии. Вначале еду в Котсуолдс, в поместье Келмскотт. Вы слышали о таком? Там жил художник и поэт Данте Габриэль Россетти, и, поскольку он был одним из моих любимых живописцев, от возможности посетить места, где он провел последние годы, отказаться нелегко. Потом еду в Ноттингем. Вернусь в Лондон как можно раньше, то есть быстренько.
Верю, что ваша работа пойдет хорошо. Одна просьба, Джек: пока меня нет, не ездите в Ротерхит. Боюсь того, что может там оказаться. Поговорим об этом, когда вернусь.
Пока, старик.
Трам-та-ра-ра-рам!
Хури.
Дневник доктора Элиота
14 августа.
Данные по пробе костного мозга, как и ожидал: под линзой микроскопа в мазке выявился неконтролируемый взрыв лейкоцитов. Сравнил эти клетки с лейкоцитами, взятыми из крови лорда Рутвена почти три месяца тому назад, — они идентичны. Это прообраз бессмертия.
Можно начать, пока ориентировочно, говорить о патологии вампиризма Центром исследований должен стать костный мозг и его заражение тем, что представляется раковым процессом, влияющим на создание белых кровяных телец. Вспомнил о беседах с Лайлой, как мы определили «код» команд внутри каждой клетки. Принимая эту гипотезу за верную, мы могли бы объяснить смертность клеток ссылкой на команду в пределах «кода» каждой — команду стареть. Однако у вампира «код» подвергся мутации или был уничтожен. Но как же вызывается раковый процесс? Может быть, при контакте через рот? Какой-ни-будь энзим в слюне воздействует на клетки костного мозга? Но как? Мне следует лучше узнать фольклор, различные легенды, собранные Хури по всему миру… Там наверняка можно найти ссылки на подлинные истории болезни, как бы искажены они ни были. Но где же Хури, когда он мне нужен? Уехал в поездку по провинции. Говорит, чтобы я не навещал Лайлу, но к кому еще я могу обратиться, когда у меня возникла потребность в обращении к первоисточнику? Если понадобится, мне придется пренебречь его советом.
Ведь главная проблема, проблема из проблем, так и остается размазанной на стеклышке под микроскопом. Колю палец, добавляю свою кровь к пробе костного мозга и вижу: мои клетки атакованы и поглощены. Это демонстрация вампиризма, потребности в чужом гемоглобине, что в переводе с языка микробиологии означает убийственную жажду крови. Что я могу противопоставить такой зависимости? Если у меня все получится, потребности лорда Рутвена не будут больше считаться болезнью. Если я провалюсь, расплата ждет не только лорда Рутвена. Что мне делать? Какое направление исследования избрать?
Не могу же я бесконечно ждать Хури.
Письмо мистера Брэма Стокера почтенному Эдварду Весткоту
Театр «Лицеум».
15 августа.
Дорогой Эдвард!
Я попросил извозчика передать вам эту записку с вашей женой, ибо опасаюсь, что Люси слишком легко относится к тому, что случилось с ней сегодня вечером. Но мой долг как директора театра, поклонника и, надеюсь, друга Люси просить вас настоять на том, чтобы она оставалась в постели. Сегодня вечером в середине второго акта она упала, и ее унесли со сцены без сознания. Оправилась она лишь двадцать минут спустя и принялась уверять меня, что это временное головокружение. Я, однако, уверен, что ее состояние гораздо более серьезно, почему и отправил ее домой. Я знаю, вы были в доме ваших родителей в Уилтшире, поэтому, возможно, Люси вам не сказала, что в начале этой недели она пропустила два спектакля по болезни и со времени возвращения выглядит весьма плохо. Ради ее же блага она должна признать, что больна, какова бы ни оказалась болезнь.
Могу ли предложить вам проконсультироваться у Джона Элиота? Он, по-видимому, отличный доктор, да и Люси примет от него указания, тогда как в ином случае она может отказаться им следовать. Если чем-нибудь смогу помочь, я всегда к вашим услугам.
С уважением,
Брэм Стокер.
Дневник доктора Элиота
19 августа.
Вновь ощущение, что преступаю границы чистого рассудка, и вновь, как следствие, любопытное искажение времени. Я был уверен, что пробыл в Ротерхите не более двадцати четырех часов, но, судя по моему календарю и нетерпеливой записке, оставленной Ллевелином на конторке, меня не было на Хэнбери-стрит почти три дня. Нужно принести всем извинения, но до этого наговорить фонограмму и посмотреть, есть ли какой-нибудь смысл в моих воспоминаниях, прежде чем они затуманятся и станут неотчетливыми. Такая срочность обычно не нужна, мои способности к запоминанию выше среднего, но в воспоминаниях о Ротерхите память моя стала выкидывать странные штучки. То, что я считаю своим величайшим даром детектива и врача — разгрузкой памяти от необходимости запоминать незначительные факты, — в Ротерхите срабатывает наоборот. Я запоминаю эфемерное, а важные подробности и наблюдения утрачиваются.
Хотел переговорить с Полидори. Из-за продолжительного отсутствия Хури мне понадобилось подтвердить кое-какие детали по моим исследованиям. К кому же еще я мог обратиться, как не к Полидори, который сам был врачом, пока его не одолела болезнь? В его лавке, когда я прибыл на Колдлэйр-лейн, было по-прежнему темно, витрина заколочена досками, но дверь была открыта, и, взбираясь по лестнице, я почувствовал знакомый ядовитый дух паров опиума. Никто не пытался схватить меня, когда я пересекал притон наркоманов, — похоже, меня здесь признали за своего. Меня пропустили, и я через мостик прошел к складу, а там попал в коридор, в котором вроде бы бывал раньше. Тут стояли статуи в альковах, и у каждой статуи было лицо Лайлы. Статуи относились к различным историческим периодам, но, рассмотрев их внимательно, я понял, что ошибки быть не может: у каждой из них — лицо Лайлы.
И вдруг тишину прорезал крик. Я отвернулся от альковов, пожалев, что у меня нет времени внимательнее рассмотреть статуи, и поспешил дальше по коридору. В это время раздался второй крик. Кричала явно девушка, и голос доносился из-за двери, к которой я подходил. Я ускорил шаги, но у самой двери, за которой теперь звучала музыка — играл струнный квартет, — остановился. Рванув ручку, я замер на пороге. Я вновь оказался в детской: розовые стены, в углу свалены куклы, деревянная лошадка-качалка с ленточками в гриве. Музыканты, одетые, как и раньше, во фраки и парики, продолжали играть свою пьесу, совершенно не обращая внимания на мое появление. Сюзетта же оглянулась. Она сидела на тахте в аккуратненьком вечернем платьице, болтая ножками и поигрывая завитками волос Она улыбнулась мне, но я не ответил ей. Ибо прямо передо мной с тростью в руке высился Полидори, а перед ним на коленях стояла Сармиста, няня Сюзетты. Спина ее была обнажена, девушка содрогалась всем телом, а между лопатками вздулся ярко-красный рубец, и струйка крови стекала по нежной коже.
Полидори оглядел меня с ног до головы и ухмыльнулся.
— Что вы делаете? — поинтересовался я.
Полидори вновь ухмыльнулся, нагибаясь и кончиком пальца касаясь крови на спине девушки. Он поднял палец к свету и облизнул его.
— Провожу исследования, — сипло расхохотался он и, пинком раздвинув ноги девушки, опустился сзади нее на колени. Руку свою он сунул под взбившиеся юбки няни.
— Отпустите ее! — приказал я.
Полидори не услышал меня. Рука его засновала под юбками у няни. Он взглянул на Сюзетту.
— Да, бабенка, — ощерился он, — никаких солшений. Как же это делается, а?
Я схватил его за шею, оттащил от девушки и швырнул на пол. Полидори удивленно взглянул на меня и вновь осклабился.
— Сэр чертов рыцарь, — зашипел он, вскакивая и пристально глядя мне в глаза. Затем он поднял трость и вновь подступил к девушке. — Она же подстилка, сука грязная, пришлая!
— Она меня причесывала и дернула за волосы, — пожаловалась Сюзетта.
— Слышал, а? — обернулся ко мне Полидори. — Девка не может даже поухаживать как следует за своей хозяйкой. Да с этим любая дура справится. Но не эта потаскуха. Думаю, она заслуживает, — он резко замахнулся тростью, — наказания.
Но прежде, чем он успел опустить свое оружие, я врезал ему в челюсть. Полидори зашатался и рухнул на колени одного из музыкантов, который продолжал играть, словно не чувствуя ничего, кроме инструмента у себя в руках. Полидори медленно поднялся, неверяще потер челюсть и уставился на меня.
— Что вы тут вытворяете? — прошептал он. — Что это вы тут вытворяете? — и молниеносно кинулся на меня, хватая меня за горло, пальцами царапая шею.
Я с грохотом упал на тахту и услышал, как вскрикнула Сюзетта, когда голова моя ударилась о ее колени. А Полидори уже оседлал меня. Глаза его дико вращались, и из вонючего рта капала слюна.
— Убью тебя! — злобно зашептал он. — На куски порежу твое мерзкое сердце!
Я отчаянно сопротивлялся, чувствуя, что пальцы его вцепились мне в грудь, глубоко проникая в плоть, и тут вновь услышал вскрик Сюзетты.
— Полидори! — топнула ножкой она. — Не надо!
Полидори взглянул на нее.
— Она бы этого не позволила. И вы это знаете. Сейчас же прекратите!
— Плевал я на нее!
Сюзетта не ответила, а лишь продолжала пристально смотреть на него. Постепенно Полидори потупился, и я почувствовал, что хватка его слабеет. Я сел, а Полидори соскользнул с меня и встал. Он несколько раз вздрогнул и потом словно обмяк.
— Не говорите ей! — прошептал он.
Еще несколько секунд Сюзетта играла своими локонами, рассматривая Полидори как что-то неприятное, после чего повернулась ко мне.
— Пойдемте отсюда, — сказала она, направляясь к двери.
— Нет, — ответил я, глядя на Полидори. — Мне надо кое о чем у него спросить. За этим я сюда и пришел.
— Не дурите, — вскричала Сюзетта, вновь топнув ножкой. — Он на ваши вопросы отвечать не будет. Да, Полли?
Полидори облизал губы, ухмыльнулся и помотал головой.
— Я ж вам сказала, — проговорила Сюзетта. — Видите, какой он. Ничего не выйдет. Пойдемте лучше со мной.
Она потянулась к ручке двери, немного помедлила и оглянулась на Сармисту, все еще лежавшую на полу. Девушка подняла на нее взгляд. Глаза Сюзетты сузились, она кивнула и вышла из комнаты. Сармиста неуверенно поднялась на ноги, прикрывая обнаженное, ужасающе отощавшее тело порванным в клочья сари. Когда она оправляла на себе одежду, передо мной мелькнули ее груди, и я заметил, что они татуированы крохотными красными точками, будто следами проколов. Но рассмотреть получше не было возможности, ибо девушка прикрыла тело и голову и прошмыгнула мимо меня. Я последовал за ней. Перед нами оказались двойные лестницы, которые я запомнил по предыдущим посещениям. Они по-прежнему вились вверх на невозможную высоту. Сюзетта побежала, эхо шагов ее ножек гулко раздавалось в безмолвных помещениях, простиравшихся по обе стороны от лестницы. Оглянувшись, я увидел, что дверь исчезла, а я стою на одной из повисших в воздухе ступеней, и вокруг нет ничего, кроме темноты.
Я стал взбираться вверх по спирали за Сюзеттой и Сармистой. Но как быстро я ни взбирался, мне все не удавалось их догнать, они были далеко впереди, и звуки их шагов уже стихали в темноте. Я остановился, всматриваясь в очертания обеих лестниц, и понял то, чего вначале не осознал: я оказался на другой лестнице, чем Сюзетта и Сармиста. Я поискал их взглядом. Никого. Я очутился на балконе, в конце которого виднелась дверь. На двери была фреска, выполненная в примитивном стиле и изображающая богиню с головой среди звезд. У ног богини прикорнули простые смертные и лизали ей пальцы ног. Я вошел через эту дверь и попал в прекрасную комнату. Воздух тут был насыщен благовониями, от слабых бликов огня и драгоценных камней исходило сияние, а полог кровати был темно-красного цвета.
Как и в моем сне, Лайла была совершенно нагая. Лицо ее было накрашено, соски и треугольник внизу живота поблескивали золотом. Она протянула ко мне руки. Я пересек комнату и лег рядом с ней на постель. Прикосновение кожи Лайлы усилило необыкновенное ощущение, охватившее меня, как только я вошел в комнату: явный сплав эротического возбуждения и настойчивого любопытства, так что две крайности эмоции и рассудка словно слились во мне. Теперь у меня не было причин удерживать рассудок от сексуального возбуждения, ибо нагое женское тело не ограничивало мою способность думать с предельной ясностью, но, наоборот, стимулировало ее. И вновь я вспомнил сон: обещание какого-то открытия, какой-то точки высшего понимания — все это теперь ожидало меня не на грани между сном и явью, но на вершине сексуального пароксизма. И я взошел к этой вершине, и покорил ее, и продолжил восхождение на последующие вершины. Что я видел при этом? Все. Просто все. Мои способности познания безгранично расширились, и я решал интеллектуальные проблемы, переживая сексуальное блаженство… бесконечно…
Как объяснить испытанное мною? Не могу. Прошло время, я вспоминаю и… ничего не вспоминается. Самое малое, что всплывает, — удовольствие познания, но я не помню, что и как познал. Такое изнеможение не редкость в половом акте: не успеешь достичь вершины, а она уже исчезла. Но теперь я почувствовал, что самое интенсивное интеллектуальное переживание в моей жизни увяло подобным же образом — в моих мыслях не осталось ничего, кроме дешевых синаптических сотрясений. Как это могло случиться? Видимо, я пал жертвой какой-то галлюцинации, ибо воспоминания мои представляются каким-то наваждением. Впрочем, не стоит так думать — ощущения были столь живы, столь сильны… они были на самом деле. Нет… Мне нужно встать лицом к лицу с истиной. Есть и иной, более вероятный, вариант.
Ибо теперь ясно, что, если мое интеллектуальное и эротическое возбуждения слились воедино, значит, они оба зависели от присутствия Лайлы рядом со мной. Когда она покинула меня? Не помню. Не помню даже, как уснул. Но, наверное, уснул, поскольку пробудился в одиночестве, лежа совершенно голый на полу в пустой комнате. Рядом валялась моя скомканная одежда. Над головой у меня висел портрет Лайлы, его освещала одинокая свеча, а все остальное в комнате было погружено в легкий пурпурный мрак. Такой же мрак царил, когда мы со Стокером нашли Джорджа, — точно так же сейчас лежал я под портретом улыбающейся Лайлы. Я быстро встал, оделся и поспешил из комнаты. Снаружи ждала Сармиста. Склонив голову, она подала мне пиджак. Я взял его, а она повернулась и побежала прочь. Я окликнул ее, спрашивая, не могу ли я чем-нибудь помочь, и она замешкалась, обернувшись ко мне. В ее больших глазах стояли слезы. Но не успел я шагнуть к ней, как она опять бросилась бежать и исчезла. Последним воспоминанием, оставшимся у меня в памяти, было несчастное положение этой девушки и ее беспомощность. И все же… как сильно я ошибался…
Я вышел через холл наружу и пошел по улицам. И чем дальше шел, чем больше подробностей улетучивалось из моей памяти, тем меньше мне хотелось идти домой, тем сильнее я жаждал вернуться. Это стремление было физической болью, болью, о которой я читал в историях болезни про ломку и воздержание от опиатов. По-видимому, я тоже стал наркоманом, как эти доходяги в притоне Полидори или, точнее, как Джордж, — наркоманом общества Лайлы. Мне хотелось ее общества больше, чем чего-либо еще, и хочется до сих пор. Хочется больше, чем чего-либо иного, познанного мной в жизни.
Должен ли я бороться с этим? Я вспомнил
девушку — намек о жестокости, существующей в мире Лайлы, жестокости, о которой я подозревал, но с которой прежде никогда не встречался. Одна из моих максим всегда гласила: наше подсознание опасно и полно угроз, ибо мы не способны управлять желаниями, которые могут быть порождены в нем. Что Лайла предложила мне, как не желания моего подсознательного разума? Боюсь поддаться им вновь, боюсь потерять самоконтроль, боюсь — и признаю — того, куда желания могут завести меня. Больше не поеду к Лайле. Хочу остаться верен себе, остаться тем, кто я есть.
Больше к Лайле я не поеду.
11 вечера.
Извинился перед Ллевелином и отослал его спать. Бедный малый, вид у него утомленный. Хотя, пока меня не было, ничего не произошло, кроме того, что заходил Эдвард Весткот. Кажется, Люси от изнеможения упала на сцене, и ее уложили в постель. Завтра навегцу, а то сегодня уже поздно. Будить пациентку в одиннадцать часов вечера не самое лучшее лекарство от изнеможения.
Телеграмма профессора Кури Джьоти Навалкара доктору Джону Элиоту
20 августа.
Боюсь, что Люси Весткот в ужасной опасности. Охраняйте ее. Срочно. Повторяю — срочно!
Хури.
Дневник доктора Элиота
21 августа.
Ужасные дни, и конца им не видно. Вчера рано утром пришла телеграмма от Хури с предупреждением об опасности, грозящей Люси. Это меня насторожило, ввиду сообщения ее мужа о том, что ее уложили в постель. Бросил работу на Ллевелина и сразу же поехал на Миддлтон-стрит. Весткот был рад моему приезду.
— Да ничего особенного, — не переставая бормотал он, — она просто перетрудилась, правда, ее что-то беспокоит.
Я попросил его провести меня к Люси.
— Только тише, — предупредил Весткот. — Она спит.
Мы тихо поднялись наверх, где спала Люси. Достаточно было одного взгляда, и я сразу поставил диагноз.
Люси была смертельно бледна. Более того, на шее у нее виднелись крохотные ранки, точно такие же, как я видел у Джорджа. Я спросил у Весткота, когда они появились. Он ответил, что в начале месяца, около трех недель назад. А когда Люси стала жаловаться на слабость? Весткот глотнул воздуха и взглянул на жену.
— Три недели тому назад.
Он во что бы то ни стало хотел знать мое мнение. Я вначале не ответил ему, подошел к окну и попытался открыть его. Задвижка была закрыта. Я взглянул на Весткота.
— Окно заперли совсем недавно, — сказал я. — Это видно по узорам пыли.
— Да, — согласился Весткот, — на прошлой неделе.
— Зачем? Ведь в последнее время стоит такая жара.
— На этом настояла Люси.
— Дурные сны? — поинтересовался я.
— Откуда вы знаете?
— Из-за чего? Кто-то ломился? Какая-то странная угроза?
Весткот медленно кивнул.
— Расскажите.
— Не знаю, — покраснев, наконец промолвил он, — да… это была… странная угроза.
Я нахмурился — его явно что-то смущало. Я пожал плечами и вновь вернулся к оконной задвижке. Внимательно изучив ее, я повернулся к Весткоту.
— Смотрите, — указал я, — краска по краям задвижки слезла. Кто-то с силой открывал ее.
Весткот, поразившись, уставился на меня.
— Вы имеете в виду… нет… это невозможно. — Голос его затих. Он взял ключ, отпер окно, раскрыл его и выглянул наружу. — Но здесь голая стена, — заявил он. — До карниза не добраться.
Я взглянул на Люси.
— Эдвард, — спросил я его, — за последние три недели… вы были вместе с ней в комнате? Я имею в виду ночью?
Он снова покраснел.
— Прошу вас, — нетерпеливо промолвил я, — положение не терпит ужимок. Вы спали с ней?
Весткот покачал головой:
— Большую часть времени я провел в Уилтшире, готовил дом родителей для Шарлотты. Это моя сестра… Она должна вскоре вернуться из Индии.
— Вы об этом точно знаете? — удивился я.
— Да, она сейчас на пароходе, следует рейсом из Бомбея.
— Тогда очень рад за вас.
Он слегка улыбнулся и кивнул:
— Можете себе представить, сколько всего нужно подготовить. Вообще-то, я всего несколько дней как вернулся в Лондон, а меня уже ждало письмо мистера Стокера, сообщающее о том, что Люси заболела. Сама Люси ничего мне не написала. Она все заявляет, что с ней ничего особенного. Но она очень больна, правда ведь? — Он посмотрел на жену. Она пошевелилась и застонала, но не проснулась, лишь смяла простыни, словно отстраняя от себя что-то угрожающее ей. — В таком состоянии она пребывает с самого моего приезда. Я лежал рядом с ней в первую ночь по возвращении, но спать не мог — ей снились дурные сны, а когда она просыпалась, то говорила, что со мной ее еще больше мучают кошмары…
Он замолчал и вновь покраснел, уставившись в пол.
— Кошмары? — тихо спросил я. — Какие кошмары?
— Женщина, — пробормотал он. — К ней приходит женщина…
— Да? И что делает?
Он с беспокойством оглянулся:
— Этого я вам сказать не могу.
— Почему?
— Просто не могу.
— Почему? Ей снится, что эта женщина пожирает ее?
— Нет… Может быть… Нет… Вообще-то, я не уверен…
— Тогда у них сексуальная связь? Вы это имеете в виду?
— Доктор! — Весткот посмотрел на меня страдальческим взглядом. — Прошу вас!
Я выдержал этот взгляд, а потом взял Весткота за руку и крепко сжал ее.
— Эдвард, — прошептал я, — понимаю, вы сильно расстроены. Но прошу, расскажите мне, это чрезвычайно важно, не описывала ли вам Люси, как выглядит эта женщина?
Весткот отвернулся и встал рядом с женой.
— На ней была вуаль, — наконец заговорил он. — Люси так и не удалось увидеть ее лицо. А что? — покосился он на меня, словно пораженный моим вопросом— Вы думаете, эта женщина — нечто большее, чем сон?
Я оглядел отвесную стену под окном и пожал плечами.
— У меня есть друг. Он сейчас уехал на время, но, вернувшись, сможет ответить на этот вопрос более авторитетно, чем я. Тем временем, — я подошел к постели Люси, — надо посмотреть, что я могу для нее сделать с точки зрения медицины. — Я прощупал пульс Люси. Он был очень слабым. — Очевидно, она потеряла много крови.
— Но, — Весткот неверяще уставился на жену, — она же никуда не выходила… Не понимаю… И на простынях не было никакой крови.
Я указал на шею Люси:
— А эти шрамы? Что вы о них скажете?
Весткот нахмурился и беспомощно пожал плечами:
— Не знаю.
— Что ж, — произнес я как можно более доверительным тоном, — давайте подождем, что покажет мой осмотр.
Я взял кровь у Люси и, на всякий случай, у Весткота. Оставив Эдварду наказ ни на шаг не отходить от постели Люси, я как можно быстрее вернулся в Уайтчепель и заперся в лаборатории. Кровь Люси, слава Богу, не показала серьезных аномалий, никакой мутации лейкоцитов. РОЭ ниже, чем я ожидал, но, к счастью, анализ крови Весткота показал совместимость сангвигенов. Мой же собственный сангвиген оказался несовместимым. Впрочем, это не обеспокоило меня: Весткот — крепкий молодой человек.
Готовясь к переливанию крови, я вспомнил о Джордже. Ввиду явного сходства этих случаев и полдня привязанность Джорджа к своей подопечной, я подумал, что, может быть, стоит навестить его и вызвать на разговор. Мне подумалось, что сравнение его состояния с состоянием Люси можеу многое прояснить в обоих случаях. Однако, когда я подъехал к дому Моуберли, мне сказали, что Джордж недавно отбыл на юг Франции восстанавливать здоровье. Леди Моуберли, сообщившая о его отъезде, уверила меня, что Джордж чувствует себя лучше. Многообещающая информация, которая доказывает, что перемещение с места болезни действительно может привести к излечению. Но Люси в настоящее время слишком слаба, чтобы куда-либо ехать, и нам надо постараться сделать все возможное, чтобы восстановить ее здоровье. Леди Моуберли очень обеспокоилась, услышав о состоянии Люси, и предложила свою помощь. В частности, она вызвалась присматривать за ребенком Люси, если в доме возникнет какая-либо угроза инфекции. Я уверил ее, что такой угрозы нет. Задним умом мне пришло в голову, что это не совсем так. Однако можно передать ее предложение Эдварду Весткоту сегодня вечером.
Вернувшись на Миддлтон-стрит, я увидел, что у постели Люси сидит Брэм Стокер, явно удрученный состоянием ее здоровья. Он доверительно сообщил мне, что ее внешний вид значительно ухудшился с позапрошлой недели, когда он отправил ее домой из «Лицеума». Как и леди Моуберли, он вызвался помочь, поскольку у него сейчас появилось время, потому что театральный сезон недавно закончился. Так что я сразу смог его использовать: он помогал при переливании крови Весткота. Операция имела умеренный успех — Весткот очень ослаб, но на щеках Люси появился слабый румянец, и пульс ее стал более ровным. Однако это показывает серьезность ее состояния, ибо, несмотря на то, что у ее мужа был взят максимум возможного количества крови, силы Люси восстановились лишь частично. По крайней мере, сейчас состояние ее стабилизировалось, поскольку ухудшения не отмечено, и Люси даже смогла сесть и немножко поговорить. Впрочем, она ничего не добавила к тому, что рассказал мне Весткот: женщина в снах всегда скрывалась под вуалью, хотя в манерах ее проскальзывало что-то знакомое. Попросил Люси отнестись к этому внимательнее. Может быть, при очередном визите ей удастся заметить больше.
Прошлой ночью — ничего. Мы с Весткотом дежурили попеременно. Сегодня дежурит Стокер, а я посплю несколько часиков и сменю его.
22 августа.
Хури все еще нет. Не понимаю, где он может быть. Если ему известно, что Люси в опасности, то он, конечно же, знает и о том, что он должен находиться рядом с ней. У меня нет опыта вести такое дело в одиночку.
Состояние Люси устойчиво. Впрочем, вчера около трех часов ночи, вскоре после того, как я приехал сменить Стокера, произошел интересный случай. Я услышал, что в окно кто-то странно скребется. Я встал посмотреть, но путь мне загородила Люси, которая тоже встала и пошла по комнате. Глаза ее были открыты, но, когда я заговорил с ней, она не услышала моих слов, а проскользнула мимо меня и стала открывать окно. И тогда я снова услышал поскребывание. Когда же я попытался удержать Люси, она вдруг вздрогнула, будто пациент, пробуждающийся от месме-рического транса, и удивленно воззрилась на меня.
— Джек? — прошептала она. — Что вы здесь делаете?
И затем рухнула в обморок мне на руки. Я отнес ее в постель. Ей снова начал сниться какой-то сон, она стонала и хваталась за горло, но затем конвульсии прекратились.
Больше ничего интересного не отметил. И в окно больше никто не скребся.
23 августа.
Границы логики и вероятности были сметены событиями последних нескольких месяцев, так что пора перестать удивляться чему-либо. Да я, вообще-то, и не удивляюсь. Нет, не удивляюсь, хотя это-то и убеждает меня в том, что удивляюсь. Во всяком случае паутина связей была элементарна. Я мог бы сам распознать и проследить ее. Но я еще не полностью принял любимое изречение Хури о том, что невозможное всегда остается одной из возможностей. Если принять это за основу, то можно весьма своеобразно трактовать законы логики. Может быть, и для моих методов есть надежда.
Ибо сам. Хури, несмотря на озадачивающий характер своих предпосылок, несомненно проявляет склонность к дедуктивному расследованию. Он приехал сегодня рано утром и сразу же направился к Люси. Опустившись на колени у ее постели, он долго и молча смотрел на нее, а потом вдруг взглянул на меня.
— Киргизское серебро, — произнес он. — Полагаю, в Лондоне его не достать?
— В Лондоне можно достать все, — ответил я. — Главное — искать.
— Тогда чеснок, — решил Хури. — Правда, он слабее, но, может быть, этого будет достаточно, чтобы удержать его.
— Его? — удивленно переспросил я, ибо уже рассказал Хури о снах Люси.
Но он лишь улыбнулся, почесал нос и встал.
— Идемте, — позвал он. — Покажу вам нечто крайне интересное.
Мы вместе сошли вниз. Хури сказал Весткоту, что нужен свежий чеснок, и, когда Весткот настороженно взглянул на меня, я подтверждающе склонил голову. Затем мы с Хури вышли на Фаррингдон-роуд, где подозвали кэб.
— В Бетнал-Грин, — приказал Хури вознице, — к Национальной картинной галерее.
Я не ожидал услышать о таком маршруте нашего следования, но предпочел не расспрашивать. Хури улыбнулся, скорее даже, слегка усмехнулся мне и, как только кэб тронулся, подскакивая на мостовой, вытащил из карманов пиджака какие-то бумаги и подал одну из них мне. Это было объявление, которое Полидори оставлял на дверях своей лавки. Хури вручил мне и другой листок бумаги, на этот раз письмо. Я сразу увидел, что и то, и другое написано одним и тем же почерком.
— Где вы взяли это письмо? — спросил я.
Хури вновь усмехнулся:
— В поместье Келмскотт.
— Где жил Россетти?
Хури кивнул.
— Почему оно там оказалось?
Ухмылка Хури растянулась до ушей:
— Оно было среди бумаг Россетти.
Я не удивился. Я ожидал, что так и будет. Как просто, в самом деле…
— Видите ли, он был дядей Россетти…
— Кто? Полидори?
Хури встряхнул головой и взглянул на мелькающую за окошком улицу.
— Доктор Джон Уильям Полидори, — пробормотал он, — умер, предположительно наложив на себя руки, в 1821 году. Врач изучал сомнамбулизм, временами пописывал нечитаемые рассказы…
— Да, — вдруг вспомнил я. — Стокер упоминал о нем. Я бы никогда не подумал…
— Вам Стокер не рассказывал, что он писал? — поинтересовался Хури, двигая при этом бровями вверх и вниз.
Я мотнул головой.
— Его самая известная повесть, Джек, называлась «Вампир». Можете догадаться, как звали этого вампира? — Он выдержал театральную паузу. — Нет? Тогда позвольте помочь вам Это был английский аристократ. Точнее, английский лорд.
— Неужели Рутвен?
Хури просиял.
Я откинулся на сиденье.
— Чрезвычайно! — пробормотал, я. — Ну, Хури, должен вас поздравить, свое рвение и смышленость вы явно использовали самым наилучшим образом. А как вы узнали об этой повести?
— Детская игра, — воскликнул Хури, звонко щелкая пальцами. — Вы забываете, Джек, вампиры давно интересуют меня. И мне стыдно было бы не знать о работе Полидори. Стоило вам только назвать эту фамилию, и я вспомнил его опус о вампире по имени лорд Рутвен. До меня сразу дошло, — он вновь щелкнул пальцами, — вот так! Но это только начало. Подождите и увидите, что будет дальше. Моя поездка по Англии оказалась крайне полезной. Я узнал, кто такой лорд Рутвен на самом деле.
Я нахмурился:
— Что означает «на самом деле»?
Хури улыбнулся и постучал по стенке кэба.
— Пойдем и посмотрим, — сказал он, когда кэб начал останавливаться. Хури расплатился с возницей и затрусил к входу в галерею. — О да, — хихикнул он, — пойдемте и хорошенечко посмотрим!
Я последовал за ним по лестнице, через анфиладу залов, увешанных картинами. Наконец, у какой-то впечатляющей двери он остановился и взглянул на меня.
— Ну, Джек, и взъерепенитесь же вы! И рассердитесь неописуемо, что пропустили такое!
— Почему?
— Мистер Стокер рассказал вам о Полидори. А сказал он вам, чьим врачом был Полидори?
— Да, — ответил я, — лорда Байрона…
И тут я словно окаменел. Лорд Рутвен. Лорд Рутвен! Вот почему Хури хотел его видеть! Вот почему он спросил меня, когда мы выходили из дома лорда Рутвена, читаю ли я поэзию! Я стоял как столб и даже не почувствовал, что Хури взял меня за руку и подвел к картине на стене. Я пристально посмотрел на картину. Лорд Байрон был одет в какой-то багрово-золотой восточный мундир. Из-под тюрбана мне улыбалось не только его лицо, но в то же время и лицо другого человека, человека, с которым я встречался, которого я знал не как Байрона, а как… лорда Рутвена!
— О Боже, — тихо пробормотал я, поворачиваясь к Хури. — Это же невозможно, но…
Я вновь всмотрелся в картину.
— Но это так, — прошептал Хури, заканчивая за меня фразу.
Я медленно кивнул:
— Кто же еще, как вы думаете, может пить людскую кровь? Бетховен? Шекспир? Авраам Линкольн?
Хури улыбнулся и покачал головой:
— Думаю, что они этого не делают. Обстоятельства, связанные с лордом Байроном, совершенно особые…
Мы стали выходить из галереи, и по пути Хури объяснил ход своих исследований на кладбищах Ноттингемшира, в юридических фирмах и различных отделах записи актов гражданского состояния. Первое упоминание о лорде Рутвене он проследил до 1824 года — в тот год Байрон умер в Греции — и смог выяснить, что лорд Рутвен унаследовал богатство погибшего поэта. Он также провел поиски по генеалогическому древу семьи Рутвенов, ища противоречия тому, что лорд Рутвен и Байрон — одно и то же лицо. Но поиски были напрасны. Не было никакого лорда Рутвена, титул этот — всего лишь псевдоним.
— Но Люси? — спросил я. — Артур? Какому роду они принадлежат?
Лицо Хури потемнело, он поднял руку:
— Вот здесь-то дело и приобретает крайне серьезный оборот, Джек. Помните телеграмму, которую я вам послал?
— Естественно.
— Отлично, конечно помните, — произнес Хури.
Мы уже вышли на улицу, и Хури поднял лицо к лучам солнца, словно призывая белый свет к себе на помощь, затем поискал взглядом скамью и со вздохом сел на нее. Я сел рядом. Хури вновь вытащил свои бумаги, раскладывая их на коленях. Некоторое время он молча смотрел на них, затем слегка ударил себя по лбу и вновь взглянул на меня.
— Линия семьи Люси, как и ссылки на самого лорда Рутвена, прослеживается лишь до 1824 года Логическое заключение? Рутвены произошли от лорда Байрона.
Я нахмурился:
— Логическое?
— И более того… — вновь поднял руку Хури. — Все не так радостно, Джек.
— Вот как? Расскажите…
Хури кивнул, взял связку бумаг, передавая их мне.
— Это копии свидетельств о смерти, Каждый из Рут-венов, после того как у него или у нее рождался ребенок, умирал в течение года. Как только линия крови была продолжена… трах! — Он щелкнул пальцами. — Родитель сразу становился ненужным. Видите ли, Джек, такое у них незыблемое правило. Железное! Но даже не это самое худшее — их смерть всегда наступала от катастрофической потери крови. Ваш друг Артур — недавний пример тому.
— Но у Артура никогда не было ребенка.
— У него не было. А у Люси есть.
Я неверяще покачал головой и взглянул на небо.
— Но это же невозможно, — пробормотал я. — Невозможно… И вы в самом деле верите, Хури, что лорд Рутвен питается своими родственниками, высасывая их кровь?
— Я убежден в этом. Иначе какую иную теорию можно согласовать со всеми этими фактами?
— Это что же, традиция вампиров, — спросил я, — питаться кровными родственниками?
— Традиций много… Вампиры это вам не какие-нибудь примитивные микробы, Джек. Их нельзя изучить и сказать, что верно, а что нет.
— Но мы можем изучать лорда Рутвена. Пока мы с вами тут разговариваем, у меня под микроскопом его кровь.
— Да, — бесстрастно сказал Хури. — Ну и что с этого?
— Странно, он нанял меня и тут же пьет кровь у меня под носом.
— Ничуть. Да раскиньте же мозгами, черт вас дери, Джек. Именно этим и объясняется его отчаяние. Он раб своих страстей.
— Но ребенку Люси уже больше года Почему он начал питаться ею только сейчас?
— Может быть, вам надо взглянуть на это с другой стороны. Возможно, он пришел к вам, потому что почувствовал, что жажда его становится все ненасытнее и он не может ей больше сопротивляться.
— Так вы думаете, это гонка? Или я вылечу его, или он высосет Люси до последней капли?
— Еще один подход к этой проблеме.
— Но боюсь, что довольно-таки отчаянный. Ход исследований меня не очень вдохновляет. Может, мы сумеем сделать что-нибудь еще?
— Киргизское серебро, — напомнил Хури. — Вещь безотказная.
— Да, но если мы его не найдем, тогда что? Вступим в противоборство с лордом Рутвеном?
— Он опасен.
— Спасибо, Хури. Это я и сам вывел — дедуктивно. Да, он опасен, но несокрушим ли он? Должно же быть что-то, что может остановить его, даже уничтожить, если это будет необходимо.
— Мне понадобится время, чтобы найти этот способ.
— К сожалению, его у вас не так много.
— Немного. — Хури презрительно фыркнул. — Но, по крайней мере, мы с вами сейчас знаем, кто наш противник. И это начало. — Он поднялся со скамьи. — Вы не согласны, Джек? Это начало.
Да… Начало… Но, может быть, не на том пути, на котором, как считает Хури, мы находимся. Его открытия — великолепная работа, ею знания о вампиризме несравненны, а заключения о кровном родстве несомненно верны. И все же я не убежден, что мы знаем, кто наш противник — может быть, мы что-то упускаем. Даже принимая во внимание открытия Хури, лорд Рутвен — не единственный подозреваемый. Да, показания против него ужасны, но не бесспорны. Мне нужно сесть и обдумать все это. Есть другие факторы, которые надо принять во внимание.
1 час ночи.
До поздней ночи работал над клетками костного мозга Никакого прорыва. Чем больше думаю о своих отношениях с лордом Рутвеном, тем менее вероятной кажется мысль о том, что он охотится за Люси. Хотя не сомневаюсь в том, что от него исходит ужасная опасность для нее, ибо припоминаю, когда мы встретились в первый раз, он нюхал одежду Люси, явно почуяв следы ее крови. Это он убил Артура Рутвена, ибо вскоре после смерти Артура лорд Рутвен пришел ко мне с просьбой, чтобы я излечил его от своеобразной жажды. Психологически такая теория звучит правдиво. Но с Люси — все не так. Она моя пациентка, и высасывать ее соки, одновременно предоставляя работу мне, было бы со стороны лорда Рутвена фактически предательством. Я не верю в то, что он способен вести себя таким образом. Признаю, однако, что это вряд ли можно назвать логическим предположением.
В теории виновности лорда Рутвена есть eщe одна проблема. Почему в воображении Люси ее преследовательница — женщина? Хури попытался отмести этот вопрос. Но имеется определенная возможность, что наш противник — Гайдэ. Мы ничего не знаем о ней. Каковы ее взаимоотношения с лордом Рутвеном? Общая ли у нее кровь с Рутвенами? Пока мы не получим ответа на эти вопросы, нам нужно числить Гайдэ в круге подозреваемых.
И есть еще одна возможность: может быть, мы вообще ищем не Рутвена. В настоящее время по Лондону разгуливают и другие хищники… Женщины-хищники… Мысли мои, как это уже не раз бывало за последнее время, вновь вернулись к Ротерхиту.
24 августа.
Весь день в лаборатории, работаю над лейкоцитами и клетками костного мозга. До сих пор никакого реального продвижения вперед. Начинаю потихоньку подумывать об умственных озарениях, испытанных мною в Ротерхите. Интересно, стоит ли рисковать? Решить трудно.
Но думаю о Лайле не только поэтому. Сегодня утром на приеме в клинике одной из приходящих пациенток оказалась Мэри Келли. Здоровье у нее хорошее, никаких рецидивов, состояние организма устойчивое. Только одно беспокоит ее: ей стали сниться кошмары, такие яркие, что' кажется, будто все происходит на самом деле. Ей снится, что она лежит у себя в постели в «Миллерс-Корт» и слышит, как ее зовет какой-то женский голос. Она подходит к окну и видит, что внизу на улице стоит негритянка. Несмотря на страх, Мэри Келли чувствует отчаянное желание последовать зову этой женщины, выходит из комнаты, спешит за негритянкой по пустым улицам и потом осознает, что они идут по Ротерхиту. Тут негритянка начинает целовать и похотливо ласкать ее, после чего взрезает ее запястья над золотой чашей. Кровь ударяет сильным потоком, и Мэри Келли кажется, что она тонет в море крови. Она силится проснуться и просыпается в темной комнате с портретом прекрасной дамы на стене, который освещает единственная свеча. Тогда у Мэри Келли возникает странное желание лежать здесь вечно, поддавшись манящему зову тьмы. Но она вспоминает мои предупреждения об опасности, поджидающей ее в Ротерхите. Она вновь старается проснуться. На этот раз ей это удается, и она оказывается на какой-то незнакомой улице, примерно в миле от своего дома…
Честно сказать, у меня нет никакой причины сомневаться в ее рассказе, совсем наоборот — то, о чем она рассказывает, весьма примечательное проявление сомнамбулизма.
Однако есть две причины особо интересоваться ее сном. Во-первых, пару раз Мэри Келли рассказывала, что ей снилась не негритянка, а европейка с длинными белокурыми волосами. Это беспокоит, потому что такое описание подходит женщине, которую я видел. Я никогда не рассказывал Келли о ней.
Вторая причина: описание чего-то знакомого мне. Комната с портретом дамы, освещаемым единственной свечой. Я видел эту комнату. Я знаю ее. Я сам там лежал.
Это комната на складе в Ротерхите.
25 августа.
Рано утром срочно вызван на Миддлтон-стрит. Весткот — на коленях рядом с женой, за ним — Стокер с пепельным лицом. У Люси вид такой же страшный, как до переливания крови, — кожа обтягивает скулы, лицо бледное как мел, в нем ни кровинки. Сразу же сделал срочное переливание крови. Как и раньше — Весткот очень ослабел, а цвет лица Люси лишь незначительно улучшился. Пока проводил операцию, заметил, что стекло в окне разбито, и спросил, как произошло нападение.
Это случилось, когда дежурил Стокер, — он сидел у постели Люси вторую половину ночи. Около четырех часов утра он почувствовал, что его сильно одолевает сон. Тогда он принялся расхаживать по комнате, но так и не смог отогнать дрему. Сам того не осознавая, он уже начал видеть какие-то перепутанные обрывки кошмара: что-то грозное ломится внутрь, холод до костей, борьба за то, чтобы высвободиться, человеческая фигура на груди Люси… Я попросил, чтобы он описал эту фигуру. Это была женщина, глаза ее сверкали из-под вуали, она пила кровь Люси, обнимая и лаская свою жертву.
— Лаская? — уточнил я.
Стокер поперхнулся и взглянул на Весткота Даже под бородой было видно, как он покраснел.
— Ласкала она., похабно, — прошептал он наконец.
— А вы уверены… совершенно уверены, что под вуалью была женщина?
— Абсолютно, — ответил Стокер.
Бедняга, он аж согнулся от вины. Я уверил его, что у него нет причины терзать себя, ведь он же не знал, против каких сил мы выступили. Стокер кивнул и сказал, что Хури ему намекнул об этом. Я спросил, где Хури, ибо весьма удивился, не увидев его, но оказалось, что он уже приезжал, но почти сразу, разволновавшись, пулей умчался прочь.
— Медальон, — вмешался Весткот, — монета, которую нашли в руке Артура Рутвена… Профессор заметил, что она висит на шее у Люси, и попросил ее на время. Надеюсь, Люси не будет возражать. Профессор настаивал, что это очень важно.
Интересно, по какому свежему следу Хури сейчас идет?
Вернулся в Уайтчепель. Сангвиген санитара оказался совместимым с группой крови Люси, поспешили вместе обратно на Миддлтон-стрит.
При переливании крови Люси вела себя беспокойно, а как только операция закончилась, начала хвататься за шею, но не за ранки, а за то место, где раньше висел медальон. Она вдруг проснулась и стала спрашивать, куда делась подвеска. Я объяснил, но она продолжала сердиться и крайне расстроилась. Потом она спросила, где ее младенец, сорвалась на низкий, пронзительный и отчаянный крик и принялась метаться из стороны в сторону в постели. Я сказал ей, что юного Артура направили в безопасное место. Она потребовала сообщить куда. При упоминании леди Моуберли Люси вздохнула и доверительно улыбнулась.
— Я рада, — прошептала она.
Глаза ее закрылись, и она вновь уснула. Спала теперь более спокойно, нормальный цвет ее лица полностью восстановился. Так что второе переливание крови явно прошло успешно.
Беседа с Люси подсказала, что надо навестить леди Моуберли, предупредить о том, что случилось прошлой ночью. Хури был убежден, что Артуру опасность не грозит, а леди Моуберли, хотя ей и сообщили о возможной угрозе, отказалась от предложенной защиты. Когда я зашел к ней, она была дома. Хотя Розамунда явно беспокоилась о здоровье Люси, мой рассказ она выслушала с полным спокойствием и вновь отказалась от моего предложения об охране, причем весьма категорически.
Я спросил ее, видела ли она еще взломщицу, проникшую некогда к ней в дом.
Она с легкой улыбкой на губах взглянула на меня:
— Вы имеете в виду любовницу моего мужа?
— Да, леди Моуберли, любовницу вашего мужа… Может быть, вы видели ее недавно?
Она нахмурилась и вдруг вздрогнула, встала и подошла к окну, ежась словно от холода. Молча она взглянула на улицу.
— Да, — вдруг сказала она. — Я видела ее.
— Когда? — уточнил я.
— Вчера ночью, — проговорила она. — Мне не спалось, и я стояла вот здесь, где сейчас. И видела, как она прошла внизу по улице.
Очень спокойно, опасаясь спугнуть ее, я подошел к тому месту, где она стояла.
— Леди Моуберли, — проговорил я, — может быть, вы вспомните, в какое время это было?
— Ну конечно же. Помню очень точно. Рядом были часы, и я посмотрела на них. Было без двадцати минут четыре.
26 августа.
Я должен был съездить туда. Целый час после тою, как закончил наговаривать отчет за прошлый вечер, сидел, свернувшись в кресле и сопоставляя различные фрагменты показаний. Мне стало ясно, что надо сосредоточить расследование в Ротерхите. Но кое-что еще ускользает от меня. Это очень мучает, будто мне недостает окончательного фрагмента головоломки, которую разгадать очень просто. Во всяком случае, вчера вечером ситуация вроде прояснилась. Все, похоже, указывает на Лайлу, но почему-то меня мучают сомнения. Нужно переговорить с Хури. Он оставил мне на конторке интригующее, правда, несколько цветистое письмо. Несмотря на его явное перевозбуждение, он находится ближе к пониманию того, кто такая Лайла. Вскоре навещу его. Но вначале должен наговорить все, что могу, о происшедшем вчера.
У дверей меня встретила Сармиста. Она отощала еще больше, платье висело на ней мешком, а в глазах застыло выражение непреходящего ужаса. Я хотел расспросить ее, но она не стала со мной разговаривать, а закрыла лицо и поспешила вверх по лестнице, ведя меня в оранжерею, где Лайла и Сюзетта играли в шахматы. Заметив меня, Лайла перевела взгляд на Сюзетту, и я увидел, как та улыбнулась.
Я стоял перед Лайлой, и молчание длилось целую вечность. Может быть, так оно и было, я обдумывал, что сказать. Сюзетта с серьезным видом наблюдала за мной. Лайла же, наоборот, продолжала улыбаться. Я глотнул воздуха и вдруг почувствовал себя в смешном положении, а потом крайне разозлился на них обеих, разозлился до ярости.
— Кто вы такие? — вскричал я, содрогаясь, сжимая кулаки, не в силах больше сдерживать свои эмоции. — Вы — вампиры? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. — Или что похуже? Скажите мне! Зачем вы в Лондоне? Что вам нужно от меня и моих друзей?
Лайла взглянула на Сармисту, потом опять на Сюзетту.
— Думаю, он почти дозрел, дорогая, — она передвинула шахматную фигуру. — Шах.
Сюзетта продолжала с серьезным, как и ранее, видом изучать меня.
— Что случилось, доктор Элиот? — спросила она наконец. — Лайла что-нибудь натворила?
Я шагнул вперед, стараясь сдержать свой гнев и страх.
— Люси Весткот умирает, — сообщил я. — Какое-то существо, какое-то чудовище высасывает из нее кровь.
Ни тени удивления не отразилось на лице Сюзетты.
— И что же? — спросила она.
— Мы видели, как из горла Люси пьет кровь какая-то женщина.
— И что с того?
— Вы знаете что.
Теперь Сюзетта улыбнулась. Она взглянула на Лайлу, потом на шахматную доску.
— Печально, — прошептала она словно про себя. — Значит, еще не дозрел… — Она передвинула фигуру и взяла короля Лайлы. — Какое разочарование! Похоже, я снова выиграла.
Лайла посмотрела на доску, рассмеялась и смела рукой фигуры. Она встала, поправляя платье, и от ее движения, полного грации, такой простой элегантности, мое вожделение и потребность в ней вернулись. Я был вновь порабощен и знал, что не смогу с ней бороться, а, наоборот, последую за ней туда, куда она меня поведет.
Она взяла меня за руку.
— Пойдем со мной, — проворковала она— Пойдем со мной навсегда.
Я почувствовал (чего раньше никогда не понимал до встречи с ней), насколько ужасна и бездонна, как омут, может быть красота женщины, как опасна и ни с чем не сравнима. Я знал, что, если она захватит меня, я рке никогда не уйду. Я вцепился в ее руку, стараясь удержать ее.
— Я не высасываю кровь из твоей подруги, — зашептала она, — ты же мне веришь, Джек? — Она поцеловала меня. В своем воображении я растворился на ее губах. — Ты мне веришь?
И, конечно, я верил. Я теснее прижался к ней, чувствуя, как меня касается ее нежная грудь, и вдыхая аромат ее духов. Мы продолжали идти. Перед нами простерся длинный темный проход. Нас окружали животные, над головами пели птицы. Я помнил их с того раза, когда Сюзетта, оставив нас, побежала по камням, а мы с Лайлой впервые остались наедине. Сейчас мы тоже были наедине и шли по проходу… Подошли к какой-то двери. Лайла открыла ее. За дверью нас ждала постель с темно-красным пологом…
Я проснулся, голый и одинокий, как раньше. В комнате было еще темно, свеча по-прежнему горела перед портретом на стене. Я оделся и вышел из комнаты. За дверью, с моим пиджаком в руках, меня ждала Сармиста Она подала пиджак и убежала. Я погнался за ней, но она быстро пропала в темноте. Я вернулся и вышел из склада. На улице я понял, что прошел целый день. Но я был цел. Невредим. Впрочем, как это опасно! Даже если Хури прав только наполовину — как это опасно!
И все же… ее слова звучали у меня в ушах, в извилинах моего мозга: «Не я пила кровь из твоей подруги. Мне не нужна ничья кровь. Ведь ты мне веришь, а, Джек?»
Верю… Верю даже сейчас… Почему? Да может ли быть какая-либо иная причина, кроме моей страстной увлеченности? Какая-либо причина вообще?
Мне надо подумать. Надо прояснить свой разум.
Хури навещу завтра. У него, очевидно, есть многое, что он мог бы открыть мне. Возьму его письмо, прочту в кэбе.
Письмо профессора Хури Джъоти Навалкара доктору Джону Элиоту
26 августа.
Джек!
Где вы, черт вас дери, шляетесь? Надеюсь, вы не у той проклятой женщины. Потому что если с ней, то вы черт знает какой болван. Да не позволит вам Бог ездить туда, а если вы все же поехали, то дай вам Господь вернуться целым и остаться невредимым. Как только прочтете это, приезжайте ко мне немедленно. Ночью — в Блумсбери. Днем — в читальный зал Британской библиотеки, место номер четыре. Я сейчас много читаю и должен столько всего вам рассказать.
Потому что, Джек, я знаю, кто она! Я знаю против кого… скорее, против чего мы боремся. И, признаюсь, это приводит меня в состояние, близкое к отчаянию. Я стал нервным, запуганным, вечно дрожащим существом. Какие надежды у нас? У нас, созданных из глины, из смертной плоти и крови? Но я теряю нить повествования. Надо оставаться философом. Мы смертны, мы рождаемся вновь, мы стремимся к Богу. Так будем же храбры и великодушны. Извините, опять теряю нить повествования… Позвольте начать с начала, с монеты, висевшей на шее Люси.
Вы мне никогда не рассказывали, что эта монета из Киркеиона. Предполагаю, для вас это было не так важно: какой-то неизвестный греческий город, навсегда исчезнувший из книг по истории, — к чему им интересоваться? Но для меня, Джек, Киркеион отнюдь не неизвестное место. Его нет в книгах по истории, которые вы просматривали, но он есть в греческих легендах, в герметических хранилищах памяти о древних мистических обрядах. Поройтесь среди запрещенных текстов, нелегально вывезенных из библиотеки в Александрии, и вы найдете упоминание о Киркеионе.
Это был город мертвецов, Джек, где мужчины жили как рабы Богини, в вечной отстраненности от потока жизни смертных, в агонии на дыбе памяти об удовольствиях. Во время своего падения они узрели лик Богини и потому, невзирая на ужас своей судьбы, не могли сожалеть о том, кем стали. А кем они становились, вы сможете догадаться, когда я открою вам имя Богини. О ней говорится в эпосе, в «Одиссее», и все же Гомер не знал всей правды, ибо пользовался слухами для описания волшебницы, грозной Кирки, Цирцеи, преобразовательницы людей. Уверен, вспомнив классику, вы вспомните и один из островов, на котором побывал Одиссей, населенный странными животными, среди которых были и его люди, превратившиеся в хрюкающих свиней. Прошу вас, Джек, не считайте, что я сошел с ума И не подходите больше так асептически к моим рассуждениям. Вы думаете, это чистейшая фантастика, такое место, как Киркеион, не могло существовать на самом деле? Не думайте! Не думайте так, черт вас возьми! Примените ваши чертовы законы наблюдения, если хотите. Поступите как всегда — экстраполируйтесь от улик, изученных вами лично… В Ротерхите ведь есть животные, не так ли, и человеческие существа, обращенные в странные, искаженные фигуры? Есть монета Люси, на кромке которой выбито: «Киркеион». И прежде всего, Джек, прежде всего существует Лайла, Кирка, Цирцея — называйте ее, как хотите.
Ибо у нее много имен. Она известна в Китае и в Африке, в ритуалах вуду в джунглях, на дымящихся от крови пирамидах в Мексике. В ее честь королевы Канаана и Финикии занимались проституцией, ради нее в прах рассыпались стены Трои. Как Аместрис она следила за тем, чтобы любые груди на земле, более прекрасные, чем ее собственные, были заживо отрезаны у ее соперницы. Как Илу ее знали в Иерихоне и Уре, первых городах на земле, и все же сама она старше этих городов, столь же стара, как и сам человек. Щеки ее цвета граната, губы ее алы как кровь, глаза ее глубоки и вне времени, как космос. Вы называете ее Лайла. Разве вам не слышится эхо, когда вы произносите эти слоги самого ужасного и древнего имени? На иврите это имя произносится Лилит. По иудейскому мифу, она была первой женой Адама, еще до создания Евы, и ее изгнали из рая за ужасные преступления. С тех пор она мстит роду людскому. А по некоторым верованиям, Джек, она была даже женой самого Господа Бога.
Лилит, Джек, Лилит — вечная блудница, купающаяся в крови, королева демонов и дьяволиц. Остерегайтесь ее. Знаю, вы можете подумать, что у меня начался бред сумасшедшего, но все же остановитесь и вспомните все, что вы пережили и видели сами. Она — все легенды, описанные мною, и нечто большее: властительница тьмы, хозяйничающая в мире, прекрасная, совращающая, ужасная. Боюсь за вас, Джек. Боюсь за нас всех. Приезжайте же ко мне как можно скорее, пока вы в человеческом облике.
Пусть все наши боги помогут нам и пусть все, кого мы любим, дорогой Джек, будут сейчас с вами.
Хури.
Письмо доктора Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
«Подворье Хирурга».
11 часов утра.
Дорогой Хури!
Убежден, что если у вас не бред сумасшедшего, то, по меньшей мере, вы были слегка пьяны. Лайла в качестве Кирки, преобразовательницы людей? Собирался к вам зайти и протрезвить вас. Однако вынужден вновь извиниться. Собираясь к вам, надел пиджак и сунул ваше письмо во внутренний карман. И кончиками пальцев почувствовал, что там лежит еще один листок, скорее клочок бумаги, который я туда не клал. Вынул бумажку, прочел ее и — как вы поймете, когда сами ее прочтете, — понял, что не смогу приехать к вам сегодня вечером Пришло время нанести более неотложный визит.
Последствия этого письма очевидны. Не только для теории, изложенной в вашем послании, но и для всего хода расследования. Теперь вижу, сколь велика моя вина, как я был слеп. Боже, Хури, молитесь, чтобы мы не опоздали. Напишу вам вновь, надеюсь, сегодня вечером. Но прежде всего я должен подтвердить все то, что говорит Джордж, и спасти его, если смогу. Почерк, между прочим, несомненно его.
Свяжитесь со Стокером.
Джек.
Пришпилено к вышеприведенному письму
Джек… это я… ради Бога., служанка, что встречает вас у дверей, подает вам пиджак… это я. Как? Не знаю. Меня схватили… пришел Полидори… а потом… нет. Ужасно, Джек, ужасно. Но наконец все кончилось. Открыл глаза. Кожа кофейного цвета… Поднял руку… Боже, Джек… Титьки!.. Отросли у меня на груди. Кричал… кричал и кричал. Поверить не мог… Да и как поверишь?.. Ждал все, что очнусь от кошмара, стану самим собой. Но никаких изменений. Недели прошли, а я все, а я все… девка… Я, Джордж Моуберли, министр по делам Индии, — чертова чернокожая девка! Подозреваю, это шутка Лайлы. Хотя не смешно… Ужасно, Джек… Боже, я ужасно напуган. И с мозгами не в порядке, видите, думать не могу… Могу только работать… Мыть, прислуживать, ухаживать за Сюзеттой… Иначе возвращается ужас… Непереносимо. Раз пытался бежать, почти парализовало, так возрос ужас. Однако заставил себя… Украл лодку… Переплыл через Темзу в доки. Помните, Джек? Вы там за мной гнались как-то ночью. Туда ходят джентльмены… Бляди там дешевые… Перепихнуться с ними. И в ту ночь… Опять джентльмены… Искали блядей. Один из них схватил меня… Убежать не удалось… Боже, Джек… нет… нет! Спасите меня, Джек! Вы не представляете! А Лайла хочет опять меня туда послать. Там трахают за гроши. Грязь… Тебя пыряют… Насилуют… Больно. Но, может быть, это лучше, чем Сюзетта. Зовет меня сейчас. Тяжесть на моем животе, валит меня на пол… Ее зубы, Джек… острые… крохотные бритвы… Дитя, Джек, Боже, дитя… Сосет мои титьки… Но не молоко… кровь… высасывает мою кровь… Ее сосущие губы… мою кровь.
Вот она идет. Снова ужас. Помогите мне… прошу. Господи! Господи! Помогите мне!
Письмо доктора Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
2 часа ночи
_Дорогой Хури!
Извините за неразборчивый почерк — пишу в кэбе. Я в порядке, но другие новости, боюсь, зловещие. Приехал в Ротерхит, улицу к складу нашел без труда. Пока шел, было пусто и темно, но перед собой слышал легкий звук шагов девушки. Они раздавались у каждого поворота Потом на стене мелькнула тень — и больше ничего. Подошел к дверям склада Пытался войти, но дверь была заперта. Стучал, кричал — никакого ответа. Потом в канаве увидел какой-то узел.
Это был труп женщины. Перевернул его и сразу узнал Сармисту… Джорджа, должен сказать, Джорджа Джордж был мертв. В нем не было ни капли крови, вся высосана Язык его вывалился обрубком из глотки, волосы поредели и поседели, тело превратилось в мешок с грохочущими костями. Попробовал поднять его труп. Почувствовал, как он крошится, руки егопревращаются в прах у меня в пальцах. Взглянул ему в лицо. Оно уже не было лицом Сармисты, на краткую секунду мне вновь явился Джордж — я узнал своего друга. А потом он рассыпался. Не осталось ничего, кроме пыли, кучки праха и тряпок на обочине.
Пытался собрать прах — бесполезно. Встал, повернулся и зашагал, потом побежал. Впереди меня детский голосок распевал какую-то считалку. Хотя никого не было видно, ни следа Сюзетты. Меня охватил ужас. Хуже, чем в Каликшутре. Наконец-то вышел на главную улицу. Подозвал извозчика. Никогда больше сюда не вернусь.
Вы сейчас со Стокером? Кэб довезет меня до конца Гросвенор-стрит, и я сказал извозчику, чтобы он вас туда отвез. Буду ждать в дверях «Объятий пастыря», как раз напротив дома семьи Моуберли. Торопитесь. Пишу это, а мы уже въезжаем на Гросвенор-стрит.
Полагаю, вы еще носите с собой револьвер?
Джек.
Записки Брэма Стокера (продолжение)
…Не успело пройти и двух недель после званого ужина, который я давал в честь Люси, как она заболела. Болезнь ее столь необычна, что меня сразу охватило какое-то мрачное предчувствие. Симптомы полностью соответствовали заболеванию, которое Элиот изучал в Индии, о котором впервые упомянул, когда мы гнались за сэром Джорджем, и потом говорил не иначе как с выражением крайнего ужаса на лице. Умопомрачение, каталепсия, резкая потеря крови — вот признаки недуга, впервые замеченные Элиотом в Гималаях, а теперь повторившиеся у бедной Люси. По срочности принимаемых им мер я понял, что он опасается самого худшего. И все же он не удостоил меня доверием, а вместо этого предпочел уединяться с профессором Джьоти, своим знакомым по Индии и, кажется, экспертом по таинственной болезни Люси. Эта парочка готовилась к какому-то великому приключению, и, вспоминая, что прежде Элиот именно мне поверял свои замыслы, не могу отрицать, что ощущаю некоторую обиду. Меня направили охранять Люси во время болезни, что я охотно выполнял, но чувствовал, что девушке грозит нечто более страшное. Я вознамерился сразиться с этой угрозой и начал готовиться, ибо в конечном счете не мог поверить, что моя помощь так и не понадобится.
Жаркой августовской ночью меня наконец-то вызвали. Приехал профессор Джьоти, поднял меня с постели и, несмотря на мои требования объяснений, остался, как и ранее, непроницаем, повторяя лишь, что Люси находится в крайней опасности. Я поспешно оделся, заинтригованный оборотом дела, и, поцеловав на прощание свою дорогую женушку, взобрался вместе с профессором в кэб, и мы поехали к нему в Блумсбери. Как только мы приехали туда, я вновь насел на него с расспросами, но он говорил лишь о какой-то темной и ужасной опасности, после чего спросил меня, может ли рассчитывать на мою помощь перед лицом неизвестно какого, но, несомненно, величайшего ужаса. Естественно, я ответил, что может, но также указал, что предпочел бы знать, в чем заключается этот самый ужас. Профессор уставился на меня, и его пухлое лицо вдруг замерло, приняв крайне серьезное выражение.
— Мы охотимся за женщиной, — сказал он и спросил, помню ли я свой сон, когда фигура в вуали пила кровь Люси.
— Мы гонимся за сном? — не веря услышанному, вскричал я.
— Боюсь, это нечто большее, чем сон, — криво улыбнулся профессор. — Вы — человек театра, мистер Стокер. Вспомните «Гамлета»: «Есть многое на свете…» — Он засмеялся коротким смешком. — Не все в художественной литературе выдумано. Готовьтесь к худшему, мистер Стокер. Готовьтесь, если хотите, к невозможному.
Такие высказывания вряд ли воодушевляли, но я все же почувствовал прилив возбуждения от того, что вновь очутился как будто в приключенческой повести. Я спросил профессора об Элиоте, будет ли он с нами, но в этот момент в дверь постучали. Профессор сразу вскочил, и мы с ним торопливо вышли на улицу. Нас ждал кэб. Профессор вздохнул с облегчением, но не сказал вознице ничего, только крикнул, чтобы тот ехал как можно быстрее. Тут же профессор начал читать какое-то письмо, которое, полагаю, ему передал наш возница. Нахмурился, когда закончил читать, смял листок бумаги и швырнул под ноги. Наклонившись, он принялся понукать возницу, чтобы тот ехал быстрее… еще быстрее. Однако ехать было недалеко. Миновав улицы и площади Мэйфейра, мы оказались у въезда на Гросвенор-хилл, где профессор приказал вознице свернуть к обочине и остановиться. Мы вышли из кэба, и профессор подвел меня к двери какого-то постоялого двора.
— Вы спрашивали о докторе Элиоте? — сказал он, улыбаясь и указывая рукой. — Вот он, мистер Стокер, ждет вас.
Элиот был рад видеть меня, как я с благодарностью отметил. Но лицо его совсем отощало, и что-то в его измученном выражении подсказывало, что нервы Элиота явно разладились. Он повернулся к профессору:
— Вы ничего не сказали Весткоту?
Профессор покачал головой:
— Не было надобности. Он сегодня при Люси. Там от него больше пользы, особенно если наша дичь узнает, что мы напали на ее след.
— Это она может, — кивнул Элиот, повернулся и взглянул на дом на противоположной стороне улицы. — Видите, в окнах у нее нет света И не видно ни малейшего движения. — Он оглядел оттопырившийся пиджак профессора. — А, вижу, револьвер при вас. А у вас не найдется еще одного, для Стокера?
Профессор кивнул и передал мне оружие.
— Спрячьте револьвер, Стокер, — прошептал Элиот. — Не дай Бог, нас примут за взломщиков.
Он подошел к парадному входу и позвонил в звонок.
Ответа не было. Элиот позвонил еще раз. Наконец он перестал звонить, и мы услышали в прихожей чьи-то шаги. Заскрежетали засовы, дверь приотворилась, и на нас хмуро взглянул какой-то заспанный человек.
— Доктор Элиот! — вдруг воскликнул он.'— Что за дело привело вас сюда в столь позднее время?
— Ваша хозяйка дома? — поинтересовался Элиот.
Дворецкий, а с виду это был он, вновь нахмурился и покачал головой;
— Боюсь, что нет, сэр. Она сегодня вечером уехала к сэру Джорджу на юг Франции.
— А ребенок? — Элиот помялся и глотнул воздуха. — Ребенок миссис Весткот, Артур. Леди Моуберли взяла его с собой?
— Да, сэр. Как и договорились с миссис Весткот. Разве она вам не передавала?
Элиот, пытался следить за выражением своего лица, но разочарование и беспокойство все же проступили на нем. На секунду плечи доктора опустились, и он погрузился в раздумья.
— Кэб! — вдруг воскликнул он, повернувшись к дворецкому. — Насколько я понимаю, вы заказывали его?
Дворецкий кивнул.
— Можете сказать, в какой компании?
Дворецкий заколебался, но потом вновь кивнул:
— Одну минуточку, пожалуйста.
Мы ждали у дверей. Элиот по очереди распрямлял нервные тонкие пальцы и смотрел на часы. Вскоре дворецкий вернулся и передал нам карточку. Элиот поспешно схватил ее и, не говоря ни слова, устремился вверх по улице. Профессор и я нагнали его. Я пытался упорядочить впечатления от только что услышанного мною.
— Так мы гонимся за леди Моуберли? — спросил я, даже не скрывая изумления.
Элиот искоса взглянул на меня.
— Сегодня вечером ее мужа нашли убитым, — сообщил он. — Его похитили из собственного дома, а леди Моуберли почти целый месяц скрывала от меня это преступление. Исчезновение Джорджа, да и его последующая смерть могли быть организованы лишь при полном пособничестве его жены. Не беспокойтесь, Стокер. Дело против нее верное.
— Но почему она забрала ребенка Люси?
— Это, — процедил Элиот, — мы и собираемся выяснить.
— И куда же они делись?
— Зачем, как вы думаете, мы пришли в извозчичьи конюшни? — фыркнул он.
Элиот повернул голову, и я увидел, что мы прибыли по адресу, указанному на данной нам дворецким карточке. Элиот позвонил, и после очередного длительного ожидания мы услышали, что сверху кто-то спускается. Дверь неохотно отворилась, и на нас обрушился поток крепких словечек, часто используемых простыми тружениками. Но Элиот, однако, превзошел привратника в ругани и убедил его, что у нас срочное дело. Конторская книга была принесена и тщательно изучена.
— Вот, — сказал наш сквернослов, — десять часов. Вызов кэба на Гросвенор-стрит, номер два.
— А куда они потом поехали? — нетерпеливо спросил Элиот.
Привратник провел пальцем по странице:
— Вокзал Кингс-Кросс.
— Разумеется, — кивнул Элиот, ничуть не удивляясь. — Благодарю вас. — Он передал привратнику гинею. — Может быть, вы только что спасли жизнь маленького ребенка. Идемте, джентльмены, нам предстоит длинная ночь.
Мне была непонятна его уверенность, ибо лично я счел, что мы никоим образом не приблизились к тому, чтобы узнать, где может находиться леди Моуберли.
— Если она уехала с Кингс-Кросс, — сказал я, когда мы двинулись к Оксфорд-стрит, — то, должно быть, направлялась куда-то на север.
— Если она куда-либо поехала, то только в Уитби, — покачал головой Элиот.
— Почему вы так уверены?
— Потому что в Уитби она прячет в шкафу свои скелеты.
— Скелеты?! — воскликнул я.
— Леди Моуберли, Стокер, — не та, за кого себя выдает. Может быть, вы вспомните теорию, которую я излагал вам после погони за сэром Джорджем? В ней говорилось, что кто-то пытается повлиять на него с политическими целями.
Я кивнул Элиот действительно объяснял мне эту теорию несколько недель назад, и меня тогда поразила необыкновенная точность его рассуждений.
— Так вот, уловка, использованная леди Моуберли или, вернее, женщиной, называющей себя леди Моуберли, — часть того же заговора. Вам неизвестно, что Розамунда была помолвлена с Джорджем Моуберли еще с детства. А потом они не виделись несколько лет, и Джордж на свадьбе с трудом смог узнать свою невесту.
— Значит, получается, — вскричал я, — что он женился вовсе не на своей суженой, а на женщине, за которой мы гонимся и которая подменила собой настоящую невесту! Вы это подозреваете?
— Именно, — кивнул Элиот. — Вы сегодня в отличной форме, Стокер. Поздравляю вас с подобной проницательностью.
— Вы считаете, — медленно проговорил профессор, — что она бежала в Уитби, чтобы замести следы? И там находятся доказательства совершенных ею преступлений?
— Вероятно. Ока была в Уитби совсем недавно, менее четырех недель тому назад. Однако…
— Тогда надо немедленно поспешить на Кингс-Кросс, — воскликнул я, перебив его, ибо мне показалось, что мы зря теряем время. — Надо брать билеты на ближайший поезд.
— Несомненно, — согласился Элиот. — Мы так и сделаем. Но не стоит преследовать ее втроем. Лжеледи Моуберли — женщина примечательной смышлености и злонамеренности. У нее чрезвычайный талант обмана…
Мне показалось, что он говорит о своей противнице почти с восхищением, как если бы дуэлянт отпускал комплимент стоящему по ту сторону барьера Но Элиот еще сильнее нахмурился, и лицо его вновь потемнело.
— Кто знает, какую паутину она сплела вокруг бедняжки Люси? — произнес он. — Она уже одурачила нас однажды. Наша поездка в Уитби может обернуться ловлей ветра в поле. Мне не хотелось бы оставлять Люси под присмотром одного человека.
— Но у Весткота есть друзья, — запротестовал я, — Они помогут ему присмотреть за женой. Вряд ли Люси может угрожать большая опасность из-за нашей временной отлучки.
— Склонен согласиться с вами, мистер Стокер, — вступил профессор. — Лжеледи Моуберли, как вы говорите, Джек, — женщина весьма дьявольских способностей. И потребуются наши совместные умение и храбрость, если мы хотим выследить ее и победить. Все мы, каждый по-разному, причастны к этому делу с самого начала. Не думаю, что стоит сейчас разделяться.
Элиот с несчастным видом опустил голову:
— Ну, раз вы в этом убеждены…
— К силам, против которых мы выступаем, так просто не подойдешь. Так что навестим Весткота и объясним ему положение. Но надо спешить. С каждой минутой наши преимущества тают.
К этому времени мы уже вышли на Пиккадилли. Несмотря на ранние утренние часы, этот мощный центр движения в столице так и кишел экипажами. Мы остановили первого попавшегося извозчика и приказали ему ехать на Миддлтон-стрит, где застали Весткота сидящим у постели жены. Элиот предупредил его ни под каким предлогом не оставлять Люси без присмотра и в наше отсутствие не впускать в дом никого, кроме людей, которых он знает и кому может абсолютно доверять. Элиот повторил это предупреждение самым угрюмым тоном: «Никого! Ни единой души!» Затем он нагнулся к Люси и легко поцеловал ее в щеку. Думаю, что все мы расстроились от расставания с той, о которой так пеклись, но я был благодарен за краткий визит к ней, ибо знал, что образ ее будет теперь постоянно у меня перед глазами, напоминая, сколь срочно и отчаянно наше задание. «В таком настроении, — подумал я, когда мы направились на Кингс-Кросс, — в старые добрые времена рыцарь уезжал из Камелота».
В начале шестого утра мы прибыли на вокзал. Пришлось ждать почти час до первого поезда на север, но зато мы смогли удостовериться, что женщину, отвечающую описаниям леди Моуберли, действительно вчера вечером видели на вокзале. Она садилась в последний поезд на Йорк. На руках у нее был младенец, и оба проводника, вспомнившие ее, отметили одну особенность: женщина — явно высокого происхождения — сама несла ребенка, и няни с ней не было. Элиота это известие почему-то крайне расстроило, и, как только наш поезд отошел от перрона, доктор нахохлился и погрузился в глубокие раздумья.
— Она носит младенца на руках, — бормотал он под нос. — Она должна быть абсолютно уверена… Или это, или же…
Голос его затих, и он вновь замолк.
К счастью, поезд наш шел с хорошей скоростью, и мы прибыли раньше расписания, а поэтому без проблем успели на пересадку. Несмотря на пророчества Элиота, я чувствовал себя сейчас бодро и, сидя в поезде на Уитби, с интересом разглядывал мелькавшие за окном пейзажи, освещенные августовским солнцем. Вокруг жизнерадостно галдели отдыхающие, направляющиеся, как и мы, на йоркширское побережье. Страхи предыдущей ночи постепенно улетучились из моего сознания, и я проникся уверенностью, что вскоре мы повергнем врага наземь. Думал я и о намеках моих спутников на то, что в этой женщине присутствует что-то сверхчеловеческое, но сейчас это казалось мне просто смешным. Даже наше прибытие в Уитби, рисовавшийся в моем воображении местом угрозы и страха, не смогло омрачить оптимистического настроения, поскольку на самом деле оказалось, что это весьма прелестное местечко, раскинувшееся у глубокой гавани и столь круто взбирающееся на холмы с востока, что дома в старой части города стояли словно друг на друге. Только руины аббатства, нависшие над городком, массивные и романтические, навевали мысли о том, что Уитби действительно может соответствовать месту, нарисованному моим воображением. Но в лучах клонящегося к закату солнца аббатство выглядело весьма живописно.
Мы навели справки и установили, где жила невеста Джорджа — Розамунда Харкорт. Харкорт-Холл, впечатляющее здание, походил на глыбу, остановившуюся на краю утеса. Поднявшись к воротам поместья, мы прошли через сильно заросший сад, пристально вглядываясь в наступающие сумерки. Однако по пути никто нам не попался, а на подходе к самому дому я даже стал сомневаться, живет ли здесь кто-нибудь вообще, потому что многие окна были заколочены досками и в воздухе витал такой дух заброшенности, что я подумал, а не зря ли мы сюда так спешили. Но Элиот показал на гравий ведущей к дому дорожки, и я увидел на нем одинокую цепочку следов. Кто-то явно был здесь, пришел недавно.
— Женщина, — сказал Элиот, приседая у следов на гравии, — судя по маленьким размерам стопы. Но кто?
Он взглянул на меня, а я пощупал револьвер, оттопыривающий мой пиджак. Элиот кивнул, взошел по ступеням и постучал молотком в дверь.
Пришлось подождать, но в конце концов наш зов был услышан. Пожилая женщина, судя по всему давнишняя служанка Харкортов, открыла дверь, и при виде ее морщинистого, обветренного лица Элиот, как я заметил, несколько смягчился. Женщина оказалась домохранительницей, ей поручили поддерживать порядок в доме до тех пор, пока семья Моуберли не решит вернуться. Она работала служанкой в этой семье около пятнадцати лет и сейчас очень сокрушалась, что дом запустел и обветшал. Вначале она говорила неохотно, что свойственно жителям Йоркшира, но когда Элиот намекнул, что ее хозяйке грозит опасность, она сразу вызвалась помочь нам, чем только сможет. Поначалу, однако, казалось, что вряд ли ее помощь пригодится. Нет, сказала она нам, она не видела леди Моуберли более двух лет. Нет, она не замечала каких-либо чужаков по соседству. Нет, никто не болел таинственными или необъяснимыми болезнями.
— С тех пор как ее сиятельство сама заболела — никто, — закивала головой старушка. — Это случилось как раз перед ее свадьбой с сэром Джорджем.
— Заболела? — поинтересовался Элиот.
— Побледнела… истощала., слабая была ужасно. Странная какая-то. Вроде как с головой у нее стало не все в порядке, и свадьбу эту она затеяла, умершую мать не успев толком оплакать. Замуж вышла! — домохранительница покачала головой. — Печально все это было, печально и странно.
— Странно? — заинтересованно переспросил Элиот. — Чем же? Ну, если не считать спешки…
— А все втихую, да не по-людски, не по-людски.
— Это как — втихую?
— Да только она была да сэр Джордж и этот дружок сэра Джорджа, Артур. Вроде так его звали. Ну, такой джентльмен из Лондона.
— И никаких родственников?
— Никаких, совсем никаких. Ее сиятельство была последней… последней из Харкортов. Она одна и осталась.
— Значит, на венчании в церкви была лишь она и те двое? Вы абсолютно уверены в этом? И больше никого не было?
— Говорю вам, только они втроем и были.
Элиот еще больше нахмурился:
— Ну а потом? Видели вы свою хозяйку потом?
И снова домохранительница покачала головой:
— Нет, она сразу уехала. И она, и муж, я вам сказала. Мы их так и не увидели.
— Позвольте мне с этим разобраться… Сэр Джордж и леди Моуберли сразу уехали на медовый месяц? Правильно? А до того на свадьбе у вашей хозяйки не было ни родственников, ни друзей — вообще никого, кого бы она знала?
— Ну! Такова уж была ее собственная воля. Она всегда все делала в одиночку, с тех пор как с головой у нее стало не в порядке. И с нами, слугами, ничего не захотела иметь общего — понабрала новых, своих. Меня к ней в день свадьбы вообще не подпустили, хоть я с пеленок была при ней. Никого из нас не подпустили.
Элиот взглянул на профессора Тот кивнул в ответ, словно подтверждая какое-то подозрение, о котором они говорили раньше. Элиот повернулся к старушке:
— Вы нам очень помогли, но еще одно: в ночь перед свадьбой не случилось ли чего-нибудь необычного? Чего-нибудь, запомнившегося вам?
Домохранительница задумалась, а затем вздохнула:
— He-а. Ничего… Разве что настроение было странное у ее сиятельства. — Она помедлила, вспоминая что-то. — В склеп миссис Харкорт ломились…
— Миссис Харкорт? — прервал ее Элиот. — Это же мать леди Моуберли?
— Ну! — кивнула старушка. — Так и взломали вход в склеп с ее надгробием. Но это не у нас, а там, в Уитби, при церкви Святой Марии.
Элиот вдруг напрягся, окостенел, и ноздри его раздулись, как будто почуяв запах погони.
— Давайте-ка я повторю все снова, — медленно проговорил он. — В ночь перед свадьбой леди Моуберли склеп Харкортов взломали. Так? Кто-то пытался открыть гроб?
— Ну! — подтвердила домохранительница. — Может, и пытался. А вот зачем пытался — не могу сказать.
Элиот с победоносным видом покачал головой.
— Спасибо вам, — прошептал он, пожимая руки старушке. — Большое спасибо.
Он повернулся и, не сказав ни слова, заторопился прочь от дома.
Кэб поджидал нас. Элиот велел вознице возвращаться в Уитби и всю дорогу просидел, сжав губы и сдвинув брови, но его глаза выдавали, что он все-таки решил загадку. Я же, конечно, оставался в неведении, как и раньше, но, помня, что Элиот не любит расспросов, решил подождать, пока он сам не заговорит. Когда же он зашел в лавку и заказал кирку, заступ и тяжелый молот, я больше не смог сдерживать любопытство.
— Расскажите, что вы надумали, Элиот, — потребовал я, как только мы вышли. — Насколько я понял, вы уверились, что сэр Джордж женился не на своей настоящей невесте.
— Конечно, — ответил Элиот. — Это очевидно.
— Вы забываете, — перебил профессор, — что мистер Стокер не вполне знаком с предысторией дела.
— С предысторией? — поинтересовался я. — Какой предысторией?
— Какой? — улыбнулся профессор и погладил себя по округлому животу. — А той, которая рассказывает об управлении человеком с помощью мысли.
Улыбка его погасла.
— Я сам это видел и знаю, что мозг простого смертного могут совратить и полностью поработить. Жертва становится инструментом в чужих руках. И такая участь могла постичь, вернее, наверняка постигла Розамунду Харкорт.
— Вы имеете в виду эту ее «странность»?
— Вот именно, — проговорил Элиот. — Свадьба, наем новых слуг, стремление к одиночеству — все это могло быть устроено по чьему-то приказу, ибо ее мысли к тому времени уже не принадлежали ей. И, следуя таким приказам, мисс Харкорт готовила собственную смерть. Смерть, — он нахмурился, — или нечто худшее…
— Худшее?
Элиот взглянул на утес на востоке, где на фоне сгущающихся туч вырисовывались контуры аббатства.
— Это мы должны разузнать, — пробормотал он.
Он вдруг вздрогнул и спрятал заступ под складками плаща, снова поглядев на небо. Небо позеленело, воздух отяжелел от удушающей жары и усиливающейся напряженности, которая в преддверии грозы всегда влияет на людей с чувствительной натурой.
— Сегодня ночью будет буря, — сказал он. — Но она лишь поможет нам. — Он посмотрел на часы — только что миновало девять. — Идемте, нам надо перекусить. То, чем мы займемся ночью, не делается на пустой желудок.
Я едва ли мог подозревать, что он имеет в виду. Заступ и кирку не покупают по прихоти, но у меня не было желания подтверждать некоторые свои темные мысли. Я ел от души, насколько позволяли обстоятельства, и незадолго до полуночи мы наконец вышли с постоялого двора. Духота еще усилилась, воздух гнетуще давил. Мы прошли мимо гавани — Элиот вел нас к подножию восточного утеса, на вершине которого стояли руины аббатства. Раздался раскат грома, и, взглянув на море, я увидел, что там призрачной белой стеной поднимается туман, накатываясь на выход из гавани. Прогремел еще один раскат, и без какого-либо дальнейшего предупреждения разразилась гроза. Все вокруг словно забилось в конвульсиях: волны вздымались с нарастающей яростью, обрушиваясь на причалы; ветер ревел, будто состязаясь с громом; небо над нами содрогалось от поступи бури. На секунду туман поднялся, рассеялся, и я увидел горы вспенившейся воды, вздымающиеся в несказанном великолепии и поблескивающие серебром в свете молний. А потом все это снова поглотил туман; поглотил он и нас — лица моих спутников едва виднелись сквозь мутную завесу.
Элиот взял меня за руку.
— Сюда! — крикнул он мне в ухо, указывая на старую часть городка над нами.
Мы начали взбираться по продуваемым ветром улицам, по ступеням, по сотням ступеней, ведущих вверх, на утес. Мы уже подходили к его вершине, когда туман опять расступился, и, глянув вперед, я различил контуры аббатства; правда, его вид заслоняла другая церковь, стоявшая на краю утеса и окруженная кладбищем с множеством надгробий и покосившихся могильных камней.
— Церковь Святой Марии, — прокричал Элиот и двинулся к кладбищу, сгибаясь на ветру, который, казалось, вот-вот сметет его с утеса, и лавируя между камней.
Я последовал за ним и вскоре понял, что цель нашего похода — самый огромный склеп, который мне когда-либо доводилось видеть, массивное сооружение из прямоугольных камней у обрыва. Подойдя к нему, Элиот остановился и огляделся по сторонам, убеждаясь, что мы здесь одни. Буря, как он и предугадал, была нашим союзником в эту ночь, ибо мы находились в самом ее центре и вокруг не было никого, кто бы отважился выдержать ее ярость.
Когда я приблизился к склепу, с моря вновь наплыл туман, враз окутав меня клубами сырых испарений, словно склизкими руками смерти. Я перестал что-либо различать и теперь мог только слышать — рев бури, раскаты грома и удары мощных волн раздавались из тьмы еще громче прежнего. Я на ощупь добрался вдоль стены до угла склепа. Впереди замаячила какая-то фигура Она протянула руку, и я узнал Элиота. Вглядевшись в его лицо, я поразился, насколько оно неподвижно и ужасающе напряжено.
— Выньте револьвер! — крикнул он мне.
Должно быть, я замешкался, ибо он сам полез в мой карман, достал револьвер, осмотрел его и вернул мне, показав на стену склепа И тут я обнаружил, что вход в склеп разнесен вдребезги, а за ним затаилась тьма, щерясь на нас обломками решетки, будто ухмыляясь.
Сквозь завывание урагана до меня внезапно донеслось хихиканье.
— Кто пойдет первым? — спросил профессор из-за моего плеча и еще раз хихикнул.
Я оглянулся на него, угрюмо улыбнулся и нырнул в дыру.
После бури темнота казалась невыносимо тихой. Я полез в карман за спичками, зажег одну и, прикрывая ее пламя рукой, перехватил револьвер покрепче. Оглядевшись по сторонам, я не заметил в склепе и следа чьего-либо присутствия. У стены меланхолично стояли в ряд надгробия, но ни одно из них не было потревожено. Не было видно и следов каких-либо недобрых дел. За мной вошли Элиот и профессор, осматриваясь в склепе. На лице Элиота отразилось разочарование, смешанное с облегчением. И вдруг он вздрогнул.
— Что это? — воскликнул он, наклоняясь и становясь на колени у одного из надгробий.
Я увидел, что к каменной стенке прислонен какой-то конверт. С лихорадочной поспешностью Элиот схватил его, разорвал, вынул единственный листок бумаги, прочел и закрыл глаза.
— Этого я и боялся, — проговорил он каким-то потусторонним голосом.
— Чего же, ради Бога? — спросил я.
Он медленно обернулся. Никогда не видел я на человеческом лице выражения столь ужасающего страдания.
— Взгляните на дату, — сказал он, показывая. — Четвертое августа. — Плечи его опустились. — Вот когда она приезжала сюда. Помню, она говорила мне, что ей надо съездить в Уитби по неотложному делу. Теперь ясно, что это было за дело.
— Но люди на вокзале Кингс-Кросс… — запротестовал я. — Они видели, как вчера вечером она садилась в поезд. Она и ребенок Люси…
При упоминании о юном Артуре Элиот вздрогнул.
— Она… они… могли сесть в поезд на Йорк, — медленно произнес он. — Но в Йорк так и не приехали. Нет, — продолжал он, изучая записку, — та, за кем мы гонимся, сошла на первой же остановке и вернулась в Лондон, а мы поехали дальше и не нашли ничего, кроме вот этой, заранее подготовленной насмешки. Она была уверена, что мы проглотим наживку. — Он в отчаянии потряс запиской. — Да что говорить, она даже подписалась!
— Дайте взглянуть, — попросил я.
Элиот пожал плечами и протянул мне записку.
— «Хорошо сработано, Джек, — прочел я вслух, — да не совсем. Вы сильно опоздали. Розамунда, леди Моуберли, она же Ш. В.». — Я взглянул на Элиота. — А что значит Ш. В.?
— Настоящие инициалы женщины, которую мы преследуем. Ей теперь не нужно скрывать, кто она Наше преследование было бессмысленно.
— Не совсем, — заговорил до сих пор молчавший профессор, хватаясь за кирку.
— Вы что? — вскричал я, видя, что он собирается вскрыть гроб.
— Все же и здесь мы можем сделать кое-что полезное.
— Это могила миссис Харкорт? — спросил Элиот.
Профессор замахнулся было киркой, но потом указал на имя на надгробии и кивнул.
— Давайте поможем, — предложил Элиот. — Стокер, прошу вас, вы сильней любого из нас…
— Я не стану участвовать в осквернении!
— Стокер, — проговорил профессор, — мы стремимся не к осквернению, а к свершению акта величайшего милосердия. Помогите нам, и я вам все объясню. Раньше я не мог сказать вам этого — вы бы мне не поверили… пока не увидели бы весь ужас своими глазами. — Он передал мне кирку. — Прошу вас, мистер Стокер. Верьте мне. Прошу вас.
Я поколебался, но взял кирку и поддел каменную крышку гробницы. Вес был огромен, но наконец крышка поддалась, и со стоном напряжения я сдвинул ее. Из открывшейся тьмы поднялся смрад гниения и смерти. Я нагнулся поближе, и в это время спичка, которую Элиот держал, прикрывая ладонями, замигала и погасла. Я услышал, как он шарит в коробке, торопясь зажечь другую спичку, и вдруг застыл, ибо в склепе неожиданно раздался другой звук, какое-то пощелкивание, и доносилось оно из гробницы, только что вскрытой мною. Мы замерли, и пощелкивание возобновилось, гулко раздаваясь в тишине. Послышалось чирканье зажигаемой Элиотом спички.
Вновь прикрыв пламя спички ладонями, Элиот поднял ее над открытой гробницей. Я вгляделся, и сердце мое похолодело. Там, среди заплесневелых обрывков одежды, лежал скелет, слепо глядя на нас провалившимися глазницами. Но труп миссис Харкорт — ибо я счел, что это она, — был не один. Рядом лежал второй труп, не скелет, а тело с изможденным и изборожденным морщинами лицом. Глаза на этом лице были открыты и ярко сверкали. Труп был живым! Это существо (я говорю «существо», потому что оно ничем не напоминало девушку) было живо! Рот его при виде нас широко открылся, и в нем сверкнули зубы, острые, как клыки зверя, а когда оно сомкнуло челюсти, раздалось щелканье, которое мы только что слышали. Инстинктивно я понял, что эта тварь жаждет крови. Не знаю, как я определил это: может быть, по жестокости в ее глазах или по сухости кожи, многовековым пергаментом обтянувшей скулы твари, но какова бы ни была причина, я знал — да, знал, с ужасом и полной уверенностью, — что именно мы нашли.
Я обернулся к профессору.
— Это Розамунда Харкорт? — спросил я.
Он кивнул.
— Она… — я не мог произнести это слово.
— Вампир? — эхом отозвалось от холодных каменных стен. Профессор еще раз повторил это слово и кивнул самому себе. — Да… Два года она пролежала здесь с той ночи перед свадьбой. Помните, мистер Стокер, домохранительница Харкортов сказала, что кто-то ломился в склеп? Тогда-то Розамунду и принесли сюда, а ее место заняло отродье, за которым мы охотимся. Какая жестокая судьба, — прошептал он, — вдвойне жестокая. Погребена вместе с телом матери, в думах о крови, медленно деградируя в существо, которое сейчас перед вами. Существо слишком слабое, чтобы подняться, чтобы просто пошевелиться.
Вновь раздалось голодное щелканье челюстей вампира Профессор посмотрел на нее почти с нежностью и взялся за кирку.
— Не смерть мы ей несем, она уже умерла, а возвращение. Возвращение в поток жизни.
Он приставил кирку к сердцу этого существа. Руки его не дрогнули. Замахнувшись, он со всей силы опустил острое орудие. Существо в гробу задергалось, и из безгубого рта раздался ужасающий, морозящий кровь в жилах, пронзительный крик. Тело забилось в диких судорогах, белые зубы сжались до того, что лопнули десны, а на губах появилась черная пена Профессор размахнулся киркой и ударил еще раз. Из раны по истощенной плоти потекла черная слизь. Профессор взялся за заступ и резко ударил им, так что шейная кость существа сломалась, и голова отделилась от туловища. Тело дернулось и замерло в неподвижности. Ужасное существо было наконец мертво. Наше неприятное дело в этом месте смерти было завершено.
Но не в остальном мире. Не стану описывать, с какой поспешностью мы покинули кладбище. На станции мы сидели долго и только в семь часов смогли выехать в Йорк, а прибыв туда, прождали еще час поезд на Лондон. Элиот воспользовался этим временем, чтобы дать телеграмму Весткоту, но ответа мы не получили, хотя Элиот просил об этой услуге, так что наш страх перед таинственной Ш. В. и опасения за Люси и ее пропавшего ребенка еще больше возросли. Я вспомнил о сомнениях Элиота, о его неохоте ехать в Уитби и почувствовал особую вину, ибо это я убедил его сопровождать нас. Поскольку бегство Ш. В. оказалось всего лишь уловкой, рассчитанной на то, чтобы выманить нас из Лондона, наша дьявольская противница, вернувшись в столицу намного раньше нас, могла совершить Бог знает какие ужасные злодеяния. Я сомневался в том, что мы сможем найти юного Артура Рутвена, ибо у Ш. В. был целый день на то, чтобы отделаться от ребенка и замести следы. Все следы, которые мы сейчас найдем, давно остыли. А что касается Люси — дражайшей Люси, — я страшился и думать о том, что может ей угрожать.
В Лондон мы возвращались целую вечность. Мы дремали, а после того как выспались, профессор рассказал мне, что представляет собой наша противница — вампир, самое ужасное создание суеверий и мифов, поднявшееся преследовать нас из тумана времени, бродящее ныне по Лондону, в наш просвещенный, скептический, полный здравомыслия девятнадцатый век. Я до сих пор считаю, что в это почти невозможно поверить, и вместе с тем не сомневаюсь в реальности увиденного мной предыдущей ночью.
— Вампиров знали везде, где только ни побывал человек, — рассказывал профессор. — Так почему бы им не быть и в наши дни? Почему вы думаете, что наш век какой-то привилегированный?
Элиот слушал его, кивая, но сам ничего не говорил. Я знал, что он размышляет над своей ошибкой. Зловредная Ш. В. поразила его в самое сердце.
Наконец-то наш поезд застучал на стрелках вокзала Кингс-Кросс — было без нескольких минут пять. Через четверть часа мы стучались в двери на Мид длтон-стрит. Открыл нам сам Весткот с лицом нервным и осунувшимся.
— Ваша телеграмма… — проговорил он. — Я вернулся слишком поздно и не смог ответить. Все в порядке?
— Это вам надо бы сказать, тйк ли это, — ответил Элиот. — Люси…
— В порядке. За ней сейчас ухаживает моя сестра.
— Ваша сестра? — воскликнул Элиот.
— Да. — Впервые за долгое время я увидел, что Весткот улыбнулся, — Вот где я был утром, когда пришла ваша телеграмма, — встречал сестру на вокзале Ватерлоо. Она прибыла в Англию вчера вечером, а в Лондон — сегодня в девять часов. Почти все утро она с Люси, моя дорогая сестричка. Они так понравились друг другу, словно они подруги с давних лет. Сестра моя тоже перенесла ужасные страдания. Но, как и Люси, Шарлотта всегда была сильной.
— Шарлотта? — Элиот вдруг отшатнулся.
— Дорогой мой, — воскликнул Весткот, — вам плохо?
Элиот уставился на него с выражением ужаса на лице.
— Ваша сестра, — медленно произнес он, — Шарлотта наверняка написала вам письмо… записку… с сообщением, что она прибудет на вокзал Ватерлоо?
— Да, — озадаченно кивнул Весткот и, пошарив в кармане, вынул конверт.
Элиот выхватил конверт у него из руки. Беглый взгляд на почерк полностью удовлетворил его.
— Ш. В., — прошептал он, повернулся и ринулся прочь из комнаты.
Профессор тоже понял, в чем дело, и вслед за Элиотом уже взбегал по лестнице. Через секунду дошло и до меня.
— Ш. В.! — вскричал я. — Шарлотта Весткот!
— Что такое? — в отчаянии спросил Весткот. — Что тут, Бога ради, происходит?
Я схватил его за руку, и мы стремглав понеслись по лестнице. У входа в спальню Люси Элиот на мгновение замешкался, проверяя револьвер, а потом распахнул двери и вбежал внутрь. Один за другим мы последовали за ним.
Целую вечность мы стояли, замерев на месте при виде открывшейся нам сцены. Не хватает слов описать ее ужас и чувство отвращения, поднявшееся у меня в груди. На постели лежала совершенно голая Люси, тихо постанывая и ерзая на простынях. Ее груди, живот и бедра были вымазаны кровью. А над ней, разжимая коленями ноги Люси, склонилась молодая женщина. Губы ее тесно прижались к одной из грудей Люси, а рукой она… Нет, я до сих пор краснею, вспоминая это. Если бы я собственными глазами не видел все ее развратные действия, то счел бы такое невозможным, а посему не стану осквернять своего рассказа описанием. Несколько секунд, что мы стояли остолбенев, эта женщина продолжала заниматься тем, за чем мы ее застали, — тесно прижавшись к обнаженной плоти Люси, она пила кровь из окровавленной груди. Затем с какой-то нарочитой, издевательской медлительностью она приподняла голову и взглянула на нас. Ha. ее лице отражалось хищное сладострастие, одновременно возбуждающее и отталкивающее. Запрокинув голову, она облизнула губы в почти чувственном наслаждении, улыбнулась, и я увидел следы крови Люси на ее острых белых зубах.
— Привет, Джек, — произнесла она, откидывая волосы со лба и вставая. — Ну как там Уитби? Надеюсь, вы не очень скучали?
— Боже мой! — вскричал Весткот, к которому наконец вернулся дар речи. — Шарлотта! Что это?
Женщина вновь улыбнулась и насмешливо взглянула на Люси, продолжавшую метаться в постели.
— Поздравляю тебя с такой женой, Нэд. Никак не могла понять, что ты в ней нашел, в этой неотесанной потаскушке, но сейчас, когда поимела ее, почти понимаю это. Кто знает? Может, я придержу ее для себя…
Весткот вдруг пронзительно выкрикнул что-то в неразборчивом вопле ужаса и ярости. Он выхватил револьвер из руки Элиота и, прицелившись в сестру, выстрелил. Пуля попала ей в плечо, из раны ударила кровь. Но женщина лишь засмеялась и… начала таять на наших глазах, превращаясь в пар, который поднялся и вылетел в окно, бесследно исчезая в ночи. Профессор бросился к окну, а Элиот и Весткот — к Люси. Люси потрогала себя за грудь, подняв испачканные кровью пальцы к глазам. Узрев их, она издала такой дикий и отчаянный крик, что, мне кажется, он будет звучать у меня в ушах до скончания жизни. Весткот попытался удержать ее, но она испуганно вырывалась из его рук, глядя на окно и все время испуская стоны. Лицо ее было ужасно, кровь, размазанная по губам, щекам и подбородку, еще более подчеркивала ее смертельную бледность, все тело было измазано кровью, стекавшей из ранок рубиновыми струйками.
— Я застрелил ее? — крикнул Весткот, все удерживая жену. — Ради Бога, профессор, моя сестра мертва?
Профессор запер окно и медленно покачал головой.
— Я доберусь до нее! — кричал Весткот. — Боже мой, я заставлю ее заплатить, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни.
Профессор ничего не сказал, лишь взглянул на Элиота, и я увидел крайнее замешательство и ужас в его глазах. Мне подумалось, а знает ли он, как убить вампира, и есть ли у нас какая-нибудь надежда.
Позднее, в тот же вечер, перевязав Люси и дав ей успокоительное, мы собрались на совещание в гостиной. Элиот рассказал Весткоту о том, как мы гнались за женщиной, которую он знал в качестве леди Моуберли, после чего, отвечая на полные неверия вопросы бедняги, профессор объяснил суть вампиризма и рассказал о его распространенности в стране, о которой я уже много слышал, в королевстве Каликшутра, где пропала сестра Весткота.
— Пропала во всех смыслах, — пробормотал Весткот, — провалилась в ад. Есть ли для нее какая-нибудь надежда, как вы думаете?
Профессор сжал руку Весткота, и жест этот сказал больше, чем любые слова.
— Так, значит, письма, — пробормотал Весткот, — которые я получил от младшего офицера, находящегося в подчинении у моего отца., все фальшивые? Все до единого — подделка?
Профессор кивнул, не говоря ни слова.
Весткот обхватил голову руками.
— И не надо было искать ее в Индии, потому что все это время она была в Англии. Какой же я был идиот! — вскричал он. — Какой болван! Но как я мог знать? — Он поднял голову, и взгляд его умоляюще забегал по нам. — Разве я мог догадаться, что моя сестра была., что она стала..
— Вампиром? — вдруг заговорил Элиот. — Да, именно этим словом вам следует называть ее. Я понимаю, его даже произнести трудно, не говоря уж о том, чтобы представить себе тот ужас, который оно означает. Но надо. Ибо они плодятся из-за скептицизма своих жертв, что я слишком хорошо знаю по себе.
Бедняга Весткот запустил пальцы себе в волосы:
— Но почему? Каковы ее цели? Зачем эта игра в леди Моуберли?
— По-видимому, она была чьим-то агентом.
— Агентом?
— К сожалению, это очевидно. Ваша сестра пропала в Каликшутре, считалось, что она мертва, но на самом деле, как нам теперь известно, она вернулась в Англию служить целям тех, кто сделал из нее то, во что она превратилась, — вампира, создание их воли. И в этом облике она поехала в Уитби, где уничтожила будущую невесту сэра Джорджа и заняла ее место.
— Но откуда такой интерес к сэру Джорджу? — неверяще спросил Весткот. — Зачем забираться так далеко?
— Потому что сэр Джордж как раз в то время вошел в Индийский кабинет, отвечал за границы в Индии, а на этих границах, как вы помните, расположена Каликшутра Не забывайте о своеобразных обстоятельствах помолвки сэра Джорджа: он не видел будущую жену почти семь лет, чем подписал себе и ей смертный приговор, ибо именно поэтому самозванку никто не разоблачил Вашу сестру схватили и заставили подчиниться воле того, кому нужна была такая самозванка, чтобы защитить Каликшутру от возможной аннексии. Ей нужен был агент в постели министра.
— Ей? — воскликнул Весткот. — Кому «ей»?
Элиот не ответил, продолжая пристально вглядываться во тьму на улице.
— Ответьте же Элиот! Кто эта «она»? Черт возьми! — вскричал Весткот с внезапной яростью. — У этой «нее» может оказаться Артур, мой сын!
Элиот повернул к нему голову.
— Нет, — медленно произнес он.
— Что вы хотите сказать?
— У леди Моуберли, у Шарлотты, ваш ребенок. Забудьте о той, другой. Вам до нее не добраться. Мы должны охотиться за вашей сестрой.
— Но почему вы так уверены, что Артур именно у нее?
— Потому что у Шарлотты свой собственный интерес к вашему сыну.
— Что вы имеете в виду?
Элиот подошел к Весткоту и коснулся его плеча.
— Когда Люси вышла за вас замуж, — тихо продолжил он, — перед Шарлоттой встала неожиданная проблема. Этот брак мог раскрыть ее подлинную сущность. Отсюда отказ встречаться с вами. Но замужество Люси также доставило ей неожиданное удовольствие. Вы помните, ей не терпелось увидеться с Люси, после того как родился ваш ребенок?
— Да. Но, по-моему, это вы склоняли ее к сближению с моей женой.
Элиот виновато потупил голову, но Весткот не заметил этого. Его лицо вдруг онемело от прихлынувшего страха.
— Продолжайте, — прошептал он наконец.
Элиот глотнул воздуха:
— Вампиров тянет к родственной крови.
— К родственной?
— К крови родственников, — вмешался профессор. — Это доставляет им, как сказал Джек, особое наслаждение.
— Вы имеете в виду Артура? —
Весткот уставился на него в ужасе, не веря услышанному. — Моего сына? Шарлотту влечет кровь ее собственного племянника?
Профессор помялся и вздохнул:
— Боюсь, что да.
Лицо Весткота исказилось:
— Тогда она уже…
— Убила его? — профессор покачал головой. — Это, конечно, возможно. Однако на основании изучения этих существ я бы сказал — маловероятно. По-видимому, существует некое правило не трогать детей, пока они не вырастут и не принесут потомство.
— Потомство?
— Линия крови… — тихо пояснил профессор. — Должно быть продолжение рода, так сказать. Если кому-нибудь и грозит опасность с ее стороны…
— Да?
— Боюсь, что этот человек — вы.
— Да, конечно, конечно. — По лицу Весткота вдруг разлилось облегчение. — Значит, есть надежда? Мой сын может быть еще жив? Вы думаете, это возможно?
— Уверен, что надежда еще есть.
— Но как нам разыскать его?
— Это может оказаться трудным делом, — вздохнул Элиот. — Пока мы в Йоркшире гонялись за ветром в поле, у вашей сестры было полно времени, чтобы спрятать вашего сына. Судя по тому, как она организовала остальную часть своего заговора, ее укрытие тщательно подготовлено.
— Что же нам делать? Ведь нельзя ждать здесь, ничего не предпринимая.
— У нас нет иного выбора, — возразил профессор. — К тому же, остается ваша жена, ее нужно защищать.
— Да, — сказал Весткот, — да, конечно… — Он, похоже, вновь воспрял. — Уж она-то, насколько мы знаем, еще жива.
— Именно так! — вскричал профессор, хлопая в ладоши. — И давайте сделаем все, чтобы она оставалась в этом состоянии. Во всяком случае, мы еще не побеждены.
Когда он произнес это, я почувствовал, что он в это верит. Мы вчетвером продолжали строить планы, и при знании профессором мира бессмертных, при пытливом уме Элиота и храбрости Весткота я мог надеяться, что игра еще не проиграна. Профессор с большим энтузиазмом заговорил о растении под названием «киргизское серебро», безотказном средстве от вампиров, и сказал, что на следующий день съездит в Кью и там, в теплицах, поищет это растение. Тем временем Элиот будет лечить Люси, Весткот — охранять ее, а я — стоять на страже. Так оно и случилось.
В ту ночь в комнате Люси дежурили я и Весткот. Бедняжка крепко спала под воздействием успокоительного. Хотя она иногда шевелилась и бормотала что-то во сне, я, глядя на ее дорогое, милое лицо, вспоминал, какой Люси была месяц назад, и молился за то, чтобы она поскорей вернулась ко всем нам. Мои надежды, по которым недавние события нанесли такой удар, начали оживать.
А в четыре часа, незадолго до того как мы должны были смениться, я услышал донесшийся с улицы стук колес экипажа. Он остановился прямо у двери Весткотов. Прошло несколько минут, но экипаж так и не уезжал. Обеспокоенный, я подошел к окну и взглянул вниз на улицу. Экипаж стоял прямо подо мной. Из него высунулась фигура в плаще, нюхая воздух или же, как я догадался, вдыхая запах крови. На долю секунды он (или она — я не различил, был ли это мужчина или женщина) глянул вверх, на меня. Я заметил только, что глядевший был крайне бледен, потому что фигура сразу же забилась в экипаж, который тронулся с места и поехал дальше. Даже сейчас я не уверен, кого именно увидел тогда Сначала я предположил, что это Шарлотта Весткот, но беседа, которую я подслушал несколькими часами позже, когда на дежурство заступили профессор и Элиот, насторожила меня — они говорили, что это могла быть таинственная «она».
— Я должен навестить ее, — все время повторял Элиот, — и вы это знаете. Только так мы сможем найти решение. Я должен навестить ее.
— Это очень опасно, — упорно не соглашался профессор. — Она смертельно опасна.
Я напряг слух, стараясь услышать побольше, но голоса их зазвучали тише, и о чем они еще говорили я не мог сказать. В одном, однако, я уверен: женщина, о которой шла речь, не была Шарлоттой Весткот.
Несмотря на чувство беспокойства, спал я хорошо, ибо два последних дня сильно утомили меня, и проснулся только около полудня. Я встал и, поднимаясь по лестнице в спальню Люси, встретил спускающегося оттуда профессора Едва лишь взглянув на него, я понял, что случилось нечто скверное, и спросил, как дела. Не отвечая, он повернулся и повел меня в спальню Люси. Элиот склонился над своей пациенткой с усталым и расстроенным видом, и довольно скоро я понял причину его расстройства — Люси была привязана к постели, она непроизвольно содрогалась и шипела, как змея, а лицо ее было пародией на ту прежнюю Люси, которую я так хорошо знал. Сейчас на нем царили лишь жестокость, сладострастие и хищность. Я наклонился над Люси, и, когда она увидела меня, в глазах ее вспыхнул какой-то зловещий огонь, а лицо исказила развратная гримаса.
— Освободите меня, Брэм, — прошептала она— Вы же всегда хотели меня, не правда ли? Меня, такую свежую, нежную, не то что ваша жена. — Она засмеялась. — Мои объятия ждут вас Освободите меня, и мы с вами хорошо отдохнем. Освободите же меня, Брэм, освободите!
В ее голосе было что-то дьявольское, он звучал, как скрежет стекла, по которому провели ножом, и мне оставалось только отвернуться от нее.
— Боже мой, — обратился я к Элиоту, — что с ней случилось?
Губы его сжались.
— Очевидно, болезнь распространилась по ее венам, — сказал он.
— И вы ничего не можете сделать? — спросил я.
— Я взял пробу крови. Попытаюсь провести испытания. Однако, — помедлил он, — буду с вами откровенен — надежд у меня нет.
— И все же могут найтись способы лечения за пределами науки, — вмешался профессор, направляясь к двери. — Я тоже покидаю вас. Внизу меня ждет кэб, он отвезет меня в Кью, увидим, как действует киргизское серебро…
Он склонился в индийском поклоне и стал спускаться по лестнице. Элиот вскоре последовал за ним. Я остался наедине с… хотел написать «Люси», но это существо только носило имя Люси и обладало ее телом, ибо от прежней милой Люси совершенно ничего не осталось. Девушка, которую я знал, исчезла, и, сидя там в тот день, я чувствовал себя словно на похоронах Люси.
И вот сейчас, с сердцем, объятым ужасом, я приближаюсь к кульминационному пункту этого повествования. Во второй половине дня ко мне присоединился Весткот. Его явно предупредили о состоянии Люси, ибо он тщательно пытался скрыть свои страдания и терпеливо сидел у ее постели, несмотря на сочетание лести и ругани, при помощи которых она пыталась добиться своего освобождения. Теперь я понял, что сильно недооценивал Эдварда, потому что человек, с которым мы вместе сидели, был мужем, достойным любви Люси. Проходили часы, и крепость характера Весткота была испытана до самых пределов, но он ни разу не отступил от своего долга перед женой.
Около шести часов раздался стук в дверь. Весткот вышел из комнаты и встал, прислушиваясь, на балконе. Похоже было на то, что принесли письмо: к Весткоту подошла горничная, а когда он вернулся в комнату Люси, из кармана его пиджака виднелся конверт. Однако он не сказал, что в письме, а я не стал нажимать на него, решив, что это частное дело. Весткот сел рядом с Люси, взял ее за руку, но она выдернула ее. Он пытался удержать ее, и она плюнула ему в лицо. Мне было больно смотреть на выражение лица бедняги. Он встал — в ушах его все еще звучал ее смех — и подошел к окну, сжимая и разжимая кулаки.
— Не могу больше это выносить, — сказал он, когда я подошел к нему.
— Остальные скоро придут, — ответил я, стараясь утешить его.
— Да, — отчаянно заговорил Весткот, глядя на жену. — Но когда? Их уже так долго нет. — Он жестом показал на Люси. — Взгляните на нее, Стокер. Ей все хуже и хуже. Нужен Элиот. Мне надо съездить и привезти его.
— Лучше подождать, — повторил я.
— Мы не можем ждать, — покачал головой Весткот, заглядывая мне в глаза— Прошу вас, Стокер, съездите за Элиотом. Скажите ему, что это срочно.
— Я не хочу покидать вас.
— Черт возьми, — выругался он, — беспокоиться нужно о моей жене, а не обо мне. Да посмотрите же на нее, — вновь указал он на Люси. — Ей нужен Элиот как можно скорее. Сейчас же, Стокер, немедленно!
Короче говоря, я понял, что его иначе не утихомирить, кроме как исполнить то, что он хочет. Но в Уайтчепель я поехал с тяжелым сердцем, все время погоняя извозчика, чтобы он ехал быстрее. Элиота я застал за напряженной работой, согнувшимся над стеклышками микроскопа и пробирками, но как только я объяснил ему ситуацию, он встал и немедленно последовал за мной. Пока мы ехали, он сказал мне, что надежды мало — его исследования, как оказалось, идут не очень хорошо. Во мне же начало нарастать сожаление о том, что я оставил Весткота наедине с женой. К несчастью, по дороге из Уайтчепеля движение экипажей усилилось, и до дома Весткотов мы добирались довольно долго. Наконец мы подъехали к его дверям, и, как только горничная открыла на наш отчаянный стук, я сразу принялся расспрашивать ее, все ли в порядке в доме. Недоумевая, она сказала, что, конечно же, все в порядке. Хозяин и хозяйка так и оставались наверху, к ним даже приходила гостья.
Я сразу замер.
— Что за гостья? — поинтересовался я.
— Сестра хозяина, — ответила горничная. — Мисс Весткот приходила с Артуром…
Мы рванулись вверх по лестнице.
— Мисс Весткот ушла минут двадцать тому назад, — крикнула горничная вслед.
Я едва расслышал это ее замечание, а когда ворвался в комнату Люси, то увидел, что она пуста. На полу валялись разорванные ремни, которыми Люси была привязана к постели. До меня наконец дошло, что сказала горничная.
— Она увела Люси! — вскричал я, цепенея от ужаса, что это все-таки случилось, и мешком оседая на постель.
— Эй, — позвал Элиот из-за открытой двери.
— Что там? — спросил я, еле подняв голову.
Элиот закрыл дверь, и я увидел, что за ней у стены стоит кресло. В нем расслабленно лежал Весткот, будто дремал после обеда. Элиот приподнял его голову за подбородок, и, к своему ужасу, но едва ли удивлению, я увидел, что Весткот мертв. Кожа его была неестественно бледной, а кости под плотью стали хрупкими и тонкими. В горле и животе его зияли страшные раны, но кровь не текла Элиот продолжал осматривать его.
— Совершенно обескровлен, — наконец сказал он. — В нем не осталось ни капли крови. Странно…
— Почему? — поинтересовался я, когда его голос затих. — Ведь это сделала его сестра?
— О, это очевидно, — ответил Элиот. — Но странно не это. Странно, что он не сопротивлялся. Сидел здесь и ждал конца.
Он хмурился все больше, и вдруг его изможденное лицо прояснилось. Наклонившись, он вынул что-то из кармана Весткота.
— Вы говорили, что он получил письмо. — Элиот протянул мне конверт. — Это?
Я быстро осмотрел конверт и кивнул.
— И, получив письмо, Весткот сразу потребовал, чтобы вы ехали за мной?
Я опять кивнул.
Элиот вынул письмо из конверта.
— Давайте же посмотрим, что в письме, — пробормотал он как бы про себя, пробегая по бумаге взглядом. — Почерк, по крайней мере, знакомый. Леди Моуберли, или Шарлотты Весткот… Что ж, вот оно, письмо, — и он начал читать вслух: — «Дорогой Нэд, ничего не выйдет, ты же знаешь. Тебе меня никогда не победить. Спроси у Джека Элиота — он скажет то же самое, поскольку в глубине души знает это. Но я тебе предлагаю сделку. Мне нужна кровь кого-нибудь из Весткотов, если не твоя, то подойдет кровь любого другого Весткота Думаю, ты меня понимаешь. Жизнь за жизнь, Нэд, — твоя за жизнь твоего сына. Что скажешь? Сейчас с тобой один из твоих друзей. Отошли его куда-нибудь. Когда увижу, что он выходит, приму это за сигнал твоего согласия на мое предложение и сразу приду к тебе. Очень сожалею, Нэд. Но как ты уже, наверное, понял, я больше не принадлежу себе. Такова есть — или, вернее, была — жизнь. Твоя любящая сестра Ш.».
Элиот медленно сложил письмо, вновь взглянул на Весткота и закрыл глаза.
— Вы думаете, Весткот согласился? — спросил я. — И позволил ей выпить свою жизнь?
— Очевидно.
Меня вновь поразил ужас картины, которую мы застали. Оглядевшись вокруг, я убедился, что Артура все-таки забрали. В комнате его не было.
— Она предала его, — горько произнес я. — Он отдал ей свою жизнь, а она все равно предала его.
Элиот тоже осматривал комнату.
— Я в этом не совсем уверен, — наконец изрек он.
— То есть как это? — спросил я.
— Тут какая-то тайна. — Он показал на дверь. — Видите отпечатки рук, там внизу?
Я не заметил их раньше, но теперь увидел, что Элиот совершенно прав: там были отпечатки рук — крошечные… и окровавленные.
— Их мог оставить только ребенок, — продолжал Элиот, — что подтверждает показания горничной: Артур действительно был здесь. И это неудивительно — Весткот вряд ли добровольно распрощался бы с жизнью, если бы Шарлотта не привела с собой Артура. Но есть предположение, что отпечатки были оставлены, после того как Шарлотта ушла. Когда же еще ребенок мог испачкать руки в крови? Не во время же нападения — это слишком маловероятно. Скорее всего, тогда, когда его бросили здесь с трупом отца. Он тянулся к отцу за лаской, а когда не получил ее — попытался выбраться, царапаясь в дверь. Да, — проговорил Элиот, вновь всматриваясь в отпечатки, — это совершенно очевидно.
— Но в таком случае… — медленно сказал я. — Где же тогда ребенок?
Элиот жестом показал на окна. Тут я заметил, что они открыты и, несомненно, взломаны, ибо стекла были выбиты снаружи и пол усеивали осколки.
— Так вы думаете… — глотнул я воздуха, — что кто-то проник в комнату?
Элиот еле заметно кивнул.
— Но Шарлотта… когда забрала Люси… они же ушли через парадную дверь. Их видела служанка.
— Значит, — промолвил Элиот, — тут побывал еще кто-то, кроме нее.
— Вы имеете в виду еще одного вампира?
Он слегка пожал плечами, что можно было принять за согласие.
— Кто же это? — спросил я.
— Это тайна.
И тайной осталось. Все это время я был уверен, что у Элиота есть подозрения, и последующие события лишь убедили меня в данном предположении. Ибо вторую половину того дня Элиот стремился преследовать кого-то, кто, как он полагал, решит все дело. А когда профессор вернулся из Кью и сам увидел происшедшую катастрофу, Элиот заговорил с ним о том же, что я подслушал предыдущим вечером. Опять упоминалась «она», против которой нужно было выступить — не Шарлотта, а какая-то другая, еще более страшная женщина. Однако профессор отказывался предпринимать такую попытку без подготовки. Будучи храбрым человеком, профессор все же продолжал настаивать, что эта женщина еще слишком опасна, и требовал, чтобы Элиот отложил свою миссию. Элиот с явной неохотой согласился, и на этом закончился вечер того ужасного дня. Перед тем как попрощаться, профессор дал нам по луковице киргизского серебра, пообещав, что это растение предохранит нас от жажды вампира. Растение оказалось очень примечательным и каким-то не от мира сего. С тех пор я всегда ношу его при себе.
Носил ли его с собой Элиот — так и не удалось узнать. Ибо, несмотря на обещание отложить расследование, в тот же самый вечер он исчез. С тех пор ни профессор, ни я не видели его. В своем кабинете он не оставил никаких записок, ни клочка бумаги — исчез столь же внезапно, как Люси и ее ребенок. Интересно, доведется ли нам когда-нибудь вновь увидеть кого-либо из них? Мы с профессором продолжили поиски, но у нас было очень мало зацепок, а те ниточки, которые были, вскоре оборвались. Профессор сообщил мне, о чем я вначале не догадывался, — женщина, о которой он говорил с Элиотом, живет в Ротерхите, в том же самом складе, из которого мы спасли сэра Джорджа. Как только выяснилось, что Элиот исчез, мы сразу поспешили туда, но там не оказалось и следа склада — он исчез! Даже лавка Полидори была заколочена досками, и, вломившись внутрь, мы не нашли ничего, что помогло бы нам в поисках.
Трудно сказать, что мы еще можем сделать. Мы, конечно, связались с полицией, но распутать подобное дело оказалось им не под силу. Да сейчас и не до того. В последнее время полиция занимается в основном убийствами в Уайтчепеле — публика требует найти того, кто их совершает. Так что мы действуем, как и раньше: самостоятельно. Профессор убежден, что так и должно быть. Он знает, что разговоры о реальности существования вампиров чаще подвергаются осмеянию.
Но, несмотря на весь опыт профессора, мы не продвинулись в решении этого дела: Элиот, Люси, ее ребенок — все исчезли, а вампиры разгуливают Бог знает где. Возможно, они таятся где-нибудь в зловещей тени — не только Шарлотта, но и таинственная безымянная «она». Остается только надеяться, что в наших расследованиях все же наступит прорыв, хотя я в этом сомневаюсь. Мне не хотелось бы заканчивать повествование на столь скорбной ноте, но поскольку я намеревался ничего не выдумывать, то я завершаю его, как и начал, описывая чистую правду. И засим откладываю перо свое в надежде, что придет день и у меня найдется повод вновь взять его в руки. Молю Бога о том, чтобы, когда это случится, я смог написать что-нибудь более радостное.
Письмо профессора Хури Джьоти Навалкара мистеру Брэму Стокеру
Блумсбери-сквер, 16.
20 сентября 1888 г.
Уважаемый мистер Стокер!
Большое спасибо вам за то, что дали мне почитать ваше повествование. Надеюсь, оно точно во всех деталях. Если пожелаете и впредь заниматься вампирологией, могу порекомендовать вам написанную мною книгу «Мифы о вампирах в Индии и Румынии. Сравнительное исследование». Хотя хвалить себя и нескромно, это отличный труд. Однако будьте внимательны! Суть вампира не меняется, но понимание этой сути в различных культурах может варьироваться. Как британцу, вам может быть более знакома румынская разновидность, чем разновидность индийская. Могу предложить вашему вниманию главы о Трансильвании. Весьма любопытно.
Я тоже вспоминаю беседу, когда мы обсуждали ваше намерение переработать сие повествование в роман или пьесу. Очень любезно с вашей стороны, должен признаться, намерение сделать меня прообразом героя в этом произведении. Хотя, мистер Стокер, настоятельно прошу вас отказаться от этой идеи. Если вы сделаете меня героем романа, то я уже буду совсем и не я. Фантазируйте, мистер Стокер, всегда фантазируйте. Иначе вам вообще не поверят.
Как узнаю что-либо новое, сразу же сообщу вам. Что же до сведений о судьбе нашего дорогого друга, то надежды, увы, угасают с каждым днем.
Будьте осторожны, мистер Стокер.
Ваш коллега
Хури Джьоти Навалкар.
Отчет, составленный инспектором-детективом Стивом Уайтом о событиях, произошедших 30 сентября 1888 года
В течение пяти ночей мы вели наблюдение за определенным проулком сразу за Уайтчепель-роуд. Войти в него можно было лишь с той стороны, где в укрытии сидели два наших человека, так что все, кто входил в проулок, попадали под наблюдение наших людей. Когда я прибыл на место принять рапорт, была пронизывающе холодная ночь. Я уже уходил, но вдруг увидел, что из проулка появился человек. Я посторонился, пропуская его, и, когда он оказался под уличным фонарем, хорошо его рассмотрел.
В нем было около пяти футов десяти дюймов росту, одежда его была довольно поношена, хотя и из хорошего материала. Лицо — длинное и тонкое, ноздри — изящной формы, волосы — черные как смоль. Цвет лица у него был несколько желтоватый, будто какое-то время он жил в тропиках. Однако более всего в нем поражал необычный блеск глаз. Они светились во тьме, словно два ярких светлячка. Плечи человек слегка сутулил, хотя он был довольно молод — лет тридцати трех, не более. С виду он походил на студента или на человека свободной профессии. Руки его были белы как снег, пальцы — тонкие и сужающиеся к кончикам.
Когда человек прошел мимо, я почувствовал в нем что-то необычно зловехцее и стал искать какой-нибудь предлог задержать его, но чем больше думал об этом, тем больше склонялся к заключению, что тем самым нарушу методы работы британской полиции. Единственным предлогом воспрепятствовать прохождению этого человека могла быть его связь с тем, кого мы разыскивали, а у меня не было явных причин связать его с убийствами. Правда, интуиция вроде подсказывала мне, что с этим человеком не все в порядке. Но, с другой стороны, если все в полиции будут действовать интуитивно, сразу участятся протесты против ущемления свобод граждан, а в то время полицию и так достаточно критиковали, так что рисковать было нежелательно.
В нескольких футах от меня человек споткнулся, и под этим предлогом я заговорил с ним. Он резко обернулся на звук моего голоса и угрюмо взглянул на меня, но сказал-таки: «Доброй ночи!» — и согласился со мной, что похолодало.
Голос его удивил меня — тихий, музыкальный, с легким оттенком меланхолии, голос культурного человека, никак не вяжущийся с жалкими трущобами Ист-Энда.
Когда он отошел, один из полицейских выглянул из дома, где прятался, и сделал несколько шагов по проулку.
— Эй, что это? — вдруг встревоженно крикнул он и подозвал меня.
В Ист-Энде мы привыкли к разному, но от увиденного у меня кровь заледенела в жилах. В тупике у стены лежал труп женщины, и в канаву из ее тела тек ручеек крови. Это было еще одно из этих ужасных убийств. Я вспомнил про встреченного мною человека и погнался за ним, но он словно растворился в темном лабиринте убогих улочек Ист-Энда.
Телеграмма профессора Хури Джъоти Навалкара мистеру Брэму Стокеру
8 ноября.
Приезжайте немедленно: «Замок Джека Строу», Хайгейт-хилл. Срочно. Чрезвычайные события. Расскажу все при встрече.
Хури.
ЧАСТЬ III
Письмо профессора Хури Джьоти Навалкара мистеру Брэму Стокеру
Калькутта, Махадэви, Клайв-стрит.
31 октября 1897 г.
Дорогой мой Стокер!
Было приятно получить от вас весточку через столько лет. Благодарю за экземпляр «Дракулы», я читал его прошлой ночью. Чушь, конечно, но занимательно. Предсказываю, что ваш роман все переживет. Рынок на такое чтиво столь же вечен, как и ваш граф-вампир.
И именно предчувствуя то, что «Дракулу» будут читать через пятьдесят, а может, и через сто лет, посылаю вам пачку рукописей и только что вышедшую книгу «С винтовками в Радже». Прочтите их, и они дадут полный отчет об ужасных событиях, происшедших почти десять лет тому назад. Я намеревался сохранить эти бумаги, чтобы они могли послужить предупреждением тем, перед кем маячит подобная угроза, но само существование таких записей ставит под угрозу и тех, кто их хранит, поэтому меня очень беспокоит предание гласности того, что следует хранить в тайне.
Опубликование же вашею романа предоставляет нам возможное решение, ибо, хотя «Дракула» приукрашен мелодрамой и фантазией, в нем многое недалеко от истины. Надеюсь, что те, к кому обращены наши труды, несчастные, которым угрожают живые мертвецы, найдут в вашем романе эхо грозящих им опасностей и, руководствуясь вашими записками, постараются узнать то, что вы уже знаете. Поэтому поступите так: передайте прилагаемый набор рукописей своим юристам, не рассказывайте никому, что эти документы существуют, но оставьте указания, чтобы тому, кто заявляет, что ему угрожают существа вроде вашего графа, и приводит доказательства, были показаны эти бумаги. Такая постановка дела вряд ли совершенна, но, думаю, иной альтернативы нет. Жизненно важно сохранить сами бумаги.
Я счел за наилучшее предоставить вам право распоряжаться ими. Помимо того что вы обладаете даром романиста, вы сами пережили некоторые из описанных событий и знакомы с повествованием Однако эпизод, который удивит вас, подробно изложен в письме, полученном мною пару лет назад. В нем раскрыты многие тайны, волновавшие нас в свое время и остававшиеся без ответа даже после той ужасной ночи на Хайгейт-хилл. Прилагаю это письмо к своему.
Удачи вам, Стокер. Да благословит вас ваш Бог.
Ваш старый боевой товарищ
Хури Джьоти Навалкар.
Письмо доктора Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Август 1895 г.
Хури!
Интересно, удивитесь ли вы тому, что держите в руках это письмо? Прошло много времени с той ночи, когда мы в последний раз виделись с вами на Хайгейт-хилл. Думаю, вы могли забыть меня. Но сомневаюсь в этом, так же как и сомневаюсь, что вы удивитесь, читая данное письмо, ибо я обегцал вам все эти годы, что когда-нибудь расскажу вам все. Мне хочется считать себя человеком слова.
Поехать в Ротерхит меня побудила шкатулка. Я не намеревался вступать в противоборство, не намеревался и пренебрегать вашим советом Вы были, конечно же, правы, Хури. Мне не следовало туда ездить, глупость, а не храбрость влекла меня туда. И все же, повторяю, была и шкатулка, оставить которую без внимания я не смог.
Она ожидала меня на конторке в ночь смерти Весткота, была сделана из грубого дерева и выкрашена в красный цвет. С одной стороны были нанесены китайские иероглифы. Очевидно, когда-то ее использовали для перевозки опиума. Дрожащими руками я приподнял крышку. Внутри не было ничего, кроме куска картона. Почерк я узнал сразу — и пурпурный цвет, как на карточке, которую посылали Джорджу. Беглый осмотр показал, что надпись сделана смесью воды и крови. Почерк, как и ранее, был женский, но на сей раз это скрыть не пытались, ибо почерк был элегантный и совсем не неряшливый. Красота его словно пришла из другого века. Текст записки вы тоже можете сразу узнать:
«Сколь часто вам говорено, что когда вы исключите невозможное, то оставшееся, как бы неправдоподобно оно ни выглядело, будет правдой?»
Литература приписывает это высказывание Шерлоку Холмсу, но на самом деле это максима доктора Джозефа Белла, преподавателя как Конан Дойла, так и моего, о чем я часто говорил Сюзетте. Она же, в свою очередь, ответила мне, озвучивая мой нарастающий страх:
«А что, если невозможное является правдой?»
Держа в руках эту карточку, сидя один в комнате, я точно знал, что послание писала она. Я ясно увидел и вдруг понял всю паутину зла, сплетенную вокруг меня за долгие прошедшие месяцы, паутину, в центре которой, как паук, затаилась тьма и прядет, бесконечно прядет, чувствуя каждое мое дергающееся движение, опутывая и затягивая меня. И сейчас я чувствовал, что тьма очень близка. Как я мог избежать ее? Бежать было некуда, я должен был встретить ее лицом к лицу и закончить игру.
Я выехал той же ночью. Взял с собой револьвер и луковицу киргизского серебра, уложив их в нагрудную сумку, скрытую под рубашкой. Думал, что сразу найду склад Лайлы, но, несмотря на поиски, не смог найти даже улиц, ведущих к нему. Измученный, вернулся на главную улицу и оттуда прошел на Колдлэйр-лейн. Лавка Полидори, как и раньше, была заколочена досками. Я постучал в дверь. Никакого ответа. Попытался взломать дверь, но замок был слишком крепок. Отступив на несколько шагов, я стал пристально всматриваться в окна верхнего этажа, но оттуда не пробивалось ни отблесков света, ни даже тусклых вспышек трубок с опиумом. Как и при предыдущем посещении, весь дом казался совершенно заброшенным. Разочарованный, я повернулся и зашагал прочь от лавки, но, инстинктивно оглянувшись, вдруг заметил на секунду чье-то лицо. Лицо это прижалось к стеклу и дико глядело на улицу с верхнего этажа. Хотя оно сразу же исчезло, я успел его узнать. Лицо в окне принадлежало Мэри Келли.
Я понял, что надо взламывать лавку. К счастью, улица была пуста, и никто не заметил, как я срываю доски. Разбив окно и проникнув внутрь, я поспешил, наверх, готовый ко всему, но, отодвинув занавеску, обнаружил, что комната наверху пуста — ни людей, ни мебели, никаких доказательств, что недавно тут кто-то был. И лишь осмотрев оконную раму, я нашел подтверждение тому, что у меня не было галлюцинаций: на стекле виднелись окровавленные отпечатки пальцев. Когда же я внимательно изучил пол, то нашел и другие следы крови в виде линии из крохотных точек. Следы вели к двери, за которой, как вы помните, находился мостик к двери склада. Естественно, я попытался пройти туда, но дверь была крепко заперта, и мне оставалось лишь покинуть комнату. И вот я уже на главной улице. С Темзы накатывался туман. Вначале, поглощенный своими мыслями, я едва ли чувствовал его, как вдруг понял, что он поглотил не только огни, но и шум, доносившийся из таверн и кабачков, грохот экипажей, шаги прохожих. Я заозирался вокруг, однако ничего не было видно, я остался совершенно один. Я крикнул — мой голос поглотила стена коричневого тумана. Я остановился, и через несколько минут в тумане образовался просвет. Я оглядел улицу, но увидел, что по-прежнему один, — хотя фонари и мигали, улица была совершенно пустынной, а окна домов и таверн темны. Я крикнул вновь — никакого ответа. Туман опять стал сгущаться, и я почувствовал, что сырость буквально впивается в мою кожу.
Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Позади меня стоял человек. Лицо его скрывал шарф, на глаза была надвинута кепка.
— Ищете кого-то? — спросил он, подмигивая мне. — Развлечений ищете?
— Развлечений?
— Развлечений! — человек рассмеялся и показал пальцем в дальний конец улицы.
Я всмотрелся, но ничего не увидел. Человек продолжал смеяться идиотским смехом. Я схватил его за шарф, срывая маску. Из-под кепки на меня глянули мертвые глаза, кожа на лице была, как у трупа. Я вспомнил, что лодочник на Темзе застрелил именно этого человека.
— Развлечения! Забавы! — не переставая, вновь и вновь повторял он, показывая корявым пальцем вдоль улицы.
Тишину разорвал стук колес экипажа. Медленно я зашагал на этот звук. От тумана у меня кружилась голова, будто от опиума, когда мы со Стокером попали в притон Полидори. Мертвец по-прежнему наблюдал за мной, смеясь все громче. Затем послышашось лошадиное ржание, цокание копыт, и повозка остановилась. Теперь я увидел ее — темное пятно, поджидавшее меня под желтым мерцанием уличного фонаря. Я прошел мимо лошадей и остановился сбоку от экипажа. Тишина, как туман, сгустилась вокруг меня, и даже лошади замерли. Вдруг щелкнула дверь, высунулась рука. Меня охватил жаркий прилив вожделения.
— Иди ко мне! — шепот, казалось, исходил ниоткуда, просачиваясь в каждое мое чувство, каждую мысль.
— Лайла! — воскликнул я. — Лайла!
Я взялся за ручку дверцы… открыл ее… поднялся в экипаж.
Я сразу узнал ее. Она была все та же… Лайла… и в то же время не Лайла: кожа — белая, как сверкающий лед; губы — алы, как ядовитый цветок; глаза — холодны и полны похоти, злобной гордости. Я в восхищении протянул руку погладить завитки белокурых волос, обрамлявших ее грозное, строгое лицо, самое прекрасное из женских лиц, более жестокое, чем ад, и милое, несмотря на весь ужас.
— Лайла! — прошептал я вновь.
Это был не вопрос, а содрогание, полное понимания и необходимости. Она улыбнулась, приоткрыв яркие губы, и меж красного пламени блеснули зубы. Она погладила меня по щеке, и в этом прикосновении было что-то чудесное, невозможное.
— Иди ко мне, — слова ласкали, обжигая мой разум. — Иди ко мне!
Я с шумным вздохом потянулся, пытаясь найти ее губы, но Лайла положила палец мне на подбородок, и я почувствовал, как она приникла к моему горлу, почувствовал, что моя кожа тает, пропадает в ее влажном и жарком поцелуе, сочится и течет ручейком по моей груди, липким соком смешиваясь с ее соками. Я протянул пальцы, чтобы коснуться этого потока, и они нащупали луковицу в нагрудной сумке.
Раздалось злобное воющее шипение — так шипят коты, выскакивая из обжигающею пламени, — и вновь я оказался один. Осмотревшись, я понял, что лежу в темном углу на панели, опираясь головой о стену. Издалека доносились смех, звон бокалов в шумных кабачках; колеса загрохотали по булыжнику; раздались шаги прохожих. Воздух слегка очистился, туман рассеялся, экипажа и женщины в нем и след простыл. Я медленно встал на ноги, протер глаза и опять побрел по главной улице. Поворот к складу оказался на том же месте, где я и ожидал ею найти. Когда я вошел в неосвещенную улочку, звуки за моей спиной снова стали затихать и вскоре пропали совсем — остался лишь звук моих шагов. Дверь склада была открыта, и я вошел. Внутри меня ждала Сюзетта. Она подняла руку и показала вглубь.
— Тут недалеко, — прошептала она.
— Знаю, — ответил я и, миновав холл, открыл дверь.
За дверью под висящим на стене портретом Лайлы, как и раньше, горела одинокая свеча. Я уставился на картину, потом закрыл за собой дверь и сразу услышал звук капель — одна жидкость капала в другую. Медленно я обернулся, вглядываясь в темноту, и увидел…
Подцепленный за ноги на крюке висел труп, совершенно голый и очень белый. Я узнал его: один из наркоманов из опиекурильни. В ноздре его набухла капелька крови… вытянулась… упала… затем еще одна… кровь к крови… Потому что под трупом стояла ванна, полная крови. Ванна была из золота, украшенного драгоценными камнями, но кровь выглядела еще богаче, еще прекраснее, чем чистейшее золото. Кровь сверкала, и я знал, что если буду долго смотреть на нее, то увижу красоты, которые не может вообразить ни один человеческий разум. Упала еще одна капля. Как великолепно она была принята., успокоена… поглощена. Весь мир может быть так поглощен… вся вселенная… застыть в крови. Я шагнул вперед. Золото и кровь смешались и запульсировали, подернулись рябью, как волны чистейшего звука. Мне захотелось быть частью их, мне нужна была их тайна… Еще одна капля… Я взглянул на застывшее обескровленное лицо наркомана — его глазные яблоки выглядели очищенными от кожицы виноградинами. Я вдруг содрогнулся и дотронулся до луковицы в сумке.
Послышался смех, столь издевательский и ужасный, что я заткнул уши руками.
— Вцепился в свой талисман, — раздался голос, — а все-таки идешь.
Она шевельнулась в ванне. Ее белокурые кудри были совершенно не запачканы, снежно-белые руки просвечивали сквозь кровь. Она омыла груди ленивыми всплесками и с расслабленным вздохом откинулась назад.
— Да, — проговорила она. — Все-таки идешь… — Она наклонила голову и пристально взглянула на меня. — Какой ты забавный, — улыбнулась она. — Как отчаянно хочешь того, что есть у меня. Как боишься того, чем ты можешь стать. Я действительно очень тебе благодарна. Да будет тебе известно, редко кто-либо из смертных забавляет меня.
Она вновь улыбнулась, потянулась и опустила голову на золото. Ласкающим движением рук она отерла кровь с бледных щек, а когда отняла от лица пальцы, не осталось ни пятнышка, ни потека, словно плоть ее была губкой, впитавшей кровь, всосавшей соки жизней других людей.
Удовлетворенно вздохнув, она наклонила голову, полоща в крови распущенные белокурые волосы.
— Еще, — проговорила она, — еще… в этом почти ничего не осталось. — Она лениво взмахнула рукой. — Живей, Полидори, мне нужен поток…
Он, должно быть, стоял в тени, потому что раньше я его не замечал. Выступив вперед, он бросил на меня косой взгляд, полный презрения, и дернул за золотую цепь. Труп начал раскачиваться и опускаться. Краешком глаза я следил за тем, как Полидори положил труп на пол и принялся отцеплять крюки от костей лодыжек, но не мог сосредоточиться на этом зрелище. Да и как я мог? Она вновь стала мыться, намыливая кровью груди и щеки, отчего кожа ее светилась и пульсировала, становясь темнее. Темнели и ее белокурые волосы, превращаясь в черные.
— Приведите ее! — приказала она.
Голос ее был еще голосом Лайлы, но внешне она превратилась в африканскую девушку, столь же ужасную и одновременно милую, как и раньше. Я вспомнил, как Мэри Келли рассказывала о негритянке, разрезавшей ей запястья… Красота такая, что замораживает само сердце. Я опустил глаза под пристальным взглядом, а негритянка расхохоталась.
— Приведите ее! — крикнула она.
Я почувствовал, что ее смех тревожит самые глубины моего сознания.
— Не надо, — пробормотал я, — прошу, не надо.
Но она все смеялась. И смех сотрясал всего меня, нарастая и нарастая, а потом раздалось позвякивание крюка, раскачивающегося на цепи. Я обернулся. В руках Полидори была голая женщина Он схватил ее за волосы, толкнул на колени, а другой рукой ухватился за крюк. На лице несчастной застыло такое выражение ужаса и боли, что я едва признал в ней Мэри Келли.
— Нет! — крикнул я, бросаясь вперед и выхватывая револьвер. — Нет!
На секунду наступило молчание. Негритянка взглянула на ствол револьвера и вдруг вновь расхохоталась.
— Отпустите ее! — в отчаянии вскричал я, целясь в Полидори. — Ради Бога, отпустите!
Негритянка пыталась что-то сказать, но слова потонули в ее же собственном громком смехе, заглушившем все остальное.
— Буду стрелять, — предупредил я.
Негритянка захохотала еще громче.
Я выстрелил раз… другой… Пули впились ей в грудь. На секунду она удивленно взглянула на ранки, а затем глаза ее заблестели от удовольствия.
— Замечательно! — вскричала она. — Просто замечательно! — Смех ее смолк;.— Впрочем, это уже начинает надоедать, — вдруг сказала она и обернулась к Полидори: — Можете убить ее.
Полидори выхватил нож. Но я пошарил у себя под рубашкой и вынул киргизское серебро. Сразу же раздалось шипение. Я взглянул на Полидори: он опустил глаза и затрясся. Я направил на него луковицу, и он затрясся еще больше. Медленно я стал подходить к нему, держа в ладони киргизское серебро, а он начал отступать с повисшими бессильно руками. Я схватил Мэри Келли за руку. Она все еще дрожала в оцепенении, но, когда я потянул ее, поднялась и пошла за мной. Я подал ей одежду, и Мэри Келли, вдруг осознав, что происходит, быстро надела на себя платье.
— Бегите, — прошептал я ей на ухо, — и не выпускайте это из рук.
Я сунул ей в ладонь киргизское серебро. Она уставилась на него, не трогаясь с места.
— Вам понятно? — спросил я. — Крепко держите.
Мэри Келли сжала луковицу, кивнула и побежала через холл. Слышно было, как хлопнула дверь. Я тяжело дышал. Значит, она убежала, может быть, добралась до улицы…
— Какое благородство!
Слова эти были произнесены столь издевательским тоном, что я почувствовал, будто мне за шиворот набросали льда. Я обернулся. Мы вновь остались наедине, как в экипаже на улице. В комнате теперь сгустилась жара, воздух стал какой-то густо-красный, напоенный запахом цветочной пыльцы и духов. Не отдавая себе отчета, я вдохнул его. Чувствовался запах лилий и белых роз, на которые капает кровь. На золотых треножниках курились благовония.
— Думал произвести на меня впечатление? — фыркнула Лайла. — Думал вызвать у меня вдохновение, чтобы я отпустила тебя, благословив, тронутая твоим предложением жертвы? — Она помолчала, лениво улыбаясь мне. — Или ты предлагаешь мне принять все за забавную шутку? Что ж, тогда судьба, которую я задумала для тебя, будет еще более забавной.
Она засмеялась, глядя на свои ногти, и ее яркие губы сжались.
— Слишком долго я откладывала, — пробормотала она.
Лайла шевельнулась, лениво потянулась, и комната раздалась в стороны, когда она стала выходить из ванны, как Венера, рожденная из морской пены. Кровь мантией из сверкающих чешуек струилась по ее обнаженному телу, сверкала и исчезала, так что Лайла походила на змею, сбрасывающую кожу. Из одежды на ней были только драгоценности: браслеты и кольца в ушах, на шее блестело золото Каликшутры, на лбу сияла отметина вечного глаза, а на волосах покоилась корона богини Кали.
— Социалист, — зашептала она, глядя на меня, — трудяга на благо ближнего… — Она захлопала в ладоши. — Как восхитительно, прогрессивно! — Притянув к себе, она прижала меня к груди. — Я, конечно же, сохраню тебя и пополню тобой свою коллекцию, — улыбнулась она. — И думаю, что навечно.
Она поцеловала меня. Слова ее эхом отдались у меня в ушах, разошлись волнами по извилинам моего мозга. Это дезориентировало меня. Я почувствовал, будто падаю в ожидающую внизу кровь. Я прильнул к Лайле, все еще находясь в ее объятиях. Но теперь мы были уже не в комнате, а бежали вниз по лестнице, по бесконечным ступеням, которые все были окрашены в разный цвет и извивались в пространстве двойных спиралей. Я уже восходил по этим ступеням раньше, но никогда не видел такого множества лестниц, чередующихся перед моим взором в паутине меняющихся красок, узоров и форм Я смутно чувствовал, что боюсь их, что они изменят меня. Надо было спасаться бегством, освободиться от Лайлы, от ее обволакивающих объятий. Но я был скован, не мог пошевелиться. Ибо кровь, которую она впитала, теперь высасывала меня. Я вспомнил то ощущение в экипаже, когда моя шея растаяла от прикосновения ее губ. А теперь все мое тело сочилось в липком месиве жидкой плоти, и я ощущал, что всего меня поглощают, затягивают в матку, полную пахнущих рыбой, соленых и терпких выделений, искажают пульс моей жизни так, что мое существо едва ли казалось мне моим. И оно уже не было таковым… нет… мою кровь качало сердце какого-то другого существа. Теперь я стал созданием Лайлы, студнем, плацентой, белком. Копошащейся массой клеток… супом из крошечных точек. А потом исчезли и они. Осталось только что-то красное, бьющееся в пульсе крови Лайлы. Потом и оно замолкло. И не осталось ничего. Ничего, кроме тьмы.
На какое время я пропал, не знаю.
Навечно? На секунду? Может быть, и то и другое.
Впрочем, пришло время открыть глаза.
— Она ждет вас, — объявила Сюзетта.
— Ждет?
— У лодки.
Сюзетта нагнулась и, улыбнувшись, поцеловала меня в лоб. Я взглянул на нее и нахмурился. Она как-то изменилась. Но как бы это описать, Хури? Она была все той же Сюзеттой, маленькой девочкой с косичками, в детском платьице, и в то же время в ней что-то изменилось. Сквозь ее черты проглянуло лицо никогда не виденной мной ранее женщины лет двадцати пяти — тридцати — величавое, прекрасное, невероятное. Когда я различал ее, терялась Сюзетта, потом Сюзетта возвращалась, а другое лицо пропадало. Бывают такие оптические трюки, вы, наверное, их видели: кролик одновременно является головой утки, а кружка — изображением парочки, готовящейся поцеловаться. Оба изображения присутствуют, но разум не может воспринять их одновременно. То же стало и с Сюзеттой, и вообще со всем, что я видел. Около меня с чистой одеждой в руках стоял искривленный карлик, такой уродливый, что я раньше едва ли мог вынести его присутствие, но я взглянул на него сейчас и увидел, какие у него длинные руки и ноги, как он прекрасен, — пожалуй, самый
привлекательный мужчина, виденный мной в жизни. А когда я пересек холл и заметил, что на ступеньках, свернувшись калачиком, спит пантера, то тут же почувствовал, что вижу не животное, а женщину, смуглую, милую и заносчивую; ее тело и тело пантеры одновременно и различались, и были одним целым. Все звери, создания и существа здесь чудесным образом менялись, и, к своему удивлению, я испытывал при этом не ужас, а восхищение, не отвращение, а удовольствие.
— А я? — спросил я у Сюзетты. — Кем я стал?
Сюзетта, или, скорее, женщина, которая также была Сюзеттой, слегка улыбнулась.
— Сюда, — указала она.
Мы прошли в оранжерею, Сюзетта подвела меня к одному из бассейнов с водой тихой и прозрачной, как стекло. Я вгляделся в свое изображение, поморгал глазами.
— Не понимаю, — удивился я. — Что же произошло?
Мое лицо в воде выглядело, как и прежде.
Сюзетта взяла меня за руку и повела дальше.
— Неркели ничего не изменилось? — спросил я.
Сюзетта не ответила. Замедлив шаги у стены из чугуна и стекла, она вынула ключ и открыла дверь.
— Скажите мне, кем я стал?
Сюзетта показала на тьму за дверью.
— Скорее, — зашептала она. — Лайла ждет вас. Ею задумана игра, вы потом все поймете.
Она повернулась и убежала, а я, оставшись один, прошел сквозь стеклянную перегородку.
Я вновь оказался на открытом воздухе, в лондонской ночи. Предо мною металлическая винтовая лестница опускалась вдоль закопченной причальной стенки. Снизу донесся плеск воды. Под лестницей стояла крохотная лодочка, к которой я и спустился. На веслах сидело то же существо, что было гребцом на ней раньше. Внимательно разглядывая его, я так и не определил, какая форма была присуща ему прежде.
— Джек! — крикнула Лайла, ждавшая меня на корме лодки. — Ах ты, мой филантроп. Иди же сюда, Джек.
Она улыбнулась, я сел к ней, и она обняла меня, приказав гребцу отплывать. Зашлепали по воде весла, и лодка наша заскользила по узкой полоске воды между стенками.
Вскоре лодка вошла в течение реки. Существо налегло на весла, а Лайла, положив мою голову себе на колени, принялась нежно гладить меня по волосам. Я взглянул на небо. Оно было угрюмого, зловещего красноватого оттенка. Почему-то вид его несколько подавил мой дух, и взволнованность улетучилась, а вместо нее нахлынуло гнетущее чувство беспокойства Я пошевелился, не в силах больше смотреть на звезды, затеняемые отсветами города, словно Лондон просачивался в небо. Я вспомнил видение, которое показывала мне Лайла: город — это существо с содранной кожей, а Темза — его артерия, полная живой крови. Я снова пошевелился и взглянул вдаль. Сейчас воды реки не казались живой кровью. Я опустил руку за борт, и на ощупь вода оставалась такой, какой была на вид, — жирной, с отбросами, загнивающей. Из-за реки мне насмешливо подмигивали огни Сити… ярко, очень ярко, но опять-таки обманчиво. Ибо там, за рекой, тоже таилась смерть, взращиваемая дерьмом золота и человеческой жадности. Смерть была везде, куда ни посмотри, во тьме чудовищного распростершегося за рекой города. Мне вспомнилось посещение на дому одного из моих пациентов, когда я задел за стену и из нее вывалился кусок раскрошившегося кирпича. Я опустил глаза — у моих ног копошился отвратительный клубок червей. Вздрогнув от этого воспоминания, я вновь взглянул на берег реки перед нами. Если ударить по нему, так что все здания, как штукатурка, осыплются на землю, то увидишь то же, что я узрел в доме у своего пациента: червей, слепых и ползающих по кучам пожираемого ими навоза.
Лодку тряхнуло, и я оторвался от размышлений. Мы причалили к северному берегу Темзы. Послышался пьяный смех, в отблесках огня замелькали чьи-то искривленные силуэты. Сама мысль о том, что придется ступить на берег, наполнила меня отвращением. Я закутался в оказавшийся на мне длинный черный плащ, а Лайла улыбнулась и помогла мне выйти из лодки. Полы ее плаща разошлись, и я обнаружил, что на ней надето вечернее платье. У меня же под плащом оказался фрак, на голове — цилиндр. Я спросил, куда это мы собрались сегодня вечером, но Лайла лишь прижала палец к моим губам.
— Ты будешь развлекать меня, — тихо прошептала она мне и, повернувшись к лодке, взяла из рук гребца черный саквояж.
— Что это? — спросил я, когда она передала чемоданчик мне.
— Твой докторский саквояж, — ответила она.
— Докторский саквояж?
— Ты же доктор! — она засмеялась и, прежде чем я успел что-либо еще спросить, повела меня по замусоренному причалу.
Нас ожидала повозка. Мы забрались внутрь, и колеса завертелись, разбрызгивая грязь. Повозка запрыгала по кучам гнилых овощей и фруктов. Я выглянул в окошко и опять содрогнулся от физического отвращения. Дома, мимо которых мы проезжали, походили на росшие из грязи грибы. Между ними сновали люди — сальные, вонючие, с хищными взглядами, дрожащие мешки потрохов и жира. Как это раньше я не замечал, сколь безобразны эти бедняки, сколь они низменны? Да как они смеют жить и размножаться? Мы проезжали мимо таверны. Оттуда слышалось причмокивание губ, бульканье жидкостей, наливаемых в сосуды и опрокидываемых в глотки. Кто-то шумно портил воздух, раздавались животный смех и неразборчивая болтовня. Один из посетителей таверны обернулся и уставился на нас. Меня чуть не стошнило. Волосы его, Хури, лоснились от грязи, кожа была словно покрыта слизью. В нем не было ничего, ни малейшей искорки, совершенно ничего, достойного жить. Я откинулся на сиденье.
— Ради Бога, — выдохнул я. — Уедем отсюда.
Лайла погладила меня по лбу.
— Куда же мы едем? — настаивал я.
— Да в Уайтчепель, Джек, — улыбнулась она. — Там все такие убогие… Ты ведь помнишь? Им нужна твоя помощь, твоя филантропия.
— Нет, — мотнул я головой.
Шум, этот шум с улиц… давил на меня. Вонь, кишение людей… Я почувствовал, будто гнев мой на тонких, как у насекомого, лапках ползает по каждой моей эмоции, мысли. Это стало непереносимо. Надо бежать от него, подавить его. Я высунулся из окошка.
— Эй! — крикнул я. — Ради Бога, стой!
Повозка притормозила Я привалился к дверце, открыл ее и выбрался наружу. Я оказался на панели на Уайтчепель-роуд и отчаянно вдыхал воздух. Охладит ли он меня?
Но биение пульса жизни продолжалось — люди совокуплялись, размножались, испражнялись. Это было безжалостно, как время, безжалостно, как мой гнев, ползущий на тысячах тонких, как у насекомого, лапок, отравляющий ткань моего живого мозга На каждом шагу я чувствовал укол иголкой… все глубже и глубже. Весь мой череп изнутри охватил ужас, прорываясь через глаза. И не только на улице, а в самих моих мыслях… эти лица… смех… запах крови. Я почувствовал, что схожу с ума. Никто не может вынести такую боль. А гнев все наползал, ширился, жалил.
Меня потянуло в темноту. От главной улицы отходила узкая неосвещенная улочка. Я поспешил по ней. На мгновение мои мысли затихли. Я глубоко вздохнул и облокотился о кирпичную стену какого-то склада, думая, сколько мне придется простоять здесь. Мысль о том, что надо будет уйти из этой тиши и темноты, была непереносима. Лайла., она ведь видела, куда я пошел. Она придет и заберет меня обратно, заберет из этой сточной канавы с ее бурлящей жизнью отбросов. Иначе… нет… нет… Я закрыл глаза, рукой провел по волосам. К своему удивлению, я почувствовал, что в другой руке по-прежнему сжимаю докторский саквояж.
Вдруг послышались шаги. Я поднял голову. В конце улочки виднелся одинокий фонарь. Под ним стояли две фигуры, женщина и мужчина. Женщина наклонилась и задрала юбку, а мужчина пристроился сзади, торопливо и все быстрее ввинчиваясь в ее недра. Мне было слышно его участившееся дыхание, до меня донесся исходящий от него влажный запах похоти. Он вскоре кончил и, толкнув женщину на панель, зашагал прочь; шаги его затихли вдали. Женщина так и осталась лежать в грязи, где упала Она даже не побеспокоилась одернуть юбку. От женщины несло вонью гниющей рыбы и нижнего белья, липкого от спермы и пота Наконец она, пошатываясь, поднялась на ноги. Я узнал ее: Полли Николе. Я как-то лечил ее от венерической болезни. Качаясь, она двинулась навстречу мне. Измятая юбка была вся в грязи и прилипла к ней. Мне подумалось, что, пожелай она постирать белье, его, видимо, придется отдирать вместе с кожей. От этой мысли меня чуть не стошнило, ибо кожа у Полли наверняка была грязная, вся в болячках и кровоточащих ссадинах. А при такой ширококостной фигуре кожи придется сдирать много… чтобы ее почистить.
Я возник перед ней, и она отшатнулась в явном испуге, но, узнав меня в лицо, расплылась в беззубой улыбке.
— Доктор Элиот! — хохотнула она— Да вы такой красавчик!
— Добрый вечер, Полли, — сказал я.
От нее несло перегаром джина Джин переливался во всем ее теле — в желудке, в желчном пузыре, в печени, в крови. Все в ней прогнило, все провоняло до последней разложившейся клетки. Лапки насекомого впились в мой мозг, как когти.
— Вы больны, — ласково произнес я. — Давайте я вас вылечу.
Я полез в саквояж. Она не успела воспротивиться. Нож перерезал горло, и кровь ударила великолепным алым фонтаном. И, рассекая ей глотку от уха до уха, я знал, что совершаю правое дело. По мере того как жизненные силы уходили из нее, я, наоборот, наполнялся жизненной энергией. Умыться кровью было так хорошо, так приятно! Мой гнев утих, я почувствовал, как насекомое в мозгу съеживается, его лапки ослабевают, и засмеялся, когда оно вообще свалилось как подкошенное. Я взглянул на Полли. Из ее разрезанного горла сочилась кровь, в нем что-то хлюпало. Я полоснул ножом по горлу еще… глубже… к позвоночнику.
Обернувшись, я увидел Лайлу.
— Джек, — проговорила она, целуя меня. — Мой дорогой Джек! Что за чудо я из тебя сотворила!
Я засмеялся, опьяненный ее поцелуями и жизнью, которую только что отобрал. Вернувшись к трупу Полли, я продолжил кромсать его. Лайла крепко обняла меня, и я растаял в ее объятиях. Не могу описать того, что она дала мне — словами этого не выразить. Но мне и не нужно было слов. Я просто открылся и принял ее.
Это продолжалось долго. Упоение еще переполняло меня, когда мы стояли в темноте и смотрели, как констебли дуют в свои свистки, как суетятся врачи, как нервно поеживается любопытная толпа. Как я смеялся, когда кто-то привел Ллевелина, моего собственного помощника, чтобы он установил причину смерти. Если бы только он знал! Ведь мы с Лайлой стояли у него за спиной, никем не замеченные!
В то утро мы позавтракали у Симпсона — устрицы, вино, красное, как кровь. Потом удовольствие не раз нисходило на меня многие дни подряд… Я говорю «дни», переводя из измерения, которого вы не поймете, ибо для меня с Лайлой не существовало такого понятия, как время. Осталось только чувство, что я стал рабом всего, что старался в себе подавить. Смутно я осознавал это, ибо сквозь туман нет-нет да проглядывало мое прежнее «я». И чем резче проявлялись его контуры, тем больше нарастал мой ужас, тем четче я понимал, что натворил. Вскоре я не чувствовал ничего, кроме резкого отвращения к себе, — оно давило на меня, парализовало, становилось невыносимым. И все же я наконец вновь стал самим собой и, осознав это, сумел принять меры.
Я понял, что надо бежать. И бежал, но не через реку, а вдоль берега. Никто не пытался вернуть меня. Но и я не заблуждался. Вряд ли Лайла надолго выпустит меня из своих когтей. Но в то же время оставались те, кого я мог предупредить.
— Уайтчепель, — назвал я адрес извозчику, когда мы переехали Лондон-бридж. — Хэнбери-стрит.
Мне надо было предупредить Ллевелина, надо было рассказать ему (прежде чем мой рассудок вновь помутится) обо всем, что творится у меня в мозгу, о том, каким чудовищем я стал. Но чем дальше я отъезжал от Ротерхита, тем больше мутился мой рассудок. Опять в моем сознании зашевелились лапки насекомого. Я сжал кулаки, закрыл глаза, стараясь очистить мозг от резкой, колющей боли. Но она безжалостно усиливалась, а с ней — отчаянное стремление излечиться.
Наконец мы подъехали к повороту на Хэнбери-стрит. Извозчик отказался везти меня дальше, заявив, что он приличный человек, а время слишком позднее. Я кивнул, едва понимая, что он говорит, сунул ему в ладонь все деньги, которые у меня были, и пошел в темноту, качаясь как пьяный. Боль пронзала меня насквозь, но терпеть оставалось недолго. Знал я и то, что сейчас сделаю. Под уличным фонарем я заметил женщину. К счастью, я находился неподалеку от клиники, иначе я бы не прошел мимо этой женщины. Приостановившись, я взглянул на нее. Как она была безобразна! Она улыбнулась мне. Как и от Полли, от нее несло немытым телом и потом. Мысль о ее теле, его состоянии заставила меня содрогнуться. Мне захотелось пронзительно закричать, столь невыносимой стала боль… Ну, шаг… ну, еще шаг… Я дойду… Ведь я же иду… иду по улице… Ведь мне осталось так недалеко…
— Сколько? — спросил я.
Женщина ухмыльнулась, называя цену. Я кивнул.
— Туда, — сказал я, указывая в темноту. — Там нас не увидят.
Женщина нахмурилась. Я понял, что вздрогнул, и постарался сдержаться. Однако она, должно быть, не так поняла, потому что вновь улыбнулась и взяла меня за руку. Она в самом деле вообразила, что я ее хочу! Сама мысль об этом удвоила мое отвращение. Удовольствие от убийства будет даже больше, чем раньше. Я разорвал в клочки ее глотку, разодрал ей живот и вырвал кишки. Они были еще теплые, и я с таким наслаждением разбросал их вокруг… в грязь… в пыль. Я вырезал, ей матку. Приятно было видеть, как она бьется и трепыхается, словно пойманная рыба Теперь уже в ней не зародится никакая жизнь. Я резанул по ней несколько раз, чтобы быть уверенным в этом. И вдруг подумал, что, когда она сгниет и превратится в навоз, на ней могут вырасти цветы. Я мысленно представил эти цветы — белые, с приятным запахом, нежные… Такая прелесть взрастет из такого места. Надо было взять матку, преподнести ее в подарок…
В конце улицы показалась Лайла Она со смехом приняла мой подарок и поцеловала меня.
Мы вернулись в Ротерхит. Ничто не могло сравниться с удовольствием, которое я испытывал, оно стерло воспоминания о мире, расположенном за стенами склада, а подробности моей прежней жизни казались безнадежно далекими. И по-настоящему я понял это лишь после встречи с леди Моуберли. Я говорю «леди Моуберли», потому что едва вспомнил, кто она на самом деле, откуда я знаю ее и где видел ее лицо. Впрочем, оно предстало предо мною как-то вечером, когда я смотрел на пламя горелки под курящимся ладаном, следя за кровавыми отблесками в огне. И вдруг увидел ее перед собой — эту полузабытую женщину, восставшую из мира моих снов.
— Джек, — прошептала она, — Джек… Разве вы меня не узнаете?
Я нахмурился. Она казалась призраком, чем-то нереальным. Но постепенно я стал вспоминать, как отчаянно разыскивал ее в свое время, и при воспоминаниях об этом я рассмеялся. Неужели я на самом деле боролся с ней ради сохранения человеческой жизни? Ради сохранения?
Она уверила меня в том, что это было правдой, и засмеялась вместе со мной.
— Извините, — сказала она, — но как вы сами теперь знаете, бывает определенный зов, которому мы должны подчиняться. Мы — игрушки Лайлы. Я тоже когда-то боролась, на горных вершинах Каликшутры, но так давно-очень, очень давно… когда впервые ее зубы коснулись моей кожи, а ее мысли оказались у меня в голове… моя Лайла… моя любимая, околдовывающая королева…
Она помолчала, ногтями нежно поглаживая меня по щеке.
— И все же теперь, — вновь заговорила она, — если бы передо мной встал выбор, я бы не вернулась к смертной жизни. Я столько узнала, столько прочувствовала… И у меня есть свои игрушки. Помните Люси? — улыбнулась она. — Уверена, что ей бы захотелось передать вам привет…
Она явно ожидала моего ответа, но я не понял ее, потому что голова моя слишком кружилась, чтобы вспомнить имя Люси. Моя спутница нахмурилась, но потом улыбнулась, понимая меня.
— Извините, Джек, — прошептала она, — за то, что я так долго обманывала вас. Мы не можем сдерживаться. — Она поцеловала меня в губы.'— Не можем быть ничем иным — только тем, во что нас превратили.
— Вы обманывали меня? — озадаченно повторил я.
— Так вы не помните? — нахмурилась она.
Я смотрел мимо нее на пламя. Слабо шевельнулись ка-кие-то воспоминания… Горел какой-то другой огонь… в другой комнате.
— Вы пришли ко мне, — пробормотал я, — мы сидели в креслах у меня. Так?
Леди Моуберли, или Шарлотта Весткот (теперь я вспомнил, как ее зовут), улыбнулась.
— Нам было интересно, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы заподозрить клиентку, нанявшую вас для расследования дела.
— Нам?
— Не я придумала эту игру.
— Игру? — Я взглянул на нее диким взором. — Это была игра?
Шарлотта наклонила голову.
— Чья?
— Вы же можете сами определить это. При помощи дедукции, — сказала она. — Или нет? — Она засмеялась и, повернувшись, подозвала кого-то. — О, сеньора Сюзанна Селестина дель Толоза!
Я оглянулся и увидел Сюзетту… не маленькую девочку, а женщину, которую видел раньше: грациозную, манящую, прекрасную.
— Нет, — прошептал я, встряхивая головой, — нет… я не понимаю.
— Поймете, доктор, поймете… — успокоила Сюзетта. — Просто сейчас вы несколько не в себе. Но ваше удовольствие уйдет, и вы все вспомните. На короткое время вновь станете Джеком Элиотом. — Она взяла мои руки в свои, поглаживая их. — Вы должны гордиться: вы очень развлекли Лайлу и меня.
— Развлек?
Я находился словно в тумане. Рассказ? В журнале? Что-то, о чем она говорила и что убеждала меня прочесть? Я начал спрашивать, но Сюзетта жестом прервала меня.
— За многие века, — поведала она мне, — я изобрела много развлечений… много игр. Однако вы дали мне шанс испробовать нечто новое. Мы были уверены, что вы в конце концов раскроете, в какой опасности находится Джордж. Ваша давняя дружба с ним, ваши склонности к наблюдению, пережитое вами в Каликшутре… да, это дело неизбежно должно было привлечь вас. — Она взглянула на Шарлотту, улыбнулась и взяла ее за руку. — Когда мисс Весткот узнала о вас от Джорджа, нас вначале расстроили сообщения о вашем прошлом и ваших способностях. Мы сплели прочную сеть вокруг Моуберли, а теперь вы могли разрушить ее. Я думала, как отделаться от вас, и случайно натолкнулась на «Ежегодник Витона». Вы же помните его, доктор? Шерлок Холмс — первый детектив-консультант в мире?
Я кивнул И довольно отчетливо все припомнил.
— Там я почерпнула вдохновение, — продолжила Сюзетта, — для совершенно нового типа игры, подходящей для этого века разума, века науки, под скептическим взглядом которой должны умереть все суеверия. Лайлу очаровала моя идея. Мы подстроили все так, что вы занялись этим делом, а сами наблюдали за его ходом, прослеживали каждый ваш шаг в этом лабиринте. У вас все шло очень хорошо — приятно было видеть, — но в конце, конечно же, вы не смогли понять… Я знала, что не сможете…
— Почему?
— Я всегда утверждала, что вы дитя своего века, своего рационального века.
Я непонимающе уставился на нее.
— Самым интригующим аспектом этой игры было испытать вашу гордыню и увидеть ее посрамление. — Она протянула мне что-то. — Помните это?
То была карточка, которую я нашел в шкатулке из-под опиума.
— Как часто я говорила вам, что когда вы исключите невозможное, то все остальное, даже самое невероятное, должно быть истиной?
Я покачал головой, дико рассмеялся и порвал карточку.
— Да, — согласился я, — вы были правы — какая гордыня! Как же я был слеп раньше! Как я мог не подозревать об этом… какие могли быть возможности… или удовольствия… или переживания? Но теперь, слава Богу, — я поднял руки и огляделся по сторонам, — теперь, слава Богу, я понял!
Я вновь истерически рассмеялся. Действительно, слава Богу! Я никогда не знал такого счастья, никогда не чувствовал себя столь раскованным… столь свободным. Всякие пределы исчезли!
Однако очень скоро нахлынули воспоминания, точно такие же, как после первого убийства. Как в картине, очищаемой от накопившейся пыли, проступала моя вина, вначале тускло, а затем с все большей четкостью. По мере этого все вокруг постепенно преображалось в тюрьму, и я осознал тщетность попыток бежать отсюда. Я оставался с другими плененными животными, украшавшими этот зверинец, любопытным трофеем среди остальных. Оглядываясь по сторонам, я понимал, что мне была подарена особая привилегия — оставлена человеческая форма, ибо меня могли превратить в чудовище, в паука, в змею. Как Сюзетта объяснила мне, Лайла испытывала огромное удовольствие, выбирая новый облик для своей очередной жертвы.
— Это всегда что-то изысканное, — улыбнулась она. — Наказание, соответствующее преступлению.
— Преступлению?
— Да., наказание за скуку. Ибо в конце концов ей всегда надоедает человеческая любовь, хотя Лайла сама тоже любит и питается любовью. Карлик, например, — это французский виконт, который около двух веков тому назад был очень красив, но опасно тщеславен. Пантера — ашантская девушка, наглая и жестокая, она хотела заколоть Лайлу кинжалом в припадке ревности. Сэр Джордж… ну, его вы видели сами.
— Но вы убили его, обескровили до того, что он превратился в прах.
Сюзетта отвернулась.
— Но я же вампир, — сказала она наконец. — Я должна пить кровь.
— Должна?
Она холодно взглянула на меня:
— Вам пора понять, что убийство — это необходимость.
— Значит, пора? Так я тоже вампир, как и вы?
Сюзетта нахмурилась и медленно покачала головой:
— Наверное, нет, — проговорила она. — Я подумала было, что да. Но Лайла может превращать свои жертвы во что угодно. Может быть, вы просто убийца, и ничего более. Ибо если бы Лайла превратила вас в вампира, то, поверьте мне, вы бы почувствовали жажду крови.
— Мне нравится просто проливать ее, — ответил я. — Иногда.
— Но не пить?
— Нет.
— Что ж, — пожала плечами она, — тогда вы не вампир.
— А вы? Что Лайла сделала из вас?
Она повернулась ко мне, и теперь на женском лице не осталось и следа от ребенка. Лицо ее было ужасно, но светилось умом и привлекательностью.
— Когда Лайла познакомилась со лшой и совратила меня, — произнесла она, — я уже была вампиром.
— Когда это случилось?
— Очень давно.
Во мне шевельнулось былое любопытство, забытое неверие в то, что такое может быть.
— Как давно? — поинтересовался я.
— При дворе мавританских королей в Испании, тысячу лет тому назад… может быть, одиннадцать веков. Сейчас трудно вспомнить.
— А Лайла… где она встретилась с вами? В Испании?
Сюзетта отрывисто кивнула, глядя вдаль, в ночь, и отбрасывая элегантно причесанные волосы взрослой женщины.
— Когда я впервые повстречала ее, — проговорила она, — я жила среди фонтанов и дворцов Андалузии, где в те годы, как никогда раньше, цвели образование и все блага цивилизации. Мать моя была еврейка, отец — христианин, а я жила среди арабов в халифате, пользуясь различными культурами, принадлежа к каждой и в то же время ни к одной из них. По этой причине все они в конце концов вызывали у меня лишь насмешку. Моей страстью было знание, а удивление было постоянным состоянием моего разума, Лайлу я любила, ибо мне казалось, что и у нее такие же черты характера, только многократно усиленные, так что она всегда побуждала меня дерзать и восхищала меня. Мы покинули Испанию, скитались по всему миру два… три… не знаю сколько веков. Но всегда возвращались в ее любимое прибежище, в королевство среди гималайских вершин, которое было ее настоящим домом и которое, как вы сами убедились, она всегда будет защищать. Другие места она всегда покидает — империи, города, различные скопища людей, — но Каликшутру никогда Она, а вместе с ней и я, слишком долго там прожили.
— Да, — воскликнул я, вдруг вспоминая, — я видел вас, в виде статуи, в храме в джунглях. Вы стояли у ее трона… Правда, когда статуя была сделана… вы уже, по-видимому, были превращены…
— Да, — кивнула она с улыбкой печальной и полной насмешки над собой. — Так в конце концов и случилось. Я наскучила Лайле. — Сюзетта помедлила. — Так же как и она мне. Я сказала, что хочу уйти. Ее неизбывная страсть к развлечениям стала утомлять меня. Я устала от игр, мне хотелось чего-то иного… И, уходя, я сказала ей, что она как ребенок… — Сюзетта замолкла— Но она все-таки достала меня. Мне не удалось убежать от нее.
— Так вы тоже пленница?
Сюзетта не ответила.
— Вы можете уйти, если захотите? — выспрашивал я. — Я имею в виду ваши силы… вас нельзя остановить?
Сюзетта отвернулась и взглянула на звезды. Мы взбирались по лестнице к стеклянному куполу и вот прошли сквозь него, оказавшись снаружи, в ночи.
— Взгляните же! — прошептала она.
Она вновь стала маленькой девочкой. Я пытался разглядеть женщину за косичками, ленточками, нарядным платьицем. Но она исчезла. Я вдруг вспомнил существо из лодки. Его прошлого я тоже не разглядел, когда смотрел на него на реке. Я нахмурился, и на лбу у меня выступил пот.
Вглядываясь в алое свечение распростершегося предо мною Лондона, я почувствовал уколы гнева. Симптомы моего собственного превращения начинали возвращаться ко мне.
— Мне надо идти обратно, — проговорил я, поскользнулся, и Сюзетта с улыбкой поддержала меня под руку.
Мы прошли в дверь, и гнев во мне сразу затих. Я взглянул на Сюзетту и опять увидел женщину.
— Значит, бежать нельзя… — Я прижался лбом к стеклу. — Никогда!
— Вы можете уйти, — ответила Сюзетта, — но вы никогда не уйдете от того, во что она вас превратила.
— И так со всеми нами? Здесь, в этой тюрьме?
— В тюрьме? Вы считаете это тюрьмой?
— Разве нет? Тогда что же это?
Сюзетта пожала плечами:
— То, что вам обещали, то, чего, в конце концов, вы так отчаянно искали: убежище от законов вероятности, где человеческая наука больше не применима. Разве не к этому вы стремились? Вы добились своего.
Сюзетта помолчала, глядя на купол света над нашими головами, на сверкание звезд.
— Где бы в мире она ни жила, — тихо проговорила она, — Лайла воссоздает такое измерение для себя. Все вокруг нас конечно, но здесь, где мы живем, — бесконечность.
— Да, — проследил я за ее взглядом и поежился. — Бесконечность в норе, между стен склада.
— Вас это расстраивает? Почему?
— Очень мне напоминает, — я помедлил, — ловушку муравьиного льва, охотящегося за добычей.
Она приподняла бровь:
— Почему муравьиного льва, доктор?
— Вспомните, — иронически улыбнулся я, — личинка его выкапывает нору, заманивает туда любознательных муравьев и там ими питается, высасывает из них все соки и отбрасывает в сторону оставшиеся от них панцири. Что же ждет здесь, как не такая же ловушка? Челюсти распахнуты, и в них забредают муравьи… вроде этих несчастных из опиекурильни.
— Не разделяю вашего возмущения. Трудно сочувствовать судьбе муравьев.
— Так я прав? Опиумный притон служит краем ловушки?
Наступило длительное молчание.
— Да, — наконец созналась Сюзетта. — Именно так.
— А Полидори?
Глаза ее сузились:
— А что Полидори?
— Он — хранитель ловушки. Значит, он не является частью коллекции Лайлы, одним из ее трофеев?
— Полидори? Нет. — Сюзетта холодно взглянула на меня и рассмеялась. — Она бы никогда не выбрала его себе в любовники.
— А почему здесь Шарлотта Весткот?
— Шарлотта Весткот не живет здесь, она всего лишь инструмент.
— Разве?
— Она никогда не была с Лайлой. Нам потребовалась жена для сэра Джорджа, вот и все. Конечно же, англичанка. Так что мы захватили Весткотов на горной дороге. Мать была чересчур безобразна, и мы уничтожили ее. Но из Шарлотты Весткот получился хорошенький вампир. Кроме того, она умна, как раз это нам и было нужно, и в ней живет примечательная, немедленно проявившаяся склонность к пороку.
— Это ясно, — согласился я. — А Полидори? Что он делает в этом зверинце? Лайла тоже сделала из него вампира?
— Нет, доктор, это не она. И вы хорошо знаете.
— А кто? Лорд Байрон?
Сюзетта наклонила голову.
— Так вот чем здесь занимается Полидори… Вендетта, кровная месть против лорда Байрона и всего клана Рутве-нов?
— Как я понимаю, у его сиятельства свои соображения касательно убийства тех, кто с ним одной крови. Полидори любит посылать его потомков к нему, чтобы напомнить лорду Байрону, какое он чудовище. Артур Рутвен был одним из этих потомков. Так что как ответ на ваш первоначальный вопрос надо признать, что у Полли и Лайлы были в некотором роде общие цели.
— Но Артур Рутвен давным-давно мертв. Люси, его сестра, до сих пор жива… Скажите, Сюзетта, у Полидори и Лайлы до сих пор… общие цели?
— Доктор, — подняв руку, улыбнулась Сюзетта, — я и так уже ответила на многие ваши вопросы. Игра закончена… И вы проиграли, доктор. Утешьтесь этим. Будьте спортсменом.
С этими словами она ушла. Я тоже спустился по лестнице, размышляя над тем, что узнал от Сюзетты. И вдруг с волнением почувствовал, что мой разум становится почти прежним — острым и решительным. Да, я проиграл. Я опоздал. Но сейчас я играю не за себя.
Ясно, что ключ к загадке у Полидори. Моя беседа с Сюзеттой подтвердила подозрение, о котором я размышлял ранее: мир Лайлы был не чем иным, как норой, вырытой в кирпичных стенах склада, и вход в эту нору вел через лавку Полидори. Через нее заманивались наркоманы, через нее прошли мы со Стокером, она была местом, где реальность смешивалась с лежащей за ней нереальностью. Ибо в остальных местах, таких как, например, подход с главной улицы или причал на Темзе, граница между двумя состояниями была скорее стеной, чем местом встречи, находилась под неусыпным надзором Лайлы, и проникнуть сквозь этот барьер вопреки ее желанию никто не мог. Проникнуть… и, конечно же, выбраться обратно. Но через лавку Полидори… Лавка Полидори… То, что ведет к бесконечности, может в конце концов и вывести оттуда. Возможно, Лайла не заметит моего бегства, если я уйду через эту дверь… через лавку Полидори? Правда, данные эти едва ли позволяли делать выводы, рассуждения едва ли подтверждались фактами, но выбора не было, оставалось только пробовать, пытаться. И вообще, могло ли наказание за неудачу быть хрке того, что я сейчас переживал?
Естественно, если я намеревался бежать через лавку Полидори, мне нужно было обхаживать его самого. Верхний этаж, как я заметил, вновь начал наполняться, словно кладовка — припасами, как я ему об этом сказал. Теперь я видел то, чего не видел раньше: некоторых наркоманов уже обескровливали, но не бледность выдавала их, а их реакция — на меня. Мое присутствие наполняло их ужасом, даже яростью: иногда они пятились, другой раз норовили вцепиться мне в глотку, как Мэри Келли, когда она бросалась на пса, или Лиззи Стюард, когда она сворачивала голову голубю. Прежде меня всегда озадачивала их яростная реакция, но теперь, вспоминая животных в зверинце и зная, как они были созданы, я подумал, что женщины, возможно, как-то чувствовали пропажу своей крови и хотели в приступах умопомрачения вернуть ее от любого попавшего к ним в руки животного. Так же как наркоманы хотели пополнить утраченную ими кровь за мой счет. Каково бы ни было объяснение, мое появление на верхнем этаже лавки вызывало эффект, который нельзя было отрицать, и Полидори, как надзирателю за наркоманами, это зрелище доставляло бесконечное удовольствие. Им часто завладевали приступы яростного смеха, а поскольку я старался разделить с ним веселье, он, к моему удивлению, стал приглашать меня заходить почаще. Я ему не нравился, ему вообще никто никогда не нравился, но враждебность его явно уменьшилась. Как-то раз я попытался спуститься на первый этаж лавки. Полидори холодным тоном попросил меня вернуться, что я и сделал с весьма небрежным видом, сохранив наши дружелюбные отношения. Мои подозрения таким образом подтвердились, но время действий еще не пришло. Сначала нужно было завоевать доверие Полидори.
Я был уверен, что если повезет, то я смогу в конце концов искусить его. Ибо вот что я вынес из беседы с Сюзеттой: Полидори не знал, где найти Люси Рутвен. Несколькими умело поставленными вопросами удалось установить, что он страстно ее жаждет. За то, что он отошлет брата Люси на смерть к лорду Байрону, ему, Полидори, как я выяснил, была обещана сама Люси. Но сейчас Люси находилась у Шарлотты Весткот. Именно Шарлотта забрала тогда Люси из комнаты, а поскольку Шарлотта не жила с нами в Ротерхите, у меня возникла вполне обоснованная идея о том, где Шарлотта может ее прятать, держа при себе бедную Люси как игрушку. Разве не говорила она несчастному Весткоту, когда мы застали ее в тот ужасный вечер, что она хочет взять его жену в наложницы? Все это я сумел передать Полидори в виде упоминаний, нашептываний, намеков. Я тщательно следил за тем, чтобы не подставиться, никогда не предлагал ему сделку напрямую, и Полидори тоже ничего не предлагал мне. Но семя, надеюсь, было посеяно, и я ждал, когда оно взойдет.
Хоть я и желал ускорить ход событий, вновь попытаться вырваться, мне не оставалось иного выбора, кроме как ждать. Ибо мои умственные способности, которые на краткий и ценный миг стали прежними, вновь начали беспокоить меня, но не ослаблением реакций, а, наоборот, постоянным их обострением. Как я могу описать этот эффект? Вначале, как вы можете представить, ощущение было приятное — я воспрял от того, что возвращается моя способность рассуждать. Но я ошибся. Проблески такой способности были, но сразу исчезли. Мозг мой превратился в сердце, бьющееся очень сильно, как у человека, жадно вдыхающего недостающий ему кислород. Так и мой разум для удовлетворения своих потребностей требовал бесконечной стимуляции.
Помните, Хури, жажда взволнованности ума всегда была отличительной чертой моего характера? Теперь я становился абсолютным рабом этого желания, ибо чем отчаяннее старался изгнать скуку из своего мозга, тем быстрее нарастало стремление найти новые источники возбуждения. Я уже не мог сосредоточиться на подробностях бегства из Ротерхита, не мог больше планировать и оценивать, все мои усилия гасли и пропадали втуне. Головоломки, криптограммы, шахматные партии — я перепробовал все и отбросил прочь. Я отказался от попыток размышлять, иначе огненный смерч скуки поглотил бы меня. Вместо этого я стал неустанно бродить по увешанным зеркалами залам, извивающимся лестничным пролетам, тщетно стараясь убежать от собственного разума, который ярко пылал, требуя пищи для удовлетворения своих желаний. Иногда я виделся с Лайлой, мы едва обменивались взглядами, и в тот миг мой голод утихал. Но она уходила, и боль возвращалась. Если бы я только мог ее найти, она погасила бы бушующее во мне пламя. Только бы найти ее… Но я висел в пустоте, как в ловушке, совершенно один. Я взбирался по лестницам, но, дойдя до их вершины, вновь оказывался у подножия. Существовало ли что-нибудь еще, кроме этих ступеней и времени? Безнадежно и бесконечно я взбирался по ним, а угли в моем мозге горели все жарче и жарче. От каждой мысли, каждого чувства его охватывало пламенем И не было ничего, что бы не пожрал этот огонь.
— Возьмите, — сказала Сюзетта.
Я взглянул на нее. На ней было прелестное платьице, в волосы вплетены розовые ленточки.
Я взял шприц, секунду рассматривал его, а потом закатал рукав и защипнул вену.
— Семипроцентный, — произнесла Сюзетта. — Глубже.
— Глубже, — повторил я.
Вонзив иглу, я до упора нажал на поршень. На миг все просветлело. Наркотик растекся по венам, и я глубоко вздохнул от облегчения. Сюзетта засмеялась, и я улыбнулся ей, но сразу вскрикнул, ибо воздействие кокаина стало улетучиваться, вернулось пламя, облегчение исчезло. Дрожащей рукой я схватил шприц.
— Нет, — содрогался я, — нет!
Коснувшись пальцем кончика иглы, я выдавил капельку крови и вновь вонзил шприц себе в руку. На сей раз не было никакого результата. И вновь я вонзил иглу, еще раз и еще, пока рука моя не оказалась вся исколота узором точек. Я слизывал кровь, мазал ею губы, но это не доставляло мне никакого удовольствия.
— Помоги мне, — закричал я. — Прошу, Лайла, помоги мне.
Она перестала обнимать девочку. Ее губы, как и мои, были выпачканы кровью, затем она вновь склонила голову к обнаженным грудям Сюзетты, облизывая и посасывая их. Вместе, девушка и женщина, они смеялись мне в лицо, выгибаясь и содрогаясь в переплетении рук и ног, тесно прижимаясь телами друг к другу. Я отступил Мой мозг превратился в жаровню, полную раскаленного песка. Лайла оторвалась от поцелуев и опять взглянула на меня. Глаза ее сверкали, губы были яркие и влажные.
— Бедный Джек, — проговорила она, улыбаясь. — Джек-Потрошитель.
Я зажал уши. От ее смеха в моей голове вспыхнуло пламя, и я не мог его погасить. Я жаждал ее. Одно ее прикосновение могло погасить пожар. Я попробовал сдвинуться с места, но словно окаменел и мог только смотреть. Как жадно они целовались! Я крепко зажмурился. Но их смех, их любовные утехи заполнили все мои мысли. Боль стала непереносимой. Я пронзительно закричал. Крик струился как кровь, и сгорал в пламени. Все, близок конец… огонь уже растапливает мой мозг. Близок конец… должен прийти конец…
— Возьми, — сказала Лайла.
Вдруг наступила давящая тишина. Мы стояли перед портретом Лайлы. В комнате горела одинокая свеча, мигая как и раньше. Лайла протянула мне золотое блюдо с жидкостью, темной, как вино для причастия.
— Умой лицо.
Я повиновался. Коснувшись крови, я знал, что делать, куда идти.
— Смотри, — велела Лайла и поднесла блюдо к лицу.
Отражение было мое и в то же время не мое. Кожа сильно побледнела, глаза горели огнем, словно из блюда на меня смотрел разящий ангел смерти.
— Иди, — подтолкнула Лайла, целуя меня. — Иди с миром.
Я повернулся и переплыл на лодке реку, направляясь туда, где в самых темных и неприглядных трущобах шла своя жизнь. Теперь я приветствовал в себе гнев ради цели, которую он давал, ради обещания того, что буря утихнет. Одного вида крови достаточно, чтобы голова моя остудилась и кончился этот ад. И когда я вспорол шлюху, вся агония вытекла вместе с покидающей женщину жизнью. Жгучая боль ушла, смываемая кровью из разорванной глотки проститутки. Меня охватила внезапная радость, я оторвался от трупа и заковылял по улицам… каждое ощущение, каждая мысль, каждая эмоция были ценны для меня сейчас. Я всматривался в грязные улицы и испытывал благодарность к мусору, экскрементам, лицам в свете газовых фонарей за то, что могу видеть их и не ощущать при этом боли, а, наоборот, переживать удивление и облегчение. Но затем я почувствовал, что отвращение возвращается. Я стоял в сточной канаве и в экстазе глубоко вдыхал ее запахи, касаясь отбросов пальцем и пробуя их на вкус. В это время мимо меня прошмыгнула еще одна потаскуха в засаленной и мокрой одежде. Я проводил ее взглядом Ее груди обвисли, бедра вихлялись, от нее несло потом Мысли мои вновь взбудоражились. Убить еще раз? Предположим! Но едва лишь появилась эта мысль, как я попытался подавить ее. Я же уже убил Нельзя совершать два убийства за одну ночь. Хватит одного. Так? Да, так. Надо уходить.
Желание еще трепетало во мне, когда я поспешил прочь из трущоб, но я поборол его, хотя во рту у меня стало очень сухо. Предо мною лежал Сити, и вскоре я вздохнул с облегчением, ибо покинул Ист-Энд и Уайтчепель остался у меня за спиной. Я замедлил шаги, ленивой походкой входя на Митр-стрит. Вокруг все было тихо и спокойно. Вдруг прямо передо мной блеснул луч света от фонаря. Я отшатнулся в тень, а из проулка вышел полисмен и прошествовал мимо меня по улице. Как только он ушел, я подошел к улочке. Вдали виднелась церковь, небольшая площадь, какие-то неприглядные фасады складов — ничего интересного. Я пожал плечами, повернулся и хотел было уйти. И тут где-то запела женщина.
Она была сильно пьяна. Даже на расстоянии до меня донесся запах джина. Содрогнувшись от удовольствия, я вновь повернулся и вышел на площадь. Женщина стояла, прислонившись к стене. Она взглянула на меня. Лицо было рыхлым, красным. Она улыбнулась, бормоча что-то, и рухнула мне под ноги. Я открыл свой саквояж, стараясь убедить себя в том, что, несмотря на то что у меня в руке нож, я его не использую. Этому не было оправдания — два убийства за одну ночь. Но хотя я и притворялся перед самим собой, возбуждение уже пробежало по моим венам, и действительно, полоснув женщину, я испытал неизведанное ранее удовольствие.
— О да, — стонал я. — Да!
И разрезал ей щеку от уха до уха. Вскоре хирургия была закончена. Перед уходом я тщательно вырезал матку и положил себе в карман, потом поднялся, оставив пахнущее джином месиво, и поспешил прочь с площади. Сворачивая в проулок за Уайтчепель-роуд, я споткнулся и чуть не угодил в объятия полисмена. Он странно посмотрел на меня, покачал головой и пожелал мне доброй ночи. Как я смеялся! Ибо, едва успев отойти, услышал первые крики ужаса. Полисмен развернулся и понесся за мной, но было поздно. Я уже растворился в гнилом воздухе трущоб, исчез в тумане. Но этим дело не кончится. Будут еще новые и новые убийства. Ведь я же Джек-Потрошитель. И всегда буду возвращаться.
Я всегда буду возвращаться. Радость от смерти проституток начала затухать, но эта мысль, превращаясь из свидетельства триумфа в крик отчаяния, осталась во мне. Я понял, что ритмы преобразованного состояния вписаны в мои клетки: убийство, эйфория, отвращение, боль и, наконец, неизбежное новое убийство. Как долго продлится этот жизненный цикл? Тысячу лет, сказала Сюзетта, тысячу лет она пьет человеческую кровь. Когда я очнулся от удовольствия двойного убийства, ужас этой вечности показался еще более кошмарным, чем самое жуткое страдание, пережитое мной, и в краткий момент просветления, который, как я знал, будет мне дан, я вознамерился бежать. Если бы я только смог, Хури, добраться до вас, мы могли бы спасти Люси из рук Шарлотты Весткот и, может быть… может быть, я бы спасся от себя самого. Возможно это было, как вы думаете? Знали вы, что делать? Я не мог вас спросить. Но на вас были обращены все мои надежды, Хури, когда я планировал свое бегство. А в таком месте, как это, надежда гораздо ценнее жизни.
Надежды оправдались. Мне даже дали время на мою попытку. Сила ненависти Полидори к лорду Байрону становилась все более явной, и, однажды познакомив меня с ней, он не упускал случая сослаться на нее, расчесывая эту гноящуюся болячку. Полидори часто сидел, бормоча и ругаясь себе под нос, иногда вслух выкрикивая проклятия, или часами пялился на огонь жаровни. Когда речь заходила о Люси, глаза его загорались от удовольствия при мысли, как он
отошлет ее Байрону на верную смерть. О моей роли в выполнении этих планов открыто никогда не говорилось, но однажды Полидори сказал мне, что на следующий вечер Лайла будет принимать ванну.
— Принимать ванну? — уточнил я.
Полидори ухмыльнулся и жестом показал на лежащие перед нами тела.
— Она считает, что всех совращает, когда купается, — прошептал он. — Вся вне себя от удовольствия. Ничто не может отвлечь ее от этого, ничто.
— Понятно, — медленно кивнул я.
— Отлично. — Он ухмыльнулся мне и, пошарив в кармане, что-то вынул оттуда. Это была трубка для курения опиума, и он передал ее мне вместе с бархатным мешочком. — Мы оба врачи, — прошипел он, — мы знаем, зачем прописывают опиум. Снимает боль, не так ли? Даже самую ужасную боль.
Он захихикал и поднялся на ноги, споткнувшись о распростертое тело наркомана. Громко выругавшись, он хотел было ударить лежащего, но передумал и с мерзким смешком вновь повернулся ко мне.
— Ничего, — зашептал он. — Скоро я с ним рассчитаюсь. — Он подмигнул мне и оскалил зубы. — Не забудьте. Завтра вечером.
Так оно и случилось. Следующим вечером, в восемь часов, я попытался бежать. Еще перед уходом меня охватил гнев. Я пытался удержать в памяти образ Люси, думал о том, как нам лучше спасти ее, но эти рыцарские размышления не уняли мою боль. Я пришел прямо к вам, но говорил очень мало, потому что прикладывал все силы, чтобы не поддаться гневу и не наброситься на вас. Согласитесь, уважительная причина для молчания. Вы что-нибудь заподозрили? Нет. Да и как вы могли? Но, может быть, вы вспомните, Хури, что я не говорил, а цедил сквозь зубы? Я боялся, что иначе могу вцепиться вам в глотку. Оружия при мне, между прочим, не было. Вот почему нам нужен был Стокер. Я не мог доверить себе револьвер, не говоря уже о чем-либо режущем. Все больше и больше во мне нарастало желание убить. Я боролся с ним, насколько это было в моих человеческих силах. И только после того, как мы пробыли некоторое время в Хайгейте, ожидая Стокера на постоялом дворе под названием «Замок Джека Строу», я наконец-то достал мешочек Полидори и закурил опиум. Эффект оправдал мои ожидания. Вскоре прибыл Стокер, и, покурив наркотика, я смог говорить — мой мозг онемел. Помните, Хури, как я рассказывал вам о доме Весткотов? О силах зла, которые почувствовал там? Видите ли, в тот краткий промежуток времени я мог сосредоточиться, ибо почти полчаса, пока мы пересекали кладбище и шли к дому, голова моя оставалась под анестезией.
Но внутри, в спальне, где спала Шарлотта… такой гладкой была их кожа, когда они лежали там, обняв друг друга, такие розовые и пышные. Нам повезло, Хури, — они только недавно отобедали, иначе даже с киргизским серебром мы не смогли бы застать их врасплох. Но в комнате стоял тяжелый запах убийства. Вы не могли его почувствовать, но меня он парализовал, и я ощутил, как лапки насекомого начали скрести мой мозг. Я стоял, замерев, стараясь подавить это ощущение, но все в этой комнате напоминало об убийстве… Засохшая кровь… Клочки плоти среди ворсинок ковра… Чей-то палец, валяющийся у постели. Когда вы пронзили самое сердце Шарлотты и она проснулась с пеной на губах и ужасающим криком, я знал, что мне тоже скоро придется кого-нибудь убить. Пронзенное сердце и отрезанная голова, раздался тихий шелест, когда вы перерезали ей горло, хруст сворачиваемой шеи и, наконец, треск ломаемого позвоночника — удовольствия, на которые мне не стоило смотреть. То, что она в конце концов мертва, превратилась в месиво из потрохов и крови, она, причина моих несчастий и несчастий других людей, для меня ничего не значило, ибо теперь я воспринимал лишь запах смерти Шарлотты. Как только куча ее внутренностей покрыла пол, запах проник мне в мозг, и я был обречен.
Помните, Хури, я ничего не мог делать? Я стоял у дверей, стоял и дрожал. Люси встала с постели своей любовницы… тупое, испуганное животное, загнанное в ловушку. Вы крикнули мне, чтобы я не пускал ее. Но когда она бросилась, Хури… когда она бросилась… Что еще я мог сделать? Глаза ее так пристально глядели, такие спелые, что я бы выковырял их, обсосал ткань со зрительного нерва, словно клешню краба. И если бы я схватил ее, Хури, то тут же, в этой же комнате, у вас перед глазами, разорвал бы ее голыми руками, выпотрошил ее. Поэтому я пропустил Люси. На секунду наши взгляды встретились, в ее глазах отразилось непонимание, а потом она проскользнула мимо меня и исчезла Я услышал ваш протестующий возглас, повернулся и увидел вас, осклабившуюся Шарлотту, истекающие кровью потроха на смятых простынях. Поднявшиеся в душе ненависть и гнев опустошили меня. Как мне хотелось убить вас! Лапки насекомого скребли все сильнее.
С громадным усилием я вышел, спустился по лестнице и пересек холл. Начал накрапывать дождь, но гнев мой не остывал Я поискал Люси, но ее не было видно. Правда, на гравии отпечатались следы колес экипажа, недавно отъехавшего от дома. Я с какой-то дикой одержимостью помчался по этим следам. Дождь усилился, и вскоре след колес пропал.
Я стоял на Хайгейт-хилл, вдыхая воздух. Подо мной вдали расстилался Лондон. Вонь экскрементов и крови. Я побежал туда, много миль, сквозь ночь. Не останавливался до тех пор, пока вонь не стала невыносимой, а отвращение мое — ни с чем не сравнимым. Сегодня, подумал я про себя, я предамся удовольствиям ненависти. Раньше я торопился и стремился уйти побыстрее, но сегодня мне нужно больше времени для работы. Такое впечатление, что на каждой улице была полиция. Что, если мне помешают? Невыносимо, если на высшей точке наслаждения меня прервут и лишат удовольствия. Нет, сегодня ночью, решил я, мне нужно уединиться. В чьей-либо комнате. Но в чьей? Я огляделся по сторонам и впервые понял, что вновь оказался в Уайтчепеле. Продолжая спешить по все более узким, все более унылым улицам, я почти никого не встречал Я улыбнулся. Значит, шлюхи боятся моего ножа и не выходят? Казалось, дело именно в этом. Ужас был почти осязаем, острый и холодный, как осенние ветры. Я продрог и понял, что моя одежда промокла насквозь. Тем более, подумал я, надо найти комнату, уютную, с огнем в камине. И никаких больше холодных мостовых. Я завернулся в накидку, пригнул голову и выступил из тени на Хэнбери-стрит.
Никто не видел, как я проскользнул к себе. Было приятно убедиться, что ничто не нарушено — везде лежал густой слой пыли. Я подошел к конторке. Моя работа тоже оставалась нетронутой. Даже стеклышко лежало под микроскопом. Я заглянул в линзу: лейкоциты лорда Байрона активно кишели, как и прежде, в неустанном движении по поверхности стеклышка. Вид копошащихся клеток только обострил мое желание лишить кого-нибудь жизни. Я подумал о Ллевелине. Дежурит ли он в палате внизу? Если да, то могут возникнуть трудности с похищением пациентки у него из-под носа. Я нахмурился. Должен же быть какой-то выход. Нельзя допустить, чтобы мое желание осталось неудовлетворенным. Я закусил костяшки пальцев, чтобы унять дрожь в руках, закрыл глаза, вновь открыл их. Взгляд мой упал на каминную полку. Рядом с часами висел ключ. Я улыбнулся, вспомнив, чей он. Взял ключ с каминной доски и сунул его в карман, а из конторки достал хирургический ланцет. Тихо спустившись по лестнице, я вышел на улицу.
До «Миллерс-Корт» было недалеко. Я прошел сквозь узкую арку и вошел во двор. Мэри Келли жила в комнате номер тринадцать. Помедлив у ее двери, я глотнул воздуха и постучал.
Ответа не было, и я постучал вновь.
Молчание. Потом еле слышно скрипнула постель:
— Уходи!
— Мэри!
— Кто это?
— Джек.
— Джек?
Я улыбнулся. В ее голосе явно слышался страх. Я собрался с силами:
— Доктор Элиот.
— Доктор? — послышалось с неподдельным удивлением. — Я думала, вас нет в живых.
— Мне надо поговорить с вами.
— У меня дверь заперта.
— У меня есть ключ.
Я повернул ключ и, распахнув дверь, вошел внутрь.
Мэри села на постели.
— Что стряслось? — спросила она.
Я улыбнулся, глядя на нее, — и вдруг она поняла, прочла на моем лице, как тогда на лице Джорджа на Хэнбери-стрит, когда она напала на него и попыталась содрать с его щек отметку Лайлы — отметку смерти.
Она вскочила, черты ее исказили ненависть и ужас.
— Нет, — прошептала она, — нет, только не вы…
— Тише, Мэри, — сказал я ей.
Секунду она стояла, словно окаменев, а потом попыталась броситься к двери. Я перехватил ее руку, заламывая за спину.
— Убивают! — закричала она.
И тут голос ее прервался… соскользнул… пролился и закапал на пол тихой, убыстряющейся капелью. Она обмякла у меня в объятьях. Я поднял ее и осторожно положил на постель. Какая она холодная! Я оглядел комнату и увидел разбросанную одежду. Улыбнувшись, я собрал ее и швырнул в камин. Вскоре одежда весело горела, отбрасывая оранжевые и красные тени, в отсвете которых блестела нагая кожа Мэри. Сейчас мы оба согреемся. Сосредоточенно я принялся за работу.
Сырое и пахучее тело Мэри искушало меня поторопиться, но я уже был не новичком, как раньше, — величайшее удовольствие всегда должно сопровождаться терпением.
Я нежно ласкал Мэри кончиком лезвия: отрезал голову от туловища, пока та не повисла на коже, вскрыл живот и вынул все органы, положив руку Мэри на рану, чтобы она сама могла ее почувствовать. Жизни в ней теперь не было, и, полностью очищая Мэри, я рыдал от радости. Когда закончу, не останется и следа от ее болезни. Я проколол ее груди. Если бы она осталась в живых, их бы мог сосать младенец. Правда, в крови не оказалось молока, но я все равно вздрогнул. Болезнь могла распространиться, ребенок мог родиться… Но теперь уже нет. Для большей уверенности я еще раз проколол груди, а потом аккуратно отрезал их. Я разогнулся. Лицо Мэри в отблесках огня одобряло улыбкой то, что я делаю. Я подумал, что с него скоро слезет кожа, наружу покажутся кости, а она все будет улыбаться — вечно. Я поцеловал ее, представляя, что целую зубы черепа. И вдруг меня охватила внезапная ярость от того, что у нее такое же лицо, как и при жизни. Она заслужила лучшего. Я заполучил ее для лучшего. Взмахом ножа я отсек ей нос. Остались лишь дыры ноздрей, как у трупа. Напевая сквозь зубы, я тщательно срезал кожу с ее лба. Плоть оказалась липкой, и мне пришлось срезать и ее тоже. Но спешить не было нужды. Я мог остаться с трупом Мэри на несколько дней. Я взглянул на дверь. Надо запереть ее. Я отошел от постели, нашарил ключ и, подойдя к порогу, нахмурился: мне помнилось, что я не оставлял дверь распахнутой настежь. Я замер, но не донеслось ни звука, кроме потрескивания горящей в камине одежды. Я пожал плечами и толкнул дверь. Она не закрывалась.
Я заглянул в щель. И взор мой встретил чей-то сверкающий взгляд.
— Так вы покончили с ней? — спросил лорд Байрон.
Я попытался захлопнуть дверь у него перед носом, но он вставил в зазор руку. Я почувствовал, что моим слабым усилиям противостоит мощная сила, и отлетел на пол В проеме возник лорд Байрон, оглядывая комнату. Губы его сжались, и раз, всего лишь раз, ноздри раздулись, выражая глубочайшее отвращение. Он прислонился к стене.
— Ради всех святых, — пробормотал он, — чем это занимаетесь вы, медики?
Я взглянул на него, потом на лежащую на постели Мэри. На ней играли отблески красных теней, а в самом теле трудно было признать недавно живое существо — осталось освежеванное туловище, покрытое засыхающей кровью.
— Она моя, — заявил я, слегка отступая и продолжая смотреть на противника.
Опершись о постель, я задел рукой что-то влажное. Я глянул вниз: это была печень Мэри, поблескивающая в отсветах пламени. Я взял ее, поцеловал и положил Мэри между ног.
— Вам она не достанется! — вдрут вскричал я и, собрав обрезки кожи, сжал их в руках, баюкая словно ребенка.
— Ради Бога! — воскликнул лорд Байрон.
Я взглянул на него. На его прекрасном лице отразился ужас. А ведь он вампир! Я захохотал еще громче и не мог успокоиться, пока не задохнулся от смеха.
Не успел я опомниться, как лорд Байрон схватил меня за запястья. Я взглянул в его полные презрения вольфрамовые глаза и плюнул ему в лицо.
— Во всяком случае, я не проливаю кровь, чтобы пить ее, — насмешливо сказал я. — У меня более высокая цель.
— Какая же? — спросил лорд Байрон голосом, низким от ярости. — К чему вся эта бойня, Элиот? — Он содрогнулся и швырнул меня поверх трупа на постель. — Вы были добрым человеком, Элиот. Сочувствующим человеком. Что с вами случилось? — Он нахмурился. Его нос сморщился, когда он принюхался к моему запаху. — Так я был прав, — тихо прошептал он. — Вы не один из нас. Вы совсем не вампир. Так кто же вы тогда? Кем вы стали?
— А что? Вам какое до этого дело?
Глаза его, жестко сверкавшие до того, теперь вспыхнули огнем. Он замахнулся было дать мне пощечину, но затем просто сказал:
— Вы мне нужны.
— Я вам нужен? — дико засмеялся я, оглядывая свою живодерскую работу. — Вы хотите поговорить о ваших чертовых кровяных клетках… сейчас?
— Почему бы и нет? — От его холодного тона мой смех сразу же замер. — Лучшего времени не найти.
Он нахмурился, взял несколько кусочков мертвой кожи Мэри и посмотрел их на свет. Мускул на его щеке дернулся, и Байрон положил ошметки на стол.
Вдруг он схватил меня за волосы, подтаскивая к свету и изучая меня.
— Когда вы исчезли, я понял, — медленно проговорил он, — что, должно быть, свершилось ваше падение… — Он взглянул на мой ланцет. — Джек-Потрошитель… Призрак Уайтчепеля… Кровожадный мясник с навыками хирурга. Кто же еще это мог быть? И я стал искать вас, доктор. Я установил наблюдение за Ротерхитом. Сегодня ночью мы видели, как вы ушли оттуда. Я знал, что вы приведете меня к Люси. И я был совершенно прав. Вы привели меня прямо к ней.
— Она с вами?
— В экипаже.
Я вновь рассмеялся:
— Тогда Полидори будет приятно.
— Он хотел, чтобы она досталась мне?
— Поэтому-то и позволил мне уйти.
Лорд Байрон нахмурился:
— Но это ведь не Полидори…
— Нет, это не он превратил меня в то, что я сейчас есть.
И опять я чуть не задохнулся от собственного смеха.
К моему удивлению, лорд Байрон тоже улыбнулся, словно почувствовав облегчение от моих слов. Он подождал, пока утихнет мой смех.
— Конечно же, это был не Полидори, — проговорил он наконец, — Он мог сделать из вас такого вампира как я, но не то существо, в какое вы превратились… Так вы ненавидите ее?
— Лайлу?
Он кивнул. Я погладил лоб Мэри с содранной с него кожей.
— Почему я должен ненавидеть ее? — спросил я. — Когда она подарила мне это…
Выражение лица лорда Байрона не изменилось. Но взгляд его вновь оледенел, и, захваченный им, я не мог бежать.
— Вообще-то, я надеялся, — сказал он, все еще стоя надо мной, — застать вас на месте убийства. Вот почему сегодня ночью я предоставил вас самому себе. Я хотел застать вас врасплох, с печатью учиненной вами бойни у вас на губах, с вашей жертвой у вас в объятиях, чтобы отвращение к самому себе подчинило вас мне. У вампира нет иного выбора, кроме как пить кровь, но это не означает, что он не может сожалеть о своей сущности. Что-то от его прежнего «я» всегда сохраняется. И в этом величайшая из всех мук; — понимать то, что ты должен делать. В вас же… — Он нахмурился, взял меня за щеки. Взгляд его прожигал меня насквозь. — В вас же нет чувства вины. Ни тени осознания ужаса и позора того, что вы творите. Мои надежды подтвердились — вы совсем не вампир. Так кто же вы, доктор? Пришло время узнать это.
Я повернулся к Мэри, целуя ее почерневшие губы.
— Я не понимаю, — пробормотал я. — Почему вас волнует, кем я стал?
Вдруг его мысли отразились в моем черепе. Что он делает?
— Нет, — пробормотал я, — нет!
Я прильнул к трупу Мэри, чувствуя, как пальцы лорда Байрона хватают меня за волосы.
Он ткнул меня лицом в плоть, с которой была содрана кожа.
— Смотрите, что вы наделали! — зашипел он.
И слова его кинжалом пронзили мой разум. Я содрогнулся. Мое возбуждение прошло, сгорело. Все вокруг засветилось ослепительно белым, лучащимся светом, который вдруг пропал, а в глубине моего мозга раздались слова лорда Байрона:
— Смерть будет всегда, — шептал он, — пока есть мясники… генералы… существа такие, как я. Но это? Взгляните же на это, доктор! Что случилось с вами? — Он поднял мою голову. — Взгляните на это!
Я взглянул и вдруг понял. Адское пламя… и передо мной ее содранная кожа… Ад… Я сделал это… Этот ужас сотворил я… Нет! Но мне пришлось смотреть на искромсанный труп Мэри Келли, и вдруг среди, сотворенного мною, в месиве крови, внутренностей и плоти я увидел себя, истекающего кровью в объятиях Лайлы, тающего на полу склада.
— Что ж… Очень хорошо, — зашептал лорд Байрон где-то в глубине моих мыслей. — А теперь покажите мне все, что с вами случилось, доктор… что случилось потом…
Я закрыл глаза, но это не помогло. Даже с закрытыми глазами я мог видеть. Я плыл в море прозрачной крови. Кровяные тельца величиной с мою голову расщеплялись и изменялись на глазах. Пока я плавился в плоти Лайлы, ступени странных спиралей сходились ко мне, свиваясь в узоры и формы еще более странные. Они становились толще и толще, и я начал бороться с ними. На ощупь спирали были словно пучки водорослей, мягкие, засасывающие, и, раздвигая их, я чувствовал, как они меня поглощают. Я уже не был самим собой. Я боролся, но силы мои быстро слабели, и вокруг меня не осталось ничего, кроме этих двойных спиралей… надо мной… подо мной… Я закричал, потому что мое сознание уже не принадлежало мне, а потом, как и раньше, не осталось ничего, кроме тьмы.
— Очень хорошо, — похвалил лорд Байрон.
Я почувствовал, что на лицо мне капает дождь, и открыл глаза. Я лежал во дворе.
— Вы видели? — спросил я.
— Ваше перерождение? Разрушение ваших клеток? Да!
— Перерождение во что?
— Подождите и поймете.
— Но чего ждать?
Лорд Байрон взглянул на меня сверху вниз:
— Вокруг Лайлы существа вроде вас… они старятся? Умирают?
— Никогда, — прошептал я. — Никогда!
— И в то же время, — продолжал он, — как вы сказали, им не нужно пить кровь. Я вас верно понял?
Я медленно поднялся на ноги.
— Так вы считаете, что моя кровь — это то, что мы ищем? Кровь… бессмертного существа?
Лорд Байрон пожал плечами:
— Мы знаем, что это так.
— Но я же… я же стал чудовищем.
— Это не важно. Вам не нужна человеческая кровь для вашего же омоложения. Вот где кроется возможность. Изучить ваши клетки… найти наконец ответ.
— Но я — создание Лайлы. Мне от нее не уйти.
Лорд Байрон внимательно взглянул на меня. Губы его тронула еле заметная улыбка Он повернулся и зашагал прочь по грязи.
— Куда вы? — спросил я.
— В Ротерхит, куда же еще. Чтобы вы стали только моим.
Он замедлил шаг, поджидая меня, но я не мог двинуться, вдруг заметив отблески пламени через дверь.
— Не надо, чтобы ее нашли… в таком виде, — пробормотал я, поворачиваясь, но лорд Байрон схватил меня за руку.
— Оставьте ее, — велел он. — Вы что, хотите сентиментально попрощаться после всего, что натворили?
— Но прошу вас…
Лорд Байрон горько рассмеялся и покачал головой:
— Если хотите сделать ей благое дело, то следуйте за мной.
Но все же я заглянул в дверь. Внутри — ободранный труп, без внутренностей, без лица… Не Мэри… Уже не Мэри. Он был совершенно прав. Мне нечего там делать.
— Ключ, — пробормотал я, шаря в кармане и вытаскивая его. — По крайней мере… Пусть ее не беспокоят… Чтобы не нашли в таком виде.
Дрожащими руками я запер дверь. Лорд Байрон потянул меня за рукав и вывел из «Миллерс-Корт». Мы зашагали по булыжнику Дорсет-стрит. По дороге мы вляпались в лужу нечистот. Их запах напомнил мне о содеянном — ужас, просто ужас. Я хватал ртом воздух, но вместо него вонь нечистот заполнила мои легкие. Хотя меня стошнило и я блевал несколько минут, я никак не мог очиститься. Скоро мне стало нечем блевать, но воспоминание о бойне осталось. Я упал на колени, погрузил ладони в булькающие нечистоты, с благодарностью смывая с рук кровь и ошметки плоти.
— Как вы намереваетесь поступить? — поинтересовался я, глядя на лорда Байрона.
— Уничтожу ее.
— А если не сможете?
Лорд Байрон вздохнул, закутываясь в плащ.
— Если я не уничтожу ее, то она уничтожит меня! А теперь идемте, — взмахнул он тростью. — Дело надо закончить до рассвета.
Он вновь зашагал вперед. На противоположной стороне Брашфилд-стрит у рынка стояли два кэба. Лорд Байрон подвел меня к ним, постучал по стенке первого экипажа Занавески раздвинулись, и дверца распахнулась.
— Как она? — спросил лорд Байрон.
— Мертва, — произнес женский голос.
Я заглянул внутрь повозки и узнал одну из женщин-вампиров с Фэйрфакс-стрит. Она покачала головой.
— Глупа и туго соображает, как все мертвецы.
— Но это не Люси, — невольно вырвалось у меня. — Она не мертва.
— Посмотрите сами.
Я сунулся поглубже и теперь разглядел женщину, скорчившуюся как зверь на полу. Она взглянула на меня пустыми глазами. Кожа у нее была как у прокаженной, сырая от гниения.
— Люси? — окликнул я, не веря себе и оглядываясь на лорда Байрона. — Но… но она не мертва.
— Неркели? — вздохнул лорд Байрон.
Он взял в руки какой-то сверток, покачал его и протянул Люси. Сразу же на ее лице отразились хитрость, настороженность, глаза зажглись какой-то звериной жадностью, губы припухли и задрожали, причмокивая. Она вдруг рванулась вперед и выскочила бы, если бы лорд Байрон не захлопнул дверь тростью. На лице его появилось обеспокоенное и почти столь же голодное, как у Люси, выражение.
— Возьмите, — пробормотал он, передавая сверток второму вампиру, стоявшему в ожидании у дверцы повозки.
— Что это? — спросил я.
— Артур, — пояснил лорд Байрон. — Ребенок Люси.
— Так это вы его забрали?
— Естественно. К тому времени его отец был уже мертв. А мать… — Он жестом показал на дверцу экипажа— Вы сами видели… Теперь я единственный родственник Артура. Я бы предпочел оставить его на попечение матери, но теперь… Не беспокойтесь, я позабочусь о том, чтобы он рос в достаточной безопасности. Во всяком случае, это в моих интересах, чтобы у него в один прекрасный день появился наследник. Уверен, профессор вам об этом рассказывал.
— Но Люси? Кем она стала? Вампиром? Нет… она же явно лишилась рассудка.
— Гнилушка, — резко сказал лорд Байрон. — И плоть ее тоже сгниет. Ее хозяйка, Шарлотта Весткот, не полностью разрушена, ибо ни один смертный не может уничтожить вампира ее силы, но ваш профессор серьезно покалечил ее, и, пока она покалечена, Люси будет продолжать гнить, ибо без своей создательницы она ничто, она лишь ее рабыня, шлюха, игрушка. И в этом состоит вторая причина, по которой вам, доктор, надо сейчас поехать со мной. Вы же видели таких существ в Индии, видели, как быстро может распространиться болезнь. Представьте себе, что чума мертвецов поразила город, в котором много миллионов душ! Я — вампир и властитель царства мертвых, но я тоже своего рода демократ. Я не желаю, чтобы Лондон превратился в скопище рабов. Болезнь начала распространять Шарлотта, но ее заразила Лайла. Мы должны нанести удар ей, Лайле, самой Лилит, средоточию зла, — сразить ее. И попытаться спасти вас.
— Сейчас?
— Если вы готовы.
Я кивнул.
— Хорошо!
Он повернулся и подвел меня к двери кэба. Всю дорогу я сидел в молчании. Ужас того, что я оставил в «Миллерс-Корт», парализовал мою способность наблюдать и думать. Но когда мы наконец въехали в Ротерхит, решимость отомстить той, которая превратила меня в это существо, и страх перед ее силой оживили мою способность мыслить. Я задумался о предстоящей борьбе и ужасном зле, которому нам предстояло бросить вызов. Впрочем, успеха я не ждал, ибо рухнувшая надежда хуже, чем отсутствие надежды вообще.
— А не направляемся ли мы прямиком в ловушку? — вдруг спросил я у лорда Байрона. — Может быть, Полидори, когда позволил мне ускользнуть, охотился не за Люси, а за вами? Может быть, Лайла обещала ему, что научит, как уничтожить вас?
Лорд Байрон пожал плечами:
— Я бы это только приветствовал.
— Так ли? Ведь уничтожение у Лайлы не всегда означает смерть.
— Разве?
Я вытянул вперед руки:
— Смотрите, что она сделала из меня.
Он слегка повел плечами и отвернулся.
— Берегитесь, милорд!
Он резко обернулся, окидывая меня холодным взглядом:
— Беречься? Чего?
— Лайла обладает ужасающей силой.
Он улыбнулся и выглянул из окошка, ибо экипаж замедлил ход.
— И я тоже, — прошептал он. — И я тоже.
Он пожал мне руку, открыл дверцу и выбрался наружу. Я последовал за ним. Мы оказались на Колдлэйр-лейн. На нас смотрели темные окна лавки Полидори.
Дверь лавки была открыта, и мы беспрепятственно вошли внутрь. Наверху было пусто. Я нахмурился. Лайла действительно принимала ванну. У меня в памяти всплыл ее образ: влажные и пористые конечности, тяжелые, словно губка, пропитанная кровью, тянущиеся, чтобы заключить меня в плацентарные объятия. Лорд Байрон повел бровью, по-видимому читая мои мысли, ибо я чувствовал его присутствие в своем рассудке. Хотя он явно понял увиденное мною, на его бледном лице не отразилось никаких эмоций. Мы миновали деревянный мостик, где лорд Байрон на минутку задержался, чтобы проверить укрытый под плащом револьвер, и подошли к двери склада.
Лорд Байрон вошел первым, и изнутри раздался его смех. Я последовал за ним и замер. Моему взору открылся колоссальный зал с куполом. Основание купола обрамляли горящие факелы, образуя гигантскую пирамиду огня. Вдоль стен стояли массивные колонны, по ним вились винтовые лестницы. В самом центре зала, под вершиной огненной пирамиды, стоял крохотный мусульманский храм, вроде тех, что я видел в Лахоре.
Лорд Байрон указал на него:
— Туда… Она там…
— Вы узнаете это место? — спросил я.
— Вампир, который создал меня, — кивнул лорд Байрон, — обитал в похожем куполе.
Он прошел через зал, шаги его отдались гулким эхом в колоссальном пустом пространстве. Я последовал за ним. У дверей храма лорд Байрон обратил мое внимание на лицо, высеченное в камне над аркой.
— Это Лайла?
Я поднял глаза и кивнул. Лорд Байрон улыбнулся.
— Лилит объявилась, — пробормотал он под нос— Ли-лит-кровопийца объявилась. — Он распахнул плащ и крикнул: — Полидори, выходи!
Тишина. Лорд Байрон рассмеялся:
— Вы хотели, чтобы я пришел, не так ли? Так я здесь!
Он вошел в храм, повернулся и нацелил револьвер на какую-то закопошившуюся в тени фигуру. Я узнал Полидори. Он стоял на коленях, но на лице его играла обычная усмешка.
— Приятно встретиться… милорд, — прошептал он, выплевывая этот титул словно наихудшее из оскорблений, и захихикал. — Мой хозяин и создатель… Мой благородный хозяин… Какая честь…
Его лицо искривилось, и он отер закапавший со лба пот.
— Я ждал вас! — выкрикнул вдруг он. — Знал, что вы придете.
— А Лилит… она тоже ждет?
— Конечно же, милорд, — Полидори ткнул пальцем в темноту и подмигнул мне. — Купается, — осклабился он.
— Что ж, — проговорил лорд Байрон, — уверен, что мы великолепно поладим. Даже прелестнейшая из женщин выглядит лучше после ванны. А уж Лилит и подавно. — Он снял плащ и бросил его Полидори. — Постереги, пока я навещу твою хозяйку. Охраняй его хорошенько и, может быть, получишь на чай. — Он повернулся ко мне. — Идемте, доктор. Навестим обольстительную купальщицу.
Он стал спускаться. Оглянувшись на Полидори, я последовал за Байроном. Было очень темно, ступени еле виднелись, но лорд Байрон, казалось, знал дорогу, и я шел на звук его шагов, спускаясь все глубже и глубже под землю. Наконец впереди засветился слабый красноватый огонек, и лорд Байрон остановился, поджидая меня.
— Мы почти пришли, — прошептал он, вручая мне нож. — Возьмите. И помните про «Миллерс-Корт».
Я кивнул. Мы продолжили спуск, и с каждым шагом свет огня становился все ярче.
Наконец нам открылся проем в камне. Лорд Байрон шагнул в него, не останавливаясь, а я замешкался, ибо знал, что там, дальше, ждет Лайла, сама Лайла, ужасную власть которой я испытал на себе, власть чрезвычайную, невозможную, бесконечную. Мной овладела уверенность, что наше дело провалится. Лорд Байрон, вне сомнения, тоже обладает весьма примечательными силами, но он не мог и надеяться одолеть Лайлу — не то что уничтожить ее, как он задумал, ибо она старше, сильнее и более жестока, чем он. В свете красных отблесков на камнях мне померещился огонь в «Миллерс-Корт», и в памяти всплыло лицо Мэри Келли, лишенное кожи, носа, все искромсанное моим ножом. Раздавленный ужасом воспоминаний, я едва не рухнул, но все же заставил себя войти в дверь. Мой последний шанс… терять который нельзя. И еще одно утешало меня: какому бы уничтожению мы ни подверглись, хуже того ада, в котором я находился сейчас, Лайле не придумать.
Лайла стояла у стены огня. Силуэт ее едва вырисовывался, ибо все ее тело отсвечивало красным и менялось вместе с пламенем, горящим за ее спиной. Пол комнаты был чисто вымыт, и на нем располагалось нечто вроде алтаря, вымазанного липкими потрохами. Глядя на ее нагую фигуру, я решил, что она закончила омовение, ибо тело ее набрякло кровью. Она была ослепительно и ужасающе прекрасна. Она улыбнулась мне. Ее лицо… глубина ее глаз… Все мои проклятия в ее адрес вдруг исчезли. Я останусь в ее власти… сейчас… и навсегда. Никакой ценой я не смогу освободиться.
А что, интересно, чувствует лорд Байрон? Лайла не отрываясь смотрела на него, но выражения лица Байрона мне не было видно.
— Я долго ждала встречи с вами, — наконец произнесла Лайла.
Лорд Байрон наклонил голову:
— Чрезвычайно польщен.
— Ну да, — Лайла улыбнулась и поправила волосы. — Ведь меня обычно не интересует ваше плелся.
— Мое племя? — рассмеялся лорд Байрон. — Да вы же сами — создание крови.
— Но совершенно иное, милорд. И вы это хорошо знаете. Не потому ли вы пришли сюда? — Она презрительно махнула в мою сторону. — Пришли бороться за него и его клетки, чтобы раскрыть их секрет и найти для себя лекарство? Да, как видите, мне известны ваши глубочайшие надежды. Но они ничего не стоят, милорд. Они не помогут вам измениться. Они не помогут вам стать таким же, как я. Сколь бы велики вы ни были, даже величайшие из вас — ничто в сравнении со мной.
Она замерцала и поднялась перед нами, будто огонь.
— Видите, милорд? Я меняюсь и остаюсь той же самой. Я первая и последняя, я верх и низ, я все и… ничто.
Она вновь предстала перед нами в своем прежнем виде.
— Я, милорд, совсем не такая, как вы.
— Действительно, не такая, — ответил он очень холодным тоном.
Лайла долго и пристально смотрела на него, потом повернулась, и пламя у нее за спиной погасло. Вместо низких сводов подземелья я увидел зажегшиеся в чистом небе звезды. Я огляделся по сторонам: горы, розовеющие в предрассветной дымке; джунгли, полные богатых, ярких оттенков… Каликшутра, какой я ее помнил…
— Джек!
Я обернулся. Лайла была рядом, сидела на троне. Она показала куда-то, насмешливо улыбаясь:
— Ты был такой храбрец, а?
Я посмотрел в ту сторону. Я стоял на верхушке купола храма. Под нами высилась баррикада. Она яростно горела, перед ней толпилась армия мертвецов, а за огнем укрывались от атаки вы, Хури, Кафф, и рядом с Мурфилдом стоял я сам. В руке у меня был горящий факел, я размахивал им перед лицами мертвецов. Вдруг они хлынули вперед, и я вспомнил тот момент: наш фланг смяли и я почувствовал нашу судьбу в дыхании нападавших.
Лайла засмеялась и встала.
— Должна ли я спасти тебя? — поинтересовалась она.
— Спасти меня? — нахмурился я. — Но я ведь тогда спасся.
— Нет.
— Но вот же я стою.
— В этот момент да, — Лайла наклонила голову. — Ты… я, — она оглянулась, — благородный лорд. — Она вновь медленно опустилась на трон. — Но, может быть, все совершенно не так.
— Как это? — покачал головой лорд Байрон.
Лайла показала на меня:
— Если его сейчас убьют на баррикаде, он никогда не встретится со мной… никогда не встретится с вами. Ткань развития событий нарушится и ни к чему не приведет. И мы никогда не будем стоять здесь.
— Но, — провел я рукой по волосам, — я не понимаю…
— Конечно, — Лайла с удовольствием захлопала в ладоши. — И никогда не поймешь. А я понимаю, и это так просто. Я так и сделаю, если захочу, Джек, просто потому, что могу. Но не хочу. У тебя был шанс, а ты упустил его. Я не намерена наблюдать последствия такого решения. Я хочу встретиться с лордом Байроном и даже с тобой, Джек. — Она опять хлопнула в ладоши. — А теперь посмотрите, милорд, как падают трупы. Да, падают и рассыпаются. Прах к праху — их естественное состояние. — Глаза ее заблестели от удовольствия. — И взгляните на наших храбрых защитников… Наконец-то спасены.
Я увидел, как из-за баррикады вышел Мурфилд. И сразу же пламя взметнулось вверх, почернев от тел мертвецов, вздымаясь все выше и выше к звездам. Я искал Мурфилда, искал самого себя, но на куполе, по-видимому, никого не осталось в живых. Я вспомнил свои ощущения, ваш рассказ, Хури, слова Мурфилда; мной завладело чувство полного одиночества. Вдруг в огне появились шесть женщин-вампиров. Они повернулись, подняли глаза и пали ниц. И я вспомнил еще кое-что, увиденное мною тогда: трон на самой верхушке купола, на троне восседает какая-то неясная фигура, а по сторонам стоят еще две тени. Как я мог забыть — у одной из этих теней было мое лицо!
Лорд Байрон нахмурился — он прочел мои мысли, ощутил мое потрясение и озадаченность.
— Но как же это может быть? — удивился он. — Фигура, которую вы видели… оказывается, вы сами и были ею?
Я взглянул на него, ничего не отвечая.
— Этого не может быть.
— Может, — улыбнулась Лайла— Может, милорд. И вы думаете, — она томно потянулась и закрыла глаза, — вправду думаете, что способны бороться со мной? Бороться со мной, когда я больше самой природы, больше времени и, определенно, больше вашего мира духов, милорд. Я правлю, а мною нельзя править, я соединяю и рассоединяю, я — истина, и я же — беззаконие. Как приятно быть средоточием такого многообразия… Вам не справиться со мной, — прошептала она, дотрагиваясь до руки лорда Байрона. — Но, полагаю, вы увидели сейчас, что я могу дать взамен.
— Да уж, увидел.
Лайла не обратила внимания на холодность его тона. Она взмахнула рукой, и храм вдруг затих и опустел, верхушки его коснулись первые лучи рассвета. Каменная кладка казалась невозможно крутой, словно поднималась из горы, башня возносилась высоко в бедный кислородом воздух, но я не ощутил никакого неудобства, только удовольствие, которое получал в постели Лайлы, когда познание всего мира открывалось мне: равнины… реки… джунгли… моря. Я взглянул на восток: небо зарозовело, вновь обещая возрождение… надежду. Душу мою залило потоком света.
— И вместе с тем, — тихо произнес лорд Байрон, — я видел, что произошло в «Миллерс-Корт».
— Вы такой чувствительный, милорд? — поразилась Лайла. — Такой кровопийца, как вы?
— Всю эту красоту, все эти чудеса и надежду, — он обвел рукой вокруг, — землю, воздух, звезды можно купить, лишь содрав шкуру со шлюхи?
Глаза Лайлы сузились:
— А если и так?
— Тогда меня это не интересует, — пожал плечами лорд Байрон.
— Но вы все равно убиваете.
— Да. И вам известно почему: у меня нет выбора Признаю, небольшое утешение, но это лучше, чем бессмысленное убийство.
— А вот этот доктор — если бы он был, как вы, убивал бы только для того, чтобы выжить, — как вы думаете, стал бы он счастливее?
И вновь лорд Байрон пожал плечами:
— Спросите у него сами.
Лайла взглянула на меня, а я задумался над ответом. Вдруг рассвет, горы, небо снова превратились в полутемное подземелье, освещаемое лишь бликами пламени.
— Нет, — сказал я, — нет, только не это.
Труп Мэри, ее рука на распотрошенном животе с ободранной кожей возникли у меня перед глазами.
— Нет, — повторил я, спрятав лицо в ладонях.
— Ты скорее убил бы ради утоления жажды, чем просто из развлечения?
Медленно я открыл глаза Лицо Мэри исчезло, и его сменило личико Лайлы. Мы по-прежнему находились в глубоком подземелье, за стеной огня.
— Я бы вообще не убивал, — ответил я.
— Нет-нет, — засмеялась она, — ты забываешь, боги дают, но забрать свои дары они не могут. И все же, — она погладила меня по щеке и улыбнулась, — я приношу тебе свои соболезнования.
— Соболезнования? — горько хмыкнул лорд Байрон. — Да вы самая чудовищная политиканка, какую я когда-либо встречал.
— Неправда, милорд. Политиканы — это люди, которые обещают все, а дать не могут ничего.
— Да, конечно, мои извинения, вы совершенно правы. Вы уже показали нам сегодня, на что способны… Но я, — он помотал головой, — я этого не возьму. Я предпочитаю быть рабом своей жажды. Так я свободнее, чем если бы я стал рабом вашего дара.
— А если этим даром станет освобождение от вашей жажды?
— Я не буду принадлежать вам. — Он вдруг улыбнулся и оглянулся на меня. — И за это я готов биться.
По лицу Лайлы пробежала тень внезапного гнева.
— Это ваше окончательное решение? — уточнила она.
— Вы слышали, что я сказал Сладкоречием ли, похотью ли — чем бы вы на меня ни воздействовали, я ничего от вас не приму.
— Какой же вы, к сожалению, упрямый… подлый!
Тонкие губы Лайлы разошлись в улыбке. Она отвернулась и, обхватив руками плечи, уставилась на огонь.
— Что ж, — сказала она наконец, — невелика потеря. Вы все равно будете моим… Вы станете занятным пополнением моего зверинца Ваш друг, доктор Полидори, предложил несколько вариантов, кем бы вы могли стать, и все очень забавны. Думаю, я отдам вас ему — в награду за честную и преданную службу. Вам это подойдет… милорд?
Она выплюнула это слово точно так же, как Полидори. Лорд Байрон посмотрел на нее словно на нечто забавное, а потом повернулся ко мне.
— Тигрица, лишившись тигрят, — произнес он, — львица, иной хищный зверь скалятся и рычат. Вот дамы в минуты потерь.
— Милый стишок, — улыбнулась Лайла и потрепала лорда Байрона по щеке, а потом поцеловала его. — Но видели ли вы когда-нибудь такую даму, как я? — Она снова приникла к нему. — Сомневаюсь, милорд. Даже такой хваленый донжуан, как вы, не может этим похвастаться.
Она вновь поцеловала его, обняла, и я увидел, что кровь, густая, как слизь, сочится из ее тела и всасывается в лорда Байрона Позади меня кто-то шумно вздохнул. Я оглянулся. Полидори прокрался через дверь, глаза его сияли, зубы щерились в хищной улыбке. Лорд Байрон покачнулся. Полидори наклонился и так сильно укусил его за костяшки пальцев, что из них хлынула кровь. Оглянувшись и увидев Полидори, лорд Байрон расхохотался, но его лицо осталось холодным, и на нем я прочел не страх, а гордость и презрение. Он поднял руки, по которым стекала густая кровь, сочившаяся из кожи Лайлы. Лорд Байрон довольно легко освободился от уз крови и быстрым движением отбросил волосы с шеи Лайлы. Лайла пыталась высвободиться, но хватка его стала крепче, и с внезапным стоном он укусил Лайлу. Она содрогнулась, тоже застонала, и они, сжимая друг друга в объятьях, зашатались и рухнули.
Но лорд Байрон продолжал пить кровь Лайлы, а болото крови и слизи Лайлы всасывало его — теперь смертельные враги катались по липкому полу. Стена огня поглотила сражающихся, золотыми искрами освещая их фигуры, а они все сжимали друг друга в объятиях, словно сливаясь воедино в напряженном клубке. Вдруг одна из фигур оторвалась, но я, хотя и придвинулся ближе, не разглядел, кто это. Тело фигуры изогнулось, руки возделись вверх, потом она упала, и вновь обе фигуры слились. Внезапно подземелье заполнил невыносимый, пронзительный крик, полный ужаса и отвращения, от которого потухло даже пламя, уступая место тьме. Снова раздался пронзительный крик отвращения, смешанный с неверием, и на этот раз это был голос Лайлы. Я шагнул вперед — там, где раньше горел огонь, блестели камни, и, хотя свет был очень слаб, я все же увидел распростертое тело Лайлы, на котором лежал лорд Байрон. Медленно он поднялся с нее. Я взглянул вниз и прижал руку ко рту: на теле Лайлы остались такие же раны, как у Мэри Келли.
Лорд Байрон отступил назад.
— Отойдите! — глухо приказал он.
Но я продолжал смотреть. Она была такая прекрасная, такая же милая, как раньше, несмотря на увечья. Но крови не было. Не было крови ни на животе, ни на бедрах, ни на горле.
— Отойдите! — повторил лорд Байрон.
В руке его блеснул револьвер. Он прицелился в меня, и я отступил на шаг, а он выстрелил раз… другой… третий. Бросив револьвер, лорд Байрон огляделся по сторонам, встал на колени перед трупом и поманил меня.
— Нож не потеряли?
Я вынул нож из кармана плаща.
Лорд Байрон обвел взглядом помещение, убеждаясь, что Полидори здесь нет, закрыл глаза и, обернувшись ко мне, крепко сжал мою руку вокруг рукоятки ножа. Ни слова не было произнесено, но я сразу понял, что мне надо делать. Преодолевая отвращение, я вырезал мозг и еще бившееся сердце. Закончив работу, я откинулся назад, и в это время раздался звон стекла.
Я в изумлении оглянулся. Подземелье исчезло. Мы стояли на коленях на полу склада среди битых бутылок, кирпичей и зарослей бурьяна. Я взглянул вверх. Сквозь дыры в крыше виднелось утреннее небо, за выбитым окном поблескивала Темза Я посмотрел на лорда Байрона. Слегка прихрамывая, он прошел по замусоренному полу к груде ящиков. Скинув несколько из них, он обнаружил затаившегося в бурьяне Полидори. Лорд Байрон протянул руку, Полидори ощерился, но все же подполз ближе и передал своему господину плащ. Перебросив плащ через руку, лорд Байрон пошарил в кармане и швырнул Полидори монету, после чего перешел мостик. Я последовал за ним. Вместе мы прошли в лавку Полидори и спустились на Колдлэйр-лейн, где нас ждал экипаж.
— Мэйфейр, — бросил лорд Байрон вознице.
Я взобрался в кэб и под стук колес отупело откинулся на сиденье.
На одной из улиц я выглянул в окошко: рабочие пили джин за завтраком… ранние утренние торговцы-разносчики… потрепанные шлюхи… Пробежали мальчишки-газетчики… На их плакатах красовались кричащие заголовки: «Убийство!.. Ужасное убийство!.. Убийство в Ист-Энде!»
Я содрогнулся — передо мной встал образ Мэри Келли. Но хотя я знал, что ужас того, что я натворил, никогда не покинет меня, я не чувствовал никаких уколов, никакого гнева в своем мозгу. Я вновь взглянул на улицы. Они уже кишели народом и повозками. Мы подъезжали к Лон-дон-бридж, и движение превратилось в сплошной поток, но я
ничего не чувствовал. Вернее, я чувствовал то же, что и в прошлом, до Лайлы, до того как изменили мой разум. От ненависти и отвращения… не осталось и следа. Я перестал быть чудовищем, в которое она меня превратила. Улыбаясь, я повернулся к лорду Байрону.
— Она мертва, — проговорил я.
Он взглянул на меня:
— Вы так думаете?
— Как? Неужели нет?
Он слегка улыбнулся и стал смотреть в окошко. Его молчание обеспокоило меня.
— Нет, — наконец сказал он. — Она не мертва.
— Но… — Слова замерли у меня на языке, когда я вновь посмотрел на грязь и на толпу. Покалываний не последовало. — Вы же видели ее… То, что я с ней сделал… И в голове у меня…
— Что вы чувствуете? — спросил он.
— Ничего.
— Вообще ничего?
— Ну… чувствую себя, как и раньше, до всего этого… но крепче… будто родился заново. А воздух? Я будто впервые вдыхаю его… — Я поймал взгляд лорда Байрона. — Я снова… даже немного больше, чем раньше… Впрочем, что я говорю… Это не имеет смысла.
— Как раз имеет, доктор. Совершенный смысл.
Он улыбнулся, но выражение лица его было почти печальным.
— Не понимаю, — растерянно произнес я.
— Чего?
— Почему вы думаете, что она не мертва? Ведь с ней покончено. И вскоре мы получим наш приз. Бессмертие, милорд, свободу от вашей жажды крови.
Я поцарапал слегка свое запястье, обмакнул кончик ногтя в кровь и поднес к утреннему свету.
— Взгляните на них, милорд. Мои ценные клетки.
Он долгое время не отвечал.
— Я держал ее, я бы почувствовал, — нахмурившись, проговорил он, — я бы знал.
— Но вы же победили…
— Вот как?
— Вы же видели… то, что мы сделали…
— Да, — слегка пожал он плечами. — Я оказался сильнее, чем она могла подумать.
— Так вы согласны? Она действительно мертва?
— Может, и да… — вздохнул он. — Во всяком случае, мы вскоре узнаем это наверняка. Если Лилит мертва — то мертва и Шарлотта Весткот. Если мертва Шарлотта Весткот — то мертва и Люси. Но если Люси жива.. — Лорд Байрон выглянул в окошко. — Скоро будем в Мэйфейр… Подождем до тех пор.
Он закутался в плащ. Молчал и я, пока наш экипаж не остановился на тихой улочке в Мэйфейр, у ступенек, ведущих к дому лорда Байрона. Мы вышли и поднялись к входной двери, и, когда она открылась, я увидел, как по бледному лицу моего спутника пробежала тень, а потом, почти одновременно, в глазах его заблестели удовольствие и желание. Ноздри его расширились, и я заметил, что он принюхивается к воздуху. Сам я тоже почуял этот запах… богатый… золотой… не похожий ни на что известное мне. И, когда мы прошли через холл, он стал сильнее, а к тому времени, как мы вошли в столовую, я осознал, что запах этот не доставляет мне ничего, кроме удовольствия. Лорд Байрон пребывал в таком же трансе. Я спросил у него, что это за аромат, но он лишь улыбнулся, так и не ответив мне. Я подумал, уж не вдыхаем ли мы какой-нибудь наркотик, который оказывает такое сильное влияние на обонятельные нервы, и вдруг внезапно осознал: что бы это ни было, мне нужно еще. Вы знаете, Хури, я никогда не был человеком неумеренных желаний, а поэтому был удивлен, что сейчас, когда мой мозг очистился от проклятия Лайлы, я желаю чего-то так сильно. Я подумал, что, наверное, я еще немного не в себе. Без сомнения, я должен был вскоре поправиться. Однако мое привыкание к наркотику все нарастало, и мое желание попробовать его ощущалось почти как боль.
Лорд Байрон глубоко вдохнул и прислонился к стене.
— Где она? — спросил он.
Колшату освещала одинокая свеча Я всмотрелся в тень, не ожидая ничего увидеть, но, к своему удивлению, понял, что зрение мое улучшилось. Над бутылкой вина склонилась пара вампиров. Они улыбнулись мне, и я заметил, как заблестели их глаза.
— Где она? — повторил вопрос лорд Байрон.
Одна из вампиров, женщина, опорожнила свой бокал.
— Внизу, — сказала она.
— С Гайдэ?
— Ну конечно.
— Доктор, — лорд Байрон коснулся моей руки, — вам бы лучше…
Он заглянул мне в глаза и покачал головой.
— Сюда, — проговорил он и провел меня через столовую и холл.
Мы стали спускаться по винтовой лестнице. Аромат стал почти невыносимым — чем дальше мы спускались, тем отчаяннее я себя чувствовал. У большой дубовой двери лорд Байрон помедлил, взглянул на меня и нажал на ручку. Дверь открылась, и мы прошли внутрь. Аромат золотом омыл мой мозг.
В полумраке я рассмотрел комнату, в которой мы оказались. Пол и стены в ней были каменные, но отделка была изумительно прекрасна: сверкающие орнаменты, многоцветные ковры, богатые породы дерева, яркие цветы, картины, редкие книги… Но сейчас все это ничего не значило для меня, совершенно ничего… Я хотел одного — хотел наркотика. Я осмотрелся, взором ища его, глубоко вдохнул и обнаружил, что на постели сидят две женщины, и одна баюкает другую, свернувшуюся калачиком у нее в объятиях. Лорд Байрон направился к ним. Женщина, баюкавшая другую, подняла голову. Она была очень стара, и я сразу узнал ее — Гайдэ. Мы встречались как-то вечером за столом лорда Байрона, и она просила меня помочь излечить ее болезнь. Но аромат исходил не от нее. Он исходил от девушки в ее объятиях, и этот аромат давала… кровь. Так вот откуда этот аромат, вот каков этот наркотик — живая, смертная, человеческая кровь. Мне вспомнился вопрос Лайлы:
«Если бы этот доктор Элиот стал таким, как вы, — спросила она у лорда Байрона, — убивал бы только для того, чтобы выжить, как вы думаете, стал бы он счастливее?»
И я сразу осознал, Хури, осознал, что стал бы.
Лорд Байрон взял Люси за руку. Глаза ее остекленели, но в остальном у нее был вполне здоровый вид: свежая кожа, розовые щеки, живая… «плоть»… Несколько минут лорд Байрон разговаривал с Гайдэ, а мой голод все усиливался, и я был почти готов схватить Люси сам. Потом лорд Байрон покачал головой и отвернулся. Гайдэ что-то крикнула ему, но он не ответил и, пройдя мимо меня, повел за собой Люси.
— Никогда не мог удержаться от искушения, — сказал он, приказав мне закрыть деревянную дверь.
Я повиновался. Лорд Байрон кивнул, улыбаясь ужасной и морозящей кровь в жилах улыбкой. Он провел Люси по винтовой лестнице, потом схватил ее за плечи и прижал к стене. Руки его яростно дрожали, но, когда он расстегнул на Люси платье, выражение его лица стало почти нежным, а глаза полузакрылись, словно он не желал смотреть. Он слегка нагнул голову и замер на секунду.
— Я не как Гайдэ, — проговорил он. — Но даже она… в один прекрасный день… поддастся.
— Гайдэ?
Лорд Байрон обернулся ко мне.
— Не только моя кровь, — погладил он Люси по шее, — течет в этих венах… Почти восемьдесят лет прожила Гайдэ, становясь все старше и суше, увядая от времени… — Он засмеялся тихим отчаянным смехом. — Сколько, доктор? Как долго вы будете ждать сейчас, когда осознали, кто вы такой?
Ногтем он проткнул кожу на шее Люси. Из сонной артерии ударила кровь. Люси тихо застонала и упала в объятия лорда Байрона, а я, закрыв глаза, нюхал запах льющейся крови. Лорд Байрон встал на колени, и я понял, что не смогу перебороть искушение этим запахом.
— Мне не стоило тратить эту кровь на вас, — сообщил он, — но я чувствую свою вину. Ведь если бы не я, вас бы здесь не было. — Он взял меня за руку и подтянул поближе. — Давайте же, доктор. Присоединяйтесь ко мне. Попробуйте в первый раз.
Минуту я сопротивлялся, потом покачнулся и упал на колени, глядя на кровь. Лорд Байрон засмеялся и протянул мне запястье Люси.
— Ну же, — проговорил он. — Кусайте глубже. Так вкуснее.
Я погладил вены, взглянул на лицо Люси.
И укусил… Как и советовал лорд Байрон, очень глубоко… Как собака, рвущая добычу…
«Соболезную», — заявила Лайла. Даже сейчас ее игра еще не закончилась, предстояло сыграть последнюю шутку. Эта шутка ожидала меня в моем кабинете на Хэнбери-стрит. Я вернулся туда собрать и упаковать самое необходимое, ибо теперь я не мог оставаться в Лондоне — весь мир стал мне местом ссылки. И я чуть не пропустил прощальный подарок Лайлы, ибо вначале не собирался брать с собой микроскоп. Моя работа, мои мечты казались мне теперь просто пылью.
Но в последний момент оказалось, что я не могу просто так все бросить. Я подошел к конторке. Под линзами микроскопа на стеклышке была кровь. Я нахмурился и вдруг отчетливо вспомнил, что рассматривал ее перед уходом в «Миллерс-Корт» — лейкоциты лорда Байрона, пленка белых клеток. Я наклонился и взглянул на стеклышко невооруженным глазом. Проба была красной. Густой, яркой, богатой гемоглобином, красной. Я отрегулировал линзы микроскопа, склонился над ним, изучая пробу.
Лейкоциты были живы, как всегда, но теперь активизировались и красные кровяные тельца. Что-то в пробе изменили, структуру крови как-то изменили. Ибо не стало поглощения красных телец белыми — наоборот, и те и другие вели себя очень устойчиво. Я вспомнил свои исследования структуры крови вампира, как белые тельца крови лорда Байрона разлагали чужой гемоглобин и питались им. Я бросился вниз к Ллевелину и санитарам, которые удивились, но охотно дали мне кровь, взял пробу крови и у пациента, поспешил обратно наверх и добавил все к крови на стеклышке. Никакой реакции. Я подождал, разговаривая с Ллевелином. На его вопросы я вдохновенно лгал. Наконец я вновь осмотрел пробу. И опять ничего: никакого фагоцитоза, никакой реакции вообще. Чужая кровь не была поглощена. Ничего не изменилось… Хури, ничего не изменилось!
С тех пор ничего так и не изменилось. Эти пробы и сейчас передо мной. Я не расстаюсь с ними. Иногда, в минуты сильной подавленности, я их вновь рассматриваю — и в них ничего не меняется… настоящая кровь бессмертного существа За это боролся лорд Байрон — и, как сейчас оказывается, бесполезно, ибо его кровь осталась кровью вампира, а я до сих пор не знаю, как изменить ее структуру. Но эта проба крови Лайлы не поддается никаким попыткам постичь ее тайну, она не дает ни единой подсказки, не предлагает никакого лечения. Вместо этого она дарит мне лишь то, чего у меня не было раньше: уверенность, что бессмертные клетки на самом деле могут существовать. И в этом прощальный подарок Лайлы, ее утонченная и сладостная пытка — пытка надеждой.
Я ничего не сказал лорду Байрону, поскольку знал, что Лайла этого не хотела. Когда-нибудь — может быть, когда я приближусь к разгадке ее шутки, но не ранее. Ибо для него эта пытка будет еще страшнее.
Помогите мне, Хури, прошу вас, помогите. Используйте то, что я вам рассказал, и предупредите всех, кого сможете. А я тем временем жду.
Как ждал эти последние семь лет.
Как буду ждать всегда…
Видимо, вечно.
Вечно, вечно ваш
Джек.
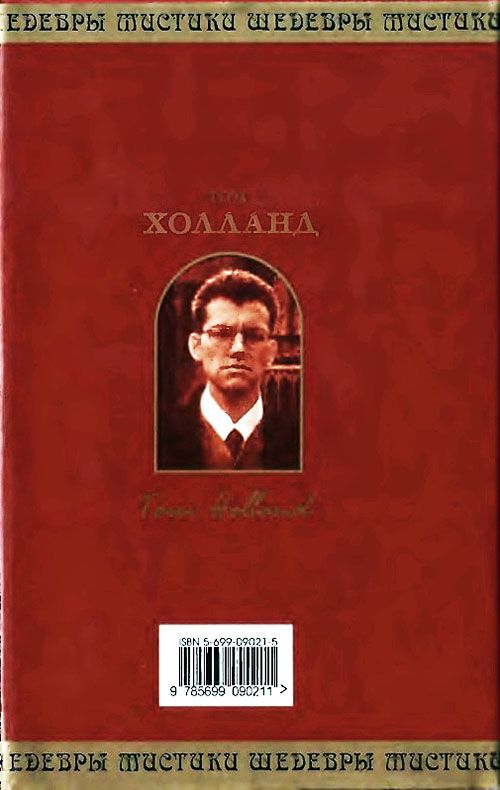
Примечания
1
Милорды англичане?
(фр.)
(обратно)
2
Игра слов: «man» — человек и «man» — мужчина.
(обратно)
3
Мелкий чиновник в Индии. —
Примечание переводчика.
(обратно)
4
Калькутта, как мне сообщили, была построена на гаком же месте. Этот второй по величине город Британской империи первоначально назывался Каликата.
(обратно)
5
Да, да, Кали!
(хинди) — Примечание переводчика.
(обратно)
6
Я обязан своему другу Фрэнсису Янтхазбенду за замечание по поводу того, что в старое время подобное происходило по всей Индии. На Декканском плоскогорье, например, жертв привязывали не к статуе богини, а к хоботу деревянного слона. Интересующиеся могут прочитать об этом в «Повествовании» генерал-майора Кэмпбелла.
(обратно)
7
Мне не удалось найти никаких сообщений о таком растении. Киргизская пустыня, однако, родина чеснока. Интересно, не было ли растение профессора Джьоти разновидностью этой весьма пахучей луковицы?
(обратно)
8
Двухколесная бричка. —
Примечание переводчика.
(обратно)
Оглавление
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЛОРДА БАЙРОНА, ВАМПИРА
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Постскриптум
РАБ СВОЕЙ ЖАЖДЫ
* * *
ЧАСТЬ I
ГИБЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Письмо д-ра Джона Элиота профессору Хури Джъоти Навалкару
Выдержки из «С винтовками в Радже» (продолжение)
В КАЛИКШУТРУ
Письмо профессора Хури Джьоти Навалкара полковнику Артуру Пакстону
Выдержки из «С винтовками в Радже» (продолжение)
ОТЧАЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Письмо д-ра Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
ЧАСТЬ II
Письмо д-ра Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Письмо мисс Люси Рутвен сэру Джорджу Моуберли
Письмо леди Розамунды Моуберли мисс Люси Рутвен
Письмо почтенного Эдварда Весткота мисс Люси Рутвен
Повествование, оставленное Брэмом Стокером и датируемое началом сентября 1888 года
Письмо доктора Джона Элиота леди Моуберли
Письмо леди Моуберли доктору Джону Элиоту
Дневник доктора Элиота (запись на фонографе)
Записки Брэма Стокера (продолжение)
Письмо сэра Джорджа Моуберли доктору Дикону Элиоту
Дневник доктора Элиота
Записка мисс Мэри Джейн Келли доктору Дикону Элиоту
Дневник доктора Элиота
Телеграмма доктора Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Дневник доктора Элиота
Телеграмма профессора Хури Джьоти Навалкара доктору Джону Элиоту
Дневник доктора Элиота
Письмо леди Моуберли доктору Джону Элиоту
Письмо миссис Люси Весткот почтенному Эдварду Весткоту
Дневник доктора Элиота
Записки Брэма Стокера (продолжение)
Дневник доктора Элиота
Письмо почтенного Эдварда Весткота миссис Люси Весткот
Дневник доктора Элиота
Письмо леди Моуберли доктору Джону Элиоту
Дневник доктора Элиота
Записки Брэма Стокера (продолжение)
Дневник доктора Элиота
Сборник Хэнсарда по дебатам в парламенте, том CCCXXIX (1 августа 1888 г.)
Вырезка из газеты «Таймс» от 2 августа
Дневник доктора Элиота
Письмо миссис Люси Весткот мистеру Брэму Стокеру
Дневник доктора Элиота
Письмо профессора Хури Джъоти Навалкара доктору Джону Элиоту
Дневник доктора Элиота
Письмо мистера Брэма Стокера почтенному Эдварду Весткоту
Дневник доктора Элиота
Телеграмма профессора Кури Джьоти Навалкара доктору Джону Элиоту
Дневник доктора Элиота
Письмо профессора Хури Джъоти Навалкара доктору Джону Элиоту
Письмо доктора Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Пришпилено к вышеприведенному письму
Письмо доктора Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
Записки Брэма Стокера (продолжение)
Письмо профессора Хури Джьоти Навалкара мистеру Брэму Стокеру
Отчет, составленный инспектором-детективом Стивом Уайтом о событиях, произошедших 30 сентября 1888 года
Телеграмма профессора Хури Джъоти Навалкара мистеру Брэму Стокеру
ЧАСТЬ III
Письмо профессора Хури Джьоти Навалкара мистеру Брэму Стокеру
Письмо доктора Джона Элиота профессору Хури Джьоти Навалкару
*** Примечания ***