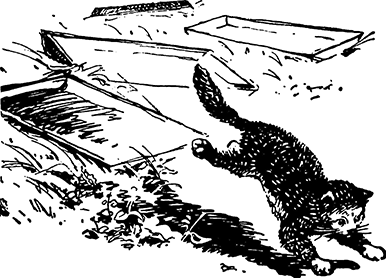Сергей Корзинкин
С ПЕРВЫМ ОТКРЫТИЕМ, КОСТИК!
Рассказы
В стороне от железной дороги, на берегу лесного озера стоят несколько бревенчатых домиков. Это — биологическая станция. На ней работают ученые. Они изучают жизнь подводного царства: водорослей, рыб и невидимых без микроскопа бактерий.
Вместе с учеными живет летом на биологической станции и маленький герой этой книжки — Костя Буравкин. Глядя на взрослых, он тоже увлекается наукой: наблюдает за развитием личинок, ловит лягушек, следит за поведением пиявок в разную погоду. Как и взрослые, он хочет сделать какое-нибудь научное открытие, пусть пока маленькое, но зато собственное. Ведь не зря говорится: лиха беда — начало!
Об интересных делах и открытиях Костика вы и узнаете, когда прочтете рассказы о его первых научных опытах, о походах с ружьем, о лесных встречах.
И хорошо, если, закрыв книжку, вы не только скажете ее герою: «С первым открытием, Костик!», но и сами захотите изучать природу. Ведь для этого не надо совершать больших путешествий: вокруг нас, и в городе и в деревне, есть столько интересного и неизведанного!
Напишите, ребята, понравилась ли вам книга, какие рассказы в ней особенно запомнились.
Свои отзывы присылайте по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
«К — О»

Два дня мы с Филькой искали лягушек: все канавы в округе излазили, все болотины, все лужи. А много ли поймали? Пятнадцать пучеглазых и тощих лягушек. Они испуганно барахтались в высокой ивовой корзине, смешно дрыгая длинными лапами.
— Да, не густо! — сказал Филька, окинув взглядом наше богатство. — По полтиннику за штуку, итого по три семьдесят пять на брата. Может, лучше плюнуть на них. А? В Америке на плантациях небось и то легче.
Признаться, я и сам был не рад, что мы ввязались в эту лягушачью историю: послушались отца и пообещали достать для московского зоомагазина пятьсот лягушек.
Но все же не хотелось бросать начатого дела: ведь на вырученные деньги я собирался купить настоящую лабораторную лупу. Эта мысль гвоздем засела в голове, и я не мог так легко с ней расстаться.
Фильке-то что! Он хотел купить себе всего-навсего сапоги. А для чего они ему? Резиновые сапоги у него есть? Есть! Так нет, ему, видите ли, кожаные нужны, блестящие, со скрипом. А по мне, и резиновыми отлично обойтись можно. Другое дело — лупа! Без нее все мои научные планы ничегошеньки не стоят.
— Ты как хочешь, — упрямо сказал я, — надо еще поискать. Нам просто не повезло. Лягухи небось чувствуют, что мы за ними охотимся, вот и попрятались. Ведь сколько их раньше было! Давай этой ночью еще разок на Кольцевое болотце сходим!
— Нет уж, с меня довольно! — отрезал Филька. — Мне и так от отца лупцовка была. Больше не желаю.

Филька пихнул корзину ногой и зашагал к дому.
— Дарю тебе своих, наживайся!
От Филькиного удара корзина перевернулась, но лягушки, видно, уже так обалдели, что даже не попытались разбежаться. Я быстро водворил их на место, прикрыв сверху травой.
Филька ушел. Что ж, не беда. Он не столько ловил лягушек, сколько изобретал всякие ловушки. Например, ему вдруг пришло в голову набрать побольше смолы и намазать ею газеты, а потом положить эти газеты где-нибудь на краю болота. Лягушки прыгнут на них и прилипнут, как мухи к липучке. Ну, а где столько смолы да газет достанешь? Ясно, нигде!.. И без Фильки обойдусь! Подумаешь, изобретатель!
— Ну, как лягушачьи дела? — спросил меня за ужином папа. — Продвигаются?
Я даже не ответил ему, продолжая ковырять ложкой в остывшей каше.
«Как же быть? — мрачно размышлял я. — Конечно, можно попросить денег у папы. На лупу он, наверное, даст, но ведь мне хочется купить ее на собственные деньги. Я уже и местечко в сарае подыскал для лаборатории — у самого окошка, и полку смастерил, и пузырьков да пробирок у отца выпросил».
— Чего это ты киснешь? — спросила мама.
— «Чего, чего»! Когда не надо, на каждом шагу прыгают, квакают, спать не дают, а сейчас, как назло, ни одной, все разбежались!
— Бедняга, — улыбнулась мать. — Ведь надо же так!
Папа с мамой посмеялись, а я почти всю ночь не спал. А когда наконец заснул, мне приснились полчища прыгающих на меня лягушек. Они ворвались в мою лабораторию и принялись скидывать со стола выстроенные рядком блестящие лупы. Но тут откуда-то появился Филька. Он топтал пронзительно квакающих лягушек и что-то громко кричал о сапогах.
Наутро, когда я бежал за корзиной, в которой хранились мои лягушачьи богатства, меня окликнул дядя Андрей, наш сторож. Он расправлял на высоких вешалах еще мокрые после лова сети.
— Маловато! — усмехнулся дядя Андрей, заглянув в корзину. — А мне твой отец вчера говорил, что лягушек-то полтыщи надо. Так ты их целый год ловить будешь и не наловишь. А дело проще простого — ямы выкопать надо, вроде маленьких колодцев.
И вот у Кольцевого болотца, за огородом, на опушке под высокой осиной зачернели лягушачьи ямы.
Филька, конечно, увидел, как я их копаю, и давай насмехаться.
— Ты что это, — говорит, — могилы роешь? Гляди, как бы в них лоси не попались.
— А тебе что, завидно? — огрызнулся я. — Катись-ка лучше отсюда!
— А вот и не покачусь. — Филька скинул рубаху и развалился под кустом. — Загорать буду.
— Ну и загорай тут хоть целый год! Ямы-то я все равно выкопаю.
И выкопал! Глубокие, стены отвесными сделал, чтобы лягушки выбраться не могли.
А на следующее утро что было! Заглянул я в первую яму у Кольцевого болотца и прямо остолбенел: на дне копошились лягушки, и не десять, не двадцать, а штук пятьдесят. Они становились на цыпочки, падали, лезли на спину друг другу.
Часа два добычу из ям выбирал. И столько я лягушек выловил, что еле-еле до дому дотащил.
Дня через три у меня все корзины и даже два больших ящика были полны-полнешеньки. В ящиках я проделал много дырочек, чтобы лягушки не задохнулись, и набил одну над другой полочки. Так все-таки лягушкам лучше, чем на спине друг у друга сидеть. А вот в корзинах им было до того тесно, что они высовывали меж прутьев то лапы, то головы.
Увидел это папа и посоветовал сделать в корзинах «слоеный пирог»: положить сперва лягушек, а на них мокрого моха, потом опять лягушек, потом опять моха и так почти до самого верха.
Когда я это сделал, папа позвал меня в лабораторию, усадил напротив себя и говорит:
— Завтра в Москву еду. С утра пораньше погрузим твой багаж на телегу. Только не забудь перед этим полить как следует ящики да корзины. А то пересохнут лягушки пока до железной дороги доберутся. Тогда смерть им. Подохнут твои «К — О»!
Взглянув на мою удивленную физиономию, папа весело рассмеялся.
— Не понимаешь, что это за «К — О»? Подумай только, как мне в магазине твоих лягушек представлять? Сказать, что это самые что ни на есть простые лягушки, — не звучит. А вот «К — О» — «Костины — озерные» — это уже совсем другое дело!
И вот наконец мои лягушки поехали в Москву. Ну, а я все переживаю, как-то они доедут.
Эх, конечно, может быть, на лупу денег не хватит. Ну, тогда придется еще подловить. Зато, когда куплю лупу, ни за что не дам Фильке даже подойти к ней. Будет знать, как друзей подводить да еще дразниться!
Разве только, если уж очень просить станет, тогда, так и быть, дам взглянуть в лупу разок. И все!
О ЛИЧИНКАХ, ГОЛОВАСТИКАХ И ДВУХ ЗАЙЦАХ
С сегодняшнего дня я решил вести наблюдения. Задолго до завтрака я заставил подоконники, стол и скамейку у стены банками, простоквашницами, аквариумами и взял три альбома для записей. На одном я нарисовал лягушку и под ней чернилами вывел: «Рисунки развития лягушачьей икры и головастиков»; на втором без рисунка просто написал: «Как личинки ручейников строят домики», а на третий свел цветную картинку — летящую стрекозу — и написал: «Появление стрекозы из личинки».
Папа осмотрел мои альбомы, банки, аквариумы и усмехнулся.
— М-да, — произнес он неопределенно.
— Разве я плохо подготовился?
— Нет, зачем же, даже слишком хорошо… Только, может быть, лучше заняться чем-нибудь одним?
Чудак папа! Он думает, что я не справлюсь. А как я могу заняться одним наблюдением, если у меня такой огромный план составлен? Тогда мне и десяти лет не хватит.
Сказал я это папе, но он только головой покачал:
— Ну, в общем, делай как знаешь, — и ушел.
Я тут же принялся за дело. От скользкой икряной кучки отделил три икринки и положил их в простоквашницу.
В икринках уже виднелись маленькие шевелящиеся зародыши головастиков, их я и стал зарисовывать в первый альбом. Конечно, на рисунке они получились, наверное, раз в двадцать больше, но зато видно было все, как под микроскопом.

Я просидел над простоквашницей часа два, а после завтрака взялся за второй альбом — нарисовал личинку ручейника. Она сидела в большой банке с водой. На дне банки были набросаны прелые прошлогодние листочки, обломки хвоща и рыжая хвоя. Я собрал и накидал туда весь этот мусор, чтобы личинке было из чего строить себе домик.
Когда рисунок был готов, я поставил под ним число, час и расписался.
К этому времени я уже основательно устал, в глазах все расплывалось, в голове гудело, но все же я решил взяться за третий альбом: от намеченной работы нельзя было отступать.
На этот раз мне нужно было нарисовать личинку стрекозы.
Я установил перед собой аквариум, развернул альбом, отточил карандаш и… не увидел личинку. Куда же она делась? Может быть, спряталась под водорослями, которыми было утыкано песчаное дно аквариума? Я внимательно все обследовал, но так и не нашел личинку.
Выход был один — слить воду из аквариума. Но тут я неожиданно увидел беглянку, притаившуюся под листком стрелолиста, торчащего из воды. Но это была уже не личинка, а почти делая стрекоза. У ее лапок лежала желтоватая прозрачная шкурка, из которой все еще не мог освободиться конец стрекозиного брюшка.
Вот оно, оказывается, в чем дело! Пока я рисовал в первые альбомы, личинка прорвала шкурку. Ну что ж, не будем отчаиваться — пока еще не все потеряно.
Я сел перед аквариумом и снова развернул на коленях альбом. Зарисую хоть это.
Я так увлекся зарисовкой стрекозы, что забыл и о лягушачьих икринках, и о ручейнике. А когда вспомнил, оказалось, что я и тут опоздал. В простоквашнице плавали пустые оболочки, а к ним прилепились три маленькие рыбешки. Это и были головастики!
— Опять проморгал! — рассердился я. — И куда только они торопятся?
Пришлось оставить в альбоме чистую страницу, а на следующей нарисовать трех торопливых головастиков.
Рисовал я их уже без всякого удовольствия. Одному приделал усы, другого украсил очками, а третьего превратил в воздушный шар.
В это время меня позвали обедать. Пришлось отложить альбом и прервать наблюдения.
За обедом я чуть не заснул — в глазах у меня плавали икринки, а в бульоне, казалось, шныряли головастики.
Я очнулся, когда подали компот, и, хотя разваренные груши и яблоки были похожи на водоросли из аквариума, мне захотелось добавки.
— Что с тобой? — спросила мама. — Ты ночью не спал?
— Рассеянность присуща всем ученым, — заметил отец.
«Да, я — ученый, но вовсе не рассеянный. Я докажу это!»
Не став просить второго стакана компота, я побежал к себе в «лабораторию».
Головастики по-прежнему висели, присосавшись к расползшимся студенистым оболочкам. Ничего нового с ними не произошло и рисовать было нечего. Зато стрекоза как-то странно выгнулась назад, словно хотела сделать «мостик».
Интересно: какое научное значение имеет то, что она переменила положение? На всякий случай надо было зарисовать ее в таком виде.
Но тут, заглянув в банку, где сидела личинка ручейника, я мигом забыл о стрекозе. На дне банки лежала колючая трубочка из хвои и перетертых листьев. А где же личинка?
Ясно, она уже успела построить себе домик и поселиться в нем.
Неожиданно трубочка дрогнула и медленно поползла вперед. Это ее потащила личинка. Вот так штука! Каким же надо быть сильным, чтобы тащить за собой целый дом!
Наблюдать это было так интересно, что я забыл об альбоме и рисунках, которые мне надо было делать. А когда спохватился, увидал, что уже поздно: столько не нарисовал, столько пропустил, что начинать новые рисунки было бесполезно. Все равно никаких научных выводов не сделаешь.
Я улегся на кровать и уставился в потолок, думая о неудавшихся наблюдениях. «До чего же не везет мне! Как стрекоза из личинки появляется, пропустил. Как головастик из икринки выклевывается, тоже прозевал. Да и с домиком ручейника получилось не лучше».
Заскрипела дверь, и появился папа.
— А ну-ка, покажи альбомы. Что ты там успел сделать?
Папа сел на стул и стал сосредоточенно листать страницы. А я лежал и думал, что ученый из меня, наверное, не выйдет, и уже почти равнодушно ожидал услышать это же самое от отца.
— Хм… что-то не пойму, — пробормотал папа. — А… мя… ми… ся… ного… аешь!
Я уселся на постели и молча взглянул на отца: что это он так странно мычит?
— Не понял?
— Нет! — признался я, думая, что это какой-то ученый, неведомый мне язык.
Тогда папа отложил альбомы, закурил папиросу и задумчиво сказал:
— Если бы люди говорили так же, как ты зарисовывал наблюдения, то у них и получилась бы неразбериха вроде: «А… мя… ми… ся… ного… аешь». А у тех, кто говорит обычно, по порядку, это значит: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь!»
МОЙ БАРОМЕТР
Погода то и дело менялась. С утра лил дождь, к вечеру ветер разгонял облака, и солнце сверкало на мокрых травах, листьях, на черных головках хвоща. Ночью опять дождило.
Я то и дело бегал в лабораторию, чтобы взглянуть на барометр: не подскажет ли он, когда установится хорошая погода. Барометр был ртутный, похожий на огромный градусник.
Папе надоела моя беготня. Услыхав, наверное, в сотый раз хлопанье двери, он сердито сказал:
— Не мешай работать. Если хочешь за погодой следить, сделай себе барометр, как я говорил.
— А у меня банки нет.
Папа отложил пинцет, встал с табурета и открыл дверцу невысокого желтого шкафа. На полках блестели низкие и пузатые, высокие и стройные банки. У одних горлышки были узкие, у других такие широкие, что я свободно мог всунуть в них руку.
— Вот эта подойдет?
Я взял широкогорлую вместительную банку и выбежал из лаборатории.
На крыльце стояла тетя Нюша, наша уборщица. Толстая, круглолицая, с мелкими морщинками возле глаз, она глядела на небо, потирая рукой поясницу.
— И куда это ты в такую погоду? — Тетя Нюша поправила платок и спрятала под него седую прядку. — Вымокнешь! Видать, не скоро разъяснит: очень уж поясницу ломит.
— За пиявками! Промокну — высохну!
Я скатился со ступенек крыльца и помчался к берегу.
— Вот еще выдумал, тьфу, господи! Пальто бы надел! — крикнула вслед тетя Нюша.

Узкой прибрежной тропкой я добежал до маленькой заводи. На заиленной отмели лениво шевелились толстые ложноконские пиявки. На вид они страшные, но даже если и присосутся, то крови у тебя не уменьшится ни на капельку. Слабы они, чтобы кровь через человеческую кожу достать. Я их тысячу раз ловил прямо так — руками. Ничегошеньки — вон какой здоровый!
Домой я вернулся мокрым до нитки, но зато с тремя длинными и толстыми пиявками.
Поставив банку на стол поближе к окну, я стал наблюдать за моими новыми жильцами.
Одна из пиявок присосалась к стенке, а другая все не может выбрать себе местечка.
Третья ползает по дну, не желает подняться к поверхности.
Вот и определяй тут погоду! А ведь именно пиявки должны стать моим барометром.
Папа говорит, что к хорошей погоде они плавают спокойно, к дождю — наполовину высовываются из воды, прилепившись к стенкам, а когда, сморщившись, повиснут над самой поверхностью — значит, быть граду.
А тут — одна на дне, вторая плавает, третья на стенке висит. «То ли дождик, то ли снег…»
«Пусть успокоятся, — подумал я. — Может, придут в себя, увидят, что на улице дождь, и высунутся из воды, как положено».
Я быстро переоделся, накинул на плечи папин плащ и, подхватив обеими руками болтающиеся полы, побежал в лабораторию.
Отец был занят. Он что-то объяснял лаборантке Нине, водя пальцем по столу, словно рисуя. Нина мяла в руках косынку и внимательно слушала папу, изредка поглядывая в окно.
Я кашлянул, чтобы привлечь внимание папы. Но это не помогло. Я кашлянул еще раз, и снова безрезультатно. Ох, и длинные бывают минуты!
Наконец папа поманил меня пальцем:
— Ну как, сделал барометр?
— Сделал, только он врет.
— Врет? — Папа вытер руки холщовым полотенцем, вдвинул микроскоп в желтый полированный футляр. — Пойдем посмотрим.
Когда мы пришли в нашу комнату, банка оказалась пустой. На столе извивалась пара пиявок, потерявших на воздухе свой блеск. Третьей нигде не было. После долгих поисков я нашел ее между половицами. Отец опустил беглянок обратно в банку.
— Не беспокой их. Они знают, что делать.
— Знают? — удивился я. — Все порасползались.
Папа достал из стола марлю и подал мне.
— На, завяжи банку.

С этого дня я каждое утро, едва открыв глаза, вскакивал с постели и бежал к банке, чтобы поглядеть, обещают ли пиявки солнце, дождь или град. Потом, быстро одевшись, принимался за поиски тети Нюши: мне надо было проверить, предсказывает ли ее поясница такую же погоду, как и пиявки.
Обычно я находил ее у дяди Андрея.
— Тетя Нюша, как поясница? — спрашивал я. — Ломит?
Узнав, что поясницу ломит, я, обрадованный, мчался в лабораторию. Пиявки показывали ненастье, интересно, что скажет барометр? Барометр несколько расходился в показаниях с тети Нюшиной поясницей, но все же предсказывал дождь. Ясную погоду все — и пиявки, и поясница, и барометр — показывали одинаково.
Как-то утром, когда за окном лил дождь, я увидел, что пиявки спокойно плавают, словно говоря: вот и хорошая погода близка!
А как я ждал хорошей погоды! Мы с папой договорились, что в первые же ясные дни пойдем на дальние пруды — это километров за двадцать. Папе надо было наловить там каких-то червячков с чудным названием — «олигохеты», а я хотел поохотиться за гребенчатыми тритонами. И вот наконец-то будет ясная погода!
— Ура! — Я спрыгнул с кровати и закружился по комнате. — В поход! В поход!
Пусть за окном дождь, тучи — не беда! Пиявки никогда не подводят!
Натянув брезентовую курточку, я помчался к дяде Андрею. Тетя Нюша была уже там.
Она сидела за столом и пила чай, держа на растопыренной пятерне большое синее блюдце. Положив за щеку кусочек сахара, тетя Нюша дула на блюдце и вкусно причмокивала. Увидав меня, она ласково улыбнулась:
— Старуху пришел проведать, касатик? Ну, садись!
Мне не терпелось узнать, какую погоду предсказывает поясница, но отрывать тетю Нюшу было невежливо, и я решил подождать.
Но вот она отодвинула блюдце, поставила на него перевернутую вверх дном чашку и принялась собирать в пригоршню мелко наколотые кусочки сахара.
— Теть Нюш, давайте помогу! — не вытерпел я. — Вы со стола стирайте, а я сахарницу в шкаф поставлю.
— Спасибо, милок, сиди! Я сама ее спрячу, а то, не ровен час, еще разобьешь.
Убрав сахарницу, тетя Нюша вытерла платком лицо и вздохнула:
— Погода-то, погода-то, прямо наказание!
— А поясница как? Все болит? — спросил я, ерзая от нетерпения на лавке.
— Ох и болит, касатик, ох и ноет! Затянется ненастье!
— Как затянется? — От неожиданности у меня перехватило дыхание, словно я кость проглотил. — Неправда! Мои пиявки солнце предсказывают, все три.
— Ой, господи, пиявки! — всплеснула руками тетя Нюша. — А я-то, глупая, думала, он о старухе беспокоится. Оказывается, о пиявицах. Тьфу! Ах, ты такой…
Я хлопнул дверью и помчался в лабораторию. Не может быть, чтобы мои «предсказатели» подвели! Не может быть!
Лаборатория оказалась запертой. Папа еще не вернулся с озера, куда уехал вместе с Ниной брать какие-то пробы.
Я влез на перила крыльца, достал из-за косяка ключ, отпер дверь и влетел в лабораторию.
Что это? Верхушка ртутного столбика барометра была совсем плоской. А ведь я хорошо знал, что к ясной погоде она обязательно должна быть выпуклой, похожей на серебряную шапочку. Значит, права тети Нюшина поясница, а не мои пиявки!
Прибежав домой, я бросился к банке с тремя горе-предсказателями. Они спокойно плавали, время от времени лениво опускаясь на дно.
«Вот вышвырну, вас! Будете знать, как обманывать!» — решил я.
Но пиявки продолжали благодушествовать, не обращая на меня никакого внимания. Они даже не прикасались к остаткам мясных кусочков, которые я им вчера набросал.
— Налопались, обжоры! И кормить вас не стоит!
— Не стоит! — словно эхо, раздалось у меня за спиной.
Я обернулся и увидел папу.
— Слушаю, как ты с пиявками беседуешь.
— Опять врут, — уныло сказал я.
— Вот как? — Папа наклонился к банке и поднес к своему уху ладонь, сложенную трубочкой.
— Тише! — прошептал он. — «Глупый мальчишка, говорят пиявки. Разве можно нас кормить до отвала? Конечно, нет. Нам, сытым, не до погоды!»
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
Вот уже десять дней я хожу на лесной пруд ловить дафний. Это водяные блохи, похожие на рыжие шарики. Дафнии очень нужны папе. Он кормит ими мальков, над которыми ставят важные опыты. А раз опыты важные, — значит, и ловить дафний задание тоже важное.
И все же ходить на пруд здорово надоело. Надо, например, удилище вырезать да червей накопать, а тут — нате пожалуйста, иди за дафниями. Или жара такая стоит, что из воды никак не вылезешь, а в лаборатории уже опять ждут моих дафний.
Но я, конечно, и виду не показываю, а то вдруг папа возьмет да и скажет, что я еще мал для научных заданий.
Но все же, как сделать, чтобы и мальки сыты были и за дафниями можно было бы не ходить?
Думал я, думал и придумал: надо самому дафний выращивать.
Папе и то моя выдумка понравилась. Он даже по плечу меня похлопал и сказал, что из меня, пожалуй, выйдет толк. А потом долго объяснял, как надо выращивать дафний.
И вот на следующий день я принялся за работу. Выбрал неподалеку от берега в ложбинке укромное местечко и начал копать ямы. В эти ямы должна набраться вода, — тогда в них можно будет запустить дафний.
А знаете, каково это выкопать две ямы? Да не какие-нибудь мелкие, а глубиной почти в целый метр!
Только я принялся рыть, появился Филька. Уселся на поваленную осину, руки в брюки. Сидит, глаза на меня таращит. Потом подошел, грудь выпятил и говорит с усмешечкой:
— Ты чего это роешь? Клад ищешь?
— Может, и клад, — отвечаю. — Проходи лучше!
— Подумаешь! Не твой лес. Захочу — шалаш тут сделаю, а ямы закопаю!
— Как бы не так! Попробуй только!
— И попробую. Мне их закопать — тьфу! Ничего не стоит! — Филька вразвалку подошел ко мне.
Я отступил на шаг и снова принялся за работу, поглядывая на Фильку: «Кто его знает, еще возьмет да стукнет сзади…»
— Связываться с таким неохота!
Филька опять уселся на осину и принялся назло мне выдумывать всякую гадость: дескать, дафнии в ямах жить не станут и обязательно протухнут, и рыбы их есть не будут, и сейчас купаться надо, а не в земле рыться. Чтобы раздразнить меня еще пуще, Филька даже стал разводить руками, словно плыл. А потом принялся отфыркиваться, будто только что вынырнул.
Но я твердо решил не обращать на него внимания, так твердо решил, что даже стиснул зубы. Филька — слово, а я — лопатой в землю, он другое — я снова копну. Быстро дело пошло.
Видно, надоело Фильке, вскочил он на поваленный ствол, раскинул руки — и бегом, словно канатоходец. Потом спрыгнул — и ко мне.
— Дай, — говорит, — копну.
Так-то я ему и дал!
— Нет, — говорю, — уж сами обойдемся!
— Сами? — переспросил Филька. — Ну так получай! — И трахнул меня по затылку, а сам — в лес.
Я даже сдачи не успел дать. А потом подумал и решил, что еще успею, никуда Филька от меня не денется.
Через день ямы были готовы. Я то и дело бегал к ним, чтобы поглядеть, как набирается вода. Прибывала она медленно. Но тут мне повезло. Двое суток подряд лил дождь, и, когда он кончился, воды в ямах было полно.
Папа поговорил со сторожем дядей Андреем, тот запряг станционную лошадь — старого Копчика, поставил на телегу большущий бидон, и мы поехали на лесной прудок.
Планктонной сеткой, похожей на сачок без палки, я быстро наловил дафний, и мы двинулись обратно к дому.
У лаборатории нас встретил папа.
— Ну, как «охота»? — спросил он, подходя к телеге, с которой дядя Андрей снимал бидон. — Покажите-ка! — Папа откинул крышку бидона, наклонил его, плеснул на ладонь немного воды, кишевшей дафниями. — Ба, тут на десяток ям хватит!
Мы подняли бидон и понесли его по узкой тропке к ямам.
Скоро в ямах заплясали рыжие точки. Они прыгали из стороны в сторону, то опускаясь в темную глубину, то снова танцуя у поверхности.
Папа и дядя Андрей уже давно ушли, а я все глядел и глядел на резвящихся в воде дафний. До чего же хорошие ямы я выкопал! Рыбу разводить можно, не то что дафний!
— Эй, ну-ка дай взглянуть! — неожиданно раздался Филькин голос. — Ой, смотри сколько… — Филька лег на живот и опустил голову к воде. — Знатно!
«Ага, небось завидно!» — подумал я и, пожав плечами, небрежно сказал:
— Это что! Знаешь сколько их будет, когда разведутся? Ведром черпать можно. Во!
— Ведром? — Филька поднялся и подошел ко мне. — А не врешь?
— Ей-ей!
Филька что-то хмыкнул и медленно зашагал в лес. «Может, взять его в помощники? — подумал я. — Да нет, он главным захочет быть. А ведь ямы выкопал я, и дафний наловил я. Значит, я и главный! Нет уж, один управлюсь».
Я осмотрел ямы, снял с воды несколько березовых листочков. Они были совсем желтые — значит, скоро в Москву, в школу…
— Обедать! — донесся издалека папин голос.
Все уже рассаживались за широким и длинным столом, врытым прямо на луговине. Я занял свое место на скамье рядом с папой. Напротив сидел Филька и уплетал горячие жирные щи.
Все ели молча, изредка перебрасываясь фразами. Но вот папа отодвинул тарелку, нахмурил брови и, потерев лоб, взглянул на меня.
— Завтра начнем сушить дафний. Запасать на зиму. Одному тебе, пожалуй, не справиться, а помощников нет. Вот разве Филя поможет?
Я хотел было сказать, что и один управлюсь, но смолчал.
— Да небось он не согласится! — Филька кивнул головой в мою сторону. — Он все один хочет.
— А ты только дразнишься, — сказал я.
— Итак, завтра будете сушить дафний. — Папа взял вилку и принялся за второе.
На следующее утро все началось, как я и думал: мы еще не насушили ни грамма, а уже поссорились. И все из-за того, что оба хотели и ловить Дафний, и выливать их на жестяные противни, которые потом надо было ставить на солнцепек, чтобы вся вода испарилась.
Наконец Филька все же уступил мне и принялся ловить дафний, а я выливал их на противни.
Когда все четыре противня, наполненные кашицей из дафний, стояли на солнцепеке, мы побежали купаться.
От ныряния у Фильки губы стали синими, будто он черники наелся, а у меня вся кожа пупырышками покрылась. Чтобы согреться, мы наперегонки побежали назад к ямам. Там нас ожидало такое, от чего мигом стало жарко, словно мы и не купались.
На одном из противней сидел черный котенок Тишка и старательно размазывал лапой подсыхавшую кашицу. Два других противня валялись вверх дном, а четвертый был весь засыпан землей.

Филька схватил кусок дерна и что было сил запустил в котенка.
Тишка ловко увернулся и бросился в кусты. А мы — за ним. Да куда там — разве догонишь!
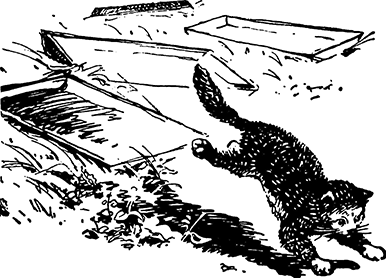
Пришлось все начинать сызнова. Но зато мы столько дафний насушили, что их папе на всю зиму хватило да еще осталось.
ТАЙНА ЩИТНЯ
Луж была уйма. В лужах отражались стволы, ветки, юркие солнечные зайчики, словно выпрыгнувшие из густой листвы.
Но вода в них была мертвой. Так сказал папа. И вправду, сколько я ни глядел в лужи, не увидел в них ни дафний, ни пиявок, ни дрыгающих брюшком комариных личинок. Не было в ней и таинственного щитня, которого я ни разу так и не видел.
Да и откуда могли взяться в лужах дафнии, пиявки и щитни? Ведь вода появилась в них всего дня три назад после сильных дождей.
«Зря это папа затеял, — недовольно думал я. — Лучше бы на рыбалку поехали».
От лужи к луже, от лужи к луже — и ничего!
— Папа, а может, щитни тут и не водятся? — сказал я неуверенно. — Может, их вообще нет?
Отец в это время стоял на коленках перед лужей и поманил меня пальцем:
— А ну, скорее банку!
Миг — и я лежал животом на мокрой траве, глядя, как в коричневой воде двигалось черное чудовище. Оно было не больше желудя. Его туловище походило на щит, черный хвост был раздвоен.
— Не бойся, — сказал отец и положил мне на руку щитня. — Он хоть и родственник рака, но не щиплется.
Вскоре я совсем осмелел, спокойно запускал руку в лужу и, выловив щитня, передавал его папе.
— Ну, в этой луже, кажется, все. Пошли дальше! — сказал отец, сажая последнего щитня в банку.
Не прошло и часа, а в банке было уже двенадцать щитней. Они бестолково суетились, кувыркались, толкали друг друга.
Дома мы поровну поделили улов — шесть щитней папе, шесть мне — и рассадили их в два аквариума. Папа объяснил, что это щитни летние, теплой воды не боятся и кормить их надо личинками комаров, головастиками или мелко наскобленным рыбьим мясом.
— Все ясно? — спросил отец, вытаскивая из футляра микроскоп. — Справишься?
— Еще бы! — усмехнулся я. — Дафний выращивать небось потруднее, и то справился!
— Не говори «гоп», пока не перепрыгнул! — сказал папа и занялся своими делами.
В этот вечер я долго не мог заснуть и все ворочался с боку на бок. «Откуда все-таки в лужах оказались щитни? — думал я. — Ведь не с неба же упали вместе с дождем?»
На следующее утро я прибежал в лабораторию, когда там еще никого не было. Усевшись на табурет, я принялся разглядывать своих новоселов. Щитни вели себя так, словно родились в аквариуме. Поблескивая черными щитами, они то опускались на дно, то подплывали к самой стенке, будто желая получше разглядеть меня.
Но больше всего мне нравилось, когда они перевертывались и плавали на спинке, — тогда были хорошо видны их лапки, которые не останавливались ни на секунду.
Вскоре пришел и папа. Через плечо висело полотенце, блестели гладко зачесанные волосы. Он заглянул в аквариум.
— Ба, да они уже отложили яички! Везет тебе, Костик.
Я, правда, не понял, почему мне везет, но зато яички заметил сразу. Они были очень маленькие, с булавочную головку.
— По дафниям ты уже специалист, — сказал папа. — А не попробовать ли тебе вывести щитенят, а?
Папино предложение мне понравилось, и я сразу же стал соображать, как получше взяться за дело.
— Как ты думаешь, папа, а если сделать инкубатор?
— Инкубатор? — удивился папа. — Интересная идея. Ну что ж, попробуй. А я буду выводить по-своему. Посмотрим, у кого получится лучше.
Папа ушел, а я, не теряя времени, вынул из шкафа простоквашницу — стеклянную банку, похожую на низкую кастрюльку без ручек, положил на дно немного ила, налил воды и с помощью пипетки перенес в нее яички щитня.
«Посмотрим, у кого выведутся раньше: у меня или у папы», — думал я, ставя простоквашницу на подоконник, освещенный солнцем.
В этот день все шло отлично. Вода в инкубаторе была прозрачной и теплой, яички лежали на месте, и я подолгу любовался ими.
На следующее утро папа стал делать что-то совсем непонятное. Он выловил из своего аквариума щитней, слил почти всю воду и вынес его на крыльцо, на самый солнцепек.
— Пусть пожарятся! — сказал он.
Я даже втайне обрадовался — ведь яички без воды погибнут. Теперь папа наверняка проиграет соревнование.
Я достал тетрадь в красной обложке и на первой странице написал: «Дневник научных наблюдений над щитнями Кости Буравкина». Потом поставил число и стал записывать, как мы поймали щитней и как увидели, что они отложили яички.
Это была, пожалуй, самая хорошая запись во всем дневнике. День ото дня записи становились все хуже и хуже. С яичками творилось что-то неладное. Уже через день я увидел, что они покрываются зеленоватой слизью. Она обволакивала их все плотней и плотней. Напрасно я перетаскивал инкубатор с солнца в тень и обратно на солнце. Напрасно менял воду. Ничего не помогало.
Как-то подошел ко мне отец и стал разглядывать мой инкубатор.
— Ну-ка, посмотрим, что тут делается.
Папа взял пипеткой несколько яичек, положил их на стеклышко (оно называется предметным) и сунул его под микроскоп.
— Тащи сюда табурет повыше! — сказал он. — А теперь влезай, смотри в микроскоп и докладывай обо всем, что увидишь.
Я зажмурил левый глаз, а правым заглянул в трубку микроскопа. Ой, и чего только я не увидел! На огромном сильно освещенном поле извивались какие-то червяки, прыгали серебристые с шипами шары, носились остроносые ракеты. Папа покрутил винт микроскопа, и тогда показался кусочек яичка. Тонкая оболочка его была прорвана, изнутри торчала какая-то вата.
— Погибли, — сказал отец.
— Погибли? — не поверил я. — Ведь я так за ними ухаживал…
— Ладно, не горюй! — Папа похлопал меня по плечу. — Как говорится, и на старуху бывает проруха. Слезай, пойдем посмотрим мое хозяйство.
В отцовском аквариуме вся вода высохла. Зеленовато-бурый ил смешался с яичками так, что их почти нельзя было рассмотреть.
— И у тебя погибли, — сказал я. — Смотри, все засохли и стали как пыль…
Но, странное дело, папа не огорчился. Он подмигнул мне и ссыпал зачем-то сухой ил вместе с яичками в небольшую пробирку.
— Посмотрим, — сказал он и ушел в свою лабораторию.
Несколько дней после этого я все не мог успокоиться. Даже купался без удовольствия. Нырну, бывало, открою под водой глаза, и все мне щитни мерещатся. Вылезу на берег, сяду на солнышко, греюсь и думаю: «Щитни тоже тепло любят».
Но больше всего мне досаждал Филька, который вернулся с Кубани, где гостил у своей бабки. Как его угораздило пронюхать о моей неудаче, не знаю. В первый же день после приезда он сказал, что я «рак-дурак» и, конечно, неспроста, — ведь щитни и раки родственники. И каждый раз, встречая меня, спрашивал:
— Ну как твой инкубатор? Много раков вылупилось? Не продашь десяток?
Потом я поймал маленького зверька, похожего на белочку, — я о нем когда-нибудь расскажу. Очень смешной зверек, зовут его соня. Занялся им и забыл про щитней. И даже не вспоминал. А через год, на следующее Лето, позвал меня как-то папа и говорит:
— Принеси лестницу к лаборатории, да поживей! Щитней разводить будем.
Каких щитней? Ах да, я и забыл о них вовсе. Что это он опять задумал? Мало мы в прошлом году с ними навозились?
Все же лестницу я притащил. Папа прислонил ее к стене лаборатории возле окна и полез под крышу. Долез до половины, запустил руку за оконный наличник и вынул… что бы вы думали? Пробирку! Ту самую — с сухим илом и мертвыми яичками щитней.

Потом папа спустился на землю и велел мне приготовить аквариум. Я сбегал на озеро, принес воды, и вот уже аквариум готов. Мне не терпелось увидеть, что же будет дальше, но отец, как нарочно, медлил.
— Поспешишь — людей насмешишь!
Не торопясь, он высыпал в аквариум содержимое пробирки.
— А теперь можешь идти купаться, — сказал он. — Расспросы потом!
Да, потом было о чем расспрашивать!
В аквариуме через несколько дней уже резвились маленькие щитенята. А еще через несколько дней они стали совсем как взрослые щитни — двухвостые, черные.
Вот тогда и открыл мне папа тайну щитней. Оказывается, чтобы вывелись рачки, надо обязательно подержать яички на воздухе, да побольше. Можно и на солнце, и в мороз — они все вынесут.
Папа нарочно пробирку на всю зиму за наличником оставил. Я бы, конечно, ему и без этого поверил, но ведь так получилось куда интересней.
Ну, а если бы яички на воздухе погибали, то и щитни бы вымерли. Живут ведь они в колдобинах да лужах, где сегодня есть вода, а завтра — ни капли. Вот щитни и приспособились. Окажутся яички на воздухе, высохнут, смешает их ветер с пылью и переносит в другие лужи. Глядь — и там вдруг щитни появились, словно с неба. Вот ведь какие хитрые!
СКОРО НА ОХОТУ
Памяти
Виталия Валентиновича Бианки
Теплый ясный вечер. Из нашего окна хорошо видно озеро. Оно сейчас красное-красное. Это от заката.
Над водой чернеют длинные мостки. Кажется, что они начинаются прямо от подоконника. Возле них на приколе зеленая лодка. Чуть правее выступает из воды рыбий садок.
Я сижу у окна и думаю, когда же наконец папа кончит работу. Давно уже он обещал взять меня с собой на охоту.
Папа сядет на весла, а я буду сидеть на носу и держать наготове ружье. Нет, я не промахнусь — утка от меня не уйдет. Только бы папа дал мне стрельнуть! А потом мы вместе будем набивать чучела.
Ну и медленно идет время. Я уже собрался было сбегать в лабораторию за отцом, как вдруг распахнулась дверь. На пороге стоит папа, ворот рубашки распахнут. Я делаю вид, что разыскиваю что-то на полу.
— Ты чего потерял? — спрашивает папа.
— Да вот, запропастилась куда-то!
— Что именно?
— Да, понимаешь… — поспешно выдумываю я, — ну, грузило для перемета…
— Ты что, на рыбалку собираешься?
— Нет, мы же к охоте решили готовиться…
— Ну, раз готовиться так готовиться!
Я счастлив. Во-первых, потому, что ловко провел отца, а во-вторых, ведь «готовиться» — значит набивать патроны. Набивать их надо хорошо, чтобы не было «мазни».
Мама убирает со стола скатерть, а я стремглав бегу в чулан и приношу коробки с гладкими картонными трубочками. Это — гильзы, с одного конца у них медные шляпки.
Я усаживаюсь у стола на высоком табурете. С него мне все отлично видно.
Напротив меня папа. Глаза его прищурены. Он бережно выкладывает из коричневого ящика с пузатым висячим замком коробочки и мешочки.
Вот папа достал голубую коробку. На ней нарисован сокол. Он сидит на толстом суку, раскинув крылья, словно стережет порох.
Я знаю, что это порох бездымный. Интересно: маленькие зеленые чешуйки, легкие-легкие, а какая в них сила!
Как-то в начале лета папа прибил на стену сарая большой лист бумаги с нарисованной посередине уткой и дал мне стрельнуть в нее. Объяснил, как ноги расставить, как приклад к плечу прижать. Ну, я все так и сделал. Только очень долго целился. А папа говорит, что долго целиться не надо: руки от усталости дрожать будут. А потом я нажал «собачку». Гром раздался такой, что я на минуту оглох. Приклад толкнул меня в плечо. Я закачался и еле устоял на ногах.
— Ничего, привыкай! — сказал папа. — На первый раз только половину заряда насыпал.
Вот это да! А если бы насыпал по-настоящему? С ног бы, наверное, свалило!
Стекла стали черными: на улице уже стемнело, а мы с папой все еще сидели за столом и работали.
Папа доверил мне развязывать мешочки со свинцовыми шариками. Это очень важная работа, ничего не стоит поторопиться — и рассыпать шарики. А ведь шарики-то не простые — дробь. Ею в птицу стреляют.
В одном мешочке дробинки мелкие, чуть крупнее пшена. В другом — словно гречка. В третьем — как горох. На каждую птицу свой номер дроби. По вальдшнепу — пшено, по тетереву — греча, а по глухарю — горох.
В школе в первом классе — самые маленькие ребята, намного меньше, чем в пятом. А здесь наоборот. Первый номер дроби куда больше пятого.
На маленьких с прозрачными чашечками весах папа взвешивает порох. Сколько раз я просил его позволить мне взвешивать, но он так и не разрешил.
— Ты, — говорит, — легко ошибиться можешь, а с порохом шутки плохи.
Облокотившись грудью на край стола, я гляжу, как папа зажимает пинцетом металлические пластинки и кладет их на одну из чашечек. Это вместо гирек. Я так загляделся, что не заметил, как дыхнул на весы. Чашечки закачались.
— Ну-ка, дистанцию дай! — Папа погрозил пальцем.
Я вспомнил, как в прошлом году мы отправились на утиный перелет. Папа загнал лодку в тростник, замаскировался и только закурить хотел, как два селезня — раз! — и сели неподалеку. Папа из одного ствола — трах, из другого — трах, а вместо выстрелов только «пшых!», «пшых!». Селезней осыпало дробью, как дождиком, и ни одного даже не ранило. А все потому, что пороху в патронах мало было.
Порох папа ссыпает в гильзы через бумажную воронку. Порох сыплется и шуршит, будто мышь под полом: сышш… сышш…
Папа закупоривает гильзы толстыми валеночными пыжами. Я уже знаю, что ему сейчас понадобится мерка, и спешу достать ее из плоской железной коробочки. Мерка точь-в-точь как у молочницы кружка, только очень маленькая. На ней чернеют непонятные знаки и рубчики. Папа опускает мерку в мешочек и вынимает до краев полную дроби. Насыпает дробь в гильзу, а сверху прокладку из картона кладет. У дроби тоже есть свой мушиный голос. Она сыплется, весело вызванивая: деззз… деззз… деззз!
Папа насыпает ее осторожно, будто каждая дробинка на счету. Я вываливаю на стол похожие на пятаки прокладки: они сейчас нужны будут папе. Прокладки желтые, блестящие, папа вставит их в гильзы поверх дроби, чтобы она не высыпалась.
Я гляжу, как ловко он это делает, и вспоминаю, что наш станционный сторож дядя Андрей, когда ест застреленную птицу, обязательно старается отыскать в ней дробинку, которой птица была убита. Найдет эту сплющенную дробинку и спрячет в спичечный коробок для сохранности. А когда набивает новые патроны, в каждый добавляет по одной такой дробинке.
Спросишь у него: «Зачем?» — «Она, — говорит, — счастливчик.
Дичь
приносит!»
Я нечаянно задеваю рукавом мерку, и дробь рассыпается по полу. Спрыгнув с табурета, я ныряю под стол и старательно собираю разбежавшиеся свинцовые крупинки.

Наконец все гильзы наполнены дробью. Я знаю, сейчас начнется самое интересное.
Папа плотно привинчивает к столу закрутку, похожую на игрушечную мясорубку.
— А ну-ка, — говорит он, завязывая мешочки с дробью, — начинай свое дело.
Я вставляю в закрутку набитую гильзу и принимаюсь изо всех сил крутить деревянную ручку.
— Ты не котлеты готовишь, — ероша волосы, усмехается папа, — осторожнее, гильзу сомнешь!
Но вот все в порядке: у гильзы вместо жестких шершавых краев — гладкие и, как ни тряси ее, не выскочит прокладка, не рассыплется дробь. Это я ее так закрутил!
Приходит мама.
— Поздно уже, а вы все хозяйничаете. Спать, Костик, спать! Да и тебе пора, — обращается она к папе, — ведь завтра чуть свет на озеро ехать, проспишь еще!
Мама говорит это сердито, но я вижу, что ей тоже нравится наша работа. Вижу по глазам. Они у нее сейчас светлые-светлые; и в них искорки-смешинки. Мне хочется сделать ей что-нибудь очень хорошее, и я щедро предлагаю:
— На, попробуй поверти!
Мама улыбается и, поправив сбившуюся набок косынку, берется за ручку закрутки.
Но как она крутит! Разве можно так быстро? На это просто невозможно глядеть.
— Ты же ведь не котлеты готовишь, — возмущенно говорю я, — гильзу сомнешь!
Мама, даже когда закручивает гильзы, не может забыть о том, что мне уже пора спать. Приходится отправляться в постель.
Свернувшись под одеялом, я представляю, как мы с папой едем на утиный перелет. А еще лучше, если он возьмет меня в Темники — дремучий лес километрах в пятнадцати от нашего дома. Я там еще ни разу не был. Небось лес замшелый, темный. Идешь по нему — солнца не видно. «Надо спросить у папы, — засыпая, думаю я, — водятся ли там рыси и медведи…»
А все-таки в Темники меня папа не взял, но я все равно радовался каждому удачному выстрелу. Принесет папа длинноносого кулика, вальдшнепа или черного лесного петуха — косача — это и моя добыча! А как же иначе?
Ведь мешочки с дробью развязывал кто? Я!
А гильзы закручивал кто? Опять я, Костя!
Значит, и добыча немножко моя, Костина!
НЕ ДО ДРАКИ!
Я открыл глаза и сразу вспомнил — сегодня день моего рождения.
Солнцем освещен только краешек подоконника, — значит, еще рано. Но мамина кровать в углу возле печки уже аккуратно покрыта одеялом. А папа ночует на сеновале. Говорит, что только там сон бывает «густым».
За окном — озеро в мелких гребешках волн. С кровати мне не видно луговины, раскинувшейся между домом и водой. Кажется, что озеро подходит вплотную к раме.
Пора делать зарядку, но вставать лень. Я поворачиваюсь лицом к стене, чтобы подремать еще немножко, но… что это? На коврике, прибитом над моей кроватью, — одностволка!
Я сижу на постели и тщательно рассматриваю ружье. Вот это подарочек!
Таинственно поблескивает грозный, иссиня-черный ствол. На широком брезентовом ремне вышиты зайцы и утки. И хотя зайцы почему-то синие, а утки зеленые, как салат, но они представляются мне живыми, кажется, что я уже крадусь, к ним со своим новым ружьем.
Вот здорово! И патронташ не забыли подарить!
Я снимаю его со стены. Он похрустывает, словно леденцы. Если обмотаться им наискосок через грудь, будешь похож на моряка из гражданской войны.
— Один, два, три… — считаю я патроны, но тут в комнату входит папа.
Я неохотно кладу ружье на постель: вдруг он отберет подарок? Скажет: «Ты еще мал, подрасти надо, пускай полежит годок-другой!» Но нет, ничего такого отец не говорит. Он весело оглядывает меня, и я облегченно вздыхаю.
На отце легкий синий пиджак, серые в полоску брюки, а ноги босые. Летом папа редко одевает ботинки.
— Ну, Костик, поздравляю! Десять лет, как говорится, не пустяк! — Папа потирает руки. — Как подарок? Пришелся, а?..
Эх, дать бы сейчас из новенького ружья салют! Бабахнуть прямо из окна по озеру!
Папа подхватил меня и подбросил высоко-высоко: сердце остановилось, а макушкой я чуть не задел потолок.
Все утро я носился с ружьем как угорелый. Мне тут же хотелось обновить его, подбить на озере утку, а потом прийти на кухню и небрежно бросить ее на стол. То-то мама удивится!
Но напрасно ползал я на животе по берегу озера, прятался за кустами и кочками, подкарауливал уток. Только весь вымок и опоздал к столу.
А обед какой приготовили! Пирог с грибами, жареные окуни и малиновый кисель. И все из-за меня!
В другое время я бы ел не торопясь, но сейчас, кроме ружья, я ни о чем не мог думать. Я так спешил, что не различал, горячее ем или холодное, сладкое или горькое, — только бы скорей, скорей! Папа и мама пересмеивались — видно, понимали, что мне сейчас не до пирогов с киселями.
Еще задолго до наступления вечера я сидел на мостках, дожидаясь утиного перелета. И, хотя солнце стояло высоко над лесом, я уже в сотый раз осматривал ружье. В воде, пугаясь моей тени, шарахались в стороны стайки серебристых плотвичек. Скорей бы начался закат!
Вдруг послышался шум. Из кустов показался рыжий Филька.
— Привет, охотничек! — громко сказал он. — Много настрелял?
— Тише! — зашипел я, вскинув глаза к небу, словно там вот-вот должны были появиться утки.
Филька прищурил один глаз, свистнул и послал длинный плевок в озеро.
— Чего шипишь, как гусь. Кто же уток так рано ждет?
Филька был невыносимый человек. Откуда-то узнал, что я тайно веду научный дневник да опыты над головастиками ставлю, и не давал мне прохода: «Профессор! Профессор лягушачьих лапок!» Вот и попробуй тут, удиви всех нежданным открытием. А сколько раз он насаживал мне на жерлицы дохлых мышей!
Хоть он и был старше меня на год, а ума нисколечко не набрался. Просто удивительно, до чего он не понимал науки. А дружить мне с ним приходилось поневоле, ведь на станции, кроме нас, никого из ребят не было. А в Москве мы живем далеко друг от друга: он в Сокольниках, я на Арбате, и знать друг о друге не знаем.
— Пошел отсюда! — говорю я. — Ты мне всю охоту испортишь.
А Филька как ни в чем не бывало сел рядом на мостках и говорит:
— Карабин-то у тебя ничего, — и погладил ружье по стволу.
Я покрепче сжал приклад.
— Не трожь, обожжешься!
— Эх, — вздохнул он, — стрельнуть бы!
— И не проси! Не дам!
— Да я и не прошу, я так…
— А раз так, тогда и катись.
— Ну, бывай!
Филька зевнул и полез в лодку. Уселся на корме и давай раскачиваться из стороны в сторону. Потом прыгнул на берег и вразвалку зашагал в лес.
Уж очень он миролюбиво ушел. Не задумал ли что? Но мне было не до него — я снова с напряжением стал следить за небом.
И вдруг опять послышался Филькин голос.
— Эй, Кость! — Филька стоял на берегу и махал мне рукой — звал к себе. Глаза его были вытаращены, волосы растрепаны, будто он с кем-то подрался. — Кряква!
— Где? — не поверил я.
— Где, где! Шляпа! У купания. Беги скорей, а я тут подожду.

До «купания» было метров сто. Я помчался туда не берегом, а лесом, прячась за березами. Под ногами похрустывал валежник. Я замирал не дыша — только бы не спугнуть.
Вон и косматая ветла, нагнувшаяся к воде. Сквозь листву виднеется «купание» — открытая вода в зеленом хвоще, а в конце — кряква. Она медленно плывет, оставляя за собой светлую полоску, плывет прямо к берегу.
Торопясь, заряжаю ружье. От волнения утка, вода, хвощ расплываются словно в тумане. На животе, царапая лицо, руки, ползу через кустарник к воде. А утка — вот здорово! — все плывет и плывет на меня.
Я взвел курок. Теперь главное — спокойствие. Сильнее прижать приклад — раз, не дышать — два, тянуть «собачку» плавно — три.
Не знаю, как это случилось, — я только еще припоминал, что надо делать, а ружье вдруг взяло и выстрелило. Приклад толкнул в плечо, в уши ударил звон.
А утка? Так и есть — промахнулся!
Мне стало жарко от неудачи. На секунду показалось, что в кустах мелькнуло улыбающееся лицо Фильки, но откуда ему тут быть? Вот поднимет на смех, если узнает!
Скорее новый патрон. Ружье прыгает в руках. Патрон никак не попадает в патронник. Кряква вот-вот скроется в хвоще.
Скорее!
Снова толчок в плечо. Снова звон в ушах.
Кряква плывет.
Пустая гильза, как нарочно, застряла в патроннике — ни туда ни сюда. Я стал вытаскивать ее зубами, и тут вдруг услышал торжествующий крик Фильки:
— Есть! Быстрей сюда!
Не разбирая дороги, я бросился вперед.
Вот и Филька. Он стоял по колени в воде и держал в руках утку. Кряква еще была жива. Она дергалась, пытаясь вырваться из Филькиных рук, а он то и дело окунал ее в воду.
— Не тронь! — крикнул я и не узнал своего охрипшего от волнения голоса.
— На, пожалуйста! — Филька разогнулся и поднял над водой деревянное чучело с длинной ниткой на шее.
Мне стало нестерпимо душно. Я стиснул зубы, швырнул в рыжее Филькино лицо пустую гильзу и… повернулся к нему спиной.
С ружьем в руках не до драки!
СЧАСТЛИВЧИК
Мы сидели в столовой и ели.
— Филька, а Филька, давай меняться! — толкнул я приятеля локтем.
— Мы… чем? — промычал Филька с набитым ртом.
— Ты мне крыло косачиное, а я тебе ножку! Вон какая поджаристая.
Филька уставился на ножку, подозревая какой-то подвох. За столом стало тихо, только изредка постукивали ножи да вилки.
— Даю лук и пять стрел! — прошептал я.

Соблазн был велик. Филька потер веснушчатый нос и подвинул свою тарелку к моей. Я подцепил вилкой надгрызенное крылышко, а ножка перекочевала к Фильке.
Я тщательно пережевывал крыло и вдруг ойкнул. Что-то попало мне на зуб. Еще не веря своему счастью, я схватился за щеку, выскочил из-за стола и помчался в нашу комнату. Ура! Теперь я непременно возьму рябчика! Обязательно возьму!
На следующий день, едва серый рассвет подступил к окнам, мы с папой отправились в лес.
Заряженное ружье я нес не на ремне, а сжимал в руках: вдруг вылетит рябчик или косач, притаившийся где-нибудь в траве!
На душе тревожно и радостно. И лес, и дорожка, которой мы шли, и облака над нами, словно застывшие на небе, казались какими-то особенными. Я был уверен, что сегодня принесу с охоты своего первого рябчика.
С ветвей падали крупные капли росы, пахло смолой и прелыми листьями, мохом и болотной травой.
— Я вот тут и пристроюсь, — сказал папа, садясь на толстый пень, черневший у ствола высокой ели.
— Ни пуха ни пера! — шепнул я и помахал рукой.
Тропинка свернула влево и круто сбежала в овражек, на дне которого протекал ручей.
«Вот это место! — радостно подумал я, усевшись у лохматой елочки. — „Осыплешься рябчиком!“, как говорит папа».
Я достал из нагрудного кармана маленький костяной свисточек-манок и осторожно подул в него: «тии… тии… ти-ти!»
И тут же раздался шум, похожий на далекий хлопок. Взлет! Теперь только не двигаться, не шелохнуться!
А сзади, как назло, щекочет по шее веточка. В колено врезался острый сучок. Стискиваю зубы: ничего — перетерплю, выдержу!
В просвет меж еловых веток мне видны большой муравейник, полоска тропинки, поваленный ствол осины.
Солнце, пробившись сквозь паутину ветвей, светит прямо в глаза. Я щурюсь и часто мигаю, чтобы прогнать набежавшие слезы. Хочу вытереть их кулаком, но… что это?
Совсем недалеко, шагах в десяти, — рябчик! У меня екнуло сердце, будто я взлетел высоко-высоко на качелях. Хитрец бесшумно бежал прямо ко мне по желтой дорожке. Вот он замер, вытянув шейку, и снова засеменил вперед.

Медленно, не дыша, поднимаю ружье. Ствол задевает тоненькую веточку. Она согнулась и выпрямилась пружинкой.
Рябчик застыл на месте возле муравейника. Неужели заметил, как колыхнулась веточка? Пускай. Сегодня ему все равно не уйти! Сегодня я не могу промахнуться!

«Ба-бах!» — раскатился выстрел. Выскочив из засады, я бросился вперед по тропинке. Но где же рябчик? Он был вот тут, возле муравейника!
У моих ног желтеет маленький бугорок, а рядом на сыром песке чуть видны крестики знакомых следов рябчика.
— Ну как? — подходя, спрашивает папа. Он нагибается, чтобы получше разглядеть следы: — Ого, ловкач, убежал!
— Нет, я не мог промахнуться! Не мог! — упрямо твержу я. — Ведь вчера в жареном тетереве мне дробинка попалась — счастливчик!
Папа не спеша садится прямо на тропку, по-турецки поджав ноги.
— Дядя Андрей всегда такие стреляные дробинки собирает! — захлебываюсь я. — Счастливчики без промаха бьют!
— Вот чудак! — Папа, улыбаясь, качает головой. — Ты бы лучше поглядел, как дядя Андрей выдержан на охоте: ни рука, ни глаз не подведут…
У меня дрожат губы. А в лесу тихо-тихо. Только где-то далеко раздается мерный крик ворона. И кажется, что ворон, соглашаясь с папой, кричит: «Верно! Веррно! Верр…ррр…но!»
С ПЕРВЫМ ПОЛЕМ!
На чердаке темно. Тонкие солнечные лучи, пробившись сквозь щели, словно дымятся, — это в их свете танцуют тысячи пылинок.
Я вытащил из-за пазухи карманный фонарик. Где-то здесь свалены старые дранки, они нужны мне для змея.
Перешагнув через балку, я обогнул дымоход и заглянул в дальний угол. Там чернели какие-то ящики.
«Да тут, кажется, целый магазин! — обрадовался я, откинув крышку ящика. — Куртка! Галифе! Фуражка!..»
Прибежав в комнату, я оделся во все охотничьей долго рассматривал себя в зеркало. На меня глядел чуточку незнакомый, бывалый следопыт — загорелый, брови нахмурены. Над бровями лихо торчал рыжий козырек волшебной фуражки. Вот это да! Увидел бы меня Филька — лопнул бы от зависти!

Больше терпеть невозможно — надо показаться другим. Я помчался в лабораторию.
— Пап! А пап! — закричал я, распахивая дверь. — Гляди-ка!..
Отец не спеша отложил чучело чирка и повернулся ко мне.
— На чердак лазил? — спросил он строго. — В ящиках рылся?
«Сейчас отберет, — подумал я и натянул фуражку поглубже на голову. — Обязательно отберет!»
Но, видно, фуражка выглядела на мне так здорово, что отец только махнул рукой.
— Ладно, носи, — усмехнулся он. — Только аккуратней. Фуражка заслуженная, от деда досталась. — И он снова принялся осматривать утиное чучело.
«Теперь всем будет видно, что я настоящий охотник! — думал я, выходя из лаборатории. — Одна беда — не добыл пока ничегошеньки. Ну, да не вечно же мне мазать!»
А папе за фуражку обязательно чирка-трескунка принесу для чучела! Я представил, как появлюсь в лаборатории в фуражке, с ружьем и… трескунком. Вот все подивятся!
Чирка взять не так-то просто: он как реактивный летает.
В эту ночь мне приснился чирок-трескунок. Я крался к нему ползком меж кочек, а он отплывал все дальше, дальше и вдруг… взлетел!
Я вскочил с постели и увидел, что за окном только еще брезжит. На столе стоит чайник, и пар, вырываясь из-под крышки, поднимается к потолку, словно ружейный дымок.
«Значит, папа недавно приходил из лаборатории пить чай, — догадался я. — У него сегодня ночные опыты».
Я потихоньку оделся, натянул фуражку, взял ружье и выскочил из дому.
Над маленьким заливом дымился туман. Вот-вот должно было выглянуть солнце. В небе все еще висел месяц, тоненький, похожий на тающую льдинку.
Я залез в густой куст и пристроился на ветках. Отсюда хорошо был виден почти весь залив. Тихо. Только изредка шелестел камыш.
Давно уже взошло солнце, рассеялся туман и подул ветер, а я все сидел и всматривался в заросли, боясь пропустить чирка. Всматривался до того, что в глазах поплыли синие, розовые, желтые круги. А когда зажмуривался, мелькали какие-то разноцветные мухи.
«Вот тебе и трескунок! — невесело думал я. — Хорошо еще, ничего не обещал папе». Вдруг на воде я заметил узкую серебристую полоску. Слегка покачиваясь, медленно плыл в мою сторону трескунок. Самый настоящий! Он казался таким легким, что подуй посильней ветер, хлестни волна, и его не станет — унесет.
Я боялся пошевелиться. На глаза набежали слезы. Ноги стало покалывать словно иголками. Сердце, как молоточек, торопливо выстукивало: тук, тук, тук!
«Эх, подплыл бы поближе! Только бы подплыл!»
Но чирок блеснул грудкой и, словно пытаясь привстать на цыпочки, раскинул крылья. Неужели взлетит?
Вскидываю ружье. Вижу только рябое зеркальце воды и на нем трескунка. Руки дрожат. Мушка мелькает, как водяной жучок-вертячка.
Чирок давно летит, а мушка все еще не успокоится.
Бух! — громыхает выстрел. Неужели я все-таки успел пальнуть? А где же чирок? Вон что-то бьется у края заливчика! Попал! Попал!
Я бегу вдоль берега, проваливаюсь в размытые ямы, продираюсь сквозь ольшаник.
Чирок качается на воде, поблескивая темно-коричневой спинкой. Волны подталкивают чирка в открытое озеро. Бросив ружье и патронташ в кусты, стягиваю сапоги, брюки, задираю рубашку и прыгаю в воду. И сразу же скрываюсь с головой! Вот это глубина! Выныриваю отфыркиваясь.
Утренняя вода обжигает тело. Плыву изо всех сил. Еще немного — и трескунок будет моим. Еще немного… но тут я оглядываюсь назад: неподалеку от кромки зарослей качается на воде рыжий блин. Да ведь это моя фуражка!
Куда плыть? Фуражка или чирок? Чирок или фуражка? Я лихорадочно соображаю, а руки уже сами увлекают меня вперед, к трескунку. Еще взмах — и я хватаю его за крыло.
…Солнце стояло высоко над лесом, когда я вошел в лабораторию.
— Батюшки, весь мокрешенек! — ахнула тетя Нюша и выронила веник. — Василь Петрович, полюбуйтесь-ка на свое чадо!
Из соседней комнаты, застегивая на ходу халат, появился отец.
— Где это тебя так угораздило?
Вместо ответа я вынул из охотничьей сумки чирка и протянул папе:
— Для чучела сшиб!
Отец взял чирка, придирчиво осмотрел его и крепко пожал мне руку.
— С первым полем тебя!
А я, вместо того чтобы радоваться, стоял и не мог сказать ни слова.
— Ты чего это?
— У меня утонула… утонула…
— Кто утонул? — встревожился папа.
— Фуражка, — промычал я, стараясь не глядеть на отца.
— Фу ты! — облегченно вздохнул папа. — Теперь ты и без нее настоящий охотник.
СОНЯ
Мы с папой возвращались с охоты. В папиной сумке — три тетерева-косача, а у меня в нагрудном кармане — соня, маленький зверек, похожий на бельчонка. Ворочается он, лапками перебирает, щекочет. Я чуть отверну угол кармана, он тут же острые ушки высунет, глазком-черничинкой осмотрится — удрать хочет.
Поймал я соню, когда мы отдыхали на опушке среди орешника. Увидела она нас — и с ветки на ветку. А я — за ней. Ухватился за куст, на который она села, и давай трясти его. Соня — на другой, я к нему и опять трясу. Вцепилась соня в веточку, да не удержалась — и вниз! Тут я ее быстро накрыл кепкой.
Принесли мы соню домой, и стала она жить у нас в комнате. Вечером легли все спать: свет погашен, окна занавешены. Тихо-тихо.
Вдруг слышу, кто-то зашуршал: чышш, чышш, чышш… Я удивился. Встал с постели, лампу зажег — никого нет. Заглянул под стол, под кровать — никого.
Только свет потушил, лег, опять: чышш, чышш… Снова встал. И снова никого. Мне даже страшновато стало: кто это у нас завелся?
На другую ночь — все то же. Хоть и боязно, но я решил узнать, кто это спать не дает.
Вечером взял карманный фонарик, погасил свет, сел на кровать и жду.
Вот у окна раздался шорох. Включил фонарик, все окно осветил. Гляжу, на занавеске соня. Бежит вверх быстро, занавеска у нее под лапками только «чышш, чышш…»
Кормили мы зверька сперва лесными орехами. Но соня больше любила кедровые. Я попросил папу привезти их из Москвы. Насыплешь орешки на блюдце и оставишь на ночь на столе. Утром все орехи на месте, и кажется, что целые. Но это только кажется. Разгрызешь один — пустой, другой — тоже пустой. И так все, кроме гнилых.

Это соня их так ловко ела: зажмет орешек передними лапками и грызет. Сделает в скорлупке маленькую дырочку и через нее зубами ядрышко достает. Скорлупка будто целая, а внутри орех пустой.
А по вечерам соня помогала папе работать. Сядет он за стол, бумагу разложит, чернильницу откроет и пишет. Вдруг «чышш, чышш…» — соня уже на столе. Устроится поудобнее и следит за папой. Отец опустит ручку в чернильницу, а соня не пугается, не убегает.
Устанет папа и на соню глядит. Это ему отдых. Отдохнет и снова работает.
Осенью стала пропадать соня. Бывало, все вещи перевернем. Ведь соня зверек маленький, а вещей в доме полным-полно.
Первый раз нашел соню папа, хотя искал ее я. Вышло это так. Собрался папа в Москву. Пальто надел, портфель взял и тут вспомнил, что оставил на столе рукопись. Вернулся в комнату, захватил бумаги и говорит:
— Где-то теперь соня? Вот я нашу с ней работу в Москву отвезу.
Стал класть рукопись в портфель, а одна страница и смялась. Папа сунул руку в портфель, чтобы расправить бумагу и вдруг засмеялся:
— Гляди-ка, Костик, что у меня!
Лежит у папы на ладони соня, не шелохнется, «Ну, — думаю, — умерла!»
А папа сел у стола, сложил ладони коробочкой и держит в них зверька. Хотел я спросить, что это он делает, а из коробочки сонина мордочка показалась. Папа объяснил мне:
— Осень уже. В комнате холодно. Вот и заснула соня. Она хотя и маленькая, но как большой медведь на зиму засыпает.
Отогрелась соня в отцовских ладонях и забралась на шкаф.
Второй раз нашли мы соню спящей в корешке толстой книги. А в третий раз так и не отыскали — спряталась!
Только иногда по ночам слышалось: «чышш, чышш, чышш…», а наутро мы находили на столе скорлупки от орешков.
А весной по ночам уже больше никто не шуршал: «чышш, чышш…» Оставили мы на ночь форточку открытой. Соня по занавеске в форточку, оттуда на землю — и в лес! Где-то она сейчас гуляет?..
ЗА ЖИВИЦЕЙ
На крыльце, греясь на солнце, сидели сторож дядя Андрей и незнакомый старик с ярко-рыжей окладистой бородой.
— Живем ладно, — чуть нараспев говорил огненнобородый. — Никола мой живицу добывает. Хоть и трудное дело, да ведь без труда не выловишь и рыбку из пруда…
Я перестал натягивать лук и прислушался к разговору. Живица? Что это?
Бородач заговорил о какой-то тетке Татьяне, о новом магазине и о том, что зима непременно будет лютой.
Живица… Живица… А, вспомнил — жук! Нет, тот — жужелица. Ягода! Опять нет. Ягода — ежевика.
Догадался! Раз живицу добывают, то, наверное, это зверь! И как только я сразу не додумался!
Спрыгнув с крыльца, я побежал в лабораторию.
— Папа, пойдем за живицей!
— За живицей? — Брови отца приподнялись. — Зачем она тебе?
— Как «зачем»! Шапку или воротник сделаем. А еще лучше — чучело!
— Что?.
На папу вдруг нашел такой приступ кашля, что он еле отдышался.
— Да знаешь ли ты, что такое живица? — спросил он, вытирая выступившие на глазах слезы.
— Знаю! Зверь! И добывать его очень трудно!
Отец внимательно поглядел мне в глаза.
— Дивлюсь тебе. Ты в последнее время просто всезнайкой стал. О чем ни спроси — все знаешь! — Он снова наклонился над микроскопом. — Впрочем, завтра можно и за живицей сходить. А теперь — марш на улицу, не мешай.
На следующий день мы вышли в поход раньше, чем солнце выглянуло из-за леса.
Узенькая тропка сначала шла вдоль болота, поросшего низкими березками; потом через густой ельник, в гору.
«К барсучьим норам идем!» — догадался я.
Как охотиться на рябчиков — знаю, на зайцев — тоже, об охоте на волков слыхал, а вот о живице ничегошеньки не ведаю.
Папа шагал впереди, негромко напевая о ветре, который обшарил все моря и горы.
— А она здоровенная? — спросил я, нагоняя.
Отец на миг остановился.
— Кто она? А, живица! — И он развел руками. — Вот такой ширины, вот такой вышины.
«Шутит! — подумал я. — Однако не меньше рыси будет, наверное».
Стало чуточку не по себе. Ведь самая крупная дробь у меня — четверка, а ею разве только тетерева сшибешь. Не вернуться ли нам домой?
Папа будто угадал мои мысли.
— Может быть, отложим поход? Без пуль-то страшновато, — сказал он.
Ох, до чего же мне хотелось согласиться и повернуть назад, к дому. Но ведь это будет значить, что мы струсили! И я не совсем твердо заявил, что ни чуточки даже не страшно.
— Ну что ж, будь по-твоему! — буркнул отец, ускорив шаг.
Частый ельник незаметно сменился соснами, сначала невысокими, с меня ростом, потом с папу, а потом такими, что вершины было чуть видно. Среди этих великанов я почувствовал себя совсем маленьким и беспомощным. Мне даже стало жаль себя. Эх, были бы патроны с крупной дробью или еще лучше — пули, тогда бы все нипочем!
— Тише, — приглушенно сказал папа и приложил палец к губам. — Вот мы и в царстве живицы.
Я взглянул на зеленовато-бурый мох, устилавший землю, на широкие игольчатые ветви, на густые островки невысоких елочек и неожиданно увидел такое, от чего у меня екнуло сердце. Дернув папу за рукав, я прыгнул за ствол могучей сосны.
Шагах в ста от нас за частым взъерошенным ельником ворочалось что-то темное, высоко задрав прямой, как палка, хобот.
— Живица! — прошептал я охрипшим голосом.
Дрожащей рукой я вытащил из патронташа набитую гильзу и, не сводя глаз с чудовища, еле видневшегося сквозь колючий лапник, переломил ружье. Только бы не опоздать!
Отец вырвал у меня патрон:
— Человек там!
Я чуть не выронил ружье. Мне нестерпимо захотелось сесть, — ноги как-то сразу обмякли и не слушались. Закинув ружье за плечо, я медленно поплелся за отцом. В ушах у меня все еще звучал его окрик. Ведь надо же так ошибиться — спутать человека с живицей!
— Вон, видишь? — словно издалека донесся до меня папин голос.
Я взглянул вперед и увидел худенькую женщину в серой брезентовой куртке. Она стояла к нам спиной, держа в руках длинную палку с прикрепленным на конце ножом. Ловко орудуя им, женщина делала на толстой бронзовой сосне глубокие надрезы.
— Раз, два, три! — считал я надрезы, наблюдая за ней. — Раз, два, три!
И вот уже на стволе желтеет огромная, словно высеченная на камне, стрела с опереньем.
Я взглянул на соседние сосны и увидел на них такие же стрелы и маленькие, прикрепленные к стволам железные воронки. Как это я не заметил их раньше? Все из-за живицы: и человека чуть не убил, и стрел не заметил.
Интересно, для чего это женщина портит деревья?
Спустившись в овражек, папа уселся на обросший мохом пень.
— Передохнем, — предложил он. — Садись, в ногах правды нет.
Неподалеку высилась сосна с уже знакомой стрелой. Я подошел к стволу, привстал на цыпочки и заглянул в воронку. В ней была густая беловатая смола. Сунул палец в смолу, а потом в рот. Ну и гадость — к зубам липнет, терпкое. Не то, что березовый сок — свежий да сладкий.
— Как, вкусно? — спросил папа. — А что это такое, знаешь?
— Еще бы, не знать! Смола!
— Эх ты, всезнайка! Да ведь это и есть твой зверь с бесценным мехом.
— Живица?
— Самая что ни на есть настоящая! Видел, как ее добывают?
Я, наверное, сильно покраснел и ничего не ответил.
— А называют ее живицей потому, что раны на коре заживляет. — Папа расстелил на траве газету и выложил из охотничьей сумки наш немудреный завтрак. — Живица хоть и не зверь, но цены ей действительно нет.
И папа рассказал, как собирают живицу в бочки, как доставляют в город и что из нее делают.
Оказывается, из живицы скипидар добывают. А из скипидара лак делают. А без лака ни стула, ни стола, ни шкафа хорошего не бывает. А чтобы на скрипке играть, смычок натирают канифолью. А канифоль опять же из живицы берется.
Вот она какая, живица!
— Правда, добывать ее трудно, но это ничего. Я теперь такую машинку изобретаю, просто чудо! Приставишь к сосне, покрутишь специальную ручку — и сразу на стволе стрела покажется. Верно, здорово?
ГАВРЯ
Мы встретили в саду ежа. Он увидел нас, свернулся клубочком и сердито затукал: «Тук… тук… тук!» Филька попробовал его взять, но только руки исколол. Пришлось мне снять кепку и вкатить в нее ежа, словно шар. Принесли мы его домой и назвали Гаврей. Поселился Гавря под печкой. Он скоро привык к нам и стал совсем ручным. Позовешь его, он тут как тут: спешит к тарелочке с молоком.
Но однажды Гавря пропал.
— Может, он под печь залез? — сказал Филька и тут же, отодвинув ухваты, полез туда.
Я нагнулся, вглядываясь в темноту.
Вдруг Филька как закричит:
— Ой, ой! Ежата! Смотри скорее!
А как я могу смотреть, если одна половина Фильки под печкой сопит, а другая торчит — ни туда ни сюда — и ногами дрыгает. А под печкой и без того темно. Наконец Филька, фыркая и отдуваясь, вылез.
— Ну, — говорю, — теперь моя очередь лезть ежат доставать.
А он не соглашается:
— Я первый ежат увидал, я и достать их должен.
Не стал я с ним спорить, а то еще, думаю, драться начнет.
— Чего же ты, — спрашиваю, — их сразу не взял?
— Голыми-то руками? Сам попробуй!
Взял Филька старую шапку, кочережку, которой угли сгребают, и опять под печь. А я стою сзади и тороплю:
— Ну, скорее, что ли! Чего ты там возишься!
А Филька молчит, будто не слышит. Еле дождался его.
Вылез Филька чумазый, как трубочист, а лицо сияет, рот до ушей, в руках держит шапку, а в шапке пять ежат.

Маленькие, меньше куриного яйца. Кожица розовая, и у каждого на спине иголки торчат, редкие, но зато длинные-предлинные.
— Во! Ни одного не раздавил!.. Еле от мамаши отбился.
Сколько мы ни звали Гаврю, ни звука, словно он под пол провалился.
Не стали мы его дожидаться, взяли и сколотили для ежат большой ящик. Положили в него мох и сухие листья, а сверху приделали крышку на петлях, чтобы можно было откидывать и на ежат смотреть, когда захочется. А в одной стенке над самым дном проделали дырку, чтобы Гавря мог в ящик влезать.
Только опустили ежат в ящик, из-под печки Гавря выбежал. Покружился возле ящика, увидал дырку — и скорей к ежатам.
А мы сели в уголок и задумались: как же теперь звать Гаврю? Все-таки он мамаша. Думали, думали и решили: пусть называется по-прежнему: и еж привык, и мы.
Дней через десять малышей нельзя было узнать. Розовая кожица покрылась густыми колючками, стали ежата совсем как взрослые, только ростом поменьше.
Как-то вздумали мы все ежиное семейство вынести погулять. Филька взял Гаврю и пошел к опушке, недалеко от дома, а я поднял ящик и стал медленно спускаться с крыльца.
Не знаю, как случилось, но Гавря вырвался из Филькиных рук и побежал, но не к лесу, а к дому. Бежал он, переваливаясь с боку на бок, как утка, пересек песчаную дорожку — и прямо к ящику, который я опустил на землю. Вход в ящик был открыт, и Гавря мигом скрылся внутри. Через минуту он показался снова, и на этот раз не один. Гавря тащил ежонка, ухватив его зубами за колючки. Выбрался, огляделся и потащил детеныша к лесу. А мы — за ним.
Гавря добрался до поваленной осины, положил ежонка у вывороченного корня, пофырчал и побежал назад. Скоро он принес второго малыша и отправился за третьим. А оба ежонка лежали у осины тихо-тихо, думая, наверное, что их никто не видит.
А когда Гавря тащил последнего малыша, мы взяли одного от осины и отнесли обратно в ящик. Но Гаврю обмануть не удалось. Он будто умел считать: подбежал к осине, поглядел на ежат, фыркнул: «Фырт, фырт!» — и припустился назад к ящику.
Ну, мы с Филькой решили, что на первый раз ежата достаточно погуляли и водворили всех обратно в ящик.
Прошло еще две недели, и ежата стали совсем большими. Что нам было делать с таким семейством?
Филька предложил отвезти их в Зоопарк или в уголок Дурова.
— Может, денег за них дадут, — сказал он.
Но я воспротивился. Разве там мало ежей? Небось полным-полно. Здорово мы с ним тогда поспорили. Спор наш услыхал папа.
— Выпустите их в лес, — говорит. — Так лучше и для них и для вас будет!
А почему для нас? Оказывается, они и мышей ловят, и змей, и всяких там жуков вредных да личинок.
Подумали мы с Филькой и выпустили их в лес. А сами потом все волновались: как-то они в лесу, на новом месте, устроились.
Одного ежонка мы все же оставили себе и назвали его тоже Гаврей. Он и сейчас у нас живет.
РЕДКАЯ УДАЧА
Ну и скучный же день! На улице холодно, озеро серое, рябое от ветра, небо тоже серое. Лес хмурый, неприветливый.
Папа сидит у стола, читает толстенную книгу. Книга, наверное, тоже скучная, потому что он часто вздыхает, морщит лоб и сердито фыркает.
Я переделал все, что мог: вычистил ружье, протер его маслом, два раза пересчитал патроны, привязал крючок к удочке. Потом влез на подоконник, открыл форточку и стал глядеть на озеро.
Далеко от берега, почти на самой середине, виднелись черные точки — это стая уток. Эх, бабахнуть бы по ним! Да нет, лучше об этом и не мечтать — утки не подпустят на выстрел: на открытой воде лодка видна как на ладони. Вдруг с дальнего берега донесся по ветру яростный лай.
— Папа, слышишь?
— Слышу, — не отрываясь от книги, ответил отец. — Это собаки из Бочкина зайца гоняют.
Бочкино — деревня, километрах в трех от озера. Мы с папой иногда заходим в нее, возвращаясь с охоты.
За окном кто-то крикнул:
— Лось! Лось!
Папа вскочил, книга упала на пол, он даже не поднял ее, а бросился к шкафу и схватил бинокль. Я накинул пальто, и через минуту мы сбежали с крыльца.
На той стороне озера, у воды, высоко подняв голову с ветвистыми рогами, стоял лось — сохач. Он словно застыл, слушая лай приближавшихся собак.
И вот псы выскочили из леса. Я видел, как огромная рыжая собака злобно бросилась на лося. Но сохатый не испугался, не побежал. Он только чуть отошел назад и вдруг резко ударил передней ногой набежавшего пса. Пес взлетел на воздух, перекувырнулся и шлепнулся в грязь. Лось не стал ждать нападения других собак. Он шагнул в воду.
Я схватил папу за руку. Неужто поплывет?
Лось медленно вошел в озеро. Вот уже не видно его высоких ног, вода ему по грудь. Еще миг — и он поплыл.
— Ну-ка, тащи ключ от лодки! — скомандовал папа.
Сбегать домой было делом минуты. Папа быстро отпер замок, сел за весла. Я прыгнул на корму и чуть не растянулся, запутавшись ногой в причальной веревке. Зеленый борт прошуршал о мостки, с размаху плеснулась волна, обдавая нас брызгами.
— Папа, а вдруг он испугается и повернет обратно?
— Не повернет. Сзади собаки.
— А если утонет?
— Не утонет! Да ты направление держи, а не болтай! — рассердился отец.

Лось плыл навстречу нам, чуть-чуть правее. Среди белой пены волн мелькали широкие, как лопаты, рога. Я вскочил на скамейку, чтобы получше разглядеть его. Ветер раздувал полы моего пальтишка, я схватился за кепку.
— Вывалишься! — крикнул отец, и я, не отрывая глаз от зверя, неохотно сел.
Вот лось поравнялся с нами. Я вижу его блестящие настороженные глаза, могучую бурую шею, похожую на ствол векового дуба. Ну и силища!

Не знаю, как случилось, но у меня в руках оказалась причальная веревка. Я наспех сделал петлю, размахнулся и бросил. Разрезав воздух, петля полоснула по воде возле самой головы сохатого. Мимо!
Торопясь, принялся выбирать веревку, чтобы снова метнуть и заарканить невиданного зверя.
— Ты что, в уме! — крикнул папа.
Лодка качнулась. На плечо легла тяжелая отцовская рука, и я плюхнулся на скамейку.
— Бессовестный ты человек! Ему и так трудно, разве не видишь?
Я взглянул на берег, откуда лось бросился в озеро. Там без толку метались собаки. Псы посмелее входили в воду, но не решались пуститься вплавь.
А сохатый уже был на другой стороне. Медленно вытаскивая из ила копыта, он выбрался на прибрежную полянку. Постоял, отряхнулся и пошел в лес. Он шел спокойно, не торопясь, высоко держа голову с тяжелыми рогами.
«И зачем только мы гнались за ним?» — думал я, глядя вслед лосю.
— Нет, скажи, зачем мы гнались? Для чего? — уже вслух спросил я у папы.
— Чудак, — усмехнулся он. — Видеть сохатого так близко, да еще в воде — редкая удача! Нам здорово повезло!
БОЕК
Как назло у моего ружья сломался боек. А что такое ружье без бойка? Просто тяжелая палка. Я с досадой нажимал и отпускал «собачку», курок глухо стукал — и все. Раз боек сломан, то и от курка никакого прока, — ведь пистон разбивается не курком, а бойком. Пока я возился с ружьем, Филька, наверное, лазил за утками по камышам, и от этого я сердился еще больше.
— Ну, как? Ничего не придумал? — спросил отец. — Все страдаешь?
— А чего тут придумаешь! Нового бойка самому не сделать!
— Да, тут и я не помощник. Говорил тебе, что не надо разбирать ружье.
Папа хотел было уйти, но я задержал его.
— Дай мне пять рублей.
— Это зачем еще?
— Я боек придумал!
— Положим, боек придуман лет сто назад…
— А я пойду в РТС к дяде Феде.
— И для этого пять рублей надо?
— Не бесплатно же он боек станет делать.
Отец усмехнулся, но все же дал мне пятерку.
— Посмотрим, что из этого получится…
Три километра до РТС я не шел, а мчался. «Дядя Федя все что хочешь сделает, — думал я, — недаром папа называет его руки золотыми».
Вбежал я в мастерские и чуть не оглох от шума станков, моторов и скрежета железа. Дядя Федя прилаживал колесо от трактора к цепи, свисавшей с потолка. Я остановился рядом и смотрел, как колесо поднялось, поплыло по воздуху и опустилось в другом конце мастерской, прямо к станку, за которым стоял парень в кожаной куртке.
— Здорово, охотничек! — пробасил дядя Федя, взглянув на мое ружье. — Зачем пожаловал?
— Да вот… боек сломался.
Дядя Федя вытер тряпкой руки и осторожно взял ружье.
— Посмотрим, что приключилось!

Он отнял стволы от приклада и принялся узкой отверткой отворачивать винты чуть пониже курка.
— Ковырял, признайся?
Я часто заморгал и молча уставился в пол.
— Мастер! — проворчал дядя Федя и стал разбирать замок.
Положив на ладонь сломанный боек, похожий на гвоздик, он внимательно осмотрел его.
— Самого кончика не хватает. Вроде пустяк, а выстрела не будет.
Я нащупал в кармане пятерку и подумал, что, наверное, свалял дурака, не попросив у отца побольше денег. Вдруг дядя Федя откажется? Боек-то хоть и маленький, а деталь важная.
«Что это он, — забеспокоился я, комкая пятерку вспотевшей ладонью. — Все говорит, а работать не начинает. Наверное, нарочно тянет».
Набравшись наконец храбрости, я выпалил:
— Дядя Федя, вы не думайте, что я задаром прошу. У меня деньги есть! — Сказал и сам испугался: ведь у меня всего-навсего пять рублей.
Дядя Федя едко сощурил глаза, положил ружье на стол, вздохнул и пошел к своему месту.
«Видно, мало! — подумал я. — Попрошу у отца еще денег».
Осмелев, я подошел к дяде Феде:
— А десяти рублей хватит, а?
Дядя Федя круто повернулся и, легонько подталкивая, выставил меня за дверь.
Это было до того неожиданным, что сначала я даже забыл о ружье. А когда вспомнил, то и подавно не знал, что делать. Снова идти к дяде Феде? А вдруг опять выставит? Нет, лучше домой, авось обойдется. Скажу, например, что отдал ружье в починку, а завтра пораньше сбегаю опять в мастерские. Может быть, дядя Федя не таким сердитым будет.
Услыхав, что дяде Феде нужно еще пять рублей, папа в раздумье покачал головой и пожал плечами.
— Ничего не понимаю, — проворчал он, пристально глядя на меня. — Ну ладно, раз дядя Федя просит, то дам еще пять рублей.
Но я уже и сам был не рад своей выдумке. Надо бы сразу взять у дяди Феди ружье, а то вдруг он завтра скажет, что не будет делать боек или еще денег попросит. Ведь опять к отцу не пойдешь!
Вечером я пораньше улегся спать, боясь, что папа снова начнет разговор о дяде Феде.
Но напрасно я считал до ста, до тысячи — сон так и не приходил. Завтрашний день не сулил ничего хорошего. Почему вдруг так рассердился дядя Федя?
Я лежал, повернувшись лицом к стене. За спиной переговаривались папа с мамой, слышалось позвякивание о стакан чайной ложечки и шелест переворачиваемых страниц.
Незаметно я задремал. Разбудил меня чей-то знакомый голос. Сначала показалось, что я не дома в постели, а снова в РТС.
— Так, значит, выставили его? — спросил папа, и в голосе послышались довольные нотки. — Так ему и надо. Я сразу понял, что-то здесь не то…
— Ум у него как цыпленок в яйце… — раздался рокочущий бас дяди Феди. — Я и проучил его малость.
Мгновение помолчав, он задумчиво добавил:
— Мала детина, не знает, что и человеку боек нужен. А то жизнь проживешь, так и не выстрелишь…
Мне стало душно, словно в бане. Я хотел было что-то сказать, но только сильнее съежился и затих, как мышонок. А дядя Федя негромко продолжал:
— Выставить-то я его выставил, а заготовку для бойка все же сделал. Так что пусть завтра пораньше приходит. Дам ему напильничек, объясню, что к чему, глядишь — сам боек и сделает.
Я громко посопел, пускай думают, что я крепко сплю и ничего не слышу. На сердце у меня отлегло. Я повернулся на бок и стал думать про боек, который бывает, оказывается, не только у ружья, но и у человека. Интересно, где он находится у человека? Может быть, в голове?

Оглавление
«К — О»
О ЛИЧИНКАХ, ГОЛОВАСТИКАХ И ДВУХ ЗАЙЦАХ
МОЙ БАРОМЕТР
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
ТАЙНА ЩИТНЯ
СКОРО НА ОХОТУ
НЕ ДО ДРАКИ!
СЧАСТЛИВЧИК
С ПЕРВЫМ ПОЛЕМ!
СОНЯ
ЗА ЖИВИЦЕЙ
ГАВРЯ
РЕДКАЯ УДАЧА
БОЕК