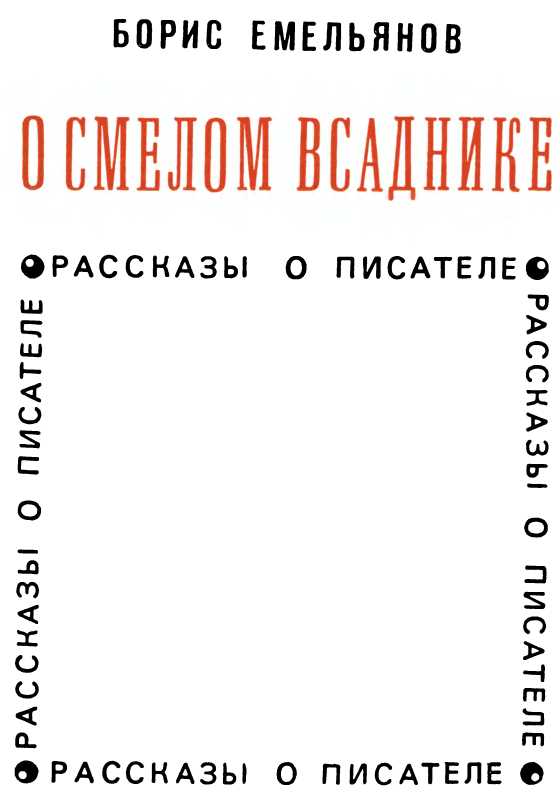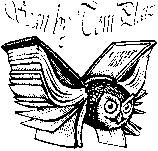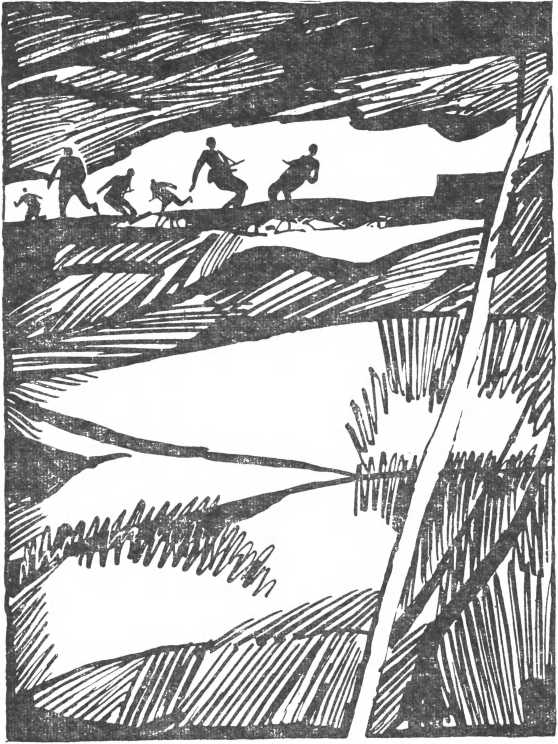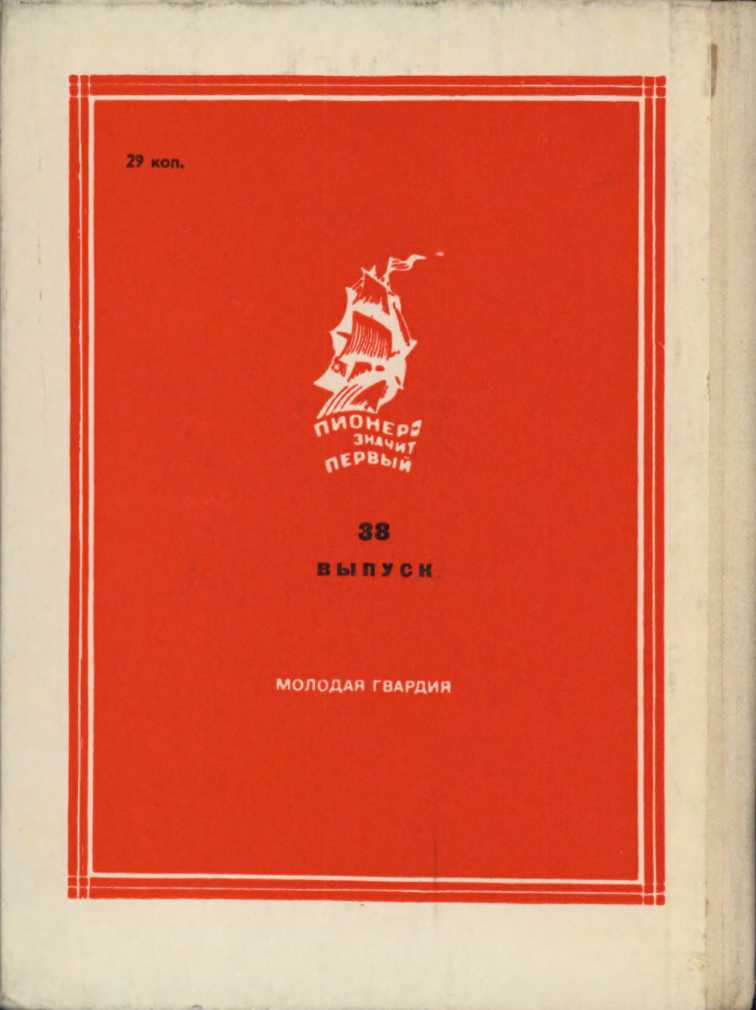О тех, кто первым ступил на неизведанные земли, О мужественных людях-революционерах, Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше. О тех, кто проторил пути в науке и искусстве, Кто с детства был настойчивым в стремленьях И беззаветно к цели шел своей.
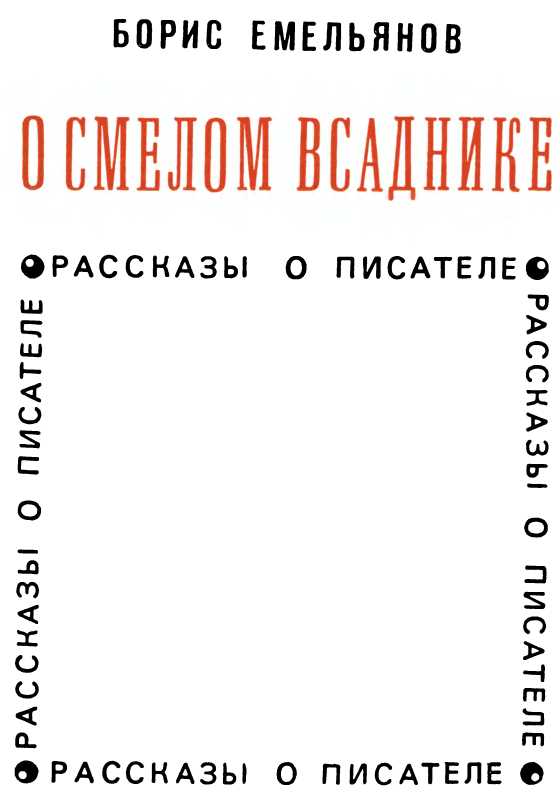
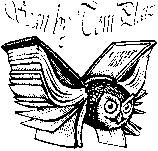
Вероятно, Аркадий Петрович Гайдар никогда не думал, что он сам будет героем книги. Ему всегда казалось, что герои — это те, кто сражается рядом с ним, работает, совершает важные человеческие поступки. А его дело — писать об этих прекрасных людях, знакомить с ними юных читателей, зажигать в сердцах ребят стремление быть похожими на них.
А теперь о самом Гайдаре пишут книги. И те, кто берется за перо, считают, что он настоящий герой — и в бою за Родину, и в труде на благо Родины. Труд Аркадия Петровича на виду у всего народа, особенно у юного, у вас, дорогие ребята. Его труд — писательский. Гайдар был первым пионерским писателем! Прислушайтесь, как это звучит — «пионерский писатель». Хорошо звучит. Как высокое звание.
Своими повестями и рассказами Гайдар помогал ребятам расти, мужать, становиться настоящими людьми. Нет, не только помогал, но и помогает. Ведь сегодняшним ребятам наверняка кажется, что гайдаровские книги написаны не много лет назад, а только сегодня вышли из-под писательского пера. Это значит, что их написал замечательный писатель, который не только знал ребят, живущих в его время, но и чувствовал, какие ребята будут через десять, через двадцать, через тридцать лет. Наверное, и через пятьдесят лет ребята будут так же зачитываться книгами Аркадия Гайдара.
Гайдар прожил недолгую, но яркую жизнь. Сейчас бы Аркадию Петровичу исполнилось семьдесят лет. Он начал свою жизнь бойцом, юношей с винтовкой на плече. И закончил ее тоже бойцом. А разве всю жизнь, будучи детским писателем, он не был бойцом? Сам Гайдар любил говорить: «Когда-нибудь о нас скажут: жили на свете такие люди, которые из хитрости прикинулись детскими писателями, а на самом деле готовили краснозвездную гвардию».
Эту книгу написал Борис Александрович Емельянов.
Есть точная и умная русская поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» Автор этой книги был одним из лучших друзей Аркадия Гайдара, а Гайдар мог поверять свои творческие замыслы, делиться своими думами и шагать рука об руку только с человеком добрым, благородным, мужественным. Таким и был Борис Александрович. И конечно же, он был человеком талантливым, в чем нетрудно убедиться: надо только прочитать книгу, которая открывается этим коротким предисловием.
Оценивая высокую товарищескую преданность, нередко говорят: «Друг на всю жизнь!» Но Борис Емельянов оставался настоящим другом Гайдара и после героической гибели этого писателя-воина: Емельянов подарил и вам, дорогие ребята, и всем нам эти чудесные рассказы, проникнутые глубочайшим уважением к литературному и гражданскому, к творческому и фронтовому подвигу Гайдара.
Пересказывать содержание рассказов, которые вошли в эту книгу, — значит отбирать у вас, друзья, большую радость: ведь вам тогда будет уже не так интересно входить в мир рассказов Бориса Емельянова — в мир, где ждет вас много неожиданных открытий и волнующих встреч. А главное: в этом мире, широком и добром, как само сердце писателя, вы обретете много новых надежных друзей и товарищей, которые станут вашими умными советчиками и в радости, и в трудные минуты, и в пору раздумий о будущем…
Сергей Михалков
Автобиография
В августе 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца взяли в солдаты и послали на германский фронт.
Забежал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжелые, кованные железом сапоги.
Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала, залаяла. Самая младшая сестренка, Катюшка, так до конца и не поняла, в чем дело. Все таращила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась:
— Солдат папа! Папа солдат!
Когда пришла минута прощанья — все заплакали. Поняла Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рев, как будто бы ее кипятком ошпарили. Я крепился.
За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушел на вокзал мой отец.
Помню, вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карболкой и антоновскими яблоками, которых уродилась в тот год неисчислимая сила.
И как раз помню, когда уже отошел поезд, остановился я на мостике через овраг.
Удивительным цветом горело в тот вечер небо.
Меж стремительных, но тяжело-угрюмых туч над горизонтом блистали величаво-багровые зарева. И казалось, что где-то там, куда скрылся эшелон, за деревней Морозовкой, загоралась иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели, тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вернетесь?
И они вернулись назад через четыре года.
Те, кто не был искалечен, отравлен, засыпан землей и убит на полях Галиции, в Карпатах, под Трапезундом и под Ригой, те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Петрограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за Советскую власть.
Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную Армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать.
Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил, — это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира.
Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное. «Если бы, — бормотал он, — на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте осторожнее! И никогда, никогда… Вот и все! Нет… не все. Нет — все, товарищи!» И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанных огуречных и морковных грядок, мотал головой, шептал, хмурил брови, я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать, чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра, что Колчака прогнали уже за Волгу, что наш часовой не вовремя бросил бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана потертого защитного френча. И в том письме, конечно, все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы Советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это все.
Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет», — вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили еще и десять, и двадцать, и сто, и тысячу. Но Советская власть жива, живет, и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.
В Красной Армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окон-мил Киевские командные курсы и тут же, в августе 1919 года, был назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсантов.
Потом я был командиром батальона, командиром сводного отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.
Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками играть в лапту!
Частенько я оступался, срывался, бывало, даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу.
Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы я вдруг крепко заболел. Все что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дергались. Долго меня лечили, и наконец в апреле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я был зачислен по должности командира полка в запас.
С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало.
Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые, совсем еще слабые, то останутся: «Р. В. С.», «Школа», «Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая чашка».
Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война.
1937 г.



Военная тайна
На дворе был март. Весна. А с вечера шел снег. За окном намело сугробы. В комнате люди в белых халатах сидели за столом, и один из них, седой и сердитый, сказал Гайдару:
— Разденьтесь, товарищ командир, до пояса и подойдите к столу.
Гайдар снял гимнастерку и рубашку.
— Подойдите ближе, — сказал опять тот же голос, и Гайдар сделал еще два шага вперед.
Он стоял как будто спокойно, слегка отставив правую ногу. Он привык. Это была уже третья, и последняя, медицинская комиссия.
Холодный кружок стетоскопа прыгал у него на груди, цепляясь за края двух глубоких сабельных шрамов.
— Дышите… Не дышите… Дайте мне его историю болезни, — сказал сердитый седой человек. — Совсем мальчишка, — пробормотал он. — Закройте глаза… Вытяните вперед руки…
Гайдар вытянул руки вперед. Он знал, что они будут дрожать после этой проклятой контузии, и они, конечно, дрожали.
Он открыл глаза.
— Ничего не могу сделать, дружок, — неожиданно ласковым голосом сказал сердитый доктор. — Надо отдыхать. К военной службе не годен.
— Я годен, — упрямо сказал Гайдар. — Я буду жаловаться.
На улице возле госпиталя Гайдар долго стоял, прислонившись к каменному забору, и холодный мартовский ветер раздувал полы его кавалерийской шинели.
Он много лет потом вспоминал и не мог вспомнить, как добрался от Лефортова до Арбата.
В приемной Реввоенсовета Гайдар вынул из-за обшлага заранее приготовленный рапорт на имя народного комиссара по военным и морским делам и отдал его дежурному командиру безнадежным жестом очень уставшего и все потерявшего человека.
Он ушел. Его не успели остановить.
— О чем просит этот командир полка? — спросил помощник товарища Фрунзе у дежурного.
— Ни о чем, — удивленно ответил дежурный, перечитывая рапорт. — Он за что-то благодарит командарма и прощается с Красной Армией. Видно, что очень человек обижен и за Красную Армию болеет душой.
— Душа здесь ни при чем, — строго сказал помощник Фрунзе. — Дайте сюда рапорт. Вы, я вижу, тоже человек душевный.
На другой день Гайдар пришел в Центральный Комитет комсомола.
— Лечись, отдыхай, — сказали ему товарищи. — Командовать за тебя будут другие. Работу найдем полегче, попроще. Ничего, брат, не поделаешь. Жить придется начинать по-новому.
— Как? — спросил Гайдар. — Ребята мои, ребята! Как же так? Дружили, служили, в бой ходили, падали, поднимались… Красная Армия без меня проживет, а я?..
— И ты проживешь, — сказали товарищи. — А как будешь жить, об этом тебе расскажет сам товарищ Фрунзе. Беги, торопись, от него звонили сюда два раза.
Переглянулись товарищи, засмеялись, обернулись — Гайдара в комнате уже не было.
Ровно в 12 часов вошел Гайдар в кабинет Михаила Васильевича Фрунзе и доложил по форме:
— Товарищ командарм! Бывший командир пятьдесят восьмого отдельного Нижегородского полка Аркадий Голиков-Гайдар явился по вашему приказанию.
— Здравствуй, товарищ бывший командир, — сказал, улыбаясь, Фрунзе. — Рапорт я твой прочитал, написан хорошо. Ты, наверно, и стихи пишешь?
— Пишу, — сказал Гайдар смущенно. — Вы не смейтесь, товарищ командарм.
— Я не смеюсь, — сказал Фрунзе серьезно. — Садись ближе, обиду не прячь, рассказывай по порядку.
— По порядку трудно, — сказал Гайдар. — Отец у меня был учитель, солдат, мать — фельдшерица…
— А у меня был отец фельдшер, — сказал Фрунзе. — Ты не торопись.
— Мне было четырнадцать лет, когда я добровольцем ушел в Красную Армию, — сказал Гайдар, все-таки торопясь и волнуясь.
— Кто же такого добровольца в армию принял? — удивленно спросил Фрунзе.
— Я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать, — просто ответил Гайдар. — А товарища Еремина, того, что меня в армию принял, белые зарубили на Украине. Теперь отвечать некому. А я в пятнадцать лет командовал батальоном.
Чуть улыбнулся Фрунзе, и Гайдар заметил эту улыбку.
— Конечно, — сказал он, — я командовал не как вы или как Чапаев. Бывало, у меня и то не так и это не этак, но Красную Армию я люблю больше жизни. Как же меня можно в запас? И что я буду в запасе делать?
— Надо будет учиться, — сказал Фрунзе.
— И куда я пойду? — сказал Гайдар. — Голова еще кружится, и что-то перед глазами прыгает…
— Надо будет лечиться.
— А зачем? — спросил Гайдар. — Кому я здесь нужен? Кем я буду здесь, в городе? А ведь у меня за плечами жизнь, война, борьба. Я тут одного писателя встретил — так он обо мне книгу хотел написать.
— А почему бы тебе самому не написать эту книгу? — серьезно сказал Фрунзе.
— Мне? — испуганно спросил Гайдар.
— Тебе, тебе, — повторил Фрунзе. — Очень интересная будет книга. В армии ты был еще мальчишкой и многому можешь научить новых мальчишек и девчонок.
— А как же полк? — с недоумением спросил Гайдар. — Прощай навсегда? За что? Почему? Ни разу я не уронил чести красного командира. Ни врагу, ни другу не выдал военной тайны.
Медленно встал Фрунзе с дивана. Задумчиво он поглядел на Гайдара.
— Это хорошо, что ты умеешь хранить военную тайну, — сказал он тихо и потянул за длинный шнурок.
С шелестом раздвинулись на стене тяжелые занавеси, и Гайдар увидел огромную карту нашей страны.
— Слушай меня внимательно, — сказал Фрунзе. — Смотри сюда.
Гайдар встал и подошел к карте.
— Много или мало нам дадут отдохнуть наши враги, я не знаю, — сказал Фрунзе. — Но они пойдут отсюда, а может быть, прилетят и оттуда. Только не отдаст народ завоеванной свободы. В будущей войне победит тот, у кого крепче тыл, надежнее и больше резервы… В будущей войне будет воевать весь наш народ, и ты, командир, будешь воевать тоже.
Фрунзе помолчал немного.
— Земля покроется очагами большой и малой войны, — сказал он. — Нам нужны люди с горячими сердцами. Нам нужны командиры народа, потому что наша армия и наш народ — одно и то же. И это наша с тобой самая большая военная тайна.
— Тайна? — переспросил Гайдар.
— Тайна! — сказал Фрунзе. — Я думаю, мальчик, что она станет известна нашим врагам только тогда, когда они проиграют войну…
Фрунзе встал и, провожая Гайдара, выглянул в окно кабинета. На улице под окнами гудела веселая толпа ребят.
— Наступит день, когда они вырастут, — медленно сказал Фрунзе. — И не дай бог скажут: «Учили вы нас плохо!..» Ну иди, иди. Подумай. Прощай, командир! Матери передай привет.
На лестнице у статуи часового-красноармейца Гайдар остановился.
— Молчишь? — сказал он каменному солдату. — Молчи. Часовым разговаривать не полагается.
★
Легко ли быть писателем!
Девочка Светлана Никитина попросила меня ей объяснить, как стал писателем Аркадий Гайдар, легко ему было жить и работать или трудно.
— А тебе зачем это нужно знать? — спросил я. — Так просто или для чего-нибудь еще?
Светлана покраснела и что-то забурчала себе под нос, а ее друзья, девчонки и мальчишки, закричали наперебой, и все разное. Выяснилось, что Светлана сама собирается стать писательницей и на всякий случай расспрашивает: легкий ли это труд и веселая ли у писателей жизнь? А трудной жизни она не желает.
Я долго думал, перед тем как ответить Светлане. А потом все-таки ее спросил: вот она собирается писать книги, а научилась ли она эти книги читать? Потому что на этом самом месте, как говорят, зарыта собака.
Как-то раз мы были вместе с Гайдаром в пионерском лагере недалеко от города Клина. Дружно и весело прошла у ребят встреча с Аркадием Петровичем, много он им рассказывал про свои будущие, еще не написанные книги, и ребята задавали ему всякие вопросы, а под конец один дотошный пионер спросил у Гайдара, вот как теперь Светлана: как это такое делаются люди писателями, трудно сделаться писателем или нет, простое это дело или не очень, легкое или не совсем? Много ли надо «на писателя» учиться? Как узнать, получится из тебя писатель или нет?
Ребята с нетерпением стали дожидаться ответа, а Гайдар, совсем для меня неожиданно, ответил, что писательское дело нехитрое, учиться такому делу долго не надо, а узнать, можешь ты стать писателем или нет, и совсем просто. Я тогда, помню, посмотрел на Гайдара с удивлением, потому что хорошо знал, как мучается Гайдар над каждой своей книжкой, с каким огромным напряжением сил он над своими книгами трудится. Много раз мы просили Гайдара рассказать нам, как он работает. Откуда появляются на свет чудесные его рассказы и повести? Почему у него в книгах запросто живут смелые барабанщики, задумчивые командиры, веселые хорошие люди? Мы думали сами поучиться чему-нибудь у Гайдара, есть же у него какие-то свои писательские секреты, и обхаживали его так и эдак.
Но Гайдар, помнится мне, считал, что писательскому ремеслу человека учить нельзя.
«Командиры и барабанщики, — говорил он, — с неба не падают, а заходят в книги попросту, с улицы и со двора. Вот он, видите, стоит посередине площади, суровый милиционер в белых перчатках, и неумолимо берет с пострадавшего гражданина за езду на подножке штраф в десять рублей ноль-ноль копеек. И гражданин этот, наверно, ругает милиционера последними словами за безжалостность и суровость.
А дома у этого сурового милицейского работника есть дочка Наташка, дед Еремей и кошка Матрешка, и он с них штрафа не берет. Они на подножках не катаются. Если еще немного над этим делом подумать, то и получится рассказ. А вообще, если у человека нет на затылке шишки, он писателем никогда не будет, и я не цыган и гадать вам на кофейной гуще не буду…»
Так Гайдар говорил с нами, своими товарищами, а теперь, мне показалось, он отвечал мальчишке-пионеру совсем по-другому. Как это так: стать писателем просто? Очень даже не просто.
А Гайдар уже тем временем рассказывал ребятам подробно, как можно без особых хлопот и труда и без большой затраты времени стать настоящим писателем. Сам он при этом смотрел в сторону и по-хорошему чему-то улыбался. Оказывается, надо взять в библиотеке Полное собрание сочинений Гоголя, положить книжки на стол рядом с собой и читать…
— Все подряд? — с испугом спросили ребята. — А когда прочтешь?
— А когда прочтешь, — ответил Гайдар, — положи опять книжки перед собой и читай сначала.
— Все? — со страхом спросили ребята.
— Все, — серьезно ответил Гайдар. — Один раз читай, два раза читай, три раза, восемь раз, и когда ты вот так десять раз прочтешь и перечитаешь Гоголя, то с тобой произойдет одно из двух: или ты действительно сделаешься писателем, или уже не станешь писателем никогда.
А потом Гайдар перестал улыбаться и спокойно объяснил ребятам все по порядку, зачем надо читать и перечитывать таких писателей, как Гоголь. Книги ведь бывают разные, как люди. Веселые и грустные, любимые и нелюбимые, очень хорошие и средние. «Я, например, — говорил Гайдар, — вот так и стал писателем. Еще в школе моим самым любимым занятием стала книга. Книги Гоголя и Льва Толстого я перечитывал по многу раз, и с каждым разом по-новому открывалось мне их великое и хитрое уменье и мастерство. Если ты только один раз прочтешь хорошую книгу, то далеко не все увидишь в ней. Запомнишь, может быть, героев, а всей красоты сразу не увидишь и не поймешь. А писатель должен любить и понимать свой родной язык, каждое его слово, видеть все, что за каждым словом спрятано. А спрятано за умным словом немало».
Гайдар замолчал, и ребята замолчали тоже и задумались о том, что услышали.
А потом вскоре Гайдар уехал в Арзамас работать и оттуда прислал письмо. В письме было написано:
«Тишина здесь — потрясающая. И глубоко за полночь с огромным удовольствием я читал строка по строке и учился страшному, простому мастерству Гоголя…»
Опять читал и опять учился. А теперь вот мы читаем и перечитываем книги Гайдара и тоже учимся его простому и очень трудному мастерству.
Все это я и сказал Светлане Никитиной. А потом еще вспомнил об одном гайдаровском письме и рассказал о нем. Гайдар тогда жил в городе Одессе.
«Я живу сейчас на берегу моря, — писал он оттуда. — Здесь меня кормят, усыпляют и умывают. Я работаю… Надо в поте лица добывать трудовую копейку — это раз. Во-вторых, надо оправдать свое существование перед людьми, перед зверьми, перед разными воробей-птицами, соловей-птахами, перед рыбой-карась, линь, головель, лещ, плотва, окунь, а перед глупым ершом, перед злобной щукой мне оправдываться не в чем…»
На обложке одной из своих книг он бережно переписал слова великого русского писателя Льва Николаевича Толстого: «…Только честная тревога, борьба и труд… есть то, что называют счастьем»…
— Понятно ли тебе, — спросил я Светлану, — что Гайдару, наверно, нелегко было стать писателем, и напрасно ты думаешь, что писательская работа — легкое дело.
— А я ничего такого и не думаю, — сказала хитрая Светланка. — Я очень люблю читать и перечитывать любимые хорошие книги. Я хорошо учусь и буду еще лучше учиться. А скажите, пожалуйста, какой Гайдар был маленький и какое у него было детство и отрочество?
Ну и пришлось мне все рассказывать сначала.
★
Детство
Два мальчика сидели и разговаривали в пустом классе.
Иногда они таинственно шептались, иногда громко спорили. Один хлопал по парте серой узкой книжкой, похожей на разрезанную пополам тетрадку. Другой заботливо и бережно держал в ладонях маленькую серую птицу с желтой грудкой, гладил ее по голове, точно прощаясь, и дул ей на перышки.
Второгодник Александр Бебешин был в Арзамасском реальном училище главным менялой. Отец-торговец с малолетства научил его уму-разуму. Бебешин менял все: перья на пуговицы, учебники на тетради, тетради на ножи и гвозди, ножи на ранцы. В свободное время он торговал резинками для рогаток и цветными карандашами.
Сокровища его были неисчислимы.
В четвертом классе Арзамасского реального училища Александр Бебешин считался выжигой, но человеком до некоторой степени полезным.
Именно у него, у Александра Бебешина, ученик того же четвертого класса Аркадий Голиков за двух горластых и голенастых чижей выменивал сегодня «Товарища» — календарь для учащихся на 1917/18 учебный год.
Александр Бебешин хорошо знал своего лобастого и упрямого покупателя. По всему Арзамасу Аркадий Голиков славился как ученый кроликовод и птицелов и, стало быть, обладал значительными запасами для обмена. Правда, отец у Голикова был большевиком где-то на фронте. Сын пошел в отца — его совсем недавно выбрали председателем школьного комитета. Но Александр Бебешин считал, что торговля стоит вне политики.
— Меняю чижей на голубей, — сказал Бебешин тихо, когда сделка с календарем была уже закончена.
Аркадий промолчал. Он сидел за партой и старательно выписывал на первой странице календаря свой адрес: Новоплотинная улица, дом № 25.
Ему очень понравилась аккуратная серая книжка «Товарища», и (как бы не потерять) он на будущее приписал внизу:
«Если кто найдет, прошу возвратить по адресу…»
Бебешин с интересом наблюдал за Голиковым. На свободной, чистой странице календаря Аркадий как бы машинально чертил затейливый «рыцарский» орнамент с овальными щитами по краям. В центре одного из щитов одна за другой стали в ряд буквы.
Г — начальная буква фамилии — Голиков, А-й — Аркадий, так часто сокращенно писали имена в школьном журнале. Д’АР — Д, отделенное апострофом от АР, значило в переводе, конечно, — арзамасский. Все вместе буквы составили звучное, красивое и пока еще чужое слово: ГАЙДАР!
— Меняю лакированный пояс на твою крольчиху Пуму, — сказал так же тихо Бебешин. — Пояс новый. Пряжка позолоченная.
Аркадий молча сложил в кукиш три пальца левой руки. Пума была его любимицей. Бебешин обиженно отвернулся. Голиков продолжал писать, отвечая на вопросы календаря.
«Мое рождение (месяц, год, число). Какие я перенес болезни? — Корь. Мой любимый писатель?»
Аркадий задумался. «Один любимый писатель?»
— Так нельзя задавать вопросы, — сказал он недовольно. — Мало любимых писателей: Гоголь, Пушкин, Толстой…
Он еще подумал и прибавил к списку Жюля Верна. Вопросы следовали один за другим — он отвечал точно и коротко.
«№ галош? — Галош нет. № шинели? — Шинели нет».
Он оглянулся на Бебешина. Меняла упаковывал чижей в старую коробку из-под папиросных гильз «Катыка».
Торопливо Голиков дописал внизу страницы: «№ винтовки — 302939». Только вчера он получил в отряде Красной гвардии боевое оружие.
— Бебешка! — сказал он вдруг. — Александр!
— Чего тебе надо? — недовольно ответил Бебешин. По выражению глаз и тону Голикова он понял, что на этот раз разговор пойдет не такой, как раньше, Голиков встал.
— Ты опять вчера завел торговлю на уроке Софьи Вацлавовны? — спросил он.
— Ну и что?
— Брось эти дела, — сказал Голиков. — Торгуй в переменках.
— Отвяжись, — сказал Бебешин.
— Не отвяжусь, — сказал Аркадий. — Комитет постановил требовать от класса полнейшего спокойствия на всех уроках, и главное, на французском и истории.
— Подумаешь, — сказал Бебешин. — Ты меня не трогай. Я, брат, таких, как ты, видал на фунт сушеных. Мы из вас душу вытрясем, если тронете! Комитетчики! Тоже мне председатель! Ты у меня смотри. Я знаю, кто у Николаева купил револьвер за двенадцать восемьдесят…
Сидя под партой, затолканный туда Бебешин долго всхлипывал и жалобно просил отпустить его на все четыре стороны.
— Я хочу, чтобы ты понял, — спокойно говорил Аркадий, придерживая Бебешина под скамьей. — С тобой сначала действовали убеждением, потом принуждением…
Он отпустил Бебешина, встал и пошел вон из класса. У самой двери он повернулся и сказал выразительно:
— А если будешь доносить — набьем морду.
И, посвистывая, направился домой.
Дома все было тихо. Седая красавица крольчиха, топоча лапами, подскочила к нему, смешно задвигала ушами и сморщила мордочку.
— Пумаха, здравствуй, — сказал Аркадий. — В арзамасских пампасах, на твое счастье, еще сохранились заросли капусты и моркови… Давай сюда своих сородичей…
Когда мать вернулась с работы, Аркадий сидел в саду на скамейке и вслух читал Лермонтова…
Нет на устах моих грешных молитвы.
Нету и песен во славу любезной…
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь железный…
Судя по упоенному, счастливому выражению лица, у него появлялся еще один любимый писатель. Крольчиха Пума сидела у него на груди за пазухой. Белые и серые крольчата прыгали вокруг.
— Письмо от отца, с нарочным, — сказала Наталья Аркадьевна. — В Москве идут бои.
Аркадий встал. Медленно он опустил на землю крольчиху и положил на скамейку Лермонтова.
— Прощай, мама, — сказал он. — Ты меня сегодня не жди ужинать. Я вернусь поздно.
Он потрогал в кармане револьвер. Винтовка у него хранилась в дружине.
От калитки он обернулся. Позднее осеннее солнце светило в сад. На дорожках, шурша желтыми листьями, весело прыгали крольчата. Нацепив на колючки сразу два больших кленовых листа, деловито бежал устраивать себе логово хитрый зверь — еж.
Под старой яблоней грустная и молчаливая стояла мать.
Вот такое оно и было, детство, и хорошо и чуть-чуть больно было смотреть на него издали, со стороны…
Потому что детство кончилось, и мальчик это понимал.
★
Солдаты второй армии
По должности командира полка Аркадий Гайдар был зачислен в запас.
В военном комиссариате он сдал под расписку комиссару длинноствольный маузер и старую драгунскую шашку, получил документы, деньги и вышел на улицу. Теперь он стал «гражданским товарищем» и мог делать все, что угодно.
На бирже труда Гайдару предложили свободные места: продавца в бакалейном магазине, преподавателя физкультуры в школе и участкового надзирателя в отделении милиции.
Задумчивый и озабоченный, Гайдар шел по Арбату.
Он остановился внезапно: кто-то смотрел на него пристально и добродушно.
Гайдар засмеялся.
В витрине магазина, облокотившись на барабан, сидел огромный плюшевый медвежонок и разглядывал прохожих. Трубы и мячи, сабли и ружья, прыгалки и пистолеты заполняли витрину.
Гайдар вошел в магазин.
Веселая толпа детей и взрослых толкалась у прилавка.
— Вам что? Барабан? Трубу?.. Вам что прикажете, молодой человек? — спросил продавец Гайдара.
— Мне? — переспросил Гайдар. — Я и сам не знаю.
Двое мальчишек стояли с ним рядом и удивленно переглядывались.
«Бывают же на свете такие люди! — подумали мальчишки. — Деньги есть, а что купить, не знают».
— Дядя! — сказал один из мальчишек. — Дядя! Купи саблю.
— Кому? Тебе? — спросил Гайдар.
Но мальчишка бескорыстно замахал руками:
— Нет, дядя, себе. Вон ту, с ремнем.
— Дайте мне саблю с ремнем, — послушно сказал Гайдар.
— И солдатиков, — подсказал второй мальчишка.
— И солдатиков, — сказал Гайдар. — Много солдатиков. Пехоту, кавалерию и артиллерию. И дайте уж мне заодно боевую трубу, барабан и какое-нибудь веселое животное… Ну а теперь подите сюда, маленькие товарищи.
Гайдар подарил мальчишкам трубу, барабан и саблю и вышел из магазина.
В палатке на углу он купил себе булку с колбасой и медленно пошел по Воздвиженке к Александровскому саду.
В саду он сел на скамейку, съел булку, достал из кармана коробочки и расставил солдатиков на скамье. Понеслись в атаку красные кавалеристы…
Гайдар увлекся игрой. Игрушечную пушку он зарядил мелкими камушками. Артиллерия открыла огонь по белогвардейским цепям:
Тра-та, тра-та,
тра-та, тра-та!
Начинается игра.
Оловянные солдаты,
Вам в поход идти пора.
— Это что? — спросил чей-то голос.
Гайдар поднял голову. Вокруг него стояла стена ребятишек, и самый маленький, трехлетний карапуз, тыкал в солдатиков пальцем и спрашивал:
— Это что?
Гайдар задумался и достал из кармана серого мохнатого зайца.
— Это красные вздули белых, — сказал он таинственным шепотом. — Первая армия! А это заяц вышел, смотрит и очень доволен.
Ребята засмеялись.
— У солдата с ружьем одной ноги нет! — сказал карапуз с ужасом.
— Ранили, — сказал Гайдар. — На войне бывает.
— А вы, дядя, на войне были? — спросил неведомо откуда появившийся мальчишка, которому Гайдар подарил барабан в ллагазине.
— Был, — сказал Гайдар.
— Страшно?
— Когда за правду воюешь — не страшно.
— А вы, дядя, за что воевали? — спросил мальчишка с трубой.
— Мы? — сказал Гайдар. — Мы воевали за светлое царство социализма… Мы — солдаты первой Красной Армии. А ты будешь служить и воевать во второй.
Садовый сторож долго смотрел на странного юношу в длинной кавалерийской шинели.
Юноша сидел на скамейке, со всех сторон облепленный маленькими ребятами, и что-то долго-долго им рассказывал.
Сторож подошел ближе.
— Городок наш Арзамас был тихий, — услышал сторож, — весь в садах…
— Дядя командир! — потребовали голоса из-за скамейки. — Ты говори громче, а то нас здесь много и всем не слышно.
— Хорошо, солдаты, — сказал Гайдар. — Я постараюсь говорить громче.
В ворота сада въехал мороженщик.
— Становись! — скомандовал Гайдар, вскакивая со скамейки. — Вторая армия, слушай мою команду!.. Равняйсь! Шагом марш!.. Ать-два! Левой! Левой!
Он подвел весь свой отряд к мороженщику.
— Стой! Напра-во! Дайте нам, пожалуйста, по две порции мороженого, сливочного и шоколадного.
Он подарил каждому из ребят на память по оловянному солдатику, а зайца отдал трехлетнему карапузу.
В этот день вторая армия — будущие читатели Гайдара — нашла своего полководца.
★
Друзья из Ташкента
Они пришли рано утром, едва забрезжил свет. Звонок в квартире не работал, и Гайдар, который спал очень чутко, первым услышал легкий, царапающий стук на парадном.
Тук-тук! Тук! Царап! Царап! Тук-тук!
Так не стучатся ни почтальоны, ни дворники. Осторожно и робко стучали посетители.
Гайдар лёг поздно, и ему не хотелось вставать в такую рань. Он завернулся в одеяло с головой.
Тук-тук! Тук-тук!
Жена уехала в Клин. Соседи не просыпались.
Тук! Тук! Тук!
Гайдар вскочил с дивана. Быстро, по-военному он оделся и вышел в коридор.
Его шаги услышали на площадке. Стук прекратился.
— Кто пришел? — спросил Гайдар. — Кто там царапается в дверь спозаранок?
Ему никто не ответил, но он отчетливо расслышал сопенье и шорох на лестнице.
— Наверно, это кошки, — сказал Гайдар громким равнодушным голосом. — Дрянные хитрые кошки, которые научились стучаться в двери и будить людей. Пойду спать! — И он зевнул и затопал ногами.
— Не уходи! — раздался с лестницы испуганный голос. — Это не кошки. Это мы.
— Кто — мы?
— Ну мы… Друзья.
— Откуда?
— Ну из Ташкента…
Гайдар распахнул дверь. На площадке лестницы стояли два мальчика.
Один — высокий, худой, в рыжем женском пальто, и второй — маленький, закутанный в одеяло.
— Здравствуйте, — сказали они. — С наступающим праздником! Мы вернулись.
История этого возвращения такова.
Однажды Гайдар шел домой. Москва тогда была совсем не такой, как сейчас. Недавно кончилась гражданская война, и страна еще не оправилась от голода и разрухи. Только начинали строиться новые дома, заводы и фабрики. Троллейбусов в Москве не было. По Садовой улице ходили трамваи. На углах переулков стояли деревянные ящики для мусора.
Гайдар шел пешком. Он нёс в руках пакет с мятными пряниками и покрышку на чайник: роскошного ватного петуха с бархатным красным гребнем и желтыми стеклянными глазами.
На углу Большого Казенного переулка Гайдар остановился. В широких воротах стояла кучка знакомых мальчиков. На табуретке, кем-то вынесенной на улицу, лежали приобретенные в складчину горячие булки и хвостатые конфеты — «свечки».
А неподалеку на мусорном ящике сидели двое беспризорных оборвышей, голодных, грязных и гордых. Один побольше, другой совсем маленький.
Поджаристые корки булок хрустели на зубах у ребят, и Гайдар заметил, какими умоляющими глазами смотрел малыш беспризорник на своего старшего товарища.
Того и гляди булки могли исчезнуть безвозвратно. Нельзя было медлить. Как коршун, слетел высокий мальчишка с ящика, схватил одну булку и спокойным, неторопливым шагом вернулся обратно. Он разломил добычу на две неравные части и большую половину отдал своему маленькому товарищу.
Ребята, неожиданно потерявшие булку, возмущенно ворчали под воротами, когда Гайдар появился из-за угла. Он крепко и неожиданно обнял за плечи маленького беспризорника, но мальчуган и не собираясьбежать.
Судорожным, испуганным глотком он покончил булкой и потом уже обернулся к Гайдару.
Большой мальчишка соскочил на мостовую.
— Отпусти его! — угрожающе крикнул он и, отбежав в сторону, подхватил с земли тяжелый булы ник. — Не тронь! Это я взял булку…
— Хорошо, — сказал Гайдар спокойно и еще крепче обнял за плечи маленького человечка. — Я все видел и, конечно, отпущу твоего товарища. Но сначала ты положишь на землю камень.
Недоверчивый и взъерошенный, как волчонок, мальчишка, в упор глядя на Гайдара, медленно положил булыжник на мостовую.
— Хорошо, — повторил Гайдар и повернулся к нему спиной.
Осторожно и ласково он поднял за подбородок личико малыша и долго всматривался в него. Ватный петух в руках, очевидно, мешал Гайдару, и он, недолго думая, надел петуха на голову малышу.
— Пряников хочешь? — спросил он и положил пакет на ящик.
Из ворот высыпали на улицу мальчишки и девчонки. Беспризорники кинулись наутек и мгновенно исчезли вместе с петухом и пряниками…
— Я знаю, куда они ушли, — задумчиво сказал один из мальчуганов. — Они каждый день тут ходят. Они живут под землей, в старом доме. Зачем они бегают от нас? Что нам, булки, что ли, жалко?
Темные развалины соседнего дома посматривали в переулок своими выбитыми окнами…
Ночь была темна и тиха. Золотая звездочка света появилась внезапно в правом окне разрушенного дома.
Свет переместился к левым окнам, метнулся вверх, вниз и пропал. Милиционер на углу покачал головой и всякий случай расстегнул кобуру пистолета. Но свет больше не появлялся.
Прикрывая электрический фонарь длинной полой шинели, Гайдар уже давно пробирался под землей сухими сводчатыми коридорами.
Радужный круг фонаря выхватывал из темноты нежные и уродливые предметы.
Горбатое кресло, похожее на медведя, присевшего на задние лапы, загораживало Гайдару дорогу.
Длинный кусок бревна высовывался вдруг из стены, качаясь, как хобот слона, и Гайдар невольно отодвигался в сторону.
Щепки и стекла хрустели под ногами, а сзади поры-рами налетал ветер.
Гайдар шел медленно, заглядывая в каждый угол. Подвал казался пустым. «Да здесь ли живут они, в самом деле? — подумал Гайдар. — Не такие уж здесь катакомбы, чтобы можно было начисто в них исчезнуть живому человеку».
Он решительно свернул налево и очутился в большом темном закоулке. Свет фонаря скользнул по земле, по стенам. Впереди сверкнули желтые точки…
Гайдар подошел ближе. На куче тряпья в углу, обнявшись, спали мальчишки. На камне рядом сидел роскошный ватный петух и, покачивая бархатным красным гребнем, посматривал на Гайдара желтыми пронзительными глазами.
Где-то медленно капала вода, посвистывал ветер, на ржавых петлях скрипела уцелевшая дверь…
Мучительно застонал во сне большой мальчуган, и Гайдар наклонился над ним.
— Плохой сон можно прогнать, — прошептал он и дунул в лицо спящему.
Мальчуган затих и повернулся на бок.
В это время медленно открыл глаза малыш. Синие глазенки его сощурились от яркой полоски света, удивленно посмотрели на Гайдара, и малыш, конечно, узнал хозяина роскошного петуха.
Он еще успел подумать, что ему снится хороший сон, но сейчас же с криком вскочил на ноги.
С трудом удержал Гайдар возле себя ребят.
— Занесло вас шут знает куда, — сказал он спокойно. — Не дом, а памятник старому режиму. А ну-ка покажитесь. Очень хорошо!
— Зачем ты сюда пришел? — спросил срывающимся голосом большой мальчишка. — Петуха ты сам ему надел на голову. Пряники мы твои съели.
— Меня за вами прислала Советская власть, — серьезно ответил Гайдар. — Завтра Первое мая, и у всех праздник.
Рассвело, когда они пришли к Гайдару домой.
— Садитесь, друзья, — сказал Гайдар. — И не думайте, что я буду тащить вас за шиворот в детский сад, в детский дом, хотя, сказать вам по правде, есть очень хороший такой дом возле Крымского моста, светлый и теплый. Вон там на диване — штаны и рубашки. На кухне — водопроводный кран, а в коридоре на стене висит корыто.
— Мы не пойдем в детский дом, — упрямо сказал большой мальчишка.
— Ты чудак, — сказал Гайдар. — Я ж тебе по-человечески говорю: тащить я тебя на аркане не собираюсь. Я подожду, когда вы сами поймете, что в детском доме тепло, светло, ниоткуда не дует и можно играть, читать, писать и учиться уму-разуму. Человек я терпеливый и могу ждать долго… Сейчас я ухожу и вернусь поздно… А вы, конечно, отсюда удерете.
И Гайдар ушел. Ребята остались одни в большой комнате. На цыпочках они обошли ее кругом. На письменном столе тикали часы, на обеденном лежала большая коврига хлеба, стояло молоко и масло…
Когда Гайдар вернулся, хлеба, молока и масла не было. Часы продолжали стучать ровно и тихо, точно ничего особенного не случилось. Рядом с часами лежала написанная печатными буквами записка.
«Взяли двое штанов и рубашку. У меня рубашка своя, целая. Все съели. Корыта не трогали».
Они ушли. На улице маленький сказал грустно:
— Давай отсюда уедем.
Большой сказал утвердительно:
— В Ташкент.
Они уехали…
Теперь они стояли на парадном и смотрели на Гайдара сияющими глазами.
Большой мальчик повторил:
— Мы вернулись.
Гайдар ответил:
— Вижу. Я уж устал ждать.
Маленький спросил:
— Этот дом у Крымского моста еще цел?
Гайдар ответил:
— Цел. И вас там ждут.
Большой мальчик сказал:
— Мы пойдем туда.
Гайдар сказал:
— Сначала напьемся чаю. Умоемся. Причешемся.
А потом я вас провожу… домой…
— Куда? — переспросили мальчишки.
— Домой, — повторил Гайдар.
★
Гайдар и его команда
В доме на Большой Дмитровке, в Москве, жила маленькая девочка. Ее отца убили японцы на дальневосточной границе. Девочка долго болела и не могла ходить. Из окошка ей виделся только узенький кусочек синего или серого неба. Когда небо было серым и маленькой девочке становилось совсем скучно, к ней приходил в гости Аркадий Гайдар. Он жил внизу, этажом ниже. Гайдар приносил девочке конфеты и игрушки и пел песенку о голубом кораблике.
В большом сером доме на Арбате жил старый писатель. Он был совсем старый, давно ничего не писал и даже читать не мог — так плохо видел.
Аркадий Гайдар был тогда молодым писателем. Он часто ходил к старому писателю в гости, читал ему вслух новые книги, и старик радовался: о нем не забыли.
На Сретенке, в Головином переулке, жил товарищ Гайдара. Они вместе дрались с белогвардейцами и петлюровцами. В бою под Киевом товарищу оторвало ногу и повредило грудь. Он стал переплетчиком и хорошо, но медленно переплетал книги. Гайдар доставал ему работу и разносил переплетенные книги по заказчикам.
У Гайдара становилось все больше таких друзей и знакомых, которые нуждались в
помощи и поддержке. И у него не хватало уже времени для того, чтобы помогать всем.
Начиналась зима.
Мы ночевали у Гайдара. Мы решили рано утром вместе уехать за город и засветло собрались в одно место, чтобы пораньше лечь и перед дальним походом получше выспаться.
Но в восемь часов вечера с треском и звоном, высадив двойное стекло, влетел в комнату футбольный мяч.
Во дворе испуганно ахнули, кто-то громко сказал: «Что же теперь делать?» — и затем наступила поистине «ледяная» тишина. Футболисты в молчании переживали потерю мяча и страх за разбитое стекло. Какой хозяин разбитых стекол отдаст мяч обратно!
Гайдар подошел к окну.
— Зима! — закричал он, высовываясь в дыру. — А вы что делаете? Коньки надо покупать! Клюшки! В хоккей играть!
Он подумал немного, поднял с пола мяч и выкинул его обратно в дырку. Двор ответил на этот акт великодушия восторженным и благодарным гулом.
Нам от этого не стало легче. Гайдар заткнул разбитое окошко подушками, но спать было и холодно и неудобно.
Утром мы поднялись голодные и холодные и, вместо того чтобы ехать за город, решили идти пить чай или кофе в какую-нибудь теплую и хорошую столовую.
Выйдя из дому на улицу, мы попали сразу в шумную толпу ребят. Толпа орала, свистела и кричала. Трудно было разобрать, в чем тут дело: будут ли кого-нибудь бить или дело обойдется без драки.
Гайдар сразу приметил знакомый футбольный мяч в руках у самого высокого мальчика, капитана дворовой команды.
— Вот мы и встретились, — сказал Гайдар громко, и гомон и крик сразу стихли. — Топот смолк, и в поле пусто… Здравствуйте, защитники и вратари! Посмотрите на мой синий нос и озябшие руки и признавайтесь, кто высадил вчера мое окошко.
— Мы, — хмуро сказал высокий мальчик. — Окно будет сегодня вставлено. Не сердитесь на нас, Аркадий Петрович. Мы еще не купили себе коньки и клюшки, нам скучно и некуда идти, а эту проклятую «свечку» Петька дал нечаянно с подачи…
— Оставим в покое Петьку и «свечку», — сказал Гайдар. — На хоккейные принадлежности, я понимаю, у вас нет денег. Но за кем вы тут гонялись сейчас с ревом и топотом?
— Мы играли в казаки-разбойники! — закричали ребята.
— Сколько я себя помню, — сказал Гайдар, присаживаясь на ступеньку крыльца, — мальчишки всегда играют в разбойников. А надо бы им играть в хороших людей.
— А что это за игра — «хорошие люди»? — спросил с недоверием вратарь Гришка.
— Очень интересная игра, — ответил Гайдар. — Дым, огонь, бой, война. За помощь товарищу дают ордена и медали. Из боя вытаскивают раненых, знакомых и незнакомых.
— Между собой деремся, — хмуро сказал Гришка. — А другого боя нет.
— Боя нет, говоришь? — переспросил Гайдар задумчиво. — Ну а если человеку без боя худо? Кто живет на четвертом этаже, вон в том окошке справа?
— Живут девчонка Маруся и ее мать, — сказал Гришка. — Девчонка больна, мать побежала в аптеку.
— Больше ничего не знаешь? — спросил Гайдар.
— Не-ет… — сказал Гришка.
— А ведь эту девчонку из боя еще не совсем вытащили, — сказал Гайдар. — Ее только в сторону немного оттащили. У нее отца японцы убили, вот она с горя и заболела. Никого у нее в Москве нет — ни друзей, ни товарищей… Взяли бы и сходили в гости к хорошему человеку.
— Я пойду, — сказал после недолгого молчания высокий мальчик. — У меня брат ранен на Хасане.
— И я пойду с тобой, — сказал Гришка. — У меня никто не ранен, но я все равно пойду.
— И мы! — закричали ребята.
— Остальные потом, — сказал Гайдар. — Не все сразу. Пусть идут вдвоем — Леня и Гришка. Сейчас мы зайдем в булочную, купим Марусе булок и пряников.
Месяца два спустя, днем, мы пришли с Гайдаром на каток. На льду тренировалась наша команда. Новенькие клюшки мелькали в руках ребят, и вратарь Гришка с ожесточением и блеском отбивал резаные крутые мячи. Не было на льду только Леонида — высокого мальчика, капитана команды.
— Ну как дела, ребята? — сказал Гайдар, подходя к снеговому барьеру. — А где Леня?
— Дела хорошо! — крикнул Гришка. — Спасибо за клюшки, Аркадий Петрович. Леня пошел к Марусе. Я потом к ней пойду, вечером. А игру вы нам еще не придумали?
— Какую игру? — спросил Гайдар.
— В «хороших людей», — сказал Гришка. — Вы же обещали придумать.
— Играйте пока в хоккей, — буркнул Гайдар. — Игру я придумаю.
★
Игра
Слава приходит к человеку по-разному. Много книг написал Аркадий Гайдар, но и сам он не знал — хорошей или плохой получилась книга о Тимуре. Когда повесть стала печататься в «Пионерской правде», Гайдар уехал из Москвы. Он устал. Ему хотелось отдыхать: лежать, гулять, ни о чем не думать. В Клину, дома, он обошел комнаты, взял со стола чернильницу, ручки, перья и вышел во двор. Чернила он вылил под забор, ручки и перья закопал во дворе и повесил на воротах объявление: «Здесь живут охотники и рыбаки, а писатели здесь не живут».
Гайдар не искал славы. Он у себя в огороде собирал огурцы к обеду, когда слава сама постучалась к нему в ворота.
— Входите! — крикнул Гайдар, и в калитку протиснулась маленькая сморщенная старушка. — Входи, бабушка, — повторил Гайдар. — Тебе кого надо?
— Тебя и надо, — сказала старушка и стала спокойно и внимательно разглядывать Гайдара. Она обошла его с левой стороны, оглядела орден и потрогала рукав гимнастерки. — Ты и есть, — сказала старушка. — Как тебя объяснили добрые люди — такой и есть. Ну, стало быть, спасибо тебе! — И старушка, поклонившись в пояс, подала Гайдару узелок и корчажку.
— Это что же такое? — спросил Гайдар растерянно.
— Яички, — сказала старушка. — Свеженькие. А это творог, в корчажке. Ты бери, не бойся. Я бабка своя, красноармейская.
— Какая? — спросил Гайдар.
— Красноармейская, — повторила старушка. — У меня два внука в Красной Армии служат верой и правдой. Я и пенсию за них получаю. А тебе приношение делаю за добро, за указку.
— Ничего не понимаю! — сказал Гайдар. — За какую указку?
— Понимать нечего, — заволновалась старушка. — Какой народ пошел непонятливый! Четвертый день у меня во дворе идет баталия. Дрова наколоты, вода натаскана. Ты не смотри, что я старая, я до всего дозналась. Как ты книжки писал, как мальчишкам читал и какое им от тебя приказание вышло. Я их сегодня с утра стерегла и дозналась! — гордо добавила старушка. — А то они ведь тоже меня подстерегали. Я за козой — они во двор…
— Стало быть, у тебя, бабка, и коза есть? — спросил Гайдар.
— Есть коза, — сказала старушка. — Уж такая шустрая попалась коза! За ней, за козушкой, нагоняешься. Вчера отвязалась — еле поймала.
Гайдар охнул и сел на завалинку у дома.
— Бабка! — сказал он плачущим голосом. — Ведь это же все в моей книжке написано. Бабка, милая, откуда же ты взялась? Ведь я тебя, бабка, выдумал. Ведь тебя, бабка, на свете никогда не было…
— Ты уж ври, ври, да не завирайся! — грозно сказала обиженная старушка. — Это как же так понимать? Я, милый человек, на свете долго жила. У меня дети были, когда ты под стол пешком бегал.
Гайдар вскочил с завалинки и обнял старушку за плечи.
— Не сердись, бабушка! — сказал он. — Ты-то сама мою книжку читала?
— Я, сынок, неграмотная, — грустно сказала старушка. — Мне люди рассказывали.
— А мальчишки эти где? Откуда они? — допытывался Гайдар. — Какие они?
— Обыкновенные мальчишки, здешние, — сказала старушка, — Найденовы братья, Тихонов внук, девчонка с ними Наташка. От тебя, как выйдешь, найденовский сад будет наискосок, дворами-то здесь близко.
…Медленно вошел Гайдар в чужой сад.
В старом саду было тихо. По коричневым стволам сосен двигались солнечные светло-желтые пятна. В кустах черной смородины, густо посаженных вдоль забора, чирикали воробьи. На лужайке валялись две рогатки, лук и стрелы.
Гайдар подошел к дому и с удивлением прочел приколотую к дверям записку: «Мать ушла на базар». Из открытых окон дома доносились голоса. Гайдар прислушался и подошел ближе.
— Читай дальше! — требовал чей-то голос.
Гайдар с недоумением оглянулся по сторонам. Других записок как будто на крыльце не висело.
— «В просвете мелькнула еще одна тень, — услышал Гайдар. — Все обернулись и расступились. И перед Женей стал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. «Тише, Женя! — громко сказал он. — Кричать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я Тимур…»
Гайдар отошел от окон. Мягко, неслышно ступая по траве, он обошел дом и вдруг остановился, пораженный. Тонкие веревочные провода тоже, как в книжке, тянулись с чердака к высоким соснам у забора. К дому была прислонена лестница. Гайдар оглянулся еще раз. Никто его не видел.
Осторожно, опытный, старый разведчик, он взобрался на чердак. Желтое рулевое колесо, банки, звонки и бубенчики, красные звезды на синем флаге — все он заметил сразу и все сразу понял. Игра начиналась всерьез, игра становилась жизнью. Отсюда, с невысокого пыльного чердака, все было видно далеко-далеко…
С растерянной усмешкой он подошел к сигнальному колесу.
— Ну вот, — сказал он тихо, — все написал, обо всем подумал, а сейчас не знаю, куда крутить, куда вертеть и какая банка зазвенит громче. Пусть будет этот сигнал по форме номер один, позывной, общий.
И Гайдар повернул направо, потом налево таинственное колесо, и сейчас же на чердаке и внизу в доме задребезжали звонки и склянки, чей-то быстрый топот раздался под слуховым окном, скрипнула лестница, и Гайдар виновато опустил голову. Перед ним стоял высокий темноволосый мальчик с красной звездой на синей безрукавке, за ним виднелись еще два мальчугана — младший брат Найденов и Тихонов внук, а по лестнице храбро лезла вверх девчонка Наташка.
— Кто вы такой и что вам здесь надо? — спросил высокий мальчик.
— Я Аркадий Гайдар, — сказал Гайдар. — Я выдумал веселую тимуровскую команду, бабку с козой, чердак с колесом, веревочные провода и девочку Женю. Но бабка сегодня пришла ко мне в гости, команда живет и работает, а провода передают сигналы. Может быть, вы мне что-нибудь об этом расскажете?
— Нам нечего рассказывать, — смущенно сказал высокий мальчик. — Мы тимуровцы. Мы делаем свое дело.
— Очень хорошо, — сказал Гайдар. — Совсем хороша!
★
Чемодан
Детский дом имени 8 Марта стоял в лесу, недалеко от станции Поваровки Октябрьской железной дороги. В сорок первом году немецкие фашисты, подходя к Москве, разрушили и сожгли усадьбу, а лес вырубили.
Если ехать от Москвы, надо было, сойдя на станции, идти к дому налево, а если от города Клина — направо. Аркадий Гайдар ходил и направо и налево, потому что жил он в тот год и в Москве и в Клину сразу. В Москве отдыхал, в Клину работал, и часто ездил туда и обратно.
От Москвы до Клина три часа езды, но Гайдар, бывало, на короткую эту дорогу тратил по двое и трое суток. Доедет до Поваровки, слезет с поезда и пойдет в гости к ребятам. Очень любили ребята эти нечаянные наезды Гайдара и всегда волновались: надолго ли приехал Аркадий Петрович? Но это была такая большая «военная тайна», что даже сам Гайдар этой тайны не знал. Если ребята не очень озорничали, не мешали ему работать, он жил день, два, а иногда и больше. А потом собирался и уезжал в Москву или в Клин, смотря по надобности.
Однажды летом Гайдар загостился в Поваровке и прожил там трое суток. А на четвертые сутки он встал рано утром, посмотрел на солнце, на березки и сказал по секрету директору детского дома товарищу Соколову, чтобы ему принесли из спальни шапку-кубанку, шинель и чемодан. Вещи принесли, и Гайдар потихоньку от всех, чтобы ребята не очень галдели, отправился на станцию.
Но не так-то просто было незаметно исчезнуть из Поваровки. Не успел он пройти и сотню шагов по аллее, как из-за березовых кустов выскочили мальчишки: Гриша, Петя и Энка, а за ними прибежала и воспитательница Аня.
— Поймали! — закричали ребята и побежали к Гайдару.
— Поймала я вас, озорники! — закричала Аня и побежала за ребятами.
Тогда Гайдар остановился и схватил своими широкими лапищами в охапку всех троих ребят сразу.
— Ну раз все друг друга поймали, — сказал он, — делать нечего. Только не кричать, не ворчать, не прыгать. Провожающие — вперед. Уезжаю в Москву. Оркестр пусть играет марш «Тоска по родине».
Гриша и Петя побежали по аллее, Аня пошла рядом с Аркадием Петровичем, а Энка схватил обеими руками немудрящий фибровый, с тремя брезентовыми заплатками чемодан Гайдара и, кряхтя, потащился следом. Кряхтел Энка от усердия — в гайдаровском чемодане, кроме мыла, полотенца и зубной щетки, ничего не было.
Так и пришли на станцию.
Когда показался из-за леса дымок подходившего поезда, Энка, пошептавшись с товарищами, высунул вперед свою стриженую голову.
— Аркадий Пе-пе-петрович! — сказал он, заикаясь от волнения. — Отчего вы такой знаменитый, а чемоданчик у вас так себе?
Трое ребят раскрыли рты в ожидании ответа.
Гайдар задумался, а воспитательница Аня покраснела и отвернулась. Поезд уже совсем близко подходил к станции. Тогда Гайдар погладил по очереди три стриженые мальчишечьи головы, а воспитательнице Ане пожал руку.
— Не горюй, Энка, и не расстраивайся, — сказал он, — хуже было бы, если бы чемодан у меня был знаменитый, а сам я так себе.
Гайдар прыгнул на ступеньку вагона, и поезд тронулся.
Энка долго стоял на платформе.
Недавно мне пришлось побывать в Поваровке. Я проехал по старому гайдаровскому пути, прошел по много раз исхоженным Гайдаром тропинкам и увидел, что рассказ нужно дописать.
Вырубленный фашистами лес вырос.
Тоненькие кудрявые березки стоят на вырубке. Далеко за рост человека перемахнули пушистые молодые елки. Стройные тонкие липы и рябины посажены у дороги.
Детский дом имени 8 Марта стоит в молодом, прозрачном, чудесном лесу. Дом отстроен заново. В кустах вокруг дома бегают во весь дух новые Гришки, Петьки и Энки.
В старом овраге за дорогой я нашел ржавую немецкую бомбу. Саперы-подрывники вывинтили из нее взрыватели, вытащили взрывчатку и бросили уродливую, никому больше не опасную оболочку в овраг.
Ржавчина во многих местах проела железо. В дыры густо полезла зеленая трава, и шустрый одуванчик высунул свой веселый желтый лобик из разинутой пасти фашистского страшилища.
Видно было, что скоро и следа не останется от этого гадкого мусора. Все вокруг росло, зеленело, цвело. Вспомнилось мне, как нежно и мужественно любил Гайдар эту несгибаемую и неувядаемую, родную цветущую землю, и на душе у меня стало легко.
★
Случай
Площадка прицепного трамвайного вагона была переполнена. На остановке у Никитских ворот втиснулись сюда еще люди: старушка с полосатым мешком за плечами, старик с корзинкой, высокий плотный человек в кавалерийской шинели и черной кубанке и еще один человек с острым носом, в наглухо застегнутом пальто и серой кепке.
Последним в трамвай влез бедно одетый юноша с книжками под мышкой.
Сразу юношу затолкали и впихнули в середину площадки.
Растерянно глядя на кондуктора, шарил он по карманам в поисках гривенника, следуемого за проезд, и радостно улыбнулся, когда гривенник нашелся.
Мало кто выходил из вагона. Проехали Пушкинскую площадь, Петровские ворота, трамвай стал спускаться с горы к Трубной площади, и вот здесь, несмотря на великую тесноту и давку, человек в серой кепке заметил, что кавалерист в шинели лезет потихоньку в карман к юноше с книжками.
Вор был схвачен за руку на месте преступления. Все закричали и заволновались, трамвай остановился, и толпа с площадки высыпала на улицу. Только один старичок ткнул на прощанье корзинкой жулика в спину, удобно устроился на пустой площадке и поехал по своим делам дальше.
На улице толпа разрослась и забурлила так, что постовой милиционер долго упрашивал: «Граждане, тише! К порядку, граждане!» — прежде чем понял, в чем дело.


Кричали и волновались девушки, ребята, человек в серой кепке, но злее всех была, кажется, старушка с полосатым тиковым мешком. Так и лезла она вперед на жулика, махая перед собой маленькими сморщенными кулачками.
— На кого польстился! — орала старушка. — У кого хотел отнять последнюю рубашку!
И как ни старался человек в шинели и кубанке доказывать, что рубашку, хотя и последнюю, снять с другого человека в трамвае немыслимо, все равно ему никто не верил. Все шумней и шумней становилась толпа.
Тогда милиционер сурово махнул рукой, стал выяснять обстоятельства преступления и потребовал у вора документы.
Вор полез в свой карман и вынул коричневую маленькую книжку.
— Паспорта у меня с собой нет, — сказал он смущенно, — а только есть членский билет Союза советских писателей. Сам я тоже писатель и зовут меня Аркадий Гайдар.
— Знаем мы таких писателей! — первой закричала злая старушка.
И следом за ней все закричали тоже.
Среди шума и гама не кричал и не волновался только один пострадавший юноша с книжками.
— Кто вы такой и что у вас украли, товарищ? — ласковым, добрым голосом спросил у него милиционер.
Юноша покраснел и ответил, что со стороны жулика тут произошла досадная ошибка.
— Сам я приезжий, — сказал юноша, — и вчера стал студентом первого курса Первого медицинского института. Свои деньги я уже сам истратил, а стипендию еще не получил.
— Капиталиста нашел, жулик! — злобно сказала старушка, а милиционер укоризненно покачал головой и предложил юноше все-таки посмотреть, не вытащены ли у него документы или еще какие-нибудь ценности.
Юноша добросовестно вывернул карманы, и у всех на глазах на мостовую медленно упала смятая пятидесятирублевая бумажка.
— Это не мои деньги, у меня не было денег, — сказал юноша.
И в толпе произошло замешательство. Все стали смотреть на жулика-писателя, но он молчал, глядел в землю и мял в руках свою шапку-кубанку.
Стар и опытен был постовой милиционер. Много он видел на своей долгой и трудной службе, но такого жулика, который бы лазил в пустые чужие карманы и оставлял там деньги, ему видеть не приходилось.
Еще раз милиционер поднял руку и, когда наступила необыкновенная тишина, сказал, что за отсутствием состава преступления он с большим удовольствием освобождает товарища писателя и просит разойтись по домам свидетелей и очевидцев.
Все стали тихо расходиться, каждый по-своему обдумывая и понимая происшествие. Хотел было уйти и писатель Аркадий Гайдар, но злая старушка успела ухватить его за рукав, и он остановился.
Возле бульварной решетки старушка присела на ступеньку, развязала свой полосатый тиковый мешок, достала и подала Гайдару большое румяное яблоко.
— Бери, добрый человек, — сказала злая старушка. — Бери, яблоко большущее, я его потихоньку тебе в карман не всуну, ты все равно заметишь.
★
Кольцо
Не помню, откуда попало ко мне старинное серебряное кольцо.
Кольцо у меня увидел Аркадий Гайдар и долго рассматривал замысловатую резьбу на камне.
Крутые узоры оправы были обсажены потемневшей зеленой бирюзой, массивный чеканный ободок кольца облегал их плотно и строго. Так когда-то ковали и украшали панцири, годные для боя и приятные глазу.
Гайдару понравилось кольцо, он взял его и надел на палец.
Когда мы собрались уезжать по каким-то своим городским делам, Гайдар не снял кольца. Был у нас с ним неписаный договор дружбы. Взял — значит, нужно. Зачем, для чего и надолго ли, спрашивать не полагалось.
Вышло так, что к концу дня, после долгих разъездов по городу, у нас кончились папиросы. Почти у самого дома Гайдара, на Садовой, мы попросили шофера остановиться. Гайдар вышел из машины и пошел к ларьку.
Возле ларька стояли двое мальчишек. Один из них увидел кольцо на руке Гайдара, толкнул другого, и они с интересом стали разглядывать тяжелый перстень.
— Нравится? — спросил Гайдар.
— Нравится, — неуверенно ответил один из мальчуганов.
— Хочешь, дам поносить? — спросил Гайдар.
Мальчишки молчали.
— Только это кольцо не простое, — сказал Гайдар, — а волшебное. И, если вы его мне не отдадите через сорок восемь часов, как бы чего не случилось. Большое может случиться со мной несчастье…
Он снял кольцо и сунул его в руки одному из мальчиков.
Папиросы были куплены. Гайдар прыгнул в машину, и она быстро сорвалась с места.
Мне стало жаль кольца. Я обернулся. Мальчишки бежали за нами и что-то кричали. Но дорогу им пересек большой, тяжелый грузовик, а наш автомобиль свернул в переулок.
— Жалко? — насмешливо сказал Гайдар, заметив мое грустное лицо. — Не печалься, отдадут… А если и не отдадут…
Он задумался.
Через два дня Гайдар позвонил мне по телефону.
— Если можешь, приезжай, — сказал он. — Худо мне.
Я приехал. Гайдар ходил по комнате из угла в угол, и, когда я спросил его, в чем дело, он сказал грустно и тихо:
— Сорок восемь часов прошло — мальчишек нет, и твое кольцо, наверно, пропало.
Мы долго сидели у Гайдара. То и дело он срывался с места, подходил к окну, выглядывал во двор, смотрел на часы.
— Пятьдесят один час, пятьдесят два часа, пятьдесят три… — считал он.
Я проклинал и кольцо и себя. Я понимал состояние Гайдара. В конце концов, у меня стало меньше только одной серебряной безделушкой. Гайдар потерял больше.
— Чудак! — говорил я. — Кто тебя? Сам себя… Ну потерял игрушку, ну поплачь. Как тебе не стыдно! Как маленький!
Гайдар ответил медленно, все так же неотрывно глядя в окно:
— Это не игрушка. Это рассказ. С началом, с серединой и с хорошим концом. Только мы с тобой этого конца еще не знаем…
Я старался не вспоминать о кольце. Но он помнил и много дней был задумчив и печален.
Однажды мы снова подъезжали с ним к дому. Светофор заставил нашу машину остановиться у того же самого папиросного ларька, возле которого произошла эта несчастная история. Потом зажегся зеленый свет, передние машины тронулись, мы проехали почти последними.
Я почему-то посмотрел назад, увидел, как пересекает Садовую улицу грузовик, и все вспомнил: бегущих за нами мальчишек, кольцо и Гайдара.
— Аркадий, — сказал я, — подожди! А куда тебе должны были принести кольцо? Ты им дал адрес?
Прошло много лет, но я никогда не забуду Гайдара — он схватил меня за руку и сжал так крепко, что я охнул от боли.
— Забыл! — закричал он. — Забыл, глупый человек! Я ждал их, а они — меня. И может быть, не пятьдесят три часа, а гораздо больше. Чудаки! Они ищут меня и сейчас. Смотри! Слушай! Неужели ты не видишь, не понимаешь?
— Куда смотреть? — недовольно спросил я. — Ничего я не вижу и не слышу.
— Ну и дурак! — резко бросил Гайдар.
Мы простились с ним у крыльца его дома.
— Ладно… ежели так, — сказал Гайдар ласково. — Прощай и не сердись. Только помни: старое твое кольцо действительно волшебное, но приносит людям не несчастье, а счастье. Они еще разыщут нас с тобой, эти ребята. Вот увидишь!
Гайдар был очень доволен. Он твердо верил, что и на самом деле бродят по городу маленькие обладатели кольца и ищут Гайдара.
Рассказ «Кольцо» был в 1946 году напечатан в журнале «Пионер» вместе с другими рассказами об Аркадии Гайдаре.
Журнал разослали подписчикам. Я стал получать от них письма. Ребята не верили, что кольцо пропало. Они спрашивали твердо: когда нашлись мальчишки с кольцом, долго ли они искали Гайдара, где нашли и какая была у них жизнь — хорошая или плохая.
У моих маленьких читателей была крепкая уверенность в том, что кольцо найдется.
Однажды я вернулся домой из поездки и у себя на столе нашел старое серебряное кольцо. Крутые узоры оправы были обсажены потемневшей зеленой бирюзой. Старинный резной камень покосился в своем ободке, но я узнал его сразу по чуть заметной трещинке у основания.
Дома мне сказали, что кольцо принесли два офицера. Это и были гайдаровские «мальчишки». Они случайно прочитали в журнале рассказ, все поняли и разыскали меня в Москве. Восемь лет кряду они искали хорошего неизвестного человека, доверившего им дорогую игрушку, но найти, конечно, не могли…
★
Терпение
Однажды Аркадий Гайдар принес домой тяжелую связку книг в золотых и красных переплетах. Сбоку на корешках можно было прочесть имена авторов и названия книжек, и сын Гайдара — Тимур сразу приметил, что снизу в связке лежит «Таинственный остров» Жюля Верна, а сверху — «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева.
Конечно, он сейчас же схватил со стола ножик и совсем было собрался распаковывать книжки, но Гайдар положил связку на шкаф и сказал: «Потерпи! Сделай сначала уроки, пообедай и потом уж принимайся за чтение».
Очень легко сказать такое слово: «Потерпи!» — а каково терпеть человеку?
Тимур высказал отцу свою обиду и недовольство.
— Тебе хорошо говорить, — сказал он мрачно. — Ты все эти книжки читал, и тебе их перечитывать неинтересно.
А за обедом Тимур спросил:
— Папка! А у тебя самого есть терпение? Или ты только меня учишь уму-разуму?
— Есть, — сказал Гайдар и задумался…
Год спустя под Москвой Гайдар нашел в лесу большую медную шкатулку, запертую ржавым, но еще крепким замком. Медь позеленела от времени. Резьба на крышке и стенках шкатулки стерлась. Но зато внутри позванивало что-то большое и тяжелое.
Гайдар привез шкатулку в Москву.
Дома у нас в таких старых коробках обычно хранятся пуговицы и гвозди, но Гайдар, покрутив и повертев свою находку так и этак, услышал в ней, как он нам сказал, золотой звон.
— Кто будет прятать в лесу запертый ящик со старыми гвоздями или пуговицами? — сказал он.
— Давай откроем его, — сказал я и пошел было в кухню за молотком и клещами, но Гайдар, что-то вдруг вспомнив, покачал головой и погрустнел.
— Нет, — сказал он. — Я потерплю. Вот напишу еще одну хорошую-расхорошую книгу, тогда открою.
Мы долго упрашивали Гайдара сломать замок и посмотреть, что в медной коробке спрятано. Очень ведь это было интересно. Мы прямо-таки изнывали от нетерпения. Видно было, что и самому Гайдару очень хочется заглянуть в шкатулку. Но слово не воробей, терпение есть терпение, и запертая шкатулка так и осталась стоять под кроватью.
Вскоре Гайдар закончил свою новую книжку о коменданте Снежной крепости, и мы напомнили ему, что пора, мол, открывать медную коробку.
— Нет, — сказал Гайдар, — не пора. Я сказал, что открою ее, когда напишу хорошую-расхорошую книгу. А в этой книжке я был только помощником коменданта, и никакой мне награды за то не полагается.
— Ну что ж, — вздохнули мы. — Подождем…
Много с тех пор он написал книг: сказку о Горячем камне, «Клятву Тимура», рассказы о совести и о Марусе, а шкатулку все не открывал.
— Кто знает, — ворчал он в ответ на наши приставанья, — хорошие это книжки или нет? Хорошая-расхорошая книжка сама себя покажет. Потерплю.
Он был очень скромный человек.
Только во время войны, уже после смерти Гайдара, шкатулку открыли. Большого богатства в ней не оказалось, но среди множества тяжелых екатерининских пятаков нашлись два серебряных петровских рубля и тоненький, как лепесток, золотой полтинник.
★
Часы
Незадолго перед войной Гайдар купил в Мосторге себе и своей жене часы Первого московского часового завода. Часы были квадратные, из нержавеющей стали, на хороших, тоже стальных, браслетах. Свои часы — подарок Аркадия — его жена носит до сих пор. Часы Гайдара исчезли через три дня. Вот их история.
В чудесный весенний день мы шли по Староконюшенному переулку к Арбату. Хорошее у нас было настроение.
Звенели, падая на тротуары, сосульки с крыш, журчали ручейки. Даже стоячие лужи весело брызгали под ногами прохожих. Но не все были счастливы в Москве в этот день.
У ворот старого дома стоял мальчуган. Года три ему было, а может быть, и четыре. Все его богатство лежало рядом с ним в луже: два спичечных коробка, футляр из-под очков и старый, поржавевший, никому весной не нужный конек «снегурка».
Мальчишка плакал.
Веселая весенняя вода, которой так радовались мы, большие, крепко и ладно одетые люди, натекла ему в старые валенки.
— Плачешь? — спросил Гайдар, останавливаясь рядом.
— Плачу! — проревел мальчишка.
Я не успел сказать ни слова. Нетерпеливо пошарив в карманах и ничего в них, видимо, не найдя подходящего, Гайдар подобрал полы своей длинной шинели, присел рядом с мальчуганом на корточки, снял с руки часы и стал прилаживать их на худенькую мальчишечью руку. Широкий мужской браслет сваливался с нее, и Гайдар долго возился, пока сумел плотно и крепко надеть часы на руку мальчугану.
— Тикают? — спросил он.
— Тикают, — ответил мальчишка, переставая плакать.
— Ну и пусть, — сказал Гайдар. — Пошли!
Только на Арбате я решился спросить у него, зачем он это сделал.
— Не шибко ему хорошо живется, этому отпрыску, — сказал Гайдар. — Пригодятся в хозяйстве часы. Конек заметил? Не по сезону игрушка. Ну хотя бы кораблик деревянный, лягушка какая-нибудь, а то «снегурка»!..
★
Сын
Гайдар жил со своей семьей на даче в Кунцеве, в синем доме с зелёной крышей.
На заросшей ромашками поляне перед домом была туго натянута белая волейбольная сетка. Поодаль на горе стояла маленькая часовенка, в которой помещалась колхозная трансформаторная будка. А вся местность вокруг до самой реки густо заросла мелким осинником, волчьей ягодой и черной смородиной.
В памятный день, о котором идет речь, Аркадий Гайдар был невесел: утром на прогулке сын Тимур испугался лягушки.
Большая зеленая лягушка сидела под смородиновым кустом у крыльца и тихонько покряхтывала: «Кхе-кс! Кхе, кхе, кхе-с!» Тимур обошел куст стороной, поближе к дому, и часа два смирно играл на террасе в кубики. Вечером он решительно отказался слушать сказку про злюшину-лягушку.
— Конечно, — сказал Гайдар, нахмурившись, — я тебя понимаю. Страшно. Но знаешь что, сын? Есть такое слово: стыдно. Стыдно — это хуже, чем страшно. А лягушек бояться — стыдно.
Ночью Тимур стонал во сне, ахал и бил кулаком по кровати.
— Он болен, — тревожно говорила мать. — Или ему снятся лягушки?
— Ничего подобного, — ответил Гайдар. — Ему снится рогатое чудовище, похожее на соседскую корову. И он дерется с чудовищем на кулачки.
Гайдару не хотелось, чтобы сын у него вырос трусом.
Утром они уплыли на лодке по реке «в далекое синее море». Так было сказано матери.
Это было чудесное путешествие.
Старый лодочник приготовил для них на пристани самую лучшую лодку. Мать положила Тимуру в сумку бутерброды с ветчиной и хлеб с маслом. В ларьке у пристани Гайдар купил две бутылки с вишневой водой и связку бубликов.
С такими запасами можно было плыть на край света. И они уплыли.
Гайдар греб сильными короткими взмахами. Лодка то стремительно неслась посредине реки, то вдруг с шуршанием и свистом врезалась в камыш и осоку. Мир тогда исчезал от путешественников. Оставались вокруг только зеленые стебли высокой речной травы, синее небо, а в небе — стрекозы и облака.
— Папка, — кричал Тимур, — заблудимся! Не туда!
— А тебе куда надо? — серьезно спрашивал Гайдар.
Лодка долго кружилась по реке. Путешественники съели бублики и ветчину и выпили вишневую воду.
Когда им снова захотелось есть и пить, лодка неожиданно сильно ткнулась носом в песок. Тимур обрадовался — стало быть, приехали: либо домой, либо к далекому морю.
Но Гайдар молча вышел из лодки на берег. Он огляделся, покачал головой и сказал сурово:
— Пошли! Начинается самый главный поход. Раз! Два! Левой!
Шли они долго. С тропинки свернули направо, а потом налево. Сразу три лягушки — две зеленые и одна коричневая — соскочили с большой моховой кочки. Черный уж с золотой короной на затылке прополз в траве. Собрался было Тимур испугаться и заплакать, но… «раз, два, левой — идет ход-поход, кто же плачет в походе?» А Гайдар еще раз свернул налево и еще раз направо. Вот как будто увидел Тимур знакомый гриб-мухомор среди тонких листьев папоротника, но опять разделилась и свернула тропинка в сторону. Мало ли мухоморов растет в темном и страшном лесу! Кончился осинник, замелькали вокруг красные и черные ягоды. Остановился Гайдар. Остановился Тимур.
— Папка, — сказал он дрожащим голосом. — Мы, кажется, совсем заблудились.
Бывает так в пути. Внезапно блеснут с дороги волчьи глаза. Остановится, захрапит и попятится конь. Вздрогнет всадник. Холодом пройдет с затылка по коже «волчья оторопь» — лесной страх. А потом окажется, что поблизости не было волков и в помине. Искры от пастушьего костра отлетели по ветру к дороге и на ней погасли.
— Бодрись, Тимурище, держи голову выше! — сказал Гайдар громко и весело.
— А я не могу выше, — ответил Тимур печально.
Ну конечно, трудно и страшно идти по лесу человеку, если гриб мухомор ему достает до пояса, а чахлый ягодный куст закрывает все небо. Родной дом пропадает неизвестно куда, старый пень на тропинке неодолимо становится поперек дороги, и корни деревьев вылезают из земли. Сверху, в густой листве, как змеи-горынычи, блещут волчьи глаза черных ягод. Как тут помочь товарищу?
И Гайдар придумал. Давно придумал, как помочь. Он осторожно взял сына за плечи и медленно стал приподнимать его вверх.
Красный гриб мухомор закачался далеко внизу и стал совсем маленьким и нестрашным.
За кустом волчьих ягод, немного пониже синего неба, показалась вдруг деревенская горка с часовенкой.
Мягкие широкие листья орешника прикрыли волчьи глаза, и уже поправил на голове черкесскую папаху и потянулся Тимур рукой за зеленым орехом-тройчаткой.
А Гайдар поднимал сына все выше и выше.
На глазах у всего удивленного лесного царства вырастал над грибами, над ягодниками, над лягушками, над орешниками новый, большой человек.
Стала видна за горбатым оврагом заросшая ромашками полянка, повисла в просвете между деревьями волейбольная сетка, и синий дом, рубленный из крепкого корабельного леса, вдруг выглянул из-за косогора своей зеленой крышей.
— Бом-бом! — закричал Тимур и заболтал ногами от радости. — Бом-бом! Вот и дом!
Но в это время зеленый орех-тройчатка стал уплывать вбок и вверх, и через минуту Тимур снова стоял внизу, на темной тропинке, рядом со старым, поганым грибом.
Можно бы и опять испугаться человеку, но страх не приходил.
Тимур даже сам удивился, почему ему совсем не страшно.
— Папка, — сказал он. — Давай продираться к дому. Мама нас ждет, и соседский Петька ждет меня тоже.
— Давай, — сказал Гайдар. — Давай продираться прямо через кусты и чащобы. Если человек знает и помнит, что есть у него на земле родной дом, нигде он не потеряется и нечего ему бояться. Есть у нас с тобой дом, друзья-товарищи. Ну а если совсем станет нам худо, прибежит на выручку соседский Петька.
И они пошли прямо через кусты и овраги.
Дом оказался рядом.
★
Флаг
Никто не знал, зачем вдруг Гайдар попросил домашнюю работницу своих соседей Ульяшу купить ему в магазине два метра синего сатина и полметра красного, очень красного шелка, такого, чтоб на ветру горел и на дожде не гас.
Когда материю принесли, Гайдар взял на кухне Ульяшины острые ножницы, сказал: «Спасибо за одолжение», ушел в комнату и запер за собой дверь.
Ульяша подумала, что Гайдар собирается шить себе какие-нибудь форменные трусики с оторочкой. Был однажды случай, когда Аркадий Петрович сшил себе сам три рубашки.
На другой день Гайдар уехал в Клин. Там, в маленькой летней пристроечке к дому, он устроил свой рабочий кабинет. В этом кабинете, как Гайдар говорил, была деловая рабочая обстановка — стол, стул и железная кровать, покрытая жестким солдатским одеялом. Над кроватью Гайдар повесил малокалиберную винтовку и бинокль, на столе разложил рукописи новой, не известной никому книги и сел работать.
Белый домишко глядел весело. Серый кот Пентюх сидел у порога, мурлыкал и мыл морду лапой — «намывал гостей».
Черный скворец прыгал на жердочке у скворечни, пел песни, а бывало, и мяукал по-кошачьи — дразнил кота…
Вот над этой скворечней на длинном шесте поднял Гайдар диковинный синий вымпел с красной огненной звездой в левом углу полотнища, и флаг медленно развернулся на тихом ветру. Ни в каких геральдических книгах гербов и знамен никогда такого флага не было, и никому на земле еще не был известен синий краснозвездный вымпел.
Рано утром милиционер Иван Егорович постучал в ворота, вызвал Гайдара для частного разговора и настойчиво посоветовал убрать со скворечни и с глаз долой флаг неустановленного образца.
И на другой день он пришел и постучался в ворота, и на третий…
— Сними, Аркадий Петрович, эту самую хоругвю, нехорошо!
Но Гайдар никак не соглашался убрать флаг, ходил по двору и пел «Варяга»: «Все вымпелы вьются, и цепи гремят, наверх якоря поднимая»…
Многократно и терпеливо он объяснял Ивану Егоровичу, что флаг принадлежит вовсе не ему, Гайдару, а только передан сюда на хранение генеральным консулом одной дружественной и сочувствующей коммунизму республики, и если, мол, флаг убрать, то республика обидится, и как бы чего не вышло по дипломатической линии. Иван Егорович в существовании такой республики сомневался, но до конца в своих сомнениях уверен не был.
— Видишь звезду? — спрашивал Гайдар.
— Вижу, — нерешительно отвечал Иван Егорович.
— Наша звезда?
— Звезда наша, — отвечал Иван Егорович. — А вот почему поле вокруг синее? Наши флаги — все красные.
— Чудак! — говорил Гайдар. — «Почему да почему?» Потому что на синем поле красную звезду виднее.
Так они спорили месяца два или три, и флаг все висел над двором в вышине, а тут вскоре стала печататься в газетах повесть про Тимура, и тимуровский синий вымпел, реющий над гайдаровским домом, стал виден далеко-далеко, всей стране.
Иван Егорович, зажав под мышкой «Пионерскую правду», пришел как-то к Гайдару очень обиженный.
— Дипломат, дипломат, зачем же ты мне врал про республику?
— Это была моя военная хитрость, — сказал Гайдар. — Книжка теперь написана, и флаг я, пожалуйста, могу снять…
— Нет уж, — сказал Иван Егорович. — Нет, пусть теперь висит, как ему положено. Флаг этот теперь известный.
★
Чашечки-серебряшечки
У Гайдара была маленькая дочка Женя, которую он очень любил.
Однажды Гайдар собрался ехать на юг — лечиться. Женя вместе с мамой проводили его на Курский вокзал, и перед отходом поезда Женя спросила:
— А ты писать будешь? Будет ли почтальон приносить мне от тебя письма?
— Конечно, — сказал Гайдар. — Он обязан приносить тебе мои письма два раза в неделю.
— Только пиши про интересное, — сказала Женя. — Как Маршак. И привези мне в подарок камешков-голышиков.
— Хорошо, — сказал Гайдар. — Я постараюсь.
Он сел в поезд и уехал. В Севастополе он долго лечился, а потом на большом морском пароходе уплыл на Кавказ, в Батуми.
В его каюте были кровати, столы, стулья, чернила и перья. На борту теплохода «Грузия» Гайдар написал Жене письмо:
«Плыву сейчас на пароходе по Черному морю. Море это очень глубокое, и если поставить сто домов один на другой, то все равно потонут. В этом море водятся разные рыбы, веселые дельфины, блестящие медузы, а коровы в этом море не водятся, и кошки и собаки не водятся тоже.
Уважаемая Евгения! Ваша мама писем мне не пишет и за все время прислала только одну штуку. Я думаю, если бы вы были уже человек ученый, то вы бы мне писали чаще.
В кавказских краях я куплю семян, и мы с вами в Клину их посадим на грядку, и очень они расцветут красиво. Скоро уже я приеду домой и там посмотрю, кто что разбил и кто лазил ко мне в ящик…»
Когда это письмо пришло в Москву, Женя и мама долго ходили по улицам и соображали, какая это будет глубина и высота, если действительно сто больших домов нагромоздить один на другой. Получалась очень громадная глубина и очень страшная высота. Жалко было, что домашние животные не могут жить под водой — в таком большом море хватило бы места всем коровам, кошкам и собакам.
Женя и мама зашли на телеграф и послали Гайдару телеграмму:
«Мы ничего не разбивали и к тебе в ящик не лазили. Приезжай скорей».
В городе Батуми Гайдар получил телеграмму и, обрадованный домашним покоем, пошел гулять по городу.
В киоске фотографа он увидел портрет девочки. Девочка смотрела на свои недавно подаренные ей ручные часы. Косички ее торчали в стороны, лоб наморщился. Это была очень хорошая девочка, но сразу было видно, что она еще не научилась считать до двенадцати и не знает, что ей делать с цифрами и стрелками. Гайдар зашел к фотографу и попросил продать ему эту фотографию.
— Не продается, — сказал фотограф.
— Да мне не для себя надо, — сказал Гайдар, — а для маленькой девочки Жени.
— Ну раз для маленькой девочки, то возьмите бесплатно, — сказал фотограф.
— Я вам сейчас покажу, для чего мне нужна эта карточка, — сказал Гайдар.
Он сел к столу и на обороте карточки написал вот такие стихи:
Распустивши две косы,
Смотрит кроха на часы.
«Можно ль мне узнать у вас,
Что сейчас? Который час?»
И ответила мне кроха:
«Я считать умею плохо:
Или девять без пяти,
Или пять без девяти».
Фотограф смотрел через плечо Гайдара, когда тот писал.
— Очень хорошо, — сказал фотограф. — Дайте я перепишу на память ваши стишки.
— Переписывайте, — сказал Гайдар, — мне не жалко. Но только скажите раньше, что у вас за звери живут под столом? Один зверь грызет мой сапог, а второй карабкается вверх по моей правой ноге. Я даже боюсь пошевелиться и посмотреть.
— Э! — засмеялся фотограф. — Это мои товарищи — котята и щенята. Теперь их осталось четверо, а было восемь штук — четырех выпросили соседи.
Он полез под стол и вытащил оттуда трех котят и Щенка. Он налил им в миску молока, и котята стали лакать молоко своими розовыми язычками, а щенок сел рядом и терпеливо дожидался своей очереди.
— Вот то, что мне надо, — сказал Гайдар. — Прошу сделать снимок.
Женя очень любила всяких зверят. У нее дома в Клину жили котенок Максим и щенок Жулик.
Фотограф снял для Гайдара свое четвероногое семейство.
На обороте карточки Гайдар надписал:
Из жестяной этой миски
Молоко хлебают киски,
Добрый пес на них не лает,
Только хвостиком махает.
А потом зашел еще в один магазин и купил там игрушечный, почти совсем настоящий чайный сервиз. И, чтобы Жене было веселее жить
на свете и ждать его приезда, Гайдар подписал в конце открытки: «Здравствуйте, люди!
Мы купили вам чашечки-серебряшечки. Очень интересные. Крепко вас целуем».
Совсем внизу Гайдар нарисовал маленького смешного человечка.
После смерти Аркадия Гайдара Женя долго никому не показывала его писем.
Только совсем недавно она показала их мне.
★
Путешественник
С хребтов Уй-Таша и Нажик-Тау стремятся вниз горные потоки. В Уральских горах берет начало Урал-река и катит свои волны до самого Каспийского моря.
Чистый горячий песок лежит по берегам Урала. Всякая рыба водится в светлой и быстрой его воде.
Осетры и белуги прячутся в глубоких речных ямах. Стаями ходят под крутыми ярами жерехи и сазаны. Белобрюхие сомы шевелят усами под корягами.
От главного русла Урала в разные стороны разбежались заливные речушки. По-местному они называются старицами.
Густым, непролазным лесом покрыты их берега, а лесные проходы, как сетями, заплела ежевика. Утки и гуси вольно гнездятся здесь. В лесу, где ежевичный куст, там и тетерев-воркотун. На высоких деревьях вьют гнезда лесные голуби: горлинки, вяхири и витютни.
А там, где буря прошла по лесу, повалив деревья, в чапыжнике, в буреломе, по руслам пересохших стариц — волчьи логова, и ночами волчий хохот и плач раздаются над сонной рекой. Серая куропатка тогда отводит свой выводок в кусты погуще, зайчиха выбирается на поляну, а старый косач, хлопая крыльями, взлетает на дерево и бормочет с перепугу всякую чепуху.
За лесом, за рекой без конца и края расстилается степь. Огромные птицы — дрофы — расхаживают по степи, и часто их стаи охотники издали принимают за стада овец.
Стрепеты кувыркаются в небе. В таких местах по-настоящему понимаешь, что такое значат слова «земной простор» и «приволье».
На охоту на Урал мы поехали вместе с Гайдаром. Жили мы в палатках на берегу реки. На длинном шесте был поднят наш голубой охотничий вымпел, и, издалека завидев его, гудели нам «здравствуйте» знакомые пароходы.
Жили мы хорошо. Вставали рано, с рассветом. Гайдар говорил, что рассвет на Урале сначала слышишь и чувствуешь и только потом видишь. Раным-рано просыпается предутренний ветер. Ночью он дремлет на краю той земли, что не тронута солнцем. Но лишь заденет его солнечный луч, поднимается ветер и бежит. Отбежит и ляжет, и снова ждет, и снова бежит от солнца.
В глубокой еще темноте дойдет от реки резкий и неожиданный плеск, не такой, как ночью, — отчетливей и ясней раздастся он. Это значит — полог ночного тумана колыхнулся, приподнимаясь и в узкую щель между туманом и водой проник чистый, освобожденный звук.
В темном лесу свистнет птица — чвик! — и замолчит. Намного раньше человека увидит птица, что синее звездное небо посветлело, стало легче и чуть холодней. Все еще темно. Но час назад вспугнутая утиная стая неслась над самой землей, словно боялась задеть крыльями низкие звезды. А сейчас высоко в тонком небе летят птицы, мир стал больше и выше. Теперь это видишь и ты.
Сколько раз приходилось и мне сначала чувствовать нежное прикосновение света и только потом видеть его. Бывало, шевельнется у виска, точно сама по себе, выбившаяся из-под фуражки прядь волос, и почти тотчас же глаз разглядит первые очертания ветвей и листьев.
Это светлая полоса зари легла за темным высоким лесом. Это утро пришло, солнце встало.
Прекрасное, краткое и редкое время.
Часто мы уходили из лагеря в лес, в степь. Чаще всех и дальше всех уходил Аркадий Гайдар. Он путешествовал по-настоящему, всегда что-нибудь находил по дороге и приносил в лагерь. То змеиную шкуру, то двух черных кротов, то диковинный гриб — нарост со старого дерева.
Однажды он вернулся из темного леса и сказал, что видел в лесу медведя.
— Медведей отродясь не водилось в степной полосе, — сказали мы Гайдару.
— А я видел, — сказал он. — Низенький, на четырех лапах, идет фыркает, и нос пятаком.
— Да это же не медведь, а барсук! — закричали мы.
— А не все ли мне равно! — сказал Гайдар. — Если я ни медведя, ни барсука никогда в глаза не видел, какая мне разница! Все равно страшно.
Очень он дружил с колхозными охотниками и рыбаками и на рыбацкий стан уходил, бывало, верст за десять. Возвращался он утром, усталый и довольный.
— Много рыбы поймали? — спрашивали мы.
— Рыбы поймали много, — отвечал Гайдар. — Всякой, разной и хорошей рыбы. Два раза заводили невод и вытащили двух шипов, осетра и четырех сазанов, не считая мелочи. Варили ночью уху и пели казачьи песни. А большого икряного осетра повезли в первую отличную колхозную бригаду в поле, где бригада убирает хлеб. Вам я ничего хорошего не принес, а если хотите, я спою грустную песню.
Сядет Гайдар на сухое дерево у костра и запоет очень веселую песенку.
Все засмеются, а Гайдару только этого и надо. Раз все веселы и довольны, то и Гайдар был весел тоже.
★
Кутька
На охоту на Урал мы, пятеро товарищей, взяли с собой четырех охотничьих псов. Вот они были какие: Томка, Васька, Грайка и Бумба.
Только у одного Гайдара не было своей собаки.
Жизнь у нас сначала была не очень веселая: собаки наши перегрызлись между собой, а из-за собак переругались и охотники. Известно, что каждому охотнику своя собака дороже.
Мы даже стрелять стали один хуже другого, перестали петь веселые песни и уже подумывали: а не разъехаться ли нам подобру-поздорову в разные стороны?
Хмурые и озабоченные, сидели мы как-то вечером возле нашего охотничьего костра, друг на друга не смотрели и молчали.
Один Гайдар чему-то непонятному улыбался и тихо пел песню о далекой чужой деревне, в которой мужики дерутся, топорами секутся. Конечно, им трудно от этого жить на свете.
Ночная птица кричала за лесом, чайник шипел на костре.
Гайдар оглядел нас, кашлянул, сдвинул на затылок кубанку и закурил трубку.
— Скучно мне, товарищи, — сказал он, вздыхая. — Надоело мне охотиться с чужими собаками, и в общей собачьей ссоре я принять участие не могу, так как сам я человек бессобачный…
— Ну и что ж теперь делать? — спросили мы.
— Ничего не делать, — сказал Гайдар. — Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Я уже присмотрел в поселке злющего беспризорного кобеля ростом с теленка и скоро заведу себе собственную собаку.
Тут мы все стали упрашивать Гайдара не заводить в лагере пятого пса — и от четырех житья нет. Но Гайдар был непреклонен и утром на лодке уехал в поселок за собакой, а мы стали укладывать чемоданы и собираться обратно в Москву.
День прошел тускло.
Вечером мы услышали, как за ближней песчаной косой на реке сильно стучат весла и скрипят уключины. Вскоре стал слышен голос Гайдара:
Море злится. Ветер дует.
Солнце с тучами балует.
Волны с пеной в берег бьют.
Рыбы вовсе не клюют.
Впрочем, дело поправимо: Пронесутся тучи мимо, Кончит ветер баловать И домой умчится спать.
Лодка вышла из-за косы. Гайдар стоял в ней во весь рост и махал нам руками!
— Эгей! Эгей, друзья! — кричал он. — Вот я и вернулся!
А какой нам от этого был прок и какая радость?
Мы даже к берегу не подошли. Слышим, кричит Гайдар:
— Вперед! Назад! Вперед! Назад!
Видим, появляется он из-за кустов и тащит два большущих арбуза, а собаки не видно.
— Где же собака? — спросили мы с надеждой. — Может быть, не привез?
— Как же такое — не привез! — ответил Гайдар строго. — Вот она, зверь-собака, чудовище!
И тут все увидели: бежит по песку Кутька. Ростом он был не с теленка, а с самую обыкновенную сахарницу, хвост — крючком, уши — конвертиком.
Наши злые большие собаки учуяли Кутьку и сразу выставили головы, каждая из своего куста, где были привязаны: видим, мол, тебя, такого-сякого, и того и гляди сожрем.
А Кутька покрутился около нас, повилял хвостом и шастнул в кусты к собакам.
— Пропал щенок! — ахнул я. — Загрызут его теперь злющие псы!
— Чудак! — спокойно сказал Гайдар. — Кто посмеет тронуть такую собаку? Это пес неустрашимой и грозной породы — циммерман-миберман. Слышали про такую? Прошу мою собаку не портить и сахаром не кормить. Завтра я с ней пойду на охоту.
Нет, никогда мы не слышали ни про циммерманов, ни про миберманов, но большие собаки действительно не тронули Кутьку. В собачьем обществе, оказывается, строго запрещено обижать маленьких. Они по очереди вылизали Кутьку от головы до хвоста, а самый наш злющий драчун, серый в яблоках бесхвостый Томка, отдал Кутьке еще не совсем обглоданное куропаточье крыло и самолично поймал блоху в белой Кутькиной шерсти.
Обрадованные таким собачьим доброжелательством, мы в этот вечер устроили танцы у костра и разошлись, только когда луна спряталась за большое серое облако. Я даже не очень ворчал, увидев, что спит Кутька, похрапывая, на моей большой розовой подушке.
— Удобства любишь! — сказал я, взял Кутьку за шиворот и осторожно переложил щенка в гайдаровскую кубанку.
Утром, едва посветлело на небе, мы поднялись на ноги. Ветерок давно уже забрался в окошко палатки. Неподалеку, в тальнике, посвистывали куропатки. Звезды гасли одна за другой. Пора было идти на охоту.
В лесу наши собаки сразу причуяли тетеревов и пошли по птичьим набродам. Кутька бежал рядом с ними, не отставая. Он только иногда повизгивал от боли и негодования, когда тонкие плети ежевики дергали его за лапы.
Томка первым сделал стойку на широкой поляне. Он оглянулся на нас, вытянул хвост и замер, точно окаменел.
Это значило, что тетерева здесь, рядом, и надо двигаться вперед тихо-тихо, чтобы не спугнуть осторожных птиц раньше времени. Ну и мы стали идти тихо, еле-еле переставляя ноги, взвели курки у ружей и думали, что тетерева уже лежат у нас в охотничьих сумках.
А вот Кутька, разумеется, не обратил на Томку никакого внимания. Он как бежал во всю свою прыть, так и продолжал бежать и с ходу врезался в самую середину крупного тетеревиного выводка.
Дикие черные и коричневые птицы с треском всем выводком шарахнулись в небо. Грянули выстрелы, перья полетели в стороны. Матерый косач больно задел Кутьку крылом по носу. Отчаянно пискнул щенок, сел посередине поляны на задние лапы, а правую переднюю поднял высоко вверх: «Пожалейте меня, добрые люди! Что же это такое творится?! Гром, звон! Дерутся! За что? Почему?»
Давно мы так не смеялись. Гайдар подобрал Кутьку с земли, взял на руки. Мы даже снять его успели в этот момент, и до сих пор у меня хранится фотография Гайдара с грозной собакой циммерманом-миберманом на руках.
— Вот, — сказал нам тогда Гайдар, — я же вам говорил, что это порода замечательная и необыкновенная. Хотел бы я видеть, какая еще охотничья собака так садится на задние лапы в самой середине выводка и лапой показывает: «Вот она, дичь! Берите, стреляйте, ешьте!»
Весь этот день мы дружно охотились в лесу.
А ночью к нам на стан пожаловали волки. Они тоже решили поохотиться — за нашими собаками. Мы спали в палатке. Мелкий дождь стучал по тугому брезенту…
Рыча и визжа, прямо по нашим головам влетели в палатку одна за другой четыре собаки. Томка залез ко мне под одеяло, рыжий Васька сел на голову Гайдару, Грайка забилась за чемоданы и долго там дрожала и со страха по-человечьи всхлипывала, а мохнатый черный Бумба даже икать стал от ужаса. Только один маленький Кутька никого не испугался. Он был полным несмышленым дураком и в том, что страшно, что нет, еще не разбирался.
Храбро он стоял у входа в палатку и злобно лаял в темноту. Там, в кустах, на едва заметной песчаной дорожке мелькали серые тени. Мы выскочили с ружьями. Тени исчезли.
Внутри палатки сидели рядышком наши псы. Уж такие они были тихие, такие вежливые! Казалось, никогда не было на земле лучших друзей.
— Ну что? — сказал Гайдар, заглядывая в палатку. — Поняли вы или нет, что смысла нет ссориться друг с другом, когда столько злых настоящих врагов живет на земле?
Собаки, конечно, промолчали, а мы сказали, что поняли, и поблагодарили Гайдара за науку.
Маленькому Кутьке мы утром смастерили ошейник и привязали к нему большую медаль, которую Гайдар вырезал из старой консервной банки.
Очень мне хочется опять побывать на Урале, постоять вечером у песчаной косы и послушать: не стучат ли за косой весла, не скрипят ли уключины. Все хорошее должно оставаться в памяти у человека.
★
Свет
Одиннадцать лет подряд мы ездили на охоту на Урал без Гайдара. К тому времени, когда Гайдар собрался поехать с нами, у нас, старых уральцев, образовались уже свои привычки и традиции.
У нас была своя охотничья уральская песня, которую мы пели по вечерам у костра, свой дед Захар в поселке Коловертном, у которого мы всегда ели арбузы и пили кислое молоко, и даже своя старая седая волчица, которая жила в степи около пятнадцатого аула. Все одиннадцать лет мы гонялись за ней понапрасну.
У нас было и свое любимое развлечение, которое мы позволяли себе ежегодно.
В хорошую ясную ночь мы выволакивали на реку сухой пень, или выворотень, накладывали на него хворост, тихонько заводили пень-выворотень вверх по реке, поджигали и на самом стремени реки отпускали.
Ночью мимо нашего стана плыл пылающий факел, красиво освещая темные берега Урала. Соцветие огня и темноты нравилось нам.
Огонь проплывал по реке, скрывался за поворотом, и снова мы погружались в темную летнюю ночь.
Очарование длилось недолго: хорошо, если за все одиннадцать лет мы полчаса простояли на берегу, озаренные огнем.
В этом году все получилось не так.
Едва лишь показалось вдали отправленное в темноту золотое сияние, Гайдар схватил меня за руку.
Огонь плыл под берегом, темные ветви прибрежных деревьев склонялись над ним дремуче и спокойно. Удивленно крикнула птица в лесу, затрещали кусты, с яра осыпался в воду песок: испуганный зверь уходил от близкого огня, и снова все стихло.
Чуть потрескивая, роняя в воду крупные, как звезды, искры, плавучий костер уплывал от нас все дальше и дальше.
Неожиданно Гайдар тронулся с места, раздвинул заросли тальника и потянул меня за собой. Сначала медленно, потом все ускоряя и ускоряя шаги, мы пошли по берегу за огнем.
В излучине река просматривалась далеко-далеко. Огонь, мерцая, приветливо кивал нам, точно звал за собой. За речным бакеном он сверкнул особенно по-домашнему. Островерхий плетеный бакен засветился как будто изнутри и показался нам маленьким домиком на реке.
— «В окнах огонек», — вспомнил Гайдар старые стихи.—
Светлой полосою
На воду он лёг.
В доме не дождутся
С ловли рыбака —
Обещал вернуться
Через два денька.
Но прошел уж третий,
А его все нет…
Была такая книжка, — сказал он. — Старая-старая… Обложка серая в полоску — так часто в то время переплетали книги… Лежала книга на столе под лампой, и на первой странице было вот это стихотворение. Лампы нет, лампа была керосиновая, и домика того нет, а огонек горит…
Низкий берег кончался, на той стороне начиналась отмель.
Теперь течение относило огонь в нашу сторону. В этом месте степь клином выходила к реке, горячий даже ночью степной ветер нёс по небу облака; луны не было. Сильный приглушенный плеск раздался под берегом.
— Смотри! — прошептал Гайдар, склоняясь к воде. Здесь, под яром, — мы знали это по рассказам деда Захара — была старинная осетровая ятовь, глубокая речная яма, в которой стояли осетры.
Как раз над ней проплывал сейчас огонь, и впереди огня, почти рядом с ним, медленные и спокойные, плыли два осетра.
Спустя мгновение из глубины поднялся к ним третий. На поверхности воды, освещенные красным светом костра, они казались нам сказочными существами, придуманными и ненастоящими.
Острые их верхние плавники выходили наружу и при движении оставляли тонкий струистый след.
— Осетры к царю плывут… — тихо сказал Гайдар.
Я не понял: почему к царю? Тогда он прочел целую строфу из ершовского «Конька-горбунка» — память у него была исключительная:
Осетры тут приплывают
И без крика поднимают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
У него под ногой с шумом обрушился в воду яр.
Упав на колено, Гайдар едва удержался на берегу. Плеснув хвостами, исчезли сказочные рыбины.
Рядом, внизу, попав, видимо, на омут, медленно кружился огонь.
Мы молчали.
— Так не бывает, — сказал наконец Гайдар. — Об этом написать нельзя.
Конское фырканье раздалось за нашей спиной. От ближнего стога прыгал к нам спутанный годовалый жеребенок. На самом яру он остановился, ткнул мордой Гайдара в плечо, еще раз фыркнул и удивленно уставился на реку.
Пень-выворотень вырвался из омута и поплыл по реке быстрее, ветер раздувал на нем пламя.
Жеребенок поднял морду и заржал тревожно и тоскливо.
В темном небе только угадывалось движение облаков. Далеко в степи скрипела арба.
— Смотри! — сказал Гайдар. — Смотри на него. Видишь?
Я ничего не видел. Небо как небо, лошадь как лошадь, молодая и глупая.
— Он удивлен, — сказал Гайдар. — И сердится за непорядок; привык к тому, что золотые шары катаются по небу и тогда отражаются и дробятся в воде. А тут огонь в воде, внизу, а наверху, в небе, темно, ничего нет. Он тоже, наверно, думает про себя: «Так не бывает. Об этом нельзя рассказать маме лошади — все равно не поверит».
Гайдар полез в карман. Удивительные были карманы у Гайдара: в них всегда лежали конфеты, сахар, хлебные корки и крошки. Жеребенок немедленно потянулся к Гайдару.
Низко-низко над нашими головами, свистя, как стрелы, пронеслись дикие утки. В тонкой полосе огня на воде показался силуэт лодки — плыли рыбаки. В руке Гайдара загорелась спичка.
— Аркадий Петрович? — спросили с воды.
— Я, — сказал Гайдар. — Приставай, казаки, к берегу. Узнали?
— Кому ж тут быть, кроме тебя, — ответили голоса…
Мы вернулись на стан на рассвете.
Товарищи наши уже спали. Гайдар отправился купаться.
— Я теперь пойду ко дну
И немножко отдохну, —
сказал он. — До чего ж хорошо!
Над рекой, колыхаясь, приподнимался туман. «Что случилось сегодня ночью? — думал я. — Уплыл и погас огонь, ускакал жеребенок, шастают по дну осетры, и рыбаки уже подплывают к своему рыбачьему стану. Почему ж так вышло, что запомнилась мне эта ночь навсегда, на всю жизнь, а никогда вот раньше не запоминалась? Почему увидел Гайдар за сегодняшнюю ночь больше, чем мы за одиннадцать лет, за одиннадцать таких ночей?»
Много проходит мимо человека всякого хорошего в жизни, и, наверно, не надо стоять в это время спокойно на берегу и ждать: пусть хорошее проплывает мимо.
Надо идти за хорошим до самого конца, до тех пор, пока не погаснет огонь.
Вот чему научил меня Аркадий Гайдар в ту ночь на Урале.
★
Осетр на цепи
Ночью на перемет попался небольшой осетр — фунтов на тридцать. Мы его вытащили, продели ему в жабры собачью цепочку и привязали цепь к коряге на берегу. Три дня живучий цепной осетр плавал возле лагеря. На четвертый день я отвязал от коряги цепь и по воде вдоль берега повел осетра к палатке «сниматься на память».
Осетр шел за мной легко, и я лишь чуть придерживал цепочку пальцами, как вдруг проклятая рыба ударила хвостом, вырвала цепочку из моих рук и юркнула в глубину.
— Ай! — закричал я, и все на берегу закричали тоже.
Осетр ушел.
— Делайте со мной что хотите, — сказал я, усаживаясь на ведро с мальками. — Я растяпа и рохля.
— Да, — сказали мои товарищи. — Ты растяпа. Упустил такую рыбину!
Все поглядели на меня один другого злее. Только Гайдар на меня не рассердился.
— Со всяким бывает, — сказал он и полез в воду. — Разве он нарочно? Мы еще, может быть, этого беглеца поймаем. Осетр днем далеко не уйдет: он рыба ночная.
Дно Урала с нашей стороны понижалось отлого, и, когда Гайдар отошел шагов сорок от берега, вода доходила ему только до шеи. Долго он там ходил, плескался и фыркал, а потом вдруг сказал спокойно:
— Я наступил ногой на осетровую или на собачью, как хотите, цепочку. Плывите ко мне и ныряйте за осетром, сам я нырять не умею.
— И без тебя тошно! — сказал я. — Не издевайся над несчастьем товарища.
— Плыви ко мне! — сказал тогда Гайдар суровым командирским голосом.
Я поплыл, нырнул Гайдару под ноги, нашел в песке цепочку, и Гайдар торжественно выволок осетра на берег.
Вечером у костра мы ели уху и пироги с осетриной.
— Что я вам говорил! — сказал Гайдар. — Осетр не иголка, куда ему деться!
Мы посмотрели на быструю мощную реку — словно серебряной шкурой ее покрывал лунный свет — и вздохнули.
★
Арбузы и волки
Жили мы в лесу на берегу реки Урала — я, Аркадий Гайдар, еще три наших товарища и девушка Наташа.
Жили хорошо и весело, охотились и ловили рыбу.
Но однажды Гайдар вернулся в лагерь задумчивый и грустный.
Мы сразу поняли: что-то случилось. Даже маленького щенка Кутьку Гайдар не погладил.
Обиделся Кутька, отошел в сторону и лёг под кустом, накрыв морду лапами.
Наташа взглянула на Гайдара и вздохнула, и я спросил, по нашему обычаю, прямо и просто:
— Кто тебя огорчил, друг?
И тогда Гайдар расстегнул патронташ, повесил его рядом с ружьями на кол у палатки и сказал:
— Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события. Знаете ли вы в лесу большое высокое дерево, у которого молния расщепила верхушку?
— Есть три дерева в том лесу с расщепленными верхушками, — сказал я.
— Одно упало вчера, когда был ветер, — сказала Наташа.
— Правильно говоришь, моя хорошая! — обрадовался Гайдар, потому что радовался он каждому верному слову. — Но не о том дереве разговор. Мое дерево стоит на краю большого оврага, и наверху у него в расщепе — гнездо большого орла с белой головой и разными глазами.
— Знаем, — сказали мы все вместе.
— Так, хорошо… — сказал Гайдар. — А теперь, охотники, расскажу я вам про самое главное. Вышел я на охоту на рассвете и возле того самого дерева сел отдохнуть. Я сидел так тихо, что старый тетерев-косач подобрался ко мне на пять шагов и полчаса ходил вокруг, бормотал и ругался: кто-то оборвал в том месте самую лучшую ежевику…
— Ежевику я собирала, — сказала Наташа. — Только нечего ругаться старому косачу — ее там вон сколько…
— Не знаю, — сказал Гайдар, — но только вдруг шарахнулась эта птица через кусты в большом страхе. А я, заметьте, не шевелился и увидел, как из-под яра на тропинку вылезает волк…
— Подумаешь, невидаль! — сказали мы. — Рассказывай, не волнуйся. Каждую ночь волки воют на Толстой Гриве.
— Но этот волк был не простой, — сказал Гайдар.
— Какой же? — спросили мы. — Синий, черный, белый? Ростом с лошадь?
— Волк был серый и даже немного облезлый, — сказал Гайдар, — но дело в том, что шел он по дну пересохшей старицы и катил впереди себя арбуз…
— Понятно, — сказали мы. — Хорошо, что не воз с сеном.
— Так я и знал, что вы мне не поверите, — грустно сказал Гайдар.
Покрутили мы головами и больше ничего товарищу не сказали. Никто из нас не слышал, чтобы волки катали по лесу арбузы.
И не верить Гайдару мы не привыкли, и поверить ему тоже не могли.
Всем лагерем мы вышли к старой осине.
Шли долго.
Мой охотничий пес два раза делал стойку, и я убил старого тетерева с белой лирой и огненными бровями. Но серого облезлого волка мы так и не встретили. А через неделю приехал к нам в лагерь из поселка Коловертного дед Захар — старый рыбак и колхозный сторож.
— Помогите, охотники, отбиться от волков! — сказал он. — Бахчи разоряют, спасу нет. Полное наступление открыли на колхозные арбузы. Не столько едят, сколько портят. Сорок арбузов разгрызет серый черт и только сорок первый съест.
Гайдар подошел поближе к старику.
— А бывает так, дед, что волки с бахчи арбузы укатывают? — спросил он.
— Почему же не бывает! — сказал дед. — В позапрошлом году я сидел под яром, ловил сазанов, так он меня чуть не убил арбузом. Докатил до яра да и спихнул арбуз в воду. Как бомбой ударил!
— Ну а ты что?
— А я его удилищем.
— А он что?
— Убёг, — сказал дед.
С вечера мы сели в засаду на колхозных бахчах, сами увидели, как волки грызут арбузы, а на рассвете попросили прощения у Гайдара за то, что не поверили его рассказу о лесной встрече.
— То-то, — сказал он, крепко пожимая нам руки. — Как же можно товарищу не верить, если вы сами настоящей правды не знаете!
★
Слепой беркут
Ночью, возвращаясь с охоты, Гайдар и я заблудились в лесу.
Лесная полоса в пойме Урала неширока, лес с двух сторон огорожен рекой и степью, и в ясную ночь дорогу здесь найти легко.
Но вечером тучи внезапно сдвинулись и закрыли звезды. Мы не успели засветло выйти из болота на тропу. Началась гроза. Ветер закрутился в верхушках деревьев. Зарокотал гром. Хлынул дождь.
Мы пробовали укрыться от ветра и воды под старой ольхой на берегу незнакомой старицы и долго, терпеливо намокали, тесно прижимаясь к скрипучему стволу дерева. Косой дождь доставал нас и здесь.
Гроза была необыкновенной, круговой, шла со всех сторон. Мы никогда еще не видели такой грозы.
Молнии огненными птицами пролетали по лесу, все озаряя ослепительным, мгновенно угасающим светом, и снова темнота становилась тяжелой и непроницаемой. Грохотание грома слилось в один сплошной гул.
Неподалеку испуганно завыла волчица, и жалобно откликнулись ей молодые волки.
Совсем близко от нас рухнуло скошенное молнией дерево.
— Что лучше, — спросил Гайдар, — когда одна молния попадает в тебя или когда вместе с молнией падает на человека дерево в три обхвата?
Мы засмеялись, решили, что одна молния лучше, покинули убежище под ольхой и двинулись наугад вперед по зарослям терновника и ежевики.
Промокшие и промерзшие, мы проплутали так до рассвета.
Утро застало нас на склоне глубокого оврага, на самом выходе из леса.
За редкими деревьями и кустами виднелась тронутая ранним утренним солнцем степь. На ближнем холме, в каких-нибудь двух сотнях шагов от нас, стояли сломанные постройки казахского аула.
Здесь в лесу каждый лист, каждая ветка брызгали на нас холодной водой. Со степи веяло теплом.
Мы вышли из леса и поднялись на холм.
Была пора осенних уборочных работ. Аул казался пустым.
Бессонная ночь утомила меня. Я присел у открытой двери крайней кибитки на куче самана, вытер ружье, снял мокрую куртку… Внезапно удивленное восклицание Гайдара заставило меня снова вскочить на ноги. В дверях кибитки, слегка расправив мощные крылья, сидел огромный беркут.
Я долго жил в степи и знал, что один на один такая птица берет волка. Молчаливый сторож пустого дома мне не понравился.
Ни колпачка, ни цепи на беркуте не было. Я осторожно потянул Гайдара назад; он оттолкнул мою руку.
Медленно, спокойно, как бы спрашивая, кто мы и что нам надо, беркут наклонил голову и сложил крылья.
Серая пленка на его глазах не пошевелилась, и я понял, что мы никогда не увидим орлиного взгляда птицы. Беркут был слеп.
— Птичина! — сказал Гайдар. — Откуда ты такая?
Глухой кашель послышался за стеной кибитки, и на пороге, запахивая халат, показался древний седой казах.
Военная гимнастерка Гайдара и узкий ствол охотничьего браунинга у него за плечом, видимо, ввели старика в заблуждение. Отвечая нам на приветствие, он поклонился и, ласково отстраняя с дороги птицу, спросил, зачем пришли в аул кзыл-аскеры.
— Красная Армия, — перевел он свои же слова. Потом взглянул на меня, на мою шляпу, двуствольное ружье и понимающе улыбнулся. — Охотники, — сказал он, поправляя свою ошибку.
Радушным жестом он пригласил нас в дом. Мы вошли. Стуча когтями о глиняный пол, беркут вошел за нами следом, как равный.
Хозяин усадил нас в переднем углу, на сложенной вчетверо белой кошме. В котле, вмазанном в печь, кипела вода. Старик заварил чай, поставил на маленьком, похожем на табуретку, столике пиалы, каймак и толченое просо. Горячий крепкий чай был удивительно вкусен, беркут — таинствен, хозяин — приветлив.
Старик извинился: в эту горячую пору в ауле нет лучших, достойнейших людей, нет председателя колхоза, нет секретаря аулсовета.
— Только два старика, — сказал он, — встречают вас: я и он. — Хозяин показал на птицу. — Но гости все же могут быть довольны: их встречает прекраснейший и благороднейший из орлов.
Он помолчал немного, подбросил хвороста в огонь, снова наполнил пиалы чаем и рассказал нам историю птицы.
— Шестьдесят лет назад в этом ауле жил молодой охотник, джигит Мухтар. Из Семиречья, с границы, он привез молодого беркута, вырастил и выкормил птицу, и беркут слушался его как собака. Днем и ночью джигит пропадал в степи на охоте. Однажды он приехал в аул белый, как соль. Он встретил черную смерть по дороге: в урочище Трех озер умерла от чумы семья богатого бая Дюйсена.
Если бы не было на свете жадных людей, смерть не вышла бы за пределы Трехозерья. Но бай Дюйсен был очень богат, об этом знали другие баи. Ночью они обокрали мертвых и разнесли по аулам чуму.
Ночные шакалы, они умерли первыми. Но черная смерть — страшная смерть. Бедные люди стали умирать вместе с богатыми. Из города прискакал начальник, и с ним пришли солдаты. Тогда, при царе, — старик усмехнулся, — черную болезнь лечили пулями.
Доктора не ходили к нам. Вокруг аула встала рота солдат с винтовками. Если кто пытался выйти из оцепления, его убивали. Если кто хотел войти к нам, его убивали тоже. Так было месяц и еще половину месяца.
Чума убила восемьдесят человек и ушла. Восемнадцать казахов остались в живых, но солдаты продолжали стоять вокруг и убивать пытающихся уйти от смерти. Восемнадцать стали умирать от голода. Они съели все: собак, лошадиные шкуры, ремни. Когда в живых осталось одиннадцать человек, Мухтар понял, что сегодня они съедят его птицу. Он снял цепь с ноги орла, снял колпак с его головы, сказал: «Улетай!» И орел улетел.
Трудно добывать пищу для других, когда ты голоден сам.
Орел вернулся и в своих когтях принес зайца. Улетел опять и принес лису.
Так он летал двадцать дней, принося голодным людям еду: то серую куропатку, то стрепета, то зайчонка.
Он не охотился. Он работал, как человек.
Солдаты не стреляли в орла. Вот на том бугре стоял один… — Старик показал рукой на опушку леса. — Я помню его лицо. Когда пролетал орел, он всегда снимал шапку.
Старик задумался.
— Еды было, конечно, мало, — добавил он, — но, когда солдаты ушли, семь человек остались жить.
— Как он ослеп? — спросил Гайдар, указывая на беркута.
— Это рассказ про злых людей, — ответил старик. — Слава о нем пошла далеко. Баи хотели его купить, но разве можно продать друга! Мухтар не продал. Тогда они царской водкой
1 выжгли глаза орлу…
— Давно? — спросил Гайдар.
— Давно, — ответил старик. — Была в степи тогда война с баями, тысяча девятьсот двадцать первый год. Семнадцать лет прошло…
Солнце стояло высоко, когда мы вышли из кибитки.
Старик провожал нас и долго стоял у двери, медленно перебирая в пальцах свою длинную белую бороду.
— Прощайте, — сказал он.
— Прощай, Мухтар, — сказал Гайдар. — Очень вы оба хорошие люди.
— Как узнал? — спросил старик и улыбнулся.
Мы ушли.
— Учись! — сказал мне Гайдар в лесу. — Семнадцать лет кормят люди слепую птицу. Учись помнить добро…
У себя в палатке он долго писал, рвал бумагу, сердился, что ему мешают, и до ночи потом бродил над яром и что-то шептал про себя, навсегда запоминая услышанное и увиденное.
Я помню его, стоящего над высоким красным обрывом. Помню, как он запрокинул голову и вздрогнул: высоко в небе летел орел.
Гайдар снял кубанку.
★
Сказка
Недалеко от города Уральска, в казачьем поселке Круглоозерном, мы проездом остановились, переночевали и собрались было ехать дальше.
Но утром вызвала Гайдара во двор веселая кареглазая дивчина. Вскоре Гайдар вернулся и заявил нам, что придется повременить с отъездом.
Мы заворчали и надулись, но Гайдар засмеялся и сказал, чтобы мы перестали дуться и ворчать: задержка будет недолгая, дело серьезное — его вызывают в суд.
— Этого еще только не хватало!
Мы заволновались и стали допытываться, в чем дело. Гоняясь ночью возле поселка за зайцами, не задавили ли мы ненароком какую-нибудь колхозную живность — гуся или поросенка? Потому что один раз здорово тряхнуло, а в другой раз что-то под колесами пискнуло.
Шофер поклялся, что никакого особого происшествия ночью не было. Тряхнуло нас потому, что попала машина передними колесами в канаву, а пищала левая рессора — такое у нее писклявое железо.
— Не беспокойтесь, друзья, — сказал тогда Гайдар, — судят не меня и не вас, а казака-пионера Ваську Федотычева и приглашают нас с вами вроде как народных заседателей.
— А куда идти или ехать? — спросили мы, сразу повеселев.
На горе против здания поселковой школы-семилетки, по казачьему обычаю, войсковым кругом заседал школьный пионерский отряд. В кругу ребят и девчат стоял парнишка в сатиновой голубой рубашке с красным галстуком. Бодро и стойко держался он, но укоризненно смотрела на него кареглазая пионервожатая, и сразу было видно, что это и есть подсудимый Васька Федотычев.
С первых же слов стали нам ясны обстоятельства дела. Нечего зря говорить — хорошо учился Васька, и во всем поселке у него одного был настоящий велосипед на двух колесах. Был когда-то Васька неплохим товарищем и пионером, но загордился до невозможности, друзей растерял, звеньевого Тольку отдубасил при исполнении обязанностей и в конце концов надерзил старой, седой сторожихе школы.
И что самое скверное — не считал Васька Федотычев себя виноватым. Кончили говорить обвинители, наступила тишина, но занозисто поглядывал он по сторонам, презрительно щурил глаза и улыбался.
Тогда взяла слово пионервожатая Валя.
— Не каждый день, — сказал она, — случаются такие встречи плохих и хороших людей. По дороге нечаянно заехал к нам писатель Аркадий Петрович Гайдар, тот самый, что написал «Школу», «Военную тайну», «Дым в лесу» и «Судьбу барабанщика».
В первый раз тут вздрогнул Васька Федотычев, чуть сгорбился, стал вроде ниже ростом и исподлобья глянул на Гайдара. Увидел он большие ясные голубые глаза, глядевшие на него пристально и хитровато, распахнутую шинель и орден на гимнастерке. Еще раз вздрогнул Васька и отвернулся.
— Вот вы и встретились, — продолжала Валя. — Нас ты перестал слушаться, с нами потерял дружбу, пусть послушает тебя товарищ Гайдар. Говори, Василий!
Села Валя в густых лопухах возле Васьки.
— Что ж говорить… — сказал он после недолгого молчания и покраснел так, точно его две недели подряд парили в бане. — Я, товарищ писатель Гайдар, учусь лучше их и на самокате езжу. Самокат мне подарил за учение дядя Николай, и я не виноват; а сторожиха наша неграмотная и даже ваших книжек не читала. Они меня туда-сюда неправильно… Пускай туда-сюда, тех, которые…
— Договаривай! — закричали из круга ребята.
— Договаривать нечего! — огрызнулся Васька. — Вас много, а я один, с вами разве договоришься!
— Так, — сказал Гайдар, — очень интересно. По чему же, Васька, их много, а ты один? Может быть, ты, Васька, и есть тот самый в районе последний единоличник, о котором мне вчера рассказывали?
Ребята засмеялись.
— Никакой я не единоличник! — нетерпеливо и ожесточенно сказал Васька. — Но почему я должен делать то, что им нравится, а мне нет? Толька приказал звену собрать дыни с бахчи у деда Архипа. Все пошли, а я нет. Там и без меня ребятам делать нечего. Так мне на линейке — бац! Выговор с предупреждением. От кого? От Тольки! А у Тольки тройки по арифметике, тоже мне командир выискался! Я планер строил, планер не дыня. Дед Архип планера и в глаза не видел.
— Значит, так и не пошел ты, Васька? — спросил Гайдар. — Ой, люди, люди! Скоро будет война, все пойдут вперед, а ты один, Васька, назад побежишь? Командир прикажет стрелять, а ты будешь картошку чистить?
— Война — дело другое, — буркнул Васька. — Я картошку чистить не буду.
— А если прикажут? — спросил Гайдар. — Кончится бой, замолчат пушки и пулеметы, сползутся в окоп голодные товарищи. Скажет командир: «А ну, пулеметчик Василий Федотычев, начисть картошки, свари похлебку боевым друзьям». А ты будешь галок считать или книжку читать, а товарищи голодные останутся?
— Картошку на войне кашевары чистят, — сказал Васька.
— Убили кашевара, — ответил Гайдар, — ранили лошадь, не подъехала кухня.
— У нас же никого тут не убили! — с отчаянием сказал Васька. — Что вы, товарищ Гайдар, говорите! Все вон сидят целые: отряд, командиры, а я все равно этих командиров выше…
— Запиши, — сказал мне Гайдар. — Вдобавок ко всему еще и черная гордость у Василия Федотычева. Высокий ты парень, Вася! Неужели всех выше?
— Выше, — упрямо сказал Васька. — У меня по всему кругу отлично, а у них?
— У них зато, Вася, по дружбе отлично, а у тебя плохо, — серьезно сказал Гайдар. — Великая служба — дружба, а ты ее на гордость променял. Один против всех, против народа идешь!
— Какой же они народ? — сказал Васька. — Ребята они — и все. Озоруют побольше, чем я.
— Отчаянный, стало быть, народ, — улыбнулся Гайдар, — твои товарищи. А про то, что ты, Васька, всех выше вырос и торчишь один, как пень, среди всего отряда, сказка есть…
Стояла на краю земли высокая гора, выше всех гор на свете. Выше Казбека в три раза, выше вашей горы в семьдесят шесть раз. На этой горе была пропасть камней и много каменных пропастей. А по камням через пропасти прыгал круторогий старый козел.
Седой бородой своей козел касался земли, а рогами цеплялся за звезды. Высоко прыгал козел и загордился не хуже тебя, Васька.
Забыл он, что когда-то родился маленьким козленком на этой же самой горе, забыл, что вырос на ней вместе с другими козлами, и решил поспорить с горой: кто из них выше.
Высекая копытами искры из камня, козел поднялся к вершине горы.
«Кто из нас выше, старуха?» — гордо спросил козел.
Медленно открыла гора свои каменные очи и взглянула на гордеца.
«Я, — ответила гора. — Я выше, больше. Я старше».
«Неправда! — воскликнул козел. — Я выше».
Всеми четырьмя копытами он ударил о камни, пламя искр метнулось за ним, и гигантским прыжком он вскочил на площадку самого верхнего утеса.
«Я выше, старуха!»
«Глупый зверь!» — вздохнула гора, и громко покатилось по ущелью эхо: «Глупый зверь!» Закачались и зашумели листьями столетние дубы: «Глупый козел!» И далеко внизу недовольно заблеяли козлята.
А старый козел все так же неподвижно, одиноко и гордо стоял над горой. Не стало вокруг ни тяжелых утесов, ни широких дубовых ветвей, чтобы укрыть его, не стало рядом товарищей, что столько раз предупреждали его об опасности. Откуда-то грянул выстрел — и козел упал мертвым.
Прошли годы. Кости козла покрыли вершину горы. Она стала еще немного выше, а старого глупого зверя давно уже не было на свете…
Тихо стало на площадке.
— Ну как, козел, — спросил Гайдар, — понравилась сказка?
Васька шагнул вперед к Гайдару.
— Я не козел, — сказал он, глотая слезы. — Я Васька Федотычев.
— Понятно, — сказал Гайдар. — Давай сюда лапу, товарищ пионер!
И они обменялись крепким, дружеским рукопожатием.
★
«Горячий камень»
В Горках Ленинских, под Москвой, неподалеку от деревень Новлинское, Ям и Сьяново, есть старые заброшенные каменоломни.
Много возле них валяется разных камней, в которых, если поискать получше, находятся чудные отпечатки раковин, улиток и доисторических червяков. Каждому червяку, отпечатанному на камне, по самому малому счету сто тысяч лет, не меньше.
Новлинские и сьяновские деревенские мальчишки к каменным червякам относились с уважением и робостью. Далеко не все ребята решались бродить по старым развалинам, но отчаянные «разведчики недр» отважно путешествовали по каменоломням, ловили там ужей и собирали окаменевшие «чертовы пальцы».
Как-то летом, в жаркий солнечный полдень, Сашка Герасимов и Дмитрий Воробьев вылезли «тайным ходом» через кусты на верхнюю площадку каменоломен и чуть не умерли от страха.
У черной дыры разрушенной шахты, возле большого красного камня, сидел незнакомый человек.
Одет он был просто — в синие брюки и гимнастерку. Сапоги на нем были хромовые, городские, через плечо висела кожаная военная сумка, а в руках незнакомый человек держал толстую суковатую палку.
Палки ребята не испугались. Очень давно перевелись в Горках люди, которые бы со зла дрались палками. Но незнакомый человек был совсем-совсем неизвестен ребятам, и красный камень здесь, на площадке, они тоже видели впервые.
Бежать было поздно. Дмитрий Воробьев, поправив на груди пионерский галстук и прошептав другу Сашке на всякий случай: «Будь готов!» — смело шагнул вперед.
Человек встал ему навстречу и отдал честь по-военному. Несмотря на жару, на голове у человека была шапка, круглая и высокая, как в книжке на командире Кочубее, а из-под шапки глядели на ребят веселые и добрые голубые глаза.
— Здравствуйте, — сказал Дмитрий, увидев по глазам незнакомца, что страшного тут ничего не будет.
И Сашка эхом повторил за ним:
— Здрасьте!..
— Здравствуйте, народ! — сказал человек. — Очень хорошо, что пришли. Наверно, вы люди ученые — геологи или гидрологи? — серьезно спросил он, увидев в руках у Митьки старый плотничий молоток, а в руках у Сашки железный прут, выдернутый из кровати.
— Нет, — сказал Дмитрий Воробьев.
— Да, — сказал Сашка Герасимов.
— Искатели мы, — сказали они оба вместе, осторожно, так, чтобы не было понятно сразу, что они здесь ищут.
Незнакомый человек очень обрадовался.
— Искатели! — повторил он. — Милые! Я же сам искатель. Нашел я недавно у моста камень…
Сашка и Митя закашлялись и покраснели.
— Написано на нем: «Расведчики». Через букву «с». А слово пишется через «з». Слышите: з-з-з-з! Как муха! «Нетра» разведываете? «Недра» нужно писать через «д». И на камне нужно выколачивать через «д».
— Это мы еще в прошлом году выколачивали, — хмуро сказал Митя.
— Когда были во втором классе, — пояснил Сашка. — А вы почему нас знаете, а мы вас нет? Откуда пришли?
— Я пришел издалека, — сказал незнакомый человек. — Из Москвы. Зовут меня Аркадий Гайдар, и если вы обо мне слышали, то тем лучше.
— Про Гайдара мы слышали, — недоверчиво сказал Митя. — Только вы на него совсем не похожи.
— Я
понимаю, — сказал Гайдар (а это и на самом деле был он). — Трудно поверить первому встречному человеку на слово. Но вот мое удостоверение личности…
— «Гайдар Аркадий Петрович!» — прочел Митя храбро, но почему-то застеснялся и сказал тихо: — Его зовут Сашкой, а меня Дмитрием.
— Это почему ж такая разница в обращении? — спросил Гайдар весело.
— Он поотчаянней, — сказал Дмитрий. — Характер такой. Так и зовут.
Осторожно, не вступая сначала в разговор, Сашка обошел Гайдара по кругу и незаметно поковырял ногтем кожу на желтой его сумке. Кожа была настоящая. Сумка настоящая. Гайдар настоящий.
— Про Чука и Гека вы написали? — спросил Сашка из-за спины Гайдара.
— Я, — ответил Гайдар.
— И про Тимура?
— И про Тимура — я!
Тогда от изумления и восторга Сашка выскочил вперед и, так как подходящих слов одобрения подобрать не мог, треснул изо всей силы своим железным прутом по красному камню.
Видно было, как посыпались белые искры, в воздухе запахло паленым, а Гайдар вдруг закричал: «Тише!»
Сашка и Митя очень испугались неожиданного крика.
Гайдар сразу вытащил из желтой сумки тетрадку и толстым зеленым карандашом нарисовал на первой странице красноармейскую звездочку с расходящимися во все стороны лучами, а потом, на следующей странице, он написал крупными буквами слова: «О горячем камне», — три раза подчеркнул их и обвел рамкой.
Немного пониже он написал слово «дед» и, пристально поглядев на Митю, на его вьющиеся белые волосенки, нарисовал рядом со словом «дед» смешную рожицу и под ней надписал: «Ивашка Кудряшкин».
Как зачарованные смотрели мальчишки на всю эту хитрую писательскую механику.
Гайдар после слова «Кудряшкин» поставил точку и оглядел ребят очень довольными глазами.
— Неподалеку отсюда, в Домодедове, — сказал он медленно, — жил на селе одинокий старик, плел корзины, подшивал валенки и сторожил от мальчишек колхозный сад…
Сашка и Митя переглянулись.
— В этот колхозный сад, — продолжал Гайдар, — полез за яблоками мальчишка… Ивашка Кудряшкин.
Сашка облегченно вздохнул.
— Полез, — продолжал Гайдар, — но зацепился штанами за гвоздь ограды и был сторожем пойман. Мог бы, конечно, старик отхлестать Ивашку крапивой. Но старик сжалился над Ивашкой и отпустил его на все четыре стороны.
Гайдар остановился и задумался. Мальчишки молчали и не шевелились.
— От стыда и горя, — продолжал Гайдар после небольшого раздумья, — Ивашка побежал куда глаза глядят, а глаза его в это время глядели в нашу сторону. Где-то в этих местах он нашел волшебный горячий камень…
Ребята ахнули.
— …и было на камне написано, что если его разобьешь, то можно жизнь начинать сначала… Вот ты, Сашка, бьешь куда попало железной палкой, а вдруг попадешь по волшебному камню, разлетится он на куски, и останешься ты в третьем классе на второй год…
При этих словах Сашка усмехнулся, но от камня отошел подальше.
— Благодарный Ивашка Кудряшкин привел старика к этому камню, — рассказывал дальше Гайдар. — Думал он сделать доброе дело: пусть, мол, старик помолодеет, жизнь начнет другую и проживет ее богато и спокойно. Но старик от богатой жизни отказался. Была у него своя, советская молодость, и прожил он жизнь трудно, но честно… Где-то здесь валяется, ребята, неразбитый горячий камень. Полез я его искать, да вот с вами разговорился.
Гайдар перевернул на всякий случай набок огромный красный валун, но никакой надписи на холодном спокойном камне не было.
Печально улыбнулся Гайдар и попросил ребятишек, чтобы они проводили его до деревни и помогли найти комнату на два или три дня, потому что ему рано еще отсюда уезжать. Надо поискать поблизости, не валяется ли где-нибудь этот Ивашкин камень.
Митя и Сашка с радостью согласились помочь хорошему человеку и провели его знакомой тропинкой в деревню.
Светлую чистую комнату сдала Гайдару Сашкина мать. В комнате стояли кровать, стол, стул и цветок фикус, а Гайдар попросил еще и чернильницу и ручку. У главного «писателя» в доме — у Сашки — все равно были каникулы.
Окна в комнате Гайдар открыл настежь, а занавески задернул. Очень тихо сидели под окном на завалинке мальчишки, но Гайдар в комнате сидел еще тише. Только слышно было, как скрипело по бумаге Сашкино перо № 86. Скрип у него был приметный, со свистом, и Сашка его сразу узнал.
Вечером собрались на мосту под Пахрой новлинские, ямские и сьяновские ребята. За Гайдаром послали депутатов — пусть, мол, всем расскажет про волшебный камень, а то, может быть, Сашка и Митя что-нибудь напутали.
Гайдар на мост пришел, но рассказывать не стал, а вынул из сумки тетрадку, ту самую, в которой нарисовал днем в каменоломнях пятиконечную сияющую звезду и смешную кудрявую рожицу. Теперь все страницы тетрадки были исписаны резким, упрямым почерком. Каждая буква стояла отдельно от другой, и казалось, каждую букву Гайдар поворачивал так и сяк, вкривь и вкось, перед тем как прямо и ровно поставить ее на свое место.
Тихо расселись ребята — кто на камнях у моста, кто на перилах. Гайдар стал читать. Оказывается, за несколько часов, что он пробыл дома у Сашки, он уже успел набело переписать сказку, и, хотя она была совсем похожа на дневной рассказ Гайдара, Митя и Сашка не узнали ее.
Прибавилось в сказке что-то дорогое, почти неуловимое на слух, то, что создается большим трудом художника.
Нигде в ней не было сказано, днем или ночью залез в сад Ивашка, но ребята слушали и видели, как тихо засыпает сказочная, белая, вся в садах деревня. Слышали они, как бьет в колокол полночь деревенский сторож. Видели облака в небе, старую колокольню и луну, что тихо пробирается между ветвями колхозного сада. Яблоки на ветках казались от луны серебряными и тяжелыми.
Видели ребята героя Ивашку и вздрагивали, когда в просвете между деревьями появлялся на заборе его черный злодейский силуэт, ахали, когда падал Ивашка в колючий крыжовник, и затаив дыхание следили за тем, как шли по дорожкам сада, неизвестно еще куда, старый сторож, пойманный им Ивашка и собака Полкан.
В сказке, написанной Гайдаром, и собаки не было, но ребятам казалось, что так, без Полкана, старику не поймать Ивашку. И сколько потом этих ребят ни расспрашивали, как читал им сказку Гайдар, они обязательно вспоминали про собаку Полкана.
Сказка кончалась на том, что камень остался лежать на горе.
Старик не захотел другой жизни. На баррикадах он сражался за революцию. Вместе с буденновскими конниками громил белую вражескую армию.
Всю свою жизнь мечтал о том, что родная его страна будет вот такой, как сейчас, — могучей и великой. И на что ему была нужна богатая жизнь, другая спокойная молодость, когда свои молодые годы прошли у него хотя и трудно, но честно!
Гайдар захлопнул тетрадку. Попрощавшись с ребятами, он пошел на обрыв над рекой, а оттуда в березовый лес против Сьянова. Гайдар любил ходить по этим местам и думать.
А мальчишки тем временем собрали свой совет. Сказка им понравилась, но Гайдару они решили устроить испытание.
Ночью возле кузницы долго слышался резкий, звенящий звук, точно кто-то отбивал перед работой тяжелую косу.
Рано утром, не дождавшись, когда Гайдар проснется, Митя, Сашка и еще один озорник, Кешка, как будто нечаянно уронили в сенях на пол медный рукомойник, толкнули ведро и сами заорали во весь голос.
С криком: «Где пожар?» — Гайдар выскочил на улицу.
Пожара не было.
На почтительном расстоянии от ворот (как бы не хлестанул постоялец спросонья ремнем) ожидали его появления ребята.
— Понимаю, — сказал Гайдар, оглядевшись. — Я-то думал, что за гром, что за звон! А это, оказывается, у вас такой громкий будильник.
— Да, — сказал Сашка.
— Нет, — сказал Митя, — это не будильник, а мы сами.
— Камень мы нашли, — сказал Кешка. — Этот, волшебный. Горячий.
— Нашли! — сказали ребята и побыстрее отвернулись.
На горе возле дороги лежал большой обломок розового гранита.
— Вот, — сказал Митя и скромно отошел в сторону, пропуская вперед Гайдара, Сашку и Кешку.
— Остыл маленько, — сказал Сашка деловито и подальше отодвинул носком сапога валявшиеся возле камня угли. — Еще теплый.
Глубоко и неровно в гранит были врезаны слова:
«Кто разобьет, тот помалодеет и жизнь начнет другую…»
— Вот, — сказал Митя в отдалении. — Разбивайте и живите. Нам не жалко.
Гайдар медленно опустился возле камня на колени, снял и бросил на землю свою шапку-кубанку.
— Как же быть? — спросил он. — Ведь и у меня была жизнь… хорошая.
Казалось, что и вправду Гайдар не знает, что ему делать: молодеть или не молодеть. Наступило долгое молчание. И ребята не выдержали.
— Аркадий Петрович! — сказал Митя отчаянным шепотом. — Милый Аркадий Петрович, не расстраивайтесь и не думайте! Мы все наврали. Камень мы этот сами сюда прикатили.
— Все на нем написали сами, — сказал Сашка.
— Понарошку, — сказал Кешка, утешая Гайдара. — Какое тут может быть волшебство! Вон — деревня, а вон — станция.
Гайдар поднял голову. Улыбка еще не появилась на его плотно сжатых губах, только в глазах, из одного глаза в другой, как рассказывал после Сашка, прокатилось какое-то смешное колесико.
Он наклонился над камнем.
— Да, конечно, — сказал он, — волшебник бы так не написал: «помалодеет». Они, волшебники, грамотные были. Пожалуй, что это действительно вы сами написали.
Вдруг он рассмеялся.
— Как это ты сказал? — спросил он у Кешки. — «Какое тут может быть волшебство! Вон — деревня, а вон — станция». Очень хорошо!
Он достал тетрадку и что-то долго в нее записывал.
— Сказка теперь будет кончаться так, — сказал Гайдар. — «Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. «А что, — думаю, — дай-ка, я по камню стукну и начну жить сначала!»
Однако постоял, постоял и вовремя одумался.
«Э-э! — подумал я. — А что же, в самом деле, скажут, увидав меня помолодевшим, соседи?» — «Вот, — скажут они, — идет молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет то же начинать сначала».
Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не тратить спичек, от горячего камня. И пошел прочь — своей дорогой».
Обо всем этом рассказал мне Александр Васильевич Герасимов (бывший Сашка). Он же мне подарил старую ручку и перо № 86, которым была написана Гайдаром почти до самого конца сказка о горячем камне.
★
Илька Артемьев
Илька Артемьев жил в Клину на Большевистской улице, через дорогу от Гайдара. Они вместе, Илька и Аркадий Гайдар, ходили на клинский базар за голубями, котятами и крючками для рыбной ловли.
В один из воскресных дней они встретили на базаре мальчишку. Мальчишка продавал по дешевке двух щенят — мохнатого желтого и серого гладкого. Гайдар купил мохнатого щенка — Жулика, но Илька не стал покупать серую Жучку и ушел в дальний конец базара. Гайдар от нечего делать отправился за ним следом. Гайдару уже было весело жить на свете — под мышкой он держал мохнатого Жулика и разговаривал с ним обо всем понемногу.
Ильку Гайдар заметил в углу базара, возле воза с картошкой. На возу сидел паренек в голубой рубашке и торговал картошкой, капустой и заодно голубями. Илька приценивался к пестрым голубям, дул им под перья, гладил лапки и заглядывал в розовые раскрытые клювики.
Как Гайдар ни торопился, пробираясь через толпу, Илька купил последнюю пару голубей раньше, чем Гайдар подошел к возу. Гайдар успел только заметить, как Илька передал продавцу двадцать два рубля: семь трешек и один рубль мелочью.
— Эх, Илька, Илька! — сказал Гайдар. — А я как раз очень хотел купить себе такого пестрого голубя. Что же ты не подождал товарища? Может быть, ты мне уступишь вот этого хохлача с красной крапинкой на белом пере?
— Пятнадцать рублей, — сказал Илька мрачно.
— Я, наверно, тебя не понял, Илька, — сказал Гайдар тихо. — Ведь ты заплатил за голубей по одиннадцати рублей за штуку.
— Ну и что? — сказал Илька.
— Ничего, — сказал Гайдар, — но я не думал, что ты в свои молодые годы уже сделался маклаком и выжигой.
Гайдар запихнул Жулика за пазуху и пошел между возами тихой походкой. Целый день до вечера Гайдар был грустен, лежал в своем огороде, ел огурцы и репу и смотрел в синее небо.
Поздно вечером за забором раздался осторожный голос:
— Са-сед! Эй, са-сед, бери, что ли, пестрого за одиннадцать. Не сердись, са-сед!
Гайдар выскочил на улицу.
Он вернулся домой с пестрым голубем в руках, счастливый и довольный.
— Отдал! — сказал он. — Совесть замучила. Эх, ничего вы не понимаете, хорошие мои домашние люди! Завтра Илькино рождение, и я к нему пойду в гости.
Гайдар полез на чердак и посадил голубя в клетку.
На другой день Гайдар был в Москве. Он зашел в редакцию «Пионерской правды», рассказал товарищам про случай с голубем и обещал написать про Ильку рассказ.
Дома он записал в тетрадку начало рассказа.
«Завтра Ильке Артемьеву должно было исполниться девять лет, и еще с вечера он твердо решил с утра начать жизнь по-новому».
А до конца рассказ так и не дописал.
Скоро началась война.
Илька Артемьев уехал из Клина в Сибирь, а Гайдар стал собираться на фронт.
Пестрого голубя он выпустил на свободу.
★
Голубая чашка
Вы все, конечно, знаете повесть Аркадия Гайдара «Голубая чашка». Речь там идет о хорошей жизни и голубой чашке, которую в чулане разбили мыши. Из-за злых серых мышей досталось ни за что ни про что добрым людям… Ну да рассказывать об этом долго не следует. «Голубую чашку» если вы и не читали, то прочитаете сами. Но голубых чашек в хозяйстве Гайдара было две, и вторую мы сами разбили, и о второй чашке Гайдар никому не рассказывал, и рассказывать о ней придется мне.
Нам было по тридцать пять лет каждому, мне немного больше, Гайдару немного меньше, и мы играли в солдатики в комнате у Гайдара и пели веселые солдатские песни.
Трудная и сложная обстановка складывалась на нашем фронте.
На белую столовую клеенку Гайдар налил холодного кофе, и кофейная лужа превратилась в непроходимое торфяное болото. Окопами полного профиля протянулись перед нами ленты от пишущей машинки, четыре наперстка стали грозными бетонными дотами, из кусков пиленого сахара мы выстроили укрепленную каменную цитадель, и в ней засели мои зеленые оловянные снайперы.
Голубые солдаты Гайдара пошли в наступление. Артиллерийскую подготовку его полевые орудия провели неудачно. Две деревянные пушки могли стрелять только шариками из жеваной бумаги — гороху в доме не было, — и оловянные снайперы громко смеялись в своем сахарном укреплении над огневой немощью врага.
Худо приходилось Гайдару. Танки его не могли обойти вязкое кофейное болото, и голубые солдаты напрасно бежали в атаку следом за своими храбрыми барабанщиками.
Без промаха, на выбор, били оловянные зеленые снайперы по голубым мундирам, и скоро возле моего переднего края остался всего только один голубой солдат.
Тогда Гайдар решился на последнее средство. Из резерва своего главного командования вызвал он на усиление тяжелую бомбардировочную авиацию, и скоро над сахарной цитаделью повис на нитке сверхдальний бомбардировщик «Гай-1939». Под крылья самолета Гайдар хотел подвесить бомбу пострашнее, но обыкновенных бомб у него на аэродроме не сказалось. Из шкафа у своей жены взял тогда Гайдар большую глубокую чашку — опытную торпеду самого последнего выпуска — и сначала привязал ее к самолету, а потом взял и обрезал нитку ножницами.
Даже я, главнокомандующий зеленых солдат, испугался, когда полетела вниз на стол из-под самого потолка голубая торпеда, потому что знал, что эту чашку жена Гайдара очень любила.
Страшно, со звоном ударилась чашка о стол и разлетелась вдребезги, усеяв осколками поле боя. Но нерушимо стояла на столе сахарная цитадель, только один наперсточный дот отлетел на пол, и по-прежнему смеялись над врагом мои храбрые снайперы.
Тогда Гайдар сказал, что вынужден капитулировать, и признался, что война им проиграна.
Солдатиков он убрал в ящик, подобрал осколки и вытер с клеенки кофейную лужу.
— Что же мы скажем людям? — сказал он. — Можно, конечно, выдумать, что и эту чашку разбили мыши. Но списывать у себя самого — самое никудышное занятие, и потому давай выкинем черепки на помойку и никому никогда об этой чашке говорить не будем.
Так мы и сделали. Но забыли посмотреть под стол, под скатерть, и там осталось донышко дорогой голубой чашки с двумя скрещенными мечами на нем.
Жена Гайдара нашла донышко вечером и сказала нам просто и коротко, что полагается после окончания войны убирать с поля битвы мины и снаряды.
Большая правда была в ее словах, но Гайдар ответил, что донышко это выбрасывать на помойку не надо.
Пусть оно стоит за стеклом в книжном шкафу и своими скрещенными мечами напоминает нам о будущих грозных и больших боях.
★
Три товарища
Когда началась Великая Отечественная война, всем мальчикам захотелось быть вместе.
Во дворе школы мальчишки появились неведомо откуда, и за ними сразу прибежали учителя. Точно и не было летних каникул.
Хвастались маленькие мальчишки ужасно. У одного отец уехал на фронт капитаном, у другого — лейтенантом, у третьего — старшиной. Мальчишки тогда еще не понимали, что не все отцы вернутся обратно.
Ничего эти мальчишки на свете не боялись — ни танков, ни самолетов.
Их не пугали сигналы воздушной тревоги. Учителя никак не могли загнать в бомбоубежище отчаянных и неустрашимых пятиклассников.
Целыми днями они сидели, болтая ногами, на досках, наваленных возле школы. Они перестали играть в футбол, готовились бежать на фронт и говорили только о ручных гранатах, пистолетах-пулеметах и пикировщиках.
Три таких товарища сидели во время воздушной тревоги на школьном заборе и пели песню «Мы красная кавалерия, и про нас былинники речистые ведут рассказ».
Учительница русского языка Анна Саввишна напрасно уговаривала «кавалеристов» слезть с забора и спрятаться, как полагается, в щель.
— Гриша, — говорила она, — Петя, Иван Найденов! Сейчас же слезайте отсюда! Слышите вы меня или нет? По-русски я вам говорю!
Анна Саввишна говорила много, но мальчишки продолжали петь свою песню, когда на школьном дворе появился Аркадий Гайдар. Он жил неподалеку и пришел посмотреть на своих читателей во время тревоги.
— Кто здесь поет песни, когда надо тихо и грозно ждать врага? — спросил он. — Кто здесь орет от страха?
— Мы не орем, — оскорбленно сказал Иван Найденов. — Мы поем храбрую песню. Мы никого не боимся.
— Храбрые люди в бою молчат, — сказал Аркадий Гайдар, — и спокойно делают свое дело.
— А какое наше дело? — спросил мальчик Петя. — Во-первых, сейчас каникулы. Во-вторых, война и тревога.
— Ваше дело сидеть в щели, — сказал Гайдар.
— Это трусость! — гордо сказал Иван Найденов. — Мы на это пойти не можем.
— Это военная хитрость, — сказал Гайдар. — Фашисты летят и думают убить как можно больше наших советских людей. А ты, и он, и он спрячетесь в щель, и фашисты окажутся в дураках и будут зря швырять свои поганые бомбы. Пока бомбы не падают рядом и нет раненых и убитых, ваше дело — смирно и тихо сидеть в укрытии.
— Ну а если бомбы будут падать рядом? — спросил Петя.
— Это серьезное дело, — сказал Гайдар. — Если бы упала рядом бомба, ты, конечно, заорал бы со страха.
— Нет, — сказал Иван Найденов.
— Заорал бы обязательно, — сказал Гайдар. — Другой и третий заорали бы, но кто-то заорал бы меньше. Потом, когда самолеты отгонят, вы, все мальчишки, соберетесь вместе, и каждому захочется быть таким, который меньше всех орал, но уже поздно будет. Мой вам совет: старайтесь меньше орать.
Гайдар повернулся и пошел потихоньку к своему дому.
— Куда пошли? — закричал Иван Найденов и спрыгнул с забора.
— Пойду спрячусь, — сказал Гайдар. — Я не хочу быть убитым раньше времени.
В этот раз фашистов не пропустили к городу. Но через три дня немецкая бомба упала рядом со школой и в щепки разнесла забор, на котором так недавно сидели храбрые «кавалеристы». Взрывная волна обломала во дворе ветви деревьев и выбила в школе стекла.
Трех товарищей Гайдар встретил незадолго до своего отъезда на фронт.
— Ну, кто кричал меньше? — спросил он, и ребята сконфуженно переглянулись.
— Мы кричали одинаково, — сказал Иван Найденов, и Петя и Гриша согласно кивнули головой. — Меньше всех кричал Колька Вараксин из четвертого класса «Б». Он живет рядом с паровозным депо и привык к грому и звону. Но вы не думайте, мы кричали и делали свое дело и втроем потушили зажигательную бомбу.
— Это хорошо, — сказал Гайдар, — это очень приятно слышать от дружных товарищей перед дальней дорогой.
★
Клятва Гайдара
Все было готово к отъезду Гайдара на фронт: штабные пропуска и другие документы, летнее обмундирование и запасные обоймы для пистолета. А сам Гайдар был задумчив, и совесть у него была неспокойна.
Ночью, во время воздушной тревоги, примчалась за Гайдаром в Большой Казенный переулок машина с синими маскировочными фарами и молчаливым шофером.
В кабинете с опущенными шторами с любопытством оглядели Гайдара люди, сидевшие вокруг большого стола. Поскрипывали на Гайдаре новые ремни военного снаряжения, и большой револьвер в коричневой кобуре висел у него на боку.
За окнами гремели пушки. Глухо и тяжко содрогались стены. Но люди за столом, видно, ко многому привыкли и на этот надоедливый шум не обращали внимания.
— Здравствуйте, товарищ Гайдар, — сказал человек, сидящий в большом кресле, и Гайдар сразу узнал его седую командирскую голову. — Рад вас снова видеть в рядах Красной Армии. Жаль только… — он помолчал немного, — уезжать вам нельзя.
— Как нельзя? — переспросил Гайдар, бледнея. — Было сто комиссий и десять постановлений.
— И все-таки нельзя, — повторил человек. — Очень жаль, что так получается.
— За мной не пропадет, — сказал Гайдар, волнуясь, и шагнул вперед. — Только две недели у меня будет дрожать подбородок, а потом я привыкну и напишу о войне настоящую правду.
— Я знаю, товарищ Гайдар, — ласково сказал человек в кресле. — Вы напишете. Но когда? Миллионы мальчишек и девчонок сейчас ищут свое место в этой великой битве. Как быть с пионерами-тимуровцами? Вы должны им сказать крепкое и верное слово.
— Я пишу для них, — сказал Гайдар неуверенно.
— Я знаю, — сказал человек в кресле. — Пишете. Но еще не написали. А только за первые две недели войны из Москвы удрали на фронт четыреста мальчишек и пятнадцать девчонок. Это только те, которых поймали. На своих тимуровских вышках в прифронтовой полосе ребята встречают врага, не желая эвакуироваться, боясь оказаться трусами. И вот что из этого получается…
Он раскрыл большую папку, и Гайдар склонился над фотографиями.
Крыша и бревна — все было перевернуто на этом чердаке вверх дном, разбито и поломано. Зацепившись за расщепленную оконную раму, висел обрывок флага с красной звездой посредине, и ничком лежал возле искалеченного штурвального колеса маленький мальчуган — очередной дежурный по тимуровскому штабу. Только один пионерский барабан чудом уцелел в углу, зажатый рухнувшими стропилами, и казалось, палочки на нем еще вздрагивают, выбивая тревожную, еле слышную барабанную дробь.
— Ну, товарищ Гайдар? — сказал человек в кресле, и Гайдар вытянулся и быстро обдернул свою военную гимнастерку, что всегда у него было признаком крайнего волнения.
— Да, товарищ заместитель народного комиссара, — сказал он глухо. — Вы правы. Сейчас уезжать на фронт было бы с моей стороны дезертирством. Я и не уеду сейчас. Через несколько дней я закончу продолжение «Тимура и его команды».
— Как будет называться ваша работа? — спросили за столом.
— Я не знаю еще, — сказал Гайдар. — Подождите немного… Мне трудно.
Да, писать в эти дни было очень трудно. Гайдар жил и работал точно во сне.
— Скажи мне что-нибудь, — говорила жена. — Ведь уезжаешь скоро… Увидимся ли, кто знает!
— Что мне сказать тебе? — говорил Гайдар медленно. — Вот я большой и чуть-чуть лысый…
И он шел к письменному столу.
Когда Гайдар уходил из дому, жена перелистывала исписанные им страницы.
«Скоро уедет Гайдар, — думала она, — а полковник Александров вот здесь, в рукописи, на фронт уже уехал. Собрана и подтянута тимуровская дружина.
Решен вопрос о том, чтобы ребятам быть всем на своих местах в тылу, где много настоящего дела, а не бегать по фронтам, где действует грозный командирский приказ — «гнать оттуда нашего брата по шее». Видно, что пишет Гайдар этот свой сценарий кровью отцовского и солдатского сердца, а конца сценария еще нет, и какой он будет — неизвестно. Ищет, наверно, Гайдар свое верное последнее слово, а когда найдет и где?
Может быть, как вчера, прибежит взволнованная соседка и скажет, что видела сегодня Аркадия Петровича в Мавзолее Ленина: стоял весь бледный и вытянутый, как по команде «смирно», и что-то про себя нашептывал. Показалось ей и послышалось: говорил Гайдар Владимиру Ильичу, что «смотрит на него прямо-прямо», а больше она ничего разобрать не могла».
…В эти дни из Белоруссии и Смоленщины пришел в Москву поезд с детьми-сиротами, первыми детскими жертвами войны. Встречать этот поезд вместе с другими москвичами послали и нас с Гайдаром. На вокзале собралась огромная толпа. Много было тут слез и проклятий фашистским палачам…
В стороне от других Гайдар остановился на перроне возле маленькой черненькой девочки. Девочке было на вид лет пять или шесть, глаза у нее были огромные и какие-то нестерпимо усталые. Она держала за ногу разбитую куклу, а под мышкой — каравай хлеба. Помню еще, что косички у девочки были разные — одна длинная, другая короткая: волосы у нее обгорели на пожаре в Орше.
Гайдар поднял девочку на руки и усадил ее потом на большой багажной тележке.
Тихий, в железнодорожной форме человек, сопровождавший поезд с ребятами до Москвы, подошел ко мне.
— Скажите вашему товарищу, чтобы он зря не тревожил девочку, — сказал он. — У нее мать убили на глазах.
Я подошел ближе к Гайдару, собираясь выполнить поручение железнодорожника, но тут же понял, что ничего Гайдару говорить не надо.
— Подожди, кроха! — говорил он, гладя девочку по голове своей огромной рукой. — Я скоро поеду на фронт в ваши края. Ты не плачь и не унывай. Я им такое покажу, век будут помнить!
Много, наверное, раз обещали этой девчурке разные люди отомстить врагам за ее маму! Но в голосе Гайдара была такая уверенность и правдивость, так подтверждались, верно, его суровые слова мягкой тяжелой ласковостью большой руки, что девочка, может, впервые после пережитого ею ужаса подняла головенку и посмотрела на человека.
— Их много, — сказала она и добавила, вздрогнув: — Все серые!
— Нас больше, — сказал Гайдар. — И все красные.
Будет враг разбит и уничтожен. Верь мне, моя хорошая. Видишь, какой я глупый! Я тебе говорю: не плачь, а ты и не плачешь. Посмотри мне в глаза… Я клянусь тебе, маленькая, честью старого командира…
Я отошел от них. А на другой день в Комитете по делам кинематографии Гайдар читал свой сценарий.
Он читал долго. Вот уже на террасе дачи вокруг присланного дочке Жене полковником Александровым патефона собралась боевая тимуровская команда, и все поняли, что сейчас — все, конец картины… Вот уже кружится и шипит поставленная Тимуром пластинка… и раздается голос полковника, голос отца и солдата:
— «Женя! Когда ты услышишь эти мои слова, я буду уже на фронте. Дочурка, начался бой, равного которому еще на земле никогда не было… А может быть, больше никогда и не будет».
Медленно и торжественно читал Гайдар.
— «Если тебе будет трудно, не плачь, не хнычь, не унывай. Помни, что тем, которые бьются сейчас за счастье и славу нашей Родины, за всех ее милых детей и за тебя, родную, еще труднее, что своей кровью и жизнью они вырывают у врага победу. И враг будет разбит, разгромлен и уничтожен. Женя! Я смотрю тебе сейчас в глаза прямо-прямо…
Я клянусь тебе своей честью старого и седого командира, что еще тогда, когда ты была совсем крошкой, этого врага мы уже знали, к смертному бою с ним готовились. Дали слово победить… И теперь свое слово мы выполним…»
Гайдар поднялся и читал стоя, правой рукой поправляя тяжелую кобуру пистолета:
— «Поклянись же и ты, что ради всех нас там у себя… далеко… далеко… ты будешь жить честно, скромно, учиться хорошо, работать упорно, много.
И тогда, вспоминая тебя, даже в самых тяжелых боях я буду счастлив, горд и спокоен…»
Кончилось чтение.
Взволнованные, сидели слушатели. Картину единогласно решили назвать «Клятвой Тимура», потому что каждый пионер должен был повторить это последнее командирское слово и откликнуться на него делом.
Медленно стали расходиться по домам, в который раз говоря о том, какой талантливый человек Гайдар и как здорово получилась у него торжественная клятва полковника Александрова.
А как она получилась — люди не задумывались.
Только старуха соседка, видевшая, как «прямо-прямо» смотрел Гайдар на спящего в гробу Ленина, да те, кто слышал разговор Гайдара с девочкой-беженкой, знали о том, чья эта клятва на самом деле.
Догадался об этом и художник Адриан Ермолаев. Он первым тогда иллюстрировал гайдаровский сценарий для печати и нарисовал полковника Александрова очень похожим на Гайдара.
★
Гайдар и Зоя
В лесу инженеры и рабочие построили два красивых дома. Лес они огородили забором, и лес стал называться парком.
В домах разместился большой санаторий, в котором люди лечились и отдыхали. Гайдар зимой здесь ходил на лыжах, катался на коньках, играл в снежки и читал хорошие книги.
Однажды он лепил в парке снежную бабу и вдруг услышал скрип снега под чьими-то легкими, осторожными шагами. Шаги затихли невдалеке, словно повисли в воздухе.
— Кто бы это мог быть? — вслух подумал Гайдар и обернулся.
Девушка-девочка в коричневой, отороченной мехом шубке стояла под большой старой березой. Светило солнце. Неслышно падали хлопья снега с деревьев.
— Это снежная королева, — сказал Гайдар, показывая на белую страшную бабу. — Правда, она очень красивая? Вы знаете что-нибудь о снежных королевах?
— Я вас знаю, — сказала девушка. — Вы писатель Аркадий Гайдар. Я знаю все ваши книги.
— Я тоже вас знаю, — сказал Гайдар. — Вы учитесь в девятом или десятом классе. И я тоже знаю все ваши книги: алгебру Киселева, физику Соколова и тригонометрию Рыбкина.
— Все правда! — засмеялась девушка. — Я учусь в девятом классе. Меня зовут Зоей. Вот идет моя мама.
В саду зазвонил колокол, сзывая народ к обеду.
На другой день утром Гайдар захватил коньки и вышел в парк. Зою он встретил на катке, они долго катались вместе, и Зоя весело смеялась над неуклюжим уменьем Гайдара. Он давно не катался на коньках и учился кататься заново.
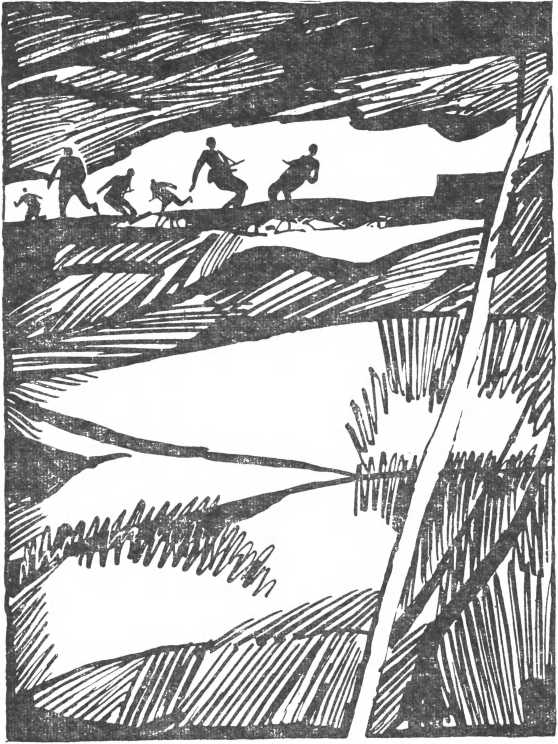

А когда опять зазвонил колокол, Зоя совсем по-ребячьи тихо спросила Гайдара:
— Аркадий Петрович! Что такое счастье? Только, пожалуйста, не отвечайте мне как Чуку и Геку: счастье, мол, каждый понимает по-своему. Ведь есть же у людей одно большое, настоящее, общее счастье?
Гайдар задумался.
— Есть, конечно, такое счастье, — сказал он. — Ради него живут и умирают настоящие люди. Только такое счастье на всей земле наступит еще не скоро.
— А мне и не надо скоро, — сказала Зоя. — Только бы наступило.
Через несколько дней она выписалась из санатория и уехала, и Гайдар попрощался с ней у калитки.
— Улетают летчики, — сказал он и пошел по тропинке к дому.
Прошло полгода. Началась война на нашей земле.
Гайдар шел по улице Горького, большой и красивый в своей новой военной форме. Дворники закладывали мешками с песком зеркальные витрины магазинов. Торопились куда-то по своим важным делам солдаты и командиры. Москва становилась прифронтовым городом. Чья-то рука взяла Гайдара за рукав гимнастерки осторожно и ласково:
— Здравствуйте, Аркадий Петрович!
Гайдар остановился. Перед ним стояла Зоя.
— Летчики прилетели, — сказал он. — Наши хорошие летчики.
Он взял Зою за руку, и они пошли вниз, к Охотному ряду.
Солдаты, командиры и пионеры отдавали честь Гайдару, и он здоровался с ними с веселой улыбкой, радуясь каждой такой встрече.
— Уезжаете? — спросила Зоя.
— Уезжаю, — сказал Гайдар. — Завтра.
— Я тоже, — сказала Зоя. — Только еще не скоро. Но я решила твердо.
И вдруг, как тогда в парке, она посмотрела на Гайдара совсем по-ребячьи, как смотрят ученицы первых классов на старого любимого учителя.
— Аркадий Петрович! — сказала она. — Умереть за большое человеческое счастье не жалко?
— Не жалко, — сказал Гайдар. — Но лучше давайте жить долго-долго.
— Сто лет! — сказала Зоя. — Спасибо вам, Аркадий Петрович!
Она крепко пожала Гайдару руку и побежала вниз по улице за подходившим к остановке троллейбусом.
А Гайдар свернул направо и пошел за своими документами в Генеральный штаб Красной Армии.
Вот и все, что мы знаем о дружбе Аркадия Гайдара и Зои Космодемьянской.
Удивительно и хорошо, что они встретились.
★
Иван да Марья
Аркадий Гайдар ненадолго вернулся в Москву с Юго-Западного фронта.
Много было встреч и разговоров. Всем хотелось в те дни лишний раз повидать друга — Гайдар торопился обратно.
Не помню теперь, зачем и к кому мы поехали с Гайдаром и белорусским народным поэтом Янкой Купалой в Переделкино. Помню только, что этот поселок был неприветлив и пуст, и в лесу, чуть ли не у каждого дерева, неподвижно стояли зенитные пушки…
Как только наша машина вырвалась из города на Можайское шоссе, сразу почувствовалась близость фронта. Неистово гудя, обгоняли нас тяжелые грузовые машины с мотопехотой, на переездах стояли с флажками регулировщики-красноармейцы, а когда шоссе прижималось близко к линии железной дороги, становились видны укрытые брезентами танки и орудия на платформах воинских эшелонов.
Мои спутники жадно всматривались в этот суровый пейзаж военного тыла. Вот Купала улыбнулся и кивнул головой девушке-шоферу обмазанного глиной фронтового «ЗИСа», что, обгоняя, поравнялась с нами и метров пятьдесят вела свою машину крыло в крыло с нашей. Вот Гайдар нахмурился и отвернулся в сторону: вдоль шоссе гнали на восток стада изведавших горе войны не то смоленских, не то ржевских коров и овец. Вот он привстал с сиденья, завидев что-то вдали на дороге.
Шофер Артемик затормозил машину.
На краю канавы сидела молодая женщина. Бледное красивое лицо ее было покрыто дорожной пылью. На коленях лежали вороха поздних летних цветов — белые ромашки, желтые головки одуванчиков, мохнатые иван-да-марьи.
А в поле, в стороне от дороги, в сотне шагов от нас, копошились двое маленьких ребятишек — мальчик и девочка. Собирая цветы, они наклонялись низко, к самой земле, и снова выпрямлялись, каждый раз поворачиваясь в сторону дороги, и тревожно глядели, здесь ли мать, не ушла ли.
Когда мы остановились рядом, мальчуган приподнял с земли охапку цветов, подбежал к шоссе, высыпал неумело сорванные цветы матери в подол и только потом поднял на нас свои голубые глазенки. Девочка подошла и встала поодаль.
Купала и Гайдар вышли из автомобиля.
— От фашистов уходите? — спросил Купала.
— От фашистов, — сказала женщина.
— Пешком?
— Нет, зачем пешком! Везли нас добрые люди, да машина сломалась…
— Издалека?
— Смоленские мы, — ответила она, перебирая цветы.
— Земляки, — сказал Купала. — Соседи.
— Я тебе жука, мамка, принес, — сказал мальчуган, разжимая кулак. — Золотой жук, синий. Ленка божью коровку поймала, да выпустила, а я принес…
— Спасибо…
— Далеко ли бои от вас? — спросил Купала.
— У нас они в деревне, — сказала женщина, тихо обрывая желтые лепестки.
Рядом с ней лежали мохнатые стебли. Мы заметили, что она машинальными, словно слепыми, движениями отбирала в груде растений сине-желтые одинаковые цветы, аккуратно обрывала на них только желтые лепестки и оставляла синие.
— Злобствует варвар? — спросил Артемик.
— Злобствует, — ответила женщина. Она подняла вверх стебель, на котором оставались только редкие синие цветы. — Видишь вот. Жили Иван да Марья, никого не трогали, а Ивана нет, одна Марья осталась.
— Убили? — спросил Артемик.
— Штыком закололи, — сказала женщина. — За что? Он у меня тихий был, хворый, его и в армию не взяли… Поглядел не так, показалось проклятым. А уж как на них глядеть? Витьке моему пять годов, а и то посмотрели бы, как на них косился — того и гляди, кинется. Ночью я ушла с ребятами. Одна-то, может быть, и осталась бы — нашлось бы и мне дело, — с глухой ненавистью сказала она, — а с ребятишками не одолела себя. Куда я их в лесу дену? Малы они партизанить. Им жить надо!
— Надо, — сказал Гайдар, — им надо жить.
Янка Купала полез в кабину, долго шуршал бумагой и наконец вытащил оттуда два белых хлеба, круг колбасы и кусок масла:
— Ешьте. До Москвы доберетесь… — И он сунул женщине в руку еще и деньги.
— Зачем вы? — сказала женщина. — Зря вы, ей-бо-гу, недалеко осталось, а народ кругом сильно добрый: пока шли и ехали, кормили нас и у себя оставляли…
Зеленый грузовик, мчавшийся навстречу со стороны Можайска к Москве, с шипеньем затормозил возле нас.
— Что стоите? Авария, что ли? — спросил шофер, высовываясь из кабины.
— Точно, — ответил Артемик. — Таких, брат, аварий теперь на нашей земле хватает. Возьмешь, что ли, ее с ребятами до города?
— Отчего же не взять, — ответил шофер грузовика. — Полезай, сестрица, в кузов. Бери палатку — ребят укроешь.
— Прощайте, добрые люди, — сказала женщина. — Побьют ведь их, правда?
— Большей правды и на свете нет, — ответил Купала.
А Гайдар всю дорогу молчал. В лесу, когда машина, свернув с магистрали, пошла неудобным горбатым проселком, я не выдержал.
— Что ж ты молчишь! — сказал я возмущенно. — Говори!
— Я боюсь закричать, — сказал он шепотом. — Не надо со мной разговаривать. Нарочно такого не придумаешь с цветками. Эх, Марья!
Когда стали приходить с фронта первые письма о Гайдаре и его боевых делах, мы узнали, что наш добродушный, веселый товарищ оказался жестоким и беспощадным к врагам.
Был такой случай. В бою у лесопильного завода, возле села Леплявы, Гайдар сидел за пулеметом. Партизаны отбили атаки врага. Не оглядываясь, побежали назад фашисты, как побитые псы, торопясь добраться до ближайшего перелеска. Не многим удалось уйти.
Еще во время гражданской войны Гайдар считался отличным пулеметчиком. Он расстреливал бегущих расчетливо, как на полигоне; фашисты падали, ползли, кричали, а голубые глаза Гайдара оставались холодными и прозрачными, как льдинки.
Лейтенант Абрамов так и написал после гибели Гайдара: «Мы отомстим за него так, как умел мстить сам товарищ Гайдар, и это будет крепкая месть».
Я много думал о Гайдаре-мстителе.
Мне вспомнилась дорога со Смоленщины, ржевские голодные коровенки, оборванные лепестки цветков иван-да-марьи и закушенные до крови губы Гайдара.
И я понял, как был страшен в своем справедливом гневе этот большой добрый человек.
★
Комсомольская правда
Фотограф пришел в редакцию рано утром. Ему сказали, что на фронт он поедет вместе с Гайдаром.
В Центральном Комитете комсомола секретарь ЦК пожелал отъезжавшим счастливого пути и благополучного возвращения.
— Помните, товарищи, — сказал он, — народ должен знать, как ведет себя на войне наша молодежь. Пишите и снимайте правду войны. Комсомольскую правду, — добавил он, и все улыбнулись, потому что газета, пославшая Гайдара и фотографа на фронт, так и называлась: «Комсомольская правда».
…Поезд отходил ночью.
Девушка-проводница, посвечивая синим фонариком, проверяла билеты и документы.
— Темно, ничего не видно, — сказала она. — Чуть что, кричите меня: «Настенька!»
— Слушаюсь, товарищ командир, — серьезно ответил Гайдар.
Утром он проснулся рано, встал и подошел к окну. Поезд шел тихо. За окном стояли деревья с короткими голыми сучьями, а под насыпью лежали разбитые вагоны.
— Не смотрите, — сказала Настенька, — не расстраивайтесь.
Она стояла в дверях, маленькая-маленькая, с комсомольским значком на гимнастерке, с длинной метелкой под мышкой и, стараясь не уронить метлу, заплетала тонкие косички, выскочившие из-под форменного берета.
Косички ускользали из рук, метелка падала, и Настенька сердилась.
Вагон был дачный, просторный, с маленькими жесткими диванами. Пассажиры спали сидя, прислонившись друг к другу. В углу, охватив руками костыли, сидел раненый красноармеец. Рядом с ним на лавке похрапывали двое ребятишек. Женщина, закутанная черным платком, очевидно мать ребят, сидела на чемодане.
Гайдар сел на свое место.
Медленно тянулось утро. Внутри вагона было тепло и тихо.
Поезд подходил к Сухиничам. Стали уже видны ближние строения города. Колеса погромыхивали на стрелках, и покачивались медленно идущие вагоны. Путевая сторожиха стояла на переезде, и желто-зеленый флажок в ее руках лениво шевелился на ветру.
И вдруг издалека, заглушая стук колес и говор людей, донеслось прерывистое гуденье воздушной тревоги.
Глядя в окно, Гайдар заметил, как вздрогнула сторожиха. Флажок полетел в сторону. Она подхватила с земли ребенка, копошившегося у ее ног, и, крепко прижав его к груди, развернула над головой красный флаг — грозный сигнал бедствия.
Рядом с Гайдаром щелкнул аппарат, и Гайдар повернулся. Фотограф медленно опустил «лейку». Он сделал снимок.
…Слева, низко, над самой землей, шли навстречу поезду два серых самолета с черными крестами на крыльях.
Бомбы легли слева от вагонов. Поезд резко качнулся вправо. Грохот взрывов, лязг буферов, треск дерева — всё слилось в один скрежещущий звук. С криком люди кинулись к дверям. Еще немного — и они сгрудились бы, давя друг друга в проходах…
Машинист затормозил, поезд пошел медленно, останавливаясь, и Гайдар увидел в окно, как на крутом вираже самолеты снова заходят для атаки.
Настенька как будто выросла.
— Ну, кто здесь не потерял голову? — громко сказала она своим высоким, тонким голосом. — Товарищи, помогите, откройте окна. Выскакивайте налево, граждане, там глубже канава. Детей передавайте в окна… Брось мешок, чудачка, бери ребенка…
Гайдар
давно стоял рядом с ней, расчищая проход. Когда он обернулся, Настеньки не было. С двумя детьми на руках она уже бежала вдоль насыпи.
— Вот здесь ложитесь и не сметь шевелиться! — услышал Гайдар. — Лежать носами вниз, не поворачиваться! Нос высунешь — фашист отстрелит.
Во второй раз бомбы легли справа. Гайдар еле-еле успел ухватить Настеньку за руки, когда она карабкалась обратно в вагон. Поезд затрясся, сцепление лопнуло.
Самолеты вернулись снова. Обозленные неудачной бомбежкой, фашистские летчики теперь прошивали поезд пулеметной строчкой. Бомбы у них кончились.
Вагон опустел. Когда пулеметная очередь полоснула по стенам, Настенька вела к выходу последнего пассажира.
У самого тамбура Настенька охнула: пуля пробила ей левую руку. Кровь хлынула по рукаву, рука повисла.
— Скорей! — говорила Настенька, когда ей перевязывали рану. — Скорей — слышите!.. Клава! — кричала она соседке-проводнице. — Все целы? У тебя, говорю, целы?
— Це-лы! Це-лы! — отозвалась где-то в поле подруга.
И вдруг радостный крик раздался вдоль состава. От Сухиничей, быстро настигая фашистские самолеты, несся курносый маленький истребитель. Фашистские летчики торопливо отворачивали в сторону и уходили, низко прижимаясь к земле. Весело загудел паровоз, сзывая обратно пассажиров.
Настенька, с удивлением поглядывая на раненую руку, медленно обошла вагон и пересчитала людей.
— Целы носы? — спросила она у ребят и заботливо укрыла их своим единственным на весь вагон «служебным» одеялом. — Спите, родные!
Раненый красноармеец, гремя костылями, прошел по вагону и задержался около ребятишек.
— Маленькая птица, — сказал красноармеец, глядя на Настеньку, — а цыплятам тепло. Хорошо, товарищ, управляешь движением! Начальство медали не даст — свою пришлю.
Главный кондуктор засвистел машинисту: пора! — и скоро раздался протяжный гудок отправления.
Здоровой правой рукой Настенька вынула из чехла зеленый флаг. Закачались флажки и у других вагонов. Поезд тронулся. Гайдар вернулся в свой угол.
— Тсс! — сказал он, поднимая палец. — Без шума, товарищ. Подите поскорей и снимите ее.
— Настеньку? — спросил фотограф.
— Комсомольскую правду, — ответил Гайдар.
Сопровождаемый соседями, с заряженной «лейкой» в руках фотограф вошел в служебное отделение вагона. Ставшая опять маленькой-маленькой, Настенька сидела на лавке и горько плакала.
— Настенька! — сказал фотограф умоляющим голосом. — Вы — героиня, и мне надо вас снять для газеты. Ради бога, успокойтесь!
— Конечно, — рыдая, проговорила девушка, — вам хорошо говорить, а мне больно, мне руку жалко! Не буду я успокаиваться!..
— Снимайте! — нетерпеливо сказал Гайдар. — Снимайте скорее!
— Пленка не очень сильная, а свет слабоват, — сказал фотограф. — Подождите, я сделаю еще один снимок.
Он снял плачущую Настеньку, ушел и долго возился, перезаряжая аппарат. Наконец все было готово. Фотограф на цыпочках отправился опять к Настеньке. Настенька не плакала. Она глядела в окно и пила с Гайдаром чай. Каким-то чудом, одной рукой она сумела туго-натуго заплести косы и даже надела чистый белый воротничок.
Фотограф в недоумении остановился в дверях.
— Снимайте, — сказал Гайдар, улыбаясь. — Ничего не поделаешь.
Такова история двух знаменитых портретов Настеньки Волковой, знатного человека на Юго-Западной железной дороге.
Очерк «Как мы нашли комсомольскую правду», судя по письмам Гайдара, был им послан с фронта в редакцию. Напечатан он не был — видно, затерялся на трудном военном пути.
★
Девяносто первый
Миновав Триполье, машина быстро свернула в сторону.
Гайдар, расстелив на коленях карту, сидел рядом с шофером. Он уже воевал здесь, на Киевщине, и лучше других знал эти места.
— Вот здесь, — говорил он, показывая на заросший крапивой буерак, — они у нас замучили трех курсантов.
— Фашисты? — спрашивает шофер Ваня.
— Гайдамаки, — сказал Гайдар. — Это было еще в гражданскую войну. Петлюровцы… Давай направо…
Машина послушно сворачивала целиной на ближний проселок.
— Вот здесь, — говорил Гайдар, — они у нас убили комиссара…
— Гайдамаки? — спрашивал Ваня.
— Нет, — отвечал Гайдар, — немцы. Оккупанты генерала Галлера. Они тогда тоже погуляли по Украине и еле унесли ноги… Давай налево…
— А вот здесь, — через полчаса говорил он радостно, — меня стукнули прикладом по башке. Вот на этой самой поляне. Но зато и мы им наклали по первое число.
— Немцам? — спрашивал Ваня.
— Да нет же, — говорил Гайдар. — Каким немцам! Атаману Зеленому и его хлопцам… Давай прямо, дружок, и подбавь газу. Дело идет к вечеру, а худо сейчас ночью в этих местах.
Солнце садилось. Удивительно чистым, прозрачножелтым светом были озарены поля и перелески.
— Не верится, что здесь она, под Киевом, вражья сила, — сказал Ваня. — Тихо…
Гайдар, будто не слыша, склонился над картой.
— Триста шестой полк остановился левей, — бормотал он. — Здесь должны быть речка и мост… Тишине не верь…
Когда полуторка вырвалась к переезду, они еще успели увидеть мирный пейзаж украинского села.
Река, густо заросшая камышом, протекала внизу. На той стороне, на горе, стояли дома.
Над крайней белой хатой поднимался тихий дымок. Над синими от вечернего солнца камышами, почти касаясь их крыльями, плыл белый ястреб.
Тревожно и самозабвенно скликала к себе под крыло поздний выводок утка-крякуша.
Вдруг в какую-то долю секунды все изменилось.
От старого тополя на дорогу прыгнул солдат с красной повязкой на рукаве и крикнул шоферу что-то отчаянное.
Воем и громом ударили сзади тяжелые минометы. Белая хатка на краю села окуталась пылью и покосилась набок. По камышам прошли неровные темные волны — там, внизу, куда-то двинулись, побежали люди. Ястреб крутой спиралью ушел в небо.
На склоне горы разорвался снаряд. Брошенная на дороге бричка вдруг встала на дыбы, как живая. Одно ее колесо сорвалось с оси и покатилось, прыгая на выбоинах, вниз, к воде.
Мирные белые хатки злобно огрызнулись лаем пулеметов и короткими пушечными ударами. Внизу, на реке, поднялись и осыпались брызгами водяные столбы.
Шофер резко затормозил машину и на тихом заднем ходу спустил ее правым боком в кювет.
Сложив карту и бережно спрятав ее в полевую сумку, Гайдар неторопливо вылез из кабины. Из кузова выскакивали товарищи.
Сбоку, канавой, бежал к машине лейтенант с красными кубиками в петлицах.
— Приехали! — сказал шофер. — Боялись опоздать к началу. Милости просим.
— Не ворчи, Иван, — сказал Гайдар. — Возьми лучше лопату да засыпь землей колеса. Резина — вещь деликатная, и взять ее негде. Разорвется поблизости мина — и придется тебе везти нас на горбу.
Подбежавший лейтенант проверил документы прибывших и проводил корреспондентов в блиндаж командира полка.
Невысокий плотный майор встретил их на пороге, разочарованно качая седой головой. Целый день он ждал пополнения, обрадовался было появившейся машине, а теперь, видно, не знал, что делать. Приехали, да не те.
— Не вовремя прибыли, — сказал он. — Пять минут назад я начал наступление, но будем говорить прямо — вынужденное. По этой дороге еще отходят на Киев наши части… Фашисты ее перехватили. С дороги мы их сбросили. Они закрепились в селе. Оставлять их там нельзя — вгрызутся в землю, подтянут резервы, и тогда дорога пропала. Батарея минометов и две пушки нас поддерживают отсюда… — Он махнул рукой куда-то вдаль. — Батальон капитана Прудникова занял исходное положение для атаки… Вот и все… Глядите, устраивайтесь. Интересного немного…
Корреспонденты начали «устраиваться». Фотограф отправился на наблюдательный пункт минометчиков, двое товарищей ушли на огневые позиции артиллеристов…
— Ну а вы куда? — спросил командир полка, оставшись в блиндаже с Гайдаром. — Останетесь здесь?
— С вашего разрешения, товарищ майор, — сказал Гайдар, — я хотел бы пройти в батальон капитана Прудникова.
— Прудникова? — удивился майор. — Я же вам сказал, что Прудников изготовился для атаки. Он идет в первом эшелоне.
— Вот-вот! — обрадованно сказал Гайдар. — Это хорошо, что в первом… Времени у нас немного.
— Я ведь вас знаю, товарищ Гайдар, — вдруг неожиданно мягко и ласково сказал командир полка. — Дочка моя очень вас любит. Книжки вы хорошие пишете. Писатель вы отличный. А у нас война идет, товарищ Гайдар. Жестокая война. В батальоне капитана Прудникова, — он особенно тщательно выговорил слова «в батальоне», — осталось всего-навсего девяносто человек. Может получиться, что Прудников не останется на командном пункте и пойдет в атаку с бойцами. Даже наверное будет так.
Гайдар молчал.
В это время зажужжал полевой телефон.
— Капитан Прудников на проводе, — сказал связист. — Просит срочно.
Командир полка взял трубку и еще раз взглянул на Гайдара. Гайдар спокойно стоял у двери.
— Здравствуй, капитан, — сказал командир полка. — Готов? По темноте жди ракету. Людей нет. Вот писатель к тебе идет… Говорю — писатель. Зачем он тебе нужен, не знаю. Говорит, что ты ему нужен… Будь здоров…
Батальон стоял у реки.
Гайдар, сопровождаемый связным Охрименко, ползком, по канаве, спустился вниз. Когда руки его по локоть ушли в мокрую тину и над головой зашумели камыши, он услышал негромкое:
— Вставайте!
Черноусый красноармеец стоял рядом по колено в воде.
Гайдар встал.
— Камыш прикрывает, немцу не видать, — сказал черноусый. — А по берегу мы насыпь сделали… Это, значит, вы и есть писатель? — спросил он.
— Я, — ответил Гайдар.
— Неподходящее для письма место, — с усмешкой сказал красноармеец. — Ни тебе столика, ни письменных принадлежностей. Капитан приказал, — добавил он помолчав, — чтобы вы зря по камышам не бродили и при нас оставались во второй роте. Сам он вперед пойдет. Все идут: и штаб и разведка. Тяжелая будет ночка! — вздохнул он.
Батальон поднялся по ракете в десять вечера. Поднялся и… под шквальным огнем противника лёг. Снова поднялся и снова лёг.
…На самой горе у домов батальон встал в шестой раз.
Капитан Прудников очнулся, с трудом пытаясь отличить неподвижные звезды от ливня трассирующих пуль над головой.
Несколько позже он понял, что голова его болтается на чьем-то широком чужом плече. Он открыл глаза и вдруг увидел круглое незнакомое лицо.
«Кто это?» — подумал он, хватаясь за кобуру.
— Куда тащишь? — закричал он. — Стой — застрелю!
— Можно остановиться, капитан, уже добрались, — добродушно ответил незнакомец. — Вот здесь, за хатой, полежите — отойдете… Контузило вас. А стрелять не надо. И без вас стреляют.
Он прислонил капитана к стене той самой крайней покосившейся хатки, которую видел еще с дороги, и исчез в ночи.
На рассвете захватчиков выбили из деревни. Они пытались закрепиться на обратном склоне горы, но и оттуда были сброшены в поле. В дело вступили фланговые пулеметы засад.
Бой заканчивался.
Первым прибежал на командный пункт полка корреспондент фронтовой газеты.
— Где писатель? — спросил он. — Где Гайдар?
— Гайдар ушел с первым батальоном, — мрачно сказал командир полка.
— И не вернулся? — ахнул корреспондент.
— У него в кармане уже лежало начало очерка для газеты. Эпиграфом он взял гордые слова из баллад Николая Тихонова: «Одиннадцать раз в атаку ходил отчаянный батальон».
С наблюдательного пункта он видел эту атаку и понимал, что вернуться из нее не просто.
— Позвольте! — сказал он. — Но ведь это же Гайдар! С нас в штабе фронта голову снимут, если мы его потеряем.
Он встал у входа в блиндаж. У каждого, кто проходил мимо, он спрашивал одно и то же:
— Где писатель? Где Гайдар? Такой большой, широкий, с орденом?..
Молоденький лейтенант сказал: «Я видел его на огородах, когда рассвело. Он подарил мне зеленые кубики и сказал, что здесь война, а не малинник, а мои новые красные взял на память».
Медсестра сказала: «Это, наверное, он вытащил из боя контуженого капитана. Но капитана сейчас тоже нет: он отлежался и пошел к своим бойцам».
Связной Охрименко сказал: «Бачив я цього письменника ще пид горою. Дуже ругався и стыдив за второго номера пулэмета».
Командир полка сказал: «Тише!» — взял трубку и стал слушать.
— Пойдемте, — сказал он после паузы. — Первый батальон выходит из боя…
Двое бойцов под руки вели капитана Прудникова. Он шел хромая, чертыхаясь, то и дело хватаясь рукой за голову.
Он стал на самой дороге, возле разбитой брички, и никуда не пожелал больше идти.
— Считай, — сказал он ординарцу. — Всех считай!
Сначала вынесли мертвых. На горе, у дороги, для погибших героев выкопали просторную братскую могилу.
Долго стояли возле нее командиры с непокрытыми головами.
На плащ-палатках, на камышовых матах бережно пронесли бойцы и санитары тяжело раненных товарищей, а потом уже пошли вперемежку легко раненные и здоровые, уцелевшие солдаты, и шли до тех пор, пока не сказал ординарец командиру: «Все! Девяносто…»
Тогда из-за белых, опаленных огнем пожара домов вышел еще один солдат. Гимнастерка на нем висела клочьями, зеленые когда-то штаны стали черными от грязи и копоти. В руках он держал трофейный немецкий автомат, и видно было, что он заплатил настоящую цену за это редкое по тем временам оружие. Широко и грузно ставя ноги, он спускался с горы, не замечая, что добрая сотня глаз следит за каждым его движением.
— Девяносто первый, — сказал капитан Прудников и шагнул навстречу, забывая про боль.
— Писатель! — сказал командир полка. — Есть о чем и мне написать дочке.
— Оце людына! — сказал Охрименко.
А Гайдар как ни в чем не бывало, даже как будто чего-то стесняясь, подходил все ближе и ближе.
Вот он крепко пожал руку Прудникову и товарищам, командиру полка и связному Охрименко.
Так же как все, он снял фуражку и в безмолвии остановился у свежей могилы.
А потом сел на сломанную бричку, оглядел гору, дорогу, небо и, вдруг улыбнувшись, сказал:
— Ласточки летают высоко. Завтра будет хороший и ясный день.
★
Рассказ о смелом всаднике
Аркадий Гайдар написал «Военную тайну» и, как всегда, закончив новую книгу, уехал из Москвы. В ноябре 1934 года в Ростове-на-Дону он читал повесть библиотекарям и ребятам. Книга получилась большая, сразу в один вечер прочитать ее было невозможно.
Гайдар читал по рукописи — книга еще не вышла в свет, — читал отрывками: в школах, в библиотеках, во Дворце культуры Ростовского завода сельскохозяйственных машин, в библиотеке имени Величкиной. И одни ребята слышали только начало повести, другие — середину, а третьи — конец.
Во Дворце пионеров перед отъездом из Ростова Гайдар нечаянно попал на диспут. Спорили мальчишки и девчонки. И так как повесть они всю целиком не читали, то и спорили зря и без толку.
— Кто главный? — закричали они, увидев Гайдара. — Вожатая Натка? Владик Дашевский? Инженер Сергей? Маленький Алька? Или, может быть, октябренок Карасиков?
— Летчики летят по синему небу! Пароходы плывут по зеленому морю! — ответил Гайдар. — У каждого человека своя дорога. А кто из героев главный, я и сам не знаю.
Маленькие читатели библиотеки, те самые, которые слушали конец повести, закричали все вместе и сразу:
— Алька! Главный — Алька!
— Нет! — закричали пионеры завода «Сельмаш», слушавшие начало. — Главная — Натка! Шегалова Натка!
Так они спорили минуты две или три, пока звеньевой Витя Зарайский не вскочил на стул, чтобы быть выше и заметнее, не поднял руку и не попросил слова.
— Натка очень хорошая, и Владик хороший, — сказал он. — Но ведь книга кончилась, и все они остались живы и здоровы. А вот Алька один за всех умер.
Девочки заморгали глазами, и самые горластые мальчишки с «Сельмаша» замолчали. И одна из девочек, маленькая Валя Колесниченко, та самая, что кричала громче всех о том, что нет на свете человека главней Натки Шегаловой, вышла вперед.
— Я не знала, что Алька умер… — сказала она тихо, поправляя на груди пионерский галстук. — Как же так, Аркадий Петрович? Почему он умер?
— Его убили враги! — крикнул Витя Зарайский.
— А я не знала, — сказала Валя. — Я об этом не слышала. Мы спорим не о том. Так нельзя.
Спорили они действительно не о том.
Да, все хорошие люди в книге оставались живы и здоровы. Только самый лучший, самый смелый, маленький, шестилетний мальчишка Алька, «всадник первого октябрятского отряда имени мировой революции», навсегда закрыл глаза на последних страницах повести.
Веселая поначалу книга стала суровой и печальной.
— Так нельзя! — повторила Валя.
И Гайдар понял, что так уезжать действительно невозможно. Нелегко дождаться ребятам, когда книга выйдет из печати. Он положил рукопись на стол.
— Книга остается пока у вас, — сказал он. — Прочтите ее друг другу. Потом поговорим: можно или нельзя. А главные герои в книжке, по-моему, Красная Армия и Советская власть.
В начале 1935 года уехал работать из Москвы в Арзамас, в город, где он когда-то рос и учился. Туда ему переслали письма ростовских пионеров. Митя Белых, Витя Зарайский, Валя Колесниченко и двадцать два их товарища писали Гайдару. Они прочли его рукопись друг другу вслух, всю до конца.
5 марта 1935 года Аркадий Гайдар написал им ответ:
«Дорогие ребята!
Мне из Москвы переслали ваши письма и отзывы на мою повесть «Военная тайна».
Конечно, я был очень обрадован. Повесть выйдет отдельной книгой недели через две. Я уже распорядился, чтобы тотчас же несколько экземпляров были высланы в Ростов — библиотекам имени Величкиной и на «Сельмаш».
Прочтите, обсудите и тогда напишете еще. Одно дело, когда такую совсем маленькую повесть вам читали вслух по частям, и совсем другое, когда каждый прочтет ее сам.
Я отвечаю вам на главный вопрос: зачем в конце повести погиб Алька и не лучше ли, чтобы он остался жив?
Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, чтобы и Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев.
Но этого в жизни не бывает. Далеко не все так легко, беззаботно и просто делается…
Вам жалко Альку. Валя Колесниченко в своем отзыве пишет мне, что ей даже «очень жалко». Ну, так я вам откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и самому так жалко, что порою рука отказывалась дописывать последние главы.
И все-таки это хорошо, что жалко. Это значит, что вы вместе со мной, а я вместе с вами будем еще крепче любить и Советскую страну, в которой жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, кто брошены на каторгу и в тюрьмы.
И будем еще больше ненавидеть всех врагов, и своих, домашних, и чужих, заграничных, — всех тех, что стоят поперек нашего пути и в борьбе с которыми гибнут наши лучшие, большие и часто маленькие товарищи.
Вот вам ответ на первый вопрос.».
Всем крепкий привет. Мите Белых, Вите Зарайскому, Алексею Подскорину, Рихтер, Вале и вообще всем, у кого на плечах толковая голова.
Я жив, здоров, живу сейчас в городе Арзамасе и работаю, пробуду здесь еще несколько месяцев…
Будьте живы и здоровы вы.
Ваш Аркадий Гайдар».
* * *
Много прошло времени с той далекой поры.
Погиб за прекрасную Советскую Родину Аркадий Гайдар. Возмужали и выросли вчерашние малыши.
Года два тому назад я был в Ростове. В обкоме комсомола мы разговорились с товарищами о прошлых днях и вспомнили ростовских пионеров и «Военную тайну».
— Интересно, — сказал я, — где сейчас все эти мальчишки и девчонки? Помнят ли они Гайдара?
— Я помню, — сказал один из моих собеседников. — Я Митя Белых и работаю в обкоме инструктором.
— Совсем большой! — сказал я с удивлением. — Как идет время! А где Витя? Алексей? Валя?
Митя отвернулся к стене.
— Витя успел вырасти еще до войны, — сказал он. — Он погиб в бою, почти рядом с Гайдаром…
Все замолчали. И я побоялся спросить в этот день, кто еще «успел вырасти до войны», кто остался жив и здоров из тех ребят, что зимой 1935 года горевали и печалились о славной Алькиной смерти.
А через два дня мне сказали, что Алька… жив.
— Как это может быть? — сказал я недоверчиво. — Алька — герой книжный. Жил он и умирал только на страницах «Военной тайны».
— Ну это как сказать, — заявили мне мои собеседники и подхватили меня под руки.
По широкой улице они повели меня вниз, к Дону, сказали: «Подождите, она в этот час всегда выходит с сыном гулять». И правда, я увидел, как медленно спускается к реке молодая женщина.
— Ее зовут Валей, — сказали мне, — Валентиной Степановной Колесниченко, а рядом с ней бежит ее сын, живой шестилетний Алька — малыш с глазами темными и веселыми, как в книжке. Валя тогда, четырнадцать лет назад, была маленькая, беленькая, с косичками, и галстук у нее всегда сбивался на сторону. Давно уже пополнены ряды «первого октябрятского отряда имени мировой революции», о котором писал Гайдар.
— Понятно, — сказал я и остановился под деревом.
И вот я стою, я смотрю…
Мать и сын подходят к реке. Валя садится на скамейку. Алька играет в солдатики, собирает камни и строит грозную каменную крепость на берегу.
Валя встает и подходит к самой воде. Что вспоминается ей? Может, небо, сегодня такое же яркое и синее, как в детстве? Может быть, глаза у Альки такие?
Вдруг крепко-крепко Валя обнимает Альку, и удивленный всадник «отряда имени мировой революции» высоко поднимает головенку, зорко оглядывает небо — все ли в небе спокойно — и неожиданно спрашивает:
— Мама! Почему ты плачешь?
И тогда матери приходится рассказывать сыну все, что написано в этом рассказе, а заодно и о том, как погиб за Родину замечательный писатель и человек Аркадий Гайдар.
Тогда и Смелый всадник утирает кулаком слезу.
— Зачем погиб Гайдар? — спрашивает он. — Я не хочу.
Спокойно и, пожалуй, даже сурово глядя на синее-синее небо, Валя говорит сыну:
— Не плачь! Я тоже не буду плакать. Конечно, лучше, чтобы Аркадий Петрович остался жив… Конечно, неизмеримо лучше, чтобы остались живы все наши советские люди, защищавшие свою Родину в трудный ее час. Но так на войне не бывает. Была война, а они умирали за то, чтобы войны больше не было.
Алька спешно достраивает свою каменную крепость. Солдаты с красными звездами на касках становятся у бойниц. Попробуй сунься!
Улыбаясь, Валя смотрит на сына.
— Тебя никто не посмеет тронуть, малыш, — говорит она. — Мы победили не зря, нас много.
— Кого — нас? — спрашивает Алька. — Мама, мы с тобой кто?
— Мы — простые люди, — отвечает Валя. — Дети, матери, отцы, братья и сестры. И мы не хотим войны.
Успокоенный Алька берется за книгу. Вот он сидит рядом с матерью над Доном, на берегу. Клены на набережной стали как будто выше, и тихое течение реки еще спокойней. Алька читает. На коленях у него книга про Чука и Гека.
★
Легенда
Никто не знает точно, как он погиб. Свидетелей последнего боя Гайдара в живых не осталось. Полковник Орлов, с боевой группой которого Аркадий Гайдар вышел из Киева и попал в окружение, писал о нем скупо: «Это был человек исключительной честности, сердечности и отваги. В долгие дни наших военных тягот он был моим помощником и другом…»
Лейтенант Абрамов, чьи слова о гибели Гайдара первыми дошли из окружения до Большой земли, вероятно, думал, что он еще успеет все рассказать людям. «Мне трудно теперь вспоминать то, что было, потому что мы любили нашего Аркадия Петровича, — писал он. — Это письмо я передаю из временно оккупированной Украины. Привет всем от товарищей-партизан, знавших его.
Мы обещали отомстить врагу за то, что его убили, и мы отомстим так, как умел мстить за Родину товарищ Гайдар. Он храбро дрался и геройски погиб».
Лейтенант Абрамов не успел досказать главное. В тяжелых боях погибли боевые товарищи Гайдара.
Путевая обходчица-железнодорожница нашла после боя тело убитого и похоронила его. Поздно ночью пробрались к ней в будку партизаны и сказали коротко: «Береги могилу. Это — Гайдар». Потом его останки перенесли в Канев на высокий обрыв над Днепром. Вот и все.
Получилось так, что мы, хорошо зная начало и середину жизни Гайдара, так и не узнали в подробностях ее конца.
Поэтому-то и стараемся мы узнать все, что можно, о последних часах жизни Гайдара, бережно записываем все, что услышим.
Как началась война, как уезжал Гайдар на фронт, мы помним все. В субботу вечером 21 июня 1941 года в пионерском лагере в Клину он рассказал ребятам, вожатым и матерям о книжке, написанной про Тимура и его команду.
— Самая моя большая удача, — говорил Гайдар тихо. — А ведь это книжка про самых обыкновенных советских мальчишек и девчонок…
Говорят теперь, — продолжал он, — что неплохие, даже, может быть, чересчур хорошие получились у меня в книжке ребята. Многие допытываются: в чем секрет успеха? Неужели так велика сила примера?
И я отвечаю: конечно же, очень велика. Но только пример примеру рознь и сила отличается от силы. Не просто ведь хороший и вежливый Тимур стал примером для товарищей и подружек. У него и у меня было одно знамя, одна вера — великий пример большого и славного партийного дела. Вот почему у нас так все и получилось…
Мы уходили из лагеря поздно. Спали по палаткам ребята и видели спокойные сны.
Помню рассвет в эту ночь. Тоненькая березка стояла у дороги. Клин просыпался, когда мы уезжали. Слышался уже звон ведер у колодцев, смех у калиток…
А через несколько дней стояли мы у подъезда гайдаровского дома. Была на Гайдаре фуражка с красной звездой. Тяжелый пистолет в кобуре непривычно оттягивал пояс. Все мы — родные и друзья — молчали. А Гайдар говорил все так же задумчиво и тихо:
— Ну что ж, вот она и пришла — пора самой большой проверки моих книг. И моей жизни. Прощайте, мои хорошие, помните, не забывайте.
И уже мчится машина по трудной военной дороге.
Спереди, сзади, по бокам встают дымные столбы разрывов.
В кабинетах редакций спрашивают:
— Где Гайдар? Очень нужен.
Отвечают:
— Нет Гайдара. Гайдар на фронте.
Вот записи тех времен.
На высокой сосне сидит наблюдатель. Кричит в телефон:
— Правее ноль три два осколочных. Точно. Что? Какой корреспондент? Гайдар? Был здесь два часа назад. Влез, посидел, покурил и слез. Что я ему — нянька, что ли? Он сам себе голова. Давай еще правее ноль два.
Высокий мост через Днепр. Часовой сдает мост. Докладывает разводящему:
— Происшествий особых не случилось. Бомбили два раза. Товарищ был один из «Комсомольской правды». По фамилии Гайдар. Простоял со мной всю бомбежку. Лязгнуло ему по каске осколком. Ну а потом сказал: «Высокий у тебя пост, часовой. Стоишь между землей и небом. Я о тебе, напишу». И ушел.
Командный пункт полка. Командира спрашивает приезжий из штаба фронта товарищ:
— Где Гайдар?
Отвечает командир:
— Третий батальон переправился вот здесь и сейчас атакует деревню. Опорный пункт. Гайдар ушел с батальоном в атаку. Связи нет, и Гайдара нет.
Штаб армии. Приказывает командующий:
— Член Военного совета фронта приказал разыскать писателя Гайдара. По нашим сведениям, он в группе полковника Орлова. Группа в окружении в квадрате восемнадцать.
Докладывает командующему полковник-летчик:
— Самолет к Орлову вылетел в 14.00. На рассвете вернулся. Привез раненых.
Быстро спрашивает командующий:
— Гайдара?
— Гайдар вылететь отказался.
Что-то тихо говорит командующий. Переспрашивает летчик:
— Виноват, не расслышал, товарищ генерал.
Отвечает генерал сердито:
— Говорю, что и я отказался бы тоже.
Москва. Пионерский сбор. Девочка держит в руках письмо. В отряд его принесла жена Гайдара. Говорит девочка:
— Вот это его письмо последнее. Пишет, что выезжает на передовую и связь с ним будет прервана. И вот эта фотография Гайдара — последняя. Очень хочется, чтобы ожил Гайдар, снял каску, вытер пот со лба, поднялся на ноги. Не поднимется. Никогда.
Под Каневом на берегу Днепра много лет спустя я встретил пионерский отряд в походе. На отдыхе у костра я нечаянно задремал и сквозь сон слышал, как вожатая рассказывает ребятам о Гайдаре. Рассказывала она долго. Сначала читала наизусть гайдаровскую сказку о Горячем камне, про мальчика Ивашку и волшебный камень. Если такой камень разбить, можно жизнь начать другую и прожить ее богато и спокойно. А потом вдруг замолчала, подумала, что-то вспомнила, и я услышал рассказ о последнем гайдаровском бое. Сон пропал. Я слушал внимательно, запоминая каждое слово.
— Бой был в этом лесу. Партизан окружили. Две красные ракеты крест-накрест перечертили небо. У железной дороги остались вдвоем только Гайдар и боевой его товарищ, маленький разведчик Васька. В последний раз о чем-то задумался Гайдар, очень он любил задумываться и всегда придумывал что-нибудь хорошее. Совсем близко были немецкие автоматчики. И тогда Аркадий Петрович усмехнулся про себя, тихотихо.
— Слушай, Васька, боевой приказ, — сказал он вдруг суровым командирским голосом. — Поползешь по тылам к нашим. Передашь лейтенанту, чтобы к Днепру отходили. К дубу. Только скорей. Я задержу их ненадолго.
Не хотелось уходить Ваське. Он хоть и мал был, а все понимал.
— Товарищ командир, убьют вас.
— Убьют — похоронят, — ответил Гайдар. — Марш отсюда! Повтори боевое задание.
Повторил Васька: «Отходить к Днепру. Направление — на старый дуб у обрыва». Пополз. Остался Гайдар один. Проверил диск автомата. Сказал шепотом:
— Будешь жить, парень.
А сам подвинулся ближе к насыпи. Залег. Когда же показалась совсем близко дрезина с автоматчиками, приподнялся, подпустил немцев вплотную и длинной очередью полоснул в упор по врагам. Пустая дрезина пронеслась мимо. Васька услышал выстрелы, оглянулся, успел еще увидеть, как махнул рукой Гайдар, а потом один из немцев, раненый, выстрелил Гайдару в спину, и упал Гайдар рядом с серым горячим камнем.
Не выдержал Васька и вернулся. Изо всех своих силенок приподнял Гайдара. Последним усилием оперся Гайдар о камень.
Заплакал Васька:
— Товарищ командир, не умирайте!
А Гайдар уже бредил. Казалось ему, что нет рядом Васьки, а наклонился над ним Ивашка Кудряшка из той самой сказки.
Послышалось Гайдару, как сказал ему Ивашка:
— Камень волшебный, вот он. Жизнь начать другую можно.
Улыбнулся Гайдар, сказал вполголоса:
— Чудак. Я эту сказку сам написал… про себя. Мне другой жизни не надо.
И умер…
Я слушал рассказ, боясь пошевелиться. Девушка замолчала.
Кто-то из ребят промолвил серьезно:
— А что? Найти бы такой камень, и пусть бы жил человек сто лет. Писал бы книжки.
— Нет такого камня, — грустно сказала девушка. — Да и все равно, свою жизнь Аркадий Петрович на другую не променял бы. Попробуй, как он, проживи!
— Ну и что, — сказал мальчишка упрямо. — Ну и что, я попробую!
Его товарищи приподнялись даже на своих местах: вот какую штуку выдумал! Но глядели на дружка совсем не осуждающе. Сразу поняли ребята, что это не хвастовство, а почти что клятва.
Вожатая сказала серьезно и торжественно:
— Ну что ж, Сережа, попробуй. Мы все тебе поможем, пробуй.
Она встала и пошла от костра в темноту, комкая в руках белый платок.
Я пошел за ней следом.
— Откуда вы услышали этот рассказ? — спросил я. — От кого?
Девушка смутилась.
— У нас все его рассказывают… — сказала она.
— От кого первого услышали? — допытывался я. — Может быть, и правда так было? Нам так важно знать.
— Отец рассказывал почти что так, — сказала девушка. — Только про дрезину с немцами не говорил. Соседка рассказывала — была дрезина.
— А о горячем камне? О Ваське?
— Не помню, — призналась девушка. — Так вот запомнилось. Просто. Который раз я уже сама рассказываю. И все расстраиваюсь. Вы Сережку слышали? Теперь и про него надо будет рассказать. Так вот все складывается и собирается — одно к одному.
И я понял, что рассказы о Гайдаре уже создает сам народ. А все, что создает народ, — правда. Большей правды на свете нет.
★
Емельянов Б. А.
Е60 О смелом всаднике (Гайдар). М., «Молодая гвардия», 1974.
160 с., с илл. («Пионер — значит первый»).
100 000 экз.
Редактор Людмила Лузянина
Художник Владимир Гальдяев
Художественный редактор Виктор Плешко
Технический редактор Иван Соленов
Корректоры Галина Трибунская, Тамара Пескова
Сдано в набор 10/IX 1973 г. Подписано к печати 4/ХП 1973 г. А00837. Формат 70Х108 1/32. Бумага № 2. Печ. л.
5 (усл. 7). Уч. — изд. л. 6,3. Тираж 100 000 экз. Цена 29 коп. Т. П. 1974 г., № 85. Заказ 1575.
Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.
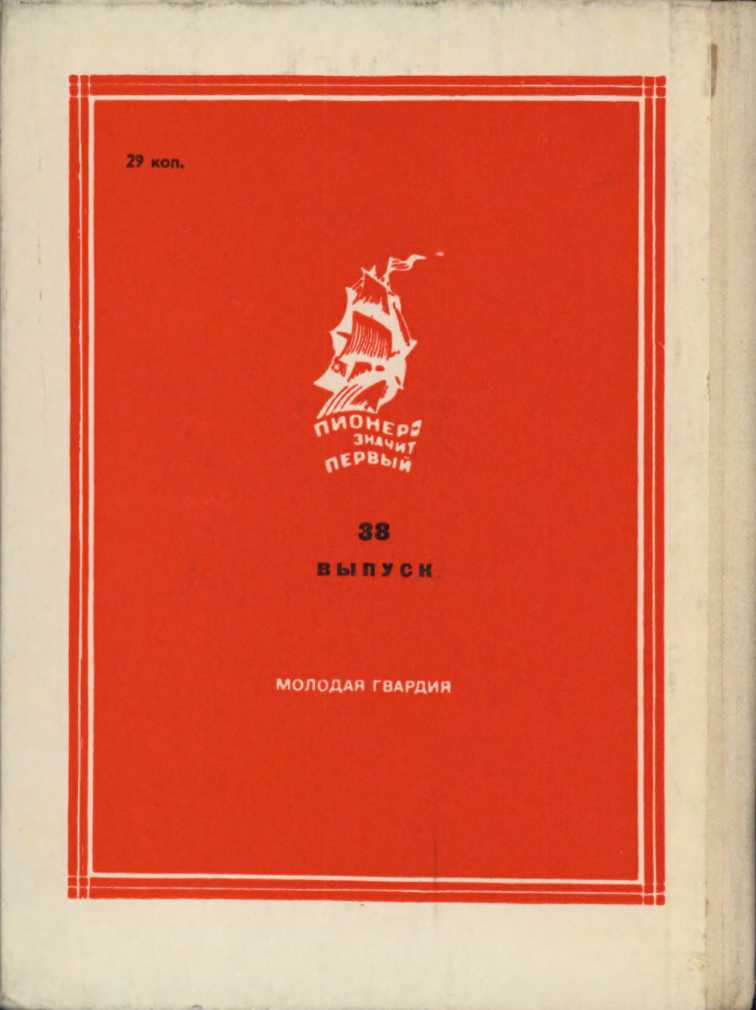
1
Царской водкой называли в народе до революции едкую соляную или серную кислоту.
(обратно)
Оглавление
Автобиография
Военная тайна
Легко ли быть писателем!
Детство
Солдаты второй армии
Друзья из Ташкента
Гайдар и его команда
Игра
Чемодан
Случай
Кольцо
Терпение
Часы
Сын
Флаг
Чашечки-серебряшечки
Путешественник
Кутька
Свет
Осетр на цепи
Арбузы и волки
Слепой беркут
Сказка
«Горячий камень»
Илька Артемьев
Голубая чашка
Три товарища
Клятва Гайдара
Гайдар и Зоя
Иван да Марья
Комсомольская правда
Девяносто первый
Рассказ о смелом всаднике
Легенда
*** Примечания ***