
Юрий Яковлев
ПОСЛЕДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
Повести и рассказы
Дорогой друг!
Сегодня ты стал пионером, повязал красный галстук;
он — частица Красного знамени, дорожи им.
Сегодня ты сделал первый шаг по славной пионерской
дороге, по которой шли твои старшие братья и сестры,
отцы и матери — миллионы советских людей. Свято храни
пионерские традиции. Будь достоин высокого звания юного ленинца!
Крепко люби Советскую Родину, будь мужественным, честным,
стойким, цени дружбу и товарищество. Учись строить коммунизм.
Сердечно поздравляю тебя со вступлением в пионерскую организацию
имени Владимира Ильича Ленина.
Это большое событие в твоей жизни.
Пусть пионерские годы будут для тебя и твоих друзей по отряду радостными,
интересными, полезными. Пусть станут они настоящей школой большой жизни.
Счастливого пути тебе, пионер!
ЦК ВЛКСМ
Центральный совет
Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина
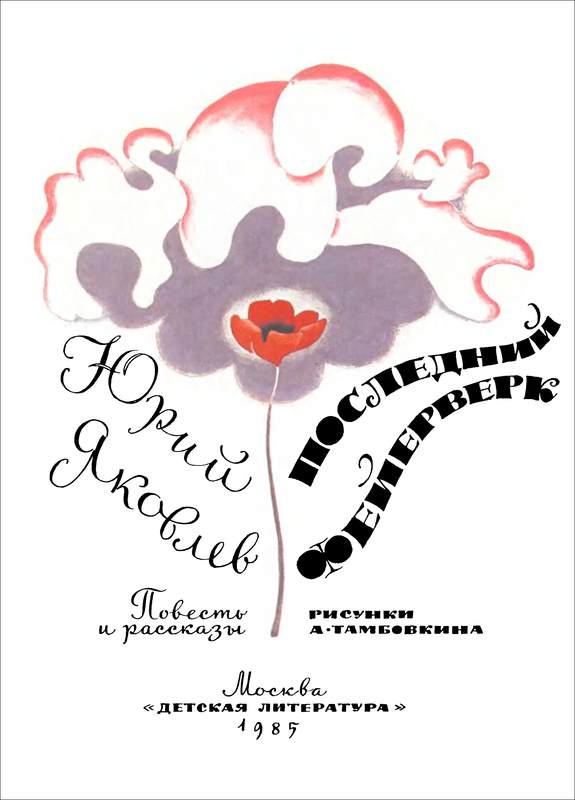 МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
Повесть
МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
Повесть

1

солнечный мартовский день в городе начинают таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли больной, простуженной зиме.
По городу идет мальчик с коньками.
Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все мало. Лыжные брюки — до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра: рукава коротки. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину. Шарф зеленый в полоску, с фиолетовым чернильным пятном на самом видном месте.
Кажется, что вчера еще все было мальчику впору и что это за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одежду не успели купить.
Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него под мышкой.
Какой-то он нескладный и неустойчивый. То споткнется на ровном месте, то налетит на прохожего. То бежит вприпрыжку, то, заглядевшись на машину, останавливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, задиристые.
Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в мальчике непоседу и драчуна, который среди ребят чувствует себя уверенно, а оставшись один, не знает, куда себя деть.
На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом. Основательно потертая шапка сидит на одном ухе, оставив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится по тротуару: некогда с ним возиться.
И только коньки, удобно пристроившиеся под мышкой, в полном порядке. Они крепятся медными заклепками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены «бутербродиком» и стянуты желтым кожаным ремешком. Это не какие-нибудь девчачьи «снегурочки», а вполне серьезные мужские коньки «английский спорт». У них острые крепкие носы. Когда бежишь на этих носах, ледяные крошки отлетают в стороны, как искры из-под железных подков. Можно быстро бежать, а потом встать на полозья и долго скользить по ледяной глади катка.
Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и к потертой шапке, сидящей на одном ухе.
Холодная капля упала мальчику на щеку. Он вытер ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный взгляд, свернул в переулок.
2
У школьников весенние каникулы, а взрослые работают. Поэтому на улицах малолюдно. А в переулке вообще редко встретишь прохожего.
Переулок старый, двухэтажный. Мостовая покрыта ледяной коркой. Снегоочистительные машины не заглядывали сюда всю зиму. Сразу видно, что маленький переулок приходится очень дальним родственником большим, главным улицам города.
Мальчик с коньками шагает по переулку. Он сдвигает шапку на другое, замерзшее ухо — погрейся, твоя очередь! — и прислушивается. Он слышит музыку. Она доносится сюда со стадиона. На больших улицах ее заглушают машины, а здесь тихо, и музыка слышна. Она действует на мальчика, как сигнал боевой трубы. Ноги сами начинают ускорять шаг, и развязавшийся шнурок только поспевает постукивать по ботинку.
А хорошо бы на каток опять пришла девчонка в красном пушистом свитере и в синей короткой юбочке! Та, у которой на голове белая меховая шапка. Высокая, как папаха. Из-под шапки у нее торчат две косички. Хорошо бы попробовать дернуть ее за косичку! Но девчонка такая гордая и неприступная, что в прошлый раз не хватило решимости сделать это. На ее глазах он сбил шапки с трех мальчишек. Один из них был совсем большой. На полголовы выше. От такого вполне можно было получить сдачи. Сегодня он опять собьет с него шапку, если не хватит мужества дернуть девчонку за косичку… А если она уже на катке, уже катается на своих серебряных «снегурочках»? И вдруг большой мальчишка дергает ее за косичку?!
Мальчик с коньками под мышкой уже не идет, а бежит. Только бы не опоздать! Только бы не опоздать!
И тут в конце переулка он увидел человека. Мальчик не обратил бы на него никакого внимания, но человек оказался единственным прохожим и шел прямо ему навстречу. Человек был высокий, крупный. На нем белые бурки с кожаными носами и широкая длинная куртка, сшитая из шкуры какого-то черного зверя. Шаги у мужчины тяжелые и неторопливые. А мальчик почти бежал, и поэтому они скоро должны были встретиться.
И вдруг прохожий остановился. Потом он качнулся вперед и сделал несколько неуверенных шагов, словно собирался упасть. Но не упал, а удержался на ногах. Он беспомощно начал двигать руками, словно искал в воздухе невидимую опору. На этот раз он наверняка бы упал, но рука вовремя ухватилась за стену дома.
«Наверное, пьяный», — подумал мальчик, и в глазах его вспыхнул недобрый зеленый огонек: он терпеть не мог пьяных.
Мальчик брезгливо сморщил нос и ускорил шаг, чтобы поскорее разминуться со встречным.
Когда мальчик поравнялся с прохожим, тот стоял, прислонясь к стене, крепко зажмурив глаза. Лицо его было неестественно бледным. У рта запали две глубокие складки. Он тяжело дышал. Вероятно, тугой воротник куртки мешал дышать. Одной рукой человек держался за каменную стену, другой силился расстегнуть железный крючок воротника. Крючок был цепкий, и у руки не хватало сил освободить его из петли. На лбу у прохожего выступили мелкие бисеринки пота.
Мальчик с коньками невольно остановился. И тогда прохожий открыл глаза и посмотрел на мальчика. Его глаза смотрели из-под нависших бровей откуда-то издалека. Нет, это не были мутные, шальные глаза пьяного! Они были полны боли и тревоги. И во всем облике этого большого, грузного человека чувствовалась неловкость за свою беспомощность.
Наконец ему все же удалось расстегнуть крючок. Усталая рука соскользнула вниз, плечи опали под собственной тяжестью. Человек закрыл глаза, но тут же открыл их вновь. Он заметил мальчика и боялся потерять его из виду.
Мальчик еще стоял рядом. Но ему было некогда. Он боялся опоздать. Зеленые глаза недружелюбно глядели на тяжело дышащего человека.
Человек молчал. Его грудь тяжело поднималась и медленно опускалась, словно боялась наколоться на что-то острое. А пальцы, только что отцепившие железный крючок, теперь расстегивали и пуговицы. Человек молчал.
Мальчик вспомнил, как однажды на улице упал старик и сломал ногу. Он лежал на тротуаре и тихо стонал. Ему было очень тяжко, и вокруг стояли зеваки. Они глазели на несчастного до тех пор, пока за ним не приехала «скорая помощь»…
Может быть, и этому человеку неприятно, что рядом с ним стоит незнакомый мальчишка?
И вдруг человек сказал:
— Сынок…
Он произнес одно только слово и начал тяжело дышать. Видимо, у него не хватало сил на остальные слова.
Услышав слово «сынок», мальчик с недоумением посмотрел на незнакомца. Так называла его мама. Это было мамино слово. А от мужчины он слышал его впервые.
Незнакомец опять собрался с силами и заговорил:
— Помоги мне добраться до дома… Здесь недалеко.
Мальчик молча подставил плечо. Человек неуверенно отнял руку от стены и оперся на плечо мальчика. Он был большой и тяжелый, а мальчик был худой и неустойчивый. Незнакомец старался полегче опираться на мальчика. И они пошли по улице.
Сам не замечая этого, мальчик все время ускорял шаги. Музыка с катка сладко вливалась в ухо. Она манила, звала, требовала. Мальчику показалось, что он и впрямь может опоздать, что, если он придет пятью минутами позже, все кончится… И уже не будет ни льда, ни музыки, ни вереницы бегущих ребят…
А больному человеку было трудно передвигать ноги. Каждый шаг отдавался в сердце. Он старался не отставать от своего неспокойного поводыря, но у него не хватало сил. И несколько раз он останавливался, чтобы перевести дух. Тогда он чувствовал, как мальчик ерзает под его рукой и нетерпеливо оглядывается. Всю дорогу ни большой, ни маленький не проронили ни слова. Их связывал неприятный случай. Один из них был в тягость другому. Они понимали это, и обоим хотелось поскорее расстаться.
Наконец у низкого подъезда человек остановился. Видно было, что это конечная остановка. Человек вытер со лба холодный пот и, ни к кому не обращаясь, будто сам себе, сказал:
— Зашевелился осколочек. Сколько лет не беспокоил — и вот на тебе!
Вероятно, он чувствовал себя виноватым перед мальчиком и решил часть вины переложить на «зашевелившийся осколочек».
Мальчик насторожился и с недоверием поднял глаза на мужчину:
— Какой осколочек?
— Обыкновенный, брат, от снаряда… Вот ведь война когда кончилась, а осколочек остался, — сказал мужчина и показал пальцем на грудь.
Он еще стоял, прислонясь к стене, а мальчик внимательно рассматривал его. У человека все было крупным: и нос, и губы, и подбородок с глубокой ямочкой. На щеках шершавая щетина.
— Пойдем, что ли, — сказал мужчина, открывая дверь подъезда. — Тяжелый тебе солдат достался.
И они двинулись дальше.
3
Когда они поднимались по лестнице, человек сильней опирался на плечо мальчика. Другой рукой он цепко хватался за перила, будто страшился, что ступенька уйдет у него из-под ног. Ему было больно. А мальчику тяжело. Но оба терпели. Мальчик думал об осколке, который зашевелился в груди у незнакомца, и ему на минуту показалось, что он ведет бойца, только что раненного разорвавшимся снарядом.
А человек думал, как бы поскорей добраться до постели.
Очутившись дома, человек стал стягивать с себя меховую куртку. Он делал это с такими усилиями, будто она весила по меньшей мере два пуда.
Наконец ему удалось освободиться от этой тяжести. Под курткой была гимнастерка военного образца и синие брюки. На гимнастерке с правой стороны над кармашком была пришита потемневшая полоска галуна. Эта полоска — знак тяжелого ранения — как бы подтверждала, что человек занемог старой военной болезнью.
Пока человек раздевался, мальчик стоял в сторонке и следил за ним. Сам он не снял пальто, даже не вынул из кармана руки, которая локтем придерживала коньки «английский спорт».
Человек тяжело опустился, почти упал на диван. Старые пружины жалобно скрипнули. Человек откинулся назад и закрыл глаза.
А мальчик продолжал стоять перед ним. Он был растерян и не знал, что полагается делать в подобных обстоятельствах.

Перед ним лежал человек. Не просто заболевший гриппом или ангиной, а старый боец с осколком в груди. Зеленые глаза мальчика, привыкшие бесцеремонно разглядывать все, что ни попадется, сейчас утратили свою дерзкую самоуверенность. Они вопрошающе смотрели на человека, с которым судьба свела его в переулке по дороге на каток.
Трудно сказать, сколько времени человек лежал с закрытыми глазами. Когда он поднял веки, мальчик все еще стоял перед ним: в коротком пальтишке без пуговицы, с шапкой, надвинутой на одно ухо, с коньками под мышкой.
— Ты еще здесь? — спросил раненый, почти не шевеля губами.
— Ага.
— Ты иди. Теперь я сам управлюсь… А за помощь спасибо. — Человек глотнул воздух и спросил: — Спешишь?
Только сейчас он заметил под мышкой у мальчика коньки.
«Да, да!» — эти два коротких слова должны были сорваться с губ мальчика, но вместо них прозвучали совсем другие:
— Я не спешу… я уже был на катке.
Он сам удивился, что произнес именно эти слова и с такой уверенностью, будто на самом деле все обстояло именно так. Собственные слова огорчили мальчика, но отступать было нельзя.
— Я дождусь кого-нибудь из ваших и пойду.
Ему казалось, что все это говорит не он, а кто-то другой, помимо его воли. И он уже раскаивался: ведь неизвестно, когда придут домашние. Может быть, не скоро. Вечером.
— Никто не придет, — помолчав, сказал человек. — Понимаешь, жена с сынишкой уехали к бабушке. На каникулы. В Сапожок.
— В какой сапожок? — вырвалось у мальчика.
Человек через силу улыбнулся и пояснил:
— Это город такой есть. Вернее, городок рязанский.
Мальчик положил коньки на стул. Этим движением он как бы хотел подчеркнуть, что никуда не спешит.
Он серьезно посмотрел на своего нового знакомого и спросил:
— Что же теперь делать?
— Да ничего. Отлежусь, и все пройдет, — сказал хозяин дома и, словно желая оправдаться перед мальчиком, добавил: — Понимаешь, я еще ночью в цехе почувствовал себя совсем скверно. Но подумал, что до дома как-нибудь доберусь. И вот видишь…
Он закрыл глаза и провел ладонью по волосам. Ему, видимо, немного полегчало, и он разговорился:
— Это мне под Орлом так приложило. Пять осколков вынули, а один при себе ношу.
— Кто же это вам… приложил? — осведомился мальчик, стараясь попасть в тон хозяину дома.
— «Фердинанд», танк немецкий… Знаешь, что такое ПТО?
Мальчик покачал головой.
— Противотанковое орудие, — объяснил бывший боец, — пушечка такая. Сорокапятимиллиметровка. Мы, как кроты, врылись в землю, а на нас шли танки. Два мы подожгли, а третий нас приложил… Ни расчета, ни пушки… Ну ничего, все пройдет. Вот отлежусь…
И вдруг он снова побледнел, и две складки у рта стали еще глубже.
— Сходить за доктором? — предложил мальчик.
Раненый мотнул головой. Говорить ему было трудно. Потом он все-таки сказал:
— За доктором не надо. Разве что за лекарством… Если не очень спешишь.
— Не спешу, — отозвался мальчик. — Где рецепт?
— В столе. Рядом, в комнате. Открой средний ящик. Там где-то завалялся. Болеутоляющее.
4
Человек не спросил мальчика, как его зовут, и не назвал ему своего имени. А спросить первым мальчик не решался.
В других обстоятельствах мальчик чувствовал бы себя очень скверно, очутившись в чужом, незнакомом доме, но тревога, которая все больше и больше овладевала им, заглушала неловкость, как большая боль заглушает малую. И поэтому он без особых колебаний отворил дверь в соседнюю комнату.
Комната была залита желтым солнечным светом. Будто и впрямь есть такая желтая, светящаяся краска, которая не высыхает ни на полу, ни на стенках, ни на книжной полке, ни даже на глобусе. Мальчик зажмурился — солнечная краска брызнула ему в глаза — и услышал металлический стук пишущей машинки. Это за окном звонкие капли тающих сосулек стучали по железному подоконнику.
Весенняя солнечная комната была совсем не похожа на ту, где сейчас лежал раненый боец. Комната, наверно, еще не знала, что произошло с ее хозяином, и у нее было отличное настроение. И календарь тоже не знал. На сегодняшнем листке было написано: «Партком в 4 часа».
Мальчик подошел к столу. Но, прежде чем выдвинуть средний ящик, он заметил учебник и две тетрадки. Это был учебник физики для шестого класса. А на тетрадках были написаны имя и фамилия владельца — «Сергей Бахтюков. 6 „А“». Это он, Сергей Бахтюков, сейчас отдыхает с мамой у бабушки в рязанском городе Сапожке.
Глаза мальчика недовольно сверкнули. Он отшвырнул тетрадки и осторожно открыл средний ящик стола.
Ящик был доверху набит бумагами, чертежами, фотографиями, а также множеством разных вещиц, не представляющих на первый взгляд никакой ценности. Чем, например, может привлечь курительная трубка, изогнутая, как знак вопроса, или старая цепочка от часов, или лезвие в пакетике, напоминающем фантик?
Разыскивая рецепт, мальчик старался не разглядывать эти чужие вещи, но они притягивали его, как магнит. Он взял в руки трубку. От нее пахло пожаром. Наверное, солдат курил эту трубку в последний раз на фронте у своей пушечки ПТО. Мальчик вдохнул в себя запах трубки и бережно положил ее обратно. Потом ему попалась фотография хозяина дома. Он был снят в военной форме и был молодой и худощавый. Может быть, это не хозяин, а его младший брат? С ямочкой на подбородке. Нет, это он сам. Вероятно, когда он снимался, в его груди еще не было никаких осколков от снаряда.
А потом в руки мальчику попалась алая коробочка. Стыдясь самого себя, он не удержался и открыл ее. В коробочке лежал орден. Самый настоящий орден Красного Знамени. Мальчик взял орден и положил его на ладонь. Орден был прохладный и тяжелый.
Мальчик подержал его в руках, и запонки, и перочинный ножик, и лезвия безопасной бритвы с надписью: «Нева». Ему никогда не приходилось встречать в таком количестве мужские вещи. Да откуда было им взяться, ведь в своем доме он был единственным мужчиной. Его тянуло к этим вещам. Он испытывал почти физическое удовольствие от прикосновения к ним.
Наконец рецепт нашелся. Он был очень старый. Вероятно, хозяин не пользовался им уже много лет. На маленьком пожелтевшем листке стоял лиловый штамп: «Санчасть, полевая почта 31497». Рецепт был написан рыжими чернилами. Казалось, что буквы когда-то сверкали и лишь от времени поржавели. Мальчик разобрал только первую строчку: «Старшине Л. Бахтюкову». Дальше шла непонятная латынь.
Мальчик бережно взял рецепт в руки и тихо задвинул ящик. Потом его взгляд скользнул по тетрадкам Сергея Бахтюкова 6 «А». Он почему-то сжал кулак и погрозил тетрадкам.
И вдруг мальчик почувствовал, что его тянет к человеку, который с осколком в груди лежит в соседней комнате. К большому бесстрашному мужчине, которому принадлежит боевой орден в красной коробочке, прокуренная солдатская трубка, пахнущая пожаром, и лезвие «Нева».
Почему этот большой, сильный человек беспомощно лежит на диване, а он, мальчишка, задиристый, но на деле не такой уж сильный, может бегать по улицам, смеяться и сбивать шапки у встречных шкетов?
5
Мокрый, тающий снег пахнет сыроежками. Он шуршит под ногами. Ему уже не белеть на крышах, на мостовой и на воротниках прохожих. Много месяцев будет он журчать в ручьях, петь в водопроводных трубах, дружить с кораблями. И только в декабре он вернется обратно, белый, нетронутый, без единого пятнышка.
Как он будет не похож на этот серый, истоптанный, тающий снег, который путается под ногами накануне своих волшебных превращений!
Мальчик не замечает запаха сыроежек. Он бежит. Спотыкается, перепрыгивает через лужи, соскакивает с тротуара на мостовую. Лыжные брючки, едва достающие до щиколоток, забрызганы. Шарф совсем размотался, пола коротенького пальто развевается: пуговицы-то не хватает.
Но кажется, что ему малы не только брюки, и пальто, и шапка. Нет, ему не впору тротуары и мостовые, улицы и площади. Весь город тесен ему. С тревогой, неожиданно обрушившейся на его плечи, он не вмещается в родной город.

Мальчик задевает на ходу прохожих, натыкается на фонарные столбы. Тесно! Навстречу несутся машины. Разве в городе нет для них других улиц!..
Окоченело левое ухо: шапка надета на правое. На болтающемся шнурке наросла целая сосулька. Но в замерзшей руке, как волшебная лампа Аладдина, зажат пузырек с лекарством.
И вот он, с трудом переводя дыхание, входит в дом и тихо затворяет за собой дверь. Человек лежит с закрытыми глазами.
«Уснул, — думает мальчик, — значит, отлежался. Вот и хорошо».
Он ставит пузырек с лекарством на стол и обветренной рукой неловко заматывает шарф вокруг шеи. Теперь он принадлежит самому себе. Можно уходить.
Он смотрит на спящего раненого бойца почти с любовью. И ему становится неловко перед самим собой за это непонятное чувство. Он не узнает самого себя… Встречаются мужчины, рядом с которыми любой мальчишка чувствует себя сыном. Их отцовская власть незаметно распространяется даже на тех, кто считает себя очень взрослым и самостоятельным.
Мальчик встретил такого человека, а теперь ему надо с ним расставаться.
А человек не открывает глаз. Он, видно, справился со своим осколочком и теперь крепко спит. И мальчику ничего не остается, как молча попрощаться с ним и уйти. Он идет на цыпочках, чтобы не заскрипели половицы. Он доходит до двери и свободной рукой тянется к замку. Замок не слушается его: он признает только своих.
И вдруг мальчик вздрагивает. Он слышит тихое, далекое слово «сынок». Это человек зовет его? Мальчик прислушивается. В квартире тихо. Только звонкие капли тающих сосулек стучат в подоконник. Никто его не зовет. Это только показалось.
Мальчик стоит перед дверью и думает о том, что сейчас он уйдет и никогда уже не увидит этого человека. Не ощутит на своей ладони холодную, торжественную тяжесть ордена Красного Знамени. Не вдохнет в себя таинственный запах старой трубки. Он медленно поворачивается и возвращается в комнату. Здесь все неподвижно, как в сонном царстве. Спят двери, спят лампочки, спят половицы. Уснули вместе с хозяином. Балансируя рукой, мальчик идет на цыпочках: боится, что половицы проснутся и заскрипят.
Он подходит к дивану. Человек по-прежнему лежит без движения, спит.
А вдруг он умер?!
Эта мысль ошеломляет мальчика. Забыв о предосторожности, он наклоняется к спящему. Он кладет ему руку на плечо и начинает легонько трясти. Раненый боец не открывает глаз. Может быть, позвать его? По фамилии, которая написана на старом военном рецепте. Он зовет:
— Бахтюков… Дяденька Бахтюков!
Раненый боец вздрагивает и открывает глаза. Значит, он жив. Но почему он молчит? Почему не спрашивает про лекарство? Почему глаза как-то неестественно закатываются и голова безжизненно падает на плечо?
Он жив, но он может умереть.
Что делать? Мальчик стоит рядом. Его глаза расширены. Надо действовать! И, если ты сам не знаешь как, позови на помощь!
Мальчик бросается к двери. Он будит все спящие половицы, и они скрипят, каждая на свой лад. Но он ничего не слышит. Он бежит. Сам еще не знает куда.
Мальчик перескакивает через две ступеньки. Звенят железные подковки, прибитые к каблукам, чтобы не стаптывались. Скорей! Скорей! Подковки высекают искры. Мальчик уже знает, что ему делать: надо звонить в «Скорую помощь».
6
Когда он вбежал в подъезд с синей табличкой «телефон-автомат», там у аппарата стояли две девочки. Одна из них — коротышка с круглым, как луна, лицом — держала трубку и, сложив ладошку рупором, быстро говорила в микрофон. Другая — длинная, с глазами навыкате — что-то нашептывала на ухо подруге и не переставая хихикала.
— Что он говорит? Что он говорит? — шептала она так громко, что подружке приходилось закрывать микрофон ладошкой, чтобы не пустить туда шепот.
— Он в кино приглашает, — сказала девочка-луна своей любопытной подружке.
Подружка опять захихикала и зашептала еще громче — чуть не закричала шепотом:
— А ты скажи: не пойдем! Скажи: не пойдем!
Она повторяла каждое слово дважды, словно боялась, что подружка-луна не поймет ее с первого раза.
Несколько секунд мальчик молча наблюдал за девочками. Он никак не мог отдышаться.
Наконец он пришел в себя.
— Кончайте! — сказал он сердито. — Мне в «Скорую помощь» звонить надо.
Подружки враждебно посмотрели на мальчишку в коротеньком пальто, и та, что хихикала и подсказывала шепотом, насмешливо сказала:
— Знаем мы, какую тебе «скорую помощь»! Небось на каток спешишь.
И тут мальчик заметил, что держит под мышкой коньки: они сегодня мешали ему на каждом шагу. Он подошел к девчонкам вплотную и громко приказал:
— А ну, кончайте!
— И не подумаем! — огрызнулась девочка-луна, прикрывая ладошкой микрофон. Потом на минуту оторвала ладошку и сказала в трубку: — К нам тут нахал пристает.
Зеленые глаза стали злыми и колючими. Там человек умирает, а эти девчонки смеются и кривляются. Мальчик резко оттолкнул пучеглазую и выхватил трубку из рук ее подруги. Девчонки от неожиданности взвизгнули и отбежали в сторону.
— Дурак! — крикнула одна.
— Нахал! — поддержала другая.
Мальчик прижал трубку к уху. Он услышал незнакомый мальчишеский голос:
— Так вы придете в кино? Чего же вы молчите?
Мальчику показалось, что этот голос доносился совсем из другого мира — беспечного и благополучного.
Он нажал рычаг, и тот, кто приглашал девчонок в кино, сразу замолчал.
Он набрал номер «03».
В трубке зазвучал молодой женский голос:
— «Скорая» слушает.
От неожиданности мальчик не знал, с чего начать. Он молчал. Голос нетерпеливо повторил:
— «Скорая» слушает. Что у вас?
— Тетенька, — заговорил мальчик, — человеку плохо.
— Фамилия? — бесстрастно спросил голос.
— Чья фамилия?
— Больного.
— Он не больной, он раненый.
— Где ранен?
— На фронте, под Орлом.
Наверное, там, в «Скорой помощи», так привыкли ко всяким необычностям, что даже не поинтересовались, при чем здесь Орел.
Нетерпеливый голос продолжал:
— Где находится пострадавший?
— Дома.
— Адрес?
Мальчик запнулся. Он не знал адреса. Он так и сказал:
— Я не знаю адреса.
— Так что же ты вызываешь «скорую помощь»? На деревню дедушке, что ли, ехать? Узнай адрес и перезвони.
В трубке раздались короткие гудки. «Скорая» повесила трубку. Мальчик тоже повесил трубку и оглянулся. Девчонок не было. Вероятно убедившись, что нахальный долговязый мальчишка сказал правду, они тихонько выскользнули из подъезда. Может быть, побежали к другому автомату?..
Мальчик вышел из подъезда. Он ненавидел себя за беспомощность, за то, что убегая, не посмотрел на номер дома раненого бойца. Да и названия переулка от тоже не знал толком: не то Гончарный, не то Дегтярный… Оставалось одно: бежать узнать адрес. Мальчик уже собрался рвануться с места, когда до него донесся далекий звук санитарной сирены.
7
По улицам мчалась «скорая помощь». Куда она спешила? К человеку, попавшему в беду? Или возвращалась на стоянку? Или она приняла сигнал бедствия и спешит на помощь раненому бойцу, даже не зная адреса?
Голос сирены нарастал. Он то взлетал под облака, то стремительно падал. Он звучал, как сигнал боевой тревоги.
А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо?
Надо остановить ее!
И мальчик решился. Он выбежал на середину мостовой и преградил путь «скорой помощи». Расстояние от летящей машины до мальчика было очень небольшим. Оно сокращалось с каждым мгновением. Сирена выла истошно. Она взлетела и больше не падала. Она нагоняла страх. Мальчик закрыл глаза, но не тронулся с места.
И вдруг сирена умолкла. Машина резко затормозила. На мостовой было скользко, и ее занесло в сторону.
Когда мальчик с коньками открыл глаза, машина «скорой помощи» стояла совсем близко, развернувшись поперек дороги. А из распахнутой дверки уже выскакивал бледный шофер в фуражке с блестящим козырьком.

Тяжело дыша от волнения, он побежал к мальчику и замахнулся, чтобы ударить его. Но сдержался и не ударил. Только заговорил часто и сбивчиво:
— Какого черта! Шантрапа!.. Жить надоело? Под машину лезешь! Герой!
Но мальчик был защищен от ругательств невидимой броней своего смятения. И обидные слова отскакивали от этой брони, как дробинки. Когда шоферу не хватило воздуха и он замолчал, чтобы сделать вдох, мальчик, не поднимая глаз, сказал:
— Человек умирает.
— Где? — спросил шофер. Он сразу остыл, почувствовал себя на своем посту.
— Я вам покажу, — ответил мальчик.
Шофер нахмурился. Когда работаешь в «Скорой помощи», готов ко всему. Но такого оборота дела он не ожидал.
Он полез в карман и достал оттуда пачку сигарет. Сунул одну в рот и чиркнул зажигалкой, зажатой в кулаке. Зажигалки не было видно, и казалось, что он извлек огонь из самого кулака.
— Идем к врачу, — сказал шофер, — он решит.
Когда мальчик и шофер подошли к машине, там уже начал собираться народ. Машина «скорой помощи», стоящая поперек мостовой, успела привлечь зевак. Они толпились у машины, спрашивая друг друга:
— В чем дело?
— Что случилось?
— Кого-нибудь задавили?
Но никто не лежал на мостовой, а к машине быстро шли шофер в фуражке с лакированным козырьком и долговязый мальчик с коньками под мышкой.
— Арсений Иванович, — сказал шофер, заглядывая в открытую дверку, — тут у малого с отцом плохо. А у нас вызовов нет. Поедем?
— Что с ним? — спросил из кабины басистый голос, обращаясь к мальчику. Мальчику хотелось сказать, что шофер ошибся, что раненый боец вовсе ему не отец, а чужой человек. Но сейчас не было времени для объяснений, И он, стараясь говорить понятней и убедительней, сказал:
— Лежит без сознания. Раненый он. Осколок зашевелился в груди.
— Поехали! — решительно сказал врач.
Мальчик и шофер забрались в кабину. Завыла сирена, разгоняя зевак. И, присев на задние колеса, как конь перед скачками, «скорая помощь» устремилась вперед.
8
Мальчик не знал, застанет он раненого бойца в живых или нет. Поэтому, открывая дверь, он чувствовал, что у него слабеют руки и ноги легонько дрожат в коленках. Всю дорогу он торопился, а сейчас вдруг замедлил шаги. Что, если Бахтюков не дождался его?..
Но медлить нельзя. За спиной стоят врач с чемоданчиком и два санитара с пустыми носилками. А внизу у подъезда дежурит машина «скорой помощи». Мальчик заходит в прихожую. За ним трое мужчин. Они здоровые, в белых халатах поверх пальто. От них сразу становится тесно в квартире.
Человек на диване по-прежнему бледен, глаза его закрыты. Жив он или нет?
От волнения мальчик сжимает в карманах кулаки. Врач берет Бахтюкова за руку. Он считает удары пульса, поглядывая на часы. Раз считает, — значит, пульс есть. Значит, Бахтюков жив. Хотя он не очень похож на живого. Врач засучивает рукав больного до самого плеча и берет в руки ампулу. Ампула похожа на маленькую сосульку. Врач щелкает сосульку по носу и ловким ударом отбивает стеклянный кончик. Потом опускает туда стальное жало шприца. Берет руку человека, лежащего без сознания, и прикидывает, куда бы вонзить иглу.
Мальчик упирается большими пальцами ног в носки ботинок.
Он вспоминает, как в школе ему делали прививку. Его тоже кололи шприцем. Было больно, но терпимо. В общем, пустяк. Но мальчику кажется, что Бахтюкову будет в сто раз больнее. Ведь ему и без укола плохо! Мальчик прижимает локти к бокам и зажмуривается. Игла впивается в руку.
Санитары поставили носилки в угол, а сами сидят на стульях у стола. Они большие и тяжелые. Взгляд у них безразличный. Они не наблюдают за действиями врача. Они заняты своими мыслями. Им все знакомо. От постоянной встречи со страданиями и несчастьем их сердца покрылись черствой корочкой. У них свои заботы.
— Лестница узкая, — говорит один санитар другому, — боюсь, носилки не пройдут.
— Пройдут, — отвечает другой, — пройдут. Приподнять немного придется.
— Больной-то тяжелый.
Мальчик слышит за спиной их спокойный разговор, и ему хочется сказать им что-нибудь обидное. Но он не поворачивается к ним. Он смотрит на Бахтюкова. И Бахтюков открывает глаза.
Он видит мальчика. Мальчик стоит перед ним, как стоял в ту минуту, когда он потерял сознание. Может быть, мальчик никуда не уходил? Так и простоял у его изголовья целую вечность, как бессменный часовой? Бахтюкову хочется улыбнуться этому долговязому, нескладному парнишке. Но вместо улыбки получается болезненная гримаса: очень больно. Он замечает врача и санитаров. Он все понимает.
— Что будем делать? — спрашивает он врача.
И врач, убирая шприц, отвечает:
— Поедем в больницу.
Бахтюков молчит, потом покорно кивает головой. Взгляд его становится озабоченным. С застенчивой улыбкой он просит мальчика:
— Сынок, будь другом, отправь телеграмму моим в Сапожок.
— Хорошо. Отправлю, — сразу соглашается мальчик.
И ему почему-то становится обидно, что человек сейчас думает о своем Сережке Бахтюкове. А этот самый Сережка небось гоняет с ребятами на лыжах…
— Принеси мне бумагу и карандаш.
Мальчик идет в соседнюю комнату. Календарный листок все еще зовет Бахтюкова к четырем часам на партком… На столе лежат две тетрадки Сережи Бахтюкова из 6 «А». Мальчик берет первую попавшуюся и небрежно открывает ее. Это тетрадь по литературе. В ней написано сочинение. Большими аккуратными буквами выведено заглавие: «Как я провел лето». Ни кляксы, ни помарочки. «Чистюля!» — презрительно думает мальчик и читает первые строки: — «Лето я провел в городе Сапожке у бабушки. Это маленький город. В нем много зелени…»
Мальчик вырывает листок из тетради. Вырывает неровно, наискосок, — пусть хозяин обязательно заметит, что лист вырван.
Бахтюкову трудно писать. Буквы получаются кривые, будто им тоже плохо и они не держатся на ногах. Он пишет телеграмму в Сапожок, а врач делает запись в свою книжечку. Врач ставит точку, и санитары, как по команде, встают из-за стола. Они ставят носилки на пол. В боевое положение.
Мальчик смотрит на Бахтюкова. И вдруг он думает о том, каким бы он был счастливым человеком, если бы Бахтюков писал эту телеграмму ему, а не Сереже. Он смотрит на него с грустью. Он понимает, что сейчас-то они расстанутся навсегда. Бахтюков пишет долго. А мальчику хочется, чтобы он писал еще дольше. Чтобы он никогда не кончил писать эту телеграмму.
— Вот, — говорит Бахтюков и протягивает мальчику листок и деньги. — Сделай это, сынок. И вообще спасибо тебе.
Санитары кладут больного на носилки. Мальчик отходит в сторону. Если бы он мог, он сделал бы это один. И сделал бы хорошо. А санитары так трясут Бахтюкова…
Он стоит и не дышит. Ему начинает казаться, что все это не на самом деле. Показывают в кино, а он зритель. Он по другую сторону экрана. У него под мышкой коньки «английский спорт», а здесь, в комнате, носилки, белые халаты, запах лекарства и человек — большой, хороший, близкий человек — в опасности.
Санитары берутся за ручки носилок.
— Взяли? — спрашивает передний.
— Взяли! — командует задний.
И носилки отрываются от пола.
Они плывут по комнате, по темному коридору. Мимо комнаты, залитой желтой солнечной краской. В замочную скважину протиснулся один луч солнца. Он прямой и светлый. В нем, как маленькие живые существа, кружатся пылинки. Когда носилки проплывают мимо, солнечный луч касается щеки раненого бойца. Он прощается с хозяином дома.
На улице мальчик говорит Бахтюкову:
— До свиданья.
— Ты еще здесь? — отзывается раненый боец, и его глубокие большие глаза встречаются с зелеными глазами мальчика, полными печали.
Взвыла сирена. Машина забуксовала, вздрогнула, потом оторвалась и покатила.
А мальчик стоял и смотрел ей вслед, держа в руке неотправленную телеграмму.
9
Что толку в коньках, когда они бессмысленно торчат под мышкой! Будь они на ногах, можно было бы мчаться, сокращая время и расстояние. Но в городе на коньках не очень-то разъедешься. Лед сколот или посыпан песком. А в Голландии все пешеходы надевают зимой коньки. Там даже старушки катаются на коньках. Но там вместо улиц — каналы, покрытые гладким синеватым льдом.
Коньки помогают, когда они на ногах, а когда их приходится нести под мышкой, то они только мешают.
Опять мальчик спешит. Телеграмму нужно отправить поскорее. Ведь в телеграмме Бахтюков, наверно, зовет жену и сына, этого противного Сережку, который пишет сочинения каллиграфическим почерком, без единой помарки. Черт с ним! Раз Бахтюков хочет, пусть приезжает Сережка.
Одному уху все время тепло, оно под шапкой, а другое совсем замерзло. Но в спешке все некогда передвинуть шапку.
Зато на почте тепло. Здесь пахнет красным сургучом, тягучим клеем и еще каким-то неповторимым почтовым духом. За барьером в глубине стучит телеграфный аппарат. Его звук напоминает капель. Может быть, это тающие сосульки проникли за дверь, на которой висит строгая, как приказ, табличка: «Посторонним вход воспрещен!»
На почте мальчику сразу стало жарко. Он расстегнул пальто и размотал зеленый шарф. В распахнутом пальто он стал походить на галчонка с подбитым крылом. Он подошел к окошечку, где принимают телеграммы, и протянул листок.
— Это что за каракули? — рассердилась девушка в окошке. — Что ты, получше написать не мог? Не маленький! На бланк — перепиши.
Мальчик покраснел от неловкости, но не стал объяснять, что телеграмму писал не он, а раненый, у которого едва хватило сил удержать в пальцах карандаш.
Посреди почтового зала стояла конторка, похожая на деревянный гриб. Мальчик прислонил коньки к ножке гриба, а телеграфный бланк положил на шляпку. Не торопясь, стараясь уместить буквы в строке, он вывел адрес. Мальчик старался писать как можно аккуратнее, но почерк у него был нескладный, а буквы получались очень вытянутыми, им были малы строчки телеграфного бланка.
Когда адрес был написан, мальчик тяжело вздохнул — нелегкая эта работа — и стал писать текст.
«Заболел, — писал он, — ложусь больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».
Только теперь, когда телеграмма была написана, до сознания мальчика дошел ее смысл. Нет, Бахтюков никого не звал. Он просто сообщал о случившемся. Сердитые зеленые огоньки зажглись в глазах мальчика. Выходит, он для того бежал на почту, чтобы сообщить Сережке Бахтюкову, что он может спокойно отдыхать, в то время как отец его лежит в больнице и жизнь его в опасности?! Мальчику захотелось порвать телеграмму. Написать новую, свою. В этой телеграмме он на все деньги отругал бы этого Сережку. Он бы высказал ему все, что о нем думает… Но он не сделал этого.
Когда телеграмма была написана, у окошечка уже образовалась очередь. Мальчик молча стал в очередь.
Плечи у мальчика опущены. А взгляд зеленых глаз усталый, растерянный. Одна рука держит коньки, а другая свободна. Она болтается просто так, а когда хозяин спотыкается, помогает ему держаться на ногах. Наконец она замерзла, и мальчик сунул ее в карман.
Пальцы нащупали какую-то бумажку. Ах, да, это листок из тетради, который не приняли на почте. Мальчик вынимает листок и перечитывает слова, составленные из букв, которые еле стоят на ногах: «Заболел. Ложусь больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».
Отец… Это слово мальчик произносит вслух. Он никогда в жизни не произносил этого слова, и ему хочется знать, как оно звучит. Он не узнает собственного голоса. Ему кажется, что кто-то другой произносит это слово.
Мальчик представляет себе, как произносит слово «отец» Сережка Бахтюков. Ему даже чудится, что он слышит его голос. Мальчик морщится, как музыкант от фальшивой ноты.
И вдруг ему начинает казаться, что ни Сережка, ни его мать не поедут к отцу. Они не покинут раньше срока город Сапожок и не примчатся к человеку, который сейчас страдает в больнице. К человеку, которого зовут «отец».
Он представил себе Бахтюкова одного на больничной койке. И почувствовал, как уголки глаз начинает щипать горькая накапливающаяся слеза.
А что, если сходить в больницу? Просто так узнать, как здоровье больного Л. Бахтюкова. Передать привет и уйти. Все человек не будет себя чувствовать таким одиноким.
Да и на каток ему совсем неохота идти. Нет настроения. На каток можно сходить и завтра. Спешить некуда.
Когда людей в трудную минуту не зовут на помощь, а советуют им спокойно отдыхать, спешить не обязательно. Разве это не так?
10
Мальчик сходит со ступенек почты. Он никуда теперь не спешит. Он держит коньки не под мышкой, а в руке. Блестящий полоз холодит руку, но сейчас это не страшно: в городе потеплело, хотя солнце клонится на закат, земля подставляет под его лучи свой продрогший зимний бочок. Греется.
Сосульки сбились со счета, и теперь их прозрачные капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулеметную очередь. Это весна бьет из своего веселого пулемета по льдинам и снегам, по вьюгам и морозам.
Мальчик оглядывается вокруг и замечает, что снежный наст в городском сквере осел и напоминает поверхность луны. На его шероховатой, кремнистой корочке виднеются маленькие лунные цирки. И пусть не скоро распустятся почки и прорастет трава, — на еловых лапах, на самых кончиках, уже появилась свежая зелень. Темные прошлогодние иголки жесткие, а новые весенние иголочки еще не окрепли, не научились колоться. Дотронься до них щекой — почувствуешь, какие они нежные.
Мальчик с коньками идет по городу…

Вот уж действительно человек, не следящий за своей внешностью! Даже мысль о встрече с девочкой в белой шапке не может заставить его привести себя в порядок. Интересно, заметила она, что его не было на катке? Или он ей совсем безразличен, как и все остальные шкеты?
Мальчик перешел на другую сторону и, незаметно для себя ускоряя шаги, направился в городскую больницу.
11
У каждого дома есть свой запах, даже если дом нежилой. У почты — почтовый запах, у булочной — хлебный, у больницы — лекарственный.
Почтовый запах рассказывает о посылках и бандеролях, о свежих газетах и заморских марках, отмеченных черными радугами печатей. Запах булочной рассказывает о поджаристых корочках, о бубликах, усыпанных черными дробинками мака, о булочках, залитых сладкой глазурью.
Больничный запах не рассказывает ни о чем хорошем. Он встречает человека на пороге и сразу отравляет ему настроение рассказом о боли и страданиях.
Этот запах встретил мальчика за дверью с надписью: «Приемный покой».
В приемном покое стояла торжественная тишина. Собственно, не сам приемный покой, а лишь коридор перед ним. На скользком кафельном
полу стоял белый деревянный диван. И больше ничего здесь не было.
Мальчик сделал несколько неуверенных шагов и очутился перед стеклянной дверью. Дверь была приоткрыта. Мальчик заглянул туда и сразу встретился взглядом с дежурным врачом. Врач был в белой шапочке и с большой черной бородой. Рукава халата закатаны до локтей. Вид у врача был строгий и, как показалось мальчику, немного свирепый. Заметив посетителя, врач смерил его строгим взглядом и вышел в коридор. Он подошел к мальчику и задал ему самый неожиданный вопрос:
— Что это у тебя, «английский спорт»? Дай-ка сюда.
Удивленный мальчик протянул доктору коньки. Тот взял их в руки и попробовал лезвие ногтем: острые они или нет. Врач рассматривал коньки, а мальчик не отрывал глаз от врача. Доктор был молодой. У него не было ни единой морщинки, а щеки были такие румяные, будто их обладатель только что пришел с катка. Мальчик сделал это открытие, и ему сразу стало легче. Он сказал:
— К вам привезли больного. Его зовут Л. Бахтюков. Как его состояние?
Врач протянул мальчику коньки и почесал бородку.
— Бахтюков? — повторил он. — С осколком?
— Да, да, — подхватил мальчик, — его привезли на «скорой помощи».
— К нам всех на «скорой помощи» привозят, — сказал врач.
Мальчик промолчал.
— Случай тяжелый. — Голос врача сразу стал теплее, а от строгости не осталось и следа. — Я сейчас узнаю, как дела. А ты посиди здесь на диване. — И доверительно добавил: — Вообще-то здесь не положено быть посторонним. Но случай тяжелый.
Доктор скрылся в своем приемном покое, а мальчик сел на диван. Он сел и сразу почувствовал во всем теле такую слабость, что зажмурил глаза. Ему даже показалось, что он уже ни за что не сможет подняться на ноги.
Он слышал, как за стеклянной дверью молодой бородатый доктор звонил по телефону, как он расспрашивал о Бахтюкове, как называл себя доктором Коном из приемного покоя.
Через некоторое время он снова появился в дверях. Он испытующе посмотрел на мальчика и сказал:
— Вот что. Сейчас отца будут оперировать. Будешь ждать?
— Буду!
Доктор одобрительно кивнул ему головой и скрылся за дверью.
12
Есть люди, созданные для сидения на месте. Их девиз: в ногах правды нет. И есть непоседы. Они ерзают на стуле, с трудом досиживают до конца урока и, стоя в очереди, испытывают ни с чем не сравнимые муки. Из таких людей вырастают путешественники и строители, разведчики и почтальоны. У них правда в ногах, в движении, в смене впечатлений.
Мальчик с коньками принадлежал к такой породе людей.
Почему же сейчас, в приемном покое городской больницы, он сидит смирно, не ерзает? Не болтает ногой и не барабанит пальцами по белому больничному дивану? Но это вовсе не значит, что он спокоен.
Его мысли мечутся. Как проходит операция? Больно Бахтюкову или на него действует наркоз?.. Наверное, все-таки больно.
Мысли переносят мальчика в операционную. Он представляет на операционном столе себя. Он старается причинить себе боль… Для этого он вспоминает, как однажды летом наступил босой ногой на гвоздь. Гвоздь вошел глубоко. Сначала было не очень больно. Потом ранку обожгли йодом. От боли он прыгал на одной ноге. Потом боль стала тупой и долгой…
Мальчик почти физически ощутил эту боль. Он даже пошевелил ногой в ботинке.
Но Бахтюкову, конечно, еще больнее.

И вдруг мальчик мысленно очутился возле города с гордым названием Орел. Он видит степь с птичьего полета. Сверху огневые позиции противотанковых орудий похожи на кротовые норки: вокруг насыпь из свежей земли. А фашистские танки, которые ползут по степи, похожи на желтых черепах. Черепахи медленно приближаются к кротовым норкам.
Он видит, как над кротовыми норками замелькали вспышки. Это ПТО открыли огонь по танкам. Вот один танк остановился. Из него повалил густой черный дым. Этот дым разрастается. Он ползет по траве, застилает черепах и кротовые норки. Уже не видно, что делается на земле. Только в дыму сверкают вспышки ПТО, как в туче отблески молний.
Мальчику кажется, что он идет по земле, разгребая дым руками. Дым густой, как вода, он мешает идти. Земля черная. Она пахнет пожаром, как старая солдатская трубка в письменном столе Бахтюкова.
Вот пушка Бахтюкова… А вот сам Бахтюков. Худой, похожий на младшего брата нынешнего Бахтюкова. На нем гимнастерка с расстегнутым воротом… Пушка ПТО стреляет. После каждого выстрела она приседает, а ствол откатывается назад, будто хочет спрятаться, но потом раздумывает и возвращается обратно. А Бахтюков кричит: «Огонь! Огонь!»
И, чем громче кричит Бахтюков, тем сильнее стреляет пушка.
«Огонь!» — кричит Бахтюков, и пламя срывается с губ Бахтюкова. И переносится на танк. И танк горит.
Но следующий танк успевает выстрелить. Бахтюков падает. Пушка опрокидывается. Колеса беспомощно вращаются.
…Бахтюков лежит в траве. Он бледный, с непокрытой головой. На белых бурках кровь… Да нет, не на бурках — на сапогах…
Бахтюков большой и тяжелый, но мальчик несет его на руках… Он прикрывает его собой от осколков фашистских «фердинандов».
Сердце стучит громко. На весь приемный покой. Нет покоя в приемном покое.
Сюда привозят больных, измученных людей. Здесь тревожатся о своих близких. В насмешку, что ли, назвали это место «покоем»?
Мальчик ждет. Он сидит на месте. Но мысли его неспокойны. Нет для него сейчас ни катка, ни города, ни дома. Есть только раненый боец. Он командует мыслями мальчика, и мысли подчиняются одному ему.
13
Оказывается, мысли тоже устают. Они замедляют ход. Перестают метаться. Но они не дремлют. Они ждут.
Мальчик устало прислонил голову к стене. Его глаза смотрят в одну точку. Они уже не видят ни окопа ПТО, ни фашистских танков.
— Кто от Бахтюкова?
Мальчик вздрагивает и вскакивает с дивана:
— Я!
Перед ним пожилая медицинская сестра. Она такая полная, будто надела халат поверх шубы, как санитары «скорой помощи».
— Ты? — произносит сестра густым, почти мужским голосом.
Она говорит степенно, с расстановкой, будто читает по бумажке.
— Операция была тяжелая. Больной потерял много крови. Но все обошлось благополучно. — И вдруг по-бабьи жалостливо смотрит на мальчика и говорит совсем другим, женским голосом: — Ты не волнуйся. Будет жить отец. Организм у него могучий.
— А скоро он поправится? — спрашивает мальчик.
— До зеленых листиков полежит, — говорит сестра. — Теперь беги домой. Скажи матери, чтобы не волновалась… А это тебе на память. — Сестра протянула мальчику маленький кусок ржавого железа.
— Что это? — Мальчик вопросительно поднял глаза на сестру.
— Осколок.
Это был тот самый осколок, который через много лет после конца войны вдруг ожил и пытался сделать то, что ему не удалось там, в степи под Орлом: поразить сердце бойца.
— У самого сердца отыскался, — пояснила сестра и, спохватившись, заторопилась: — Ну, мне пора. Передать что-нибудь отцу?
Мальчик задумался. Что передают сыновья больным отцам?
— Передайте, что дома все в порядке. Целуют его… все. И пусть скорее поправляется.
Слова показались ему сухими, но других слов мальчик не знал.
Он сжал в кулаке осколок и почувствовал боль: у осколка были острые края.
Сестра ушла. Она ушла туда, где в тихой палате весь в бинтах лежал бывший старшина Бахтюков. Он лежал с открытыми глазами и скрипел зубами от боли.
Сестра подошла к нему, поправила подушку и, как бы невзначай, сказала:
— Какой у вас хороший сынок!
— Сынок? — Бахтюков, забыв про боль, слабо улыбнулся.
— Он всю операцию в приемном покое просидел. Волновался.
— Сынок, — прошептал Бахтюков и почувствовал, что боль стала слабее.
Значит, телеграмма пришла вовремя. Значит, сын, узнав о его болезни, не пожелал отдыхать, а примчался в родной город!..
Человеку было невдомек, что никакая телеграмма-молния не могла так быстро дойти до далекого города Сапожка и тем более привезти ему сына.
14
В городе стемнело. Уже не видно лунных цирков на корочке осевшего снега. Уже на елочках нельзя различить молодые, нежные иголки от старых, колючих и жестких. Уже скрылись из глаз скользкие серебристые сосульки. Но, хотя земля повернулась к солнцу другим бочком, в городе тепло и невидимые сосульки продолжают таять.
По городу идет мальчик с коньками под мышкой.
В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернильное фиолетовое пятно. И не видно, что он вырос из пальтишка и из лыжных брюк. Все ему коротко, все не по росту. Но кто виноват, что мальчики так быстро растут?
На каком ухе сидит старенькая шапка? Не все ли равно! Когда весна своим теплом, влажным дыханием касается лица, это не имеет значения: уши не мерзнут. И только ботинки, набегавшиеся за день по лужам, промокли, и ногам холодно.
Мальчик думает о высоком, крупном человеке в меховой куртке, сделанной из шкуры черного зверя, и о боевом ордене, и о прокуренной трубке, и о рецепте, выданном санчастью с номером полевой почты. Он думает о человеке, которого ему недоставало всю жизнь. И теперь этот человек нашелся, но он принадлежит не ему…
На месте Сережи мальчик бросил бы все на свете и примчался к отцу… Нет, он бы вовсе не уезжал от отца ни к какой бабушке, ни в какой Сапожок. Он бы всегда был рядом с ним, чтобы в любую минуту прийти на помощь.
Мальчик не замечает, как справа от него вырастает забор стадиона. На катке уже не звучит музыка, не горят веселые лампочки и не слышно зазывного шороха, который издают коньки, разрезающие лед.
Под единственной лампочкой на воротах висело объявление:
«Ввиду теплой погоды каток закрыт».
Мальчик сжал кулак и почувствовал боль. В руке был зажат осколок, который мог вонзиться в сердце Бахтюкова. Мальчик сжал кулак крепче, и ему стало еще больней.
И вдруг мальчик обрадовался. Он может терпеть боль, и ему наплевать, что каток закрыт. И он смеется над счастливчиком Сережкой, хотя у того есть отец. И человек, назвавший его сынком, будет жить и поправится до зеленых листиков. И хотя ноги мерзнут, это хорошо, — значит, в городе много луж, значит, весна спешит и скоро появятся эти самые зеленые листики.
Мальчик расстегнул свое коротенькое пальто, переложил коньки в другую руку и зашагал домой.
РАССКАЗЫ
СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА


сли твоя фамилия Малявкин и товарищи зовут тебя Малявкой, то еще можно пережить. Тем более, что зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудачная. С такой фамилией самого лучшего человека на свете будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве величали этим потешным и немного обидным именем. Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена звали Малявкой. Ну и что из этого! Вот если тебя к тому же считают конченым человеком и если рядом с твоей неудачной фамилией поставили большой жирный минус, тогда плохи твои дела.
…Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил:
— Это тебе повезло.
А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался:
— Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!
— Так я не виноват… — пробовал было возразить Малявкин-сын.
— Ты всегда не виноват! — обрубал Малявкин-отец.
Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына — что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил.
От обиды лицо мальчика покрывалось красными пятнами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он провалился в прорубь, хочет вскарабкаться на льдинку, но руки скользят. И никто не желает помочь ему…
Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был большой, а у Зои Назаровны не хватило времени толком разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась, поразмыслила и в уме поставила перед каждым из них плюс или минус. Малявкину достался минус.
Она поставила этот минус в уме, для служебного пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, словно минус был выведен в журнале против его фамилии. И его нельзя было ни стереть, ни исправить.
Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не поворачиваясь от доски, говорила через плечо:
— Малявкин и компания, тише!
Она называла его фамилию при каждом удобном случае, даже если он в этот момент сидел набрав в рот воды. Она считала, что Малявкин все делает ей назло. А Малявкин просто не мог спокойно сидеть на месте. Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая беспрестанно поворачивала его голову, заставляя ерзать, приводила в движение руки. У этой пружинки никогда не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и старался изо всех сил удержать ее. Но стоило только забыться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова приводила в движение голову, руки, язык.
Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с Малявкиным.
— Ничем ты не интересуешься, — говорила она, и кончики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул их за ниточки. — Ребята марки собирают, делают гербарии… Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал!
Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое Назаровне, что белые облака нельзя засушить, как кленовые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые марки. А Малявкин интересовался облаками.
Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой подбородок и долго-долго следил за облаками, которые обязательно на что-то похожи. На слона, на верблюда или на снежные горы. Конечно, облако не может долго быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытягивает шею, что она наконец обрывается. И вот уже нет верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти. Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Назаровне?
Если люди махнули на тебя рукой и не хотят разобраться в тебе, потому что кто-то поставил перед твоей фамилией минус, то у тебя есть два выхода: или самому махнуть на себя рукой, или любыми усилиями зачеркнуть несправедливый минус.
В глубине души он не очень-то рассчитывал, что с помощью учебников и тетрадей ему удастся избавиться от минуса. Он надеялся на другое средство. И когда однажды старшая вожатая объявила, что после уроков все пионеры отправляются собирать бумажную макулатуру, Малявкин почувствовал — судьба посылает ему случай доказать, что он не такой уж пропащий человек.
— Стране нужна бумага! — сказала старшая вожатая.
«Очень хорошо, что стране нужна бумага. Прекрасно, что стране нужна бумага! Тем более, что ты можешь найти сколько угодно сырья для нужной стране бумаги».
Так думал Малявкин, не переставая крутить кончики галстука. Он свернул их сначала в трубочку, потом превратил в спирали, а когда наконец оставил в покое, они повисли, как две красные сосульки. Он не слышал голосов учителей. В его груди звучали и пели на все лады зазывные слова вожатой:
«Стране нужна бумага!»
После уроков все ребята вышли на школьный двор. Здесь каждому выдали сетку, похожую на рыболовную снасть. Эти сетки нужно было забросить в сотни квартир и учреждений и вытянуть их обратно на школьный двор с богатым уловом бумажной макулатуры.
Малявкин перекинул свою сеть через плечо и быстро зашагал к воротам. Было тепло, и на деревьях раскрывались почки. Из клейких золотистых чешуек выглядывали зеленые язычки листьев. И с земли казалось, что деревья покрыты зелеными многоточиями. Мягкий, подобревший ветер весны сквозил по улицам. А высоко в небе он упирался в белые паруса облаков, и они плыли, меняя на ходу очертания.
На пути мальчику попался газетный киоск. Все четыре стены киоска были из стекла, и со стороны газетный домик был похож на большой старинный фонарь. В центре фонаря, на месте фитиля, находился киоскер: беловолосый и красноносый старичок. На носу у него сидели большие очки. Когда он разговаривал, то смотрел поверх очков. Очки только мешали ему.
Малявкин подошел к стеклянному домику и неуверенно спросил у киоскера:
— У вас есть старые, ненужные газеты?
— Есть, — ответил киоскер.
— Можно их забрать?
— А ты думаешь, что старые газеты ничего не стоят?
— Разве старые газеты тоже стоят? — удивился Малявкин.
— Стоят. По две копейки, — ответил старичок, и глаза его так выкатились, словно собирались перемахнуть через очки. — А тебе зачем газеты? Для оклейки или для упаковки?
— Мне для макулатуры, — отозвался Малявкин.
— Для макулатуры, — повторил киоскер. — Вот оно что!
Лицо старичка засияло — зажегся фитилек. Он посмотрел на мальчика и вдруг подмигнул ему:
— Подойди-ка к двери.
Мальчик не заставил себя ждать. В два прыжка он очутился у двери киоска. Старичок приоткрыл стеклянную дверь и спросил:
— Тара у тебя есть?
Мальчик замялся. Тары у него не было. Может быть, старичок ничего не даст ему, раз нет тары? Но хозяин киоска осмотрел его с головы до ног и, обнаружив на его плече сеть, кивнул на нее:
— Подставляй сетку.
Сетка и была тарой.
Малявкин быстро стянул с плеча сетку и протянул ее старичку. И тут хозяин стеклянного газетного домика стал выгребать откуда-то куски картона, и бумажные обрезки, и мятые газеты, которые ничего не стоили, и оберточную бумагу, отслужившую свой век. Он энергично засовывал все это богатство в сетку. Не прошло и пяти минут, как сетка наполнилась до краев. Мальчик приподнял ее, и оказалось, что улов кое-чего весит. Тяжесть радовала его. Он с благодарностью посмотрел на старичка-фитилька и сказал:
— Спасибо вам. Стране нужна бумага.
На школьный двор Малявкин пришел первым. От быстрой ходьбы он тяжело дышал. Фуражка с острым козырьком, похожим на грачиный клюв, съехала набок. Глаза весело блестели. А за спиной белела макулатура, разлинованная сеткой в крупную клеточку.
Старшая вожатая и два старшеклассника-комсомольца сидели на скамейке перед школой и поджидали сборщиков макулатуры.
— Вот, — сказал Малявкин, сваливая к их ногам тяжелую ношу. — Вот, принес.
— Молодец! — сказала старшая вожатая. — Как твоя фамилия?

В эту минуту Малявкин дорого бы отдал за красивую фамилию. Ему сейчас очень нужна была звучная, гордая фамилия. Но где он мог раздобыть ее, если его отец и даже дед были Малявкиными?
Вожатая ждала ответа.
— Малявкин, — тихо сказал мальчик.
Он сказал тихо, но два старшеклассника переглянулись, и мальчик заметил на их лицах усмешку.
— Запиши, Саша, его фамилию, — сказала старшая вожатая. — А ты, Малявкин, свободен.
— Свободен? — спросил мальчик. — А разве больше не нужно макулатуры?
— Ты свою норму выполнил.
— А можно, я еще принесу? — Он неуверенно посмотрел на вожатую.
Вожатая пожала плечами.
— Если тебе нравится.
— Нравится, — признался мальчик и, подхватив пустую сетку, побежал, словно боялся, что вожатая раздумает и не разрешит ему идти за второй нормой.
Теперь Малявкин знал, где находится месторождение макулатуры. Он напал на золотую жилу! От киоска к киоску шагал он с сеткой за плечами. Он уже не интересовался старыми газетами, которые, как новые, стоят две копейки. Он показывал хозяевам стеклянного домика сетку — тара есть! — и спрашивал:
— Нет ли у вас бумажных обрезков, старого картона, бракованных газет?
Макулатура находилась. Безотказная пружинка, которая так мешала ему на уроках, теперь работала с пользой. Скорей, скорей, скорей! Стране нужна бумага! Очень хорошо, что стране нужна бумага! Значит, ты тоже нужен стране, если ты добываешь сырье для бумаги.
Во дворе около школы выросла большая белая гора. Ее наносили ребята. Бумажная гора напоминала Малявкину прохладное облако, которое сделало вынужденную посадку под окнами школы. Ветер трепал полоски легкой бумаги, и казалось, что облако живое, что оно меняет свои очертания, как и подобает настоящему облаку.
Когда он в четвертый раз собрался было в поход, вожатая остановила его:
— Хватит, Малявкин. Ты и так больше всех принес. Мы о тебе в стенгазете напишем.
Малявкин опустил глаза. Зачем писать о нем в стенгазете? Пусть лучше Зоя Назаровна сотрет свой минус и пусть перестанет считать его пропащим человеком, раз он на что-то способен. Но как все это объяснить старшей вожатой?
Домой он пришел поздно. Он чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что его минус погребен под большой бумажной горой. И теперь начнется новая жизнь.
Мигом вбежал он по лестнице.
— Ты что так поздно? — поинтересовалась мама.
— Мама, — ответил мальчик, и голос его звучал возбужденно и торжественно, — мама, я собирал макулатуру. Я три полные сетки…
Мама даже не дослушала его. Она сказала:
— Всякой ерундой занимаешься! Лучше бы уроки учил.
От неожиданности мальчик запнулся.
— Мама, стране нужна бумага, — сказал он упавшим голосом.
Но мама его уже не слушала. Она пошла разогревать обед.
Каждый день по дороге в школу Малявкин останавливался перед бумажной горой. Когда было ветрено, обрывки бумаги носились по двору. Они шуршали на асфальте и плыли по лужам, как белые кораблики.
Хотя стране нужна была бумага, никто не торопился забрать драгоценную макулатуру. И надо признаться, что белая гора постепенно таяла, словно была из снега, а дни стояли теплые.
Не раз сильный ветер поднимал самый настоящий бумажный смерч. Листки бумаги стучали в окна классов, словно хотели напомнить ребятам о своем существовании. А одна бумажная полоска прилипла к стеклу и билась от ветра, как маленький тревожный флажок, подающий сигнал бедствия.
Пошел дождь. Он мочил бумажную гору. И Малявкин переживал за нее. Это была его маленькая слава. Она помогла ему сохранить веру в самого себя. На большой перемене он выбежал во двор, отыскал где-то кусок толя и накрыл им макулатуру. Теперь она уже не была похожа на белое приземлившееся облако. Листки бумаги слиплись и потемнели.
На уроке Малявкин поднял руку.
— Что у тебя, Малявкин? — спросила Зоя Назаровна.
Мальчик поднялся. Он спросил:
— А когда из макулатуры будут делать бумагу?
Зоя Назаровна пожала плечами, и невидимые ниточки медленно потянули вниз уголки ее губ.
— Когда придет время, тогда и будут делать… бумагу, — сказала она, растягивая слова; все, что относилось к Малявкину, она считала несерьезным и вздорным.
Однажды после шестого урока он сбежал со ступенек школьного крыльца и увидел, что истопник и завхоз берут охапки макулатуры и уносят ее в котельную.
«Наверное, решили спрятать ее», — подумал мальчик и проскользнул в дверь. То, что он увидел, поразило его. Он почувствовал, что на лице выступили красные пятна.
Охапки белой бумаги бросали в топку. Как белые облака, уплывали они навстречу огню. Пламя сразу обжигало их. Облака чернели и коробились, ветер подхватывал их, и они, легкие и хрустящие, уносились в трубу.
Мальчик подумал, что черные облака вылетают наружу и плывут над городом. И что сейчас все небо в черных, обугленных облаках.
Из оцепенения его вывел голос завхоза:
— Чего стоишь, Малявкин? Помогай!
— Это нельзя жечь, — почти крикнул мальчик. — Это макулатура!
— Тебя забыли спросить, — поморщился завхоз. — Ну-ка, посторонись!
Мальчик продолжал стоять на месте. Глядя в раскрасневшееся от жары лицо завхоза, он крикнул:
— Стране нужна бумага! Не жгите!
— А ну, иди отсюда! — грубо сказал завхоз. — Малявка!
Его все называли Малявкой. Но никто не хотел обидеть его этим словом. Зато сейчас привычная кличка прозвучала оскорбительно и зло. Слезы блеснули в его глазах. Но ему стало стыдно своих слез, и он быстро размазал их по скулам.
Он кинулся в школу. Он бегал по этажам и все искал, кто бы мог вступиться за макулатуру. В пионерской комнате никого не было. В учебной части тоже.
В одном из коридоров он столкнулся с Зоей Назаровной.
— Ты что носишься как оглашенный? — спросила учительница.
— Зоя Назаровна, — сказал мальчик, прерывисто дыша, — Зоя Назаровна, они жгут макулатуру.
Ему казалось, что Зоя Назаровна немедленно побежит в котельную и будет спасать горящие белые облака. Но Зоя Назаровна спокойным голосом сказала:
— Так ведь пожара нет. Жгут не школу, а макулатуру.
Нет, это, конечно, не пожар. А может быть, и пожар. Когда горит добро, горит твой труд, твоя надежда — это пожар!
— Иди домой, — сказала Зоя Назаровна и подтолкнула его к двери.
Он шел по улице, глядя себе под ноги. Ему казалось, что если он поднимет глаза, то увидит, как там, в голубом апрельском небе, плывут черные, обуглившиеся облака. Он даже почувствовал горьковатый запах гари.
Когда он проходил мимо газетных киосков, то отворачивался. Ему было стыдно смотреть в глаза старичков и старушек, похожих на фитильки больших фонарей. «Никакой новой жизни не будет», — думал мальчик. Все его надежды уплыли вместе с черными облаками.
И вдруг кто-то окликнул его:
— Коля!
Малявкин вздрогнул от неожиданности и остановился. Его обычно звали Малявкиным или Малявкой. Может быть, это зовут не его, а другого Колю? Он поднял глаза и увидел Зою Назаровну. Для учительницы эта встреча тоже была неожиданной. Она смотрела на мальчика и молчала. Она почему-то не знала, что сказать ему, и вид у нее был растерянный. И Зоя Назаровна показалась Малявкину большой девочкой, которую вызвали к доске, а она не знает урока. Он никогда не видел ее такой. И ему нравилась такая Зоя Назаровна.
А потом он поднял глаза и посмотрел в небо. Над головой плыли облака. Они были ослепительно белыми, без единого пятнышка. А одно из них было похоже на крупного слона с двумя горбами, как у верблюда. Малявкин улыбнулся двугорбому слону. И провожал его глазами до тех пор, пока слон не потерял хобот.
БАГУЛЬНИК


н вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть — другого слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и уставлялся на доску. А через несколько минут снова зевал.
— Почему ты зеваешь?! — раздраженно спрашивала Женечка.
Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. Зевал же потому, что всегда хотел спать.
Он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутиками, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день менял воду.
И Женечка посмеивалась.
Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали. И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.
— Багульник! — буркнул он и пошел прочь.
Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них, молчальников, на уме: плохое или хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя тоже не любят молчальников, потому что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами.
Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста молчальник. Подумали, что он волшебник. И Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.
Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы — конским хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки с подковками. На улице ее никто не принял бы за учительницу. Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвостик развевается на ветру. Остановись, лошадка! Не слышит, бежит… И долго еще не затихает стук подковок…
Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?
Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой — под короткой шерстью тигрового окраса перекатывались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась — над глазами и на груди теплились коричневые подпалины.
Чего только не говорили про Косту ребята!
— У него ирландский сеттер, — утверждали одни. — Он охотится на уток.
— Ерунда! У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков. Мертвая хватка! — говорили другие.
Третьи смеялись:
— Не можете отличить таксы от боксера!
Были еще такие, которые спорили со всеми:
— Он держит трех собак!
На самом деле у него не было ни одной собаки.
А сеттер? А боксер? А такса?
Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей головешкой.
Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось. Когда родители возвращались с работы, они заставали сына за столом: он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?
Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти.
Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая. Огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалявшейся шерсти проступали худые, острые лопатки, большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы — ударом такой лапы можно сбить любую собаку — ступали медленно, устало.
С этой собакой Косту никто не видел.
Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления. И как зорко ни следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.
Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развевался на ветру.
Она превратилась в следопыта.
Коста добежал до своего дома — он жил в зеленом облупившемся доме, — исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда.
Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.
Коста нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай, а царапанье — в барабанную дробь.
— Тише, Артюша, подожди! — крикнул Коста.
Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок.
— Артюша, перестань!
Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и оба — мальчик и собака — с неимоверной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой.
Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек.
— Вот, погуляли. До завтра, — сказал Коста.
— Спасибо. До завтра.
Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер.
Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних лапах, а передние положил на перила.
Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.
— Атилла! — крикнул Коста, вбегая во двор.
Боксер тихо взвизгнул. От счастья.
Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.
Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден. Он ел жадно, но при этом посматривал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.
Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку. Отвисшие углы большого черногубого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу.
Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
— Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть помирай с голоду! Люди ведь!..
Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста.
Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой. Но Коста спешил дальше.
В соседнем доме на первом этаже болел парнишка — был прикован к постели. Это у него была такса — черная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика.
— Она тебя ждет, — говорил больной.
— Ты болей, не волнуйся, — слышался голос Косты.
— Я болею… не волнуюсь, — отвечал больной. — Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.
— Мне не надо велосипеда.
— Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.
— Приду утром, — после некоторого раздумья отвечал Коста. — Только очень рано, до школы.
— Тебе не попадет дома?
— Ничего… тяну… на тройки… Только спать хочется, поздно уроки делаю.
— Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.
— Выкарабкивайся.
— Ты куришь? — спрашивал больной.
— Некурящий, — отвечал Коста.
— И я некурящий.
— Ну, мы пошли… Ты болей… не волнуйся. Пошли, Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный Лапоть.
Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пламенно-рыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей хотелось заговорить с Костой. Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.
Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница — Женечка — снова пряталась за спины прохожих. Дома уменьшились ростом. А спин стало совсем мало. Город кончался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук.
И тут показалось море. Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и неторопливо наползали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.
Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией горизонта.
Коста шел по берегу, наклоняясь вперед — против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешанные на кольях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем.
Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря.
Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов.

Он провел рукой по свалявшейся шерсти. Собака едва заметно шевельнула хвостом. Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой хлеб и остатки своего обеда, завернутого в газету. Собака не оживилась, не выказала никакого интереса к пище. Коста стал ее поглаживать и уговаривать:
— Ну поешь… Ну поешь немного…
Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к морю.
Женечка притаилась за развешанными сетями, словно попалась, запуталась в них и не могла вырваться, чтобы тоже гладить собаку и говорить:
«Ну поешь… Ну поешь хоть немного!»
Коста взял кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и громко, как человек, и принялась медленно жевать хлеб. Она ела без всякого интереса, как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа… Она ела для того, чтобы не умереть. Ей нужно было жить. Она ждала кого-то с моря.
Когда все было съедено, Коста сказал:
— Идем. Погуляем.
Собака снова посмотрела на мальчика и послушно зашагала рядом. У нее были тяжелые лапы и неторопливая, полная достоинства львиная походка. Следы заполнялись водой.
В море переливались нефтяные разводы. Будто где-то за горизонтом произошла катастрофа, рухнула радуга и ее обломки прибило к берегу.
Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка — следопыт Женечка — слышала, как Коста говорил собаке:
— Ты хороший… Ты верный… Пойдем со мной. Он никогда не вернется. Он погиб. Честное пионерское.
Собака молчала. Она и не должна была говорить. Она не отрывала глаз от моря. И в который раз не верила Косте. Ждала.
— Что же мне с тобой делать? — спросил мальчик. — Нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь надо уйти.
Рыбацкая сеть кончилась. И Женечка как бы выпуталась из сетей. Коста оглянулся и увидел учительницу. Она стояла на песке босая, а туфли держала под мышкой. И сквозняк, тянувший с моря, развевал ее волосы, собранные в конский хвост.
— Что же с ней делать? — растерянно спросила она Косту.
— Она не пойдет. Я знаю, — сказал мальчик. Он почему-то не удивился появлению учительницы. — Она никогда не поверит, что хозяин погиб…
Женечка подошла к собаке. Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на нее.
— Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю. Она очень тощая… Сперва укусила меня.
— Укусила?
— Руку. Теперь все зажило. Я йодом смазывал.
Пройдя еще несколько шагов, он сказал:
— Собаки всегда ждут. Даже погибших… Им надо помогать.
Море потускнело и стало как бы меньше размером. Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было забраться. Собака подошла к воде. Села на песок. И снова застыла в своем вечном ожидании…
Обратно учительница и ученик шли быстро, но, когда берег кончился, за дюнами Женечка остановилась и сказала:
— Я не могу так быстро. У меня каблук сломался.
— Мне надо бы поспеть до их прихода, — отозвался Коста.
— Тогда иди.
Коста внимательно посмотрел на Женечку и спросил:
— А как же вы?
— Я дойду не спеша.
— Может быть, вбить гвоздь? У вас есть гвоздь?
— Не знаю. — Женечка протянула ему туфлю.
Он покрутил каблук, как зуб, который шатается. И постучал камнем.
— Вот.
— Теперь лучше, — сказала Женечка, надевая туфлю.
Но шла она прихрамывая, наступая на носок, чтобы каблук держался.
На другой день в конце последнего урока Коста уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову на согнутый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он спит. Потом кто-то захихикал.
И Женечка увидела, что он спит.
— Тихо, — сказала она. — Совсем тихо.
Когда она хотела, все было как полагается. Тихо так тихо.
— Вы знаете, почему он уснул? — шепотом произнесла Евгения Ивановна. — Я вам расскажу… Он гуляет с чужими собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут. Даже погибших… Им надо помогать…
Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел громко и протяжно. Но Коста не слышал звонка. Он спал.
Евгения Ивановна — Женечка — склонилась над спящим мальчиком, положила руку ему на плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.
— Звонок с последнего урока, — сказала Женечка, — тебе пора.
Коста вскочил. Схватил портфель. И в следующее мгновение скрылся за дверью.
РЫЦАРЬ ВАСЯ


риятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени — он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул. И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе с
Суворовым совершал в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк.
Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись три бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий — между носом и верхней губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь.
Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой толстый? Но на самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.
То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой.
А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, в пернатом шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря.
В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами.
Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место. И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка.
В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность.
Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:
— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке!
Разве так обращаются с благородным рыцарем?
Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки.
Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:
— На такого толстого никакие доспехи не налезут.
Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце.
В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы.
Тайком от дежурной старушки от трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого — к серебряному. К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из них не смеется и не называет его тюфяком.
Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо Пансы?
Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «Поторапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над тарелкой!», — он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту.
Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей.
На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не мешало учителям постоянно делать ему замечания:
— Рыбаков, о чем ты мечтаешь?
— Рыбаков, повтори, что я сказала.
— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи.
Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на место.
Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи.
На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с грохотом спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй.
Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и с выражением произносил:
— Чтоб на улице и дома
Было вечером светло!
Когда он вышел на сцену, все «выражение» сразу пропало. Он заторопился, чтобы поскорее добраться до конца. Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он вдруг заволновался, задергал плечом и прочитал:
— Чтоб на улице и дома
Было вечером темно!
Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со сцены.
Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он сердился на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Старался быстрее двигаться, говорить почти криком и ни в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе проливались чернила, а от резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой.
…Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали листья, а на землю ложится первый слабый снег. А иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. Этот лед, зеркальный и тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно.
Но не все ребята слушают радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. Лед прогибается и предупреждающе трещит, но они верят, что родились под счастливой звездой. А счастливая звезда иногда подводит.
Внимание тюфяка привлекли крики, которые долетали с реки. Он ускорил шаг и, запыхавшись, вышел на берег.
Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал:
— Тонет! Тонет!
— Кто тонет? — не спеша спросил тюфяк.
— Не видишь, что ли? — огрызнулся Димка. — Пацан тонет. Под лед провалился. Что стоишь?!
Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: «Что же ты не поможешь ему?» Но он был тюфяк и не догадался этого сделать. Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который был по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда.
Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но не треснул. Вероятно, у берега он был крепче.
Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать:
— Заходи справа!.. Осторожно!.. Не топай ножищами, а то сам…
Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх.
А тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть перепуганного малыша, который не мог выговорить и слова.
Около полыньи на льду образовалась лужа. Он дошел до края и, не раздумывая, выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он понимал, что сейчас лед может треснуть и он окажется в воде вместе с посиневшим пацаном.
Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в воде.
Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, что будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал обламываться лед.

Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими руками в своего спасителя. Зубы его стучали. А по лицу текли слезы.
Когда они вышли на берег, Ковалев оживился.
— Ты ноги промочил, — сказал он товарищу, — беги домой, а пацана я сам доведу.
Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые ботинки и сказал:
— Валяй!
Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил его.
Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро притупила усталость. И теперь оставались только промокшие ноги и легкий озноб.
Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них полилась вода.
— Что это? — спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет.
— Промочил ноги, — растягивая слова, ответил мальчик.
— Где это тебя угораздило? — Мама пожала плечами и пошла за тряпкой.
Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и одолевала зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего объяснять, лег на диван и зажмурил глаза. Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, то лед сразу бы проломился и он не сумел бы спасти пацана. Он быстро уснул.
На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не было. Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил портфель на парту и поплелся на четвертый этаж.
Когда он вошел в зал, все уже построились большой буквой «П». Он протиснулся между ребятами и стал в заднем ряду.
В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается смелым поступком ученика.
Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести красного галстука и наконец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором Димка назывался спасителем ее сына.
Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у стенки и слушал, как все хвалят Димку Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет — никого он не спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно, и все три бугорка покраснели. В конце концов он и сам поверил, что Димка — герой вчерашнего происшествия: ведь он первым заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже.
Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по классам. И тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж. Он с трудом протиснулся за парту — сдвинул ее с места, — а когда начался урок, взял в короткие пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила.
ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ


ожно войти?
— Войди… Как твоя фамилия?
— Я Таборка.
— А как тебя зовут?
— Табором.
— Имя у тебя есть?
— Есть… Саша. Но зовут меня Табором.
Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой черный портфель в белых трещинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достает почти до полу. Если не считать старого, облезлого портфеля, то в наружности Таборки не было ничего примечательного. Круглое лицо. Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что зацепиться взгляду.
Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве все запомнишь.
— Подойди сюда и сядь… Не на кончик стула, а как следует. И не грызи ногти… Что у тебя за история?
Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор длинный и худой. Он занимает полкресла. А вторая половина свободна. Руки, тоже длинные и худые, лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, она становится похожей на большой циркуль, которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил:
— Это вы про собаку?
— Про собаку.
Мальчик уставился в одну точку: в угол, где висели плащ и коричневая шляпа.
— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привел ее в школу. В живой уголок. Туда берут ужей и золотых рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей?
Он проглотил слюну и с укором сказал:
— А собака — млекопитающее.
Директор откинулся на спинку кресла и пятерней, как гребенкой, провел по темным густым волосам.
— И ты привел ее в класс?
Теперь директор вспомнил, за что приглашен к нему этот возмутитель спокойствия. И ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову.
Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал:
— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала ее. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха… Но потом она напустила лужу.
— И Нине Петровне это не понравилось?
— Не понравилось… Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала. На меня и на собаку. Потом она велела мне взять тряпку и вытереть лужу. А сама встала в дальний угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу. Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вытираю. И велела мне и моей собаке убираться вон. Но она ничего… Она не убивала мою собаку.
Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не директору, а плащу и шляпе.
— Все? — спросил директор.
Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать разговор. И если бы мальчик сказал «все», директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал «все» и не кивнул головой.
— Нет, — сказал он, — мы еще были в милиции.
Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом кресле, как в костюме, который велик. Наверное, его предшественник — старый директор — был толстым, раз завел такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают новичками.
— Как ты очутился в милиции?
Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он заговорил сразу, без заминки:
— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно скалят зубы. Их черные носы смотрят из-под ворот, как двустволки. А моя собака махала хвостиком. Она была белой, и над глазами у нее два рыжих треугольника. Вместо бровей…
Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катались одно за другим.
— И женщину она не кусала. Она играла и ухватила ее за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается, и закричала. Меня повели в милицию, а собака бежала рядом.

Мальчик поднял глаза на директора: рассказывать дальше? Директор сидел на кончике своего кресла и грудью навалился на стол. Глаза его прищурились, как будто он целился. Они не видели ничего, кроме Таборки.
— Давай дальше.
— В милиции нас продержали два часа. Мы стояли у стенки и все чего-то ждали. Но в милиции не убили собаку. Там один, с усами, даже погладил ее и дал ей сахару… Оказывается, собаке полагается номер и намордник. По правилам. Но когда я нашел мою собаку, у нее не было ни номера, ни намордника. У нее вообще ничего не было.
— Где ты нашел ее?
— В поселке. Хозяева переехали в город, а собаку бросили. Она бегала по улицам, все искала хозяев.
— Заведут собаку, а потом бросят!
Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почувствовал, что после них уже не сможет ударить кулаком по столу.
Мальчик не ухватился за его слова.
Он неожиданно возразил:
— Они бросили собаку, но не убили. А я наткнулся на нее. Отдал ей свой завтрак, и с тех пор она не отходила от меня.
— Как звали твою собаку?
— Не знаю. Ведь хозяева уехали.
— И ты никак не назвал ее?
Мальчик непонимающе посмотрел на директора.
— Ты не дал ей имени?
— А зачем?
Он наконец выпустил из рук тяжелый портфель, и тот глухо плюхнулся на пол.
— У нее было имя. Я просто не знал его. Спрашивал у ребят. Никто не помнил, как ее звали.
— Вот и назвал бы ее как-нибудь.
Мальчик покачал головой:
— Раз у собаки есть имя, зачем давать ей новое. У собаки должно быть одно имя.
Теперь Таборка смотрел на медную пепельницу, которая стояла на краю стола. Пепельница была чистой и блестящей. Вероятно, новый директор не курил.
Таборка поднял руку и почесал затылок. И директор заметил на рукаве крупную штопку. Она была похожа на решетку, которая не выпускала локоть наружу.
Мальчик неожиданно умолкал и так же неожиданно начинал говорить, словно часть мыслей оставлял при себе, а часть высказывал вслух.
— Когда я в первый раз привел собаку домой, он был в отъезде. Мама сказала: «От собаки одна только грязь!» Какая грязь может быть от собаки? От собаки одна радость. Потом мама сказала: «Я твоей собакой заниматься не буду. Занимайся сам!» Так я для того и взял собаку, чтобы заниматься самому. Моя собака была очень умной. Когда я учил наизусть стихи, она смотрела мне в глаза и слушала. А когда у меня не выходила задача, собака терлась о мою ногу. Это она подбадривала меня. А потом приехал он и выгнал собаку.
Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор скрестил пальцы и положил их под щеку и не спускал с мальчика прищуренных глаз.
— Чем ему помешала собака?.. Я не мог выгнать собаку. Ее один раз уже выгоняли. Я поселил ее в сарае. Там было темно и скучно. Я все время думал о своей собаке. Даже ночью просыпался: может быть, ей холодно и она не спит? А может быть, она боится темноты?.. Это, конечно, ерунда: собака ничего не боится! В школе я тоже думал о ней. Ждал, когда кончатся уроки: ее завтрак лежал у меня в портфеле… Потом он заплатил штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая. Я привел ее в школу. Мне некуда было ее деть.
Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками. Они стали шершавыми и угловатыми и с трудом вырывались наружу.
— Я не знал, что он задумал убить мою собаку. Меня тогда не было. Он подозвал ее и выстрелил ей в ухо.
В комнате стало тихо. Как после выстрела. И долгое время ни мальчик, ни директор не решались прервать молчание.
Неожиданно директор сказал:
— Слушай, Табор! Хочешь, я подарю тебе собаку? Немецкую овчарку с черной полосой на хребте.
Мальчик покачал головой:
— Мне нужна моя собака. Я бы ее научил спасать утопающих. У меня книжка такая есть, как учить собак.
Директор встал со стула. Он стал еще выше, чем казался вначале. Пиджак висел на его худых плечах, как на вешалке. Может быть, его костюм тоже принадлежал когда-то старому директору. Как большое кресло.
Он подошел к мальчику и наклонился к нему:
— Ты можешь помириться с отцом?
— Я с ним не ссорился.
— Но ты с ним не разговариваешь?
— Я отвечаю на его вопросы.
— Он тебя когда-нибудь бил?
— Не помню.
— Обещай мне, что ты помиришься с отцом.
— Я буду отвечать на его вопросы… Пока не вырасту.
— А что ты будешь делать, когда вырастешь?
— Я буду защищать собак.
Директор молча прошелся по кабинету и вернулся в свое неуютное кресло. А мальчик взял портфель за ручку, которая держалась на одном ушке, и пошел к двери. Когда он уходил, директор заметил, что штопка на рукаве порвалась и острый локоть вырвался сквозь решетку наружу.
СЫН ЛЕТЧИКА


могу поручиться, что никогда не слышал о летчике Преснякове. Но его лицо на фотографии показалось мне удивительно знакомым. Он снят после полета, в гермошлеме, в котором можно дышать там, где нет воздуха. В этом одеянии он скорее похож на водолаза, чем на летчика.
Капитан Пресняков небольшого роста. Но это сразу не заметишь на фотографии, потому что он снят до пояса. Зато отчетливо видны широкие скулы, и глаза щелочками, и неровные брови, и канавки над верхней губой, и шрам на лбу. А может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете.
Эта фотография принадлежит Володьке Преснякову. Висит у него над постелью. Когда в дом приходит новый человек, Володька подводит его к фотографии и говорит:
— Мой отец.
Он говорит это так, будто и в самом деле знакомит гостя со своим отцом.
Живет Володька в Москве, в проезде Соломенной Сторожки. Конечно, на Володькиной улице нет никакой сторожки, да еще соломенной. Кругом стоят большие новые дома. Это при Петре Первом здесь была сторожка. Интересно, в каком месте она стояла? Около гастронома или на углу, у сберкассы? И как звали стражника, который в ненастную, вьюжную ночь забегал в теплую сторожку, чтоб перевести дух и погреть у огонька деревянные от мороза руки? Только на минутку! Стражнику не положено торчать в теплой сторожке при исполнении служебных обязанностей…
Под окнами Володькиного дома днем и ночью грохочут самосвалы: рядом идет стройка. Но Володька привык к грохоту и не обращает на него внимания. Зато ни один самолет не пролетит над его головой незамеченным. Услышав звук мотора, он вздрагивает, настораживается. Его тревожные глаза спешат отыскать в небе маленькие серебристые крылышки машины. Впрочем, он, даже не глядя на небо, может по звуку определить, какой летит самолет: простой или реактивный, и сколько у него «движков». Это потому, что с детства привык к самолетам.
Когда Володька был маленьким, он жил далеко-далеко от Москвы. В военном городке. Ведь города, как и люди, бывают военные.
Володька родился в этом городке и прожил в нем добрую половину своей жизни. Человек не может запомнить, как он учился ходить и как произнес первое слово. Вот если он упал и разбил коленку, это он помнит. Но Володька не падал и не разбивал коленку, и над бровью у него нет шрама, потому что и бровь он тоже никогда не разбивал. И вообще он ничего не помнит.
Не помнит, как, заслышав шум мотора, он что-то искал в небе выпуклыми голубыми глазами. И как протягивал руку: хотел поймать самолет. Рука была пухлая, со складкой у запястья, будто в этом месте кто-то обвел ее чернильным карандашом.
Когда Володька был совсем маленьким, он умел только просить. А когда стал постарше — годика в три-четыре, — стал спрашивать. Он задавал маме самые неожиданные вопросы. И были такие, на которые мама не могла ответить.
«Почему самолет не падает с неба?.. Почему у нас звездочки, а у фашистов крестики с хвостиками?»
Володька жил с мамой. Папы у него не было. И вначале он считал, что так и должно быть. И его вовсе не беспокоило, что нет папы. Он и не спрашивал о нем, потому что не знал, что ему полагается папа. Но однажды он спросил у мамы:
— Где мой папа?
Он думал, что маме очень легко и просто ответить на этот вопрос. Но мама молчала. «Пусть подумает», — решил Володька и стал ждать. Но мама так и не ответила на вопрос сына.
Володьку это не очень огорчило, потому что мама многие его вопросы оставляла без ответа.
Больше Володька не задавал маме этого вопроса. Какой смысл спрашивать, если мама не может ответить? Но сам он не забыл о своем вопросе с той легкостью, с какой забывал о других. Ему понадобился папа, и он стал ждать, когда папа появится.
Как ни странно, Володька умел ждать. Он не искал папу на каждом шагу и не требовал от мамы, чтобы она нашла ему недостающего папу. Он стал ждать. Если мальчику полагается папа, то рано или поздно он найдется.
«Интересно, как появится папа? — думал Володька. — Придет пешком или приедет на автобусе? Нет, папа прилетит на самолете — ведь он летчик». В военном городке у всех ребят папы были летчиками.
Отправляясь с мамой гулять, он посматривал на встречных мужчин. Он старался угадать, на кого из них похож его папа.
«Этот очень длинный, — думал он, оглядываясь на высокого лейтенанта, — такому папе и на спину не заберешься. И почему у него нет усов? У папы должны быть усы. Только не такие, как у продавца в булочной. У него усы рыжие. А у папы усы будут черные…»
С каждым днем Володька все нетерпеливей ждал приезда папы. Но папа ниоткуда не приезжал.
— Мама, сделай мне кораблик, — сказал однажды Володька и протянул маме дощечку.
Мама посмотрела на сына беспомощно, будто он задал ей один из тех вопросов, на которые она не могла ответить. Но потом вдруг в ее глазах появилась решимость. Она взяла из рук сына дощечку, достала большой кухонный нож и начала стругать. Нож не слушался маму: он резал не как хотела мама, а как ему вздумается — вкривь и вкось. Потом нож соскользнул и порезал маме палец. Пошла кровь. Мама отбросила недоструганную деревяшку в сторону и сказала:
— Я лучше куплю тебе кораблик.
Но Володька покачал головой.
— Не хочу купленный, — сказал он и поднял с пола дощечку.
У его друзей-приятелей были красивые кораблики с трубами и парусами. А у Володьки была шершавая недоструганная деревяшка.
Но именно эта невзрачная дощечка, именуемая пароходом, сыграла в Володькиной судьбе очень важную роль.
Однажды Володька прогуливался по коридору квартиры с дощечкой-кораблем в руках и лицом к лицу столкнулся с соседом Сергеем Ивановичем. Сосед был летчиком. Целыми днями он пропадал на аэродроме. А Володька «пропадал» в детском садике. Так что они почти не встречались и совсем не знали друг друга.
— Здравствуй, брат! — сказал Сергей Иванович, встретив Володьку в коридоре.
Володька задрал голову и стал рассматривать соседа. До пояса он был одет в белую обыкновенную рубаху, а брюки и сапоги были военными. На плече висело полотенце.
— Здравствуй! — отозвался Володька.
Он всех называл на «ты».
— Почему ты один шагаешь по коридору? — спросил сосед.
— Гуляю.
— А на улицу что не идешь?
— Не пускают. Кашляю.
— Небось по лужам без галош бегал?
— Нет. Я снег ел.
— Понятно.
В конце разговора, который происходил в полутемном коридоре, сосед заметил в руках Володьки дощечку.
— Что это у тебя?
— Кораблик.
— Какой же это кораблик? Это доска, а не кораблик, — сказал сосед и предложил: — Давай я тебе кораблик сделаю.
— Только не сломай, — предупредил его Володька и протянул дощечку.
— А как тебя зовут? — между прочим спросил сосед, разглядывая деревяшку.
— Володя.
— Володька, значит?
Володька. Это хорошо. Мама называла его Володенька, а тут — Володька. Очень красиво!
Пока Володька раздумывал над новым именем, сосед достал из кармана складной перочинный ножик и ловко начал обстругивать дощечку.
Что это получился за кораблик! Ровный, гладкий, с трубой посредине, с пушкой на носу. На полу кораблик не стоял, заваливался набок, зато в лужах он чувствовал себя отлично. Никакие волны не могли его опрокинуть. Присев на корточки, Володькины приятели с любопытством рассматривали корабль. Каждому хотелось потрогать его, потянуть за веревочку. Володька торжествовал.

— Не забрызгай! — кричал он одному из приятелей, будто кораблю была страшна вода. — Не тяни, опрокинешь! — грозно предупреждал он другого, хотя его корабль был самым устойчивым кораблем дворового флота.
— Кто это тебе такой корабль сделал? — спросил Володьку кто-то из ребят.
Володька запнулся. Потом набрал побольше воздуха и смело выпалил:
— Папа!
— Врешь, — сказал приятель. — У тебя нет папы.
— Нет, есть! Нет, есть! — решительно ответил Володька. — Он мне еще не то сделает!
Вечером мама заметила Володькин кораблик. Она подняла его с пола, внимательно осмотрела его и спросила:
— Откуда это у тебя?
— Папа сделал, — отозвался Володька.
— Папа? — Мама удивленно подняла брови. — Какой папа? У тебя нет папы…
Последние слова мама с трудом выдавила из себя. По Володьку нисколько не смутило мамино возражение. Он сказал:
— Как же нет папы? Есть! Ведь даже у девочек есть папы, а я мальчик.
Мама вдруг перестала спорить. На нее смотрели два больших упрямых глаза. В них было столько решимости и отчаяния, что мама промолчала. Она поняла, что в маленьком сыне прорезается характер, что он так просто не отступится от того, что ему полагается, что определено самой природой.
Мама опустила глаза и отошла. А он все не двигался с места — маленький человек, который решил постоять за себя. Он прижимал к груди свой кораблик, как будто кто-то хотел отнять у него этот драгоценный предмет.
…Сергей Иванович не догадывался о том, что сделал кораблик с маленьким соседом. И, уж конечно, ему и в голову не могло прийти, что Володька в поисках папы остановил свой выбор на нем.
Возвращаясь из детского сада, Володька спрашивал:
— Папа дома?
Мама ничего не отвечала. Тогда он, улучив минутку, выскальзывал в коридор и направлялся к соседней двери. Он толкал дверь плечом. Она не поддавалась: папы не было дома.
Володька не падал духом. Эка беда, что папы нет дома! Важно, что папа есть.
Постепенно у Володьки сложилось свое представление о папе. Его папа жил в другой комнате, обедал в столовой и сам ставил себе чайник. И если у него отрывалась пуговица, то он сам пришивал ее. И никому не докладывал, куда уходит и когда вернется. Володька решил, что именно таким и должен быть папа.
Случилось, что Володька заболел не на шутку. На этот раз он съел слишком много снегу, и у него начался жар. Он лежал в постели и горел. Ему казалось, что постель стоит на огне и огонь раскаляет подушку, одеяло, рубашку. И градусник ему ставят часто, потому что боятся, как бы он совсем не сгорел.
Володька не стонал, не вздыхал, не звал маму. Он мужественно переносил болезнь. Он сопел. А временами кашлял, и тогда в его груди перекатывался шершавый, булькающий шарик.
Целый день с Володькой сидела бабушка из соседней квартиры. Бабушке хотелось, чтобы Володька уснул, она рассказывала ему сказки. В конце концов от сказок уснул не Володька, а сама бабушка.
Когда вечером вернулась с работы мама, бабушка беззвучно поднялась и ушла к себе в соседнюю квартиру.
С мамой было веселее. Она ходила взад-вперед, что-то приносила, уносила, роняла на пол. Она тормошила Володьку, давала ему то лекарство, то кислый морс. Она прикладывала прохладную руку ко лбу — это было приятно. Переворачивала подушку на «холодную сторону» — это тоже было хорошо. Только жаль, что подушка быстро нагревалась.
Мама все время спрашивала:
— Не болит головка? Что тебе дать? Что ты хочешь?
Но Володька ничего не хотел. Он не знал, что от холодного снега будет так жарко. И так тошно. Он молчал.
И вдруг мальчик сказал:
— Мама, позови папу.
Мама повернулась к окну. Она сделала вид, что не расслышала просьбу сына. Она надеялась, что он тут же забудет о ней.
Но, выждав немного, Володька повторил:
— Позови папу.
Мама не двигалась. Она стояла спиной к сыну, и он не видел, как лицо ее стало беспомощным, а глаза наполнились слезами. Она могла многое сделать для сына. Подарить ему дорогую игрушку, купить вкусненького. Могла работать для него с утра до вечера. Могла отдать ему свою кровь, свою жизнь. Но где она могла взять ему папу?
А Володька ждал, когда она пойдет за папой. И она пошла. Она вышла в коридор и медленно направилась к соседней двери. Она шла к чужому человеку, чтобы попросить его на несколько минут побыть папой.
Преодолевая чувство стыда и унижения, мама постучала в соседнюю дверь.
— Да! — послышалось изнутри.
Голос показался маме резким и неприветливым. И от этого стало еще труднее. Но она все же отворила дверь.
Сосед сидел за столом и пил чай. Вероятно, он только что вернулся домой, потому что на нем были сапоги и рубашка защитного цвета с черным галстуком. Он пил чай и читал газету.
Когда мама отворила дверь, он поднял на нее удивленные глаза и встал, не выпуская из рук стакана и газеты. Он не подал ей стула и даже не предложил войти в комнату. Она так и стояла на пороге.
— Сергей Иванович, — сказала мама, и голос ее дрогнул, будто что-то в нем обломилось. — Сергей Иванович, он зовет вас отцом. Я не знаю, почему это взбрело ему в голову. Он маленький и глупый.
Мама говорила, а сосед растерянно смотрел на нее и кивал головой. Казалось, речь идет не о нем, а о другом человеке. Он все не понимал, что же от него нужно.
— А сейчас, — продолжала мама, — он болен. И он зовет вас.
Мама замолчала. Опустив голову, она ждала, что ей скажет сосед. А сосед ничего не сказал. Он вдруг засуетился: поставил на стол стакан с чаем, бросил газету на кушетку и почему-то стал натягивать на плечи форменную куртку.
— Сейчас иду, — пробормотал он.
Зачем ему понадобилась куртка с погонами и знаками отличия? Ведь не начальство вызвало его.
Он пошел за мамой.
Осторожно, словно боясь разбудить, подошел он к Володькиной постельке, и, наклонясь к нему, спросил:
— Болеешь, брат?
Володька кивнул головой. Его больные глаза радостно засветились. Он приподнялся на локте и спросил:
— Ты высоко летаешь?
— Высоко, брат, — ответил летчик.
— Выше Сапрунова?
Сосед усмехнулся:
— Э-э, да ты, оказывается, знаешь Сапрунова? Знаком с ним?
Володька затряс головой. Он не был знаком с прославленным летчиком военного городка. Он слышал о нем.
— Выше Сапрунова пока не летаю, — произнес сосед, — но царапаю небо потихоньку.
Володька почему-то представил себе папу, царапающего небо ногтем. И мальчик покосился на его руку. Ногти на руке летчика были коротко подстрижены. «Трудно такими царапать небо», — подумал Володька.
С приходом Сергея Ивановича он оживился. Вероятно, когда рядом с тобой папа, то никакая болезнь не страшна. Мама вышла в кухню. И они остались одни: сын и папа.
Сергей Иванович был одиноким человеком. У него никогда не было ни семьи, ни детей. И к детям он относился не то чтобы с неприязнью завзятого холостяка, а как относятся к чужой, очень хрупкой вещи: стараются не брать в руки, чтобы случайно не уронить. Но с Володькой он обращался смело. Он клал ему руку на лоб, и переворачивал его на «другой бочок», и даже попытался рассказать ему сказку. Сказка получилась похожей на быль: про самолет, механика и генерала…
Новое, незнакомое чувство робко прорезалось в сердце человека, привыкшего иметь дело с солдатами и ревущими машинами.
Глядя на маленького горящего Володьку, он вдруг поймал себя на мысли, что с удовольствием сам переболел бы за него гриппом: ему — что, а малышу — тяжко.
Было уже поздно, когда сосед собрался уходить. Но Володька ухватил его за руку:
— Папа, не уходи!
Он держал руку Сергея Ивановича, как будто эта сильная мужская рука была его жизнью и без нее все вокруг теряло всякий смысл.
— Да я не ухожу, — виновато говорил Сергей Иванович. — А ты спи.
Но Володька боялся уснуть, хотя его сильно клонило ко сну. «Вот усну, а он уйдет», — думал мальчик и изо всех сил старался удержать глаза открытыми. А губы его тихо шептали:
— Ты не уходи… А я больше не буду есть снег. И лазить по заборам не буду… И суп буду доедать… Не уйдешь? А?
И сквозь сон слышал спокойный голос Сергея Ивановича:
— Не уйду, не уйду.
В конце концов Володька уснул. Так и уснул, не выпуская из своих рук папину руку.
В те редкие дни, когда Володька заставал папу дома, он старался как можно дольше побыть с ним. И Сергей Иванович с завидным терпением выполнял все желания своего новоявленного сына.
— Слушай, — говорил Володька (он всегда обращался к Сергею Ивановичу «слушай»), — слушай, покатай меня на кликушках.
— Что-что? — переспрашивал Сергей Иванович.
— На кликушках, — невозмутимо повторял Володька и начинал карабкаться на плечи Сергея Ивановича.
И тот послушно подставлял мальчику плечи. А потом, почувствовав на себе всадника, начинал ходить по комнате.
— Быстрей! — командовал наездник и крепко обвивал руками шею своего коня.
Потом Володька просил:
— Зайди за мной в детский садик. За всеми в субботу заходят папы.
Сергей Иванович почесал затылок, однако пообещал зайти за Володькой.
И слово свое сдержал.

Как-то под вечер в комнату, где Володька играл с товарищами, вошла нянечка и громко сказала:
— Пресняков, за тобой пришел отец.
Володька покраснел от удовольствия и пулей вылетел в прихожую. Там на диване сидел папа. Он был в шинели, а фуражка с золотой «капустой» лежала у него на коленях. Вид у него был строгий и торжественный. Казалось, папа боится пошевелиться, чтобы не сделать что-нибудь не так. Володька подбежал к нему и стал тянуть его за руку, а папа упирался. Он чувствовал себя неловко среди маленьких столиков, стульчиков и вешалок с коротенькими пальто.
А потом они шли вдвоем по военному городку, и Володька крепко держался за папину руку. Он старался делать большие шаги, чтобы не отставать. И все время посматривал по сторонам. Ему хотелось, чтобы его друзья и знакомые видели: он идет с папой. Пусть хоть один человек осмелится после этого сказать: «Врешь, у тебя нет отца!»
Сергея Ивановича многие знали и при встрече с ним кивали ему и отдавали честь. Володьке это тоже нравилось. Один знакомый летчик, поздоровавшись с Сергеем Ивановичем, спросил:
— Сынишка?
Сергей Иванович помолчал, а потом, посмотрев сверху вниз на Володьку, сказал:
— Сын.
Он произнес это слово с вызовом. Будто знакомый хотел задеть его этим вопросом, а он давал ему отпор. Но Володька не обратил внимания на то, как ответил папа. Они зашагали дальше. И Володька был счастлив.
…Детский садик стоит на самом краю военного городка. За низким разноцветным заборчиком начинается степь. Зимой заборчик заносит снегом, и его вообще не видно. Летом степные травы поднимаются вровень с островерхими колышками.
А в степи — аэродром. Бессонный, тревожный, живущий своей заманчивой, но опасной жизнью.
Оттуда в небо поднимаются серебристые машины с крыльями, отведенными назад, как руки перед прыжком. Кажется, на земле им нечем дышать и они с радостным ревом рвутся в синюю глубину неба, где можно вздохнуть полной грудью. А когда смелые руки летчика поднимают машину очень высоко, в небе остается след: белый, морозный, видный всей земле.
Случается, что высоко над головой вдруг раздается резкий грохот. Новичок вздрагивает, ищет в небе след взрыва… Но жители военного городка остаются спокойными. Они знают, что никакого взрыва нет. Просто в недоступной глазу вышине одна из серебряных машин прорвалась сквозь звуковой барьер и полетела быстрее звука. И это не взрыв, а удар сильных крыльев.
Самолеты улетают и возвращаются. Аэродром провожает и встречает. И так каждый день.
Когда это произошло, в детском садике был тихий час. И дети спали. И Володька тоже преспокойно спал, потому что гул моторов не мешает спать сыну летчика.
Володька спал, а отец был в небе.
Он поднялся на такую высоту, где небо уже не голубое, а темное и, говорят, звезды видны даже днем. Это небо не принадлежит земле, и в нем нечем дышать жителю земли. Он дышит кислородом, захваченным с собой в полет. Да и машине здесь нелегко, ей тоже не хватает воздуха: крылья теряют опору.
Когда он начинал выполнять фигуры пилотажа, его тело становилось тяжелым. Трудно поднять руку. Веки наливались свинцом. Казалось, самолет подчинил себе пилота и решил вообще не возвращаться.
Но голос земли командовал:
«Снижайтесь!»
И небо ответило:
«Вас понял».
Черта с два, самолет командует пилотом! Неторопливым движением летчик отдал от себя ручку управления, убавил обороты двигателей, и машина, как обузданная, повернула от звезд к земле.
Капля пота потекла по его лбу, и он никак не может стереть ее ладонью, потому что лицо под прозрачной маской гермошлема. И он подумал, что, как только приземлится, обязательно сотрет эту зудящую каплю. Стрелки прибора слегка дрожали, желая подчеркнуть, что они не спят. Земля приближалась.
И вот тут-то вспыхнула тревожная красная лампочка — сигнал пожара.
Он сразу забыл о капле пота. Он стал проверять, не врет ли «паникер» (так летчики в шутку называют сигнал пожара, зачастую поднимающий ложную тревогу. Но на этот раз «паникер» не ошибся). Летчик выключил горящий двигатель и доложил:
«Горит правый двигатель».
«Попробуйте сбить пламя», — приказала земля.
Теперь самолет стремительно снижался. Казалось, он падает. Он тушил свой пожар. Он хотел оторвать от себя пламя, которое, как липкий красный лоскут, трепалось у правого сопла. Но ни встречный поток воздуха, ни автоматический огнетушитель не могли справиться с пламенем — так крепко вцепилось оно в машину.
Огню было мало мотора, и он перебрался на фюзеляж.
Горящий самолет терял высоту.
И вдруг летчик почувствовал, что ручка управления утратила свою упругость. Она беспомощно болтается, и самолет не выполняет ее приказы.
Он понял, что произошло самое страшное: перегорели рулевые тяги. Рули вышли из повиновения. А самолет падал на военный городок.
Когда он доложил обстановку земле, с командного пункта пришел приказ:
«Сапрунов! Покидай машину.
Катапультируйся».
Но он ответил:
«Не могу».
«Какого черта! Сапрунов!..»
Голос командира гремел в наушниках. Но летчик молчал. Ему некогда было разговаривать. Самолет падал на маленькие ровные квадратики жилых домов. Эти квадратики с неумолимой силой приближались к нему, становились все крупнее, все отчетливей. Они, как магнит, притягивали к себе машину с уснувшими рулями.
«Сапрунов! — ревела земля. — Сапрунов!..»
Он молчал. Он не откликался. И земля решила, что он погиб. Но Сапрунов боролся.
А Володька в это время спал.
Никто не знает, о чем думает человек, когда глядит в глаза смерти, на какие мысли он тратит последние скупые мгновения, которые отпустила ему жизнь. И никто не может поручиться, что Володькин папа в горящем самолете думал о своем сыне. Но есть движение человеческого сердца, которое сильнее мыслей и горячее чувств. В этих движениях любовь и разум, привязанность и ласка вдруг превращаются в силу, перед которой беспомощны страх, сомнения, себялюбие.
Ему все же удалось отвернуть горящую машину от жилых домов. Это произошло уже у самой земли. Кажется, он отвернул машину не отказавшими рулями, а своей грудью, руками, последними толчками сердца.
Катапультироваться он не успел: не хватило времени.
Человеческая память не похожа на старую бабку, которая кидает в свое лукошко все, что ей попадется под руку. Она разборчивый мудрец, который, прежде чем захватить с собой что-нибудь из твоей жизни, долго разглядывает, взвешивает на ладони, думает: брать или не брать?
Поэтому Володька Пресняков, живущий в проезде Соломенной Сторожки, мало знает о Володьке из далекого военного городка. Будто они не одно и то же лицо, а разные люди.
Только один раз смастерил папа маленькому Володьке кораблик, а большой Володька уверен, что он ему сделал целую флотилию кораблей. Только один раз заснул Володька, не выпуская из рук большой отцовской руки, а память утверждает, что он чуть ли не каждый день засыпал с рукой отца. Только один раз зашел летчик за своим сынишкой в детский сад, а память нашептывает, что это случалось часто.
Может быть, человеческая память немного привирает? А может быть, она отбирает самое главное и увеличивает его так, чтобы было видно всю жизнь.
Когда он погиб, Володька был еще маленьким. Даже не сразу узнал о его гибели. Какой-то самолет разбился. Какой-то летчик погиб. Военный городок был в трауре. Здесь в каждом доме жили летчики, и с каждым из них могло такое случиться… Но в детском садике жизнь шла своим обычным чередом, как будто ничего и не произошло.
Возвращаясь домой, Володька стучался в папину дверь. Но никто не откликался. Володька этому не удивлялся. Папы часто не бывало дома: служба такая.
Наконец долгое отсутствие папы начало тревожить мальчика. И однажды он спросил маму:
— А где папа?
Обычно мама не отвечала на этот вопрос. Она или отворачивалась, или уходила в кухню.
Но на этот раз мама не отвернулась и не ушла. Она взяла Володьку за плечи, притянула его к себе и внимательно посмотрела ему в глаза. Потом она крепко прижала к себе сына и сказала:
— Твой папа погиб при исполнении служебных обязанностей.
Володька не понял, что значит «погиб» и при чем здесь «обязанности». Он спросил:
— А когда папа придет?
— Никогда, — сказала мама и еще крепче прижала сына к себе.
Володька высвободился из маминых рук и недоверчиво взглянул маме в глаза. Что это значит — никогда?
— Он уехал или улетел? — спросил Володька.
— Он погиб, — повторила мама. — Умер. Понимаешь? Его никогда больше не будет.
— А как же я? — пролепетал Володька и уже собирался было заплакать.
Но тут мама сказала:
— Твой папа — герой.
Слово «герой» успокоило мальчика. Это слово не вязалось со слезами. И Володька не заплакал.
Вероятно, тогда он так и не понял маму.
Папа больше не появлялся. В его комнату въехали другие жильцы. А потом мама и Володька уехали из военного городка в Москву, к бабушке.
Теперь Володька большой, самостоятельный парень. Он все понимает — и что такое «погиб», и что такое «при исполнении служебных обязанностей». И он любит своего отца, хотя знал его очень недолго. И он скучает по нему и часто смотрит на фотографию, что висит над постелью. Он рассматривает неровные брови, и канавку над верхней губой, и шрам на лбу. Может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете?
Правда, Володька совсем не похож на отца. И скулы у него не широкие, и глаза не щелочками. Глаза у Володьки большие. Но ведь их можно прищурить. А скулы могут проявиться с годами. Вырастут. Ведь человек растет до двадцати лет.
Впрочем, совсем не обязательно, чтобы сын был похож на отца лицом. Он, может быть, вышел в маму. Главное, чтобы характер был отцовский.
…Нет, недаром фотография над Володькиной постелью показалась мне знакомой. Это был летчик Сапрунов. В этом не могло быть сомнений. Тот самый прославленный летчик Сапрунов, который долетел до черного неба и погиб при исполнении служебных обязанностей. Это он спас жизнь сотне людей ценой своей жизни.
Я перевожу взгляд с фотографии на Володьку и спрашиваю:
— А как фамилия твоего отца?
Володька смотрит на меня непонимающими глазами.
— Пресняков, — говорит он, и в голосе его звучит уверенность. — Капитан Пресняков. Ведь у отца с сыном всегда одна фамилия.
РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ


огда в лагере говорили «Селюженок», ребята усмехались в предчувствии новых происшествий, а для взрослых это слово звучало, как сигнал тревоги и предвестник неприятностей. Этот сигнал-предвестник начинал звучать с самого утра и не утихал до отбоя. Во всех уголках лагеря только и слышалось:
— Селюженок, заправь койку!
— Селюженок, вымой уши!
— Селюженок, перестань барабанить ложкой по тарелке!
— Селюженок, куда ты спрятал журнал?
— Селюженок, если ты не выйдешь из воды, больше не будешь купаться до конца смены.
Какие только грозные предупреждения и сердитые возгласы не следовали за словом «Селюженок»! За неделю лагерной жизни на него был истрачен годовой запас восклицательных знаков.
У Селюженка круглая голова, подстриженная под машинку, а уши торчат в стороны, как ручки сахарницы. Худое лицо всегда измазано сажей, или какой-нибудь краской, или просто грязью неизвестного происхождения. Селюженок маленький и хрупкий: ткнешь пальцем — он и упадет. Походка у него легкая и бесшумная, словно он не идет, а крадется. Как это такое хлипкое существо может доставлять людям столько неприятностей!
Худой, большеголовый, прыткий, он похож на огромного головастика. И взрослые считают, что с годами из него выйдет порядочная жаба.
Лицо у Селюженка непроницаемое. Слова не то что отскакивали от него, как горох, они как бы проходили насквозь, не оставляя никаких следов. Когда мальчика ругали, он не морщился, не дергал плечом и не опускал глаза — он улыбался своим мыслям. Взрослым казалось, что мальчишка насмехается над их словами. Они теряли самообладание, надрывали голоса. Но Селюженок был надежно защищен от их гнева своей невозмутимостью.
Чаще всего Селюженок молчал. Это был надежный способ самообороны. Но если он и выдавливал из себя слово, то его ответы были односложными, лишенными настоящего смысла.
— Ты зачем взял у Брусничкиной зубную щетку?
— Просто так.
— У тебя что, нет своей щетки?
— Есть.
— Так зачем тебе вторая щетка?
— Просто так.
После разговора с Селюженком даже самые уравновешенные люди стучали кулаком по столу и хлопали дверями. У этого дурного мальчишки была удивительная способность нагнетать в людях злость, портить настроение и доказывать взрослым, что у них не в порядке нервы.
Селюженок тащил все, что плохо лежало. Он хватал ленточки для кос, карандаши, носовые платки, перочинные ножи. Он был похож на сороку, которая несет в свое гнездо ненужные для нее вещи. Сорочьим гнездом была тумбочка Селюженка. Нет, он никогда не ел чужие сладости и не присваивал деньги. Все, что попадалось к нему в руки, оставалось без всякого применения и не приносило ему никаких благ.
Никто не знал, что творится в душе у этого маленького колючего человечка. Нельзя было определить, весел он или печален, доволен жизнью или обижен.
Он был всегда одним и тем же. С его лица не сходила глуповатая, лишенная всякого смысла улыбка. Он был неразрешимой загадкой, задачкой, которая никогда не сходится с ответом. Взрослые махнули на него рукой и мечтали поскорей дожить до конца смены, чтобы навсегда избавиться от этого уродца. Ребята подсмеивались над Селюженком, когда он им досаждал, поколачивали, но в общем относились к нему терпимо. А малыши, завидев его, весело кричали:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Селюженок не сердился и не щелкал малышей по выпуклым лбам. Он улыбался. И они принимали его улыбку за чистую монету. Да так оно, возможно, и было.
Чашу терпения взрослого населения пионерского лагеря переполнил случай с пластилином. В один прекрасный день руководительница изокружка обнаружила, что в студии пропал большой кусок зеленого пластилина: весь запас кружка лепки. Сомнений не было: это мог сделать только Селюженок.
Расстроенная Татьяна Павловна в отчаянии прибежала к начальнику лагеря.
— Так больше нельзя! — быстро заговорила она, и лицо ее покрылось красными пятнами. — На прошлой неделе он вылил весь скипидар. Теперь — пластилин! Надо что-то делать!
Татьяна Павловна не назвала имя похитителя пластилина, но начальник лагеря безошибочно определил, о ком шла речь.
— Позвать Селюженка! — крикнул он дежурному, и настроение его сразу начало портиться.
Через несколько минут на пороге кабинета уже стоял виновник очередного происшествия. Он стоял молча и смотрел на начальника невидящими глазами, словно начальник был прозрачным и мальчик видел сквозь него спинку стула.
— Селюженок! — В голосе начальника лагеря звучали недобрые нотки. — Что ты молчишь? Отвечай, зачем ты взял пластилин?
— Я не брал, — спокойно ответил Селюженок.
— Покажи руки.
Мальчик охотно протянул руки.
— Разожми кулаки.
Селюженок разжал кулаки.
— Поверни ладошками вверх.
Селюженок выполнил и эту команду.
— Смотри! У тебя все руки в пластилине.
— Это не пластилин.
— А что это?
— Это грязь.
— Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю тебя в город. Ясно? — И, не дожидаясь ответа, начальник лагеря, в котором все внутри уже клокотало, почти крикнул: — Иди!
Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не бывало зашагал к двери.
— Селюженок!
Мальчик остановился и повернулся к начальнику.
— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты брал пластилин?
В этом вопросе не было никакого смысла. Все было ясно. Просто начальнику хотелось добиться признания. Селюженок молчал. Он стоял перед разгневанным начальником и следил глазами за жирной блестящей мухой, которая, проворно шевеля проволочными лапками, ползла по стене. В эту минуту у похитителя пластилина не было более важного дела.
— Иди! — закричал начальник.
Он был, в общем, неплохим человеком, но этот Селюженок пробуждал в нем зверя.
Селюженок попрощался глазами с мухой и направился к двери.
Он спал крепко, как обычно спят люди с чистой совестью. Он ложился на правый бок, поджимал ноги, подворачивал под плечо одеяло, и не проходило пяти минут, как начинал легонько посапывать. Во сне он ничем не отличался от других ребят. Селюженок засыпал, и в лагере выключался источник беспокойства и неприятностей. Взрослые облегченно вздыхали. Откровенно говоря, они были бы счастливы, если бы Селюженок так и проспал до конца смены. Как спящая царевна.
Он спал на одном боку до тех пор, пока медный горн хриплым, словно со сна, голосом не пел подъем. Тогда Селюженок вскакивал на ноги и, как стрела, выпущенная из лука, устремлялся вперед, навстречу новым злоключениям.
В эту ночь, в нарушение всех правил, Селюженок вдруг проснулся. Не тревожные думы подняли среди ночи похитителя пластилина. Он проснулся от свиста. Мальчик повернулся на другой бок и натянул одеяло на голову. Свист не прекращался. Он, как пуля, пробивал тоненькое одеяло и не давал спать.
Селюженок сел на постели и огляделся. Никого рядом не было. Все ребята крепко спали. А свист не утихал. Это был не простой свист. Если вложить в рот четыре пальца или сложить губы трубочкой, так не засвистишь.
Свист то замирал, то звучал с новой силой. В нем билась и клокотала картавая горошина. А порой слышалось частое пощелкивание, будто кто-то рубил свист на мелкие кусочки.
Это пели соловьи.
Селюженок рассердился на птиц, которые не давали ему спать. Он на ощупь отыскал брюки, натянул их и бесшумно подошел к окну. В кармане лежал тяжелый камень. Селюженок зажал его в кулаке и легко перемахнул через подоконник.
Соловьиный оркестр умолк. Теперь пел только один соловей. К нему с камнем в руке шел Селюженок.
Звезд не было видно, и казалось, что в темноте небо опустилось и прилегло на землю. Селюженок чувствовал на щеке влажное прикосновение неба и его ознобный холодок. Он вдохнул поглубже и весь наполнился свежестью. Это потому, что он дышал небом.
Осторожно переставляя босые ноги, мальчик с камнем в руке шел на соловьиный свист. Теперь соловей пел так громко, что было удивительно, как он не разбудил всех ребят. Селюженок подошел к дереву и запрокинул голову. Напрягая зрение, он стал всматриваться в густые темные ветки. Соловей пел рядом, но его не было видно, словно он надел шапку-невидимку. Звуки падали из его горлышка чистыми, хрустальными каплями. И хотелось подставить руку, чтобы поймать хоть одну такую каплю. Поющие капли сливались в одну серебристую нить, которая тянулась к разбуженному мальчику.
Селюженок стоял под деревом затаив дыхание. Он забыл про камень и не шевелился, потому что боялся неосторожным движением порвать серебряную нить. Вокруг него было темное небо. Наверное, небо держится на звездах, как на гвоздях. А когда звезд нету, оно опускается на землю.

Он стоял до тех пор, пока краешек неба не стал светлеть. Соловей разбудил мальчика, а сам уснул. Но его свист все еще звенел в ушах, похожих на ручки сахарницы. Может быть, Селюженок выучил соловьиную песню наизусть и теперь напевает сам себе?
Селюженок обрадовался рассвету: теперь ему удастся хоть взглянуть на соловья. Но сколько он ни вглядывался в сплетение ветвей, увидеть соловья так и не смог.
Он вспомнил о камне и почувствовал, что камень в его кулаке потеплел и стал мягким. Он разжал кулак и удивился: это был вовсе не камень, а кусок зеленого похищенного пластилина. Остаток. Селюженок взвесил его на ладони и стал мять. Пластилин стал совсем податливым. И мальчику неожиданно пришло в голову слепить соловья. Он принялся за дело. Сначала его пальцы были неловкими, деревянными, но постепенно потеплели, разошлись и стали передавать пластилину то, что им приказывал мальчик.
Он лепил соловья таким, каким, ему казалось, должен быть исполнитель беспокойных ночных песен. Соловей оживал в руках мальчика. Он был зеленым. У него была узкая голова и большие распростертые крылья.
Селюженок посмотрел на соловья и улыбнулся. Ему показалось, что он сделал открытие — своими руками создал птицу-певца, и она молчит лишь потому, что время песен прошло и небо поднялось с земли высоко, до самых облаков.
Утром Селюженок появился в дверях художественной студии. Он робко переступил порог этого маленького пионерского храма искусств и лицом к лицу столкнулся с Татьяной Павловной. Увидев незваного гостя, Татьяна Павловна строго сдвинула брови и недовольно спросила:
— Селюженок? Что тебе надо?
Мальчик молчал. Он держал руку за спиной и смотрел в землю. Ему ничего не нужно было. Он стоял и молчал.
— Ты пришел извиниться? — пыталась догадаться преподавательница рисования.
Селюженок покачал головой. Он пришел совсем за другим.
Татьяна Павловна пожала плечами. Она уже была готова взять маленького похитителя пластилина за плечи и вытолкать из мастерской, но тут Селюженок поднял глаза и протянул ей руку. В руке лежало какое-то странное существо с узкой головой и большими крыльями.
— Что это? — спросила Татьяна Павловна.
— Соловей, — ответил мальчик.
Татьяне Павловне захотелось засмеяться над этим зеленым уродцем. Но она сдержалась. Она взяла из рук мальчика его работу и стала ее внимательно рассматривать, словно искала в ней то, что было незаметно с первого взгляда. А Селюженок следил за каждым ее движением.
— Это твоя скульптура? — тихо спросила преподавательница.
— Это не скульптура, это соловей, — отозвался мальчик и, заглядывая в глаза Татьяне Павловне, робко спросил: — Что, не похож?
Татьяна Павловна испытующе посмотрела на мальчика и ответила:
— Похож. Очень похож! А ты видел соловья?
Селюженок запнулся. Сперва он по привычке решил соврать: видел! Но потом ему захотелось сказать правду.
— Нет, не видел… Я слышал соловья.
— Слышал?
— Ну да, слышал. Сегодня ночью.
Татьяна Павловна все еще не могла разобраться, что же все-таки произошло с этим мальчиком, чье имя внушало всем лагерным работникам неприязнь. Но она догадывалась, что ночные соловьи разбудили в душе мальчика нечто такое, о чем никто даже и не подозревал. Она сказала:
— Ты приходи, будешь учиться лепить.
Селюженок кивнул головой. И вдруг на его лице отразилась чуть заметная тень расстройства.
— Так пластилина-то нет, — сказал он.
— А мы будем лепить из глины.
Селюженок оживился.
— Глины я вам натаскаю, — сказал он, — целую гору!
— Вот и хорошо, — подхватила Татьяна Павловна.
Уже уходя из мастерской, Селюженок вдруг обернулся и сказал:
— Только меня, наверное, выгонят.
Эти слова поставили Татьяну Павловну в тупик, но она быстро нашлась:
— Посмотрим. Может быть, еще не выгонят.
— Тогда приду, — сказал Селюженок. — И глины притащу.
Когда Селюженок ушел, Татьяна Павловна взяла со стола зеленого уродца соловья и направилась к начальнику лагеря.
— Что это? — спросил начальник лагеря, рассматривая скульптуру. — Что это за художество?
— Это соловей.
Начальник рассмеялся:
— Хорош соловей! Это зеленая ворона.
— Это соловей, — упрямо сказала Татьяна Павловна. — Его вылепил Селюженок.
При одном имени Селюженка начальник лагеря поморщился.
— Пусть он забирает своего зеленого соловья-ворону и отправляется. Завтра наш завхоз поедет в город и захватит его.
Татьяна Павловна села на стул.
— Отправить его мы еще успеем.
— Постойте. — Начальник лагеря встал со стула. — Кто, как не вы, настаивал на том, чтобы его отправить домой? Я не ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь. И все-таки я прошу оставить Селюженка.
— Что, у него открылся талант? — спросил начальник и недоверчиво покосился на зеленого соловья.
Татьяна Павловна покачала головой.
— Таланта у него никакого. Но сегодня ночью его разбудили соловьи, и я думаю… Я обещаю вам, что он больше не утащит ни булавки.
— Педагогический опыт?
— Допустим.
Никто не заметил, что произошло с Селюженком с той ночи, когда его разбудили соловьи. Вот если бы у него изменились глаза, или нос, или уши, это бы сразу заметили. А когда меняется что-то внутри, разглядеть трудно.
По-прежнему юркий головастик носился по всему лагерю. И по-прежнему в него, как копья, летели восклицательные знаки:
— Селюженок, убери ботинок с постели!
— Селюженок, не наступай на пятки!
— Селюженок, кто тебе разрешил трубить в горн!..
А малыши по-прежнему кричали ему вслед:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Да, собственно, ничего в нем и не изменилось, просто у человека появился в жизни интерес. Ему расхотелось тащить все, что попадается под руки. Он сбросил с себя старую, негодную шкурку и стал самим собой.
Ежедневно он приходил в художественную студию, садился за стол и лепил какие-то странные, несуразные существа, которые оказывались собаками, оленями, серенькими козликами.
Вскоре в лагере открылась выставка работ юных художников. Любопытные зрители толпились в художественной студии и нетерпеливо разглядывали работы своих товарищей. Никогда еще в студии не было так шумно. Здесь вспыхивали горячие споры об искусстве, и каждый отряд стоял насмерть за своих художников.
И вдруг кто-то крикнул:
— Смотрите, Селюженок вылепил соловья!
Это известие произвело на ребят ошеломляющее впечатление. Все сразу изменили своим любимым художникам и бросились к столу, где на фанерной подставке стояло зеленое существо с огромными крыльями. Под этим странным существом было написано: «„Соловей“. Вылепил Селюженок из 4-го отряда». Ребята сбились в кучу. Всем не терпелось посмотреть, что такое мог вылепить похититель пластилина.
Зрители рассматривали селюженковского соловья, как величайшее чудо, как смелое открытие, как находку далекой древности.
— Похож! — кричали одни. — Правда, похож?
— Как живой! — откликались другие.
Никто из ребят никогда не видел живого соловья, и все были убеждены, что соловей в самом деле зеленый и большекрылый. Кто-то попробовал было возразить:
— Не похож. Я видел соловья.
Но на него обрушилось сразу несколько добровольных защитников Селюженка:
— Врешь ты все! Никто не видел соловья… кроме Селюженка.
Когда первая волна восторгов и споров улеглась, кто-то произнес:
— Говорили, что он стащил пластилин, а он соловья лепил. Наврали на человека.
Селюженок стоял в сторонке и с удивлением слушал, что говорят ребята, и ему казалось, что речь идет не о нем, а совсем о другом Селюженке. И тот, другой, нравился ему все больше.
В эту ночь его снова разбудил соловьиный свист. Мальчик открыл глаза и долго слушал, как выводит свои серебристые трели невидимый певец. И вдруг он подумал, что нечестно слушать соловья одному. Он соскользнул с постели и одного за другим стал будить ребят.
— Слушай, вставай. Соловей поет!.. Слушай, слушай…
Не прошло и пяти минут, как вся палата уже была на ногах. Ребята теснились у окон и, сдерживая дыхание, слушали соловья. Никто, естественно, не мог разглядеть в темноте поющей птицы, но все почему-то представляли себе соловья зеленым и большекрылым. А самому Селюженку казалось, что это ожил и запел его соловей, слепленный бессонной ночью из похищенного пластилина.
ДЕВОЧКА С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Умерли все. Осталась одна Таня.
Из дневника Тани Савичевой. Ленинград. 1942 год.

Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками… Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила ему хорошего леща. Мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо… У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море. У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка… Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали.
Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой… Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали.
Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах: споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что, когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна.
Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением…» И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате — никого.
Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там… моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую землю, а Дорога жизни не помогла ей. Ее убили фашисты. Не пулей, не снарядом — голодом. Не все ли равно, чем убивают. Может быть, пулей не так больно, как голодом?..
Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра — там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.
Какие-то взрослые спросили меня:
— Ты кто такая?
— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить.
Мне сказали:
— Нельзя! Приходи со своим районом.
Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватилась за него:
— Он тоже пришел со своим районом?
— Он пришел с братом.
С братом можно. С районом можно. А как же быть одной? Я сказала им:
— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге… Тане Савичевой.
Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:
— Таня Савичева твоя подруга?
— А чего здесь особенного? Мы одногодки. Обе с Васильевского острова.
— Но ее же нет…
До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли:
— У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет щеки…
Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила:
— У нас даже почерк одинаковый!
— Почерк? — Они удивились еще больше.
— А что? Почерк!
Неожиданно они повеселели, от почерка:
— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с нами.
— Никуда я не поеду. Я хочу строить…
— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника писать Таниным почерком.
— Могу, — согласилась я. — Только у меня нет карандаша. Дадите?
— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом.
Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и дали Танин дневник — записную книжку с алфавитом — а, б, в… У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.
Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано:
«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».
Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти.
Но я василеостровская. И если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.
— Давайте ваш бетон. Буду писать.
Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. И мне говорили:
— Не торопись.
Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова. У меня плохо получалось.
— Не торопись. Пиши спокойно.
«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».
Пока я писала про Женю, умерла бабушка.
Если просто хочешь есть, это не голод — поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце, — все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает.
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.».
У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он там чертил. Зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у себя своим рейсфедером. Мне рассказывали. Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства…
— Пиши, — тихо сказали мне.
В новой раме бетон был жидкий, он наползал на буквы. И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но мне сказали:
— Пиши, Валя Зайцева, пиши.
И я снова написала — «умер».
«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942 г.».
«Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.».
Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тане Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не сдавалась — жила. Мне рассказывали…
Наступила весна. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и она держалась.
— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне. — Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.
Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово.
Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы.
— Можешь еще писать?
— Я допишу, — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. — Ведь Таня Савичева моя… подружка.
Мы с Таней одногодки, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она василеостровской, ленинградкой, не продержалась бы так долго. Но она жила — значит, не сдавалась!
Открыла страничку «С». Там было два слова: «Савичевы умерли». Открыла страничку «У» — «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О» — «Осталась одна Таня».
И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. В пустой квартире на Второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.
И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «Почему одна? А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?»
Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:
— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо.
Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я сказала:
— Приду завтра… без своего района. Можно?
— Приходи без района, — сказали мне. — Приходи.
Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми.
…И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.
А ВОРОБЬЕВ СТЕКЛО НЕ ВЫБИВАЛ


не жалко людей, которые рано перестали верить в сказки, разлюбили зверей и птиц, забыли дорогу в детство. Они редко припадают к незамутненному родничку далекого детства, чтобы смыть копоть обыденности, золотую пыльцу корысти, разъедающую сердце, и туман самообольщения, который плотной пеленой застилает глаза. Куда охотнее люди осуждают поступки своего детства, не замечая их чистоты и цельности. Они снисходительно посмеиваются, пожимают плечами и не пытаются разглядеть в своем детстве то первозданное, кристаллическое состояние души, которое утратили с годами.
Я часто имею дело с детьми, и мое собственное детство мне кажется не таким отдаленным. И я неожиданно начинаю ощущать себя не взрослым человеком, а состарившимся мальчиком. Это странное состояние, радостное и грустное одновременно, неожиданно увеличивает в своем значении события детских лет. И рядом со мной все чаще появляется мой школьный товарищ Семин — Марк Порций Катон Старший.
Его двойник, живший во втором веке до нашей эры в Риме, прославился тем, что всю жизнь, изо дня в день, упорно повторял: «Карфаген должен быть разрушен!»
Мой друг не требовал разрушения Карфагена, и не потому, что этот прекрасный город был разрушен римлянами задолго до его рождения (в 146 году до нашей эры), — просто он был добрым малым. Однако имя римского цензора он носил с завидным достоинством.
Эта необычная история началась с разбитого стекла. Толстое, шершавое, как бы покрытое морозным инеем, стекло в дверях директорского кабинета оказалось разбитым. И напоминало броню, пробитую снарядом. В образовавшейся бреши, как в пасти чудовища, торчали острые зубы осколков, и директор, маленький подвижный человек с розовой безволосой головой, выглядывал из этой зубастой пасти. В этот день у него был сокрушенный вид, как у человека и впрямь попавшего в пасть.
— Кто разбил стекло?
Естественно, тот, кто всегда бьет стекла: портфелем, мячом, корзинкой для бумаг, локтями. Воробьев! Если собрать все стекла, разбитые за недолгий век Воробьевым, то их хватит, чтобы застеклить новый дом. Итак, позвать сюда Тяпкина-Ляпкина, то бишь Воробьева!
Воробьев заглянул в «пасть» директорской двери:
— Звали?
— Войди! — приказали из «пасти».
Воробьев открыл дверь. Осколок стекла с легким звоном упал к его ногам. В этом звоне звучал укор.
— Ты выбил стекло? — спросил директор, поглаживая маленькой рукой бронзовую лошадь чернильного прибора. — Ты?
— Не-е! — односложно ответил Воробьев.
Казалось бы, все ясно. Ведь никто лучше Воробьева не знал, выбивал он стекло или не выбивал. Но, оказывается, ничего не было ясно. По крайней мере, директору. Он сказал:
— Пойди подумай. Зайдешь на следующей перемене.
— Подумаю, — буркнул Воробьев, хотя думать ему было нечего. — Зайду.
На следующей перемене «пасти» в дверях директорского кабинета уже не было: ее забили фанерой. Чистой, еще не исписанной словами и словечками. Воробьев постучал в фанеру.
— Подумал? — спросил директор.
— Подумал, — соврал Воробьев.
— Ты выбил стекло?
— Не-е!
Директор ударил рукой по крупу бронзовой лошади.
— Воробьев! Хоть раз в жизни признайся чистосердечно, тогда тебе ничего не будет.
Это был деловой разговор!
— Мать вызывать не будете? — поинтересовался мальчик.
— Не будем!
Воробьев устало посмотрел на директора — верить или не верить? — и решил рискнуть:
— Я выбил… Можно идти?
— Иди, — с облегчением сказал директор и почти с любовью посмотрел на Воробьева.
А Воробьев посмотрел на директора, как на соучастника в заговоре.
На этом история с разбитым стеклом могла благополучно завершиться, если бы Семин не был в душе Марком Порцием Катоном Старшим. В тот же день мой школьный товарищ открыл дверь с фанерой вместо стекла и с твердостью, с какой его римский двойник произносил: «Карфаген должен быть разрушен!», сказал:
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Это что еще за новости?! — Рука директора оседлала бронзовую лошадь чернильного прибора.
— А Воробьев стекло не выбивал! — повторил Семин.
— Кто же, по-твоему, выбил?
— Не знаю.
— Вот-вот, — оживился директор, — не знаешь, а говоришь! Воробьев сам признался. Понятно?
— Понятно, — ответил Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.
Розовая голова директора поплыла по кабинету, как воздушный шарик.
— Воробьев говорит — выбил, ты говоришь — не выбивал! Кому прикажешь верить?
— Мне! — приказал упрямый римлянин.
Директор вспыхнул:
— Позвать Воробьева!
Позвали. Воробьев пришел.
— Ты выбил стекло?
— Я, — как по-заученному, выпалил Воробьев.
— Что ты на это скажешь, Семин? — победоносно спросил директор моего школьного товарища.
— Он врет! — ответил Семин.
— Какой ему резон врать? Если бы он отпирался, тогда другое дело. Но он признается. Не вижу логики!
— Он врет! — повторил Семин, который видел логику.
— Отстань ты! — лениво буркнул Воробьев и тайком погрозил Семину кулаком. — Я выбил.
— Теперь ты убедился? — Директор торжествующе трепал по холке бронзового коня.
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Во-он! — тихо сказал директор, и его розовая голова стала пунцовой.
Так была упущена еще одна возможность раз и навсегда покончить с выбитым стеклом. История продолжалась.
В классе шел сбор, посвященный сбору колосков в подшефном колхозе. Все шумно обсуждали колоски. Спорили. Брали обязательства. Мой товарищ поднял руку.
— Обязуюсь собрать мешок колосков, — сказал он и тут же добавил: — А Воробьев стекло не выбивал!
— Какой Воробьев? Какое стекло? — растерялась вожатая. — Ведь мы говорим о колосках!
— Так я и говорю о колосках, — сказал Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.
— Выбил, — мрачно сказал Воробьев: он был верен уговору, держал слово.
— Ну конечно, выбил, — подхватила вожатая, — а колоски…
— Не выбивал, — стоически повторил двойник римского цензора.
— Семин, ты говоришь не на тему, — огорчилась вожатая. — Не срывай сбор, посвященный сбору…
— Я за колоски! А Воробьев стекло не выбивал!
На вечере самодеятельности Семину поручили читать стихотворение Пушкина «Вьюга». Он вышел на сцену, заложил руки за спину, привстал на носочки и объявил:
— Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Вьюга», — потом еще выше привстал на носочки и выдохнул: — А Воробьев стекло не выбивал!
Он произнес эту фразу горячо и вдохновенно, как строку пушкинского стихотворения. Зал загудел. Засмеялся. Захлопал.
А Марк Порций Катон Старший смотрел в темный зал и широко улыбался. Он думал: ребята хлопают, шумят и смеются потому, что согласны с ним.

Он вдохнул поглубже и радостно стал читать стихотворение:
— Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
В зале стоял гул, шумели, но он не слышал шума, он читал с душевным жаром, и ему казалось, что пушкинские строки подтверждают его правоту. Директор, сидящий в первом ряду, поднялся со стула и пошел прочь, сказав, чтобы Семина немедленно прислали к нему.
Прямо со сцены Семина подвели к дверям директорского кабинета. К тому времени фанеру уже успели исписать и изрисовать вольностями, ее пришлось выкинуть. На ее место вставили толстое шершавое стекло, как бы покрытое морозным инеем. Семин постучал в новое стекло. Вошел.
— Долго это будет продолжаться? — спросил директор.
— Что… продолжаться? — спросил мальчик.
— «А Воробьев стекло не выбивал!» — голосом Семина произнес директор.
Семин немного подумал и тихо сказал:
— Всегда.
Тогда директор положил обе руки на спину бронзовой лошади и сказал:
— Среди древних римлян тоже встречались чудаки. Калигула, например, мечтал сделать своего любимого коня консулом и приводил его в сенат. А цензор Марк Порций Катон Старший все речи в сенате начинал словами: «Карфаген должен быть разрушен!», но так и не дожил до того дня, когда римляне смели с лица земли этот прекрасный город. Кто же ты? — спросил директор моего школьного товарища Семина. — Калигула или Марк Порций?
И мой друг, не моргнув глазом, ответил:
— Марк Порций Катон Старший.
Он стоял перед директором в потертой курточке, в ботинках со сбитыми каблуками, маленький, щуплый, так не похожий на могущественного римлянина в просторной тоге, как бы сшитой из двух простыней. Но в своей гордой непреклонности он был похож на своего древнего двойника. Римский цензор требовал мести — мой друг хотел справедливости, поэтому был выше цензора на целую голову.
С этого момента в нашей школе не стало Семина, а появился Марк Порций Катон Старший. Его только так и называли. А он всюду и везде — на пионерских сборах, на классных собраниях, на встречах с любимыми писателями — повторял свою неизменную истину: «А Воробьев стекло не выбивал!» Сперва на него сердились, с ним спорили. Потом привыкли и стали воспринимать его слова как шутку.
Прошли годы. Уже давно ребята из нашего класса перестали бить стекла. А самый главный стеклобой Воробьев отпустил усы — жиденькие, рыжие усишки — и очень гордился ими. Холил и лелеял… Наступил выпускной вечер. Все пришли в школу нарядные, возбужденные. Очень шумели, чтобы заглушить грусть. Все произносили речи, как взрослые. Учителя тайком смахивали с глаз слезу и говорили, что лучше нас не было и не будет. И вот тогда «средь шумного бала» неожиданно поднялся наш Марк Порций Катон Старший и сказал:
— А Воробьев стекло не выбивал!
Все засмеялись, решили, что теперь-то это шутка. И ждали, что наш римлянин тоже засмеется. Но на его лице не было лучиков смеха: глаза смотрели напряженно, а сам он был очень серьезен. И все почувствовали, что он не шутит. На прощальном вечере у него оставалась последняя возможность доказать свою чудаковатую правоту.
— Честное
слово… не выбивал…
Его голос дрогнул. Пальцы на руках задвигались: он пытался сжать их в кулак, а они, как на пружинках, распрямлялись. Ребята притихли, а наш маленький директор с розовой безволосой головой спросил:
— Послушай, Семин, чего ты добиваешься?
— Правды, — сказал Семин.
— Это было так давно…
— У правды не выходит срок.
— Но правда эта выеденного яйца не стоит. Маленькая правда.
Мой друг твердо посмотрел в лицо директору и сказал:
— Правда не бывает маленькой. Правда всегда большая. Меня так дома учили. Стоит один раз изменить правде, и тогда уже не остановишься… Воробьев стекло не выбивал!
И тогда поднялся Воробьев и, прикрывая усы ладонью, словно стесняясь их, сказал:
— Не выбивал. Я в тот день в футбол гонял на соседнем дворе. А в школе меня не было.
— Кто же выбил злосчастное стекло? — вырвалось у директора.
— Если по правде, то я, — сказал длинный парень, за свой рост прозванный Верстой.
Так закончилась эта малозаметная история. Но все собравшиеся в актовом зале вдруг почувствовали облегчение, словно после тяжелого знойного дня припали губами к холодному роднику.
ГДЕ СТОЯЛА БАТАРЕЯ


перва я не понял, что заставило меня остановиться перед зданием школы и внимательно посмотреть по сторонам. Вокруг стояли новые, необжитые дома. Подошвы пешеходов не успели обшаркать асфальт, и он был свежим и пористым, как чернозем. Хотя школа стояла в новорожденном районе Москвы и я попал сюда впервые, но по каким-то неуловимым признакам мне показалось, что я давно знаю это место.
Я остановил бегущего парня, который чуть не сбил меня с ног, и спросил:
— Что здесь было раньше?
— Пустырь, — нехотя ответил он, собираясь бежать.
— А до пустыря?
— Барак.
— А до барака?
Он на мгновение задумался, метнул в меня недовольный взгляд и выпалил:
— Ничего не было!
Парень заторопился дальше, а я остался перед зданием школы. Память напряженно работала, будто решала сложную задачу со многими неизвестными. И тут мой взгляд задержался на группе старых тополей. Они стояли в конце улицы, метрах в двухстах от школы. Могучие стволы с темной ребристой корой клонились к земле, а от клейкой зелени долетал острый горьковатый аромат. Эти тополя заставили меня вздрогнуть. Возле них рухнул сбитый самолет. Один тополь обгорел. Мы его спилили. На дрова. Я вспомнил. Здесь была шестая батарея.
Я сразу представил себе огневую позицию. Четыре круглых орудийных окопа, расположенных трапецией. Невысокие насыпи брустверов. И длинные зеленые стволы зенитных орудий, которые то поднимались над землей, то уходили под землю. Я представил себе низкие дымы землянок. Холодную тяжесть снарядов. Удары в медную гильзу перед боем…
В школе зазвенел звонок. Его дребезжащий звук вырвался наружу, и сразу послышался топот бегущих ног. Так мы бежали по тревоге к орудиям.
Здесь тогда не было ни школы, ни домов, ни асфальтов. Было поле. Вдалеке лес. А большие старые тополя — они и тогда были старыми — стояли на краю деревни. Еще за нашей спиной протянулся глубокий противотанковый ров. Батарея стояла впереди. Наши орудия были без колес — лафетов на колесах не хватало, а в расчеты командования не входило какое-либо передвижение орудий противовоздушной обороны. Но мы двигались. Мы с неимоверной быстротой приближались к фронту. Вернее, фронт приближался к нам. Каждый вечер в одно и то же время прилетали «юнкерсы», и начинался бой. От выстрелов большие тяжелые пушки вздрагивали всем телом, как живые, а длинные стволы откатывались с поразительной легкостью. Иногда вблизи батареи падали бомбы, иногда с неба устремлялись раскаленные нити трассирующих пуль. Фашисты огрызались.
Я медленно обошел здание школы. Деревни не было в помине. А лес, может быть, и был, но его скрыли новые дома. Я узнавал самую землю, на которой была огневая позиция шестой батареи. Землю и небо — голубое, в редких? волнообразных облаках. Небо было таким же, только рядом с облаками часто чернели клубки разрывов.
В ноябре сорок первого года фронт вплотную подошел к нашей батарее. Настал момент, когда между нами и фашистами не осталось ни одной роты, ни одного нашего бойца. Теперь немцы летали без всякого расписания — днем и ночью. В перерывах между налетами мы настороженно присматривались к лесу. Оттуда в любую минуту могли выползти немецкие танки. Что может сделать одинокая зенитная батарея против лавины танков? Но у нас на брустверах лежали ящики с бронебойными снарядами. И за нами была Москва.
Мы были очень молодыми. Мы привыкли к мысли, что кто-то старший позаботится о нас, выручит в трудную минуту, не даст погибнуть в неравном бою нам и нашим орудиям. И мы не ошиблись в своей юношеской вере. Однажды на исходе холодного дня над нами пролетели странные огненные снаряды. Впереди раздался нарастающий грохот. Вспыхнуло небо. Это у старых тополей ударили «катюши». Они били через наши головы по немцам…
Я ходил по школьному двору и все пытался отыскать место, где стояло мое орудие. Теперь ни асфальт, ни клумбы, ни само здание школы не могли мне помешать отыскать окоп моего орудия. Я ориентировался по старым тополям и чувствовал себя уверенно. Окоп оказался под крыльцом школы.
Я стал медленно подниматься по ступеням, а навстречу мне бежали ребята. Они спешили поскорей очутиться на улице и не обращали на меня никакого внимания. Они не знали про шестую батарею и про окоп моего орудия. Я поднялся на крыльцо и увидел себя молоденьким красноармейцем в короткой шинели с полевыми петлицами, в серой шапке из «рыбьего меха», со звездочкой над переносицей.
А дети не замечали красноармейца. Они бежали на улицу. Они не знали, что бегут по брустверу орудийного окопа.
Я вспомнил, как после победы увозили орудия. Они трудно подавались, словно за годы войны пустили корни, вросли в землю. Круглые орудийные окопы долго стояли пустыми. Они были похожи на гнезда, из которых улетели птицы. А я еще долгое время по-своему ориентировался в Москве. Когда мне называли адрес, в уме прикидывал: «Это возле первой батареи», «это где-то в районе седьмой». Постепенно окопы, похожие на гнезда, стали исчезать. Их сровняли с землей.
Потом огневые позиции превратились в строительные площадки. Вместо стволов зениток над ними поднялись стрелы кранов. Снова стали рыть. На этот раз котлованы. Но старая карта боевого порядка полка долго оставалась в моей памяти. И часто, проезжая мимо какой-нибудь бывшей батареи, я думал: «Пушек не видно, потому что появились высокие дома, но если обойти дома…»
Теперь, стоя на крыльце школы, построенной на огневой позиции шестой батареи, я испытывал чувство неловкости оттого, что не сразу признал свое старое поле боя. Мне захотелось, чтобы отныне все знали: здесь стояла шестая батарея. Я поймал за руку пробегавшего мальчишку и спросил его:
— Ты знаешь, что здесь было раньше?
Он удивленно выкатил на меня глаза и сказал:
— Школа.
— Да нет! — почти крикнул я. — Здесь была шестая батарея. Сто второго…
Он не понял меня и спросил:
— Шестая «А» или шестая «Б»?
Я растерянно посмотрел на мальчика, и он, видимо желая помочь мне, сказал:
— Может быть, вы ищете сто вторую школу?
Мне захотелось сказать мальчику: «Я ищу не сто вторую школу, а сто второй зенитно-артиллерийский полк». Но я промолчал. Я промолчал, и мне стало стыдно своего молчания. Я сильнее сжал руку мальчика и сказал:
— Здесь стояла моя батарея. Мы били по фашистским самолетам, которые летели к Москве.
— Здесь? — мальчик удивленно посмотрел на крыльцо и потрогал рукой перила.
— Да, да, здесь. — Я почувствовал, что он не верит мне.
Не может поверить, потому что в его представлении на этом месте всегда стояла школа. И никакой шестой батареи.
Я разжал руку. Мальчик убежал.
И я понял, что не смогу успокоиться, пока не сумею убедить этого мальчика и всех его товарищей, что здесь в годы войны стояла шестая батарея. И потому теперь стоит школа.
ВСАДНИК, СКАЧУЩИЙ НАД ГОРОДОМ


автра об этом случае заговорит весь город, а сегодня о нем знают лишь несколько любопытных прохожих, пожарные добровольные дружины и четвертое отделение милиции. Но даже им неизвестно, ради чего Киру решился на такой отчаянный поступок.
Поздней осенью город похож на корабль, выходящий в открытое море. Сырой туман обволакивает дома. Мостовая мокрая, как палуба, по которой только что прокатился соленый морской вал. Провода поют, как снасти. И Киру кажется, что город даже слегка покачивает.
Киру поднимает голову. Он видит, как обрывки серых облаков быстро проносятся над самыми крышами. А может быть, они как раз и неподвижны, а это город торопливо плывет в открытое море.
Киру смотрит на шпили — чем не мачты! — на антенны, на трубы и на флюгера.
В городе много флюгеров. В былые времена город моряков часто обращал взор к железным помощникам — флюгерам: они первыми приносили весть о попутном ветре. Теперь на флюгера никто не обращает внимания. Но их не предупредили, что они больше не нужны людям, и флюгера продолжают нести свою трудную службу. Там, высоко над городом, между небом и землей, скрипя ржавыми петлями, они тяжело поворачиваются на своих штырях. Как живые существа, они разговаривают с ветром и дождем, а первые снежинки, прежде чем опуститься на землю, тихо шуршат рядом с ними.
Случается, что у одного из городских флюгеров так крепко заклинит ржавые петли, что он уже не может пошевельнуться. Флюгер погибает, как боец на посту. Люди же не замечают смерти старого флюгера. Стоит на крыше — и ладно.
Киру и его друзья идут по городу и рассматривают флюгера. И кто-то кричит:
— Смотрите, рыба из моря на крышу прыгнула!
Все задирают головы. Все смотрят на рыбу.
— Подумаешь, рыба! А ты видел флюгер-русалку?
— А я знаю трех петухов!
— Петухи — ерунда!
— Петухи приносят счастье!
— Ничего подобного! Они берегут дом от пожара!
— Бабушкины сказки!
Киру идет молча. Он не принимает участия в этом беспорядочном споре. С некоторых пор он стал молчаливым. Особенно если рядом Айна.
Ему кажется, что Айна появилась совсем недавно. Приехала издалека и пришла в класс, как новенькая.
На самом деле Айна ниоткуда не приезжала, а учится с Киру в одном классе уже пять лет. С третьего класса. Может быть, «старую» Айну подменили?
В «новой» Айне его интересует все. Он знает, что Айна худенькая, стройная, как тростинка. И что волосы у нее не золотые и не желтые — соломенные. И хотя глаза у девочки так глубоко посажены, что сразу не определишь их цвет, Киру знает: они зеленые. Осенью Айна носит серое пальто с черными черточками. А шапка на ней красная.
Сейчас Айна идет со всеми неподалеку от Киру и внимательно следит за спором о флюгерах. И ее вздернутый носик сам, как флюгер, поворачивается от одного спорщика к другому. Она ждет, когда ребята все выговорят, и только тогда вступает в разговор.
— А я знаю дом, на котором флюгер не петух, не рыба, не стрела, — говорит Айна, посматривая, какое впечатление производит ее рассказ на ребят. — Это какое-то странное существо. Он очень высоко, поэтому не разберешь.
— Где этот дом?
— Показать?
— Покажи.
И вся компания сворачивает за Айной в переулок.
Киру тоже сворачивает в переулок. Он вообще ходит за Айной как тень. А она, как на тень, не обращает на него внимания. Потому что Киру никто не подменил и он для Айны все тот же, что был пять лет назад.
Обычно, когда Айна возвращается домой, Киру идет за ней. Его от Айны отделяют каких-нибудь десять шагов. Но эти десять шагов стоят десяти километров. Десять километров Киру прошел бы запросто, а этот десяток шагов никак не может преодолеть. Он идет по улице, никого не замечая. Он видит только серое пальто с черными черточками и красную шапочку.
Айна знает, что Киру идет за ней. Ее это злит. Что за глупый парень! Если бы он шел рядом, можно было бы с ним поболтать. А так получается, что он выслеживает ее. Айна неожиданно останавливается и резко поворачивается. Тогда Киру, застигнутый врасплох, тоже останавливается и опускает глаза. Он смотрит себе под ноги. А когда снова поднимает глаза, Айна уже далеко.
Иногда она совсем убегает. И Киру остается один.
Сейчас кругом ребята, и Киру чувствует себя уверенней. Его робость перед Айной не так заметна. Правда, ему все время кажется, что Айна относится ко всем лучше, чем к нему, хотя только он один готов сделать для Айны что угодно.
— Далеко еще? — спрашивает кто-то из ребят Айну.
— А ты уже устал? — откликается девочка. — Свернем за угол, а там рядом.
Киру никогда бы не спросил Айну: «Далеко или нет?» Он может идти за ней хоть на край света. И он немножко завидует друзьям, которые могут тянуть Айну за руку, спорить с ней и задавать ей вопросы.
Когда ребята подошли к дому с загадочным флюгером, повалил снег. Не белый морозный снег, а серый, вперемешку с дождем. Ребята подняли воротники. Айна поглубже натянула красную шапочку: только нос выглядывает. Киру поежился, но воротник поднимать не стал. Он решил, что с опущенным воротником у него более мужественный вид. Но о каком мужественном виде могла идти речь, если Киру худой и узкоплечий. Подбородок у него заострен, а нос маленький и ровный. Брови и ресницы такие белесые, будто их подпалили и мальчик остался совсем безбровым. Руки у Киру белые, без мозолей. А на носу у него очки.
— Вот таинственный флюгер, — сказала Айна, — смотрите.
Вся компания задрала головы.

Ребята увидели высокую черепичную крышу. Черепица похожа на красные перышки, а вся крыша на большое алое крыло. На самом краю конька возвышался штырь. На нем был флюгер. Даже с земли видно, что этот флюгер не чета своим собратьям. В его формах было что-то стремительное и непонятное. Что хотел изобразить древний флюгерных дел мастер?
— Да это петух! — воскликнул кто-то из друзей Киру.
Одного слова было достаточно, чтобы вспыхнул спор.
— Петух? Ты, наверно, никогда петухов не видел? Хорош петух без хвоста!
— Откуда ты взял, что без хвоста! Надо быть слепым, чтобы не видеть хвоста!
— Киру, ты в очках, ты должен видеть лучше всех. Скажи, есть хвост или нету?
Краска ударила в лицо Киру. Ему показалось, что, напоминая об очках, товарищ хотел уронить его в глазах Айны. Он покосился на Айну, ожидая прочесть в ее глазах насмешку. Но Айна даже не повернулась в его сторону. Она рассматривала флюгер.
Тогда Киру успокоился и стал тоже рассматривать железное существо, которое взмыло над городом и завело дружбу с ветром. Киру прищурил глаза. Он напрягал их. Есть у флюгера хвост или нет? Ребята ждали ответа. Но что мог им сказать Киру? Мокрые снежинки падали на очки, и стекла становились мутными. Сквозь них ничего невозможно было разглядеть на земле, не то что в небе.
— Ничего не вижу, — признался Киру.
— Эх ты, «не вижу»! — передразнила его Айна и уничтожающим взглядом смерила мальчика.
Киру стало стыдно, что он не видит хвоста. В эту минуту он ненавидел самого себя. Ни на что он не годен. И правильно делает Айна, что презирает его. Он был жесток к себе.
Не говоря ни слова, Киру повернулся и побрел куда глаза глядят.
Долго ходил он по городу, одинокий, потерянный. Холодный влажный ветер пронизывал его, а снежинки норовили непременно попасть за шиворот. Киру поднял воротник. Теперь ему уже было все равно.
Наконец он снова попал на улицу, по которой шел за Айной. Он остановился перед домом с таинственным флюгером. Ребят уже не было. Неизвестно, чем кончился их спор. Так или иначе, они давно разошлись по домам. Киру потоптался на месте. Он задрал голову и мучительно стал вглядываться в мутную высь. Он протирал стекла очков, закрывал глаза и снова открывал их. Вот если бы завтра, придя в школу, он смог бы рассказать Айне о странном флюгере! Какой-то горячий огонек вспыхнул в мальчике. Он разгорался все сильней, наполняя сердце решимостью. Невозможное стало казаться вполне осуществимым. Еще полностью не отдавая себе отчета, что он собирается делать, Киру медленно направился к подъезду дома с таинственным флюгером.
На лестнице стоял полумрак: лампочки еще не зажгли, а хмурый день давал мало света. Киру стал подниматься. Он шел мимо квартир с кнопками звонков, с ящиками для писем и газет, с почти невидимыми номерками. Он спешил, словно боялся, что огонек, двигающий сейчас его поступками, может погаснуть.
Дверь на чердак оказалась открытой. Киру подошел к слуховому окну и выглянул наружу. Ветер дохнул ему в лицо холодной сыростью. Снежинка зацепилась за его ресницу и тут же растаяла. Мальчик смотрел в окно и видел одни крыши. Они расходились во все стороны, как тяжелые застывшие волны, и вдалеке сливались с мутным морским небом.
Киру увидел сразу десятки флюгеров. Как стрелки компаса, они смотрели в одну сторону. Киру почудилось, что все флюгера города нацелили свои клювы и стрелы на него и ждут, что он будет делать дальше.
Мальчик высунулся до пояса и посмотрел на крышу. Крупные дольки черепицы уже не были похожи на легкие перышки. Тяжелые, горбатые, кое-где пробитые градом, они напоминали панцирь окаменевшего чудовища. А флюгера не было видно. Он был скрыт за высокими трубами.
На мгновение Киру охватила робость. Но свистящий упругий ветер, казалось, донес до него голос холодной, равнодушной Айны. Этот голос шепнул: «Иди!» И страх еще ниже упасть в глазах Айны оказался сильнее страха упасть с высокой скользкой крыши.
Киру вылез из тесного слухового окна и, цепко хватаясь за выступы, стал карабкаться по крыше. Холодная черепица обжигала руки. Ноги скользили. Но Киру медленно продвигался вперед. Он не оглядывался, старался не думать о высоте. По крутой каменной горе он лез к перевалу — к коньку крыши. Он не думал о том, каким будет его обратный путь. Он смотрел вперед.
Так Киру добрался до цели.
Вот он, таинственный флюгер, которого никто не мог разглядеть с земли. Никакой это не петух! Это конь и всадник. С земли флюгер казался маленьким и летучим. Вблизи он был большим и грузным. От времени он покрылся шершавой ржавчиной, а дым измазал его жирной сажей. Дул сильный ветер, и конь с пронзительным скрипом шарахался то влево, то вправо. Может быть, он хотел сбросить своего седока, а может быть, ему хотелось спрыгнуть со штыря и растоптать тяжелыми копытами дерзкого мальчишку.
Киру сидел верхом на гребне крыши и внимательно следил за конем и всадником. В это время ветер ударил с новой силой. Конь мелко задрожал. Киру подумал, что сейчас конь сделает отчаянный прыжок и помчится со своим всадником по черепичным крышам города. Вот здорово!
Ветер ревел все сильнее. Низкие облака мчались над самой головой. Но Киру не было страшно. Его сердце пело. Все старые флюгера сорвались со своих насестов и летали над городом. Плыли рыбы, били крыльями петухи, на ветру спутались волосы русалок. Они спешили в сторону моря. И железный конь скакал туда же. И Киру почувствовал себя всадником, скачущим над городом вместе со взбунтовавшимися флюгерами. Он спешил вдаль, чтобы совершить подвиг во имя Айны.
Ветер раскачивал черный штырь флюгера. Все вокруг гудело, скрипело, гнулось. Ветер мешал дышать, и Киру отвернулся, чтобы набрать воздуха, и взгляд его упал на крышу. Он заметил, что дольки черепицы стали блестящими, покрылись прозрачным леденцом. Мальчик попробовал опереться ногой на выступ — нога соскользнула. Он еле удержал равновесие. Тогда, вместо того чтобы возвращаться к слуховому окну, мальчик еще ближе подвинулся к железному коню и обхватил штырь руками. Он прижался к нему, и от этого скрип петель стал еще громче и пронзительней. Будто вместе с всадником и конем суставы Киру при каждом движении издавали скрип.
Киру закрыл глаза и стал ждать. Руки его коченели, а тело на ледяном ветру утрачивало гибкость.
Постовой милиционер поднял голову и увидел маленькую фигурку на высокой черепичной крыше. Может быть, это монтер исправляет антенну? Постовой сделал еще несколько шагов и снова посмотрел вверх. Фигура сидела неподвижно. Она лепилась у самого края конька крыши. Дальше шел обрыв.
Постовой перешел на другую сторону и стал внимательно следить за фигуркой. Она была неподвижна. Как это человек забрался туда в такой гололед? И почему он не шевелится? И как он оттуда слезет?
Некоторое время милиционер раздумывал, что ему предпринять. Потом он торопливыми шагами направился к телефону.
Пожарная машина прибыла через пять минут. Она промчалась по городу, тревожная, ревущая, красная, будто охваченная пламенем. Автомобили уступали ей дорогу, а люди провожали ее тревожными глазами и думали: «Где-то горит…» Они не знали, что пожарная машина спешила не в бой с огнем, а по другому, необычному делу.
Возле дома с флюгером машина резко затормозила. С подножки соскочил лейтенант, а к нему уже спешил постовой.
— Ну, где ваш альпинист? — спросил лейтенант.
Он был недоволен, что его дружину потревожили по такому непожарному делу.
— Вон у флюгера, — сказал постовой и кивнул в сторону крыши.
Лейтенант ничего не сказал милиционеру, а стал быстро отдавать свои, понятные одним пожарным, распоряжения. Заработал мотор, и пожарная лестница стала медленно подниматься. Она была похожа на ствол огромной пушки перед выстрелом. Встав почти на дыбы, лестница стала вытягиваться. Она росла все выше и выше. Не останови ее, и она дотянется хоть до Луны. Но когда ее край коснулся крыши, лестница перестала расти. Тогда по ней стал взбираться молодой парень в брезентовой одежде и зеленой каске. Пожарный взбирался так ловко, что прохожие диву дались. Наконец он достиг края крыши.

Он увидел мальчика, обнявшего штырь флюгера. Большой флюгер мотало во все стороны. Вероятно, флюгер разделял тревогу тех, кто снизу следил за маленькой фигуркой мальчика на гребне крыши.
Пожарный тихонько позвал:
— Эй, парень!
Киру открыл глаза. Заметив человека, появившегося со стороны дома, он заморгал глазами.
— Как вы сюда попали? — спросил Киру хриплым голосом.
— По лестнице, — сказал пожарный. — А вот как ты сюда вскарабкался? — в свою очередь спросил он. И добавил: — Не пойму, как ты не свалился. Ведь вся крыша обледенела.
Киру молчал. Он еще как следует не пришел в себя.
Пожарный сказал сочувственно:
— Нагорит тебе, наверно!.. Пошли.
Киру задвигал руками, завертел шеей. Он хотел убедиться в том, что еще не совсем окаменел. Пожарный сильной рукой обхватил мальчика, но тот запротестовал:
— Я сам.
— Ладно, — сказал пожарный. — Я полезу первый, буду тебя подстраховывать. А ты крепче держись и, главное, не смотри вниз.
И они начали сползать с крыши на первую перекладину лестницы: сперва пожарный, потом Киру. Когда мальчик ухватился за лестницу, он задержался. Еще раз посмотрел на коня и всадника — на двух безмолвных виновников происшествия.
Внизу собралась толпа. Большинство прохожих интересовало, что происходит на крыше большого дома. А лейтенант пожарных стоял в стороне и молчал. Ему было неловко, что его боевая красная машина с лестницей не борется с пожаром, а снимает с крыши какого-то чудака.
Когда Киру наконец очутился на земле, он почувствовал себя совсем хорошо. Самое трудное было позади. Он поблагодарил пожарного, который помог ему спуститься с крыши, и собрался было уходить, но постовой милиционер сказал ему:
— Придется проехаться в отделение. Дашь там объяснение, товарищ верхолаз.
Киру удивленно посмотрел на него: ведь он не сделал ничего плохого. Но постовой неумолимо сказал:
— Пройдемте!
Он пригласил Киру в пожарную машину и сказал лейтенанту пожарных:
— Довезите нас до четвертого.
Лейтенант кивнул головой, и машина помчалась по городу.
На другой день по пути в школу Киру встретил Айну. Обычно в таких случаях Киру замедлял шаги и безмолвно шел на почтительном расстоянии. Но после того как он карабкался по ледяной крыше, мчался по городу на пожарной машине и имел неприятный разговор в четвертом отделении милиции, ему уже ничего не было страшно. Поэтому он решился подойти к Айне.
Он поднял на нее глаза и сказал:
— Айна, я видел флюгер. Это не петух и не рыба. Это всадник, скачущий над городом.
— Откуда ты знаешь? — удивилась Айна.
— Я… я был там.
— На крыше?
— Ну да, на крыше.
Киру ответил так спокойно, будто для него ничего не стоило залезть на крышу. Девчонка недоверчиво посмотрела на него.
— Врешь! — сказала она.
— Нет, не вру! — отрубил Киру и сам удивился, что может так смело разговаривать с Айной. — А не веришь, — продолжал он, — не надо!.. Только я специально для тебя лазил.
И тогда холодная Айна улыбнулась. Она впервые посмотрела на Киру как на равного. Она не могла смотреть свысока на человека, который побывал на такой головокружительной высоте, на какую не поднимался еще ни один знакомый мальчишка.
Киру почувствовал, как что-то звонкое и горячее забилось у него в груди. Он подошел ближе к Айне и сказал:
— Хочешь, я облазаю все флюгера и расскажу тебе, какие они вблизи?
— Не надо, не надо! — испуганно сказала Айна. — Еще свалишься.
Киру было приятно, что Айне не безразлично, свалится он с крыши или нет.
Девочка неотрывно смотрела на Киру. Старый школьный товарищ вырос в ее глазах, и ей показалось, будто его подменили. И перед ней стоит совсем другой Киру. Новый, приехавший откуда-то издалека.
Они шли рядом. И упругий ветер с моря дул им в спину, словно поторапливал их. А высоко на крышах несли свою трудную службу флюгера: летели железные петухи, плыли рыбы и всадник на коне скакал над городом.
ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ


елька сидит на крыльце и штопает чулок. Она поленилась разыскать грибок и штопает прямо на коленке. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то поднимает блестящее острие иглы. Розовая коленка постепенно скрывается под штопкой, похожей на листок тетради в клеточку.
В степи жарко. Ничего не хочется делать. А сидеть совсем без дела — скучно. Вот Лелька и придумала себе занятие.
Когда она наклоняется вперед, одна из косичек соскальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лелька недовольно водворяет косичку на место — за спину. Она делает это резко, будто хочет забросить ее подальше, раз и навсегда.
Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тянет за собой рыжую нитку. Лелька так увлеклась работой, что не замечает, как отворяется калитка и кто-то входит в палисадник. Когда девочка поднимает глаза, перед ней стоят Федор Федорович, председатель поселкового Совета, и незнакомый военный. Лицо Федора Федоровича коричневое, испеченное на солнце. А военный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном солнышке. В одной руке он держит зеленый чемодан, в другой, согнутой в локте, — шинель.
— Здравствуй, хозяйка, — говорит Федор Федорович.
— Здрасте, — отзывается Лелька и встает со ступеньки.
Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у Лельки, вероятно, смешной, потому что военный отворачивается в сторону, чтобы скрыть улыбку.
— А где мать? — спрашивает Федор Федорович.
Он спрашивает, а военный молчит. Стоит за Федором Федоровичем и из-за плеча смотрит на Лельку. Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан короткий.
— Мама пошла в сельпо, — отвечает Лелька и краснеет.
Иголка выскальзывает из рук и, поблескивая, раскачивается на нитке.
— Ну, вот что, — говорит Федор Федорович, — ты, конечно, слыхала про снаряды?
Лелька мотнула головой. Она слышала, что в степи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся землянку со снарядами — артпогребок. Артпогребок был брошен немцами много лет назад. А теперь нашелся. Говорят, что он заминирован.
— Так вот, — продолжает председатель поселкового Совета, — прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы поместили в школе, а командира… — Федор Федорович кивает на военного и слегка подталкивает его вперед, — а командира мы хотим определить к вам.
Лелька снова кивает.
— Места у вас много. Думаю, мать, возражать не будет?
— Ага, — соглашается Лелька, будто она заранее знает, что мама не будет возражать.
— Тогда знакомьтесь. Лейтенант… — Федор Федорович вопросительно смотрит на военного.
— Шура, — подсказывает он.
— Лейтенант Шура… А это Лелька.
— Очень приятно, — говорит лейтенант, а Лелька снова краснеет. Она ничего не может с собой поделать. Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо, обдает его жаром и отравляет Лельке жизнь.
Девочка покраснела, будущий жилец отвернул лицо, чтобы скрыть улыбку, а Федор Федорович почесал седую щетину, которая проступает, как соль, на его запеченной, коричневой щеке.
— Сейчас мы пойдем в степь, — распоряжается председатель. — Вещи лейтенант оставит здесь. А придет мать, ты предупреди ее.
Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопросительно смотрит на Лельку:
— Можно здесь поставить?
— Ага! — кивает Лелька и закусывает губу, будто губа — виновница ее смятения.
Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан, положил на него шинель.
— Пошли! — почти скомандовал Федор Федорович.
И они зашагали к калитке.
Когда неожиданные гости ушли, Лелька облегченно вздохнула и опустилась на ступеньку, согретую солнцем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла подолом сарафана заштопанную коленку.
Рядом, на ступеньке, стоял чемодан, а на нем лежала сложенная пополам шинель. Шинель была серой и шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело поблескивали звездочки: по две на каждом.
Лелька покосилась на чужие вещи и быстро стянула с ноги заштопанный чулок. Будто вместе с чемоданом и шинелью в доме остался жилец и его насмешливые глаза продолжали рассматривать Лельку, отыскивая, над чем бы посмеяться.
Лелькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее, на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнатку «для гостей». Когда приезжал дядя Митя, его помещали на втором этаже. С тех пор гостей не было. Но за комнатой сохранилось название — «для гостей». Вот туда-то Лелька и решила определить жильца.
По крутой лестнице она полезла наверх с чужими вещами. Зеленый чемодан ударялся о верхние ступеньки, а шинель волочилась по нижним.
В комнате «для гостей» не было почти никакой мебели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убранство. Зато из маленького окошка была видна степь.
Лелька поставила вещи лейтенанта Шуры в уголок, чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют, и, хлопнув дверью, сбежала вниз.
Лейтенант Шура вернулся домой поздно.
Солнце докатилось до края степи и растеклось по небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохладный ветерок, который днем, в присутствии солнца, не разрешал высунуть на улицу нос. Но земля продолжала дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли последние угольки.
Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоровича. Лелька увидела его из окна. Она ждала его возвращения и, хотя во дворе стояла жара, надела новое платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок!
Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жильца. Поначалу, узнав от дочки о неожиданном госте, она вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие люди!» Но потом стала сама себя убеждать, что места в доме достаточно, что сама она все равно целыми днями пропадает в своей больнице. И вообще жилец — временный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня приводила дом в порядок: ей не хотелось ударить лицом в грязь перед незнакомым человеком.
Услышав, что хлопнула калитка, Лелька подбежала к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и оглядывался. Лицо его было усталым и серым от земли. И только в том месте, где текли струйки пота, остались светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и веселые звездочки на погонах погасли. На высоких сапогах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант держал в руках.
Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не похож на того веселого чистенького лейтенанта, который стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза перестали быть насмешливыми. Они беспомощно смотрели по сторонам, отыскивая хозяев дома.
Лельке вдруг стало жалко лейтенанта Шуру. Она быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке.
— Здрасте, — сказала Лелька.
Лейтенант улыбается и почему-то надевает фуражку. Он говорит:
— Вот я пришел.
— Заходите, — приглашает Лелька. — Мама дома.
Лельке очень хочется, чтобы лейтенант обратил внимание на ее новое платье, а главное — на целые чулки. Но лейтенант рассматривает не Лельку, а самого себя. Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимнастерку и говорит:
— В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы почиститься. А то весь день в земле копались.
— Сейчас, — говорит Лелька и скрывается в дверях.
Лейтенант Шура не торопясь доходит до крыльца и опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах.
На другой день Лелька проснулась рано. Она приподнялась на локте и выглянула в окно. Из палисадника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они были круглыми, как блюдечки. По одному блюдечку ползла оса.
Лелька услышала над головой шаги. Шаги были тихие, босые. Потом один за другим раздались два притопа — кто-то надевал сапоги.
Лелька вспомнила о временном жильце. Это он пробудился в комнате «для гостей» и встал, чтобы отправиться к заминированному артпогребку.
Лелька крепко зажмурила глаза. Пусть мама думает, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что происходит в доме. Тук-тук-тук!.. Жилец спускается по лестнице. Тук-тук!.. Идет по сеням. Потом хлопнула дверь, и шаги замерли. Лелька уже подумала, что жилец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате.
— Зарядку делаете? — тихо спросила мама.
— Привычка, — шепотом отвечает жилец.
Он говорит шепотом, чтобы не разбудить Лельку. А его сапоги так гремели, что могли разбудить кого угодно.
Лелька слышала, как урчала, наливаясь в стакан, крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, звенела ложечка.
Мамин голос говорил:
— Ешьте, не стесняйтесь.
А голос жильца отвечал:
— Спасибо… Спасибо…
Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо. Мне пора», — и сапоги рассказали, что он уходит из дома.
Лелька тихо сползла с постели и, ступая босыми ногами по чистым половицам, подошла к окну. Она спряталась за тюлевую занавеску и стала смотреть.
Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисаднику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле держался на ногах. А сегодня жильца словно подменили. Будто ночью он искупался в «мертвой» и «живой» воде и снова превратился в доброго молодца. Сапоги блестели, как новые. Звездочки на погонах зажглись. Лейтенант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек, что с невидимого наблюдательного пункта за ним следят два больших внимательных глаза.
Когда временный жилец скрылся из виду, Лелька села на постель и впервые за много дней занялась своими косичками.
Лелька относилась к своим косичкам с черствостью мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со стороны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она не украшала косы шелковыми лентами, как это делали ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тряпочками, скрученными в жгут.
Этим утром, сидя на постели, Лелька долго и неторопливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные блики играли и переливались в тонких ласковых прядях.
Неожиданно Лелька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. Их Лелька вплела в косички и завязала бантами.
Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. И Лелька не скачет через две ступеньки, а ходит плавно и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется, что лейтенант Шура не спускает с нее глаз, хотя на самом деле он далеко в степи.
Лелька на цыпочках подходит к зеркалу и рассматривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой, как библиотекарша Клавдия. А она маленькая и белесая. И кончики ушей у нее малиновые, а это, должно быть, некрасиво. Лелька смотрит на себя и сердится, будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию.
Лелька долго стоит перед зеркалом. И вдруг, спохватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза, словно боится встретиться взглядом с насмешливыми глазами лейтенанта Шуры.
Вечером временный жилец возвращается со своей военной работы. Он проходит через палисадник и садится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной ветер запекли его белое лицо, и оно стало коричневым, почти таким же, как у Федора Федоровича.
Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвижно. Потом упирается носком одного сапога в задник другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим хозяином.
Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шура не любит мыться под умывальником. И, вернувшись с полным ведром, он зовет Лельку:
— Леля, а Леля! Полей, пожалуйста!
Лелька тут же оказывается рядом с Шурой. Она берет в руки эмалированную кружку и начинает лить: сначала в ладони, сложенные «тарелочкой», а потом прямо на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет пар.
— Побольше лей! Не жалей воды! — командует лейтенант.
Временный жилец моется, как папа. А Лелька поливает ему, как это делала мама. И, как мама, она подает ему свежее полотенце.
Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура надевает чистую невоенную рубашку и отправляется ужинать.
А потом садится на скамейку перед палисадником. Он отдыхает.
Лелька не решается сесть рядом с ним. Тогда он сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жизни и о своей службе.
— Вот послужу еще годок-другой, — задумчиво говорит Шура, — и женюсь. Пора. Правда? — спрашивает он серьезно Лельку.
Лелька заливается краской и молчит. Откуда она знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант Шура советуется с ней о своей женитьбе?
— А впрочем, что загадывать? — продолжает он. — Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает…
Лелька вопросительно смотрит на собеседника. И он говорит:
— Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-нибудь крохотный проводок задел — и в небо! Что ты думаешь! Вот ваш артпогребок такая штучка, что, того и гляди, ошибешься… Когда мы разминировали Брянские леса, легче было. А здесь — головоломка.
Лельке вдруг становится страшно за лейтенанта Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему приятно, что Лелька переживает. И еще ему приятно делать вид, что для него опасность — ничто, сущий пустяк.
Иногда лейтенант обнимал Лельку и трепал ее по плечу. Лелька краснела и боялась шелохнуться. А лейтенант Шура говорил:
— Пора, брат, спать! А то завтра рано подъем.
И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату «для гостей». А Лелька еще долго сидела на скамейке.
Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим войском в степь. Войско было небольшое — десять солдат. Солдаты шли цепочкой по обочине, чтобы не поднимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще какие-то непонятные военные инструменты. А командир шел по дороге.
Временный жилец не знал, что Лелька крадучись выскальзывала из калитки и долго смотрела ему и его войску вслед. Он был уверен, что Лелька в это время крепко спит.
А она никогда не просыпала. Ее глаза провожали саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Потом они спускались в балку и пропадали из виду, но вскоре появлялись вновь на другой стороне. Их фигурки становились все меньше и меньше и наконец терялись в голубой дымке степного марева, оставив после себя чуть заметное облачко пыли.
Лелька знала, что лейтенант Шура и его товарищи шли не просто работать, хотя на плечах они несли лопаты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в старом артпогребке, куда каждое утро направлялись саперы, был уцелевший островок войны с опасностью, со смертью, которая притаилась в ржавых немецких снарядах и только ждала удобного случая, чтобы нанести людям запоздалый удар.
Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру в степь, Лелька испытывала такое чувство, будто провожает его в бой. Ей казалось, что происходит величайшая несправедливость: тысячи людей вокруг живут спокойной, мирной жизнью и только одиннадцать каждый день ходят на войну.
Лелька стоит у калитки и смотрит в степь до тех пор, пока из окошка не выглядывает мама.
— Ольга, завтракать, — зовет она.
Мама называла Лельку Ольгой.
В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за своим войском. И потом они шли степной дорогой: солдаты по обочине, командир посередине дороги. Обычно солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может быть, им командир приказал петь?
Лелька глядит им вслед и старается различить слова незнакомой солдатской песни. Но слова остаются в степи, а до Лельки долетает только мелодия. Так Лельке и не удается узнать, о чем поют солдаты. Но ей становится грустно. Ей кажется, что маленькое войско
лейтенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и выйдет к морю. И больше никогда не вернется в поселок. И Лельке хочется кинуться им вслед. Догнать, пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с солдатами. Или лучше по дороге — рядом с Шурой.
Но Лелька продолжает стоять на месте, а потом опускается на скамейку.
В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цветы залили степь широким разливом. Она издает тонкий аромат. И утренний свежий ветер пахнет лавандой.
Лелька закрывает глаза. Она слышит, как рядом на своей зеленой машинке заработал кузнечик… Скрипнула дверь… Курица заговорила скороговоркой на курином языке… Потом пробудился репродуктор, и совсем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пахнущий лавандой.
Постепенно к Лельке возвращается покой. Солнце касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую нижнюю губу, и коленки, и цветы на сарафане, которые не вянут, будто их стебельки опущены в воду. Никто не зовет Лельку. Никто не тревожит ее.
И она засыпает.
И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром среди ясного неба. И сразу все звуки исчезли, будто грохот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-накрест.
Лелька открыла глаза.
Чугунное эхо тяжело катилось по степи. А за пригорком выросло большое черное дерево. Оно шевелило своими косматыми ветвями. Потом дерево стало оседать, будто кто-то подпилил его. И тут Лелька проснулась окончательно. Она поняла все: лейтенант Шура ошибся в первый и последний раз… Это артпогребок взлетел на воздух.
У Лельки заколотилось сердце. Она вскочила с места и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где оседало и разваливалось дерево смерти — земля, поднятая взрывом.
Лелька бежала до тех пор, пока не наступила на что-то острое. Она остановилась от боли. Подняла ногу. На дорожной пыли алело пятнышко крови. Пятка горела. Лелька сорвала подорожник и приложила его к пятке. Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину, будто искало выхода, чтобы вырваться наружу.
Лелька вдруг представила себе лейтенанта Шуру, лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь сейчас было еще утро. Лелька сделала несколько осторожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ранки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли.
До места взрыва было уже недалеко.
Лелька стоит на краю балки и никак не может отдышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут. Вокруг валяются свежие комья земли, выброшенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шершавой ножке растет алый мак. Как это он уцелел от взрыва?

Шура берет котелок и, запрокинув голову, пьет. Вода течет по подбородку. Остаток воды он выливает на мак. Потом он ставит котелок на землю, оглядывается и видит Лельку.
— Ты что здесь? — удивленно спрашивает он.
— Я… я… ничего, — отвечает Лелька.
Она недоверчиво смотрит на живого лейтенанта Шуру. Правда ли это? Значит, он не ошибся? Почему же тогда был взрыв? А может быть, взрыв приснился Лельке? Ее большие серые глаза еще лихорадочно горят: еще не прошла тревога за человека, который сидит перед ней цел и невредим.
— Ты что, испугалась? — спрашивает лейтенант Шура. — Взрыва испугалась?
Глаза его смеются. Он замечает в Лелькиных глазах испуг, который не сразу проходит.
— Я думала, вы ошиблись, — признается Лелька, не сводя глаз с Шуры.
Теперь лейтенант Шура уже смеется вслух:
— Ошибся? Если бы ошибся, мы бы уже с тобой не разговаривали…
Шура никогда не обращает на Лельку особого внимания, а тут он пристально смотрит на нее. Смотрит и замечает на ее ноге кровь.
— Что это у тебя с ногой? — спрашивает он.
— На стекло наступила, — отвечает Лелька и прячет раненую ногу за здоровую.
— Ну-ка, покажи! — почти командует Шура.
Он усаживает девочку рядом с собой и разглядывает раненую пятку. Ранка кровоточит. Шура кричит через плечо:
— Кузьмин, принеси-ка мне котелок воды и индивидуальный пакет!
Он берет Лельку за руку и заглядывает ей в глаза.
— Что же ты босиком по степи бегаешь? — спрашивает он.
Лелька молчит. Разве может она рассказать, как, забыв обо всем на свете, бежала туда, где грянул взрыв?
Кузьмин молча принес воду и бинт. Лейтенант Шура прямо из котелка льет воду на ранку. Он держит Лелькину ногу за лодыжку. Лельке неловко.
— Сама! — говорит она.
— Сиди! — командует Шура.
И Лелька сидит неподвижно. Она подчиняется приказу, но чувствует, что вот-вот покраснеет.
Потом лейтенант Шура с треском разрывает бумажный пакет и достает оттуда прохладный бинт. Белые плотные витки пеленают ногу. Лелька не чувствует боли. Она смотрит в сторону и теребит травинку. С каждым витком бинта ее глаза становятся все теплее и теплее.
— Кузьмин! — зовет лейтенант, закончив перевязку. — Строй людей. Пойдем домой. Сегодня можно и отдохнуть.
— Слушаюсь, — сдержанно отвечает Кузьмин.
Кузьмин большой и молчаливый. Кажется, будто ему знакомо только слово «слушаюсь». Лицо у Кузьмина все в рыжих веснушках. Но Кузьмина веснушки не расстраивают. Так, по крайней мере, кажется Лельке.
И вот они идут через степь. Солдаты — по обочине, а Лелька с лейтенантом Шурой — по дороге.
Может быть, они идут не домой, а к морю, как мечтала Лелька?
Лельке трудно идти. На пятку наступать больно, а на носке далеко не уйдешь. Она ступает медленно, припадая на забинтованную ногу, и лейтенант со своим войском тоже идут не торопясь. Как Лелька.
Лейтенант Шура сегодня разговорчив.
— Ты знаешь, что наш погребок шарахнуло? — спрашивает он и громко смеется. — Слышишь, Кузьмин? — обращается он к своему помощнику. — Она думала, что это мы в небо взлетели.
Кузьмин улыбается вежливо, но, верный себе, не произносит ни слова.
— Нет, Лелька, — говорит лейтенант Шура, — это мы половину богатства погреба оттащили в сторону и взорвали. А ты испугалась.
Лейтенант Шура все говорит, говорит… А Лелька идет молча и лишь изредка посматривает на своего временного жильца. Она думает о том, что все настоящие мужчины должны делать что-то трудное и опасное. Папа воевал, и Федор Федорович был на войне. Вот и Шура тоже… Ей вдруг захотелось взять его под руку. Но от этой одной мысли лицо заливает краска стыда.
А солдаты вдруг запели. Они запели сами, без приказа командира. Они поют рядом, и теперь Лелька может расслышать слова их песни:
— Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.
И Лельке кажется, что солдаты идут с войны и она с ними тоже идет с войны. И лейтенант Шура возвращается домой героем.
Как это случилось, что после взрыва в степи временный жилец окончательно завладел Лелькиными мыслями? Она забыла обо всех своих подружках и целые дни проводила дома. Напрасно, проходя мимо Лелькиного дома, ее одноклассницы кричали:
— Лель, а Лель, пошли в степь маки собирать!
— Лель, пошли купаться в Сырую балку!
Лелька качала головой:
— Мне некогда!
А какие у нее дела, если вторую неделю идут каникулы.
Сидя на ступеньке крыльца, Лелька тревожно прислушивалась к каждому звуку, который доносился из степи. «Вдруг он оступится, вдруг заденет проводок…» — так думала Лелька, и сердце ее холодело. Ей на память приходила картинка к стихотворению Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Там был изображен Олег у праха своего верного коня. Вот-вот подползет змея и ужалит князя… Вот-вот невидимый проводок хрустнет под ногой Шуры…
А в это время лейтенант лежал на земле и, задержав дыхание, колонковой кисточкой очищал тонкий, как волосок, проводок, от которого зависела его жизнь и жизнь десяти солдат. Взгляд его был сосредоточен, а по скуле ползла тяжелая капелька пота.
Временами он останавливался, переводил дыхание, закрывал глаза. И снова начинал свой рискованный солдатский труд. На то он и был военным.
А Лелька ждала временного жильца. Ей нужно было, чтобы он не ошибся и, если можно, пораньше вернулся домой. Вот и все.
Лейтенант Шура все реже и реже бывал дома. Утром Лелька видела его в окно. А вечером помогала ему умываться. Потом он наспех ужинал и тут же уходил. Усталость уже не валила его с ног.
Куда он спешил? К своим солдатам, в школу?
У лейтенанта Шуры были две пары сапог. Одни тяжелые, кожаные, боевые сапоги. В них он уходил в степь раскапывать немецкий артпогребок. Другие сапоги — защитного цвета, легкие, сшитые из старой брезентовой плащ-палатки. Вечером, по возвращении домой, временный жилец сбрасывал боевые сапоги и надевал брезентовые. После тяжелых кожаных брезентовые сапоги вообще не чувствовались на ноге.
Однажды вечером, вернувшись из степи, лейтенант Шура торопился больше обычного. Он умчался, даже не почистив свои боевые сапоги. Они так и остались стоять у крыльца — пыльные, тупоносые, с комьями засохшей глины. Вид у них был усталый и обиженный. Сапоги ни разу не подвели своего хозяина: не оступились, не задели невидимых смертоносных проводков. Они преданно служили ему, а он бросил их на произвол судьбы.
Лелька подошла к сиротливым сапогам и остановилась перед ними. Она взяла один из них за ушко, торчавшее из голенища, и подняла над землей. Сапог был тяжелый. От него шел жар. Лелька отпустила ушко, сапог грузно плюхнулся на землю. Казалось, он сердито притопнул.
И тогда Лелька решила привести сапоги в порядок. Она принесла ведро воды, тряпку и стала их мыть. Она поливала сапоги водой и терла их тряпкой. Глина отваливалась. Мутные ручейки стекали с голенищ. Сапоги остыли, кожа стала прохладной.
Лелька поставила их в траву и пошла за щеткой. Она намазала их черным жирным гуталином, а потом терла щеткой. Она терла их так долго, что сапоги не выдержали: перестали дуться и наконец улыбнулись Лельке.
Боевые сапоги были довольны, они сияли. А Лельке почему-то стало грустно. Она поставила сапоги на крылечке и села рядом с ними. Она поджала коленки и закрыла их подолом сарафана. И так они долго сидели втроем: два сапога и Лелька.
В летние вечера поселок засыпал поздно. За день навоевавшись с жарой, люди подставляют лицо прохладному дыханию степи. Они сидят на лавочках и не торопятся уйти домой.
Фосфорятся белые цветы табака. Верещат невидимые цикады. Где-то навзрыд кричит ослик: жалуется на свою судьбу.
Но вот уже последняя гармонь отправилась на покой. Зажмурились лампочки в окнах клуба: им тоже настала пора отдохнуть. А лейтенант Шура все не возвращается домой.
Лелька не может уснуть. Она ворочается с боку на бок. Закрывает глаза. Сон не приходит.
«Спи!» — приказывает себе Лелька.
Но как выполнишь приказ, если тревожные мысли не покидают тебя ни на минуту.
— Идет один верблюд… Идет второй верблюд… Идет третий верблюд…
«Спи!»
Не помогают верблюды. Даже самый большой караван не может усыпить Лельку.
Где он? У своих солдат? Но солдаты давно спят: им вставать ни свет ни заря.
Лелька лежит с открытыми глазами. Она уже не старается заснуть.
И вдруг в тишине Лелька слышит шаги. Дорожки в поселке посыпаны галькой. Ее привезли с моря. На гальке шаги звучат отчетливо и ясно.
«Он!»
Лелька вздрагивает и прислушивается.
«Конечно, он!»
Она соскальзывает с постели и на цыпочках идет к окну.
Было темно.
Луна еще не взошла, а у дальних звезд не хватало сил осветить узенькие улочки степного поселка.

Лелька затаила дыхание и прислушалась. Морская галька рассказала ей, что по дорожке шагал не один человек, а двое. Рядом со спокойными мужскими шагами звучали другие — плавные женские шаги. Лелька болезненно поморщилась. У палисадника шаги затихли. И тут Лелька услышала голоса.
— Давай посидим на скамеечке, — говорил Шурин голос.
Лелька сразу узнала его.
— Уже поздно, — отвечал женский голос.
— Ну, прошу тебя.
— Неловко.
— Ничего. Все спят.
Лелька вслушивалась. Она хотела узнать, кому принадлежит женский голос. И она узнала. Это была Клавдия — клубная библиотекарша. Лелька увидела ее — высокую, черноволосую, с ровными, будто нарисованными угольком бровями. Лелька увидела ее не глазами, а памятью.
За окном так тихо, что можно было различить шорох каждой травинки. Лелька слышала, как зашуршало платье. Тонко скрипнула доска. Это лейтенант Шура и Клавдия сели рядом на скамейку.
Лельку от них отделяли невысокая глиняная ограда и тонкие стебли мальвы. Но ей казалось, что, если протянуть руку, можно коснуться Шуриного плеча. Лелька спрятала руки за спину и попятилась.
Лелька слышала, как, болтая ногой, Шура задевал камушки гальки.
Потом она услышала их дыхание. И Клавдии шепот:
— Шура, ведь ты меня не любишь.
Лелька закусила губу. Она понимала, что подслушивать гадко и даже подло. Но сейчас она не могла отойти от окна. Маленькая надежда удерживала ее. «Шура, ведь ты меня не любишь». Что ответит Шура?.. Может быть, он скажет Клавдии: «Нет»? Ладно, пусть он ничего не ответит. Пусть он только молчит.
Но Шура ответил:
— Люблю.
Лелька стояла у открытого окна в одной рубашке. И сердце ее стучало так громко, как тогда в степи, во время взрыва. Но ни Шура, ни Клавдия не слышали ударов Лелькиного сердца.
И вдруг Лельке стало очень холодно. Холодно рукам, плечам, коленкам. И Лелька поняла, что никакие, даже самые теплые, одеяла не согреют ее. Этот холод веял не из степи, а шел откуда-то изнутри, от сердца.
Лелька бросилась в постель. Она натянула одеяло на голову. Она закрыла уши, чтобы не слышать ни одного слова. Она почему-то вспомнила, как неделю назад на этой же скамейке временный жилец говорил ей: «Вот послужу еще годок-другой и женюсь».
«Так ведь не прошел еще годок! Что же это он!..»
Слезы текли по Лелькиным щекам. Лелька плакала молча. Про себя. Сейчас она навсегда прощалась с лейтенантом Шурой, хотя он еще никуда не уезжал. Она прощалась с его маленьким войском, и с молчаливым Кузьминым, и с алым маком, который устоял во время взрыва… Лельке было жалко себя и всего, что уже никогда не вернется. И слезы становились все горше.
В какое-то мгновение девочке захотелось вскочить с постели и прогнать со своей, Лелькиной, скамейки временного жильца и черноволосую библиотекаршу. Но она не пошевелилась.
Утром Лелька поднялась поздно. Лейтенант Шура давно уже ушел в степь со своим маленьким бесстрашным войском. Мама не вернулась с ночного дежурства. Солнце заполнило комнату. От его желтых лучей пахло лавандой. По сиреневым блюдечкам мальвы ползали тощие осы.
Лелька села на постель. Косичка соскользнула с голого плеча. Лелька взяла ее в руку, враждебно посмотрела на нее, но не отбросила. Не выпуская из руки, она подошла к комоду и взяла большие темные ножницы. Она широко раскрыла их и начала резать косичку.
Ножницы были не очень острыми, а Лелька торопилась, словно боялась, что изменит свое намерение. И резать было трудно. Когда одна отрезанная косичка упала на пол к босым ногам, Лелька принялась за другую и вторую косичку тоже отрезала. Потом она отложила ножницы и подняла с пола две отрезанные косички. Она посмотрела на них равнодушно, как на чужие, и без сожаления отложила в сторону. Они были уже не нужны.
Несколько дней Лелька не виделась с временным жильцом. Утром она вставала уже после его ухода, а вечером, чтобы не попадаться ему на глаза, уходила к подругам. И лейтенанту Шуре приходилось умываться под бренчащим умывальником. И если он не успевал почистить сапоги, то они так и оставались пыльными, с присохшими комьями глины.
В субботний вечер Лелька и временный жилец случайно встретились в клубе. Лейтенант Шура как ни в чем не бывало улыбнулся своей маленькой хозяйке. Лелька опустила глаза и залилась краской. Но, совладав с собой, посмотрела на лейтенанта и сказала:
— Здрасте!
Она произнесла приветствие сухо и даже немного насмешливо. Лейтенант Шура пожал плечами, помахал ей рукой и пошел дальше. Наверно, он спешил к своей библиотекарше Клавдии.
Он даже не заметил, что Лелька отрезала косички…
БАМБУС


мурым утром в дверях школы появился незнакомец странного вида.
Невысокого роста, большеголовый. В черных спутанных волосах тусклым солнышком проглядывала лысина. Усы не росли, а беспорядочно лезли из кожи вон, и в них торчала погасшая трубка. Темные глаза навыкате сверкали запоздалым озорством. Если бы ему на плечи накинули расшитый серебром гусарский ментик, на голову водрузили кивер и к портупее пристегнули саблю, он превратился бы в Дениса Давыдова. Даже полосатый пиджак, застегнутый на все пуговицы, и потертые брюки, заправленные в высокие сапоги, не могли уменьшить удивительного сходства незнакомца с гусарским поэтом.
Он взбежал по лестнице, цокая, как шпорами, подковками сапог, распахнул дверь канцелярии, и в комнате резко запахло табаком.
— Мне нужен директор!
Секретарша — плосколицая, с нарисованными бровями — перестала печатать на машинке.
— Как о вас сказать?
— Пришел Бамбус!
Странное имя прозвучало как удар барабана. Нарисованные брови болезненно надломились:
— Как-как?
— Бамбус! — Раздался новый удар барабана. — Разве не понятно?!
— Понятно, — пролепетала секретарша и быстро проскользнула в кабинет директора.
Директор был не один. Перед ним, размазывая по щекам слезы, стояли двое мальчишек. У одного — с губой, вздернутой домиком, — рукав был оторван и держался на одной нитке. У другого — с распухшим носом — рыжие волосы торчали на голове ржавыми гвоздиками. Пять минут назад мальчишки дрались, но, приведенные с поля боя к директору, враги превратились в товарищей по несчастью и держались друг друга.
— Вас спрашивает какой-то странный… Бимбус, — шепотом сказала секретарша, входя в кабинет.
— Не Бимбус, а Бамбус! — поправил ее директор. — Да где же он?
А незнакомец уже стоял в дверях, глубоко запустив руки в карманы пиджака и разглядывая директора выпуклыми глазами.
— Бамбус! — крикнул директор и отодвинул кресло.
— Чевока! — откликнулся нежданный гость и загромыхал сапожищами.
— Ха-ха!
— Хе-хе!
И хотя директор был на голову выше пришельца и шире его в плечах, возбуждение нечаянной встречи как бы уравняло их.
— Стареет пятый «Б», — сказал Бамбус.
— А мы давно тебя числим пропавшим без вести. Где ты бродяжничаешь?
— Живу в избушке на курьих ножках.
— Работаешь?
— Предсказателем.
Два заплаканных драчуна удивленно переглянулись и уставились на незнакомца. А директор усмехнулся и спросил:
— Предсказываешь дожди и грозы?
— Землетрясения, — отрубил Бамбус и принялся раскуривать трубку. — А живу я на Краю Света.
— Почтовый-то адрес у твоей избушки есть?
— Запиши. Остров Шикотан. Мыс Край Света. Представляешь, где?
Директор пожал плечами.
— Ты вообще никогда не блистал по географии! Хе-хе! — Глаза Бамбуса озорно засверкали. — О Тихом океане слыхал? Так там есть такие Курильские острова… Садовая голова!
Два заплаканных драчуна чуть не прыснули от смеха.
— Ладно, ладно, ты не очень. Кто спал в шкафу на уроках? — Директор перешел было в наступление, но тут он спохватился, что, кроме него и Бамбуса, в кабинете развесив уши стоят два нарушителя порядка, и скомандовал им: — Марш отсюда!
«Губа домиком» и «Ржавые гвоздики» моментально исчезли: появление предсказателя землетрясений избавило их от неприятностей.
Очутившись за дверью, они долго ходили по пустым коридорам и смеялись, с удовольствием передразнивая директора и его друга:
— Бамбус! Ха-ха!
— Чевока! Хе-хе!
Тем временем в директорском кабинете было уже много сказано и много вспомянуто. А Бамбус, пуская клубы дыма, сновал из угла в угол, как маневровый паровозик.
— В пятом классе у нас была учительница пения, — говорил Бамбус.
И его друг Чевока подтверждал:
— Была, конечно.
— Припоминаешь, как ее звали?
— Мы ее называли Певица Тра-ля-ля.
— Правильно! — Паровозик остановился и перестал пускать дым. — У нее был воинственно вздернут нос, а когда она пела, то нос поднимался еще выше. Ты не знаешь, где она?
— Зачем она тебе понадобилась? — спросил Чевока.
— Понадобилась, — уклончиво ответил Бамбус. — У нас в пионерском отряде не было горна, так она где-то раздобыла старый почтовый рожок.
— Тебя рожок интересует? — усмехнулся Чевока.
— Не в рожке дело… А где теперь наша Валюся?
— Работает в больнице.
Когда, изрядно надымив, Бамбус расстался со своим школьным товарищем, за углом его поджидали «Губа домиком» и «Ржавые гвоздики». Они пропустили его вперед и дружно крикнули вслед:
— Бамбус! Бам-бус!
И убежали.
Часом позже в больнице раздался странный телефонный звонок. Какой-то Бамбус спрашивал какую-то Валюсю.
— Это больница! — в третий раз кричала в трубку старая нянечка.
Но Бамбус настойчиво продолжал требовать Валюсю, и растерянная старушка отправилась к дежурному врачу. К ее великому удивлению, Валентина Ивановна спорхнула с белого кресла и бросилась к телефону:
— Бамбус! Здравствуй, Бамбус! Откуда ты? С края света? Я так и думала, что тебя занесет на край света. А я когда-то была в тебя влюблена…
При слове «влюблена» нянечка залилась краской и скрылась в дальнем конце коридора.
В этот же день дежурный по штабу артиллерийского училища докладывал майору Коржикову, что у аппарата его ждет какой-то Бамбус, вероятно из цирка, и что он, шутник, непочтительно величает товарища майора «Коржиком».
Майор не вспылил, а прижал трубку к уху и, хмыкнув, произнес:
— Коржик слушает!
Дежурный по штабу тут же решил, что когда-то, до армии, майор тоже служил в цирке вместе с этим Бамбусом. Он окончательно уверился в этом, когда речь зашла о какой-то Певице Тра-ля-ля.
Еще Бамбус звонил в детский сад, на швейную фабрику, в порт. И всюду короткое духовое слово «Бамбус» звучало как пароль, открывающий доступ в далекий пятый класс «Б», куда без этого пароля никого не пускали…
И каждый раз предсказатель землетрясений спрашивал:
— Не помнишь, у нас была учительница… Певица Тра-ля-ля?
Никто не встречал ее. Никто не знал, где она живет и жива ли она вообще.
Только один раз ему удалось продвинуться в своих поисках. Бывшая староста пятого «Б» Нина Лебедева как-то видела учительницу пения в Музее музыкальных инструментов, но это было давно, да и Певица Тра-ля-ля не узнала ее.
На другой день утром Бамбус пришел в Музей музыкальных инструментов. И сразу очутился в мире скрипок и гитар, сазов и волынок, труб и роялей, в мире старинных виол, лютен, змеевидных серпентов и бочкообразных тамбуринов. Стараясь не очень громыхать своими сапожищами, он шел из зала в зал, приглядываясь к смотрителям и экскурсантам. Иногда он задерживался у витрины и разглядывал какой-нибудь диковинный инструмент. По душе ему пришлась флейта-жалейка, которую безвестный пастух смастерил из бересты и коровьего рога. Вот бы раздобыть такую дудочку, и будет она всегда жалеть и утешать. Недаром ее назвали жалейкой…
А потом среди труб он увидел потемневший от времени почтовый рожок. Он напал на след! Разве это был не тот самый рожок, который Певица Тра-ля-ля принесла в класс?! Рожок не изменился, только уменьшился, как уменьшаются все предметы, когда люди вырастают… Бамбус забыл о предостерегающей надписи «Инструменты руками не трогать», сунул в карман не докуренную трубку и снял с гвоздя почтовый рожок. Он ощутил в руке приятный холодок меди. И искренне, как мальчишка-пятиклассник, поверил, что, если заиграть на рожке, Певица Тра-ля-ля услышит знакомый сигнал и придет на его зов. Предсказатель землетрясений вдохнул побольше воздуха, сложил губы колечком и поднял маленькую трубу. И сразу в залах музея зазвучал хрипловатый призывный напев, который в прошлом веке извещал о прибытии почты. Бамбус покраснел от напряжения, с непривычки не хватало дыхания, но он не опускал рожка и повторил сигнал снова и снова. И когда набирал новую порцию воздуха, то слышал трепетное звенящее эхо — это все трубы музея откликались на сигнал почтового рожка.
Неожиданно за его спиной раздался сухой женский голос:
— Гражданин, что это значит?!
Бамбус опустил рожок и оглянулся. Перед ним стояла Певица Тра-ля-ля. Она явилась по сигналу. Он не узнал ее лица, потому что старость, как маскарадная маска, делает человека неузнаваемым. Но в пожилой женщине было нечто такое, что не умещается под маской: нос учительницы пения, как в молодые годы, был воинственно вздернут вверх.
Да, да, это была она. Глаза Бамбуса засверкали, и он сказал:
— Здравствуйте!
— Мое почтение, — холодно ответила смотрительница музея.
— Я приехал с Края Света, я… — начал было Бамбус.
Но смотрительница музея бросила на него отчужденный взгляд и сказала:
— Вы меня с кем-то путаете!
— Нет, нет! Я же Бамбус, помните?..
— Не помню.
— Как же — пятый «Б»! Вы просто не узнаете меня. Усы. Лысина. Конечно, вы меня не узнаете, но я вас очень хорошо помню… «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною».
Пожилая женщина с воинственно вздернутым носом холодно смотрела на Бамбуса, не видя в нем никого, кроме как нарушителя музейного порядка. А он предпринимал все новые попытки оживить ее память, которая застыла, как капля смолы на коре дерева:
— У нас в классе не было горна. Вы принесли в школу вот этот почтовый рожок…
— Повесьте на место рожок. Это единственный экспонат такого рода.

Не плавилась застывшая смола. Не узнавала учительница пения Бамбуса. Не вспоминала пятого «Б». И тогда он, отчаявшись, сказал:
— Мы еще называли вас Певица Тра-ля-ля.
— Певица Тра-ля-ля… — Она усмехнулась, и голос ее дрогнул. — Да, да, они меня называли так.
Капелька смолы потеплела и медленно поползла, живая и ароматная. И чтобы не дать этой капле застыть, Бамбус стал рассказывать Певице Тра-ля-ля о ней самой же.
— А помните, как вы съехали вниз на перилах?
— Не может быть! — вырвалось у бывшей учительницы пения.
— В самом деле съехали… Я обычно сидел на «Камчатке» и очень досаждал вам. И однажды вы рассердились и крикнули мне: «Бамбус!» С тех пор я стал Бамбусом. Вспомнили?
— Это было так давно… — Она взяла из его рук почтовый рожок и повесила на место.
— Да, это было давно… Вы стояли у окна, а у меня была резинка, надетая на два пальца. Я скатал покрепче бумажку, послюнявил ее и выстрелил в вас. Я всегда мазал. Но тут я попал… Вы вскрикнули и пошли к двери, закрыв глаз ладонью…
Она пожала плечами и спокойно сказала:
— Разное случалось.
Бамбус не сводил с нее глаз. Он как бы испытывал ее.
— Я бегал к глазной больнице и все смотрел в окна, чтобы увидеть вас… Больницу-то вы помните?
— Я не была в больнице.
— Значит, все обошлось?! — воскликнул Бамбус. — А я, знаете, столько лет переживал. Я и теперь боялся встретить вас…
Он осекся. Где-то хлопнула дверь, смотрительница покосилась на шум, и Бамбус заметил, что один ее глаз остался неподвижным. Глаз смотрел на него немигающим, безжалостным взглядом, от него исходил холод. Бамбус вздрогнул. Певица Тра-ля-ля быстро перевела взгляд на незваного гостя. Теперь оба глаза смотрели на него, но было поздно.
— Значит, случилось худшее, — глухо сказал Бамбус.
Она оборвала его:
— Вы здесь ни при чем. Это не ваша рогатка…
Бамбус не поверил:
— Зачем вы меня успокаиваете? Что было, то было. Я ведь взрослый человек.
— Так вот, взрослый человек, — сказала она с раздражением, — верьте, когда вам говорят. Это фронтовое ранение.
Но ее слова не доходили до Бамбуса. Он молчал, уставившись в одну точку. А Певица Тра-ля-ля рассердилась не на шутку:
— Если вы не верите мне, я вам докажу! Вечером вы придете за мной. И мы пойдем в школу. Ясно?
Все это она произнесла так решительно, как будто перед ней стоял не пожилой человек, а пятиклассник Бамбус с последней парты.
Вечером он ждал ее у подъезда. Накрапывал дождь. Его волосы слиплись. Усы отвисли двумя черными сосульками. Он жевал мундштук погасшей трубки и ходил взад-вперед, стараясь подавить свое нетерпение.
Мимо, не обращая внимания на дождь, шел мальчишка с воздушным шариком. Бамбус схватил мальчика за руку и спросил:
— А ты знаешь, что накануне землетрясения сурки выбегают из своих норок?
— Не-а, — ответил мальчишка.
— А знаешь песню про сурка?
— Не-а!
— Ничего ты не знаешь! — рассердился Бамбус.
— Знаю, — возразил мальчишка. — Вас зовут Бамбус! Вы предсказатель землетрясений. А дождь предсказывать не умеете.
«Губа домиком» расплылась в улыбке, и под ней сверкнули два крупных зуба. А Бамбус выкатил от удивления глаза.
И тут появилась Певица Тра-ля-ля.
В школе был выпускной бал. Звучала музыка, и девочки в белых юбках-колоколах носились по коридорам, кружились, шумели — словом, вели себя как третьеклассники. Мальчики были более сдержанными — им хотелось выглядеть взрослыми людьми.
Веселье разгоралось все сильнее, и грусть расставания со школой никак не могла найти щелочку в этом веселье — ждала своего часа.
Певица Тра-ля-ля и Бамбус пробирались сквозь шуршащие белые купола: впереди бывшая учительница с воинственно вздернутым носом, за ней бывший ученик в грязных сапогах, с обвисшими усами, с погасшей трубкой. И от них обоих на паркете оставались мокрые следы.
Никто не понимал, зачем они пришли и что им, хмурым и озабоченным, нужно на этом прощальном празднике.
Кто-то засмеялся. Кто-то спросил:
— Вам кого?
Кто-то протянул тарелку:
— Хотите бутерброд с колбасой?
Они свернули в коридор и скрылись, как два видения. И долго блуждали по пустынным этажам старой школы, пока наконец не очутились в классе пения.
— Сядьте на свое место! — строго сказала бывшая учительница.
И бывший ученик послушно поплелся на последнюю парту.
— Теперь следите внимательно. В тот день я стояла у окна. Правильно? — Она подошла к окну и стала смотреть на улицу. — Я стояла здесь, а вы выстрелили с последней парты. В какой глаз вы могли мне попасть?
— В левый, — ответил Бамбус.
— А теперь подойдите ко мне, — властно сказала Певица Тра-ля-ля. — Посмотрите, какой глаз мой, какой чужой… Что вам еще от меня надо! — Она почти кричала на Бамбуса. — Заставляете старую женщину бегать под дождем, чтобы…
Она замолчала, потому что не нашла нужного слова. А Бамбус быстро подошел к ней. Посмотрел ей в глаза и опустил голову.
— Простите, — сказал Бамбус. — Я думал, что это забудется… с годами. Но есть вещи, которые сильнее нас. От них не убежишь даже на край света. Судьба кидала меня, как мальчика с сурком, но я всегда думал при случае попасть в родной город, разыскать вас и сказать: «Простите».
Певица Тра-ля-ля задумчиво подошла к роялю. Открыла крышку и вдруг заиграла старинную песенку про маленького бродягу и про сурка.
И Бамбус глуховатым, бесцветным голосом запел:
— По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною.
И сыт всегда, везде я был,
И мой сурок со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
Двери класса бесшумно отворились — на пороге стояли девочки в белых колоколах. Они уже не смеялись. Притихли. Печаль нашла к ним лазейку. Сперва они, дыша в затылок друг другу, слушали Бамбуса. Потом, не сговариваясь, запели, словно подбросили в потухающий костер сухих веток и пламя ожило:
— Господ немало я видал,
И мой сурок со мною.
И любит кто кого, я знал,
И мой сурок со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
Песня зазвучала с новой силой, и Бамбус почувствовал себя не лысым и усатым предсказателем землетрясений, а большеголовым детдомовцем в стираной-перестираной курточке, сидящим на уроке пения на своей излюбленной «Камчатке» и поющим песню о себе, о своем одиночестве… А молодая Певица Тра-ля-ля бьет по клавишам, утешает его…
Музыка вдруг умолкла. Девочки убежали. И в классе снова остались двое: Бамбус, пожилой, пропахший табаком, и старая женщина, которая уже никогда не съедет вниз на перилах.
Всю ночь Бамбус ходил по городу. Накрапывал дождь. С залива дул ветер. А он шел нетвердой походкой человека, разбитого дальней дорогой.
Погруженный в свои мысли, он дошел до темного здания глазной больницы. Сюда он бегал мальчишкой — потерянным, несчастным от запоздалого сознания своей вины перед учительницей пения. Он заглядывал в окна первого этажа, где лежали люди с белыми повязками на глазах. Певицы Тра-ля-ля нигде не было. Может быть, ее палата была на втором этаже? Он не знал тогда, что с ней, не знал, что она не в больнице, а на фронте. Несчастье случится позже. От пули фашиста.
И все-таки сознание своей вины не оставляло взрослого Бамбуса, стоящего под дождем у глазной больницы. Оно причиняло боль, как незаживающая рана.
Откуда-то из сетки дождя выплыло белое облако. Это шли, сбившись в кучу, девочки-выпускницы. Их колокола намокли, опали, прилипли к ногам. Но они не обращали внимания на мокрые платья. И весело на мотив какого-то фокстрота распевали:
— Девиц веселых я встречал,
И мой сурок со мною.
Смешил я их, ведь я так мал,
И мой сурок со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.
Бамбус стиснул зубами мундштук трубки и отвернулся к стене, чтобы не быть узнанным.
Бамбус долго не появлялся в Музее музыкальных инструментов. Но через несколько дней тяжелые сапожищи все же загремели по паркету. Бамбус как-то поскучнел. Его глаза стали темнее, волосы спутались, а усы беспорядочно торчали в разные стороны.
Он прошел мимо скрипок, стоящих, как винтовки в пирамиде, мимо медных труб всех калибров, мимо дудочки-жалейки и наконец встретил смотрительницу музея.
— Пришел прощаться, — сдержанно сказал он.
— Очень хорошо, что пришли. Я хочу вам что-то показать. — Она впервые улыбнулась. — Идемте!
Они пришли в небольшую светелку, где в углу стоял шест, на котором была натянута басовая струна. Посередине шеста крепился барабанчик. Кончался же шест маленькой головой. Черные волосы — из конского хвоста, такие же усы, глаза навыкате. А вместо шляпы — на голове медные тарелки.
— Это бамбус, — сказала смотрительница музея, — инструмент бродячих музыкантов.
Предсказатель землетрясений долго рассматривал диковинный инструмент. И вдруг тихо начал смеяться. И его спутница тоже начала смеяться. И они долго смеялись вместе каким-то детским облегчающим смехом. Посетители музея оглядывались на них и пожимали плечами.
Настала пора расставаться. Бамбус отвел Певицу Тра-ля-ля в сторону и сказал:
— Я помню, в третьем классе у меня заболел зуб. И вы приласкали меня. Я прижался к вам, вцепился и не хотел отпускать. Меня до этого никто не ласкал… Почему я выстрелил в вас из рогатки?
И бывшая учительница ответила ему:
— Переходный возраст. В мальчишек вселяется какой-то бес, который делает все против их воли…
Когда же он очутился на улице и пошел через площадь, то услышал за спиной звук почтового рожка. Оглянулся — в окне музея стояла Певица Тра-ля-ля и подавала ему прощальный сигнал. Предсказатель землетрясений помахал рукой. И двинулся в свой далекий путь.
ИГРА В КРАСАВИЦУ


52. то время мы думали, что по Караванной улице, побрякивая колокольчиками, бредут пыльные усталые верблюды, на Итальянской улице живут черноволосые итальянцы, а на Поцелуевом мосту все целуются. Потом не стало ни караванов, ни итальянцев, да и сами улицы теперь называются иначе. Правда, Поцелуев мост остался Поцелуевым.
Наш двор был вымощен щербатым булыжником. Булыжник лежал неровно, образуя бугры и впадины. Когда шли затяжные дожди, впадины заливала вода, а бугры возвышались каменными островами. Чтобы не замочить ботинок, мы прыгали с острова на остров. Но домой все равно приходили с мокрыми ногами.
Весной наш двор пах горьковатой тополиной смолкой, осенью — яблоками. Яблочный дух шел из подвалов, где было овощехранилище. Мы любили свой двор. В нем никогда не было скучно. К тому же мы знали множество игр. Мы играли в лапту, в прятки, в штандр, в чижика, в ножички, в испорченный телефон. Эти игры оставили нам в наследство старшие ребята. Но были у нас игры и собственного изобретения. Например, игра в красавицу.
Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. И когда наша честная компания собиралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно предлагал:
— Сыграем в красавицу?
Все становились в круг, и слова считалочки начинали перебегать с одного на другого:
— Эна, бена, рес…
Эти слова из какого-то таинственного языка были для нас привычными:
— Квинтер, контер, жес.
Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и старались, чтобы считалочка кончилась на ней. Она опускала глаза и разглаживала руками платье. Она заранее знала, что ей придется выходить на круг и быть красавицей.
Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость некрасивой: у нее был широкий приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг которых хлебными крошками рассыпались веснушки. Лоб — тоже в хлебных крошках. Бесцветные глаза. Прямые жидкие волосы. Ходила она, шаркая ногами, животом вперед. Но мы этого не замечали. Мы пребывали в том справедливом неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым — дрянной. Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчонкой — мы выбирали красавицей ее.
Когда она выходила на середину круга, по правилам игры, мы начинали «любоваться» — каждый из нас пускал в ход вычитанные в книгах слова.
— У нее лебединая шея, — говорил один.
— Не лебединая, а лебяжья, — поправлял другой и подхватывал: — У нее коралловые губы…
— У нее золотые кудри.
— У нее глаза синие, как… как…
— Вечно ты забываешь! Синие — как море.
Нинка расцветала. Ее бледное лицо покрывалось теплым румянцем, она подбирала живот и кокетливо отставляла ногу в сторону. Наши слова превращались в зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей.
— У нее атласная кожа.
— У нее соболиные брови.
— У нее зубы… зубы…
— Что зубы? Жемчужные зубы!
Нам самим начинало казаться, что у нее все лебяжье, коралловое, жемчужное. И красивее нашей Нинки нет.
Когда запас нашего красноречия иссякал, Нинка принималась что-нибудь рассказывать.
— Вчера я купалась в теплом море, — говорила Нинка, поеживаясь от холодного осеннего ветра. — Поздно вечером в темноте море светилось. И я светилась. Я была рыбой… Нет, не рыбой — русалкой.
Не рассказывать же красавице, как она чистила картошку, или зубрила формулы, или помогала матери стирать.
— Рядом со мной кувыркались дельфины. Они тоже светились.
Тут кто-нибудь не выдерживал:
— Не может быть!
Нинка протягивала ему руку:
— Понюхай, чем пахнет?
— Мылом.
Она качала головой:
— Морем! Лизни — рука соленая.
Стояли мутные влажные сумерки, и было непонятно, идет дождь или нет. Только на стекле возникали и лопались пузырьки. Но мы чувствовали близость несуществующего моря — теплого, светящегося, соленого.
Так мы играли.
Лил дождь — устраивались в подворотне. Темнело — толпились под фонарем. Даже самые крепкие морозы не могли нас выжить со двора.
Как-то в наш дом переехали новые жильцы. И во дворе появился новенький. Он был рослый и слегка сутулился, словно хотел казаться ниже ростом. На щеке у него проступало крупное продолговатое родимое пятно. Он стеснялся этого пятна и поворачивался к нам другой щекой. У него был нос с горбинкой и большие — прямо-таки девичьи — ресницы. Ресниц он тоже стеснялся.
Новенький держался в стороне. Мы его подозвали и предложили сыграть с нами в красавицу. Он не знал, в чем дело, и согласился. Мы переглянулись и выбрали красавицей… его. Едва заговорили про лебяжью шею и коралловые губы, как он густо покраснел и выбежал из круга.
Мы посмеялись и крикнули вдогонку:
— Сыграем и без тебя!
Но когда снова встали в круг, Нинка неожиданно попятилась:
— Я тоже не буду…
Мы взорвались:
— Что за новости? Почему ты не будешь?
— Так. — Нинка отошла от нас.
И сразу расхотелось играть. Мы заскучали. А Нинка приблизилась к новенькому и сказала:
— Когда играют в красавицу, всегда выбирают меня.
— Тебя? Почему тебя? — удивился новенький. — Разве ты красивая?
Мы не стали с ним спорить. Мы посмеялись над ним. А у Нинки вытянулось лицо, хлебные крошки у рта и на лбу стали еще заметнее.
— А меня выбирают.
— Очень глупо, — сказал новенький. — И вообще ваши детские игры меня не интересуют.
— Конечно. — Нинка почему-то сразу согласилась с ним.
С появлением новенького с ней вообще стало твориться что-то странное. Она, например, ходила за ним по улице. Шла тихо, по другой стороне, чтобы никто не заметил, что она идет за ним. Но мы, конечно, заметили и решили, что Нинка спятила или во что-то играет.
Например, в следопыта. Он заходил в булочную — она стояла напротив и не отрывала глаз от стеклянных дверей. Она и утром поджидала его у подъезда и шла за ним до школы.
Новенький не сразу сообразил, что Нинка из седьмой квартиры ходит за ним как тень. А когда обнаружил это, очень рассердился.
— Не смей ходить! — крикнул он Нинке.
Она ничего не ответила. Побледнела и пошла прочь. А он крикнул ей вдогонку:
— Ты бы лучше посмотрела на себя в зеркало!
Он приказал ей посмотреться в зеркало. Нас не интересовало, какие у нас носы, рты, подбородки, куда торчат волосы, где вскочил прыщ. И Нинка знала только то зеркало, которым были для нее мы, когда играли в красавицу. Она верила нам. Этот тип с родимым пятном на щеке разбил наше зеркало. И вместо живого, веселого, доброго появилось холодное, гладкое, злое. Нинка в первый раз в жизни пристально взглянула в него — зеркало убило красавицу. Каждый раз, когда она подходила к зеркалу, что-то умирало в ней. Пропали лебяжья шея, коралловые губы, глаза, синие, как море.
Но мы тогда не понимали этого. Мы ломали себе голову: что это с ней? Мы не узнавали свою подружку. Она стала чужой и непонятной. Мы сторонились ее. Она и не стремилась к нам, молча проходила мимо. А когда ей встречался новенький с большим родимым пятном на щеке, она убегала прочь.
В нашем городе часто идут дожди. Могут лить круглые сутки. И все так привыкают к ним, что не обращают внимания. Взрослые ходят под зонтами. Ребята делают короткие перебежки от одной подворотни к другой, прыгают по булыжным островам.
В тот вечер был сильный дождь, дул сверлящий ветер. Говорили, что на окраинах города начиналось наводнение. Но мы крепились, жались в подворотне, не хотели расходиться по домам. А Нинка из седьмой квартиры стояла под окном новенького. Зачем ей понадобилось стоять под его окном? Может быть, она решила позлить его? Или сама с собой поспорила, что простоит под дождем, пока не сосчитает до тысячи? Или до двух тысяч. Она была в коротеньком пальто, из которого давно выросла, без косынки. Ее прямые волосы вымокли и прилипли к щекам, и от этого лицо вытянулось. Глаза блестели, как две застывшие капли. Гремели водосточные трубы, дребезжали подоконники, трещали перепончатые купола зонтов. Она ничего не видела и не слышала. Не чувствовала холодных струй. Она стояла под окном, охваченная отчаянной решимостью.

Мы кричали ей из подворотни:
— Нинка! Иди к нам, Нинка!
Она не шла. Мы выбежали под дождь. Схватили ее за руки: не пропадать же человеку.
— Отойдите! — Она прямо-таки прикрикнула на нас.
Мы отошли. Повернулись спиной и стали смотреть на улицу. Люди спешили, подняв над головами зонты, словно на город спустился целый десант на угрюмых черных парашютах. Десант прохожих. Потом мы увидели, как к Нинке подошла ее мать. Она долго уговаривала Нинку уйти. Наконец ей удалось увести девчонку из-под дождя в подъезд. Там горела тусклая лампочка.
Нинкина мать повернула лицо к свету, и мы услышали, как она сказала:
— Посмотри на меня. Я красивая?
Нинка удивленно посмотрела на мать и, конечно, ничего не увидела. Разве мать может быть красивой или некрасивой?
— Не знаю, — созналась Нинка.
— Тебе пора бы знать, — жестко сказала Нинкина мать. — Я некрасивая. Просто дурная.
— Нет, нет! — вырвалось у Нинки.
Она прижалась к матери и заплакала.
Мы так и не поняли, кого она жалела: мать или себя.
— И ничего страшного, — уже спокойно сказала Нинкина мать. — Счастье приходит не только к красивым. И некрасивые выходят замуж.
— Я не хочу замуж! — резко ответила Нинка, и мы были согласны с ней.
— Да, да, конечно, — как бы спохватилась мать. — Не обязательно замуж…
Потом они вышли на дождь и пошли по улице. Мы, не сговариваясь, двинулись за ними. Нет, не из любопытства. Нам казалось, что мы можем понадобиться Нинке.
Неожиданно мы услышали, как Нинка спросила:
— У тебя был муж?
— Нет.
— Но у меня был отец?
Мать не ответила. Она как бы не расслышала вопроса. Нинка рассердилась и сказала довольно грубо:
— Что ж, меня аист принес?
— Да, аист, — глухо прошептала мать. — Прилетел, понимаешь, аист. И улетел. А ты осталась.
Они шли по темному переулку, и у них не было зонта. Но им было все равно: дождь так дождь. А нас трясло от холодной сырости.
— Значит, мой отец аист? — произнесла Нинка и тихо засмеялась. — Очень хорошо. Когда я стану учительницей, меня будут называть Нина Аистовна. И, может быть, у меня вырастут крылья… Вот если бы ты нашла меня в капусте, было бы куда скучнее.
— Не смейся, — сказала мать.
— Я не смеюсь. — Она и в самом деле уже не смеялась, но голос ее дрожал, дробился. — А где он… аист?
Мать отвернулась в сторону и вытерла со щеки бороздку дождя.
— Он тоже был некрасивый?
Нинка остановилась, крепко сжала мамину руку выше локтя и заглянула ей в лицо. Она смотрела на мать так, как будто произошла ошибка и рядом с ней оказалась чужая, незнакомая женщина. Девочка как бы увидела маму в холодном, безжалостном зеркале. Такой, как она есть. Какой видели ее мы — чужие ребята, жавшиеся к темной стене дома. Мы были так близко от них, что чувствовали запах мыла и ношеной одежды. И, не видя нас, Нинка как бы почувствовала наше присутствие и совершенно другим, спокойным голосом сказала:
— Мама, давай с тобой сыграем в красавицу.
— Глупости!
— Нет, нет, давай сыграем. Я тебя научу. Ты стой и слушай, что я буду говорить.
Она сильней сжала мамину руку, приблизилась к ней, тихо, одними губами стала произносить знакомые слова из нашей игры, которые мы до приезда новых жильцов дарили ей:
— Мама, у тебя лебяжья шея и большие глаза, синие, как море. У тебя длинные золотистые волосы и коралловые губы…
Потоки дождя тянулись из невидимых туч. Под ногами разливались холодные моря. И все железо города гремело и грохотало. Но сквозь гудящий ветер, сквозь пронизывающий холод поздней осенней мглы живой, теплой струйкой текли слова, заглушающие горе:
— У тебя атласная кожа… соболиные брови… жемчужные зубы…
И они зашагали дальше, крепко прижавшись друг к другу. И уже ни о чем не говорили. И были спокойны. Им помогла придуманная нами игра. Эна, бена, рес… А мы стояли у стены, держа друг друга за рукава. И провожали их взглядом, пока они не скрылись в темной мгле. Квинтер, контер, жес…
Нинка из седьмой квартиры погибла в 1942 году на фронте под Мгой. Она была санитаркой.
ПОСЛЕДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК


ослушайте, мальчики! Знаете ли вы, что я был знаком с самим Джузеппе Роджеро? Это был знаменитый мастер. Огненный композитор. Он исполнял свои произведения не на скрипке и не на тромбоне. Его музыка рассыпалась в небе разноцветными огнями…
Мальчики с открытыми ртами сидели на пороге старого бастиона и слушали рассказ дяди Евгения. А он, худой, костистый, с двумя большими морщинами на впалых щеках, с редкими пепельными волосами, широко разводил руки, словно открывал перед маленькими слушателями всю свою жизнь.
— Джузеппе Роджеро был молод и красив. Его вороненые кудри развевались по ветру, и большие черные глаза горели неиссякаемым восторгом… Я был его учеником.
При слове «ученик» мальчики сразу представили себе дядю Евгения за школьной партой, а красавца Джузеппе Роджеро — на месте учителя. Дети никогда не видят взрослых молодыми. Им трудно представить себе дядю Евгения мальчиком, и поэтому в воображении ребят дядя Евгений сидел за партой в своих стираных-перестираных полотняных брюках, в белой рубашке с неизменным галстуком бабочкой на худой шее. А учитель Роджеро с развевающимися кудрями звал дядю Евгения к доске и велел ему взять мел и писать.
Старый бастион стоит на обрыве над самым морем. Когда разыгрывается шторм, море с грохотом идет на приступ каменной башни. Волны лезут по скалам, но обрываются и падают вниз, разбиваясь о камни. Бастион неприступен. Когда-то здесь стояла крепость.
Неизвестно, от чего больше пострадало это славное боевое сооружение — от турецких ядер или от времени. Над пористым потемневшим камнем выросла акация. Ее легкая, призрачная листва еще больше оттеняет тяжесть и угловатость бастиона.
В бастионе стоит пушечный дух. Но не потому, что в нем ухают старинные орудия, которые заряжают с дула и подпаливают смоляным факелом. Этот дух поддерживает «адская кухня» — пиротехническая мастерская дяди Евгения. «Адской кухней» дядя Евгений называет ее, когда у него плохое настроение. При хорошем же расположении духа пиротехник зовет свой бастион «мастерской праздника». Мальчишки не помнят, когда появилась эта необычная мастерская. Вероятно, дядя Евгений облюбовал башню бывшей крепости задолго до их появления на свет.
Дядя Евгений очень худ. Кости проступают на скулах, на подбородке, на острых плечах и на лодыжках ног. Кажется, он сделан из того же материала, что и бастион. Ежедневно он снимает с двери висячий замок, похожий на большой каблук, и входит под своды своей таинственной мастерской. Сюда не ступала нога ни одного мальчишки. Невысокий стертый порожек преграждал им путь, как строгая граница. И плохо приходилось тому, кто вопреки запрету дяди Евгения осмеливался нарушить эту границу.
Зато смотреть можно сколько угодно. Смотреть, спрашивать, интересоваться содержанием банок, выпытывать секреты составления огненных смесей — это может каждый. И поэтому любой мальчишка из соседнего детского дома в курсе дела, из чего делают римские свечи и бенгальские огни. И каждый назубок знает всю огненную палитру дяди Евгения: красный цвет — соли стронция, зеленый — соли бария, синий — углекислая медь.
— Вот подрастете, — говорит дядя Евгений своим друзьям, — я научу вас искусству пиротехники.

Мальчишки клялись посвятить свою жизнь этому удивительному ремеслу. Но когда подрастали, их почему-то переставали интересовать бенгальские огни, и они находили интерес в других профессиях. Дядя Евгений оставался без учеников и последователей. Зато в друзьях у него никогда не было недостатка.
К дяде Евгению ребят привлекала не только его таинственная «адская кухня», от которой постоянно исходил жутковатый дух селитры — родной сестры пороха. Вся жизнь дяди Евгения была неиссякаемым источником самых необычных историй. И хотя мальчишки знали все истории старого пиротехника так же хорошо, как состав динамической смеси, приводящей в движение огненные фигуры, они снова и снова приставали к своему седому другу:
— Дядя Евгений, расскажи, как ты повернул танк.
И дядя Евгений охотно исполнял просьбу своих маленьких друзей.
— Послушайте, мальчики!
Дядя Евгений переставал месить серебристое тесто, из которого делают бенгальские огни, и обводил царственным взглядом мальчишек, которые жались к запретному порогу.
— Знаете ли вы, что, когда немцы подходили к городу, у нас не хватало противотанковых пушек?
Мальчишки дружно кивали головами, будто жили в то время и своими глазами видели, что противотанковых пушек не хватало.
— Тогда я взял на себя один рубеж. Вы можете мне не верить…
Дядя Евгений делал паузу, словно хотел прочесть в глазах своих слушателей, верят они ему или не верят, и глаза отвечали: верим!
Тогда он продолжал:
— Вы можете мне не верить, но я вырыл себе окопчик… чертовски крепкая у нас земля, сплошной камень… Я вырыл себе окопчик и принес в него весь запас своих римских свечей. Я сел на дно окопа и стал ждать. У меня не было никакого оружия. Даже перочинного ножа. Но со мной было мое искусство. И я надеялся на него, мальчики… Мне было очень неудобно в окопе. И я сложился пополам, как железный метр. Вы можете смеяться, но я сложился пополам. Колени уперлись в подбородок… У меня онемела поясница, и я не мог ее потереть, потому что рука не проходила. И когда пошли танки, я обрадовался. А? Что? Смешно?!
Рассказчик делал паузу. Он испытывал терпение своих слушателей и нагнетал в них любопытство.
— На меня шел танк. А я сидел неподвижно, как кролик, загипнотизированный удавом. Я забыл о пояснице. Я смог бы сложиться вчетверо, только бы танк не лез на меня. И тогда я поджег первую римскую свечу.
Слушатели облегченно вздохнули, словно речь шла не о безобидной римской свече, а о грозном оружии, способном уничтожить танк.
— Я поджег одну римскую свечу, потом вторую, третью. Потом… Вы можете мне не верить, но, когда десяток римских свечей рассыпался огненными искрами, загорелся вокруг танка, фашист не выдержал. Он повернул… Если вы мне не верите, то уходите и никогда больше не являйтесь ко мне.
Мальчишки молчали. Они боялись спугнуть вдохновение дяди Жени неловким движением или покашливанием. Он властвовал над их душами. А властелином он был своенравным и капризным.
— Он повернул, мальчики! Он испугался вот этого теста!
Дядя Евгений протягивал к ребятам изделие своей «адской кухни» и вдруг начинал хохотать. Его трясло от смеха. Хохотали глаза, морщины на щеках, плечи, а старенький артистический бантик буквально подпрыгивал на его шее от смеха. Некоторое время мальчишки сидели молча, не зная, что делать. Тогда дядя Евгений переставал смеяться и прикидывался сердитым:
— Что вы не смеетесь? Разве не смешно?
В такие минуты в старом бастионе разыгрывался маленький спектакль. Ребята делали вид, что впервые слушают историю с танком, а дядя Евгений старался изо всех сил, будто рассказывал ее в первый раз.
Потом он неожиданно начинал жаловаться своим друзьям на то, как трудно доставать химикаты, на невнимание со стороны властей к тому, что «мастерская праздника» влачит жалкое существование.
— Моя профессия отмирающая, — сокрушенно говорил он. — Хотя пиротехника — младшая сестра ракет и космических кораблей.
И маленькие друзья всем сердцем хотели, чтобы его профессия не отмирала, а жила еще долго-долго.
Дядя Евгений относился к той редкой породе людей, у которых материальные блага не занимают в жизни никакого места. Для него ничего не стоило на последние деньги купить по случаю бертолетову соль или алюминиевые опилки.
За всю свою жизнь он ничего не нажил, ничем не обзавелся. Все, что у него было, было при нем. И, может быть, его единственной собственностью были старые полотняные штаны, белая рубашка с аккуратно заштопанным воротником и галстук бабочкой, который он надевал даже в самую жаркую погоду, как некий рыцарский знак артистов и художников.
В жаркие дни камни бастиона накалялись, а резные листья акации не могли остановить идущие напролом лучи солнца. Внизу, под бастионом, тяжело вздыхало море, словно проделало большой путь и никак не могло отдышаться. Дядя Евгений вешал на двери мастерской тяжелый замок и вместе со своими друзьями отправлялся купаться.
Худой и длиннорукий, он смешно балансировал на отвесной каменистой тропке и был похож на большую старую птицу, которая, прежде чем взлететь, долго машет крыльями.

Очутившись на берегу, он долго расшнуровывал свои ботинки, потом, прыгая на одной ноге, стаскивал полотняные штаны. В последнюю очередь он снимал рубаху и галстук бабочкой. Дойдя до края берега, он пробовал воду большим пальцем босой ноги и подавал команду:
— Вперед! В воду!
И ребята, как будто подброшенные трамплином, устремлялись в море.

Сам он входил в воду медленно, с достоинством. А плыл, громко фырча и манерно выбрасывая вперед руки.
В старом бастионе, превращенном дядей Евгением в «мастерскую праздника», шла своя маленькая, ни на что не похожая жизнь. В ней было что-то необычное и притягательное. И мальчишки сходились сюда, как на огонек.
Нормальный ход жизни старого бастиона нарушил вестник, который однажды появился на пороге мастерской:
— Дядя Евгений! Дядя Евгений! Лешка сжег себе руку. Его отвезли в больницу!
Чумазый широколицый паренек, принесший эту весть, стоял перед дядей Евгением и, переминаясь с ноги на ногу, ждал, пока старый пиротехник перестанет рассматривать его изумленными глазами, в которых накапливалась тревога.
— Как — сжег руку? — наконец спросил дядя Евгений.
— Ракетой. Хотел запустить ракету, а она загорелась…
— Какой ракетой? — спросил дядя Евгений и, не дожидаясь ответа, стал собираться.
В этот день он в первый раз не повесил замок на двери мастерской. Он механически поправил бантик на шее, провел рукой по остаткам волос и быстро зашагал в сторону города.
В больницу его пустили не сразу. Он никак не мог растолковать, кем он приходится пострадавшему. По его объяснениям выходило, что он посторонний человек.
— Кто вы, собственно, такой? — допытывалась дежурная сестра.
Человек в полотняных штанах, с бантиком на шее явно не внушал ей доверия.
— Я пиротехик Бурый. Евгений Сергеевич Бурый.
— Пиротехник? — настороженно переспросила сестра. — Это по вашей милости мальчик получил ожог второй степени?
— При чем здесь моя милость? — пробормотал дядя Евгений и опустил голову.
Он сел на скамью и стал ждать. Он был подавлен происшедшим.
«А может быть, я и в самом деле виноват?» — думал дядя Евгений, и эта мысль усугубляла его отчаяние.
В конце концов его все же пустили к больному Лешке. Ему дали белый халат. Халат оказался на толстого человека, а дядя Евгений был худ, и халат повис на нем, как парус на мачте при безветрии. Но пиротехника это мало интересовало. Он даже забыл поправить бантик, который съехал на сторону.
Очутившись в палате, дядя Евгений сел на краешек койки и некоторое время сидел молча. Он разглядывал своего маленького дружка, словно хотел убедиться, не произошла ли ошибка.
— Что же это ты? — спросил он Лешку и покачал головой.
— Я хотел ракету сделать, чтобы летела метров на сто. Понимаете? — сказал Лешка.
— Ракету? — как бы про себя произнес дядя Евгений. — Что ты в нее заложил?
— Порох и… головки от спичек.
— Зачем же порох? — вспыхнул дядя Евгений и тут же спохватился и начал говорить тихо: — Не мог посоветоваться! Я бы тебе… Да что теперь говорить!..
— Я боялся, — сконфуженно пробормотал больной.
— Кого ты боялся?
— Вас!
— Эх ты, рыбья голова! Пороха не боялся, а меня испугался. Разве я такой страшный, чтоб меня бояться?
— Вы строгий.
— «Строгий»! — передразнил мальчика старый пиротехник. — А разве в моем деле можно быть не строгим? Мой учитель Джузеппе Роджеро бил меня по рукам… за неосторожность. И я ему благодарен.
Дядя Евгений отвернулся. Он снова уходил в свои тяжелые мысли. Вид у него был такой расстроенный, что у Лешки сжималось сердце. Он никогда не предполагал, что веселый, чудаковатый дядя Евгений может так сокрушаться. Мальчик привстал на постели и потянул дядю Евгения за халат.
— А? Что? Смешно? — Дядя Евгений подскочил, словно его только что разбудили.
— Ничего не смешно, — сказал мальчишка. — А у меня рука почти не болит.
— Болит. Я знаю… У меня в детстве все руки были обожжены… Но-но-но! Это тебя не касается. Ясно?
Теперь уже не он утешал Лешку, а пострадавший говорил ему о том, что ожог ерундовый. Но дядя Евгений качал головой и сутулился. Где-то подспудно он начинал считать себя виноватым. И эта мысль сломила его, сложила будто железный метр на части, как тогда, в противотанковом окопчике…
На другой день дядю Евгения вызвали в милицию. К товарищу Шмелеву.
Старый пиротехник долго рассматривал маленькую повестку с лиловым расплывчатым штампом. Он несколько раз перечитал ее, словно хотел проникнуть в тайный смысл этой казенной бумажки. Но никакого иного смысла не было: бумажка просто уведомляла, что гражданину Бурому Е. С. надлежит явиться такого-то числа в такое-то время к товарищу Шмелеву.
Он пришел в назначенный час. В своих полотняных штанах, которые от стирки так сели, что казалось, владелец вырос из них. В кабинете было двое: сам товарищ Шмелев и инспектор районо.
Во время разговора товарищ Шмелев молчал. В разговоре не участвовал. Но своим присутствием как бы скреплял каждое слово лиловым расплывчатым штампом, таким же, как на повестке.
Товарищ Шмелев молчал, а говорил инспектор:
— Государство обеспечило вас хорошей пенсией, а вы тут приработок нашли…
— Приработок? — Дядя Евгений поднялся со стула. — Приработок?!
Его глаза расширились от удивления. Слово «приработок» звучало для него, как иностранное, чужое слово, и он не знал точного его перевода.
Но инспектор не отступал.
— А как же, — говорил он с нажимом. — Что вы, задаром целые дни корпите в своем бастионе?
— Задаром.
Инспектор недоверчиво посмотрел на пиротехника. А товарищ Шмелев отвернулся. Ему, видно, был неприятен весь этот разговор.
— Задаром. Для души. Вы понимаете, что такое для души?
Инспектор выкатил свои черные блестящие глаза. Они, как два ртутных шарика, скользнули по серым полотняным штанам, по белой рубахе с аккуратно заштопанным воротничком и остановились на галстуке бабочкой. Он не мог решить, кто этот старик: ловкий лжец или чудак, свалившийся с другой планеты. И он сказал:
— Для души стихи пишут. — И тут же, на всякий случай, поправился: — Раньше писали.
Дядя Евгений пропустил его слова мимо ушей. Он вдруг сказал:
— Вот товарищ Шмелев лет десять назад тоже проводил у меня целые дни. Спросите его. Он все знает.
Инспектор посмотрел на товарища Шмелева такими глазами, как будто сейчас на месте участкового уполномоченного уже сидел совершенно другой человек. Шмелев ерзал на стуле и был красный. Шея, уши, лицо — все залилось яркой краской стыда.
— Да, да, — скороговоркой сказал участковый, — я дядю Евгения, гм… товарища Бурого… знаю. Он бескорыстно действует. Так сказать, в интересах общества… Но, конечно, осторожность в таком деле…
Дядя Евгений не дал ему договорить.
— Мне все понятно, — сказал он и провел рукой по пепельным волосам. — Будем осторожны.
Больше он ничего не сказал. Он поднялся со стула и направился к двери.
…Что случилось с мальчиками? Почему они не появляются на пороге старого бастиона? Разве они не понимают, что без них «мастерская праздника» теряет весь свой смысл? Может быть, они после случая с Лешкой перетрусили и так сразу изменили своему другу?
Теперь в ожидании своих маленьких друзей он терялся в догадках. Он не мог допустить, что они изменили ему. Он терпеливо ждал их, а они все не шли.
Спустя неделю на старый бастион забрел Лешка. Его только что отпустили из больницы, и он, пользуясь временной свободой, свернул к дяде Евгению.
Он застал пиротехника одиноко сидящим на пороге бастиона. Мальчик не узнал своего старого друга. Дядя Евгений зарос серебристо-рыжей щетиной. Он весь осунулся, сгорбился, а глаза глубоко ввалились в глазницы. Гордый рыцарский знак сиротливо валялся на банке из-под бертолетовой соли.
Заметив мальчика, дядя Евгений привстал, улыбнулся и сделал несколько неуверенных шагов навстречу.
— Здравствуй, друг!
Он сразу оживился и стал похожим на прежнего дядю Евгения.
— Как твоя рука? Зажила? На вашем брате все заживает. Все!
Лешка молчал. Он все старался понять, что же произошло со старым другом. А тот взял его, Лешку, за плечи, стал трясти, поворачивать в стороны, словно хотел получше рассмотреть.
И вдруг он отпустил Лешку и спросил:
— Слушай, а где остальные мальчики?
Лешка запнулся, но потом ответил:
— Их сюда не пускают. Инспектор запретил. Сказал, чтобы на пушечный выстрел не подходили.
Мальчик произнес эти слова скороговоркой: хотел поскорее избавиться от них, как от чего-то очень неприятного.
А дядя Евгений отвернулся и стал смотреть на море.

— Говоришь, на пушечный выстрел? — спросил он, не поворачиваясь.
Да, так распорядился инспектор. Этому казенному человеку и в голову не приходило, что своим распоряжением он нанес удар прямо в сердце старого пиротехника. Он отнял у него главное: его мальчиков, его собеседников, его семью, его душу. Чтобы старое дерево засохло, его не обязательно спилить — достаточно подрубить главный корень…
Лешка сказал:
— Я побегу. А то нагорит… А ракету я все равно запущу. Как только рука заживет. Пусть знают наших!
И он нехотя побрел в сторону детского дома. А дядя Евгений остался у старого бастиона.
Неожиданно темное южное небо ожило. Его разбудили стремительные огни фейерверка. Зеленые огни рассыпались электрическими искрами, красные разгорались костром, синие трепетали, как фосфорящиеся капли моря. Это начался фантастический звездопад. Разноцветные звезды летели с земли в небо.
Люди выбегали на улицу и, задрав головы, неотрывно следили за игрой ярких живых огней. Никто не понимал, что случилось. Все в городе привыкли, что фейерверк устраивается по праздникам и в честь выдающихся событий. И тут же на улице стали поговаривать, что в космос ушел новый корабль и это в честь его дается внеочередной фейерверк.
Все новые и новые снопы света возникали в небе. Испуганные голуби стаями носились над городом. При свете ракет они были красными, синими, желтыми, как райские птицы.
Небо переливалось огнями, а в это время у старого бастиона кипела работа. Это отсюда стартовали ракеты и римские свечи. Всю площадку заволокло едким дымом. Похоже было, что здесь трудится целая бригада огнепоклонников. Но в дыму виднелась только одна худая проворная фигура. Она металась из конца в конец. И там, где она появлялась, возникала вспышка и звучал оглушительный хлопок.
Это был дядя Евгений. Он собрал все запасы «мастерской праздника» и превратил площадку перед бастионом в огневую позицию. От черного дыма его белая рубаха покрылась копотью, а прядь пепельных волос крепко прихватило огнем. Но старик — откуда только взялись силы! — бегал от одной римской свечи к другой. Сейчас он пустил в ход не только все запасы своей «адской кухни», но и неприкосновенный запас молодости, который сумел сохранить до седин.
Нет, это не праздничный салют будил сонное вечернее небо — это кипел прощальный фейерверк!
Этими огнями дядя Евгений звал своих мальчиков, тех, кому настрого было запрещено появляться на пороге старого бастиона, и тех, кто давно вырос и сам забыл сюда дорогу. Он слал в небо красные, желтые, зеленые ракеты, а они сигналили, как таинственные позывные, которые были понятны только тем, кто многие часы провел рядом с дядей Евгением.
«Эй, мальчики, — сигналили ракеты, — я ухожу от вас! Прощайте, мальчики! Вы, мальчики, — соль земли, на вас свет сошелся клином. Мальчики всегда есть на земле: потому что на смену одним приходят другие. Я люблю вас, мальчики, мальчики, мальчики!..»
Небо кипело огнями. Но ему все казалось мало. И он стрелял и стрелял… А в глазах стояли слезы. Но это не были слезы обиды. Это были слезы прощания.
Есть жизни, похожие на коптилки: они долго теплятся, дают мало света и наполняют округу дымом и копотью.
Но есть жизни — звезды, которые вспыхивают ненадолго, но своим горением делают мир удивительным.
Он жил, как звезда. И звезды фейерверка были его друзьями.
Еще! Еще! Еще!
Огни уходили ввысь и не возвращались на землю, а пропадали из глаз в густой темноте южного неба. И сердца знакомых и незнакомых мальчишек летели следом за этими огнями.
…Когда последняя ракета растаяла в вышине, дядя Евгений перевел дыхание и устало опустился на каменный порожек. Он глубоко вдыхал в себя родной едкий запах «адской кухни», словно хотел надышаться им впрок. Потом он поднялся. Осторожно прикрыл дверь «мастерской праздника» и ушел.
Больше его никто не видел, словно он умчался с огнями своего последнего фейерверка. Но отблеск его фейерверков продолжает гореть в памяти людей и не погаснет до тех пор, пока в человеке жив человек.




Оглавление
МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
Повесть
РАССКАЗЫ
СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА
БАГУЛЬНИК
РЫЦАРЬ ВАСЯ
ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ
СЫН ЛЕТЧИКА
РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ
ДЕВОЧКА С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
А ВОРОБЬЕВ СТЕКЛО НЕ ВЫБИВАЛ
ГДЕ СТОЯЛА БАТАРЕЯ
ВСАДНИК, СКАЧУЩИЙ НАД ГОРОДОМ
ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ
БАМБУС
ИГРА В КРАСАВИЦУ
ПОСЛЕДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК


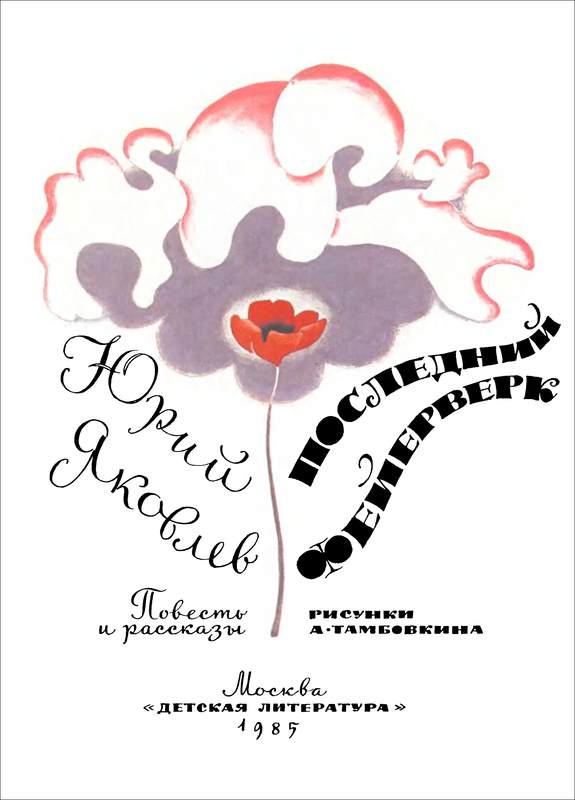 МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
Повесть
МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
Повесть

 солнечный мартовский день в городе начинают таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли больной, простуженной зиме.
По городу идет мальчик с коньками.
Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все мало. Лыжные брюки — до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра: рукава коротки. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину. Шарф зеленый в полоску, с фиолетовым чернильным пятном на самом видном месте.
Кажется, что вчера еще все было мальчику впору и что это за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одежду не успели купить.
Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него под мышкой.
Какой-то он нескладный и неустойчивый. То споткнется на ровном месте, то налетит на прохожего. То бежит вприпрыжку, то, заглядевшись на машину, останавливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, задиристые.
Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в мальчике непоседу и драчуна, который среди ребят чувствует себя уверенно, а оставшись один, не знает, куда себя деть.
На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом. Основательно потертая шапка сидит на одном ухе, оставив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится по тротуару: некогда с ним возиться.
И только коньки, удобно пристроившиеся под мышкой, в полном порядке. Они крепятся медными заклепками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены «бутербродиком» и стянуты желтым кожаным ремешком. Это не какие-нибудь девчачьи «снегурочки», а вполне серьезные мужские коньки «английский спорт». У них острые крепкие носы. Когда бежишь на этих носах, ледяные крошки отлетают в стороны, как искры из-под железных подков. Можно быстро бежать, а потом встать на полозья и долго скользить по ледяной глади катка.
Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и к потертой шапке, сидящей на одном ухе.
Холодная капля упала мальчику на щеку. Он вытер ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный взгляд, свернул в переулок.
солнечный мартовский день в городе начинают таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли больной, простуженной зиме.
По городу идет мальчик с коньками.
Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все мало. Лыжные брюки — до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра: рукава коротки. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину. Шарф зеленый в полоску, с фиолетовым чернильным пятном на самом видном месте.
Кажется, что вчера еще все было мальчику впору и что это за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одежду не успели купить.
Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него под мышкой.
Какой-то он нескладный и неустойчивый. То споткнется на ровном месте, то налетит на прохожего. То бежит вприпрыжку, то, заглядевшись на машину, останавливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, задиристые.
Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в мальчике непоседу и драчуна, который среди ребят чувствует себя уверенно, а оставшись один, не знает, куда себя деть.
На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом. Основательно потертая шапка сидит на одном ухе, оставив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится по тротуару: некогда с ним возиться.
И только коньки, удобно пристроившиеся под мышкой, в полном порядке. Они крепятся медными заклепками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены «бутербродиком» и стянуты желтым кожаным ремешком. Это не какие-нибудь девчачьи «снегурочки», а вполне серьезные мужские коньки «английский спорт». У них острые крепкие носы. Когда бежишь на этих носах, ледяные крошки отлетают в стороны, как искры из-под железных подков. Можно быстро бежать, а потом встать на полозья и долго скользить по ледяной глади катка.
Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и к потертой шапке, сидящей на одном ухе.
Холодная капля упала мальчику на щеку. Он вытер ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный взгляд, свернул в переулок.






 сли твоя фамилия Малявкин и товарищи зовут тебя Малявкой, то еще можно пережить. Тем более, что зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудачная. С такой фамилией самого лучшего человека на свете будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве величали этим потешным и немного обидным именем. Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена звали Малявкой. Ну и что из этого! Вот если тебя к тому же считают конченым человеком и если рядом с твоей неудачной фамилией поставили большой жирный минус, тогда плохи твои дела.
…Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил:
— Это тебе повезло.
А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался:
— Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!
— Так я не виноват… — пробовал было возразить Малявкин-сын.
— Ты всегда не виноват! — обрубал Малявкин-отец.
Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына — что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил.
От обиды лицо мальчика покрывалось красными пятнами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он провалился в прорубь, хочет вскарабкаться на льдинку, но руки скользят. И никто не желает помочь ему…
Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был большой, а у Зои Назаровны не хватило времени толком разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась, поразмыслила и в уме поставила перед каждым из них плюс или минус. Малявкину достался минус.
Она поставила этот минус в уме, для служебного пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, словно минус был выведен в журнале против его фамилии. И его нельзя было ни стереть, ни исправить.
Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не поворачиваясь от доски, говорила через плечо:
— Малявкин и компания, тише!
Она называла его фамилию при каждом удобном случае, даже если он в этот момент сидел набрав в рот воды. Она считала, что Малявкин все делает ей назло. А Малявкин просто не мог спокойно сидеть на месте. Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая беспрестанно поворачивала его голову, заставляя ерзать, приводила в движение руки. У этой пружинки никогда не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и старался изо всех сил удержать ее. Но стоило только забыться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова приводила в движение голову, руки, язык.
Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с Малявкиным.
— Ничем ты не интересуешься, — говорила она, и кончики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул их за ниточки. — Ребята марки собирают, делают гербарии… Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал!
Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое Назаровне, что белые облака нельзя засушить, как кленовые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые марки. А Малявкин интересовался облаками.
Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой подбородок и долго-долго следил за облаками, которые обязательно на что-то похожи. На слона, на верблюда или на снежные горы. Конечно, облако не может долго быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытягивает шею, что она наконец обрывается. И вот уже нет верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти. Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Назаровне?
сли твоя фамилия Малявкин и товарищи зовут тебя Малявкой, то еще можно пережить. Тем более, что зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудачная. С такой фамилией самого лучшего человека на свете будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве величали этим потешным и немного обидным именем. Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена звали Малявкой. Ну и что из этого! Вот если тебя к тому же считают конченым человеком и если рядом с твоей неудачной фамилией поставили большой жирный минус, тогда плохи твои дела.
…Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил:
— Это тебе повезло.
А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался:
— Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!
— Так я не виноват… — пробовал было возразить Малявкин-сын.
— Ты всегда не виноват! — обрубал Малявкин-отец.
Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына — что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил.
От обиды лицо мальчика покрывалось красными пятнами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он провалился в прорубь, хочет вскарабкаться на льдинку, но руки скользят. И никто не желает помочь ему…
Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был большой, а у Зои Назаровны не хватило времени толком разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась, поразмыслила и в уме поставила перед каждым из них плюс или минус. Малявкину достался минус.
Она поставила этот минус в уме, для служебного пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, словно минус был выведен в журнале против его фамилии. И его нельзя было ни стереть, ни исправить.
Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не поворачиваясь от доски, говорила через плечо:
— Малявкин и компания, тише!
Она называла его фамилию при каждом удобном случае, даже если он в этот момент сидел набрав в рот воды. Она считала, что Малявкин все делает ей назло. А Малявкин просто не мог спокойно сидеть на месте. Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая беспрестанно поворачивала его голову, заставляя ерзать, приводила в движение руки. У этой пружинки никогда не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и старался изо всех сил удержать ее. Но стоило только забыться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова приводила в движение голову, руки, язык.
Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с Малявкиным.
— Ничем ты не интересуешься, — говорила она, и кончики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул их за ниточки. — Ребята марки собирают, делают гербарии… Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал!
Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое Назаровне, что белые облака нельзя засушить, как кленовые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые марки. А Малявкин интересовался облаками.
Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой подбородок и долго-долго следил за облаками, которые обязательно на что-то похожи. На слона, на верблюда или на снежные горы. Конечно, облако не может долго быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытягивает шею, что она наконец обрывается. И вот уже нет верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти. Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Назаровне?


 н вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть — другого слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и уставлялся на доску. А через несколько минут снова зевал.
— Почему ты зеваешь?! — раздраженно спрашивала Женечка.
Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. Зевал же потому, что всегда хотел спать.
Он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутиками, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день менял воду.
И Женечка посмеивалась.
Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали. И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.
— Багульник! — буркнул он и пошел прочь.
Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них, молчальников, на уме: плохое или хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя тоже не любят молчальников, потому что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами.
Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста молчальник. Подумали, что он волшебник. И Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.
Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы — конским хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки с подковками. На улице ее никто не принял бы за учительницу. Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвостик развевается на ветру. Остановись, лошадка! Не слышит, бежит… И долго еще не затихает стук подковок…
Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?
Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой — под короткой шерстью тигрового окраса перекатывались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась — над глазами и на груди теплились коричневые подпалины.
Чего только не говорили про Косту ребята!
— У него ирландский сеттер, — утверждали одни. — Он охотится на уток.
— Ерунда! У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков. Мертвая хватка! — говорили другие.
Третьи смеялись:
— Не можете отличить таксы от боксера!
Были еще такие, которые спорили со всеми:
— Он держит трех собак!
На самом деле у него не было ни одной собаки.
А сеттер? А боксер? А такса?
Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей головешкой.
Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось. Когда родители возвращались с работы, они заставали сына за столом: он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?
Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти.
Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая. Огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалявшейся шерсти проступали худые, острые лопатки, большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы — ударом такой лапы можно сбить любую собаку — ступали медленно, устало.
С этой собакой Косту никто не видел.
Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления. И как зорко ни следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.
Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развевался на ветру.
Она превратилась в следопыта.
Коста добежал до своего дома — он жил в зеленом облупившемся доме, — исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда.
Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.
Коста нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай, а царапанье — в барабанную дробь.
— Тише, Артюша, подожди! — крикнул Коста.
Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок.
— Артюша, перестань!
Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и оба — мальчик и собака — с неимоверной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой.
Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек.
— Вот, погуляли. До завтра, — сказал Коста.
— Спасибо. До завтра.
Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер.
Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних лапах, а передние положил на перила.
Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.
— Атилла! — крикнул Коста, вбегая во двор.
Боксер тихо взвизгнул. От счастья.
Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.
Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден. Он ел жадно, но при этом посматривал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.
Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку. Отвисшие углы большого черногубого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу.
Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
— Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть помирай с голоду! Люди ведь!..
Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста.
Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой. Но Коста спешил дальше.
В соседнем доме на первом этаже болел парнишка — был прикован к постели. Это у него была такса — черная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика.
— Она тебя ждет, — говорил больной.
— Ты болей, не волнуйся, — слышался голос Косты.
— Я болею… не волнуюсь, — отвечал больной. — Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.
— Мне не надо велосипеда.
— Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.
— Приду утром, — после некоторого раздумья отвечал Коста. — Только очень рано, до школы.
— Тебе не попадет дома?
— Ничего… тяну… на тройки… Только спать хочется, поздно уроки делаю.
— Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.
— Выкарабкивайся.
— Ты куришь? — спрашивал больной.
— Некурящий, — отвечал Коста.
— И я некурящий.
— Ну, мы пошли… Ты болей… не волнуйся. Пошли, Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный Лапоть.
Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пламенно-рыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей хотелось заговорить с Костой. Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.
Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница — Женечка — снова пряталась за спины прохожих. Дома уменьшились ростом. А спин стало совсем мало. Город кончался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук.
И тут показалось море. Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и неторопливо наползали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.
Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией горизонта.
Коста шел по берегу, наклоняясь вперед — против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешанные на кольях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем.
Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря.
Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов.
н вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть — другого слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и уставлялся на доску. А через несколько минут снова зевал.
— Почему ты зеваешь?! — раздраженно спрашивала Женечка.
Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. Зевал же потому, что всегда хотел спать.
Он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутиками, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день менял воду.
И Женечка посмеивалась.
Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали. И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.
— Багульник! — буркнул он и пошел прочь.
Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них, молчальников, на уме: плохое или хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя тоже не любят молчальников, потому что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами.
Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста молчальник. Подумали, что он волшебник. И Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.
Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы — конским хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки с подковками. На улице ее никто не принял бы за учительницу. Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвостик развевается на ветру. Остановись, лошадка! Не слышит, бежит… И долго еще не затихает стук подковок…
Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?
Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой — под короткой шерстью тигрового окраса перекатывались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась — над глазами и на груди теплились коричневые подпалины.
Чего только не говорили про Косту ребята!
— У него ирландский сеттер, — утверждали одни. — Он охотится на уток.
— Ерунда! У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков. Мертвая хватка! — говорили другие.
Третьи смеялись:
— Не можете отличить таксы от боксера!
Были еще такие, которые спорили со всеми:
— Он держит трех собак!
На самом деле у него не было ни одной собаки.
А сеттер? А боксер? А такса?
Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей головешкой.
Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось. Когда родители возвращались с работы, они заставали сына за столом: он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?
Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти.
Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая. Огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалявшейся шерсти проступали худые, острые лопатки, большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы — ударом такой лапы можно сбить любую собаку — ступали медленно, устало.
С этой собакой Косту никто не видел.
Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления. И как зорко ни следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.
Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развевался на ветру.
Она превратилась в следопыта.
Коста добежал до своего дома — он жил в зеленом облупившемся доме, — исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда.
Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.
Коста нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай, а царапанье — в барабанную дробь.
— Тише, Артюша, подожди! — крикнул Коста.
Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок.
— Артюша, перестань!
Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и оба — мальчик и собака — с неимоверной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой.
Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек.
— Вот, погуляли. До завтра, — сказал Коста.
— Спасибо. До завтра.
Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер.
Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних лапах, а передние положил на перила.
Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.
— Атилла! — крикнул Коста, вбегая во двор.
Боксер тихо взвизгнул. От счастья.
Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.
Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден. Он ел жадно, но при этом посматривал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.
Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку. Отвисшие углы большого черногубого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу.
Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
— Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть помирай с голоду! Люди ведь!..
Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста.
Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой. Но Коста спешил дальше.
В соседнем доме на первом этаже болел парнишка — был прикован к постели. Это у него была такса — черная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика.
— Она тебя ждет, — говорил больной.
— Ты болей, не волнуйся, — слышался голос Косты.
— Я болею… не волнуюсь, — отвечал больной. — Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.
— Мне не надо велосипеда.
— Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.
— Приду утром, — после некоторого раздумья отвечал Коста. — Только очень рано, до школы.
— Тебе не попадет дома?
— Ничего… тяну… на тройки… Только спать хочется, поздно уроки делаю.
— Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.
— Выкарабкивайся.
— Ты куришь? — спрашивал больной.
— Некурящий, — отвечал Коста.
— И я некурящий.
— Ну, мы пошли… Ты болей… не волнуйся. Пошли, Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный Лапоть.
Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пламенно-рыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей хотелось заговорить с Костой. Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.
Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница — Женечка — снова пряталась за спины прохожих. Дома уменьшились ростом. А спин стало совсем мало. Город кончался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук.
И тут показалось море. Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и неторопливо наползали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.
Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией горизонта.
Коста шел по берегу, наклоняясь вперед — против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешанные на кольях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем.
Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря.
Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов.


 риятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени — он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул. И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе сСуворовым совершал в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк.
Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись три бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий — между носом и верхней губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь.
Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой толстый? Но на самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.
То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой.
А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, в пернатом шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря.
В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами.
Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место. И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка.
В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность.
Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:
— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке!
Разве так обращаются с благородным рыцарем?
Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки.
Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:
— На такого толстого никакие доспехи не налезут.
Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце.
В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы.
Тайком от дежурной старушки от трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого — к серебряному. К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из них не смеется и не называет его тюфяком.
Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо Пансы?
Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «Поторапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над тарелкой!», — он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту.
Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей.
На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не мешало учителям постоянно делать ему замечания:
— Рыбаков, о чем ты мечтаешь?
— Рыбаков, повтори, что я сказала.
— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи.
Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на место.
Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи.
На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с грохотом спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй.
Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и с выражением произносил:
риятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени — он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул. И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе сСуворовым совершал в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк.
Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись три бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий — между носом и верхней губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь.
Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой толстый? Но на самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.
То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой.
А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, в пернатом шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря.
В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами.
Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место. И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка.
В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность.
Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:
— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке!
Разве так обращаются с благородным рыцарем?
Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки.
Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:
— На такого толстого никакие доспехи не налезут.
Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце.
В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы.
Тайком от дежурной старушки от трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого — к серебряному. К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из них не смеется и не называет его тюфяком.
Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо Пансы?
Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «Поторапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над тарелкой!», — он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту.
Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей.
На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не мешало учителям постоянно делать ему замечания:
— Рыбаков, о чем ты мечтаешь?
— Рыбаков, повтори, что я сказала.
— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи.
Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на место.
Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи.
На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с грохотом спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй.
Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и с выражением произносил:


 ожно войти?
— Войди… Как твоя фамилия?
— Я Таборка.
— А как тебя зовут?
— Табором.
— Имя у тебя есть?
— Есть… Саша. Но зовут меня Табором.
Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой черный портфель в белых трещинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достает почти до полу. Если не считать старого, облезлого портфеля, то в наружности Таборки не было ничего примечательного. Круглое лицо. Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что зацепиться взгляду.
Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве все запомнишь.
— Подойди сюда и сядь… Не на кончик стула, а как следует. И не грызи ногти… Что у тебя за история?
Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор длинный и худой. Он занимает полкресла. А вторая половина свободна. Руки, тоже длинные и худые, лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, она становится похожей на большой циркуль, которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил:
— Это вы про собаку?
— Про собаку.
Мальчик уставился в одну точку: в угол, где висели плащ и коричневая шляпа.
— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привел ее в школу. В живой уголок. Туда берут ужей и золотых рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей?
Он проглотил слюну и с укором сказал:
— А собака — млекопитающее.
Директор откинулся на спинку кресла и пятерней, как гребенкой, провел по темным густым волосам.
— И ты привел ее в класс?
Теперь директор вспомнил, за что приглашен к нему этот возмутитель спокойствия. И ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову.
Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал:
— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала ее. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха… Но потом она напустила лужу.
— И Нине Петровне это не понравилось?
— Не понравилось… Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала. На меня и на собаку. Потом она велела мне взять тряпку и вытереть лужу. А сама встала в дальний угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу. Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вытираю. И велела мне и моей собаке убираться вон. Но она ничего… Она не убивала мою собаку.
Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не директору, а плащу и шляпе.
— Все? — спросил директор.
Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать разговор. И если бы мальчик сказал «все», директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал «все» и не кивнул головой.
— Нет, — сказал он, — мы еще были в милиции.
Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом кресле, как в костюме, который велик. Наверное, его предшественник — старый директор — был толстым, раз завел такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают новичками.
— Как ты очутился в милиции?
Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он заговорил сразу, без заминки:
— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно скалят зубы. Их черные носы смотрят из-под ворот, как двустволки. А моя собака махала хвостиком. Она была белой, и над глазами у нее два рыжих треугольника. Вместо бровей…
Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катались одно за другим.
— И женщину она не кусала. Она играла и ухватила ее за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается, и закричала. Меня повели в милицию, а собака бежала рядом.
ожно войти?
— Войди… Как твоя фамилия?
— Я Таборка.
— А как тебя зовут?
— Табором.
— Имя у тебя есть?
— Есть… Саша. Но зовут меня Табором.
Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой черный портфель в белых трещинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достает почти до полу. Если не считать старого, облезлого портфеля, то в наружности Таборки не было ничего примечательного. Круглое лицо. Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что зацепиться взгляду.
Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве все запомнишь.
— Подойди сюда и сядь… Не на кончик стула, а как следует. И не грызи ногти… Что у тебя за история?
Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор длинный и худой. Он занимает полкресла. А вторая половина свободна. Руки, тоже длинные и худые, лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, она становится похожей на большой циркуль, которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил:
— Это вы про собаку?
— Про собаку.
Мальчик уставился в одну точку: в угол, где висели плащ и коричневая шляпа.
— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привел ее в школу. В живой уголок. Туда берут ужей и золотых рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей?
Он проглотил слюну и с укором сказал:
— А собака — млекопитающее.
Директор откинулся на спинку кресла и пятерней, как гребенкой, провел по темным густым волосам.
— И ты привел ее в класс?
Теперь директор вспомнил, за что приглашен к нему этот возмутитель спокойствия. И ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову.
Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал:
— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала ее. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха… Но потом она напустила лужу.
— И Нине Петровне это не понравилось?
— Не понравилось… Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала. На меня и на собаку. Потом она велела мне взять тряпку и вытереть лужу. А сама встала в дальний угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу. Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вытираю. И велела мне и моей собаке убираться вон. Но она ничего… Она не убивала мою собаку.
Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не директору, а плащу и шляпе.
— Все? — спросил директор.
Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать разговор. И если бы мальчик сказал «все», директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал «все» и не кивнул головой.
— Нет, — сказал он, — мы еще были в милиции.
Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом кресле, как в костюме, который велик. Наверное, его предшественник — старый директор — был толстым, раз завел такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают новичками.
— Как ты очутился в милиции?
Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он заговорил сразу, без заминки:
— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно скалят зубы. Их черные носы смотрят из-под ворот, как двустволки. А моя собака махала хвостиком. Она была белой, и над глазами у нее два рыжих треугольника. Вместо бровей…
Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катались одно за другим.
— И женщину она не кусала. Она играла и ухватила ее за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается, и закричала. Меня повели в милицию, а собака бежала рядом.


 могу поручиться, что никогда не слышал о летчике Преснякове. Но его лицо на фотографии показалось мне удивительно знакомым. Он снят после полета, в гермошлеме, в котором можно дышать там, где нет воздуха. В этом одеянии он скорее похож на водолаза, чем на летчика.
Капитан Пресняков небольшого роста. Но это сразу не заметишь на фотографии, потому что он снят до пояса. Зато отчетливо видны широкие скулы, и глаза щелочками, и неровные брови, и канавки над верхней губой, и шрам на лбу. А может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете.
Эта фотография принадлежит Володьке Преснякову. Висит у него над постелью. Когда в дом приходит новый человек, Володька подводит его к фотографии и говорит:
— Мой отец.
Он говорит это так, будто и в самом деле знакомит гостя со своим отцом.
Живет Володька в Москве, в проезде Соломенной Сторожки. Конечно, на Володькиной улице нет никакой сторожки, да еще соломенной. Кругом стоят большие новые дома. Это при Петре Первом здесь была сторожка. Интересно, в каком месте она стояла? Около гастронома или на углу, у сберкассы? И как звали стражника, который в ненастную, вьюжную ночь забегал в теплую сторожку, чтоб перевести дух и погреть у огонька деревянные от мороза руки? Только на минутку! Стражнику не положено торчать в теплой сторожке при исполнении служебных обязанностей…
Под окнами Володькиного дома днем и ночью грохочут самосвалы: рядом идет стройка. Но Володька привык к грохоту и не обращает на него внимания. Зато ни один самолет не пролетит над его головой незамеченным. Услышав звук мотора, он вздрагивает, настораживается. Его тревожные глаза спешат отыскать в небе маленькие серебристые крылышки машины. Впрочем, он, даже не глядя на небо, может по звуку определить, какой летит самолет: простой или реактивный, и сколько у него «движков». Это потому, что с детства привык к самолетам.
Когда Володька был маленьким, он жил далеко-далеко от Москвы. В военном городке. Ведь города, как и люди, бывают военные.
Володька родился в этом городке и прожил в нем добрую половину своей жизни. Человек не может запомнить, как он учился ходить и как произнес первое слово. Вот если он упал и разбил коленку, это он помнит. Но Володька не падал и не разбивал коленку, и над бровью у него нет шрама, потому что и бровь он тоже никогда не разбивал. И вообще он ничего не помнит.
Не помнит, как, заслышав шум мотора, он что-то искал в небе выпуклыми голубыми глазами. И как протягивал руку: хотел поймать самолет. Рука была пухлая, со складкой у запястья, будто в этом месте кто-то обвел ее чернильным карандашом.
Когда Володька был совсем маленьким, он умел только просить. А когда стал постарше — годика в три-четыре, — стал спрашивать. Он задавал маме самые неожиданные вопросы. И были такие, на которые мама не могла ответить.
«Почему самолет не падает с неба?.. Почему у нас звездочки, а у фашистов крестики с хвостиками?»
Володька жил с мамой. Папы у него не было. И вначале он считал, что так и должно быть. И его вовсе не беспокоило, что нет папы. Он и не спрашивал о нем, потому что не знал, что ему полагается папа. Но однажды он спросил у мамы:
— Где мой папа?
Он думал, что маме очень легко и просто ответить на этот вопрос. Но мама молчала. «Пусть подумает», — решил Володька и стал ждать. Но мама так и не ответила на вопрос сына.
Володьку это не очень огорчило, потому что мама многие его вопросы оставляла без ответа.
Больше Володька не задавал маме этого вопроса. Какой смысл спрашивать, если мама не может ответить? Но сам он не забыл о своем вопросе с той легкостью, с какой забывал о других. Ему понадобился папа, и он стал ждать, когда папа появится.
Как ни странно, Володька умел ждать. Он не искал папу на каждом шагу и не требовал от мамы, чтобы она нашла ему недостающего папу. Он стал ждать. Если мальчику полагается папа, то рано или поздно он найдется.
«Интересно, как появится папа? — думал Володька. — Придет пешком или приедет на автобусе? Нет, папа прилетит на самолете — ведь он летчик». В военном городке у всех ребят папы были летчиками.
Отправляясь с мамой гулять, он посматривал на встречных мужчин. Он старался угадать, на кого из них похож его папа.
«Этот очень длинный, — думал он, оглядываясь на высокого лейтенанта, — такому папе и на спину не заберешься. И почему у него нет усов? У папы должны быть усы. Только не такие, как у продавца в булочной. У него усы рыжие. А у папы усы будут черные…»
С каждым днем Володька все нетерпеливей ждал приезда папы. Но папа ниоткуда не приезжал.
— Мама, сделай мне кораблик, — сказал однажды Володька и протянул маме дощечку.
Мама посмотрела на сына беспомощно, будто он задал ей один из тех вопросов, на которые она не могла ответить. Но потом вдруг в ее глазах появилась решимость. Она взяла из рук сына дощечку, достала большой кухонный нож и начала стругать. Нож не слушался маму: он резал не как хотела мама, а как ему вздумается — вкривь и вкось. Потом нож соскользнул и порезал маме палец. Пошла кровь. Мама отбросила недоструганную деревяшку в сторону и сказала:
— Я лучше куплю тебе кораблик.
Но Володька покачал головой.
— Не хочу купленный, — сказал он и поднял с пола дощечку.
У его друзей-приятелей были красивые кораблики с трубами и парусами. А у Володьки была шершавая недоструганная деревяшка.
Но именно эта невзрачная дощечка, именуемая пароходом, сыграла в Володькиной судьбе очень важную роль.
Однажды Володька прогуливался по коридору квартиры с дощечкой-кораблем в руках и лицом к лицу столкнулся с соседом Сергеем Ивановичем. Сосед был летчиком. Целыми днями он пропадал на аэродроме. А Володька «пропадал» в детском садике. Так что они почти не встречались и совсем не знали друг друга.
— Здравствуй, брат! — сказал Сергей Иванович, встретив Володьку в коридоре.
Володька задрал голову и стал рассматривать соседа. До пояса он был одет в белую обыкновенную рубаху, а брюки и сапоги были военными. На плече висело полотенце.
— Здравствуй! — отозвался Володька.
Он всех называл на «ты».
— Почему ты один шагаешь по коридору? — спросил сосед.
— Гуляю.
— А на улицу что не идешь?
— Не пускают. Кашляю.
— Небось по лужам без галош бегал?
— Нет. Я снег ел.
— Понятно.
В конце разговора, который происходил в полутемном коридоре, сосед заметил в руках Володьки дощечку.
— Что это у тебя?
— Кораблик.
— Какой же это кораблик? Это доска, а не кораблик, — сказал сосед и предложил: — Давай я тебе кораблик сделаю.
— Только не сломай, — предупредил его Володька и протянул дощечку.
— А как тебя зовут? — между прочим спросил сосед, разглядывая деревяшку.
— Володя.
— Володька, значит?
Володька. Это хорошо. Мама называла его Володенька, а тут — Володька. Очень красиво!
Пока Володька раздумывал над новым именем, сосед достал из кармана складной перочинный ножик и ловко начал обстругивать дощечку.
Что это получился за кораблик! Ровный, гладкий, с трубой посредине, с пушкой на носу. На полу кораблик не стоял, заваливался набок, зато в лужах он чувствовал себя отлично. Никакие волны не могли его опрокинуть. Присев на корточки, Володькины приятели с любопытством рассматривали корабль. Каждому хотелось потрогать его, потянуть за веревочку. Володька торжествовал.
могу поручиться, что никогда не слышал о летчике Преснякове. Но его лицо на фотографии показалось мне удивительно знакомым. Он снят после полета, в гермошлеме, в котором можно дышать там, где нет воздуха. В этом одеянии он скорее похож на водолаза, чем на летчика.
Капитан Пресняков небольшого роста. Но это сразу не заметишь на фотографии, потому что он снят до пояса. Зато отчетливо видны широкие скулы, и глаза щелочками, и неровные брови, и канавки над верхней губой, и шрам на лбу. А может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете.
Эта фотография принадлежит Володьке Преснякову. Висит у него над постелью. Когда в дом приходит новый человек, Володька подводит его к фотографии и говорит:
— Мой отец.
Он говорит это так, будто и в самом деле знакомит гостя со своим отцом.
Живет Володька в Москве, в проезде Соломенной Сторожки. Конечно, на Володькиной улице нет никакой сторожки, да еще соломенной. Кругом стоят большие новые дома. Это при Петре Первом здесь была сторожка. Интересно, в каком месте она стояла? Около гастронома или на углу, у сберкассы? И как звали стражника, который в ненастную, вьюжную ночь забегал в теплую сторожку, чтоб перевести дух и погреть у огонька деревянные от мороза руки? Только на минутку! Стражнику не положено торчать в теплой сторожке при исполнении служебных обязанностей…
Под окнами Володькиного дома днем и ночью грохочут самосвалы: рядом идет стройка. Но Володька привык к грохоту и не обращает на него внимания. Зато ни один самолет не пролетит над его головой незамеченным. Услышав звук мотора, он вздрагивает, настораживается. Его тревожные глаза спешат отыскать в небе маленькие серебристые крылышки машины. Впрочем, он, даже не глядя на небо, может по звуку определить, какой летит самолет: простой или реактивный, и сколько у него «движков». Это потому, что с детства привык к самолетам.
Когда Володька был маленьким, он жил далеко-далеко от Москвы. В военном городке. Ведь города, как и люди, бывают военные.
Володька родился в этом городке и прожил в нем добрую половину своей жизни. Человек не может запомнить, как он учился ходить и как произнес первое слово. Вот если он упал и разбил коленку, это он помнит. Но Володька не падал и не разбивал коленку, и над бровью у него нет шрама, потому что и бровь он тоже никогда не разбивал. И вообще он ничего не помнит.
Не помнит, как, заслышав шум мотора, он что-то искал в небе выпуклыми голубыми глазами. И как протягивал руку: хотел поймать самолет. Рука была пухлая, со складкой у запястья, будто в этом месте кто-то обвел ее чернильным карандашом.
Когда Володька был совсем маленьким, он умел только просить. А когда стал постарше — годика в три-четыре, — стал спрашивать. Он задавал маме самые неожиданные вопросы. И были такие, на которые мама не могла ответить.
«Почему самолет не падает с неба?.. Почему у нас звездочки, а у фашистов крестики с хвостиками?»
Володька жил с мамой. Папы у него не было. И вначале он считал, что так и должно быть. И его вовсе не беспокоило, что нет папы. Он и не спрашивал о нем, потому что не знал, что ему полагается папа. Но однажды он спросил у мамы:
— Где мой папа?
Он думал, что маме очень легко и просто ответить на этот вопрос. Но мама молчала. «Пусть подумает», — решил Володька и стал ждать. Но мама так и не ответила на вопрос сына.
Володьку это не очень огорчило, потому что мама многие его вопросы оставляла без ответа.
Больше Володька не задавал маме этого вопроса. Какой смысл спрашивать, если мама не может ответить? Но сам он не забыл о своем вопросе с той легкостью, с какой забывал о других. Ему понадобился папа, и он стал ждать, когда папа появится.
Как ни странно, Володька умел ждать. Он не искал папу на каждом шагу и не требовал от мамы, чтобы она нашла ему недостающего папу. Он стал ждать. Если мальчику полагается папа, то рано или поздно он найдется.
«Интересно, как появится папа? — думал Володька. — Придет пешком или приедет на автобусе? Нет, папа прилетит на самолете — ведь он летчик». В военном городке у всех ребят папы были летчиками.
Отправляясь с мамой гулять, он посматривал на встречных мужчин. Он старался угадать, на кого из них похож его папа.
«Этот очень длинный, — думал он, оглядываясь на высокого лейтенанта, — такому папе и на спину не заберешься. И почему у него нет усов? У папы должны быть усы. Только не такие, как у продавца в булочной. У него усы рыжие. А у папы усы будут черные…»
С каждым днем Володька все нетерпеливей ждал приезда папы. Но папа ниоткуда не приезжал.
— Мама, сделай мне кораблик, — сказал однажды Володька и протянул маме дощечку.
Мама посмотрела на сына беспомощно, будто он задал ей один из тех вопросов, на которые она не могла ответить. Но потом вдруг в ее глазах появилась решимость. Она взяла из рук сына дощечку, достала большой кухонный нож и начала стругать. Нож не слушался маму: он резал не как хотела мама, а как ему вздумается — вкривь и вкось. Потом нож соскользнул и порезал маме палец. Пошла кровь. Мама отбросила недоструганную деревяшку в сторону и сказала:
— Я лучше куплю тебе кораблик.
Но Володька покачал головой.
— Не хочу купленный, — сказал он и поднял с пола дощечку.
У его друзей-приятелей были красивые кораблики с трубами и парусами. А у Володьки была шершавая недоструганная деревяшка.
Но именно эта невзрачная дощечка, именуемая пароходом, сыграла в Володькиной судьбе очень важную роль.
Однажды Володька прогуливался по коридору квартиры с дощечкой-кораблем в руках и лицом к лицу столкнулся с соседом Сергеем Ивановичем. Сосед был летчиком. Целыми днями он пропадал на аэродроме. А Володька «пропадал» в детском садике. Так что они почти не встречались и совсем не знали друг друга.
— Здравствуй, брат! — сказал Сергей Иванович, встретив Володьку в коридоре.
Володька задрал голову и стал рассматривать соседа. До пояса он был одет в белую обыкновенную рубаху, а брюки и сапоги были военными. На плече висело полотенце.
— Здравствуй! — отозвался Володька.
Он всех называл на «ты».
— Почему ты один шагаешь по коридору? — спросил сосед.
— Гуляю.
— А на улицу что не идешь?
— Не пускают. Кашляю.
— Небось по лужам без галош бегал?
— Нет. Я снег ел.
— Понятно.
В конце разговора, который происходил в полутемном коридоре, сосед заметил в руках Володьки дощечку.
— Что это у тебя?
— Кораблик.
— Какой же это кораблик? Это доска, а не кораблик, — сказал сосед и предложил: — Давай я тебе кораблик сделаю.
— Только не сломай, — предупредил его Володька и протянул дощечку.
— А как тебя зовут? — между прочим спросил сосед, разглядывая деревяшку.
— Володя.
— Володька, значит?
Володька. Это хорошо. Мама называла его Володенька, а тут — Володька. Очень красиво!
Пока Володька раздумывал над новым именем, сосед достал из кармана складной перочинный ножик и ловко начал обстругивать дощечку.
Что это получился за кораблик! Ровный, гладкий, с трубой посредине, с пушкой на носу. На полу кораблик не стоял, заваливался набок, зато в лужах он чувствовал себя отлично. Никакие волны не могли его опрокинуть. Присев на корточки, Володькины приятели с любопытством рассматривали корабль. Каждому хотелось потрогать его, потянуть за веревочку. Володька торжествовал.



 огда в лагере говорили «Селюженок», ребята усмехались в предчувствии новых происшествий, а для взрослых это слово звучало, как сигнал тревоги и предвестник неприятностей. Этот сигнал-предвестник начинал звучать с самого утра и не утихал до отбоя. Во всех уголках лагеря только и слышалось:
— Селюженок, заправь койку!
— Селюженок, вымой уши!
— Селюженок, перестань барабанить ложкой по тарелке!
— Селюженок, куда ты спрятал журнал?
— Селюженок, если ты не выйдешь из воды, больше не будешь купаться до конца смены.
Какие только грозные предупреждения и сердитые возгласы не следовали за словом «Селюженок»! За неделю лагерной жизни на него был истрачен годовой запас восклицательных знаков.
У Селюженка круглая голова, подстриженная под машинку, а уши торчат в стороны, как ручки сахарницы. Худое лицо всегда измазано сажей, или какой-нибудь краской, или просто грязью неизвестного происхождения. Селюженок маленький и хрупкий: ткнешь пальцем — он и упадет. Походка у него легкая и бесшумная, словно он не идет, а крадется. Как это такое хлипкое существо может доставлять людям столько неприятностей!
Худой, большеголовый, прыткий, он похож на огромного головастика. И взрослые считают, что с годами из него выйдет порядочная жаба.
Лицо у Селюженка непроницаемое. Слова не то что отскакивали от него, как горох, они как бы проходили насквозь, не оставляя никаких следов. Когда мальчика ругали, он не морщился, не дергал плечом и не опускал глаза — он улыбался своим мыслям. Взрослым казалось, что мальчишка насмехается над их словами. Они теряли самообладание, надрывали голоса. Но Селюженок был надежно защищен от их гнева своей невозмутимостью.
Чаще всего Селюженок молчал. Это был надежный способ самообороны. Но если он и выдавливал из себя слово, то его ответы были односложными, лишенными настоящего смысла.
— Ты зачем взял у Брусничкиной зубную щетку?
— Просто так.
— У тебя что, нет своей щетки?
— Есть.
— Так зачем тебе вторая щетка?
— Просто так.
После разговора с Селюженком даже самые уравновешенные люди стучали кулаком по столу и хлопали дверями. У этого дурного мальчишки была удивительная способность нагнетать в людях злость, портить настроение и доказывать взрослым, что у них не в порядке нервы.
Селюженок тащил все, что плохо лежало. Он хватал ленточки для кос, карандаши, носовые платки, перочинные ножи. Он был похож на сороку, которая несет в свое гнездо ненужные для нее вещи. Сорочьим гнездом была тумбочка Селюженка. Нет, он никогда не ел чужие сладости и не присваивал деньги. Все, что попадалось к нему в руки, оставалось без всякого применения и не приносило ему никаких благ.
Никто не знал, что творится в душе у этого маленького колючего человечка. Нельзя было определить, весел он или печален, доволен жизнью или обижен.
Он был всегда одним и тем же. С его лица не сходила глуповатая, лишенная всякого смысла улыбка. Он был неразрешимой загадкой, задачкой, которая никогда не сходится с ответом. Взрослые махнули на него рукой и мечтали поскорей дожить до конца смены, чтобы навсегда избавиться от этого уродца. Ребята подсмеивались над Селюженком, когда он им досаждал, поколачивали, но в общем относились к нему терпимо. А малыши, завидев его, весело кричали:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Селюженок не сердился и не щелкал малышей по выпуклым лбам. Он улыбался. И они принимали его улыбку за чистую монету. Да так оно, возможно, и было.
Чашу терпения взрослого населения пионерского лагеря переполнил случай с пластилином. В один прекрасный день руководительница изокружка обнаружила, что в студии пропал большой кусок зеленого пластилина: весь запас кружка лепки. Сомнений не было: это мог сделать только Селюженок.
Расстроенная Татьяна Павловна в отчаянии прибежала к начальнику лагеря.
— Так больше нельзя! — быстро заговорила она, и лицо ее покрылось красными пятнами. — На прошлой неделе он вылил весь скипидар. Теперь — пластилин! Надо что-то делать!
Татьяна Павловна не назвала имя похитителя пластилина, но начальник лагеря безошибочно определил, о ком шла речь.
— Позвать Селюженка! — крикнул он дежурному, и настроение его сразу начало портиться.
Через несколько минут на пороге кабинета уже стоял виновник очередного происшествия. Он стоял молча и смотрел на начальника невидящими глазами, словно начальник был прозрачным и мальчик видел сквозь него спинку стула.
— Селюженок! — В голосе начальника лагеря звучали недобрые нотки. — Что ты молчишь? Отвечай, зачем ты взял пластилин?
— Я не брал, — спокойно ответил Селюженок.
— Покажи руки.
Мальчик охотно протянул руки.
— Разожми кулаки.
Селюженок разжал кулаки.
— Поверни ладошками вверх.
Селюженок выполнил и эту команду.
— Смотри! У тебя все руки в пластилине.
— Это не пластилин.
— А что это?
— Это грязь.
— Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю тебя в город. Ясно? — И, не дожидаясь ответа, начальник лагеря, в котором все внутри уже клокотало, почти крикнул: — Иди!
Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не бывало зашагал к двери.
— Селюженок!
Мальчик остановился и повернулся к начальнику.
— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты брал пластилин?
В этом вопросе не было никакого смысла. Все было ясно. Просто начальнику хотелось добиться признания. Селюженок молчал. Он стоял перед разгневанным начальником и следил глазами за жирной блестящей мухой, которая, проворно шевеля проволочными лапками, ползла по стене. В эту минуту у похитителя пластилина не было более важного дела.
— Иди! — закричал начальник.
Он был, в общем, неплохим человеком, но этот Селюженок пробуждал в нем зверя.
Селюженок попрощался глазами с мухой и направился к двери.
огда в лагере говорили «Селюженок», ребята усмехались в предчувствии новых происшествий, а для взрослых это слово звучало, как сигнал тревоги и предвестник неприятностей. Этот сигнал-предвестник начинал звучать с самого утра и не утихал до отбоя. Во всех уголках лагеря только и слышалось:
— Селюженок, заправь койку!
— Селюженок, вымой уши!
— Селюженок, перестань барабанить ложкой по тарелке!
— Селюженок, куда ты спрятал журнал?
— Селюженок, если ты не выйдешь из воды, больше не будешь купаться до конца смены.
Какие только грозные предупреждения и сердитые возгласы не следовали за словом «Селюженок»! За неделю лагерной жизни на него был истрачен годовой запас восклицательных знаков.
У Селюженка круглая голова, подстриженная под машинку, а уши торчат в стороны, как ручки сахарницы. Худое лицо всегда измазано сажей, или какой-нибудь краской, или просто грязью неизвестного происхождения. Селюженок маленький и хрупкий: ткнешь пальцем — он и упадет. Походка у него легкая и бесшумная, словно он не идет, а крадется. Как это такое хлипкое существо может доставлять людям столько неприятностей!
Худой, большеголовый, прыткий, он похож на огромного головастика. И взрослые считают, что с годами из него выйдет порядочная жаба.
Лицо у Селюженка непроницаемое. Слова не то что отскакивали от него, как горох, они как бы проходили насквозь, не оставляя никаких следов. Когда мальчика ругали, он не морщился, не дергал плечом и не опускал глаза — он улыбался своим мыслям. Взрослым казалось, что мальчишка насмехается над их словами. Они теряли самообладание, надрывали голоса. Но Селюженок был надежно защищен от их гнева своей невозмутимостью.
Чаще всего Селюженок молчал. Это был надежный способ самообороны. Но если он и выдавливал из себя слово, то его ответы были односложными, лишенными настоящего смысла.
— Ты зачем взял у Брусничкиной зубную щетку?
— Просто так.
— У тебя что, нет своей щетки?
— Есть.
— Так зачем тебе вторая щетка?
— Просто так.
После разговора с Селюженком даже самые уравновешенные люди стучали кулаком по столу и хлопали дверями. У этого дурного мальчишки была удивительная способность нагнетать в людях злость, портить настроение и доказывать взрослым, что у них не в порядке нервы.
Селюженок тащил все, что плохо лежало. Он хватал ленточки для кос, карандаши, носовые платки, перочинные ножи. Он был похож на сороку, которая несет в свое гнездо ненужные для нее вещи. Сорочьим гнездом была тумбочка Селюженка. Нет, он никогда не ел чужие сладости и не присваивал деньги. Все, что попадалось к нему в руки, оставалось без всякого применения и не приносило ему никаких благ.
Никто не знал, что творится в душе у этого маленького колючего человечка. Нельзя было определить, весел он или печален, доволен жизнью или обижен.
Он был всегда одним и тем же. С его лица не сходила глуповатая, лишенная всякого смысла улыбка. Он был неразрешимой загадкой, задачкой, которая никогда не сходится с ответом. Взрослые махнули на него рукой и мечтали поскорей дожить до конца смены, чтобы навсегда избавиться от этого уродца. Ребята подсмеивались над Селюженком, когда он им досаждал, поколачивали, но в общем относились к нему терпимо. А малыши, завидев его, весело кричали:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Селюженок не сердился и не щелкал малышей по выпуклым лбам. Он улыбался. И они принимали его улыбку за чистую монету. Да так оно, возможно, и было.
Чашу терпения взрослого населения пионерского лагеря переполнил случай с пластилином. В один прекрасный день руководительница изокружка обнаружила, что в студии пропал большой кусок зеленого пластилина: весь запас кружка лепки. Сомнений не было: это мог сделать только Селюженок.
Расстроенная Татьяна Павловна в отчаянии прибежала к начальнику лагеря.
— Так больше нельзя! — быстро заговорила она, и лицо ее покрылось красными пятнами. — На прошлой неделе он вылил весь скипидар. Теперь — пластилин! Надо что-то делать!
Татьяна Павловна не назвала имя похитителя пластилина, но начальник лагеря безошибочно определил, о ком шла речь.
— Позвать Селюженка! — крикнул он дежурному, и настроение его сразу начало портиться.
Через несколько минут на пороге кабинета уже стоял виновник очередного происшествия. Он стоял молча и смотрел на начальника невидящими глазами, словно начальник был прозрачным и мальчик видел сквозь него спинку стула.
— Селюженок! — В голосе начальника лагеря звучали недобрые нотки. — Что ты молчишь? Отвечай, зачем ты взял пластилин?
— Я не брал, — спокойно ответил Селюженок.
— Покажи руки.
Мальчик охотно протянул руки.
— Разожми кулаки.
Селюженок разжал кулаки.
— Поверни ладошками вверх.
Селюженок выполнил и эту команду.
— Смотри! У тебя все руки в пластилине.
— Это не пластилин.
— А что это?
— Это грязь.
— Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю тебя в город. Ясно? — И, не дожидаясь ответа, начальник лагеря, в котором все внутри уже клокотало, почти крикнул: — Иди!
Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не бывало зашагал к двери.
— Селюженок!
Мальчик остановился и повернулся к начальнику.
— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты брал пластилин?
В этом вопросе не было никакого смысла. Все было ясно. Просто начальнику хотелось добиться признания. Селюженок молчал. Он стоял перед разгневанным начальником и следил глазами за жирной блестящей мухой, которая, проворно шевеля проволочными лапками, ползла по стене. В эту минуту у похитителя пластилина не было более важного дела.
— Иди! — закричал начальник.
Он был, в общем, неплохим человеком, но этот Селюженок пробуждал в нем зверя.
Селюженок попрощался глазами с мухой и направился к двери.


 Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками… Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила ему хорошего леща. Мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо… У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море. У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка… Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали.
Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой… Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали.
Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах: споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что, когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна.
Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением…» И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате — никого.
Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там… моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую землю, а Дорога жизни не помогла ей. Ее убили фашисты. Не пулей, не снарядом — голодом. Не все ли равно, чем убивают. Может быть, пулей не так больно, как голодом?..
Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра — там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.
Какие-то взрослые спросили меня:
— Ты кто такая?
— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить.
Мне сказали:
— Нельзя! Приходи со своим районом.
Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватилась за него:
— Он тоже пришел со своим районом?
— Он пришел с братом.
С братом можно. С районом можно. А как же быть одной? Я сказала им:
— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге… Тане Савичевой.
Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:
— Таня Савичева твоя подруга?
— А чего здесь особенного? Мы одногодки. Обе с Васильевского острова.
— Но ее же нет…
До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли:
— У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет щеки…
Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила:
— У нас даже почерк одинаковый!
— Почерк? — Они удивились еще больше.
— А что? Почерк!
Неожиданно они повеселели, от почерка:
— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с нами.
— Никуда я не поеду. Я хочу строить…
— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника писать Таниным почерком.
— Могу, — согласилась я. — Только у меня нет карандаша. Дадите?
— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом.
Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и дали Танин дневник — записную книжку с алфавитом — а, б, в… У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.
Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано:
«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».
Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти.
Но я василеостровская. И если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.
— Давайте ваш бетон. Буду писать.
Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. И мне говорили:
— Не торопись.
Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова. У меня плохо получалось.
— Не торопись. Пиши спокойно.
«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».
Пока я писала про Женю, умерла бабушка.
Если просто хочешь есть, это не голод — поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце, — все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает.
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.».
У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он там чертил. Зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у себя своим рейсфедером. Мне рассказывали. Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства…
— Пиши, — тихо сказали мне.
В новой раме бетон был жидкий, он наползал на буквы. И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но мне сказали:
— Пиши, Валя Зайцева, пиши.
И я снова написала — «умер».
«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942 г.».
«Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.».
Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тане Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не сдавалась — жила. Мне рассказывали…
Наступила весна. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и она держалась.
— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне. — Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.
Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово.
Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы.
— Можешь еще писать?
— Я допишу, — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. — Ведь Таня Савичева моя… подружка.
Мы с Таней одногодки, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она василеостровской, ленинградкой, не продержалась бы так долго. Но она жила — значит, не сдавалась!
Открыла страничку «С». Там было два слова: «Савичевы умерли». Открыла страничку «У» — «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О» — «Осталась одна Таня».
И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. В пустой квартире на Второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.
И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «Почему одна? А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?»
Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:
— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо.
Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я сказала:
— Приду завтра… без своего района. Можно?
— Приходи без района, — сказали мне. — Приходи.
Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми.
…И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.
Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками… Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила ему хорошего леща. Мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо… У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море. У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка… Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали.
Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой… Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали.
Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах: споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что, когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна.
Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением…» И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате — никого.
Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там… моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую землю, а Дорога жизни не помогла ей. Ее убили фашисты. Не пулей, не снарядом — голодом. Не все ли равно, чем убивают. Может быть, пулей не так больно, как голодом?..
Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра — там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.
Какие-то взрослые спросили меня:
— Ты кто такая?
— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить.
Мне сказали:
— Нельзя! Приходи со своим районом.
Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватилась за него:
— Он тоже пришел со своим районом?
— Он пришел с братом.
С братом можно. С районом можно. А как же быть одной? Я сказала им:
— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге… Тане Савичевой.
Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:
— Таня Савичева твоя подруга?
— А чего здесь особенного? Мы одногодки. Обе с Васильевского острова.
— Но ее же нет…
До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли:
— У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет щеки…
Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила:
— У нас даже почерк одинаковый!
— Почерк? — Они удивились еще больше.
— А что? Почерк!
Неожиданно они повеселели, от почерка:
— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с нами.
— Никуда я не поеду. Я хочу строить…
— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника писать Таниным почерком.
— Могу, — согласилась я. — Только у меня нет карандаша. Дадите?
— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом.
Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и дали Танин дневник — записную книжку с алфавитом — а, б, в… У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.
Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано:
«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».
Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти.
Но я василеостровская. И если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.
— Давайте ваш бетон. Буду писать.
Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. И мне говорили:
— Не торопись.
Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова. У меня плохо получалось.
— Не торопись. Пиши спокойно.
«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».
Пока я писала про Женю, умерла бабушка.
Если просто хочешь есть, это не голод — поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце, — все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает.
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.».
У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он там чертил. Зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у себя своим рейсфедером. Мне рассказывали. Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства…
— Пиши, — тихо сказали мне.
В новой раме бетон был жидкий, он наползал на буквы. И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но мне сказали:
— Пиши, Валя Зайцева, пиши.
И я снова написала — «умер».
«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942 г.».
«Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.».
Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тане Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не сдавалась — жила. Мне рассказывали…
Наступила весна. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и она держалась.
— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне. — Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.
Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово.
Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы.
— Можешь еще писать?
— Я допишу, — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. — Ведь Таня Савичева моя… подружка.
Мы с Таней одногодки, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она василеостровской, ленинградкой, не продержалась бы так долго. Но она жила — значит, не сдавалась!
Открыла страничку «С». Там было два слова: «Савичевы умерли». Открыла страничку «У» — «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О» — «Осталась одна Таня».
И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. В пустой квартире на Второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.
И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «Почему одна? А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?»
Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:
— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо.
Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я сказала:
— Приду завтра… без своего района. Можно?
— Приходи без района, — сказали мне. — Приходи.
Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми.
…И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.

 не жалко людей, которые рано перестали верить в сказки, разлюбили зверей и птиц, забыли дорогу в детство. Они редко припадают к незамутненному родничку далекого детства, чтобы смыть копоть обыденности, золотую пыльцу корысти, разъедающую сердце, и туман самообольщения, который плотной пеленой застилает глаза. Куда охотнее люди осуждают поступки своего детства, не замечая их чистоты и цельности. Они снисходительно посмеиваются, пожимают плечами и не пытаются разглядеть в своем детстве то первозданное, кристаллическое состояние души, которое утратили с годами.
Я часто имею дело с детьми, и мое собственное детство мне кажется не таким отдаленным. И я неожиданно начинаю ощущать себя не взрослым человеком, а состарившимся мальчиком. Это странное состояние, радостное и грустное одновременно, неожиданно увеличивает в своем значении события детских лет. И рядом со мной все чаще появляется мой школьный товарищ Семин — Марк Порций Катон Старший.
Его двойник, живший во втором веке до нашей эры в Риме, прославился тем, что всю жизнь, изо дня в день, упорно повторял: «Карфаген должен быть разрушен!»
Мой друг не требовал разрушения Карфагена, и не потому, что этот прекрасный город был разрушен римлянами задолго до его рождения (в 146 году до нашей эры), — просто он был добрым малым. Однако имя римского цензора он носил с завидным достоинством.
Эта необычная история началась с разбитого стекла. Толстое, шершавое, как бы покрытое морозным инеем, стекло в дверях директорского кабинета оказалось разбитым. И напоминало броню, пробитую снарядом. В образовавшейся бреши, как в пасти чудовища, торчали острые зубы осколков, и директор, маленький подвижный человек с розовой безволосой головой, выглядывал из этой зубастой пасти. В этот день у него был сокрушенный вид, как у человека и впрямь попавшего в пасть.
— Кто разбил стекло?
Естественно, тот, кто всегда бьет стекла: портфелем, мячом, корзинкой для бумаг, локтями. Воробьев! Если собрать все стекла, разбитые за недолгий век Воробьевым, то их хватит, чтобы застеклить новый дом. Итак, позвать сюда Тяпкина-Ляпкина, то бишь Воробьева!
Воробьев заглянул в «пасть» директорской двери:
— Звали?
— Войди! — приказали из «пасти».
Воробьев открыл дверь. Осколок стекла с легким звоном упал к его ногам. В этом звоне звучал укор.
— Ты выбил стекло? — спросил директор, поглаживая маленькой рукой бронзовую лошадь чернильного прибора. — Ты?
— Не-е! — односложно ответил Воробьев.
Казалось бы, все ясно. Ведь никто лучше Воробьева не знал, выбивал он стекло или не выбивал. Но, оказывается, ничего не было ясно. По крайней мере, директору. Он сказал:
— Пойди подумай. Зайдешь на следующей перемене.
— Подумаю, — буркнул Воробьев, хотя думать ему было нечего. — Зайду.
На следующей перемене «пасти» в дверях директорского кабинета уже не было: ее забили фанерой. Чистой, еще не исписанной словами и словечками. Воробьев постучал в фанеру.
— Подумал? — спросил директор.
— Подумал, — соврал Воробьев.
— Ты выбил стекло?
— Не-е!
Директор ударил рукой по крупу бронзовой лошади.
— Воробьев! Хоть раз в жизни признайся чистосердечно, тогда тебе ничего не будет.
Это был деловой разговор!
— Мать вызывать не будете? — поинтересовался мальчик.
— Не будем!
Воробьев устало посмотрел на директора — верить или не верить? — и решил рискнуть:
— Я выбил… Можно идти?
— Иди, — с облегчением сказал директор и почти с любовью посмотрел на Воробьева.
А Воробьев посмотрел на директора, как на соучастника в заговоре.
На этом история с разбитым стеклом могла благополучно завершиться, если бы Семин не был в душе Марком Порцием Катоном Старшим. В тот же день мой школьный товарищ открыл дверь с фанерой вместо стекла и с твердостью, с какой его римский двойник произносил: «Карфаген должен быть разрушен!», сказал:
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Это что еще за новости?! — Рука директора оседлала бронзовую лошадь чернильного прибора.
— А Воробьев стекло не выбивал! — повторил Семин.
— Кто же, по-твоему, выбил?
— Не знаю.
— Вот-вот, — оживился директор, — не знаешь, а говоришь! Воробьев сам признался. Понятно?
— Понятно, — ответил Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.
Розовая голова директора поплыла по кабинету, как воздушный шарик.
— Воробьев говорит — выбил, ты говоришь — не выбивал! Кому прикажешь верить?
— Мне! — приказал упрямый римлянин.
Директор вспыхнул:
— Позвать Воробьева!
Позвали. Воробьев пришел.
— Ты выбил стекло?
— Я, — как по-заученному, выпалил Воробьев.
— Что ты на это скажешь, Семин? — победоносно спросил директор моего школьного товарища.
— Он врет! — ответил Семин.
— Какой ему резон врать? Если бы он отпирался, тогда другое дело. Но он признается. Не вижу логики!
— Он врет! — повторил Семин, который видел логику.
— Отстань ты! — лениво буркнул Воробьев и тайком погрозил Семину кулаком. — Я выбил.
— Теперь ты убедился? — Директор торжествующе трепал по холке бронзового коня.
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Во-он! — тихо сказал директор, и его розовая голова стала пунцовой.
Так была упущена еще одна возможность раз и навсегда покончить с выбитым стеклом. История продолжалась.
В классе шел сбор, посвященный сбору колосков в подшефном колхозе. Все шумно обсуждали колоски. Спорили. Брали обязательства. Мой товарищ поднял руку.
— Обязуюсь собрать мешок колосков, — сказал он и тут же добавил: — А Воробьев стекло не выбивал!
— Какой Воробьев? Какое стекло? — растерялась вожатая. — Ведь мы говорим о колосках!
— Так я и говорю о колосках, — сказал Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.
— Выбил, — мрачно сказал Воробьев: он был верен уговору, держал слово.
— Ну конечно, выбил, — подхватила вожатая, — а колоски…
— Не выбивал, — стоически повторил двойник римского цензора.
— Семин, ты говоришь не на тему, — огорчилась вожатая. — Не срывай сбор, посвященный сбору…
— Я за колоски! А Воробьев стекло не выбивал!
На вечере самодеятельности Семину поручили читать стихотворение Пушкина «Вьюга». Он вышел на сцену, заложил руки за спину, привстал на носочки и объявил:
— Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Вьюга», — потом еще выше привстал на носочки и выдохнул: — А Воробьев стекло не выбивал!
Он произнес эту фразу горячо и вдохновенно, как строку пушкинского стихотворения. Зал загудел. Засмеялся. Захлопал.
А Марк Порций Катон Старший смотрел в темный зал и широко улыбался. Он думал: ребята хлопают, шумят и смеются потому, что согласны с ним.
не жалко людей, которые рано перестали верить в сказки, разлюбили зверей и птиц, забыли дорогу в детство. Они редко припадают к незамутненному родничку далекого детства, чтобы смыть копоть обыденности, золотую пыльцу корысти, разъедающую сердце, и туман самообольщения, который плотной пеленой застилает глаза. Куда охотнее люди осуждают поступки своего детства, не замечая их чистоты и цельности. Они снисходительно посмеиваются, пожимают плечами и не пытаются разглядеть в своем детстве то первозданное, кристаллическое состояние души, которое утратили с годами.
Я часто имею дело с детьми, и мое собственное детство мне кажется не таким отдаленным. И я неожиданно начинаю ощущать себя не взрослым человеком, а состарившимся мальчиком. Это странное состояние, радостное и грустное одновременно, неожиданно увеличивает в своем значении события детских лет. И рядом со мной все чаще появляется мой школьный товарищ Семин — Марк Порций Катон Старший.
Его двойник, живший во втором веке до нашей эры в Риме, прославился тем, что всю жизнь, изо дня в день, упорно повторял: «Карфаген должен быть разрушен!»
Мой друг не требовал разрушения Карфагена, и не потому, что этот прекрасный город был разрушен римлянами задолго до его рождения (в 146 году до нашей эры), — просто он был добрым малым. Однако имя римского цензора он носил с завидным достоинством.
Эта необычная история началась с разбитого стекла. Толстое, шершавое, как бы покрытое морозным инеем, стекло в дверях директорского кабинета оказалось разбитым. И напоминало броню, пробитую снарядом. В образовавшейся бреши, как в пасти чудовища, торчали острые зубы осколков, и директор, маленький подвижный человек с розовой безволосой головой, выглядывал из этой зубастой пасти. В этот день у него был сокрушенный вид, как у человека и впрямь попавшего в пасть.
— Кто разбил стекло?
Естественно, тот, кто всегда бьет стекла: портфелем, мячом, корзинкой для бумаг, локтями. Воробьев! Если собрать все стекла, разбитые за недолгий век Воробьевым, то их хватит, чтобы застеклить новый дом. Итак, позвать сюда Тяпкина-Ляпкина, то бишь Воробьева!
Воробьев заглянул в «пасть» директорской двери:
— Звали?
— Войди! — приказали из «пасти».
Воробьев открыл дверь. Осколок стекла с легким звоном упал к его ногам. В этом звоне звучал укор.
— Ты выбил стекло? — спросил директор, поглаживая маленькой рукой бронзовую лошадь чернильного прибора. — Ты?
— Не-е! — односложно ответил Воробьев.
Казалось бы, все ясно. Ведь никто лучше Воробьева не знал, выбивал он стекло или не выбивал. Но, оказывается, ничего не было ясно. По крайней мере, директору. Он сказал:
— Пойди подумай. Зайдешь на следующей перемене.
— Подумаю, — буркнул Воробьев, хотя думать ему было нечего. — Зайду.
На следующей перемене «пасти» в дверях директорского кабинета уже не было: ее забили фанерой. Чистой, еще не исписанной словами и словечками. Воробьев постучал в фанеру.
— Подумал? — спросил директор.
— Подумал, — соврал Воробьев.
— Ты выбил стекло?
— Не-е!
Директор ударил рукой по крупу бронзовой лошади.
— Воробьев! Хоть раз в жизни признайся чистосердечно, тогда тебе ничего не будет.
Это был деловой разговор!
— Мать вызывать не будете? — поинтересовался мальчик.
— Не будем!
Воробьев устало посмотрел на директора — верить или не верить? — и решил рискнуть:
— Я выбил… Можно идти?
— Иди, — с облегчением сказал директор и почти с любовью посмотрел на Воробьева.
А Воробьев посмотрел на директора, как на соучастника в заговоре.
На этом история с разбитым стеклом могла благополучно завершиться, если бы Семин не был в душе Марком Порцием Катоном Старшим. В тот же день мой школьный товарищ открыл дверь с фанерой вместо стекла и с твердостью, с какой его римский двойник произносил: «Карфаген должен быть разрушен!», сказал:
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Это что еще за новости?! — Рука директора оседлала бронзовую лошадь чернильного прибора.
— А Воробьев стекло не выбивал! — повторил Семин.
— Кто же, по-твоему, выбил?
— Не знаю.
— Вот-вот, — оживился директор, — не знаешь, а говоришь! Воробьев сам признался. Понятно?
— Понятно, — ответил Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.
Розовая голова директора поплыла по кабинету, как воздушный шарик.
— Воробьев говорит — выбил, ты говоришь — не выбивал! Кому прикажешь верить?
— Мне! — приказал упрямый римлянин.
Директор вспыхнул:
— Позвать Воробьева!
Позвали. Воробьев пришел.
— Ты выбил стекло?
— Я, — как по-заученному, выпалил Воробьев.
— Что ты на это скажешь, Семин? — победоносно спросил директор моего школьного товарища.
— Он врет! — ответил Семин.
— Какой ему резон врать? Если бы он отпирался, тогда другое дело. Но он признается. Не вижу логики!
— Он врет! — повторил Семин, который видел логику.
— Отстань ты! — лениво буркнул Воробьев и тайком погрозил Семину кулаком. — Я выбил.
— Теперь ты убедился? — Директор торжествующе трепал по холке бронзового коня.
— А Воробьев стекло не выбивал!
— Во-он! — тихо сказал директор, и его розовая голова стала пунцовой.
Так была упущена еще одна возможность раз и навсегда покончить с выбитым стеклом. История продолжалась.
В классе шел сбор, посвященный сбору колосков в подшефном колхозе. Все шумно обсуждали колоски. Спорили. Брали обязательства. Мой товарищ поднял руку.
— Обязуюсь собрать мешок колосков, — сказал он и тут же добавил: — А Воробьев стекло не выбивал!
— Какой Воробьев? Какое стекло? — растерялась вожатая. — Ведь мы говорим о колосках!
— Так я и говорю о колосках, — сказал Марк Порций Катон Старший. — А Воробьев стекло не выбивал.
— Выбил, — мрачно сказал Воробьев: он был верен уговору, держал слово.
— Ну конечно, выбил, — подхватила вожатая, — а колоски…
— Не выбивал, — стоически повторил двойник римского цензора.
— Семин, ты говоришь не на тему, — огорчилась вожатая. — Не срывай сбор, посвященный сбору…
— Я за колоски! А Воробьев стекло не выбивал!
На вечере самодеятельности Семину поручили читать стихотворение Пушкина «Вьюга». Он вышел на сцену, заложил руки за спину, привстал на носочки и объявил:
— Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Вьюга», — потом еще выше привстал на носочки и выдохнул: — А Воробьев стекло не выбивал!
Он произнес эту фразу горячо и вдохновенно, как строку пушкинского стихотворения. Зал загудел. Засмеялся. Захлопал.
А Марк Порций Катон Старший смотрел в темный зал и широко улыбался. Он думал: ребята хлопают, шумят и смеются потому, что согласны с ним.


 перва я не понял, что заставило меня остановиться перед зданием школы и внимательно посмотреть по сторонам. Вокруг стояли новые, необжитые дома. Подошвы пешеходов не успели обшаркать асфальт, и он был свежим и пористым, как чернозем. Хотя школа стояла в новорожденном районе Москвы и я попал сюда впервые, но по каким-то неуловимым признакам мне показалось, что я давно знаю это место.
Я остановил бегущего парня, который чуть не сбил меня с ног, и спросил:
— Что здесь было раньше?
— Пустырь, — нехотя ответил он, собираясь бежать.
— А до пустыря?
— Барак.
— А до барака?
Он на мгновение задумался, метнул в меня недовольный взгляд и выпалил:
— Ничего не было!
Парень заторопился дальше, а я остался перед зданием школы. Память напряженно работала, будто решала сложную задачу со многими неизвестными. И тут мой взгляд задержался на группе старых тополей. Они стояли в конце улицы, метрах в двухстах от школы. Могучие стволы с темной ребристой корой клонились к земле, а от клейкой зелени долетал острый горьковатый аромат. Эти тополя заставили меня вздрогнуть. Возле них рухнул сбитый самолет. Один тополь обгорел. Мы его спилили. На дрова. Я вспомнил. Здесь была шестая батарея.
Я сразу представил себе огневую позицию. Четыре круглых орудийных окопа, расположенных трапецией. Невысокие насыпи брустверов. И длинные зеленые стволы зенитных орудий, которые то поднимались над землей, то уходили под землю. Я представил себе низкие дымы землянок. Холодную тяжесть снарядов. Удары в медную гильзу перед боем…
В школе зазвенел звонок. Его дребезжащий звук вырвался наружу, и сразу послышался топот бегущих ног. Так мы бежали по тревоге к орудиям.
Здесь тогда не было ни школы, ни домов, ни асфальтов. Было поле. Вдалеке лес. А большие старые тополя — они и тогда были старыми — стояли на краю деревни. Еще за нашей спиной протянулся глубокий противотанковый ров. Батарея стояла впереди. Наши орудия были без колес — лафетов на колесах не хватало, а в расчеты командования не входило какое-либо передвижение орудий противовоздушной обороны. Но мы двигались. Мы с неимоверной быстротой приближались к фронту. Вернее, фронт приближался к нам. Каждый вечер в одно и то же время прилетали «юнкерсы», и начинался бой. От выстрелов большие тяжелые пушки вздрагивали всем телом, как живые, а длинные стволы откатывались с поразительной легкостью. Иногда вблизи батареи падали бомбы, иногда с неба устремлялись раскаленные нити трассирующих пуль. Фашисты огрызались.
Я медленно обошел здание школы. Деревни не было в помине. А лес, может быть, и был, но его скрыли новые дома. Я узнавал самую землю, на которой была огневая позиция шестой батареи. Землю и небо — голубое, в редких? волнообразных облаках. Небо было таким же, только рядом с облаками часто чернели клубки разрывов.
В ноябре сорок первого года фронт вплотную подошел к нашей батарее. Настал момент, когда между нами и фашистами не осталось ни одной роты, ни одного нашего бойца. Теперь немцы летали без всякого расписания — днем и ночью. В перерывах между налетами мы настороженно присматривались к лесу. Оттуда в любую минуту могли выползти немецкие танки. Что может сделать одинокая зенитная батарея против лавины танков? Но у нас на брустверах лежали ящики с бронебойными снарядами. И за нами была Москва.
Мы были очень молодыми. Мы привыкли к мысли, что кто-то старший позаботится о нас, выручит в трудную минуту, не даст погибнуть в неравном бою нам и нашим орудиям. И мы не ошиблись в своей юношеской вере. Однажды на исходе холодного дня над нами пролетели странные огненные снаряды. Впереди раздался нарастающий грохот. Вспыхнуло небо. Это у старых тополей ударили «катюши». Они били через наши головы по немцам…
Я ходил по школьному двору и все пытался отыскать место, где стояло мое орудие. Теперь ни асфальт, ни клумбы, ни само здание школы не могли мне помешать отыскать окоп моего орудия. Я ориентировался по старым тополям и чувствовал себя уверенно. Окоп оказался под крыльцом школы.
Я стал медленно подниматься по ступеням, а навстречу мне бежали ребята. Они спешили поскорей очутиться на улице и не обращали на меня никакого внимания. Они не знали про шестую батарею и про окоп моего орудия. Я поднялся на крыльцо и увидел себя молоденьким красноармейцем в короткой шинели с полевыми петлицами, в серой шапке из «рыбьего меха», со звездочкой над переносицей.
А дети не замечали красноармейца. Они бежали на улицу. Они не знали, что бегут по брустверу орудийного окопа.
Я вспомнил, как после победы увозили орудия. Они трудно подавались, словно за годы войны пустили корни, вросли в землю. Круглые орудийные окопы долго стояли пустыми. Они были похожи на гнезда, из которых улетели птицы. А я еще долгое время по-своему ориентировался в Москве. Когда мне называли адрес, в уме прикидывал: «Это возле первой батареи», «это где-то в районе седьмой». Постепенно окопы, похожие на гнезда, стали исчезать. Их сровняли с землей.
Потом огневые позиции превратились в строительные площадки. Вместо стволов зениток над ними поднялись стрелы кранов. Снова стали рыть. На этот раз котлованы. Но старая карта боевого порядка полка долго оставалась в моей памяти. И часто, проезжая мимо какой-нибудь бывшей батареи, я думал: «Пушек не видно, потому что появились высокие дома, но если обойти дома…»
Теперь, стоя на крыльце школы, построенной на огневой позиции шестой батареи, я испытывал чувство неловкости оттого, что не сразу признал свое старое поле боя. Мне захотелось, чтобы отныне все знали: здесь стояла шестая батарея. Я поймал за руку пробегавшего мальчишку и спросил его:
— Ты знаешь, что здесь было раньше?
Он удивленно выкатил на меня глаза и сказал:
— Школа.
— Да нет! — почти крикнул я. — Здесь была шестая батарея. Сто второго…
Он не понял меня и спросил:
— Шестая «А» или шестая «Б»?
Я растерянно посмотрел на мальчика, и он, видимо желая помочь мне, сказал:
— Может быть, вы ищете сто вторую школу?
Мне захотелось сказать мальчику: «Я ищу не сто вторую школу, а сто второй зенитно-артиллерийский полк». Но я промолчал. Я промолчал, и мне стало стыдно своего молчания. Я сильнее сжал руку мальчика и сказал:
— Здесь стояла моя батарея. Мы били по фашистским самолетам, которые летели к Москве.
— Здесь? — мальчик удивленно посмотрел на крыльцо и потрогал рукой перила.
— Да, да, здесь. — Я почувствовал, что он не верит мне.
Не может поверить, потому что в его представлении на этом месте всегда стояла школа. И никакой шестой батареи.
Я разжал руку. Мальчик убежал.
И я понял, что не смогу успокоиться, пока не сумею убедить этого мальчика и всех его товарищей, что здесь в годы войны стояла шестая батарея. И потому теперь стоит школа.
перва я не понял, что заставило меня остановиться перед зданием школы и внимательно посмотреть по сторонам. Вокруг стояли новые, необжитые дома. Подошвы пешеходов не успели обшаркать асфальт, и он был свежим и пористым, как чернозем. Хотя школа стояла в новорожденном районе Москвы и я попал сюда впервые, но по каким-то неуловимым признакам мне показалось, что я давно знаю это место.
Я остановил бегущего парня, который чуть не сбил меня с ног, и спросил:
— Что здесь было раньше?
— Пустырь, — нехотя ответил он, собираясь бежать.
— А до пустыря?
— Барак.
— А до барака?
Он на мгновение задумался, метнул в меня недовольный взгляд и выпалил:
— Ничего не было!
Парень заторопился дальше, а я остался перед зданием школы. Память напряженно работала, будто решала сложную задачу со многими неизвестными. И тут мой взгляд задержался на группе старых тополей. Они стояли в конце улицы, метрах в двухстах от школы. Могучие стволы с темной ребристой корой клонились к земле, а от клейкой зелени долетал острый горьковатый аромат. Эти тополя заставили меня вздрогнуть. Возле них рухнул сбитый самолет. Один тополь обгорел. Мы его спилили. На дрова. Я вспомнил. Здесь была шестая батарея.
Я сразу представил себе огневую позицию. Четыре круглых орудийных окопа, расположенных трапецией. Невысокие насыпи брустверов. И длинные зеленые стволы зенитных орудий, которые то поднимались над землей, то уходили под землю. Я представил себе низкие дымы землянок. Холодную тяжесть снарядов. Удары в медную гильзу перед боем…
В школе зазвенел звонок. Его дребезжащий звук вырвался наружу, и сразу послышался топот бегущих ног. Так мы бежали по тревоге к орудиям.
Здесь тогда не было ни школы, ни домов, ни асфальтов. Было поле. Вдалеке лес. А большие старые тополя — они и тогда были старыми — стояли на краю деревни. Еще за нашей спиной протянулся глубокий противотанковый ров. Батарея стояла впереди. Наши орудия были без колес — лафетов на колесах не хватало, а в расчеты командования не входило какое-либо передвижение орудий противовоздушной обороны. Но мы двигались. Мы с неимоверной быстротой приближались к фронту. Вернее, фронт приближался к нам. Каждый вечер в одно и то же время прилетали «юнкерсы», и начинался бой. От выстрелов большие тяжелые пушки вздрагивали всем телом, как живые, а длинные стволы откатывались с поразительной легкостью. Иногда вблизи батареи падали бомбы, иногда с неба устремлялись раскаленные нити трассирующих пуль. Фашисты огрызались.
Я медленно обошел здание школы. Деревни не было в помине. А лес, может быть, и был, но его скрыли новые дома. Я узнавал самую землю, на которой была огневая позиция шестой батареи. Землю и небо — голубое, в редких? волнообразных облаках. Небо было таким же, только рядом с облаками часто чернели клубки разрывов.
В ноябре сорок первого года фронт вплотную подошел к нашей батарее. Настал момент, когда между нами и фашистами не осталось ни одной роты, ни одного нашего бойца. Теперь немцы летали без всякого расписания — днем и ночью. В перерывах между налетами мы настороженно присматривались к лесу. Оттуда в любую минуту могли выползти немецкие танки. Что может сделать одинокая зенитная батарея против лавины танков? Но у нас на брустверах лежали ящики с бронебойными снарядами. И за нами была Москва.
Мы были очень молодыми. Мы привыкли к мысли, что кто-то старший позаботится о нас, выручит в трудную минуту, не даст погибнуть в неравном бою нам и нашим орудиям. И мы не ошиблись в своей юношеской вере. Однажды на исходе холодного дня над нами пролетели странные огненные снаряды. Впереди раздался нарастающий грохот. Вспыхнуло небо. Это у старых тополей ударили «катюши». Они били через наши головы по немцам…
Я ходил по школьному двору и все пытался отыскать место, где стояло мое орудие. Теперь ни асфальт, ни клумбы, ни само здание школы не могли мне помешать отыскать окоп моего орудия. Я ориентировался по старым тополям и чувствовал себя уверенно. Окоп оказался под крыльцом школы.
Я стал медленно подниматься по ступеням, а навстречу мне бежали ребята. Они спешили поскорей очутиться на улице и не обращали на меня никакого внимания. Они не знали про шестую батарею и про окоп моего орудия. Я поднялся на крыльцо и увидел себя молоденьким красноармейцем в короткой шинели с полевыми петлицами, в серой шапке из «рыбьего меха», со звездочкой над переносицей.
А дети не замечали красноармейца. Они бежали на улицу. Они не знали, что бегут по брустверу орудийного окопа.
Я вспомнил, как после победы увозили орудия. Они трудно подавались, словно за годы войны пустили корни, вросли в землю. Круглые орудийные окопы долго стояли пустыми. Они были похожи на гнезда, из которых улетели птицы. А я еще долгое время по-своему ориентировался в Москве. Когда мне называли адрес, в уме прикидывал: «Это возле первой батареи», «это где-то в районе седьмой». Постепенно окопы, похожие на гнезда, стали исчезать. Их сровняли с землей.
Потом огневые позиции превратились в строительные площадки. Вместо стволов зениток над ними поднялись стрелы кранов. Снова стали рыть. На этот раз котлованы. Но старая карта боевого порядка полка долго оставалась в моей памяти. И часто, проезжая мимо какой-нибудь бывшей батареи, я думал: «Пушек не видно, потому что появились высокие дома, но если обойти дома…»
Теперь, стоя на крыльце школы, построенной на огневой позиции шестой батареи, я испытывал чувство неловкости оттого, что не сразу признал свое старое поле боя. Мне захотелось, чтобы отныне все знали: здесь стояла шестая батарея. Я поймал за руку пробегавшего мальчишку и спросил его:
— Ты знаешь, что здесь было раньше?
Он удивленно выкатил на меня глаза и сказал:
— Школа.
— Да нет! — почти крикнул я. — Здесь была шестая батарея. Сто второго…
Он не понял меня и спросил:
— Шестая «А» или шестая «Б»?
Я растерянно посмотрел на мальчика, и он, видимо желая помочь мне, сказал:
— Может быть, вы ищете сто вторую школу?
Мне захотелось сказать мальчику: «Я ищу не сто вторую школу, а сто второй зенитно-артиллерийский полк». Но я промолчал. Я промолчал, и мне стало стыдно своего молчания. Я сильнее сжал руку мальчика и сказал:
— Здесь стояла моя батарея. Мы били по фашистским самолетам, которые летели к Москве.
— Здесь? — мальчик удивленно посмотрел на крыльцо и потрогал рукой перила.
— Да, да, здесь. — Я почувствовал, что он не верит мне.
Не может поверить, потому что в его представлении на этом месте всегда стояла школа. И никакой шестой батареи.
Я разжал руку. Мальчик убежал.
И я понял, что не смогу успокоиться, пока не сумею убедить этого мальчика и всех его товарищей, что здесь в годы войны стояла шестая батарея. И потому теперь стоит школа.

 автра об этом случае заговорит весь город, а сегодня о нем знают лишь несколько любопытных прохожих, пожарные добровольные дружины и четвертое отделение милиции. Но даже им неизвестно, ради чего Киру решился на такой отчаянный поступок.
Поздней осенью город похож на корабль, выходящий в открытое море. Сырой туман обволакивает дома. Мостовая мокрая, как палуба, по которой только что прокатился соленый морской вал. Провода поют, как снасти. И Киру кажется, что город даже слегка покачивает.
Киру поднимает голову. Он видит, как обрывки серых облаков быстро проносятся над самыми крышами. А может быть, они как раз и неподвижны, а это город торопливо плывет в открытое море.
Киру смотрит на шпили — чем не мачты! — на антенны, на трубы и на флюгера.
В городе много флюгеров. В былые времена город моряков часто обращал взор к железным помощникам — флюгерам: они первыми приносили весть о попутном ветре. Теперь на флюгера никто не обращает внимания. Но их не предупредили, что они больше не нужны людям, и флюгера продолжают нести свою трудную службу. Там, высоко над городом, между небом и землей, скрипя ржавыми петлями, они тяжело поворачиваются на своих штырях. Как живые существа, они разговаривают с ветром и дождем, а первые снежинки, прежде чем опуститься на землю, тихо шуршат рядом с ними.
Случается, что у одного из городских флюгеров так крепко заклинит ржавые петли, что он уже не может пошевельнуться. Флюгер погибает, как боец на посту. Люди же не замечают смерти старого флюгера. Стоит на крыше — и ладно.
Киру и его друзья идут по городу и рассматривают флюгера. И кто-то кричит:
— Смотрите, рыба из моря на крышу прыгнула!
Все задирают головы. Все смотрят на рыбу.
— Подумаешь, рыба! А ты видел флюгер-русалку?
— А я знаю трех петухов!
— Петухи — ерунда!
— Петухи приносят счастье!
— Ничего подобного! Они берегут дом от пожара!
— Бабушкины сказки!
Киру идет молча. Он не принимает участия в этом беспорядочном споре. С некоторых пор он стал молчаливым. Особенно если рядом Айна.
Ему кажется, что Айна появилась совсем недавно. Приехала издалека и пришла в класс, как новенькая.
На самом деле Айна ниоткуда не приезжала, а учится с Киру в одном классе уже пять лет. С третьего класса. Может быть, «старую» Айну подменили?
В «новой» Айне его интересует все. Он знает, что Айна худенькая, стройная, как тростинка. И что волосы у нее не золотые и не желтые — соломенные. И хотя глаза у девочки так глубоко посажены, что сразу не определишь их цвет, Киру знает: они зеленые. Осенью Айна носит серое пальто с черными черточками. А шапка на ней красная.
Сейчас Айна идет со всеми неподалеку от Киру и внимательно следит за спором о флюгерах. И ее вздернутый носик сам, как флюгер, поворачивается от одного спорщика к другому. Она ждет, когда ребята все выговорят, и только тогда вступает в разговор.
— А я знаю дом, на котором флюгер не петух, не рыба, не стрела, — говорит Айна, посматривая, какое впечатление производит ее рассказ на ребят. — Это какое-то странное существо. Он очень высоко, поэтому не разберешь.
— Где этот дом?
— Показать?
— Покажи.
И вся компания сворачивает за Айной в переулок.
Киру тоже сворачивает в переулок. Он вообще ходит за Айной как тень. А она, как на тень, не обращает на него внимания. Потому что Киру никто не подменил и он для Айны все тот же, что был пять лет назад.
Обычно, когда Айна возвращается домой, Киру идет за ней. Его от Айны отделяют каких-нибудь десять шагов. Но эти десять шагов стоят десяти километров. Десять километров Киру прошел бы запросто, а этот десяток шагов никак не может преодолеть. Он идет по улице, никого не замечая. Он видит только серое пальто с черными черточками и красную шапочку.
Айна знает, что Киру идет за ней. Ее это злит. Что за глупый парень! Если бы он шел рядом, можно было бы с ним поболтать. А так получается, что он выслеживает ее. Айна неожиданно останавливается и резко поворачивается. Тогда Киру, застигнутый врасплох, тоже останавливается и опускает глаза. Он смотрит себе под ноги. А когда снова поднимает глаза, Айна уже далеко.
Иногда она совсем убегает. И Киру остается один.
Сейчас кругом ребята, и Киру чувствует себя уверенней. Его робость перед Айной не так заметна. Правда, ему все время кажется, что Айна относится ко всем лучше, чем к нему, хотя только он один готов сделать для Айны что угодно.
— Далеко еще? — спрашивает кто-то из ребят Айну.
— А ты уже устал? — откликается девочка. — Свернем за угол, а там рядом.
Киру никогда бы не спросил Айну: «Далеко или нет?» Он может идти за ней хоть на край света. И он немножко завидует друзьям, которые могут тянуть Айну за руку, спорить с ней и задавать ей вопросы.
Когда ребята подошли к дому с загадочным флюгером, повалил снег. Не белый морозный снег, а серый, вперемешку с дождем. Ребята подняли воротники. Айна поглубже натянула красную шапочку: только нос выглядывает. Киру поежился, но воротник поднимать не стал. Он решил, что с опущенным воротником у него более мужественный вид. Но о каком мужественном виде могла идти речь, если Киру худой и узкоплечий. Подбородок у него заострен, а нос маленький и ровный. Брови и ресницы такие белесые, будто их подпалили и мальчик остался совсем безбровым. Руки у Киру белые, без мозолей. А на носу у него очки.
— Вот таинственный флюгер, — сказала Айна, — смотрите.
Вся компания задрала головы.
автра об этом случае заговорит весь город, а сегодня о нем знают лишь несколько любопытных прохожих, пожарные добровольные дружины и четвертое отделение милиции. Но даже им неизвестно, ради чего Киру решился на такой отчаянный поступок.
Поздней осенью город похож на корабль, выходящий в открытое море. Сырой туман обволакивает дома. Мостовая мокрая, как палуба, по которой только что прокатился соленый морской вал. Провода поют, как снасти. И Киру кажется, что город даже слегка покачивает.
Киру поднимает голову. Он видит, как обрывки серых облаков быстро проносятся над самыми крышами. А может быть, они как раз и неподвижны, а это город торопливо плывет в открытое море.
Киру смотрит на шпили — чем не мачты! — на антенны, на трубы и на флюгера.
В городе много флюгеров. В былые времена город моряков часто обращал взор к железным помощникам — флюгерам: они первыми приносили весть о попутном ветре. Теперь на флюгера никто не обращает внимания. Но их не предупредили, что они больше не нужны людям, и флюгера продолжают нести свою трудную службу. Там, высоко над городом, между небом и землей, скрипя ржавыми петлями, они тяжело поворачиваются на своих штырях. Как живые существа, они разговаривают с ветром и дождем, а первые снежинки, прежде чем опуститься на землю, тихо шуршат рядом с ними.
Случается, что у одного из городских флюгеров так крепко заклинит ржавые петли, что он уже не может пошевельнуться. Флюгер погибает, как боец на посту. Люди же не замечают смерти старого флюгера. Стоит на крыше — и ладно.
Киру и его друзья идут по городу и рассматривают флюгера. И кто-то кричит:
— Смотрите, рыба из моря на крышу прыгнула!
Все задирают головы. Все смотрят на рыбу.
— Подумаешь, рыба! А ты видел флюгер-русалку?
— А я знаю трех петухов!
— Петухи — ерунда!
— Петухи приносят счастье!
— Ничего подобного! Они берегут дом от пожара!
— Бабушкины сказки!
Киру идет молча. Он не принимает участия в этом беспорядочном споре. С некоторых пор он стал молчаливым. Особенно если рядом Айна.
Ему кажется, что Айна появилась совсем недавно. Приехала издалека и пришла в класс, как новенькая.
На самом деле Айна ниоткуда не приезжала, а учится с Киру в одном классе уже пять лет. С третьего класса. Может быть, «старую» Айну подменили?
В «новой» Айне его интересует все. Он знает, что Айна худенькая, стройная, как тростинка. И что волосы у нее не золотые и не желтые — соломенные. И хотя глаза у девочки так глубоко посажены, что сразу не определишь их цвет, Киру знает: они зеленые. Осенью Айна носит серое пальто с черными черточками. А шапка на ней красная.
Сейчас Айна идет со всеми неподалеку от Киру и внимательно следит за спором о флюгерах. И ее вздернутый носик сам, как флюгер, поворачивается от одного спорщика к другому. Она ждет, когда ребята все выговорят, и только тогда вступает в разговор.
— А я знаю дом, на котором флюгер не петух, не рыба, не стрела, — говорит Айна, посматривая, какое впечатление производит ее рассказ на ребят. — Это какое-то странное существо. Он очень высоко, поэтому не разберешь.
— Где этот дом?
— Показать?
— Покажи.
И вся компания сворачивает за Айной в переулок.
Киру тоже сворачивает в переулок. Он вообще ходит за Айной как тень. А она, как на тень, не обращает на него внимания. Потому что Киру никто не подменил и он для Айны все тот же, что был пять лет назад.
Обычно, когда Айна возвращается домой, Киру идет за ней. Его от Айны отделяют каких-нибудь десять шагов. Но эти десять шагов стоят десяти километров. Десять километров Киру прошел бы запросто, а этот десяток шагов никак не может преодолеть. Он идет по улице, никого не замечая. Он видит только серое пальто с черными черточками и красную шапочку.
Айна знает, что Киру идет за ней. Ее это злит. Что за глупый парень! Если бы он шел рядом, можно было бы с ним поболтать. А так получается, что он выслеживает ее. Айна неожиданно останавливается и резко поворачивается. Тогда Киру, застигнутый врасплох, тоже останавливается и опускает глаза. Он смотрит себе под ноги. А когда снова поднимает глаза, Айна уже далеко.
Иногда она совсем убегает. И Киру остается один.
Сейчас кругом ребята, и Киру чувствует себя уверенней. Его робость перед Айной не так заметна. Правда, ему все время кажется, что Айна относится ко всем лучше, чем к нему, хотя только он один готов сделать для Айны что угодно.
— Далеко еще? — спрашивает кто-то из ребят Айну.
— А ты уже устал? — откликается девочка. — Свернем за угол, а там рядом.
Киру никогда бы не спросил Айну: «Далеко или нет?» Он может идти за ней хоть на край света. И он немножко завидует друзьям, которые могут тянуть Айну за руку, спорить с ней и задавать ей вопросы.
Когда ребята подошли к дому с загадочным флюгером, повалил снег. Не белый морозный снег, а серый, вперемешку с дождем. Ребята подняли воротники. Айна поглубже натянула красную шапочку: только нос выглядывает. Киру поежился, но воротник поднимать не стал. Он решил, что с опущенным воротником у него более мужественный вид. Но о каком мужественном виде могла идти речь, если Киру худой и узкоплечий. Подбородок у него заострен, а нос маленький и ровный. Брови и ресницы такие белесые, будто их подпалили и мальчик остался совсем безбровым. Руки у Киру белые, без мозолей. А на носу у него очки.
— Вот таинственный флюгер, — сказала Айна, — смотрите.
Вся компания задрала головы.



 елька сидит на крыльце и штопает чулок. Она поленилась разыскать грибок и штопает прямо на коленке. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то поднимает блестящее острие иглы. Розовая коленка постепенно скрывается под штопкой, похожей на листок тетради в клеточку.
В степи жарко. Ничего не хочется делать. А сидеть совсем без дела — скучно. Вот Лелька и придумала себе занятие.
Когда она наклоняется вперед, одна из косичек соскальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лелька недовольно водворяет косичку на место — за спину. Она делает это резко, будто хочет забросить ее подальше, раз и навсегда.
Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тянет за собой рыжую нитку. Лелька так увлеклась работой, что не замечает, как отворяется калитка и кто-то входит в палисадник. Когда девочка поднимает глаза, перед ней стоят Федор Федорович, председатель поселкового Совета, и незнакомый военный. Лицо Федора Федоровича коричневое, испеченное на солнце. А военный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном солнышке. В одной руке он держит зеленый чемодан, в другой, согнутой в локте, — шинель.
— Здравствуй, хозяйка, — говорит Федор Федорович.
— Здрасте, — отзывается Лелька и встает со ступеньки.
Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у Лельки, вероятно, смешной, потому что военный отворачивается в сторону, чтобы скрыть улыбку.
— А где мать? — спрашивает Федор Федорович.
Он спрашивает, а военный молчит. Стоит за Федором Федоровичем и из-за плеча смотрит на Лельку. Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан короткий.
— Мама пошла в сельпо, — отвечает Лелька и краснеет.
Иголка выскальзывает из рук и, поблескивая, раскачивается на нитке.
— Ну, вот что, — говорит Федор Федорович, — ты, конечно, слыхала про снаряды?
Лелька мотнула головой. Она слышала, что в степи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся землянку со снарядами — артпогребок. Артпогребок был брошен немцами много лет назад. А теперь нашелся. Говорят, что он заминирован.
— Так вот, — продолжает председатель поселкового Совета, — прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы поместили в школе, а командира… — Федор Федорович кивает на военного и слегка подталкивает его вперед, — а командира мы хотим определить к вам.
Лелька снова кивает.
— Места у вас много. Думаю, мать, возражать не будет?
— Ага, — соглашается Лелька, будто она заранее знает, что мама не будет возражать.
— Тогда знакомьтесь. Лейтенант… — Федор Федорович вопросительно смотрит на военного.
— Шура, — подсказывает он.
— Лейтенант Шура… А это Лелька.
— Очень приятно, — говорит лейтенант, а Лелька снова краснеет. Она ничего не может с собой поделать. Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо, обдает его жаром и отравляет Лельке жизнь.
Девочка покраснела, будущий жилец отвернул лицо, чтобы скрыть улыбку, а Федор Федорович почесал седую щетину, которая проступает, как соль, на его запеченной, коричневой щеке.
— Сейчас мы пойдем в степь, — распоряжается председатель. — Вещи лейтенант оставит здесь. А придет мать, ты предупреди ее.
Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопросительно смотрит на Лельку:
— Можно здесь поставить?
— Ага! — кивает Лелька и закусывает губу, будто губа — виновница ее смятения.
Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан, положил на него шинель.
— Пошли! — почти скомандовал Федор Федорович.
И они зашагали к калитке.
Когда неожиданные гости ушли, Лелька облегченно вздохнула и опустилась на ступеньку, согретую солнцем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла подолом сарафана заштопанную коленку.
Рядом, на ступеньке, стоял чемодан, а на нем лежала сложенная пополам шинель. Шинель была серой и шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело поблескивали звездочки: по две на каждом.
Лелька покосилась на чужие вещи и быстро стянула с ноги заштопанный чулок. Будто вместе с чемоданом и шинелью в доме остался жилец и его насмешливые глаза продолжали рассматривать Лельку, отыскивая, над чем бы посмеяться.
Лелькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее, на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнатку «для гостей». Когда приезжал дядя Митя, его помещали на втором этаже. С тех пор гостей не было. Но за комнатой сохранилось название — «для гостей». Вот туда-то Лелька и решила определить жильца.
По крутой лестнице она полезла наверх с чужими вещами. Зеленый чемодан ударялся о верхние ступеньки, а шинель волочилась по нижним.
В комнате «для гостей» не было почти никакой мебели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убранство. Зато из маленького окошка была видна степь.
Лелька поставила вещи лейтенанта Шуры в уголок, чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют, и, хлопнув дверью, сбежала вниз.
Лейтенант Шура вернулся домой поздно.
Солнце докатилось до края степи и растеклось по небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохладный ветерок, который днем, в присутствии солнца, не разрешал высунуть на улицу нос. Но земля продолжала дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли последние угольки.
Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоровича. Лелька увидела его из окна. Она ждала его возвращения и, хотя во дворе стояла жара, надела новое платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок!
Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жильца. Поначалу, узнав от дочки о неожиданном госте, она вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие люди!» Но потом стала сама себя убеждать, что места в доме достаточно, что сама она все равно целыми днями пропадает в своей больнице. И вообще жилец — временный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня приводила дом в порядок: ей не хотелось ударить лицом в грязь перед незнакомым человеком.
Услышав, что хлопнула калитка, Лелька подбежала к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и оглядывался. Лицо его было усталым и серым от земли. И только в том месте, где текли струйки пота, остались светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и веселые звездочки на погонах погасли. На высоких сапогах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант держал в руках.
Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не похож на того веселого чистенького лейтенанта, который стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза перестали быть насмешливыми. Они беспомощно смотрели по сторонам, отыскивая хозяев дома.
Лельке вдруг стало жалко лейтенанта Шуру. Она быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке.
— Здрасте, — сказала Лелька.
Лейтенант улыбается и почему-то надевает фуражку. Он говорит:
— Вот я пришел.
— Заходите, — приглашает Лелька. — Мама дома.
Лельке очень хочется, чтобы лейтенант обратил внимание на ее новое платье, а главное — на целые чулки. Но лейтенант рассматривает не Лельку, а самого себя. Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимнастерку и говорит:
— В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы почиститься. А то весь день в земле копались.
— Сейчас, — говорит Лелька и скрывается в дверях.
Лейтенант Шура не торопясь доходит до крыльца и опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах.
На другой день Лелька проснулась рано. Она приподнялась на локте и выглянула в окно. Из палисадника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они были круглыми, как блюдечки. По одному блюдечку ползла оса.
Лелька услышала над головой шаги. Шаги были тихие, босые. Потом один за другим раздались два притопа — кто-то надевал сапоги.
Лелька вспомнила о временном жильце. Это он пробудился в комнате «для гостей» и встал, чтобы отправиться к заминированному артпогребку.
Лелька крепко зажмурила глаза. Пусть мама думает, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что происходит в доме. Тук-тук-тук!.. Жилец спускается по лестнице. Тук-тук!.. Идет по сеням. Потом хлопнула дверь, и шаги замерли. Лелька уже подумала, что жилец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате.
— Зарядку делаете? — тихо спросила мама.
— Привычка, — шепотом отвечает жилец.
Он говорит шепотом, чтобы не разбудить Лельку. А его сапоги так гремели, что могли разбудить кого угодно.
Лелька слышала, как урчала, наливаясь в стакан, крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, звенела ложечка.
Мамин голос говорил:
— Ешьте, не стесняйтесь.
А голос жильца отвечал:
— Спасибо… Спасибо…
Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо. Мне пора», — и сапоги рассказали, что он уходит из дома.
Лелька тихо сползла с постели и, ступая босыми ногами по чистым половицам, подошла к окну. Она спряталась за тюлевую занавеску и стала смотреть.
Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисаднику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле держался на ногах. А сегодня жильца словно подменили. Будто ночью он искупался в «мертвой» и «живой» воде и снова превратился в доброго молодца. Сапоги блестели, как новые. Звездочки на погонах зажглись. Лейтенант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек, что с невидимого наблюдательного пункта за ним следят два больших внимательных глаза.
Когда временный жилец скрылся из виду, Лелька села на постель и впервые за много дней занялась своими косичками.
Лелька относилась к своим косичкам с черствостью мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со стороны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она не украшала косы шелковыми лентами, как это делали ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тряпочками, скрученными в жгут.
Этим утром, сидя на постели, Лелька долго и неторопливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные блики играли и переливались в тонких ласковых прядях.
Неожиданно Лелька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. Их Лелька вплела в косички и завязала бантами.
Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. И Лелька не скачет через две ступеньки, а ходит плавно и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется, что лейтенант Шура не спускает с нее глаз, хотя на самом деле он далеко в степи.
Лелька на цыпочках подходит к зеркалу и рассматривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой, как библиотекарша Клавдия. А она маленькая и белесая. И кончики ушей у нее малиновые, а это, должно быть, некрасиво. Лелька смотрит на себя и сердится, будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию.
Лелька долго стоит перед зеркалом. И вдруг, спохватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза, словно боится встретиться взглядом с насмешливыми глазами лейтенанта Шуры.
Вечером временный жилец возвращается со своей военной работы. Он проходит через палисадник и садится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной ветер запекли его белое лицо, и оно стало коричневым, почти таким же, как у Федора Федоровича.
Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвижно. Потом упирается носком одного сапога в задник другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим хозяином.
Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шура не любит мыться под умывальником. И, вернувшись с полным ведром, он зовет Лельку:
— Леля, а Леля! Полей, пожалуйста!
Лелька тут же оказывается рядом с Шурой. Она берет в руки эмалированную кружку и начинает лить: сначала в ладони, сложенные «тарелочкой», а потом прямо на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет пар.
— Побольше лей! Не жалей воды! — командует лейтенант.
Временный жилец моется, как папа. А Лелька поливает ему, как это делала мама. И, как мама, она подает ему свежее полотенце.
Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура надевает чистую невоенную рубашку и отправляется ужинать.
А потом садится на скамейку перед палисадником. Он отдыхает.
Лелька не решается сесть рядом с ним. Тогда он сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жизни и о своей службе.
— Вот послужу еще годок-другой, — задумчиво говорит Шура, — и женюсь. Пора. Правда? — спрашивает он серьезно Лельку.
Лелька заливается краской и молчит. Откуда она знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант Шура советуется с ней о своей женитьбе?
— А впрочем, что загадывать? — продолжает он. — Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает…
Лелька вопросительно смотрит на собеседника. И он говорит:
— Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-нибудь крохотный проводок задел — и в небо! Что ты думаешь! Вот ваш артпогребок такая штучка, что, того и гляди, ошибешься… Когда мы разминировали Брянские леса, легче было. А здесь — головоломка.
Лельке вдруг становится страшно за лейтенанта Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему приятно, что Лелька переживает. И еще ему приятно делать вид, что для него опасность — ничто, сущий пустяк.
Иногда лейтенант обнимал Лельку и трепал ее по плечу. Лелька краснела и боялась шелохнуться. А лейтенант Шура говорил:
— Пора, брат, спать! А то завтра рано подъем.
И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату «для гостей». А Лелька еще долго сидела на скамейке.
Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим войском в степь. Войско было небольшое — десять солдат. Солдаты шли цепочкой по обочине, чтобы не поднимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще какие-то непонятные военные инструменты. А командир шел по дороге.
Временный жилец не знал, что Лелька крадучись выскальзывала из калитки и долго смотрела ему и его войску вслед. Он был уверен, что Лелька в это время крепко спит.
А она никогда не просыпала. Ее глаза провожали саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Потом они спускались в балку и пропадали из виду, но вскоре появлялись вновь на другой стороне. Их фигурки становились все меньше и меньше и наконец терялись в голубой дымке степного марева, оставив после себя чуть заметное облачко пыли.
Лелька знала, что лейтенант Шура и его товарищи шли не просто работать, хотя на плечах они несли лопаты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в старом артпогребке, куда каждое утро направлялись саперы, был уцелевший островок войны с опасностью, со смертью, которая притаилась в ржавых немецких снарядах и только ждала удобного случая, чтобы нанести людям запоздалый удар.
Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру в степь, Лелька испытывала такое чувство, будто провожает его в бой. Ей казалось, что происходит величайшая несправедливость: тысячи людей вокруг живут спокойной, мирной жизнью и только одиннадцать каждый день ходят на войну.
Лелька стоит у калитки и смотрит в степь до тех пор, пока из окошка не выглядывает мама.
— Ольга, завтракать, — зовет она.
Мама называла Лельку Ольгой.
В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за своим войском. И потом они шли степной дорогой: солдаты по обочине, командир посередине дороги. Обычно солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может быть, им командир приказал петь?
Лелька глядит им вслед и старается различить слова незнакомой солдатской песни. Но слова остаются в степи, а до Лельки долетает только мелодия. Так Лельке и не удается узнать, о чем поют солдаты. Но ей становится грустно. Ей кажется, что маленькое войсколейтенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и выйдет к морю. И больше никогда не вернется в поселок. И Лельке хочется кинуться им вслед. Догнать, пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с солдатами. Или лучше по дороге — рядом с Шурой.
Но Лелька продолжает стоять на месте, а потом опускается на скамейку.
В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цветы залили степь широким разливом. Она издает тонкий аромат. И утренний свежий ветер пахнет лавандой.
Лелька закрывает глаза. Она слышит, как рядом на своей зеленой машинке заработал кузнечик… Скрипнула дверь… Курица заговорила скороговоркой на курином языке… Потом пробудился репродуктор, и совсем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пахнущий лавандой.
Постепенно к Лельке возвращается покой. Солнце касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую нижнюю губу, и коленки, и цветы на сарафане, которые не вянут, будто их стебельки опущены в воду. Никто не зовет Лельку. Никто не тревожит ее.
И она засыпает.
И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром среди ясного неба. И сразу все звуки исчезли, будто грохот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-накрест.
Лелька открыла глаза.
Чугунное эхо тяжело катилось по степи. А за пригорком выросло большое черное дерево. Оно шевелило своими косматыми ветвями. Потом дерево стало оседать, будто кто-то подпилил его. И тут Лелька проснулась окончательно. Она поняла все: лейтенант Шура ошибся в первый и последний раз… Это артпогребок взлетел на воздух.
У Лельки заколотилось сердце. Она вскочила с места и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где оседало и разваливалось дерево смерти — земля, поднятая взрывом.
Лелька бежала до тех пор, пока не наступила на что-то острое. Она остановилась от боли. Подняла ногу. На дорожной пыли алело пятнышко крови. Пятка горела. Лелька сорвала подорожник и приложила его к пятке. Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину, будто искало выхода, чтобы вырваться наружу.
Лелька вдруг представила себе лейтенанта Шуру, лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь сейчас было еще утро. Лелька сделала несколько осторожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ранки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли.
До места взрыва было уже недалеко.
Лелька стоит на краю балки и никак не может отдышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут. Вокруг валяются свежие комья земли, выброшенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шершавой ножке растет алый мак. Как это он уцелел от взрыва?
елька сидит на крыльце и штопает чулок. Она поленилась разыскать грибок и штопает прямо на коленке. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то поднимает блестящее острие иглы. Розовая коленка постепенно скрывается под штопкой, похожей на листок тетради в клеточку.
В степи жарко. Ничего не хочется делать. А сидеть совсем без дела — скучно. Вот Лелька и придумала себе занятие.
Когда она наклоняется вперед, одна из косичек соскальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лелька недовольно водворяет косичку на место — за спину. Она делает это резко, будто хочет забросить ее подальше, раз и навсегда.
Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тянет за собой рыжую нитку. Лелька так увлеклась работой, что не замечает, как отворяется калитка и кто-то входит в палисадник. Когда девочка поднимает глаза, перед ней стоят Федор Федорович, председатель поселкового Совета, и незнакомый военный. Лицо Федора Федоровича коричневое, испеченное на солнце. А военный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном солнышке. В одной руке он держит зеленый чемодан, в другой, согнутой в локте, — шинель.
— Здравствуй, хозяйка, — говорит Федор Федорович.
— Здрасте, — отзывается Лелька и встает со ступеньки.
Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у Лельки, вероятно, смешной, потому что военный отворачивается в сторону, чтобы скрыть улыбку.
— А где мать? — спрашивает Федор Федорович.
Он спрашивает, а военный молчит. Стоит за Федором Федоровичем и из-за плеча смотрит на Лельку. Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан короткий.
— Мама пошла в сельпо, — отвечает Лелька и краснеет.
Иголка выскальзывает из рук и, поблескивая, раскачивается на нитке.
— Ну, вот что, — говорит Федор Федорович, — ты, конечно, слыхала про снаряды?
Лелька мотнула головой. Она слышала, что в степи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся землянку со снарядами — артпогребок. Артпогребок был брошен немцами много лет назад. А теперь нашелся. Говорят, что он заминирован.
— Так вот, — продолжает председатель поселкового Совета, — прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы поместили в школе, а командира… — Федор Федорович кивает на военного и слегка подталкивает его вперед, — а командира мы хотим определить к вам.
Лелька снова кивает.
— Места у вас много. Думаю, мать, возражать не будет?
— Ага, — соглашается Лелька, будто она заранее знает, что мама не будет возражать.
— Тогда знакомьтесь. Лейтенант… — Федор Федорович вопросительно смотрит на военного.
— Шура, — подсказывает он.
— Лейтенант Шура… А это Лелька.
— Очень приятно, — говорит лейтенант, а Лелька снова краснеет. Она ничего не может с собой поделать. Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо, обдает его жаром и отравляет Лельке жизнь.
Девочка покраснела, будущий жилец отвернул лицо, чтобы скрыть улыбку, а Федор Федорович почесал седую щетину, которая проступает, как соль, на его запеченной, коричневой щеке.
— Сейчас мы пойдем в степь, — распоряжается председатель. — Вещи лейтенант оставит здесь. А придет мать, ты предупреди ее.
Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопросительно смотрит на Лельку:
— Можно здесь поставить?
— Ага! — кивает Лелька и закусывает губу, будто губа — виновница ее смятения.
Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан, положил на него шинель.
— Пошли! — почти скомандовал Федор Федорович.
И они зашагали к калитке.
Когда неожиданные гости ушли, Лелька облегченно вздохнула и опустилась на ступеньку, согретую солнцем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла подолом сарафана заштопанную коленку.
Рядом, на ступеньке, стоял чемодан, а на нем лежала сложенная пополам шинель. Шинель была серой и шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело поблескивали звездочки: по две на каждом.
Лелька покосилась на чужие вещи и быстро стянула с ноги заштопанный чулок. Будто вместе с чемоданом и шинелью в доме остался жилец и его насмешливые глаза продолжали рассматривать Лельку, отыскивая, над чем бы посмеяться.
Лелькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее, на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнатку «для гостей». Когда приезжал дядя Митя, его помещали на втором этаже. С тех пор гостей не было. Но за комнатой сохранилось название — «для гостей». Вот туда-то Лелька и решила определить жильца.
По крутой лестнице она полезла наверх с чужими вещами. Зеленый чемодан ударялся о верхние ступеньки, а шинель волочилась по нижним.
В комнате «для гостей» не было почти никакой мебели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убранство. Зато из маленького окошка была видна степь.
Лелька поставила вещи лейтенанта Шуры в уголок, чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют, и, хлопнув дверью, сбежала вниз.
Лейтенант Шура вернулся домой поздно.
Солнце докатилось до края степи и растеклось по небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохладный ветерок, который днем, в присутствии солнца, не разрешал высунуть на улицу нос. Но земля продолжала дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли последние угольки.
Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоровича. Лелька увидела его из окна. Она ждала его возвращения и, хотя во дворе стояла жара, надела новое платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок!
Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жильца. Поначалу, узнав от дочки о неожиданном госте, она вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие люди!» Но потом стала сама себя убеждать, что места в доме достаточно, что сама она все равно целыми днями пропадает в своей больнице. И вообще жилец — временный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня приводила дом в порядок: ей не хотелось ударить лицом в грязь перед незнакомым человеком.
Услышав, что хлопнула калитка, Лелька подбежала к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и оглядывался. Лицо его было усталым и серым от земли. И только в том месте, где текли струйки пота, остались светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и веселые звездочки на погонах погасли. На высоких сапогах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант держал в руках.
Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не похож на того веселого чистенького лейтенанта, который стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза перестали быть насмешливыми. Они беспомощно смотрели по сторонам, отыскивая хозяев дома.
Лельке вдруг стало жалко лейтенанта Шуру. Она быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке.
— Здрасте, — сказала Лелька.
Лейтенант улыбается и почему-то надевает фуражку. Он говорит:
— Вот я пришел.
— Заходите, — приглашает Лелька. — Мама дома.
Лельке очень хочется, чтобы лейтенант обратил внимание на ее новое платье, а главное — на целые чулки. Но лейтенант рассматривает не Лельку, а самого себя. Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимнастерку и говорит:
— В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы почиститься. А то весь день в земле копались.
— Сейчас, — говорит Лелька и скрывается в дверях.
Лейтенант Шура не торопясь доходит до крыльца и опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах.
На другой день Лелька проснулась рано. Она приподнялась на локте и выглянула в окно. Из палисадника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они были круглыми, как блюдечки. По одному блюдечку ползла оса.
Лелька услышала над головой шаги. Шаги были тихие, босые. Потом один за другим раздались два притопа — кто-то надевал сапоги.
Лелька вспомнила о временном жильце. Это он пробудился в комнате «для гостей» и встал, чтобы отправиться к заминированному артпогребку.
Лелька крепко зажмурила глаза. Пусть мама думает, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что происходит в доме. Тук-тук-тук!.. Жилец спускается по лестнице. Тук-тук!.. Идет по сеням. Потом хлопнула дверь, и шаги замерли. Лелька уже подумала, что жилец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате.
— Зарядку делаете? — тихо спросила мама.
— Привычка, — шепотом отвечает жилец.
Он говорит шепотом, чтобы не разбудить Лельку. А его сапоги так гремели, что могли разбудить кого угодно.
Лелька слышала, как урчала, наливаясь в стакан, крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, звенела ложечка.
Мамин голос говорил:
— Ешьте, не стесняйтесь.
А голос жильца отвечал:
— Спасибо… Спасибо…
Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо. Мне пора», — и сапоги рассказали, что он уходит из дома.
Лелька тихо сползла с постели и, ступая босыми ногами по чистым половицам, подошла к окну. Она спряталась за тюлевую занавеску и стала смотреть.
Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисаднику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле держался на ногах. А сегодня жильца словно подменили. Будто ночью он искупался в «мертвой» и «живой» воде и снова превратился в доброго молодца. Сапоги блестели, как новые. Звездочки на погонах зажглись. Лейтенант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек, что с невидимого наблюдательного пункта за ним следят два больших внимательных глаза.
Когда временный жилец скрылся из виду, Лелька села на постель и впервые за много дней занялась своими косичками.
Лелька относилась к своим косичкам с черствостью мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со стороны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она не украшала косы шелковыми лентами, как это делали ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тряпочками, скрученными в жгут.
Этим утром, сидя на постели, Лелька долго и неторопливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные блики играли и переливались в тонких ласковых прядях.
Неожиданно Лелька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. Их Лелька вплела в косички и завязала бантами.
Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. И Лелька не скачет через две ступеньки, а ходит плавно и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется, что лейтенант Шура не спускает с нее глаз, хотя на самом деле он далеко в степи.
Лелька на цыпочках подходит к зеркалу и рассматривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой, как библиотекарша Клавдия. А она маленькая и белесая. И кончики ушей у нее малиновые, а это, должно быть, некрасиво. Лелька смотрит на себя и сердится, будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию.
Лелька долго стоит перед зеркалом. И вдруг, спохватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза, словно боится встретиться взглядом с насмешливыми глазами лейтенанта Шуры.
Вечером временный жилец возвращается со своей военной работы. Он проходит через палисадник и садится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной ветер запекли его белое лицо, и оно стало коричневым, почти таким же, как у Федора Федоровича.
Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвижно. Потом упирается носком одного сапога в задник другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим хозяином.
Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шура не любит мыться под умывальником. И, вернувшись с полным ведром, он зовет Лельку:
— Леля, а Леля! Полей, пожалуйста!
Лелька тут же оказывается рядом с Шурой. Она берет в руки эмалированную кружку и начинает лить: сначала в ладони, сложенные «тарелочкой», а потом прямо на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет пар.
— Побольше лей! Не жалей воды! — командует лейтенант.
Временный жилец моется, как папа. А Лелька поливает ему, как это делала мама. И, как мама, она подает ему свежее полотенце.
Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура надевает чистую невоенную рубашку и отправляется ужинать.
А потом садится на скамейку перед палисадником. Он отдыхает.
Лелька не решается сесть рядом с ним. Тогда он сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жизни и о своей службе.
— Вот послужу еще годок-другой, — задумчиво говорит Шура, — и женюсь. Пора. Правда? — спрашивает он серьезно Лельку.
Лелька заливается краской и молчит. Откуда она знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант Шура советуется с ней о своей женитьбе?
— А впрочем, что загадывать? — продолжает он. — Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает…
Лелька вопросительно смотрит на собеседника. И он говорит:
— Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-нибудь крохотный проводок задел — и в небо! Что ты думаешь! Вот ваш артпогребок такая штучка, что, того и гляди, ошибешься… Когда мы разминировали Брянские леса, легче было. А здесь — головоломка.
Лельке вдруг становится страшно за лейтенанта Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему приятно, что Лелька переживает. И еще ему приятно делать вид, что для него опасность — ничто, сущий пустяк.
Иногда лейтенант обнимал Лельку и трепал ее по плечу. Лелька краснела и боялась шелохнуться. А лейтенант Шура говорил:
— Пора, брат, спать! А то завтра рано подъем.
И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату «для гостей». А Лелька еще долго сидела на скамейке.
Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим войском в степь. Войско было небольшое — десять солдат. Солдаты шли цепочкой по обочине, чтобы не поднимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще какие-то непонятные военные инструменты. А командир шел по дороге.
Временный жилец не знал, что Лелька крадучись выскальзывала из калитки и долго смотрела ему и его войску вслед. Он был уверен, что Лелька в это время крепко спит.
А она никогда не просыпала. Ее глаза провожали саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Потом они спускались в балку и пропадали из виду, но вскоре появлялись вновь на другой стороне. Их фигурки становились все меньше и меньше и наконец терялись в голубой дымке степного марева, оставив после себя чуть заметное облачко пыли.
Лелька знала, что лейтенант Шура и его товарищи шли не просто работать, хотя на плечах они несли лопаты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в старом артпогребке, куда каждое утро направлялись саперы, был уцелевший островок войны с опасностью, со смертью, которая притаилась в ржавых немецких снарядах и только ждала удобного случая, чтобы нанести людям запоздалый удар.
Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру в степь, Лелька испытывала такое чувство, будто провожает его в бой. Ей казалось, что происходит величайшая несправедливость: тысячи людей вокруг живут спокойной, мирной жизнью и только одиннадцать каждый день ходят на войну.
Лелька стоит у калитки и смотрит в степь до тех пор, пока из окошка не выглядывает мама.
— Ольга, завтракать, — зовет она.
Мама называла Лельку Ольгой.
В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за своим войском. И потом они шли степной дорогой: солдаты по обочине, командир посередине дороги. Обычно солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может быть, им командир приказал петь?
Лелька глядит им вслед и старается различить слова незнакомой солдатской песни. Но слова остаются в степи, а до Лельки долетает только мелодия. Так Лельке и не удается узнать, о чем поют солдаты. Но ей становится грустно. Ей кажется, что маленькое войсколейтенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и выйдет к морю. И больше никогда не вернется в поселок. И Лельке хочется кинуться им вслед. Догнать, пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с солдатами. Или лучше по дороге — рядом с Шурой.
Но Лелька продолжает стоять на месте, а потом опускается на скамейку.
В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цветы залили степь широким разливом. Она издает тонкий аромат. И утренний свежий ветер пахнет лавандой.
Лелька закрывает глаза. Она слышит, как рядом на своей зеленой машинке заработал кузнечик… Скрипнула дверь… Курица заговорила скороговоркой на курином языке… Потом пробудился репродуктор, и совсем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пахнущий лавандой.
Постепенно к Лельке возвращается покой. Солнце касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую нижнюю губу, и коленки, и цветы на сарафане, которые не вянут, будто их стебельки опущены в воду. Никто не зовет Лельку. Никто не тревожит ее.
И она засыпает.
И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром среди ясного неба. И сразу все звуки исчезли, будто грохот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-накрест.
Лелька открыла глаза.
Чугунное эхо тяжело катилось по степи. А за пригорком выросло большое черное дерево. Оно шевелило своими косматыми ветвями. Потом дерево стало оседать, будто кто-то подпилил его. И тут Лелька проснулась окончательно. Она поняла все: лейтенант Шура ошибся в первый и последний раз… Это артпогребок взлетел на воздух.
У Лельки заколотилось сердце. Она вскочила с места и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где оседало и разваливалось дерево смерти — земля, поднятая взрывом.
Лелька бежала до тех пор, пока не наступила на что-то острое. Она остановилась от боли. Подняла ногу. На дорожной пыли алело пятнышко крови. Пятка горела. Лелька сорвала подорожник и приложила его к пятке. Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину, будто искало выхода, чтобы вырваться наружу.
Лелька вдруг представила себе лейтенанта Шуру, лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь сейчас было еще утро. Лелька сделала несколько осторожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ранки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли.
До места взрыва было уже недалеко.
Лелька стоит на краю балки и никак не может отдышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут. Вокруг валяются свежие комья земли, выброшенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шершавой ножке растет алый мак. Как это он уцелел от взрыва?



 мурым утром в дверях школы появился незнакомец странного вида.
Невысокого роста, большеголовый. В черных спутанных волосах тусклым солнышком проглядывала лысина. Усы не росли, а беспорядочно лезли из кожи вон, и в них торчала погасшая трубка. Темные глаза навыкате сверкали запоздалым озорством. Если бы ему на плечи накинули расшитый серебром гусарский ментик, на голову водрузили кивер и к портупее пристегнули саблю, он превратился бы в Дениса Давыдова. Даже полосатый пиджак, застегнутый на все пуговицы, и потертые брюки, заправленные в высокие сапоги, не могли уменьшить удивительного сходства незнакомца с гусарским поэтом.
Он взбежал по лестнице, цокая, как шпорами, подковками сапог, распахнул дверь канцелярии, и в комнате резко запахло табаком.
— Мне нужен директор!
Секретарша — плосколицая, с нарисованными бровями — перестала печатать на машинке.
— Как о вас сказать?
— Пришел Бамбус!
Странное имя прозвучало как удар барабана. Нарисованные брови болезненно надломились:
— Как-как?
— Бамбус! — Раздался новый удар барабана. — Разве не понятно?!
— Понятно, — пролепетала секретарша и быстро проскользнула в кабинет директора.
Директор был не один. Перед ним, размазывая по щекам слезы, стояли двое мальчишек. У одного — с губой, вздернутой домиком, — рукав был оторван и держался на одной нитке. У другого — с распухшим носом — рыжие волосы торчали на голове ржавыми гвоздиками. Пять минут назад мальчишки дрались, но, приведенные с поля боя к директору, враги превратились в товарищей по несчастью и держались друг друга.
— Вас спрашивает какой-то странный… Бимбус, — шепотом сказала секретарша, входя в кабинет.
— Не Бимбус, а Бамбус! — поправил ее директор. — Да где же он?
А незнакомец уже стоял в дверях, глубоко запустив руки в карманы пиджака и разглядывая директора выпуклыми глазами.
— Бамбус! — крикнул директор и отодвинул кресло.
— Чевока! — откликнулся нежданный гость и загромыхал сапожищами.
— Ха-ха!
— Хе-хе!
И хотя директор был на голову выше пришельца и шире его в плечах, возбуждение нечаянной встречи как бы уравняло их.
— Стареет пятый «Б», — сказал Бамбус.
— А мы давно тебя числим пропавшим без вести. Где ты бродяжничаешь?
— Живу в избушке на курьих ножках.
— Работаешь?
— Предсказателем.
Два заплаканных драчуна удивленно переглянулись и уставились на незнакомца. А директор усмехнулся и спросил:
— Предсказываешь дожди и грозы?
— Землетрясения, — отрубил Бамбус и принялся раскуривать трубку. — А живу я на Краю Света.
— Почтовый-то адрес у твоей избушки есть?
— Запиши. Остров Шикотан. Мыс Край Света. Представляешь, где?
Директор пожал плечами.
— Ты вообще никогда не блистал по географии! Хе-хе! — Глаза Бамбуса озорно засверкали. — О Тихом океане слыхал? Так там есть такие Курильские острова… Садовая голова!
Два заплаканных драчуна чуть не прыснули от смеха.
— Ладно, ладно, ты не очень. Кто спал в шкафу на уроках? — Директор перешел было в наступление, но тут он спохватился, что, кроме него и Бамбуса, в кабинете развесив уши стоят два нарушителя порядка, и скомандовал им: — Марш отсюда!
«Губа домиком» и «Ржавые гвоздики» моментально исчезли: появление предсказателя землетрясений избавило их от неприятностей.
Очутившись за дверью, они долго ходили по пустым коридорам и смеялись, с удовольствием передразнивая директора и его друга:
— Бамбус! Ха-ха!
— Чевока! Хе-хе!
Тем временем в директорском кабинете было уже много сказано и много вспомянуто. А Бамбус, пуская клубы дыма, сновал из угла в угол, как маневровый паровозик.
— В пятом классе у нас была учительница пения, — говорил Бамбус.
И его друг Чевока подтверждал:
— Была, конечно.
— Припоминаешь, как ее звали?
— Мы ее называли Певица Тра-ля-ля.
— Правильно! — Паровозик остановился и перестал пускать дым. — У нее был воинственно вздернут нос, а когда она пела, то нос поднимался еще выше. Ты не знаешь, где она?
— Зачем она тебе понадобилась? — спросил Чевока.
— Понадобилась, — уклончиво ответил Бамбус. — У нас в пионерском отряде не было горна, так она где-то раздобыла старый почтовый рожок.
— Тебя рожок интересует? — усмехнулся Чевока.
— Не в рожке дело… А где теперь наша Валюся?
— Работает в больнице.
Когда, изрядно надымив, Бамбус расстался со своим школьным товарищем, за углом его поджидали «Губа домиком» и «Ржавые гвоздики». Они пропустили его вперед и дружно крикнули вслед:
— Бамбус! Бам-бус!
И убежали.
Часом позже в больнице раздался странный телефонный звонок. Какой-то Бамбус спрашивал какую-то Валюсю.
— Это больница! — в третий раз кричала в трубку старая нянечка.
Но Бамбус настойчиво продолжал требовать Валюсю, и растерянная старушка отправилась к дежурному врачу. К ее великому удивлению, Валентина Ивановна спорхнула с белого кресла и бросилась к телефону:
— Бамбус! Здравствуй, Бамбус! Откуда ты? С края света? Я так и думала, что тебя занесет на край света. А я когда-то была в тебя влюблена…
При слове «влюблена» нянечка залилась краской и скрылась в дальнем конце коридора.
В этот же день дежурный по штабу артиллерийского училища докладывал майору Коржикову, что у аппарата его ждет какой-то Бамбус, вероятно из цирка, и что он, шутник, непочтительно величает товарища майора «Коржиком».
Майор не вспылил, а прижал трубку к уху и, хмыкнув, произнес:
— Коржик слушает!
Дежурный по штабу тут же решил, что когда-то, до армии, майор тоже служил в цирке вместе с этим Бамбусом. Он окончательно уверился в этом, когда речь зашла о какой-то Певице Тра-ля-ля.
Еще Бамбус звонил в детский сад, на швейную фабрику, в порт. И всюду короткое духовое слово «Бамбус» звучало как пароль, открывающий доступ в далекий пятый класс «Б», куда без этого пароля никого не пускали…
И каждый раз предсказатель землетрясений спрашивал:
— Не помнишь, у нас была учительница… Певица Тра-ля-ля?
Никто не встречал ее. Никто не знал, где она живет и жива ли она вообще.
Только один раз ему удалось продвинуться в своих поисках. Бывшая староста пятого «Б» Нина Лебедева как-то видела учительницу пения в Музее музыкальных инструментов, но это было давно, да и Певица Тра-ля-ля не узнала ее.
На другой день утром Бамбус пришел в Музей музыкальных инструментов. И сразу очутился в мире скрипок и гитар, сазов и волынок, труб и роялей, в мире старинных виол, лютен, змеевидных серпентов и бочкообразных тамбуринов. Стараясь не очень громыхать своими сапожищами, он шел из зала в зал, приглядываясь к смотрителям и экскурсантам. Иногда он задерживался у витрины и разглядывал какой-нибудь диковинный инструмент. По душе ему пришлась флейта-жалейка, которую безвестный пастух смастерил из бересты и коровьего рога. Вот бы раздобыть такую дудочку, и будет она всегда жалеть и утешать. Недаром ее назвали жалейкой…
А потом среди труб он увидел потемневший от времени почтовый рожок. Он напал на след! Разве это был не тот самый рожок, который Певица Тра-ля-ля принесла в класс?! Рожок не изменился, только уменьшился, как уменьшаются все предметы, когда люди вырастают… Бамбус забыл о предостерегающей надписи «Инструменты руками не трогать», сунул в карман не докуренную трубку и снял с гвоздя почтовый рожок. Он ощутил в руке приятный холодок меди. И искренне, как мальчишка-пятиклассник, поверил, что, если заиграть на рожке, Певица Тра-ля-ля услышит знакомый сигнал и придет на его зов. Предсказатель землетрясений вдохнул побольше воздуха, сложил губы колечком и поднял маленькую трубу. И сразу в залах музея зазвучал хрипловатый призывный напев, который в прошлом веке извещал о прибытии почты. Бамбус покраснел от напряжения, с непривычки не хватало дыхания, но он не опускал рожка и повторил сигнал снова и снова. И когда набирал новую порцию воздуха, то слышал трепетное звенящее эхо — это все трубы музея откликались на сигнал почтового рожка.
Неожиданно за его спиной раздался сухой женский голос:
— Гражданин, что это значит?!
Бамбус опустил рожок и оглянулся. Перед ним стояла Певица Тра-ля-ля. Она явилась по сигналу. Он не узнал ее лица, потому что старость, как маскарадная маска, делает человека неузнаваемым. Но в пожилой женщине было нечто такое, что не умещается под маской: нос учительницы пения, как в молодые годы, был воинственно вздернут вверх.
Да, да, это была она. Глаза Бамбуса засверкали, и он сказал:
— Здравствуйте!
— Мое почтение, — холодно ответила смотрительница музея.
— Я приехал с Края Света, я… — начал было Бамбус.
Но смотрительница музея бросила на него отчужденный взгляд и сказала:
— Вы меня с кем-то путаете!
— Нет, нет! Я же Бамбус, помните?..
— Не помню.
— Как же — пятый «Б»! Вы просто не узнаете меня. Усы. Лысина. Конечно, вы меня не узнаете, но я вас очень хорошо помню… «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною».
Пожилая женщина с воинственно вздернутым носом холодно смотрела на Бамбуса, не видя в нем никого, кроме как нарушителя музейного порядка. А он предпринимал все новые попытки оживить ее память, которая застыла, как капля смолы на коре дерева:
— У нас в классе не было горна. Вы принесли в школу вот этот почтовый рожок…
— Повесьте на место рожок. Это единственный экспонат такого рода.
мурым утром в дверях школы появился незнакомец странного вида.
Невысокого роста, большеголовый. В черных спутанных волосах тусклым солнышком проглядывала лысина. Усы не росли, а беспорядочно лезли из кожи вон, и в них торчала погасшая трубка. Темные глаза навыкате сверкали запоздалым озорством. Если бы ему на плечи накинули расшитый серебром гусарский ментик, на голову водрузили кивер и к портупее пристегнули саблю, он превратился бы в Дениса Давыдова. Даже полосатый пиджак, застегнутый на все пуговицы, и потертые брюки, заправленные в высокие сапоги, не могли уменьшить удивительного сходства незнакомца с гусарским поэтом.
Он взбежал по лестнице, цокая, как шпорами, подковками сапог, распахнул дверь канцелярии, и в комнате резко запахло табаком.
— Мне нужен директор!
Секретарша — плосколицая, с нарисованными бровями — перестала печатать на машинке.
— Как о вас сказать?
— Пришел Бамбус!
Странное имя прозвучало как удар барабана. Нарисованные брови болезненно надломились:
— Как-как?
— Бамбус! — Раздался новый удар барабана. — Разве не понятно?!
— Понятно, — пролепетала секретарша и быстро проскользнула в кабинет директора.
Директор был не один. Перед ним, размазывая по щекам слезы, стояли двое мальчишек. У одного — с губой, вздернутой домиком, — рукав был оторван и держался на одной нитке. У другого — с распухшим носом — рыжие волосы торчали на голове ржавыми гвоздиками. Пять минут назад мальчишки дрались, но, приведенные с поля боя к директору, враги превратились в товарищей по несчастью и держались друг друга.
— Вас спрашивает какой-то странный… Бимбус, — шепотом сказала секретарша, входя в кабинет.
— Не Бимбус, а Бамбус! — поправил ее директор. — Да где же он?
А незнакомец уже стоял в дверях, глубоко запустив руки в карманы пиджака и разглядывая директора выпуклыми глазами.
— Бамбус! — крикнул директор и отодвинул кресло.
— Чевока! — откликнулся нежданный гость и загромыхал сапожищами.
— Ха-ха!
— Хе-хе!
И хотя директор был на голову выше пришельца и шире его в плечах, возбуждение нечаянной встречи как бы уравняло их.
— Стареет пятый «Б», — сказал Бамбус.
— А мы давно тебя числим пропавшим без вести. Где ты бродяжничаешь?
— Живу в избушке на курьих ножках.
— Работаешь?
— Предсказателем.
Два заплаканных драчуна удивленно переглянулись и уставились на незнакомца. А директор усмехнулся и спросил:
— Предсказываешь дожди и грозы?
— Землетрясения, — отрубил Бамбус и принялся раскуривать трубку. — А живу я на Краю Света.
— Почтовый-то адрес у твоей избушки есть?
— Запиши. Остров Шикотан. Мыс Край Света. Представляешь, где?
Директор пожал плечами.
— Ты вообще никогда не блистал по географии! Хе-хе! — Глаза Бамбуса озорно засверкали. — О Тихом океане слыхал? Так там есть такие Курильские острова… Садовая голова!
Два заплаканных драчуна чуть не прыснули от смеха.
— Ладно, ладно, ты не очень. Кто спал в шкафу на уроках? — Директор перешел было в наступление, но тут он спохватился, что, кроме него и Бамбуса, в кабинете развесив уши стоят два нарушителя порядка, и скомандовал им: — Марш отсюда!
«Губа домиком» и «Ржавые гвоздики» моментально исчезли: появление предсказателя землетрясений избавило их от неприятностей.
Очутившись за дверью, они долго ходили по пустым коридорам и смеялись, с удовольствием передразнивая директора и его друга:
— Бамбус! Ха-ха!
— Чевока! Хе-хе!
Тем временем в директорском кабинете было уже много сказано и много вспомянуто. А Бамбус, пуская клубы дыма, сновал из угла в угол, как маневровый паровозик.
— В пятом классе у нас была учительница пения, — говорил Бамбус.
И его друг Чевока подтверждал:
— Была, конечно.
— Припоминаешь, как ее звали?
— Мы ее называли Певица Тра-ля-ля.
— Правильно! — Паровозик остановился и перестал пускать дым. — У нее был воинственно вздернут нос, а когда она пела, то нос поднимался еще выше. Ты не знаешь, где она?
— Зачем она тебе понадобилась? — спросил Чевока.
— Понадобилась, — уклончиво ответил Бамбус. — У нас в пионерском отряде не было горна, так она где-то раздобыла старый почтовый рожок.
— Тебя рожок интересует? — усмехнулся Чевока.
— Не в рожке дело… А где теперь наша Валюся?
— Работает в больнице.
Когда, изрядно надымив, Бамбус расстался со своим школьным товарищем, за углом его поджидали «Губа домиком» и «Ржавые гвоздики». Они пропустили его вперед и дружно крикнули вслед:
— Бамбус! Бам-бус!
И убежали.
Часом позже в больнице раздался странный телефонный звонок. Какой-то Бамбус спрашивал какую-то Валюсю.
— Это больница! — в третий раз кричала в трубку старая нянечка.
Но Бамбус настойчиво продолжал требовать Валюсю, и растерянная старушка отправилась к дежурному врачу. К ее великому удивлению, Валентина Ивановна спорхнула с белого кресла и бросилась к телефону:
— Бамбус! Здравствуй, Бамбус! Откуда ты? С края света? Я так и думала, что тебя занесет на край света. А я когда-то была в тебя влюблена…
При слове «влюблена» нянечка залилась краской и скрылась в дальнем конце коридора.
В этот же день дежурный по штабу артиллерийского училища докладывал майору Коржикову, что у аппарата его ждет какой-то Бамбус, вероятно из цирка, и что он, шутник, непочтительно величает товарища майора «Коржиком».
Майор не вспылил, а прижал трубку к уху и, хмыкнув, произнес:
— Коржик слушает!
Дежурный по штабу тут же решил, что когда-то, до армии, майор тоже служил в цирке вместе с этим Бамбусом. Он окончательно уверился в этом, когда речь зашла о какой-то Певице Тра-ля-ля.
Еще Бамбус звонил в детский сад, на швейную фабрику, в порт. И всюду короткое духовое слово «Бамбус» звучало как пароль, открывающий доступ в далекий пятый класс «Б», куда без этого пароля никого не пускали…
И каждый раз предсказатель землетрясений спрашивал:
— Не помнишь, у нас была учительница… Певица Тра-ля-ля?
Никто не встречал ее. Никто не знал, где она живет и жива ли она вообще.
Только один раз ему удалось продвинуться в своих поисках. Бывшая староста пятого «Б» Нина Лебедева как-то видела учительницу пения в Музее музыкальных инструментов, но это было давно, да и Певица Тра-ля-ля не узнала ее.
На другой день утром Бамбус пришел в Музей музыкальных инструментов. И сразу очутился в мире скрипок и гитар, сазов и волынок, труб и роялей, в мире старинных виол, лютен, змеевидных серпентов и бочкообразных тамбуринов. Стараясь не очень громыхать своими сапожищами, он шел из зала в зал, приглядываясь к смотрителям и экскурсантам. Иногда он задерживался у витрины и разглядывал какой-нибудь диковинный инструмент. По душе ему пришлась флейта-жалейка, которую безвестный пастух смастерил из бересты и коровьего рога. Вот бы раздобыть такую дудочку, и будет она всегда жалеть и утешать. Недаром ее назвали жалейкой…
А потом среди труб он увидел потемневший от времени почтовый рожок. Он напал на след! Разве это был не тот самый рожок, который Певица Тра-ля-ля принесла в класс?! Рожок не изменился, только уменьшился, как уменьшаются все предметы, когда люди вырастают… Бамбус забыл о предостерегающей надписи «Инструменты руками не трогать», сунул в карман не докуренную трубку и снял с гвоздя почтовый рожок. Он ощутил в руке приятный холодок меди. И искренне, как мальчишка-пятиклассник, поверил, что, если заиграть на рожке, Певица Тра-ля-ля услышит знакомый сигнал и придет на его зов. Предсказатель землетрясений вдохнул побольше воздуха, сложил губы колечком и поднял маленькую трубу. И сразу в залах музея зазвучал хрипловатый призывный напев, который в прошлом веке извещал о прибытии почты. Бамбус покраснел от напряжения, с непривычки не хватало дыхания, но он не опускал рожка и повторил сигнал снова и снова. И когда набирал новую порцию воздуха, то слышал трепетное звенящее эхо — это все трубы музея откликались на сигнал почтового рожка.
Неожиданно за его спиной раздался сухой женский голос:
— Гражданин, что это значит?!
Бамбус опустил рожок и оглянулся. Перед ним стояла Певица Тра-ля-ля. Она явилась по сигналу. Он не узнал ее лица, потому что старость, как маскарадная маска, делает человека неузнаваемым. Но в пожилой женщине было нечто такое, что не умещается под маской: нос учительницы пения, как в молодые годы, был воинственно вздернут вверх.
Да, да, это была она. Глаза Бамбуса засверкали, и он сказал:
— Здравствуйте!
— Мое почтение, — холодно ответила смотрительница музея.
— Я приехал с Края Света, я… — начал было Бамбус.
Но смотрительница музея бросила на него отчужденный взгляд и сказала:
— Вы меня с кем-то путаете!
— Нет, нет! Я же Бамбус, помните?..
— Не помню.
— Как же — пятый «Б»! Вы просто не узнаете меня. Усы. Лысина. Конечно, вы меня не узнаете, но я вас очень хорошо помню… «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною».
Пожилая женщина с воинственно вздернутым носом холодно смотрела на Бамбуса, не видя в нем никого, кроме как нарушителя музейного порядка. А он предпринимал все новые попытки оживить ее память, которая застыла, как капля смолы на коре дерева:
— У нас в классе не было горна. Вы принесли в школу вот этот почтовый рожок…
— Повесьте на место рожок. Это единственный экспонат такого рода.


 52. то время мы думали, что по Караванной улице, побрякивая колокольчиками, бредут пыльные усталые верблюды, на Итальянской улице живут черноволосые итальянцы, а на Поцелуевом мосту все целуются. Потом не стало ни караванов, ни итальянцев, да и сами улицы теперь называются иначе. Правда, Поцелуев мост остался Поцелуевым.
Наш двор был вымощен щербатым булыжником. Булыжник лежал неровно, образуя бугры и впадины. Когда шли затяжные дожди, впадины заливала вода, а бугры возвышались каменными островами. Чтобы не замочить ботинок, мы прыгали с острова на остров. Но домой все равно приходили с мокрыми ногами.
Весной наш двор пах горьковатой тополиной смолкой, осенью — яблоками. Яблочный дух шел из подвалов, где было овощехранилище. Мы любили свой двор. В нем никогда не было скучно. К тому же мы знали множество игр. Мы играли в лапту, в прятки, в штандр, в чижика, в ножички, в испорченный телефон. Эти игры оставили нам в наследство старшие ребята. Но были у нас игры и собственного изобретения. Например, игра в красавицу.
Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. И когда наша честная компания собиралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно предлагал:
— Сыграем в красавицу?
Все становились в круг, и слова считалочки начинали перебегать с одного на другого:
— Эна, бена, рес…
Эти слова из какого-то таинственного языка были для нас привычными:
— Квинтер, контер, жес.
Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и старались, чтобы считалочка кончилась на ней. Она опускала глаза и разглаживала руками платье. Она заранее знала, что ей придется выходить на круг и быть красавицей.
Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость некрасивой: у нее был широкий приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг которых хлебными крошками рассыпались веснушки. Лоб — тоже в хлебных крошках. Бесцветные глаза. Прямые жидкие волосы. Ходила она, шаркая ногами, животом вперед. Но мы этого не замечали. Мы пребывали в том справедливом неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым — дрянной. Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчонкой — мы выбирали красавицей ее.
Когда она выходила на середину круга, по правилам игры, мы начинали «любоваться» — каждый из нас пускал в ход вычитанные в книгах слова.
— У нее лебединая шея, — говорил один.
— Не лебединая, а лебяжья, — поправлял другой и подхватывал: — У нее коралловые губы…
— У нее золотые кудри.
— У нее глаза синие, как… как…
— Вечно ты забываешь! Синие — как море.
Нинка расцветала. Ее бледное лицо покрывалось теплым румянцем, она подбирала живот и кокетливо отставляла ногу в сторону. Наши слова превращались в зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей.
— У нее атласная кожа.
— У нее соболиные брови.
— У нее зубы… зубы…
— Что зубы? Жемчужные зубы!
Нам самим начинало казаться, что у нее все лебяжье, коралловое, жемчужное. И красивее нашей Нинки нет.
Когда запас нашего красноречия иссякал, Нинка принималась что-нибудь рассказывать.
— Вчера я купалась в теплом море, — говорила Нинка, поеживаясь от холодного осеннего ветра. — Поздно вечером в темноте море светилось. И я светилась. Я была рыбой… Нет, не рыбой — русалкой.
Не рассказывать же красавице, как она чистила картошку, или зубрила формулы, или помогала матери стирать.
— Рядом со мной кувыркались дельфины. Они тоже светились.
Тут кто-нибудь не выдерживал:
— Не может быть!
Нинка протягивала ему руку:
— Понюхай, чем пахнет?
— Мылом.
Она качала головой:
— Морем! Лизни — рука соленая.
Стояли мутные влажные сумерки, и было непонятно, идет дождь или нет. Только на стекле возникали и лопались пузырьки. Но мы чувствовали близость несуществующего моря — теплого, светящегося, соленого.
Так мы играли.
Лил дождь — устраивались в подворотне. Темнело — толпились под фонарем. Даже самые крепкие морозы не могли нас выжить со двора.
52. то время мы думали, что по Караванной улице, побрякивая колокольчиками, бредут пыльные усталые верблюды, на Итальянской улице живут черноволосые итальянцы, а на Поцелуевом мосту все целуются. Потом не стало ни караванов, ни итальянцев, да и сами улицы теперь называются иначе. Правда, Поцелуев мост остался Поцелуевым.
Наш двор был вымощен щербатым булыжником. Булыжник лежал неровно, образуя бугры и впадины. Когда шли затяжные дожди, впадины заливала вода, а бугры возвышались каменными островами. Чтобы не замочить ботинок, мы прыгали с острова на остров. Но домой все равно приходили с мокрыми ногами.
Весной наш двор пах горьковатой тополиной смолкой, осенью — яблоками. Яблочный дух шел из подвалов, где было овощехранилище. Мы любили свой двор. В нем никогда не было скучно. К тому же мы знали множество игр. Мы играли в лапту, в прятки, в штандр, в чижика, в ножички, в испорченный телефон. Эти игры оставили нам в наследство старшие ребята. Но были у нас игры и собственного изобретения. Например, игра в красавицу.
Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. И когда наша честная компания собиралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно предлагал:
— Сыграем в красавицу?
Все становились в круг, и слова считалочки начинали перебегать с одного на другого:
— Эна, бена, рес…
Эти слова из какого-то таинственного языка были для нас привычными:
— Квинтер, контер, жес.
Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и старались, чтобы считалочка кончилась на ней. Она опускала глаза и разглаживала руками платье. Она заранее знала, что ей придется выходить на круг и быть красавицей.
Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость некрасивой: у нее был широкий приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг которых хлебными крошками рассыпались веснушки. Лоб — тоже в хлебных крошках. Бесцветные глаза. Прямые жидкие волосы. Ходила она, шаркая ногами, животом вперед. Но мы этого не замечали. Мы пребывали в том справедливом неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым — дрянной. Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчонкой — мы выбирали красавицей ее.
Когда она выходила на середину круга, по правилам игры, мы начинали «любоваться» — каждый из нас пускал в ход вычитанные в книгах слова.
— У нее лебединая шея, — говорил один.
— Не лебединая, а лебяжья, — поправлял другой и подхватывал: — У нее коралловые губы…
— У нее золотые кудри.
— У нее глаза синие, как… как…
— Вечно ты забываешь! Синие — как море.
Нинка расцветала. Ее бледное лицо покрывалось теплым румянцем, она подбирала живот и кокетливо отставляла ногу в сторону. Наши слова превращались в зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей.
— У нее атласная кожа.
— У нее соболиные брови.
— У нее зубы… зубы…
— Что зубы? Жемчужные зубы!
Нам самим начинало казаться, что у нее все лебяжье, коралловое, жемчужное. И красивее нашей Нинки нет.
Когда запас нашего красноречия иссякал, Нинка принималась что-нибудь рассказывать.
— Вчера я купалась в теплом море, — говорила Нинка, поеживаясь от холодного осеннего ветра. — Поздно вечером в темноте море светилось. И я светилась. Я была рыбой… Нет, не рыбой — русалкой.
Не рассказывать же красавице, как она чистила картошку, или зубрила формулы, или помогала матери стирать.
— Рядом со мной кувыркались дельфины. Они тоже светились.
Тут кто-нибудь не выдерживал:
— Не может быть!
Нинка протягивала ему руку:
— Понюхай, чем пахнет?
— Мылом.
Она качала головой:
— Морем! Лизни — рука соленая.
Стояли мутные влажные сумерки, и было непонятно, идет дождь или нет. Только на стекле возникали и лопались пузырьки. Но мы чувствовали близость несуществующего моря — теплого, светящегося, соленого.
Так мы играли.
Лил дождь — устраивались в подворотне. Темнело — толпились под фонарем. Даже самые крепкие морозы не могли нас выжить со двора.


 ослушайте, мальчики! Знаете ли вы, что я был знаком с самим Джузеппе Роджеро? Это был знаменитый мастер. Огненный композитор. Он исполнял свои произведения не на скрипке и не на тромбоне. Его музыка рассыпалась в небе разноцветными огнями…
Мальчики с открытыми ртами сидели на пороге старого бастиона и слушали рассказ дяди Евгения. А он, худой, костистый, с двумя большими морщинами на впалых щеках, с редкими пепельными волосами, широко разводил руки, словно открывал перед маленькими слушателями всю свою жизнь.
— Джузеппе Роджеро был молод и красив. Его вороненые кудри развевались по ветру, и большие черные глаза горели неиссякаемым восторгом… Я был его учеником.
При слове «ученик» мальчики сразу представили себе дядю Евгения за школьной партой, а красавца Джузеппе Роджеро — на месте учителя. Дети никогда не видят взрослых молодыми. Им трудно представить себе дядю Евгения мальчиком, и поэтому в воображении ребят дядя Евгений сидел за партой в своих стираных-перестираных полотняных брюках, в белой рубашке с неизменным галстуком бабочкой на худой шее. А учитель Роджеро с развевающимися кудрями звал дядю Евгения к доске и велел ему взять мел и писать.
Старый бастион стоит на обрыве над самым морем. Когда разыгрывается шторм, море с грохотом идет на приступ каменной башни. Волны лезут по скалам, но обрываются и падают вниз, разбиваясь о камни. Бастион неприступен. Когда-то здесь стояла крепость.
Неизвестно, от чего больше пострадало это славное боевое сооружение — от турецких ядер или от времени. Над пористым потемневшим камнем выросла акация. Ее легкая, призрачная листва еще больше оттеняет тяжесть и угловатость бастиона.
В бастионе стоит пушечный дух. Но не потому, что в нем ухают старинные орудия, которые заряжают с дула и подпаливают смоляным факелом. Этот дух поддерживает «адская кухня» — пиротехническая мастерская дяди Евгения. «Адской кухней» дядя Евгений называет ее, когда у него плохое настроение. При хорошем же расположении духа пиротехник зовет свой бастион «мастерской праздника». Мальчишки не помнят, когда появилась эта необычная мастерская. Вероятно, дядя Евгений облюбовал башню бывшей крепости задолго до их появления на свет.
Дядя Евгений очень худ. Кости проступают на скулах, на подбородке, на острых плечах и на лодыжках ног. Кажется, он сделан из того же материала, что и бастион. Ежедневно он снимает с двери висячий замок, похожий на большой каблук, и входит под своды своей таинственной мастерской. Сюда не ступала нога ни одного мальчишки. Невысокий стертый порожек преграждал им путь, как строгая граница. И плохо приходилось тому, кто вопреки запрету дяди Евгения осмеливался нарушить эту границу.
Зато смотреть можно сколько угодно. Смотреть, спрашивать, интересоваться содержанием банок, выпытывать секреты составления огненных смесей — это может каждый. И поэтому любой мальчишка из соседнего детского дома в курсе дела, из чего делают римские свечи и бенгальские огни. И каждый назубок знает всю огненную палитру дяди Евгения: красный цвет — соли стронция, зеленый — соли бария, синий — углекислая медь.
— Вот подрастете, — говорит дядя Евгений своим друзьям, — я научу вас искусству пиротехники.
ослушайте, мальчики! Знаете ли вы, что я был знаком с самим Джузеппе Роджеро? Это был знаменитый мастер. Огненный композитор. Он исполнял свои произведения не на скрипке и не на тромбоне. Его музыка рассыпалась в небе разноцветными огнями…
Мальчики с открытыми ртами сидели на пороге старого бастиона и слушали рассказ дяди Евгения. А он, худой, костистый, с двумя большими морщинами на впалых щеках, с редкими пепельными волосами, широко разводил руки, словно открывал перед маленькими слушателями всю свою жизнь.
— Джузеппе Роджеро был молод и красив. Его вороненые кудри развевались по ветру, и большие черные глаза горели неиссякаемым восторгом… Я был его учеником.
При слове «ученик» мальчики сразу представили себе дядю Евгения за школьной партой, а красавца Джузеппе Роджеро — на месте учителя. Дети никогда не видят взрослых молодыми. Им трудно представить себе дядю Евгения мальчиком, и поэтому в воображении ребят дядя Евгений сидел за партой в своих стираных-перестираных полотняных брюках, в белой рубашке с неизменным галстуком бабочкой на худой шее. А учитель Роджеро с развевающимися кудрями звал дядю Евгения к доске и велел ему взять мел и писать.
Старый бастион стоит на обрыве над самым морем. Когда разыгрывается шторм, море с грохотом идет на приступ каменной башни. Волны лезут по скалам, но обрываются и падают вниз, разбиваясь о камни. Бастион неприступен. Когда-то здесь стояла крепость.
Неизвестно, от чего больше пострадало это славное боевое сооружение — от турецких ядер или от времени. Над пористым потемневшим камнем выросла акация. Ее легкая, призрачная листва еще больше оттеняет тяжесть и угловатость бастиона.
В бастионе стоит пушечный дух. Но не потому, что в нем ухают старинные орудия, которые заряжают с дула и подпаливают смоляным факелом. Этот дух поддерживает «адская кухня» — пиротехническая мастерская дяди Евгения. «Адской кухней» дядя Евгений называет ее, когда у него плохое настроение. При хорошем же расположении духа пиротехник зовет свой бастион «мастерской праздника». Мальчишки не помнят, когда появилась эта необычная мастерская. Вероятно, дядя Евгений облюбовал башню бывшей крепости задолго до их появления на свет.
Дядя Евгений очень худ. Кости проступают на скулах, на подбородке, на острых плечах и на лодыжках ног. Кажется, он сделан из того же материала, что и бастион. Ежедневно он снимает с двери висячий замок, похожий на большой каблук, и входит под своды своей таинственной мастерской. Сюда не ступала нога ни одного мальчишки. Невысокий стертый порожек преграждал им путь, как строгая граница. И плохо приходилось тому, кто вопреки запрету дяди Евгения осмеливался нарушить эту границу.
Зато смотреть можно сколько угодно. Смотреть, спрашивать, интересоваться содержанием банок, выпытывать секреты составления огненных смесей — это может каждый. И поэтому любой мальчишка из соседнего детского дома в курсе дела, из чего делают римские свечи и бенгальские огни. И каждый назубок знает всю огненную палитру дяди Евгения: красный цвет — соли стронция, зеленый — соли бария, синий — углекислая медь.
— Вот подрастете, — говорит дядя Евгений своим друзьям, — я научу вас искусству пиротехники.







