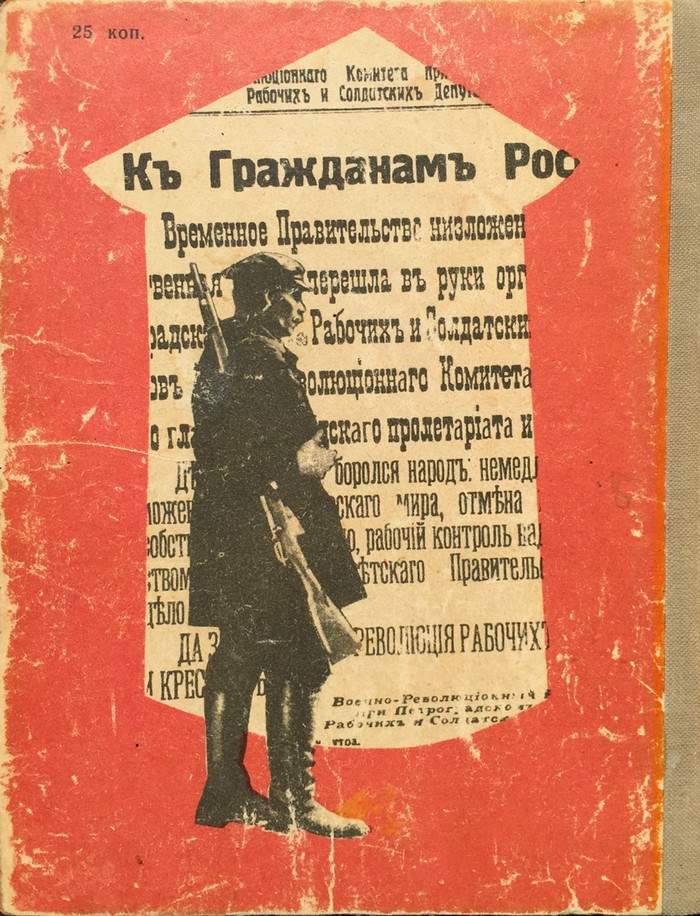Ю. Шифрина
Я — хорошая девочка
Повесть


Сапоги
Я у родителей одиннадцатая. У меня два брата и восемь сестер. Самый старший — Абрам. Ему девятнадцать. Он красивый, смуглый, легкий, с курчавой буйной головой. Он работает на заводе и приходит, когда я уже сплю в своем деревянном корыте под вешалкой. Он редко бывает днем дома, и тогда я не спускаю с него восхищенных глаз.
Я хожу за ним всюду, но приближаться боюсь. Кто знает этих взрослых! Все же я стараюсь попасться ему на глаза. Он берет меня на руки, подбрасывает вверх и ставит на пол. Это занимает одно короткое мгновение. Когда еще дождусь!
Он единственный у нас говорит «мамочка». Он берет худые, жилистые руки матери, смотрит в ее скорбное лицо с большими глазами:
— Мамочка, ты бы отдохнула. Заставь девочек работать. Не уставай так, родная.
Мама поднимает передник к глазам.
— Я скоро буду много получать…
— Нет, я не потому. Пусть нашим врагам столько болячек, сколько мне не хватает, чтоб вы все были сыты и и одеты. Какие на тебе ботинки, латка на латке. Нас так много! Что твой заработок!
Нас действительно много. Но, кроме Абраши, никто с мамой так не разговаривает. От разговоров с ним молодеет лицо матери и ее глаза светятся.
После Абраши на один год моложе Хаим. За ним идут близнецы-сестры. Когда отец ругает мать, что «орава много жрет», то всегда кричит: «Если б по одной девке плодить каждый раз — и то бы за глаза хватило, а ты по двое».
Три раза мама рожала девочек-близнецов.
Старшие близнецы совершенно непохожи друг на друга: Геня и Лея. Они садятся с ногами на длинный стол, шьют брюки и поют. Я, играя под столом в лоскутки, очень рано начала петь вместе с ними. А когда вечерами, надев платья цвета танко и блинчатые береты, они уходят гулять, я, четырехлетняя, сама распеваю:
Дышала ночь восторгом сладострастья…
Самая красивая — Соня — с ними не ходит. Она решила экстерном сдать за гимназию и все вечера после работы учится.
Лея ее дразнит:
— Подумаешь, гимназистка! Без дробей замуж не возьмут!
— Ты бы пошла прошлась! Годы идут… Ты все еще надеешься? — вздыхает мама.
Соня тихо отвечает маме:
— Не надеюсь… Но мне просто интересно узнавать новое.
В кухню к маме я не люблю ходить. Там неинтересно. Туда может прийти толстая соседка Злата.
Когда она видит меня, она начинает упрекать маму:
— Бейля, бог с вами, зачем вам был нужен еще этот ребенок? Куда вам столько?
— Не говорите так, Злата. Большой грех берете на душу. И не сглазьте, пусть живут на доброе здоровье.
— Конечно, вы же сами знаете, как их прокормить. Но когда я про вас подумаю… — не унимается соседка.
Мама сердится. Я слышу, что меня не прокормить, и поднимаю на всякий случай рев. Тогда Злата, поправляя платок на растрепанных волосах, оставляет меня в покое и начинает допекать маму Абрамом:
— Такой парень! Это же раввин… А куда вы пустили его работать: на завод! Ходит черный, засмальцованный. Раньше вечерами, бывало, пройдется с моей Басей, душа радуется — чем не пара? А теперь?.. Водится с босяками… Мы в окно смотрим, как он все с ними куда-то ходит.
Мама начинает сердито швырять сковородками. Злата уходит. Но через день она снова сидит в кухне.
Отец приходит домой в пятницу вечером. Пять дней в неделю он шьет овчинные шубы в усадьбах и монастырях.
По пятницам с утра начиналось светопреставление. Сестры носятся по квартире, обливаются потом, переносят вещи из одного угла в другой. Моют полы. Табуретки — на столах, узлы и корзины — на скамьях и кроватях. Чаще всего моет пол рыжая толстушка Лея. Соня ее убеждает, что от этого худеют.
Мне весело смотреть на суматоху.
Я взбираюсь на пирамиду из узлов и корзин и кубарем качусь вниз. Лея поднимает вопль и гонится за мной с мокрой тряпкой.
Наступает вечер. В доме торжественно и небывало тихо. Некрашеные полы темны от влаги, на длинном столе белая простыня. Сверкают начищенные подсвечники. Приветливая чистота.
Из маленькой комнатки слышен тихий шепот старших сестер. А все остальные прячутся, чтоб не подвернуться под горячую руку отца. Я и Буня всегда в корзине с бельем на кухне. Хотя отец нас не бьет и даже не замечает, но в корзину меня загоняет общий страх.
Мама старается защитить отца:
— Вы умненькие, сидите тихонько, пусть он отдохнет, поест. Целую неделю не разгибает спины. Не вертитесь под ногами.
Старшие уже дают на жизнь. Они не боятся отца, им хорошо… Мама суетится на кухне. Она выкраивает крохи «справить субботу».
При стуке щеколды все вздрагивают. Я — так совсем трясусь. В коридоре что-то громыхает. Мама на кухне и не показывается. И только когда отец, повесив пиджак, начинает ворчать: «Некому из-под ног ведро убрать!», мама, сияя, выходит ему навстречу и приветливо, напевно говорит:
— Дети, папа пришел. Ну, как ты, Янечка? Опять не подвезли? Болезни моих детей на их голову!
Мама несет полотенце, стаскивает с отца через голову рубашку и говорит, говорит, чтоб только отвлечь отца от его постоянного раздражения.
Отец усаживается за стол. Он вынимает получку и что-то рассчитывает. То прибавит к маленькой пачке кредиток рубль, то спрячет. Опять пересчитает деньги и снова прибавит рубль. Мама как будто ничего не замечает. Она вынимает из печи еду.
— А дети, благодарение богу, ангелы, их не слышно и не видно…
Деньги определены, и отец протягивает их матери.
Той вроде некогда. Она небрежно показывает: «Положи на стол». Затем пересчитывает и так же ласково обращается к отцу:
— Янечка, побойся бога, еще меньше дал, чем в прошлую неделю. Я и так задолжала за хлеб…
Тут отец взрывается:
— Меньше бы со своим кодлом жрали! Скоро меня сожрете. Нет больше!
И я вижу, как с лица матери сходит отблеск приветливости и глаза ее цепенеют. Но, боясь, чтобы дети не догадались, что уже «началось», как можно тише и спокойнее говорит:
— Подумай, что я должна делать? Это же ужас! Не хватает, хоть ляжь да умри.
— А ты поменьше им пундиков-шмундиков, барыня-сударыня, кушайте варенье!
— Нашим врагам такого варенья, таких пундиков! Голые, босые. Одни валенки на троих.
— Поменьше плоди!
— Ты себе, Янкеле, отдай отчет, что ты такое говоришь? О родных детях, да еще о таких детях. Пройди весь свет…
Но отец не слушает. Он надевает бело-черный полосатый талес и собирается в синагогу. Мать бросается ему помогать. Она подает ему черные ботинки с резиночками.
Как только за ним закрывается дверь, по всему нашему флигельку проходит вздох облегчения.
Изо всех щелей показываются черные, лохматые головы и русые косички. Белозубые улыбки и веселый говор. Взрослые хохочут. Я взбираюсь на табурет, обнимаю застывшую в думах мать и плачу. Почему я плачу, откуда я знаю?
Единственный человек, который рассказывает нам, младшим девочкам, сказки, — это Абрам. Он превращает мою серенькую жизнь мышки в трепетную, лучезарную сказку. Он так много знает! И я поочередно превращаюсь то в Красную Шапочку, то в Золушку, то в Королевну-Лягушку. Я плачу во весь голос от их поражений и расцветаю от успехов.
Обычно он рассказывает в субботу. Впереди воскресенье, и он никуда не торопится.
Но вот однажды в субботу он не приходит домой. Не приходит мои любимый сказочник. И я шныряю у взрослых под ногами, заглядываю в их почему-то испуганные, тоскующие глаза.
Мама собирается куда-то идти. Что-нибудь случилось? С ней — Соня.
Все молчат. Отец поднимает глаза от молитвенника:
— Куда вы на ночь глядя?
Соня смотрит на маму.
— Ой… Янечка, такое дело: заказ не сдали. Брюки Реб-Айзика. А он утром едет в Конотоп…
Они уходят. Не собираются на гулянье Лея с Геней, и все потому, что не пришел с работы Абрам, с завода, который ночами горит ярким заревом над нашим городком. Наверно, что-то все-таки случилось…
Абрама нет и на другой день. И вот в затихшей, как бы необитаемой квартире шепотом произносится зловещее «забрали»…
Надо, чтоб отец не знал. Надо, чтоб соседка Злата не слышала. И я, видя, как мама на кухне ломает руки, представляю себе все темные силы из страшных сказок Абрама. Они унесли его, и теперь я пойду освобождать. Но взрослые не обращают внимания на благородные порывы моей души и прогоняют меня.
Обед готовит Соня. Она успокаивает маму:
— Ведь не украл он и не убил, его забрали за правду.
Мама с безнадежностью слушает ее. В мое сердце закрадывается страх…
Прибегает соседка Злата. Ее мощная фигура ходит ходуном. Она трясет перед мамой руками:
— Ну, кто прав? Доигрался! Где это слыхано, чтоб дети евреев шли против царя? Моя дочечка таки себе дома, а вы будете локти грызть!
Мама не смотрит на Злату. Она вся ушла в свою тревогу. Соня решительно выводит соседку. Та, оглядываясь, еще что-то возмущенно кричит. Мы все толпимся вокруг мамы. Она точно нас не видит. Но вот она обводит всех нас скорбным взглядом и озабоченно говорит:
— Сонечка, сходи к сапожнику Якову Хромому. Может, возьмется починить Абрашины сапоги. Боже, ведь он ушел совсем босой.
Потом она замечает нас:
— Почему вы, дети, не занимаетесь своими делами? А ты, Фейгеле, почему не в школе? А ну, марш!
Мы смотрим на желто-пепельное лицо матери, в глаза, в которых много боли, и успокаиваемся от ее обыденных слов, сказанных твердым голосом.
— Дети, вы никого не слушайте. Абрамчик — не вор, не убийца, а, слава богу, только за правду страдает, — повторяет мама Сонины слова.
В доме не убирают. Даже в пятницу, в ожидании отца, дом остается мертвым. Только Лея мурлычет песню. У нее наклевывается жених, и даже богатый. Ей весело.
— Да замолчи ты, распелась… — шипит Соня.
Но Лея кричит:
— Вот еще новости! Теперь всем в гроб ложиться? Связался с запрещенными книжками, я, что ли, виновата? — Ее полное лицо пламенеет.
— Слышишь, прекрати немедленно! — с суровым осуждением говорит Соня.
И снова тихо так, что на всю квартиру слышно тиканье ходиков.
Еще не зажгли свечей, как появляется отец. Едва открыв двери, он обрушивается на мать:
— Хорошенькие дела делает твой сын! Вот что значит твое воспитание! В тюрьму угодил!
Он идет в кухню. Трепещущая мать кружится возле него.
— Теперь и я работы себе не найду. Мне сегодня пан Деревянко говорит: «Ты, Янкель, человек как человек, а вот сын у тебя — с забастовщиками. Как же ты допустил?» Каково мне?
Я вижу, как дрожат мамины руки.
Потом в наш дом приходят непонятные, но страшные слова: суд, этап.
Родные одного подсудимого ездили куда-то и узнали, что скоро арестованных будут отправлять по этапу.
Этап… Это слово ворвалось в жизнь нашего городка и творит непонятное. Где бы ни встретились люди, стоят и шепчутся. Шепчутся и оглядываются.
Мама смотрит более тревожными глазами, чем: всегда. Часто неподвижно застывает на месте. Уловив взгляд Сони, поспешно за что-нибудь принимается:
— Это я так, ничего…
Целый день шелестит слово «этап». Носятся куда-то старшие, шумят меньшие. Мама в сотый раз говорит о том, что Абрамчик совсем босой.
Оказалось, что сапоги починить нельзя, и маму это угнетает больше всего.
Но вот у нас в доме появляется молодая, розовощекая женщина в белом цветастом платке.
Мама встречает ее недоуменно.
— Вы Бейля Давыдовна Циммерман?
— Да…
— Вы мать Абраши?
— Да. А вы знаете его?
В маминых глазах тревога и смятение.
Молодая женщина обнимает маму и крепко прижимается к ней. И так, обнявшись, они стоят: одна — цветущая, молодая, с выбившейся прядью пепельных волос, другая — костлявая, исхудалая, с невыплаканным горем в огромных глазах.
— Я Оксана Фирсова, мой муж вместе с Абрамом. Записочку передал, просил вас навестить.
Она уходит с мамой в кухню. Я проскальзываю за ними. Оксана Фирсова вынимает из кошелки сказочные вещи: горшочек сметаны, сахар, конфеты. Маме она протягивает бумажный рубль.
Я смотрю на маму. От волнения она кажется моложе, на исхудалых щеках выступил румянец. Но от денег мама отказывается..
— Что вы, Бейля Давыдовна, это же товарищи прислали. Возьмите, пригодятся. Ведь вы же пойдете со мной встречать этап? Их будут вести через Дебальцево.
Все мы уже в кухне. Оксана всем улыбается, узнает: «Абраша про всех рассказывал…»
Она сбрасывает платок. Большая коса обвита венком вокруг головы.
«Это добрая волшебница», — думаю я, глядя, как все веселеют. И когда уже можно будет кушать эти вкусные вещи?
Долго после захода Оксаны Фирсовой мать сидит и чему-то улыбается, пока не замечает, что мы со всех сторон глядим жадными глазами на кухонный стол.
Ну, конечно, она поедет встретиться с Абрашей. Разве она не мать?
Главная советчица Соня, настаивает, чтоб для Абрама заказали новые сапоги. Мама все еще не решила:
— Хорошо бы, но денег мало. Еще и белье нужно…
Они решают попросить у отца, а потом идти на переговоры к Якову Хромому. Сестры готовы защищать маму.
Прихода отца дожидается весь дом.
— Янкеле, — обращается мама к отцу после обеда, — все поедут встречать этап. Надо бы сапоги Абраму передать… Когда-то бог приведет свидеться… Наш сын, первенец…
Ее слезящиеся глаза с мольбой ищут отцовского взгляда.
— Посмотри, какие у него сапоги. Даже Яков чинить не взялся.
Она вытаскивает из-под кровати Абрамовы сапоги — стоптанные, в десятках заплат. Подметки отстали, щетинятся ржавыми гвоздями — точно голодные звериные пасти.
Но мы слышим свирепое:
— Что? Ты понимаешь, что говоришь? Сын еврея чтоб был против царя! Кто он такой, что он против? Где это видано? Из-за таких царь погромы устраивает. Нет у меня Абрама. Он мне не сын!
— Янечка, — трепещет мать. — Хорошие люди прислали рубль, но не хватает.
— Хорошие люди! Наверно, такие же босяки, как твой сын.
— Наш Абрам не босяк, он не хочет, чтоб были погромы, — цепляется еще за какую-то мысль мама. — Он хочет, чтоб всем было хорошо, — повторяет она слова Оксаны.
Я вижу, как бегут ручейки слез по морщинистым щекам матери.
Жалость к ней сжимает мне горло. Мне кажется, что мама с Оксаной собираются вырвать из когтей Кащея моего любимого Абрама. Но отец мешает. Я рисую себе ужасные картины, как они не успеют на «этап» и брат пропадет.
Ледяным потоком льются слова отца. Нет, отец не любит Абрама, не любит маму, не любит меня. Он никого не любит!
Эта мысль загорается во мне и выталкивает прямо к отцу. Единственное оружие — зубы. И я впиваюсь, как зверек, ему в руку. Через секунду, отброшенная, ударяюсь обо что-то головой.
— Змееныш! — кричит отец.
Мать старается унять мой рев.
— Они все растут каторжниками! На кого я работаю? Это же разбойники! — Он преувеличенно трясет рукой.
Я реву что есть силы…
…Яков Хромой живет рядом с нами, через небольшой пустырь. В землянке. Мы бегаем туда с сестрами, потому что это единственные окошечки, в которые я могу заглядывать. Они маленькие, слепые, врытые в землю. В отворенные сенцы видно, как сидит на черном низеньком стульчике Яков и стучит молоточком.
Дети сапожника — Ивась, Левко и Дуняша — наши однолетки.
Мы бегаем с ними наперегонки по пустырю.
Когда в дверь не видно согнутой фигуры сапожника, в пылу игры с криком и смехом мы иногда вваливаемся в сенцы. Но если он стучит — мы боимся. У него все лицо заросло бородой и нога из дерева. Как палка. Это вызывает любопытство и страх.
Он всегда молчит. Молча принимает от заказчиков обувь, цедит сквозь зубы: «Пора выбросить!», и тут же принимается за починку. Когда мы набиваемся в сени, он шипит: «Киш, киш, нечистая сила». Очень страшный этот Яков Хромой. И как не боится его тетя Дуня — сапожничиха? Она худая, жилистая, вечно с малышом на руках. Вот к какому человеку надо идти маме с Соней. Хочется и мне пойти с ними.
Яков при нашем появлении бросает безучастный взгляд, опускает голову и продолжает стучать. Во рту у него настоящие гвозди. Вот вам, пожалуйста! А на меня все кричат, стоит иголку взять в рот: «Не бери — проглотишь!» Пусть мама полюбуется — Яков же не проглатывает.
Мама долго, сбивчиво рассказывает Якову про сапоги, мнется. Протягивает рубль.
Яков молчит, стуча по пыльным подметкам, пока во рту не остается ни одного гвоздика. Тут я вдруг понимаю, почему он всегда молчит. Попробуй заговори с гвоздями во рту! Мы все стоим вокруг него полукругом, вместе с его детьми.
— Мало, — скосив глаза на рубль, наконец произносит он глухо, не поднимая головы. — На одни верха. А где я возьму подметки? Приклад?
В сени входит тетя Дуня с маленьким на сухощавых руках. Или у них не растут дети? Прямо не понимаю…
— Заходьте в хату, Бейля. А ты, Яков, чего же отказуешь? У людей несчастье.
— Зато у меня счастье, — ворчит сапожник.
И опять набивает рот гвоздями. Потом берет из рук мамы деньги.
— Ладно, оставьте… — цедит он сквозь гвоздики.
— Мы раздобудем денег еще, вы не сомневайтесь, — обещает Соня.
Мама и Соня возвращаются печальные, тихо и озабоченно переговариваются…
В хлопотах мама как бы забывает о гнетущем страхе за Абрама. Она занята приготовлением белья, одежды. И на все нужны деньги.
Вечером к нам приходит рабочий с Абрашиного завода — Кирилл. У него длинные чумацкие усы, падающие ниже щек. Он долго разворачивает тряпицу. Я, посасывая палец во рту, стою, готовая к приятной неожиданности. Наконец тряпица размотана, и Кирилл подает маме пару новых блестящих подметок, — словно отполированные дощечки.
— Ой, что вы, бог с вами! — говорит мама испуганно.
— Возьмите, Бейля. Это для Абрама…
И видя, что мама не решается даже прикоснуться к ним, сам вкладывает подметки в ее жилистые руки, прижатые к груди.
Мама несет подметки в приплюснутую халупу Якова.
Соня пытается остановить:
— Когда все достанем, снесем разом.
Мама непреклонна:
— Когда еще остальное купим? Отнесем пока что есть!
Но, к удивлению мамы, Яков заявляет:
— Ну, вот теперь все.
— Как все? — ошеломленно спрашивает мама.
— А так… Тут мне уже понаносили для этих сапог… Хватит.
— Кто?
— Люди, кто ж…
— Какие люди? — допытывается мама.
— Я знаю? — пожимает плечами хмурый Яков. — Приходят, пытают: «Тут для Абрама шьют сапоги?» Ну, говорю, тут…
Мама несколько секунд смотрит на Якова, силясь что-то осмыслить. Ее большие глаза блестят от выступивших в них слез.
Она делает над собой усилие и дрогнувшим голосом спрашивает:
— А за работу сколько ж? Так мы до сих пор и не знаем!
— Ладно… — еще суровее ворчит Яков. — Какие у вас деньги?
Только на улице слезы мамы прорываются горючим потоком. Обо мне она забыла. Я обгоняю маму, и лицо ее меня поражает: оно какое-то новое, посвежевшее — будто эти слезы смыли все ее страдания.
В последние дни с мамой происходит что-то непонятное… Похоже, будто вместе с горем ее наполняет еще и какая-то радость, и эта радость поднимает поникшую мамину голову, придает маме силу и уверенность, каких никогда не знала она раньше.
Мама начинает спокойно смотреть всем в глаза, свободно разговаривать даже с отцом. Куда-то исчезают ее обычная робость и угодливость…
Деньги на неделю, что приносит отец в пятницу, мама, не считая, молча сует в ящик. Отец пораженно смотрит на нее. Но сегодня этот взгляд никого не давит.
— Тебе, может, деньги не нужны? Или Абрам прислал со своих заработков?
— Денег он как раз не прислал, — смело отвечает мама. — Но что тебе, Янкель, сказать? У нашего Абрама столько друзей! А это больше, чем деньги. Дай им, господи, долгих лет! Все как родственники! Каждый хочет чем-нибудь помочь.
Отец задумчиво хмурится, молчит. Мать, заметив, что он слушает, продолжает:
— Ты посмотри, что делается. Встречаю сегодня Кирилла. Он такой же горемыка, как мы с тобой. И что, ты думаешь, он мне говорит? «Твоим сыном гордиться надо… Гордись, — говорит, — мать, Абрамом!» Сколько, по-твоему, Янкеле, стоят такие бриллиантовые слова?
И вот впервые я вижу, что отец не возражает матери, не ругается, а что-то смущенно бормочет.
То ли от слов, что сказала мама про любимого Абрама, то ли оттого, что не надо больше прятаться в корзину от отца, а может быть, и потому, что я впервые вижу мирный разговор родителей, меня охватывает непонятный восторг.
Мама стала совсем какая-то другая. Она несет в себе что-то праздничное…
Приходит время ехать для встречи этапа. В день отъезда всех поражает появление соседки Златы. Давненько она к нам не хаживала.
Злата приносит кошелку к маме на кухню.
— Вот вам, Бейля, пирожки для Абрама.
— Не надо, что мы, нищие? — спокойно отказывается мама.
— Разве у меня детей нет? Или мы двадцать лет не живем по соседству? Слава богу, знаем друг друга. И не убивайтесь так. Бог даст, вернется.
Худенькая фигура мамы тонет в мощных объятиях Златы.
Осталось несколько часов до отъезда. Я прошусь, чтоб мама взяла меня с собой. Как отпустить маму одну в такую нелегкую поездку? Я знаю, что будет так, как скажет Соня. И я пристаю к ней, чтоб уговорила маму.
— Пусть, правда, поедет, — говорит Соня. — И билета не надо, и Абрам будет рад.
И я еду! Еду на этап! Кто из сестер может сравниться со мной?
Сижу тихо. Что-нибудь нечаянно натворишь — и вернут назад.
Мы едем с мамой в поезде. В вагоне мне улыбается Оксана. Улыбается и сует сладкий рогалик в руку. Мы не одни. Много взрослых и детей едет с нами. Маленькая, белобрысая Танька, дочка кузнеца Тимохи, говорит: «Едем прощаться с батей…»
Все едут скучные, разговаривают меж собой вполголоса. Как можно быть скучными в таком прекрасном поезде! Такое катание! Теперь понятно, почему мне Соня сказала: «Я тебе завидую!» Еще бы!
В полдень мы вылезаем из вагона и с сумками, узлами, мешками подходим к перрону, откуда должен отправляться этап.
Ждем долго. Я почему-то утрачиваю радость, и сердце мое наполняется тоской.
Вот показался конвой, идущий впереди арестантов. Все испуганно спешат им навстречу.
Раздается злой окрик конвоира:
— Разойдись, разойдись!.. Не полагается!..
Идут арестанты. Одинаковые, оборванные, заросшие. Из-за пыли, поднимаемой ногами, ничего нельзя разглядеть. Мама болезненно охает и беспомощно цепляется за рукав Оксаны. Другая ее рука, за которую держусь я, дрожит.
— Оксаночка! — шепчет мама. — Я же не узнаю Абрамчика, и они пройдут.
Оксана, зорко вглядываясь в ряды арестантов, успокаивает маму.
Она поднимает меня над толпой. Я вижу серые, такие противные шапочки. И слышу непонятный звон. Что это звенит?..
Многие стоящие с нами рядом узнают своих родных. Бросаются в гущу серых шапочек, и оттуда слышатся плач и крики.
Когда меня опускают на землю, я наконец понимаю, что это звенит. Цепи! Они на ногах у арестованных. Они такие тяжелые! Зачем их надели?.. От этих мыслей меня отвлекает пронзительный мамин вскрик:
— Абрам!
Мама бросается вперед, тянет меня за собой.
Абрам! Худое, изможденное лицо и противная серая шапочка! Он поднимает меня на одной руке, другой прижимает к себе и гладит маму.
Мама снимает меня с его руки и подает Абраму мешок.
— Что это? Зачем? Вам и так трудно!
— Сынонька, люди помогли. Какие сапоги пошил тебе Яков! И не взял ни копейки. Сколько лет жила и не знала, какие люди…
— Вот и хорошо, мамочка! Держись людей. Они всегда помогут.
— Прочь, прочь! — кричит возле нас усатый конвоир, выкатывая красные, страшные глаза. — Не разрешается!
Оксана быстро и незаметно сует ему что-то в руку, жандарм перестает кричать и уходит.
Вдруг кругом поднимается шум, плач, голоса сливаются, так что уже не разобрать ни одного слова. Мама бросается на шею к Абраму. Он целует ее руки, что-то говорит, гладит по плечам, по голове, с которой сполз платок, и никак не может оторвать ее от себя…
Я плачу во весь голос.
Еще мгновение — и Абрама уже нет возле нас.
Топот множества ног, звон цепей, серые куртки, серые шинели — все это сливается во что-то одно, спутанное и неясное, и это серое плывет, плывет куда-то перед глазами под железный лязг и звон.
Потом пронзительные гудки паровоза, свистки конвоя, и все мы, вся толпа: женщины, дети, какой-то старик с белой непокрытой головой, бежим, спотыкаясь, за уходящим поездом.
Вот последний вагон, на нем красный фонарик…
Поезд набирает ход. Быстрее, быстрее, за ним уже нельзя поспеть. Уже далеко позади платформа, кругом поле, по-осеннему пустынное, холодное. А люди все бегут за красным огоньком.
Бежит мама, прихрамывая на одну ногу, и бегу за нею я. Задыхаюсь, падаю и волочусь, повисая у нее на руке…
Потом мы идем назад, медленно, устало. Мама молчит, она вся согнулась и все сильнее и сильнее прихрамывает на одну ногу…
С этого дня она так и осталась хромой до конца своей жизни.
Гарнитур
Мы целыми днями бегаем по пустырю. С самого раннего утра, как только сверкнет солнце, до поздней ночи на пустыре полным полно ребят. Вопят, катают ржавые колеса, укачивают тряпичных кукол, дерутся, дразнятся.
Когда зажигаются звезды и пустырь чернеет, нас с сестрами обычно зовут домой. Но сегодня мы гуляем допоздна. Нас не только не зовут, но даже рады, что мы не болтаемся под ногами. Завтра у нас будут гости. Лея собирается замуж за сына богачки Ривы Гордон. Риву Гордон называют «мадам Гордон». Почему — не знаю. Богатых зовут «мадам». Маму никто так не называет. А может быть, так называют толстых?
Соседка Злата, как всегда, задает маме вопросы:
— А почему не Соня выходит замуж, она же старшая?
От вопроса маму кидает в жар:
— Я сама не могу успокоиться. Не хочет замуж — хоть убей.
Голос мамы переходит в шепот:
— А чем был плохой жених шапочник Залман? И деньги водились, и Соня ему нравилась… — При этих словах лицо матери начинает светиться. — Еще бы, она такая красавица, свет не видал.
— Так чего же она сидит? Кого она ждет? Может быть, провизора или зубного врача? — кипятится Злата. — Так они тоже хотят приданое.
Мама обижается:
— Никого она не ждет. Она говорит, что думает о другом. С тех пор как забрали Абрама и она подружилась с Оксаной, Соня стала другим человеком. Но что с того? Счастья нет. Говорят: «Не родись красивою…»
Мама целый день волнуется, хромая больше обычного.
— Что с тобой? — спрашивает Соня.
Не глядя на Соню, она тревожно шепчет: «Мадам Гордон узнает, какие мы бедные».
Соня раздраженно отвечает:
— Это что — секрет? Пусть узнает! И что тебе хочется этих богатеев к нам в родню? Очень надо!
Лея носится с подарками жениха. То узкий серебряный ридикюль, то кольцо, то перчатки до локтей. Сколько разговоров! Сколько радости! Лея, задыхаясь от счастья, говорит маме, что жених купил гарнитур мягкой мебели.
Мама передает эту новость папе. Затем соседям. Вся наша улица взволнованно шумит.
Я понимаю, что произошло что-то очень значительное. Но что такое гарнитур?
Я сгораю от любопытства, но никак не могу выяснить.
Взрослые на нашей улице только и делают, что спрашивают друг у друга: «Какого цвета гарнитур? Уже привезли его домой?»
Соседка Злата не может ни одну минуту усидеть дома. Она все пристает к маме, хотя той некогда.
— Не могу понять, — говорит она, — как это Иосиф Гордон, такой богатый жених, один сын, получил согласие матери жениться на Лее. Я ничего не говорю. Упаси бог! Пусть тот добра не видит, кто завидует вашим детям. Но хотела бы знать, как это получается?
— Что здесь такого? — взрывается обидой мама. — Вы, упаси бог, еще не ослепли? Что, разве, по-вашему, Лея нехороша? Человек влюбился в нее. Он единственный мужчина в доме. И вы хотите, чтоб мать ему в чем-нибудь отказала?
Злата защищается, и снова кипятится мама.
А мне смешно. Ну как можно влюбиться в Лею? Обязательно толкнет, шлепнет, выгонит. И всегда кричит…
Так вот, завтра мадам Гордон и ее сын Иосиф придут к нам в гости.
Скоблят полы, сушат перекрашенные платья. Заглядываю в большую комнату, приготовленную для гостей. Что там творится! Висят красивые занавески, принесенные соседкой. Но больше всего прихожу в изумление от черного ящика с ручкой и большой трубой небесного цвета. Это граммофон. Лея покрутила ручку, и ящик запел дребезжащим человеческим голосом.
Но мама кричит, чтоб все ушли и прекратили музыку: «Чужая вещь, не надо без дела трогать».
Но я не хочу уходить и прячусь за дверь. Когда комната пустеет, я с взволнованным лицом припадаю к холоду таинственного ящика и с недоверием заглядываю в жерло голубой трубы.
Перед самым приходом гостей выясняется большая неприятность: меня и Гисю не во что обуть, и наши выкрашенные платья не высохли. Нас отправляют к Златиным детям.
Я в глубоких маминых галошах на босую ногу перехожу липкий от осенней слякоти дворик. Я не сильно огорчаюсь. Со Златиными детьми тоже неплохо поиграть. Мальчик Лейбеле старше меня, девочка Алта — младше.
Лейбеле и Алте никто не рассказывал прекрасных сказок, которые я давно представляю в лицах.
Снимаю тулуп с гвоздя, выворачиваю его наизнанку и надеваю на Лейбеле. Он волк и ползает на четвереньках. Маленькая Алта не понимает и плачет. Я поднимаю тулуп и показываю, что это Лейбеле. Алта смеется, но снова ползет к ней Лейбеле — и снова плачет Алта. Я — Красная Шапочка. Мне бы во что-нибудь красивое одеться. А у Златы ничего нет. Я бегу домой. Через темный двор проскальзываю в переднюю. На вешалке много вещей. Вдруг в переднюю выходит мадам Гордон. Широкое лицо, рыжий парик. Платье шуршит. С ней — наша квартирная хозяйка, которую мама пригласила, чтоб показать — вот какие у нас гости.
Высокая ростом хозяйка подобострастно наклоняется:
— Вам нехорошо стало, мадам Гордон?
— Сердце щемит, — отвечает, сильно картавя, мадам и печальным шепотом добавляет: — Никто не видит, когда давит мозоль.
А я стою в темноте, под одеждой. Вот как? У мадам Гордон есть мозоль!
Из комнаты выглядывает обеспокоенная мама: что с мадам Гордон?
Вскоре все уходят и я остаюсь одна. Я подскакиваю к вешалке и что-то тяну. Прямо на меня скользит платок. В полутемной передней он мелькает радугой. И я радостно хватаю его.
И снова перед моей публикой, закутанная в яркое, скользкое чудо, представляю поочередно то Золушку, то Царевну-Лягушку. Дети Златы тоже хотят хоть на немного надеть платок и побыть Красной Шапочкой. Слыханное ли дело? Но все же я укрываю всех, и мы сидим, пока над нами не раздается страшный вопль Златы.
— Я так и знала! Бедная Бейля! Как жить с такой разбойницей?
У нас в доме все вверх дном. В середине большой комнаты мадам Гордон, держась обеими руками за голову, закатывает глаза: «Злыдни, воры! Куда я попала!» Возле нее мама, с несчастным видом протягивает ей платок. Руки у нее трясутся.
Увидев меня, Лея бросается мне навстречу:
— Ей-богу, я убью ее!
Но Иосиф, сын богачки Гордон, спасает мне жизнь: он перехватывает Лею на бегу, отводит ее в сторону.
— Извините, что недоглядела, — говорит мама.
— Вы нас извините, — говорит Иосиф, — что из-за такой чепухи подняли переполох. Ребенок поигрался, что ей за это следует? — И он гневно взглянул на мать. — Был малышом, во что только не рядился. Мама, ты разве забыла?
Уже свадьба Леи прошла, а я до сих пор не знаю, что такое гарнитур.
— Ну, побеги, посмотри. И навестишь Лею! Надо же хоть раз тебе посмотреть, — говорит мама.
Она причесывает мои непокорные волосы, надевает на меня немного длинноватое платье, жакетку со старших и совсем целые ботинки.
— Нечего ей там делать, — вмешивается Соня. — Пусть не ходит.
— Почему это не ходит? Никто ее там не обидит.
— Не потому. Рива — богачка и на нас, знаешь, как смотрит?
Но я все-таки иду. Вот каменный дом. В открытую калитку я вижу двор, обсаженный деревьями и нарядную, как кружево, террасу. Я заранее улыбаюсь во весь рот. Сейчас меня увидит Лея и скажет: «А, гостья!..»
Я вхожу во двор.
— Я так и знала, что теперь житья не будет от этих голодранцев, — встречает меня резкий голос мадам Гордон. — А ну, марш отсюда!
И я очутилась на улице. Лея догоняет:
— Что тебе? Зачем ты пришла? Возьми маковку.
— Подавись ты своей маковкой, — на всю улицу кричу я с громким плачем.
Дома меня ни о чем не спрашивают. Меня не замечают. Все заняты крупным разговором. Слышится голос отца:
— Для меня ясно, его надо в гимназию. С такой головой бросать учение!
Я понимаю, что он говорит о брате Хаиме. Мне интересно, и я с любопытством придвигаюсь к разговаривающим.
Соня отвечает что-то несуразное:
— Он может провалиться на экзамене. Сильно хромает по грамматике.
Что она говорит? Никогда не видела, чтоб Хаим хромал!
— Как это хромает? — не верит папа тоже. — А ну, где он? Хаим, Хаим!
Хаим появляется худой, взъерошенный. Он пружинисто подходит к отцу. Я внимательно слежу за каждым его шагом. Какая-то чепуха! Сейчас Соня сама увидит. Но она даже не смотрит.
Разговаривает Хаим ломким баском на чистом русском языке.
— А-а, это ерунда! У меня всегда неприятности с твердым и мягким знаками. Поэтому тройка. Но дело не в этом…
Отец перебивает его:
— Тебе что, не все равно? Поставь мягко, где они хотят, к чему это упрямство?
Хаим улыбается.
— Ты не понимаешь, папа. Если я даже выдержу экзамен, то могу не попасть. Процентная норма!
Отец смотрит на маму.
— Слыхала? Что значит проценты? Для чего они, к чему они и кто их боится? Пойдем вечером к господину Иоффе. Такой богач поможет. Когда я у них работал, меня кормили так, что я чуть не лопнул.
— Он же еврей, — робко возражает мама. — Так чем он может помочь?
— Но ведь такой богач. Столько мельниц, табачная фабрика, магазин. Он дает деньги на гимназию, и все у него в кулаке. Деревянко ходит к нему в гости, как к тебе Злата.
— У него дети говорят не по-нашему. Захочет ли он еще с тобой говорить?
— Что ты такое выдумываешь? Знаешь хорошо, что кантор в период новолуния провозглашает в синагоге: «Все евреи — братья». Небось господин Иоффе тоже знает об этом. И он со мной всегда разговаривает по-дружески.
Мама радостно соглашается:
— Дай-то бог! Пусть хоть одному легче живется.
Мы идем к господину Иоффе. Конечно, меня бы не взяли на такое важное свидание, но упросила мама:
— Пусть пройдется. Ее и так обидели сегодня.
И вот я иду с отцом и Хаимом к господину Иоффе. К тому, у которого мельницы, табачные фабрики и магазины.
Впереди отец. Он идет согнувшись, рукой придерживает концы поднятого воротника. Осенний промозглый вечер. Под ногами палые листья с грустным запахом.
Я вспоминаю, что знаю резную ограду, где живет этот господин. Порывистый ветер старается меня раздеть. Я жмусь к Хаиму. Подходим к ажурной ограде. Из освещенных окон слышится музыка. Совсем не такая, как из голубой трубы граммофона. Эта музыка — из отдельных звучных капель: кап… кап… кап… Капли то тихо позванивают, то протяжно поют. У парадного крыльца множество экипажей.
— Экипаж Деревянко, я так и знал, — говорит отец.
Как только входим в ограду, у отца исчезает легкость, с которой он шел.
Отец стучится у входа. Долго что-то объясняет швейцару. Его впускают в переднюю. Дверь за ним закрывается.
Я оставляю Хаима и взбираюсь на какой-то выступ в стене. С острым любопытством заглядываю в окно. За стеклом бурлит светлый радостный мир.
Барышня в белом сидит возле большого светло-коричневого ящика, ее пальцы летают по белым и черным косточкам. Как это просто и как чудесно. Откуда она знает, по каким косточкам летать?
Все в ярких, красивых платьях, и все кружатся, обнявшись. Тут и военные. Я смотрю на бархат, сверкающие украшения, слышу музыку, смех. Мне кажется, что в том мире за окном — чудесные добрые люди, круглый год им тепло и весело. Там нет зла, нет болезней, нет смертей. Я возвращаюсь к дверям.
Хаим прижался к щели в двери и шепчет:
— Папа, пойдем. В другой раз. Сейчас не время. — Он почему-то дрожит.
Потом, неожиданно для меня, он открывает дверь и входит в дом. И я вижу ярко освещенную комнату с цветными стенами. Сколько зеркал! И шелк висит с самого верха!
Отец стоит спиной близко к дверям. Меня удивляет его согбенная спина и совершенно белая голова. Кепка у него в руках. Против него стоит красивый господин с белоснежной грудью. У него странные очки. Только на одном глазу.
— Господин Иоффе не может к вам выйти. У него такие гости… Даже губернатор. Он мне поручил узнать.
Отец спиной двигается в дверь.
— Простите… В другой раз.
— Зачем же вам еще раз приходить? Говорите, что случилось?
Отец что-то объясняет. В переднюю выходят все новые нарядные люди и слушают, пересмеиваются.
— А зачем вашему сыну гимназия, хотел бы я знать?
За его спиной кто-то говорит:
— Не знаете, зачем? Чтоб плодить образованных бунтовщиков. Уже у него один сын…
Я вижу в зеркале, как отец поднимает глаза.
В сетке морщин — затравленный взгляд.
С появлением Хаима говор и смех усиливаются.
— Вот этого в гимназию? С таким-то носом? — кричит невысокий, краснолицый человек в военном мундире, с усами.
На него кто-то шикает. И взрыв смеха.
Жалость к отцу, брату пронзает мне сердце. Я не могу этого перенести. Не хочу этого слышать.
Я бегу к окну. Эти добрые люди должны заступиться, они не потерпят зла. Они не могут не заступиться. Но что это? Никто не играет. Никто не танцует. Все, кто был в зале, стоят полукругом перед дверью в переднюю, в бархате, белоснежных манишках, сверкающих мундирах, и смеются над моим отцом и братом.
Празднично-светлый мир добрых людей в ярко освещенном окне — обманувшая меня сказка.
Я стремительно прыгаю с выступа, хватаю твердые комья земли и бросаю в ярко освещенное окно. Вот вам! Еще… Еще… Еще… Вот вам!!!
У нас в доме застаем Лею. Я сразу узнаю, что она у нас. На столе горшочек с маслом, кулек с пшеном. Ясно, она принесла.
Мама вглядывается в наши лица, суетливо помогает нам снять влажные вещи и бежит к печке вынуть чайник. Она наливает нам чай и старается уединиться с Леей. Пусть! Я от Леи отворачиваюсь. Мне противны ее подарки, противно даже смотреть на нее.
Но через открытую в кухню дверь я вижу, что Лея порывисто прижимается к маминой груди и плачет. «Вот так день! — думаю я и даже перестаю есть. — Хорошенькое дело — плачет! Все у нее есть, наверное, на меня так сильно обиделась. И маме жалуется. Ябеда! Она всегда была вредной».
А в это время отец думает вслух:
— Я работал у всех этих богачей. И как я работал! За гроши. А они, оказывается, меня, старого Янкеля, никогда за человека не считали. А я за них богу молился…
Но тут он замечает Лею и маму в слезах. Он перестает говорить, и мы прислушиваемся, что делается в кухне. Голос Леи сквозь слезы:
— Что б я ни купила, свекровь кричит: «У меня установленная цена!» А если дело перед пасхой — где достанешь по ее цене? Придешь домой, все подсчитает, каждую копейку, и начинает: «Тебе легко пришлось, не наживала». А то кричит: «По миру нас пустишь!»
И Лея заливается плачем.
Ну не удивительно? И гарнитур есть, а слезы… Хуже маленькой… Верно, капризы. Сейчас ей папа задаст такого, что сразу успокоится. Как он умеет!
Я жду, что он скажет. Но папа молчит, задумывается еще горестней, еще серьезней. И весь вечер не открывает молитвенника.
Цадик
Мама ждет почтальона. Она часами простаивает у калитки, с тоской и надеждой поглядывая на дорогу. Едут подводы, идут люди. Все не то.
И возвращается в дом. Но вскоре опять бежит на улицу.
Наконец показывается сутулая фигура дяди Васи — нашего местечкового почтальона. Еще издали, завидев маму, он делает рукой один и тот же отрицательный знак.
В глазах у мамы мольба:
— Посмотрите хорошенько. Столько писем, не легко сразу найти.
— Нету, Бейля. Скоро обязательно будет.
Всех знает дядя Вася. И мы с мамой понуро бредем в дом. Теперь она будет сидеть, уронив голову на руки. А вечером, прибежав домой, я увижу ее воспаленные, красные глаза…
Но сегодня необычайное событие.
Появляется соседка Злата, сияя от обилия интересных новостей.
— Теперь вы успокоитесь. Конец мучениям, ожиданиям, гаданиям. Приехал цадик
[1]. Всем цадикам — цадик. Из самого Екатеринослава.
Мама начинает слушать. В глазах надежда.
— Все идут. Встретила бездетную Ентеле. Она уже у цадика. Забежала к Голде. Не ладится у них с мужем. Отец Голды требует, чтоб они тоже немедленно шли к цадику. И я собираюсь. Надо знать, как дальше жить на белом свете. Да что я? Все местечко! Одна вы ничего не знаете. А куда бедняку податься? Кто объяснит, поможет?
И мы отправляемся к цадику.
У дома нас встречает многоголосый приглушенный гул. Люди стоят и сидят группами. На крылечке и так, на корточках. Мы вполголоса здороваемся. Вначале мне кажется, что все говорят и никто не слушает. Шум то поднимается, то спадает.
Рядом с нами — Нехама, высохшая, невысокая женщина в темном, надвинутом на глаза платке. Нехама говорит, не поднимая припухших век. Она как бы смотрит на кончик носа.
— А что я могу сделать? Такой цветок, моя Сорела, полюбила гоя
[2]! Что скажет цадик? Только бог может отвести мою беду.
В разговор ввязывается Злата.
— Что значит цадик! Вы сами повинны, что такое допустили. Если б моя дочь подружила с гоем, сама не знаю, что бы я сделала!
Нехама поднимает глаза и говорит тихим усталым голосом.
— Теперешние дети… Спросите у Бейли, слушают они нас? Если ее сын захотел на каторгу, так могла она его удержать? Говорят, он такое говорил на суде, как будто он сам судья. Такие теперь дети… — Она опять опускает веки и горестно причитает: — Сореле, ой, что ты натворила, Сореле!
Мама молчит.
Кузнец Меер, плечистый, с заросшим до самых глаз лицом, вышел от цадика. Его сразу же обступают.
— И смех, и горе, — рассказывает кузнец. — Перековал лошадь в субботу. Как мог оставить бедную тварь без помощи? Засеклась на задние ноги. Цадик велел пожертвовать на синагогу три рубля. Подумать — три рубля. Я ему говорю: перековать — грех, а видеть беду лошади — не грех? И что, вы думаете, он мне отвечает? Ты, говорит, темный человек. Если б ты учил святые книги, то знал бы, что надо было от кузницы к дому поставить два столба с проволочной перекладиной. Иди, знай. А теперь три рубля.
В это время к Нехаме подходит богач Фроим. Его черная бородка на полном выбритом лице как бы приклеена.
— Мало вашей дочке еврейских парней? Ей нужен гой!
У Нехамы начинает мелко дрожать подбородок.
— Так что, что гой? — вмешивается кузнец. — Люди любят друг друга! Что вы лезете, что вы понимаете в любви? Если они жить не могут друг без друга.
— Не могут — пусть не живут, такой
позор!
Я замечаю, как мама порывается что-то сказать. Зажгутся глаза, шевельнутся губы, но она молчит.
Наконец я слышу ее взволнованный голос.
— Реб Фроим, чтоб я так жила, вы не правы. На Нехаму не надо кричать.
Фроим узкими щелочками глаз презрительно взглядывает на маму и отворачивается. Злата вскипает.
— Вы хотите, Бейля, чтоб реб Фроим с нами разговаривал? Он — настоящий хозяин. А мы кто? Голытьба!
Но Фроим вдруг яростно кричит:
— Вы святое имя Иеговы забыли и дохнете в нищете!
Его лицо пламенеет. Изо рта брызжет слюна. Нас окружает толпа. Мама, не глядя на Фрейма, выпрямляется и говорит, обращаясь ко всем:
— Люди добрые! Что значит гои? Что вы знаете обо всем этом? Я тоже так думала… А теперь… Столько счастливых лет моим детям, сколько я видела среди них хороших людей.
И задумчиво, как будто сама с собой, она продолжает:
— Когда мне было плохо, не реб Фроим помог, а простые гои. И вот что я вам еще скажу: чем человек беднее, тем он больше старается помочь…
Мама еще не закончила самой длинной в своей жизни речи, как ее снова перебивает Фроим:
— Слышите, что она говорит? Когда ей было плохо. А теперь ей уже хорошо! Вырастила такого сына, что недостойна еврейкой быть. Он всех евреев опозорил.
— Не трогайте моего сына!
И мамино лицо от гнева покрывается пятнами. Я чувствую — быть большой ссоре. Но в это время скрипит дверь и появляется полная сияющая женщина в цветном шарфе на голове.
Это Ентеле. Она увлекает женщин в сторону.
— Вот это цадик! У меня как гора с плеч.
И, понизив голос, с таинственностью в лице рассказывает:
— Простое дело. Велел купить освещенный лимон и откусить верхушку. И будет ребенок. Ну, надо было так мучиться столько лет, я вас спрашиваю?
Я слушаю и завидую Ентеле. Как, должно быть, это приятно и вкусно! К нам в осенние праздники приносили из синагоги «пальмовую» ветвь с лимоном. Это золотое душистое чудо из райского сада! И долго после того в комнате плыл лесной аромат.
Слышится женский вопль.
От цадика выходит многодетная красильщица Двойра. Воздев руки к небу, она рыдает и падает на колени. Ее никто ни о чем не спрашивает. Все знают, что у нее умирает сын от чахотки и недавно заболела дочь. Обессиленная Двойра постепенно затихает и тяжело всхлипывает, как ребенок.
— Цадик велел сыну менять имя, чтоб его не узнал ангел смерти, — произносит она еле слышным голосом. — А доктор говорит, что у нас в комнате пахнет кислотой и краской. Детям нечем дышать. Теперь Роза заболела. Цадик говорит: «Так богу угодно». Зачем ему болезнь моей дочери? Он же бог, а не злодей. У девочки золотое сердце. Ицхок мучается, что все его сторонятся: кому болеть хочется? Так что вы думаете? Роза ела с ним из одной тарелки…
Мне жаль Двойру. У меня сжимается сердце. Я не могу смотреть, как она трепещет, поверженная на землю страшной бедой.
Женщины тихо плачут. Мужчины тяжело молчат.
Тогда кузнец обнажает свою черную кудлатую голову, посыпанную редкой сединой, как солью. Он будто постарел на глазах.
С перевернутой шапкой он подходит к каждому и вполголоса говорит:
— Дайте для больных детей Двойры. Меньше останется цадику. То ли он поможет, то ли нет, а тут еще можно помочь…
Мама тоже развязывает платочек.
Пейся — лавочница — долго роется в кармане и, оттопырив его пальцами, вытягивает две копейки. Кузнец и две копейки берет. Он идет дальше и шепотом, чтоб не услышала Двойра, обращается к другим.
Отдать деньги поручают маме.
— Идемте, Двойра, я вас провожу. Мне еще не скоро.
Возле нас останавливается Голда — тряпичница. Муж ее ездит на возке и кричит: «Меняю, меняю!» В сундучке у него много красивых бус, зеркал, пуговиц. Он их дает за тряпки. А сын у Голды на войне стал унтер-офицером. Единственный случай в еврейской семье нашего города. И поэтому Голда важничает. Говорит она, поджав губы:
— У каждого — свое. Война! Нет писем от Береле. Он — не то что простой солдат. Унтер-офицер.
— На войне никому не сладко, — говорит для поддержания разговора мама.
— Вам таки лучше, Бейля. Ваш все же не на войне.
— Моим врагам такого лучше.
— Сравнили, — сердится Голда. — Береле четыре раза ранен. Имеет Георгия, унтер-офицер. Воюет, командует… Но мне все это — тьфу! Лишь бы живой вернулся. А у вас что? Извините, Бейля, не в обиду будь сказано, но это даже сравнить нельзя.
Мама почему-то не обижается. Она с превосходством смотрит на Голду и ласково соглашается:
— Это верно. Сравнить нельзя. — И отходит от нее.
Ждут выхода Фроима. Всем интересно, что у богача. Почему он так долго у цадика?
Наконец Фроим появляется. В черном шелковом картузе он важно спускается с крыльца.
— Какой болячки ему не хватает? — спрашивает кузнец у служки.
— Сон приснился — пришел растолковать.
— Я так и знал. У богачей нет грехов: они всегда от бога откупятся.
Подходит наша очередь идти к цадику.
По узкой мягкой, как вата, дорожке мы входим в полуосвещенную комнату. Высокий старик с седой бородой в шелковом халате сидит над большой толстой книгой и что-то бормочет.
Он поднимается и знаком подзывает к себе маму. Она робко делает несколько шагов. Цадик с неожиданностью, от которой я вздрагиваю, вскидывает руки над головой мамы и кричит глухим, хриплым голосом:
— У тебя много детей, одиннадцать!
— Правда, ребе, правда, — шепчет мама.
— Я вижу твой дом: два окошка на восток, два на запад.
Мать утвердительно кивает головой. Я смотрю цадику в лицо: «Где же это он видит наш дом?»
Его неподвижный взгляд направлен на разрисованный потолок. Цадик, не опуская рук и раскачиваясь всем телом, выкрикивает молитву дребезжащим голосом. Будто удары по железному листу. Верно, тяжело держать руки так долго. Надо попробовать. Я поднимаю руки и пытаюсь также раскачиваться. Мама больно дергает меня за волосы. Я останавливаюсь, но рук не опускаю. Цадик с обезьяньей быстротой оборачивается к маме.
— Правильно дочку замуж отдала. Как бог велит. А другие дети…
Снова воздев руки к небу, он что-то быстро кричит. У меня ползут мурашки по телу. Долго говорит цадик с богом. Наконец, с воплем он тяжело плюхается на стул. Спустя немного, он поднимается и снова трясет руками над головой матери:
— Гремят кандалы на ногах твоего сына. Он против бога и царя. Крамольника поразил гнев божий и месть его! Пусть несет заслуженную кару!
Волнами ходит шелковый халат, и ходуном ходит борода цадика.
Мама решительно надвигает платок на лоб и направляется к двери.
Цадик еще что-то визжит маме вслед. Но на самой высокой ноте я прерываю его:
— А лимон надо откусывать?
Дома Соня успокаивает маму:
— Ничего он не знает, неужели ты не поняла? Ему о каждом служка рассказывает до того, как ты входишь. Жаль, что деньги ему носите.
Мама спохватывается:
— Я забыла ему деньги отдать.
Видно, что ей это досадно. Затем она рассказывает о лимоне.
Все смеются.
Пожар
У нас есть маленькие щенки. Такие пузатенькие собачьи дети. Я и Гися держим под крыльцом пару щенков. Один — рыженький с белым пятнышком на голове, а другой — сплошь черненький. Одного мы называет Рыжиком, а другого Чернышом.
Рыжик все время жалобно визжит. Не потому, что он голодный. Полное блюдце супа вылакает и все равно плачет. У Рыжика болит животик. А как его лечить, когда под крыльцом темно? Даже не видно, кто плачет — Рыжик или Черныш.
Хорошо еще, что у нас есть спички и тоненькие сухие щепки. Когда щепки разгораются и делается светло, мы прикладываем Рыжику компресс из мокрой тряпки и бумаги. Рыжик не понимает пользы и еще громче плачет.
Чтоб не обжечься о наш костер, Рыжик и Черныш заползают в дальний угол.
Сразу видно, какие умные собачки.
Если б не сестра Соня, мы бы вырастили настоящих овчарок, как у пана Деревянко.
Она нас выгнала вместе со щенками из-под крыльца. Залила водой наш огонек и еще шлепков понадавала.
— Пожар устроите! — кричит она.
Как будто мы не знаем, что толстые бревна не горят. Горят тоненькие щепочки.
Все взрослые почему-то боятся огня. А дети — нет.
Мама прячет спички от нас. А у нас есть свой коробок, и мы прячем за папиной фотографией от нее.
Вскоре случается настоящий пожар, и совсем не по нашей вине.
Дни стоят жаркие, сухие.
В один из вечеров собирается гроза. Флигель стонет от ветра и дрожит от грома.
Чтоб не было страшно, я спрашиваю у мамы:
— Кто это гремит?
— Илья Пророк стрелы бросает.
Темнота за окном делается густой и плотной. Вдруг оконные переплеты озаряются какими-то зловещими трепетно-багровыми отблесками.
Что-то близкое затрещало.
— Пожар, пожар! — крикнула мама.
Мы выбежали на улицу. Только даром промокли. Наш дом не горел. От молнии загорелся дом раввина на нашей улице.
Все старшие убежали тушить пожар. Мама осталась дома, чтоб дети не испугались.
Прибегает Соня:
— Цадик говорит, что такой огонь послан богом и тушить можно только кислым молоком. Смех, ей-богу! Тащат молоко со всех сторон.
От Сони пахнет гарью.
— Молоком? Кислым? Кто б мог подумать! — поражается мама. — А чего ты смеешься? Кому же знать, как не цадику, как тушить такой огонь. Да он и сам живет в этом доме. Спасут. Бог не допустит…
Соня уже не смеется. Она сурово говорит:
— Идиотская выдумка! Водой еще можно бы залить, а то кислым молоком… Нет, чтоб известить слободу. У них пожарные бочки, снаряжение.
Она снова убегает.
Треск пылающих бревен приближается. Нарастает гул пожара.
Стук в дверь.
— Есть у вас кислое молоко?
— Бог с вами, откуда?
Через несколько минут снова стук.
— Кислое молоко есть?
И еще несколько раз слышался крик: «Кислое молоко! Несите скорее кислое молоко!»
Пожар надвигается.
Мама начинает складывать вещи в простыню и завязывать узлы.
Пожар настолько близко, что по нашему полу струятся желтые пятна.
Вваливается задыхающаяся от быстрого бега Злата. Лицо ее черно от копоти, волосы выбились из-под платка.
— Куда вы собрались? Вижу, вы ничего не знаете. Теперь, слава всевышнему, конец огню. Раввин открыл амвон, и цадик свитком святой торы преградил дорогу пожару. Только посмотреть — душа переворачивается. Стоит на крыше и протягивает к огню свиток. Вы бы послушали, как он взывает к богу. Старики плачут, глядя на него, как малые дети.
Вбегает Геня еще с какой-то девушкой.
— Мы за ведрами. Соня послала. Слободские рабочие привезли бочку, пожарную кишку и взялись за дело как следует. А Соня поставила всех цепочкой, чтоб из реки подавали ведрами воду.
Злата кипятится:
— Ну и дуры! Безбожники! И Соня ваша дура. Это же против божеских законов и святых обычаев.
— Какие обычаи, тетя Злата! Дом раввина сгорел, огонь перебросился дальше…
Мы выходим на улицу, выносим узлы. Я несу деревянное корыто.
И сразу обмираю от страха. Яркая игра огня ослепляет меня. По стенам горящего дома вьются красные ленты. Сквозь огонь и облако дыма видны белые молочные пятна. Пламя воет и трещит. Оглушающие крики людей: «Рубите крышу!», «Сюда несите воду!», «Несите лестницу!», «Скорее, скорее!»
Рядом стоит группа мужчин и смотрит вверх. Появляется кузнец Меер. Лицо у него освещено огнем и кажется бронзовым. На голове блестит что-то железное. Он обращается к группе людей, стоящих без движения:
— Как вы можете стоять? Куда вы смотрите? Что вы там не видели? Берите ведра. Слободские выбиваются из сил, а вы…
Передние делают движение. Но внутри группы кто-то кричит:
— Не смейте! Кого вы слушаете? Безбожника…
Снова они смотрят вверх. Меер тоже поднимает голову. Там пламя рвется со всех сторон и хорошо освещает завалившуюся наполовину крышу. На другой половине стоит цадик и протягивает обе руки со свитком к красному небу, что-то выкрикивает.
Кто-то говорит: «Божье веление».
Кузнец кричит цадику:
— Ребе, сходите скорей! Сейчас рухнет крыша.
Подбегает Соня.
— Надо прекратить это представление, — говорит она кузнецу. — Смешно и стыдно!
Кузнец показывает на группу людей, которые стоят, смотрят на цадика и не двигаются с места.
Соня подходит к ним.
Кузнец еще что-то крикнул вверх, и я вижу, как цадик подходит к краю и начинает одной ногой нащупывать верхнюю перекладину лестницы. Затем снова убирает ногу на крышу.
— Подумать только — цадик боится, — говорит кузнец. — Нянчись с ним в такую минуту!
Он решительно поднимается по лестнице, хватает цадика вместе со свитком своими крепкими руками и, держа одной рукой на весу, спускается вниз. Слышны смех, шутки.
Группа людей, стоявшая до сих пор неподвижно, бросается к ведрам.
Борьба с огнем продолжается. Зарево постепенно блекнет. Мы возвращаемся в дом. За окном медленно ложится темнота.
Поздно ночью приходит усталая Соня и приносит огромную бутыль кислого молока.
— Подобрала на пожарище, — говорит она. — Буди ребят, поужинаем.
Мои сны
Осенью я пойду в школу. Мне уже шьют пальто из папиного пиджака. Пальто на вате. Старую шапку Хаима мне переделывают на воротник. Одно плохо: приходится часто мерить. Соня надевает на меня простроченную вату, потом верх и с силой одергивает полы. Я с трудом удерживаюсь на ногах. Мне жарко, пот струится по лицу, шее. Приметывают рукава. Они тоже на вате. И опять встряхивают пальто со всех сторон, поднимают мне руки, пробуют под руками. Кроме жары, меня одолевает множество вопросов. Но ничего нельзя мне сказать, так как в зубах зажат кусок материи, «чтоб не зашить память». Мама отступает, оглядывает меня со всех сторон, любуется новым пальто:
— Не хуже, чем у богачей. Чтоб я так жила!
Часто во время примерки заходит соседка Злата. Прямо от двери она направляется ко мне.
— Подумать только! Такое пальто! Благодарение богу, она пойдет в школу, как графиня.
И снова вертят меня, показывают Злате подкладку, хлястик, карманы.
Наконец я вырываюсь и радостно бегу на улицу. Шлепаю босыми ногами по мягкой теплой пыли…
<пропущена страница 48>
…золоченых каретах. Потому как платья у них дюже тяжелые. Из золота и каменьев.
Я еще не все спросила, но Левко заявляет решительно:
— Ухожу на войну.
— Как это? — недоумеваю я.
— А так, соберу патроны и поеду. У бати был раненый солдат и говорил, что на войне мало патронов. У меня уже два есть.
— А сколько надо?
— Много. Буду просить у солдат. Ты тоже проси. Вместе можем пойти. Работы хватит. Раны перевязывать. Бинты докторам подавать.
Я не хочу идти на войну. Боюсь, где раны. И я спрашиваю о другом.
— Ты в школу пойдешь?
— Не. Некому за детьми ходить. Дуняшка хворает. Да чеботы шить учусь.
Мы играем в школу. Левко палочкой пишет на песке буквы. Я повторяю за ним нараспев:
— Аз, буки, веди, глаголь.
А когда я пишу еврейские буквы, он тянет за мной:
— Алеф, бейе, гимл…
Я хожу в школу. Хвастаюсь, показываю Левко мою тетрадь. Он поворачивает ее во все стороны, разглядывает огромные странные знаки еврейских букв. Затем, недоверчиво усмехаясь, говорит:
— Ничего не поймешь. Что к чему.
Наша учительница мадам Фиш так сильно стучит пальцем по столу и кричит «тише», что после уроков я с радостью вырываюсь из школы и бегу домой что есть силы. Все в учительнице мне кажется непомерно длинным: и шея, и черное платье, и шнурок от часов. Девочки ее зовут «мадам Тише». Она заставляет зубрить длинные абзацы древних молитв и бьет по пальцам линейкой.
Дорожка в школу идет по льду через реку. Затем тропка взбирается на отлогую гору, с которой так хорошо вихрем нестись на санках.
Санок у меня нет. А моя ледяшка разве хуже санок? Я и Левко знаем, как сделать хорошую ледяшку — «кружелю». Мы наливаем в бочку воды, и после морозной ночи ледяшка готова. Перевернуть только бочку вверх дном. И выкатится плоский стеклянный круг. Надо еще горячим гвоздем проткнуть дырку для веревки. И — скорей на гору. Можно садиться и вдвоем. У одного ноги в одну сторону, а у другого — в другую. Кружеля несется вниз и кружится. Кружится и несется. Дух захватывает. Вот это езда! Санки по сравнению с ледяшкой ничего не стоят.
Когда иду на улицу, мама приказывает:
— Береги новое пальто.
А если на всем ходу кружеля переворачивается и катиться неизвестно на чем?
А река! После ветра — сплошной каток. Снег сметен. Лед — зеркало. Если хорошо разбежаться, можно на одних ботинках прокатиться, не хуже, чем на коньках.
Как-то под вечер, возвращаясь из школы, я, по обыкновению, катаюсь на реке. Но вдруг до меня доносится чей-то голос. Я прислушиваюсь и совсем ясно разбираю хриплый крик:
— Спасите, спасите…
Я пугаюсь и бегу к берегу.
— Девочка! Сюда! — доносится до меня.
Я вернулась, но на реке никого не разглядела. Снова крик. Теперь я вижу, что на льду раскачивается голова в платке.
— Скорей, скорей! — зовет меня голос.
Я подбегаю ближе и понимаю, что женщина провалилась. Цепляясь руками за лед, она пытается удержаться. Она повертывает ко мне голову, и я вижу темное, как бы слепое лицо.
— Скорей протяни что-нибудь. Не подходи близко… Ой, не удержусь!
Я срываю с себя платок. Не достает. Тогда я снимаю пальто, бросаю ей и тяну за воротник со всей силой… И в ту же минуту чувствую, что я скольжу к женщине. То ли от страха очутиться в ледяной воде, то ли оттого, что слышу треск разрывающегося пальто, я страшно кричу. Кричу и, упираясь ногами, падаю. Лежа на льду, продолжаю кричать даже тогда, когда вижу наклонившееся надо мной лицо женщины, которая выбралась из воды.
Дрожа от холода, я хватаю порванное пальто и бегу домой. Что-то вслед мне кричит женщина, но я не слушаю.
Мама испуганно ахает:
— Опять дралась с мальчишками! Что сделала с таким пальто! Растешь босячкой!
Я так трясусь, что меня укладывают на печку. Веки тяжелые, глаза слепит жар. Низко надо мной висит потолок. Тени разбегаются от лампы. Ее отблеск я вижу в крошечном окне.
— Горит как в огне. — Это обо мне.
А мне хорошо. Никто меня не ругает. Только мучает лекарственный запах. Все время чем-то вытирают. Дышать тяжело.
Мне чудятся сны. Как будто осторожный стук в окно. Звук открываемой двери. Шепот. Голос Абрама:
— Бежал, разбуди только Соню.
Всхлипывания мамы. Опять милый знакомый голос Абрама:
— Скоро вернусь совсем. Такие теперь дела.
В сознании застревает слово «бежал». И я бессознательно шепчу: «Бежал, бежал».
Тревожный голос мамы:
— Ты не спишь?
Но я снова в забытье. Просыпаюсь поздно. Луч зимнего солнца уже на стене. Силюсь вспомнить ночные видения:
— Мама, ночью кто-нибудь приходил?
Мама устало отвечает:
— Нет, доченька! Это тебе опять что-нибудь привиделось в жару.
Но вот открывается дверь, и в клубах пара кто-то входит с улицы. Я ее сразу узнаю, тонувшую женщину. И пугаюсь. Сейчас она расскажет, почему было порвано пальто. Сердце бьется.
Я прыгаю с печки и ищу, куда бы спрятаться. Но что это? Уже женщина ушла, а мама веселая, довольная. Она целует меня. И я тоже рада. Опасность миновала. Можно спокойно лезть на печку.
…Мы теперь все вечера дерем перья. Как-то мама принесла два матраца, набитых перьями, от Ханы — квартирной хозяйки. Как только закончим, принесет еще. Мама говорит:
— Хоть немного заработать. Нельзя никак прокормиться.
Мы садимся за длинный стол. Возле каждого кучка перьев. Но возле Рейзл еще бумажка, где записана песня. Рейзл вплела в длинные черные волосы красную ленточку и про это уже поет:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих темных, как ночь…
Ей хорошо. Все время попадаются мягкие перья, и ей легко драть. А у меня всегда плохие перья. Крылья и хвосты.
Все равно я люблю эти длинные зимние вечера за большим столом. Руки быстро мелькают. По комнате носятся легкие, как снег, пушинки и щекотно садятся на лицо. Рейзл поет. Броха что-то рассказывает Буне.
— Угомонитесь, пусть будет тихо. Работы от вас еще не видно, а шуму, а шуму… — ворчит мама.
Кто-то возится в сенях. Все головы — к двери. На пороге Танька — дочка кузнеца Тимохи. В большом отцовском полушубке. Она прерывисто кричит:
— Ой, тетя Бейля!..
— Что случилось?
Танька шепотом что-то говорит маме. К ним подбегает Соня. Лицо у Таньки напуганное, тревожное. Мама зачем-то хватает один большой матрац с перьями и несет в чуланчик. Затем мама, Соня и Танька садятся к столу. Лицо у мамы мертвеет и руки дрожат. Они дерут перья и не сводят глаз с двери. Что они там увидели?
В сенях раздается стук, и в широко открытые двери вклинивается коренастая низенькая фигура пристава в серой шинели. За ним входит полицейский. Последними появляются испуганные соседка Злата и ее муж Самуил.
Маленькие заплывшие глазки пристава шарят по комнате и останавливаются на землистом лице матери:
— Старуха, где твой сын Абрам?
Мама силится ответить, но губы и подбородок дрожат. Слова не получаются. Ей на помощь приходит Соня:
— Она плохо говорит по-русски. Уже два года, как вы его сами забрали.
Она спокойно заплетает косу.
— Антипов! Произвести обыск! Понятые! Никуда не выходить! — командует пристав.
В соседней комнате слышен грохот бросаемых вещей.
Злата успокаивает маму:
— Что вы так обмерли? Не надо пугаться. Пусть ищут, чтоб их так холера искала! И еще чахотка, и еще чесотка! Что они могут найти? Чтоб их, боже праведный, все несчастья нашли!
Мама мечется из угла в угол и не слушает Злату. Полицейские снова возвращаются в кухню. Заглядывают в печку, в бочку с водой. Подходят к узенькой двери чуланчика.
— Одну минутку! Господин пристав может запачкать такой красивый мундир. Там перья. Я уберу, — говорит мама и бросается в чуланчик.
Она выносит мешок с перьями и ставит угол. Медленно возвращается за другим.
Соня следит за каждым ее шагом.
Мама выносит большой матрац и на пороге, споткнувшись, опрокидывает развязанный мешок. В дверях чуланчика образовывается большое пушистое облако.
— Как ты неосторожна! — по-русски говорит Соня, опустив глаза.
— Безобразие! Курятник развели, — сердится пристав. — Антипов, осмотри чулан.
И, брезгливо отряхивая пушинки, отступает к выходной двери. Но веселые пушинки настигают его и там, густо покрывают плечи и грудь. Все его лицо стало махровым, и даже ресницы хлопают белыми сгустками.
— Что же делать, ваше благородие! — говорит Соня. — Надо чем-то жить. Большая семья.
Мама поспешно убирает перья маленькими пригоршнями. Перья не слушаются и от малейшего прикосновения весело упархивают.
— Дети, помогите, — говорит слабым голосом мама.
Мы бросаемся в ворох перьев. Уже ничего не видно. Сплошная снежная завеса. Антипов входит в эту завесу, чихает, ругается и выскакивает, спугнув пушистый сугроб. Смотреть на него невозможно. Нет солдатского мундира. Нет усов. Одно заиндевелое лицо с белыми пушинками на усах. Он старается сказать что-то, но пуховые снежинки весело рвутся в рот, и Антипов испуганно его захлопывает.
Без смеха невозможно видеть его выкаченные глаза. Я первая неудержимо смеюсь. Все, кроме мамы, покатываются со смеху.
Сквозь стиснутые зубы полицейский рявкает:
— Цыть! Кому сказано!.. Так что, ваше скородие, тут одни перья, — докладывает Антипов и чихает.
Давно уже ушли полицейские. Злата с мужем и Танька. Перестала дрожать мама.
Я, наверное, тоже очень испугалась, потому что, как только я легла на печку и начала засыпать, ко мне пришел такой же сон, как во время болезни.
Слышу сухой треск отдираемой доски. Затем веселый шепот Абрама:
— Ну, ты молодец, мамочка! Ты настоящий конспиратор.
Я хочу посмотреть на Абрама. Но веки не поднимаются. Сонин голос говорит:
— Горячая вода — помойся, весь в пуху.
Мама кому-то отвечает:
— Какой я молодец! От страха за тебя кости трещат.
И опять голос Абрама:
— У меня новый адрес. Уйду я. Ты за меня не бойся. Я буду среди своих.
— Дай-то бог. Берегись.
Утром я ни о чем не спрашиваю взрослых. Они высмеют мои сны. Я хожу по дому и осматриваю все углы.
— Что ты ищешь? — спрашивает Соня.
Взглянув на меня долгим взглядом, она кладет мне руку на голову.
— Ищешь вчерашний сон?
Вот какая! Знает, кому что снится!
«Сядь-посиди»
— В этом месяце опять нечем заплатить за квартиру, — в который раз говорит мама, морщась, как от боли, и горестно кивая головой.
Соня снова пересчитывает деньги, полученные за шитье брюк.
— А сколько в эту неделю отец принесет?
— Столько колик в живот нашему приставу! О боже милосердный! Работы все меньше и меньше. Война.
— Днями нагрянет хозяйка. Ей уже, наверное, тошно, — говорит Соня.
И действительно появляется хозяйка. Высокая, грузная, в большой полосатой шали, надвинутой до самых глаз. Тяжело, со свистом дышит и угрюмо осматривает стены.
Мама волнуется, перекладывает вещи с места на место. Соня усаживается напротив хозяйки и степенно начинает:
— Вот что, тетя Хана, раньше чем через две недели не сможем отдать деньги за квартиру. Что за спешка? Столько лет живем. Отдадим.
— А мне что делать? Один не платит, другой запаздывает. За перья, что драли, я засчитала. Как только получать свое, так не дождешься!
— Перебиваемся с хлеба на редьку, — вступает в разговор мама и заискивающе добавляет: — Если б ваша добрая воля, дали б нам еще какую-нибудь работу. Перья, стирка, побелка, мешки таскать. Все, что есть. Мы можем делать все.
Хозяйка глядит секунду на маму и потом задумывается. Она опускает свой тяжелый подбородок на грудь. Маленькими светлыми глазками исподлобья сверлит маму.
— Ну что ж, это можно. Конечно, если разобраться, то мне не очень-то и нужно. Я могу и обойтись… Но вы же знаете мое доброе сердце.
Соня не поднимает на хозяйку глаз, а мама в такт кивает головой.
— Могу взять девчонку. Пусть вам легче будет. Ведь Ронечка приезжает с мужем и ребеночком.
— Ронечка? — продолжает заискивать мама. — Как идет время! Кто бы мог подумать, что у Ронечки уже ребенок. Недавно сама бегала под столом. Она всегда была писаной красавицей. А сколько же ребенку, пошли ему господи сто двадцать лет?
— Шестой месяц. Что за ребенок! Это портрет. Мы старимся, а молодые растут… Так есть у вас такая девчонка, Бейля?
— Упаси бог! Пусть мои враги не дождутся, чтоб я своих детей отдавала в прислуги!
— Ей-богу, вы чудачка, Бейля! Что значит в прислуги? Есть у меня кухарка, прислуга. Ведь это же для вас добро делаю. Нет — так нет. Только денег ждать я не могу.
Она делает вид, что собирается подняться.
— Могла бы Броха пойти, смотря какая работа.
Соня нерешительно и тревожно смотрит на маму.
Мама колеблется. Затем зовут Броху. Она моет на кухне посуду и входит с полотенцем и тарелкой в руках. У нее веселые озорные глаза. Соня объясняет, и она, краснея, переводит глаза на хозяйку. Хозяйка оживляется.
— Какая работа? — Она сбрасывает шаль, кладет руки на живот и продолжает скороговоркой: — Встанешь, например, часов в шесть. Помыла крыльцо, сядь себе посиди. Постирала ночные пеленки, почистила самовар — сядь-посиди! Поставь самовар, помоги на кухне. И опять-таки никто в шею не гонит. Сядь-посиди. Тут, с божьей помощью, встает ребенок. Надо вам знать, что это за ребенок! Ронечку знаете? Так мальчик — вылитая она. А на кого Ронечка похожа? На меня. Весь город говорит, что мальчик будет такой же красавец. Так дальше. Пока взрослые кушают, понянчишь ребенка. Отдала мальчика — помой полы. Надо знать, какие полы! Это же зеркало. Помыла — сядь-посиди. Закачай ребенка и помоги почистить овощи на обед. А потом оседаешь. Это не какой-нибудь там обед. Вкуснота, красота. А вы говорите — работа? И это работа? Я вас спрашиваю. После обеда тоже кое-что найдется. Живые люди, то да се. А в общем — пустяки, ерунда, не о чем даже говорить…
— А сколько вы посчитаете за такое «посидение»? — спрашивает Соня.
— Вы задолжали восемь рублей. Так пусть четыре месяца побудет.
— Нельзя ей четыре месяца: она устраивается в мастерскую. Хотите, пусть за три месяца отработает долг. — И, взглянув на померкшее лицо Брохи, полные надежды глаза матери, неожиданно заканчивает, поворачиваясь ко мне. — Но не Броха, а вот Юдася.
У меня от испуга гулко стучит сердце.
Мама протестующе качает головой, но Соня, глядя на нее, быстро говорит:
— Работа, мама, действительно простая. Юдася справится. До школы и побудет.
Мама обращает ко мне виноватое лицо.
Хозяйка недовольно поворачивается и, раздумывая, тоже смотрит на меня.
— Вы не смотрите, что она младше и такая худая. Она сильная. Справится, — быстро говорит Соня, избегая моего испуганного взгляда.
— Ну, что ты, Соня, Юдася еще сама ребенок, — говорит мама. — Да я бы не хотела ее отдавать…
— Я тоже так думаю, — подхватывает охотно хозяйка. — Броха больше подходит.
Соня как будто не слышит ничего.
— Так вот, — говорит она, — хотите? Пусть идет девчонка. Ей двенадцать лет, — добавляет она мне два года и выразительным взглядом призывает маму молчать.
Мне страшно, и какая-то неясная горечь комком сжимает сердце.
— Знаете мое доброе сердце и пользуетесь, — говорит хозяйка, поднимаясь. — Ладно, пусть приходит. Посмотрим…
И вот я с мамой иду в дом хозяйки отрабатывать долг. Несмотря на внутреннюю тревогу, я иду гордо, задаюсь перед сестрами. Теперь меня никто оттуда не выгонит. Это не то, что у Гордонши. Я там буду работать.
Но по мере того как мы приближаемся к дому хозяйки, ноги у меня деревянеют, а сердце бьется где-то у самого горла.
Заходим в кухню. Плита белая и блестящая, как зеркало. У плиты стоит кухарка тетя Циля, тоже в чем-то белом, и на голове белый платочек. Тонкая, как жердь, она при виде меня всплескивает руками о белый передник:
— Это помощницу, что ли, привели? Такую манюню? Тут же ад, преисподняя, вертеп, — кричит кухарка и вдруг останавливается и бросается к испуганной маме: — Садитесь, вот табуретка, что вы стоите? В ногах правды нет. И не трепещите так. Пусть поживет. В обиду не дам. Пусть попробует. Чтоб им добра не было! Целый день жрут, как будто нанялись. Не бойтесь, я ее откормлю. А то она заморыш. Долго ли до беды! Идите и не беспокойтесь. А ты, девчонка, возьми вот морковку, стань над этим тазом и поскреби ее. Знаешь как? Вот я тебе сейчас покажу…
Так я вхожу в этот дом. Я еще не видела хозяев, хозяйских комнат. Но кухня тоже очень хорошая комната. Мне тут легко: чисти себе морковку.
Я уже забыла, сколько времени я чищу ее. И, может быть, хватит, а я все чищу и чищу. Мне нравится желто-красное чистое тельце морковки, и у меня их уже целая гора. И какая хорошая эта тетя Циля.
— Откуда ты взялась на мою голову? — прерывает мои думы кухарка резким воплем. — Посмотрите, что эта раззява делает. Вы что-нибудь понимаете? — обращается она к немым блестящим кастрюлям, висящим вокруг шкафа с посудой. — Начистить целое ведро моркови. Почему ты не спросила, дурья твоя голова?
Я молчу.
— Я боялась, — наконец отвечаю я, запинаясь.
— Она боялась. А куда я теперь это дену? — И вдруг с самой высокой ноты переходит на мирную: — Впрочем, ладно. Брошу в мясо и сделаю икру. Стоит волноваться!
Я медленно успокаиваюсь. Тетя Циля сует мне большую вымытую морковку.
— Кушай, как сахар.
Я не успеваю проглотить первого кусочка, как открывается дверь и входит Ронечка. Это среднего роста женщина с полным лицом и большими зубами. На ней что-то яркое, развевающееся. Но я боюсь разглядывать одежду и опускаю голову.
— Каша Бореньке готова? Нет? Народу тут хватает, а каши до сих пор нет, — недовольно поглядывает она на меня.
— Бог с вами, Ронечка. Ко времени будет. Еще есть пятнадцать минут. А насчет девочки, так она только-только вошла.
— Так пусть она скорей идет нянчить Бореньку.
Волнуясь, я иду вслед за ней в комнаты. Иду не по полу. По каким-то пушистым цветам, выбирая, куда ступить ногами, боясь наступить на бутон. Столько комнат! И все разные. Но вот в беленькой колясочке сидит лупоглазый розовый мальчик и надрывается от крика.
— Подними его, — говорит Роня.
Я поднимаю визжащего мокрого мальчика и с трудом удерживаюсь на ногах.
— Походи с ним.
Я хожу из угла в угол, уже не боясь топтать пышные букеты под ногами.
Но ребенок не унимается.
— Ты его покачай. А петь ты умеешь? Спой ему песенку. Привыкнет, успокоится.
Я умею петь. Но не знаю, какую песню спеть. Да и боюсь. Мне жутко, не до пения.
— Не знаешь песен?
Я робко начинаю:
— Умер, бедняга, в больнице военной…
— Что это за песня? Какую-нибудь другую.
Нет, я не знаю песен. Я знаю только те, которые поют мои сестры за работой. Я молчу. Роня сердится.
— Ты что молчишь? Какая-то ненормальная. Честное слово.
Я сдерживаю слезы. И все хожу, хожу с ребенком. Уже дрожат ноги. Не могу разогнуть спину. Ребенок весит сто пудов. Я с трудом переступаю ногами и тут замечаю, что он уснул. Останавливаюсь со спящим ребенком возле Рони, и она медленно его забирает. Спина у меня ноет.
— Возьми пеленки. Ты имеешь понятие, как их стирать? Нет? Вот так помощница! Вижу, будет одно мучение! Иди к Дарье. Она тебе покажет. А сама пусть выбьет ковры.
Я не знаю в этом доме ничего. Где искать прислугу Дарью, что такое ковры и зачем их бить?
Но я иду. С трудом нахожу кухню. Тетя Циля, увидя меня, улыбается, качает головой:
— Иди сюда, горемыка, поешь супу. Это суп, знаешь, какой? Ешь скорей.
— Тетя Роня велела пеленки стирать.
— Велела? — кричит на всю кухню тетя Циля. — Мне это очень нравится. А кушать она не велела? Этого она не вспомнила? Пусть подождет. Садись.
Я улыбаюсь бесстрашию тети Цили. И я ем вкусный, какой-то желтый суп и никак не могу наесться.
— Ну, а теперь иди к Дарье. Она тебя будет учить.
На черной лестнице к нам спиной стоит широкая коротенькая женщина и чистит подсвечники.
— Дарьюшка, вот Юдася, научи ее пеленки стирать.
Дарьюшка поворачивается, и я вижу молодое, веселое лицо с синими глазами. Она улыбается мне, показывая два передних белых зуба.
— Оставь пеленки, я мигом. Другой раз научишься, — говорит она.
Я расцветаю. Отдаю узел и сажусь на ступеньку. Сижу минуту, потом спохватываюсь:
— Дайте, тетя, я подсвечники почищу, вот увидите, как я умею!
— Давай, давай показывай.
И я чищу подсвечники и думаю, что не так уж страшно отрабатывать квартиру, когда есть такие хорошие тети. И мне даже жалко маму, которая думает, что мне здесь плохо. В каком доме я живу!
…Потянулись дни в чужом доме. Как наступает утро, чищу дверные ручки, скребу лестницу, качаю мальчонку, таскаю его, выливаю помои и все время жду новых окриков, нападок, ругани. Хозяйка кричит, что я ничего не успеваю. Как только я присяду на краешек табуретки, сразу слышу:
— Расселась, как принцесса! Тебе мало ночи? Теперь ночь, как год. Ты не видишь, что кругом делается?
И как бы быстро я ни вскочила на ноги, она обязательно толкнет меня в спину таким острым кулаком, что летишь к стене. Меня дома не били. Я была самая младшая. Глотаю слезы и снова хватаюсь за дела.
А тут еще новое горе. Целый день пот градом катится по лицу, заливает солью глаза — щиплет, ничего не видишь. Волосы сбились паклей, не расчешешь… Некогда. Борька тяжелый, приходится держать двумя руками, да еще выпятив живот. А если его на минуту положить или прислонить, чтоб вытереть пот, он опрокидывается — гвалт, крик.
— За что тебя кормить? Толку от тебя никакого, — кричит хозяйка.
И я бьюсь, чтоб был толк. Чтоб отработать квартиру.
Особенно беспокоюсь, когда приходит мама. Зачем она приходит, когда нельзя уйти с ней домой? Хозяйка начинает жаловаться на меня. Тетя Циля — хвалить. Крик невообразимый. Лучше б не приходила. Однажды мама встречает меня на улице с огромным бидоном керосина. Я держу его двумя руками за верхнюю ручку. Понесу несколько шагов и остановлюсь.
— Боже мой! — пугается мама. — Тебе же тяжело!
— Нет, ничего, — силюсь я улыбнуться.
— Как можно ребенка заставлять носить такую тяжесть? Пропала девчонка, — говорит мама, глядя мне вслед. Затем спохватывается: — Дай я помогу. Понесем вместе.
Перед летним праздником «швуес» день яркий, солнечный. Я с утра песком натираю ступеньки на черной лестнице. А потом ношу Борьку. С каждым днем он все тяжелее и тяжелее. А за окном мои подружки в траве укачивают тряпичных кукол — легких и послушных. И пустырь с теплыми пыльными лопухами кажется мне навек потерянным миром.
Дом гудит от праздничных приготовлений. Тетя Циля с хозяйкой с утра на рынке, и некому мне дать еду. Мальчик уснул, и я принимаюсь за чистку овощей. Меня всю качает. Вскоре Роня несет мне проснувшегося ребенка.
— Возьми, портниха пришла.
Борька порывается обратно к матери, и я не удерживаю его, роняю на пол.
Роня хватает ребенка и с криком «убила!», «убила!» убегает с ним.
Слышно, как она кричит, жалуясь мужу, хотя мальчик давно молчит.
А мне хочется есть, перед глазами плывут круги, и я плачу, сидя на табуретке в кухне.
— Что ты, в гости приехала? Все дела переделала? — спрашивает вернувшаяся хозяйка.
— Она уже все сделала — чуть не убила твоего единственного внука, — кричит из комнаты в открытую дверь Роня.
— Что? Горе мое! — И хозяйка тяжелой рукой бьет меня по лицу.
Дарья кричит:
— Девчонку убивают. Аспиды!
На крик влетает тетя Циля.
— Чтоб вам добра не было! Сейчас брошу все: ваши кугели, рыбу, пироги, торты. Пропадай все пропадом, чтоб я вас кормила. Уж им эта каторжница не угодила!
Входит Ронин муж реб Мотл с Борькой на руках. Ребенок тянет ко мне ручонки.
— Тебя надо было сейчас же выгнать, но сегодня не такой день. А вы, Цилия, что так расстраиваетесь? Никто ее не трогает. Кому она нужна? Упаси бог, что-нибудь испортите. Вы знаете, кто у нас будет в гостях? Ах, Циля еще не знает. Надо ей сказать.
— Какое мне дело? Все исчезает, как в прорву. Но, с меня хватит. Я все бросаю… — непримиримо отвечает тетя Циля.
Я срываюсь с места и выбегаю на улицу. Рядом — заветный пустырь. Прячусь в густом пыльном бурьяне и тихонько всхлипываю, вдыхая милый запах травы.
И вдруг я вижу маму. Она идет к хозяйке. Собралась навестить меня. Нашла время! Что теперь будет со мной? С мамой? С квартирой?
Я не успеваю додумать, как вижу: мама поспешно выходит из дома хозяйки. Прощается с тетей Цилей.
Мама проходит совсем близко, и ее лицо нахмурено. Хромает она что-то больше обычного.
Я со всех ног бросаюсь в дом и бегу на кухню к тете Циле.
Из коридора слышится голос Рони:
— Дарья, вы погладили серый костюм хозяину? Чтоб был, как зеркало. Скорее. Ведь скоро начнут собираться… Складку не забудьте по линейке.
— Что ты в такой день стоишь, когда так некогда? На, покушай, горе мое, и давай помогай, — говорит мне тетя Циля.
Я начинаю чистить картошку.
Дверь открывается — и на пороге Соня. Она мне кажется необыкновенно красивой и высокой.
— Собирайся! Пойдем домой, — не заходя на кухню, говорит она. — Здравствуйте, тетя Циля, простите, что не заметила. У вас кругом бело, и вы белая.
У меня на мгновение счастливо бьется сердце: домой…
— Вы не горячитесь, дорогая Соня! Обойдется! Не такое в жизни бывает. Трах, трах. Так это не делается.
Тетя Циля волнуется, вынимает из печки что-то в чугунном горшке и осторожно идет к столу. Там уже заготовлены три блюда с кусочками моркови и лимона.
Соня продолжает говорить:
— Что, у нас дети не падали? Дети не вырастают без этого.
— Сравнили, — вмешивается в разговор с порога появившийся с бутылью вина муж Рони. Он подбивает тетю Цилю под руку, и из чугуна на пол плещется густая жидкость.
Тетя Циля в испуге отводит руку с чугуном и ставит его на стол. Но в то же мгновение Мотл, не глядя, наступает в лужу и, поскользнувшись, подлетает к краю стола, разбивает бутыль. Вишневое вино заливает брюки и складку-стрелочку. Брызги стекла разлетаются во все стороны.
Одну минуту тетя Циля и реб Мотл оторопело смотрят друг на друга. Реб Мотл хлопает глазами.
— Боже милостивый, — верещит тетя Циля. — Вы ума решились или с глузду съехали? Посмотрите, люди добрые, что он натворил, этот хозяин?
Она поворачивается в сторону, где стоит Соня. Но той уже нет. Тетя Циля смотрит на Мотла. Она перестает кричать и заливается смехом. Он очень смешной. С остановившимися глазами и открытым ртом.
Давясь от смеха, я продолжаю чистить картошку.
Проходит осень с обложными дождями, а я еще живу у хозяйки. Отмываю липкую грязь с полов и мою галоши. Темные дни настолько коротки, что я теряю им счет.
Я отпрашиваюсь к маме.
Оказывается, пока я отрабатывала эти три месяца, набежал новый долг за квартиру. Я молча начинаю натягивать свое старое зимнее пальто.
В плечах оно мне впору, но ноги стали такими длинными, что пальто превращается в коротенькую жакетку.
Надеваю чулки и галоши и вдруг, опомнившись, спрашиваю сдавленным голосом:
— Теперь что — навсегда?
Я не плачу, я сдерживаюсь.
Мама, совсем поседевшая в последнее время, жалостливо говорит:
— Что ты, дорогая моя, мизинчик! Там хоть еда есть! Нам никак…
Всегда она с едой. Каждый раз!
— Я не буду ничего кушать! Зачем мне еда? — кричу я и, зная, что нельзя ничего сделать, выхожу на улицу.
Падают мокрые хлопья снега. Я ловлю их носом, глазами, ртом, руками и успокаиваюсь.
У хозяйки меня ждет радость. Она подает мне новенькие черные ботинки с резиночками по бокам и ушком сзади.
— На, надень и ходи чистой возле Бореньки, — говорит она. — Никогда не цените свою добрую хозяйку. Вот еще платье возьми. — И она мне подает платье из синей сарпинки.
Радостно стучит сердце.
— Только в доме носи, — предупреждает она. — Боже сохрани запачкать или порвать. Закончишь работу, переоденься, сядь-посиди, отдохни.
Когда это я закончу работу? Ей никогда нет конца.
Идут дни. Уже нападало много снега. У меня щемит сердце, когда я вижу в окно ребят, которые возятся в снегу.
И вот хозяйка с Роней собираются на свадьбу к родственнице. Ушли они сразу после завтрака. Сначала я с Дарьей собираю разбросанные в суете вещи. Затем надеваю подаренные хозяйкой башмаки, платье и верчусь возле тети Цили и Дарьюшки.
— Гарнесенько! — говорит умиленно Дарьюшка.
— А что? — осматривает меня тетя Циля. — Не хуже была бы хозяйкиных детей. Что значит одежда.
Мне неудержимо хочется на улицу, в снег. Я, как могу, уговариваю тетю Цилю отпустить меня в этих ботинках.
— Только чтоб хозяйка не знала. Надо вычистить вовремя.
И я выбегаю. Меня охватывает радостное чувство свободы, легкости. Сначала я забегаю к Таньке, затем мы мчимся на лед. Мои новые ботинки и платье вызывают
завистливое восхищение всех ребят. Левко даже отдает мне единственный деревянный конек. Мы носимся поочередно на этом коньке, самодельных полозьях, мчимся на кружеле и неизвестно на чем. Обретенная свобода жжет меня и радует.
Давно уже подол нового платья мокр и порван в двух местах, носки ботинок ободраны льдом, — а меня не оставляет счастье. Спохватываюсь я, когда уже совсем темнеет. В окне уже горит лампа. Значит, все дома. Я стараюсь зайти с черного хода. Тихо-тихо. Но навстречу мне выбегает хозяйка. Сначала она оглядывает меня со всех сторон, затем кричит:
— Все, все отработаешь, не думай!
Когда я снимаю платье, она хлещет меня мокрым подолом по голове, лицу, пока тетя Циля не хватает ее за руки.
— Гляньте, она полоумная. Переводит хозяйское добро и еще смеется, — кричит хозяйка.
Я, конечно, не смеюсь. Но она не в силах погасить во мне радости сегодняшнего дня. Отстраняясь и закрываясь, я вижу облако снежной пыли, слышу смех ребят.
У меня болят зубы. Будто маленький червячок копошится. Потом кольнет. А то вдруг острая боль иголкой пронизывает зубы, ухо и голову.
— А-а-а! — кричу я ночью и бегаю по коморке, где я сплю с Дарьей. Я сжимаю голову руками, прячу ее под подушку.
У тети Цили есть верное средство — смазать зуб водкой. У Дарьи верное средство — смазать керосином. И до утра мажут керосином, водкой, уксусом, чесноком. Все во рту саднит. Кожа отвисает клочьями. Наконец я под утро вроде уснула.
Просыпаюсь от дикого вопля хозяйки: проспала. Тетя Циля объясняет, что у меня зубы болят.
— Так что же вы молчали? — говорит хозяйка. — Есть самое наивернейшее средство — «царская водка». Даже когда врачи ничего не могут сделать, так помогает «царская водка».
И долго еще рассказывает о могуществе этого лекарства и какому количеству людей оно оказало помощь.
Я начинаю надеяться. Шутка ли? Царская водка! Только цари ее пьют. Дарья охает: где же достать такую водку, которую пьют только цари?
Значит, я правильно поняла. Но хозяйка продолжает сыпать примерами.
Оказывается, такая водка водится у красильщицы Двойры. Дарья приносит немного, на дне маленькой бутылочки. Я усаживаюсь у окна и широко раскрываю рот.
— Еще шире!
И я открываю что есть силы. Сейчас меня будут лечить. Червяк в моем зубе пропадет.
Тетя Циля соломинкой капает в зуб «царскую водку». Изо рта повалил дым, я чувствую острую, огневую боль. Дальше я ничего не помню. Когда я прихожу в себя, возле меня стоят все, в том числе мама и Соня.
Мама в слезах кричит:
— У нее же рана во рту! Надо ехать к доктору.
Я уже ничего не чувствую. Мы с мамой едем к фельдшеру в соседнее местечко. Один фельдшер на всю округу. Едем на подводе кузнеца Меера, который везет своего больного сына: у мальчика Ицыка раздуло живот, и учитель сказал, что у него в животе что-то может лопнуть.
Меер торопит извозчика. Комья снега летят в мое лицо, а я думаю о фельдшере: я его уже видела однажды. Он приезжал к одной девочке на нашей улице. Мы все бегали смотреть и вслед за фельдшером набились в комнату. Он большой как медведь. Девочка лежала на лежанке. У нее что-то клокотало в горле. Фельдшер долго осматривал девочку, потом покачал головой:
— Эх, погубили ребенка!..
А что, если он сегодня и про меня так скажет!
Со встречных подвод нам кричат:
— Меер, куда, дружище?
Все знают кузнеца Меера, все ему улыбаются. Но он не останавливается. Скорей, скорей!
Вот и дом фельдшера. В комнате стоят и сидят много людей. Скамьи все заняты, некоторые разместились на полу. В углу плачет грудной ребенок. Женщина кормит его разжеванной кашицей из черного хлеба.
Фельдшера нет. Он еще вчера уехал в дальнее село — за двадцать верст.
Уже вечереет.
Рядом с нами на полу сидит женщина. На коленях у нее мальчик лет четырех. Глаз у него завязан. Сквозь повязку сочится кровь. Отец спьяну бросил вилку в мать, а попал сыну в глаз. Тихо стонет девушка в большом клетчатом платке. Рука у нее распухла, как колода.
— Порезала руку, — рассказывает она маме. — Лечила, как все. Присыпала землей. Паутину прикладывала… — Она с трудом шевелит воспаленными губами.
Мама вздыхает:
— Посмотришь чужое горе — свои несчастья не такими тяжелыми кажутся. Не дай бог!
Ицык кричит так, что у меня по спине бежит что-то ледяное.
Меер сокрушенно вздыхает и носит его вдоль стен, показывая картинки.
Уже совсем темнеет. Запрягают лошадей. Меер решает ехать еще за двадцать верст в больницу.
Женщина с раненым в глаз ребенком поднимается и с надеждой смотрит на Меера.
— Возьмите меня, добрые люди! Пропадет мальчонка! Заплатить нечем.
Меер мечется с сыном по комнате и ничего не отвечает.
Но вот возчик говорит, что подвода готова. Меер торопится, заворачивает сына в одеяло. Затем кричит женщине:
— Долго будешь тут собираться? А ну, давай быстрей! Немалый путь. Хоть бы довезти живого! — и обращается к девушке: — И ты собирайся!
Мы остаемся ждать фельдшера.
Я уже засыпаю на маминых коленях, когда слышу какой-то шум. Приехал фельдшер. Я спохватываюсь. Мы с мамой становимся ближе к дверям.
Фельдшер прошел, не взглянув на нас. Я боюсь идти к нему. Мама меня успокаивает:
— Я у него ногу лечила. Он добрый человек. Мы входим.
Фельдшер такой большой, что занимает полностью маленькую комнату с белым шкафчиком. Пахнет сухой малиной.
Он посмотрел мою рану во рту и спокойно спрашивает маму:
— Это вы лечили зуб?
Мама, нахмурившись, молчит.
Я хочу сказать, что нет, не мама. Но он мне вложил в рот вату с какой-то мазью.
Приходится только мотнуть головой.
— Вы — дикари. — Его седые усы двигаются. — Возьми полосканье… Хотел бы я знать, кто это сделал! — кричит он и моет руки.
Я думала, что он побьет маму.
Мама достает деньги и протягивает фельдшеру пятьдесят копеек.
Фельдшер, не поднимая глаз, говорит:
— Не выдумывай! Оставь! Куда на ночь глядя денетесь?
И вдруг кричит кому-то:
— Феклуша! Дай им чаю и уложи в боковушку. Домой завтра поедут.
Мама взволнована:
— Дай вам бог…
Но фельдшер громовым голосом прерывает ее:
— Тебе много бог дал? Идите, отдыхайте. Не забудьте мазать, — и неожиданно тихо добавляет: — Ну, сын пишет? Как нога?
Я уже поправляюсь, но еще живу дома. Сколько раз приходит тетя Циля, столько раз приносит коржики. Хватает не только мне. Она заставляет маму при ней скушать хотя бы один.
Тетя Циля рассказывает:
— Теперь хозяйка как шелковая. Дарья бросила и ушла. Скорей приходи!
Сколько же мне осталось там жить? При мысли, что надо снова идти к хозяйке, мне хочется куда-нибудь убежать. Мне все кажется чужим, а я сама — отрешенной от этой жизни. Вот если б совсем домой — все было б иначе. Как я раньше не замечала, что дома хорошо!
Отец на этот раз приходит домой не в пятницу, а во вторник.
— Не заболел ли, упаси бог? — суетится мама.
— Нет. Сам даже не знаю, как и рассказывать. Прискакали в усадьбу военные. Все шепчутся. Потом управляющий нам заплатил за работу и велел по домам. Первый раз такая суматоха. Даже не сказал, когда снова являться.
Отец угрюм и расстроен. Подает маме деньги. Он уже давно отдает весь заработок.
— Так ничего и неизвестно, почему появились военные? — спрашивает встревоженная Соня.
— А тебе зачем? Мало ли что у господ случается. Нам какое дело вмешиваться? Сын хозяина и еще трое…
Отец греет у печки озябшие руки, хлопает себя по бокам, чтоб согреться. Затем, задумавшись, говорит:
— Пойди угадай! Когда будет заработок, когда нет. Какая-то кутерьма.
Я вижу, как поспешно куда-то уходит Соня с Геней.
— Первый раз вижу напуганных богачей. Что там такое могло случиться? — задумчиво говорит отец.
— Если бог захочет… и на них погибель может прийти, — отвечает мама. — Не думай…
Отец лег спать. Мама ждет сестер и, по обыкновению, дерет перья.
Завтра мне опять уходить к хозяйке. Я сижу возле мамы.
— Эх вы, ничего не знаете! — весело кричит Соня, появившись в дверях. Лицо ее пылает. — Царя сбросили! Слыхали такое дело? В Петербурге революция. Свобода! Слышите? Завод остановился. Поздравляю! — И она бросается маме на шею.
— Сумасшедшая! — испуганно шепчет мама, плотнее закрывая дверь. — Как это может быть? Посмотрите на нее. Не смей говорить это вслух. Стены уши имеют. Такое сказать! — Мама прислушивается.
— Мамочка, это можно вслух! Царя н-е-т!!! — кричит Соня на всю квартиру. — Какое счастье!
С улицы доносится многоголосый гул… Вдруг в этот поздний час раздается удар церковного колокола.
— Что это, пожар? — вскакивает отец.
— Янечка, царя сбросили с трона, — говорит мама.
Папа несколько минут молча глядит на маму.
— Так чего ты обрадовалась? Чем он тебе мешал? Вот богачи увидят, что мы радуемся, и рассердятся — где мы возьмем работу? Об этом ты подумала? Жили спокойно…
— Янечка, все радуются! Хуже нам не будет. Как все, так и мы… — робеет мама, и ее уверенность куда-то уходит.
— Кто это — все? Хотел бы я знать. Бедняку нечего радоваться. Кому я буду шубы шить?
— Мне шубу наконец сошьешь? Гене, Фейгеле, Рейзл, Буне… Довольно ходить в отрепьях! — весело кричит Соня, обнимая отца.
— А, лишь бы болтать! — Отец отстраняет Соню и поднимается. — А где мы на это возьмем денег? Давайте спать. Чепуха! Не о чем говорить. Бедняку всегда хуже…
Утром я просыпаюсь от гула песен, грома оркестра, яркого солнца. Я гляжу в окно. По узкой улочке бурлит поток людей. Знамена горят на солнце. Такой праздник! По комнате мечутся сестры, собираясь на улицу.
Распахнулась дверь. Сгибаясь, входит кузнец Меер. У него на груди красный бант.
— Свобода! Поздравляю вас! Поздравляю! Вас спешу поздравить первыми!
— Что вы так торопитесь веселиться? Я не вижу никакой радости. Вы же человек серьезный и тоже радуетесь! Чем будем жить с такой семьей? — говорит отец.
— Как это? Или у нас уже нет рук, чтобы работать?
— А что я буду работать руками, если богачи не дадут работы?
— Работа будет у всех. Она будет у бедняков. Ее не будет у богачей.
— Ай, слушать нечего! Такое сказать!
Большой, седой, шумный кузнец заполнил собою всю квартиру.
— Бросьте всякие разговоры, идемте на манифестацию.
— А что это?
— Рабочий праздник. Сто лет ждали такого.
Отец снова взрывается:
— Кто ждал? Я? Понятия не имею. Даже в голове не держал.
Кузнец смеется раскатисто, заразительно. Я с трудом сдерживаю смех.
— Не вы, так ваш сын.
— Вот я так и знал. Теперь будут все сворачивать на Абрама. Как я буду людям в глаза смотреть?
— Одевайтесь скорее и ничего не бойтесь. Там был еще кое-кто кроме вашего сына. Можете мне поверить. А Николка сам отказался от престола. Так чего вам бояться?
Отец, который уже натянул пиджак на одну руку, замирает.
— Этого не может быть! Отказаться от целого царства… — говорит он оторопело. — Чего ему не хватало? А наши богачи знают, что он сам отказался? Что они подумают, если я пойду на праздник?
— Реб Янкель, у вас есть праздничный пиджак? Нет? А у Деревянко и Иоффе их десять, двадцать, я знаю…
— Так при чем здесь пиджак?
— При том, что богачи нарядились, как на свадьбу, нацепили красные ленты и тоже идут и кричат: «Да здравствует свобода!» А вы их боитесь.
Отец ошарашен. Стоит в недоумении. Затем начинает чистить тряпочкой ботинки.
Я не понимаю, что говорит Меер, но его слова мне кажутся очень праздничными.
Меер снимает с себя красный бант и, держа в руке, смотрит, обводя всех глазами. Затем подходит к маме и прикалывает ей к жакетке.
— Ой, бог с вами! — умиленно говорит мама. — Зачем?
Отец продолжает расспрашивать Меера:
— Вы все понимаете? А скажите, примером, что будет с евреями?
— Ничего не будет. Все будут одинаковые. И хватит разговоров. Я вас жду на улице.
— Вот этого уже не может быть! — говорит отец, поспешно собираясь.
Когда мы выходим, манифестация потоком течет на церковную площадь.
Волна людей нас захватывает и несет.
— Я не знала, что у нас в городе столько людей, — говорит мама.
Мне очень весело. Никогда не видела такого праздника. Чтоб у людей были такие добрые глаза.
Я чувствую себя счастливой.
— Ведь тебе надо к хозяйке, — обрывает мою радость мама. И, видя мое лицо, добавляет: — Ну, погуляй уже немножко и ступай.
Ну, что за мама! Нельзя человеку со всеми походить! Ждали сто лет. И идти к хозяйке!
Я оставляю руку матери, чуть-чуть отстаю и уже шагаю одна. Надо мной февральский ветер колышет флаги. «Вечером успею к хозяйке, когда перестанут ходить. И кончится праздник. А если к вечеру не кончится? Тогда пойду завтра».
На площади все остановились. Проходят только колонны.
Слышится песня:
Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил…
— Какая песня! Вы слишите слова? — спрашивает Меер.
Невдалеке, взобравшись на возвышение, человек говорит что-то — громко, на всю улицу. Отец вытягивает шею, чтоб послушать. Мимо идет шеренга заводских рабочих. Из передних рядов выбегает Кирилл. Он подает руку отцу.
— Идемте с нами! Отец Абрама должен быть с нами!
И я вижу, как вздрагивает смущенное лицо отца, становится жалким и слабым.
— Иди уже, иди. Хватит тебе, — говорит мама и улыбается мокрыми, счастливыми глазами.
Отец выпрямляет тощую грудь, вздергивает бороду и уходит со всей колонной. Для меня это настолько невероятно, что я порываюсь бежать за ним, но тут меня видит мама:
— Почему ты до сих пор здесь? Хозяйка может рассердиться!
На столбе читают афишу — «Воззвание». Седоусый старик читает вслух, прерывает слова и плачет. Я еще немножко постояла, послушала…
Хозяйка встречает меня криком:
— Где ты шляешься? Ты думаешь, что если нет царя, так я не найду на вас управу? Ребенок надрывается, а все убежали смотреть на свободу! Сейчас же иди, пока я сама не знаю, что тебе сделаю? Закачай Бореньку.
Я плавно качаю колыбель, и песня рвется из груди:
Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил.
Черные дни миновали…
Наверное, громко затянула песню. Ребенок испуганно заплакал. Вдруг на пороге появляется разъяренный Ронин муж и кричит что есть силы:
— Заставьте эту идиотку замолчать! Хватит с меня этих песен.
И я замолкаю. В стены этого дома, в наглухо занавешенные окна еще не пришла свобода.
Сколько мне еще тут жить?
Засыпает ребенок, я ухожу к тете Циле и жду, что она мне скажет.
Подражая хозяйке, она говорит:
— Сядь-посиди…
Абрам
Осень. Вечер. Я бегу домой. Светлячки-звезды смотрят с ночного неба. Они мерцают. Там, верно, большой ветер и звезды закрывают глаза. И на земле ветер. Воет собака.
В кухне, возле мамы, сидит соседка Злата и что-то вяжет спицами. Горит коптилка. Фитилек, скрученный из ваты, — в блюдце с деревянным маслом. Шаткий фитилек только немного освещает лица мамы и Златы. А по углам кухни сидят сестры. Их не видно. Там черные тени:
— При царе хоть хлеб был, керосин, мыло. А теперь совсем не знаем, как дальше жить, — начинает вздыхать Злата, ловко орудуя спицами. — Вот так свобода, нечего сказать! Скоро опухнем с голоду. Так я у вас спрашиваю, для чего понадобилось сбрасывать царя?
— Опять эти дурацкие разговоры, — сердится Соня. — Тетя Злата, чем вам так понравилась царская власть? Еврейскими погромами, чертой оседлости, бесправием? Интересно знать!
Злата пытается что-то сказать, но Соня продолжает:
— Можно подумать, что это не у Деревянко поместье в тысячу десятин земли, а у вас! Что это не ваших детей принимают по процентной норме! Просто противно слушать! Кто только не глумился над евреями при царе!
— Подожди, Соня, не кипятись, — тихо говорит мама. — Правильно говорит Злата: как же жить без хлеба?
— Будет хлеб. Понемногу ведь дают. Это же царь сделал, что хлеба нет. Ведь хлеб только у богачей. Попрятали. Доберемся. Дайте срок.
— А почему же богачи живут так же хорошо, как раньше? — не успокаивается Злата. — А нам… хоть ложись и помирай. Как же молчать?
Входит Лея. В руках у нее узелок. Она протягивает его маме черными кружевными руками. Это такие перчатки до локтей.
— Спрячь, мама! Свекровь просила. У вас ведь не будут искать. Это ненадолго…
— Что ненадолго? — Соня гневно сверкает глазами. — Ты ждешь белых бандитов, черносотенных казаков? Дура несчастная! Морду тебе побить! Живешь и ничего не понимаешь.
Лея стоит красная, и губы ее дрожат.
— Это не ты шила брюки по десять копеек за пару? Не ты ела за этим столом перловую кашу с селедкой? Я тебе дам ненадолго!
Соня вырывает у мамы узелок.
— Забирай свое барахло, и чтоб я тебя здесь не видела.
— Ша, дети. Не время спорить.
Теперь мама каждый день ждет Абрама. На улице она всматривается в чужие лица, выбегает на каждый стук, тревожно прислушивается ночами.
Соня ее успокаивает:
— Он скоро будет здесь. Богатые ведь не хотят отдавать то, что они захватили. У Деревянко хлеба хватит на тысячи людей.
— Ты, Соня, говоришь что-то несуразное. Как это отдавать? Это же ихнее. Кто же имеет право заставить их отдавать? Ты хочешь сказать, что Абрамчик занимается такими делами?
Соня смеется. Мама сердится.
— Я так думаю: убрал царя, ну и езжай себе домой. Так нет. Ему еще чего-то надо.
— Ведь не один Абрам убрал царя. Все рабочие люди. Как тебе объяснить, мамочка? Ну, вот мельница — чья? Иоффе. Он же ее добром не отдаст. А сам-то он на ней муку не мелет? Делают рабочие. Кто же там больше хозяин — тот, кто работает, или тот, кто смотрит и деньги в карман кладет? Он там сроду и не был.
— Так что, теперь Иоффе сам будет муку молоть? Или ты думаешь, он подарит мельницу Абраму?.. И вообще — при чем тут Абрам? Где же он сейчас? Зачем Абрамчику мельница? — спрашивает мама.
— Он служит в Красной гвардии. Защищает свободу. Буржуи пошли на нас войной. Враги лезут со всех сторон.
— Какие у Абрама враги? Он пальцем никогда чужого не тронет. Я ли не знаю своего сыночка!
Соня целует маму. Мама недовольно ее отстраняет и погружается в думы.
Я знаю ее думы. Иногда они прорываются горестным шепотом:
— С такой золотой головой все можно было. Я знаю! Раввином, дантистом, даже провизором. Так нет! Он пошел в слесари.
<дефект печатного текста> По мануфактурной части. А то в слесарях
<дефект печатного текста> можно было поделать? Он всегда был
<дефект печатного текста> не поладил с царем. Гордон
<дефект печатного текста> поладил, реб Фроим поладил —
<дефект печатного текста> ладили, а Абрам — нет. Где он
<дефект печатного текста> он так ему не понравился? А теперь
<дефект печатного текста> и в какие дела ввязался опять? Никогда в родне не было таких детей.
[3]
И мама долго качает головой. Я тоже часто думаю о приезде Абрама. Как будем его встречать? Что он скажет маме, мне, Соне? Что сделает мама? Абрам наденет кожаный пояс с револьвером и будет говорить на митинге, как Танькин отец — дядя Тимоха. Он теперь председатель комбеда, и нет мне житья от Таньки. Задается. Всех позову послушать Абрама. И Левко, и Таньку, и ненавистную хозяйку. Пусть увидит, какая я голодранка! И вот они слушают, а Абрам все говорит, говорит. Еще лучшие слова, чем Тимоха и, Николай Фирсов, муж Оксаны.
Абрам кончит говорить и подойдет прямо ко мне. Тогда — да!
Вот как это будет!
А на самом деле это получается иначе.
В кухню тихо входит человек в солдатской шинели. Он улыбается, смущенно снимает фуражку со стриженой головы. Несколько секунд они с мамой смотрят друг на друга, затем мама бежит к нему, кричит что-то непонятное и плачет. Обнимает и целует глаза, губы, щеки. Человек в шинели тоже плачет.
— Абрамчик, родной мой, вернулся! Я не чаяла дождаться! Где ты кудри девал? — Затем мама спохватывается, открывает дверь и кричит: — Соня, Янечка, дети! Абрам, Абрам приехал!
— Что же ты молчишь? — вбегает отец.
Я стою возле Абрама, смотрю преданными глазами на его закопченное лицо, вдыхаю запах его шинели и глотаю слезы.
Абрам снимает шинель. На ремне висит кобура револьвера. Мама опасливо присматривается, вздыхает и молчит. Затем она с упреком говорит:
— Если ты жив, так нельзя прислать открытку? Два-три слова… Вся душа изноется, пока вы явитесь. Что за дети пошли!
— Теперь, мамочка, будем писать открытки, и даже с видами.
Мы все сидим возле Абрама. Кто держит его руки, кто обнял за плечи.
— Дайте человеку помыться, покушать, — радостно распоряжается мама.
— Там, в мешке, кое-что привез. Возьми, мамочка. Солдатский паек, — говорит Абрам.
Сестры бегут посмотреть. Я припадаю к рукаву Абрама и сижу, стараясь не дышать.
— Абрам, у кого же ты теперь служишь? Раньше служили у царя и отечества, а теперь? — Отец усаживается поближе.
— Теперь вся власть перешла к рабочим. После октябрьского переворота уже в ряде городов установилась Советская власть.
Папа недоверчиво и испуганно смотрит на Абрама.
— Так-таки я не разобрал, у кого же ты теперь служишь? Понавыдумывали: белая, красная и еще чего-то. Кто же у тебя самый главный?
— Ленин. Самый главный, самый большой. И он тоже сидел в тюрьме за рабочий народ.
— Он что теперь — вместо царя?
— Нет. Живет очень просто, как мы. Умница! Свет таких не видал!
— А как он одевается? Тоже с лентами?
— Нет, отец. Кто видел, рассказывает, что даже пальто штопаное…
Отец пораженно качает головой.
— Так объясни мне: какой ему интерес?
— А вот представь себе: самый большой интерес ему, чтоб трудовому люду было хорошо. Ночами не спит, все работает.
— А, примером, сможет он сделать жизнь такой, как в мирное время?
— Лучше в сто раз. Мирное… — с горечью говорит Абрам.
— Дай человеку чаю выпить, — говорит мама. — Все идите к столу.
— Таких людей не бывает. Сказка про белого бычка, — бросает отец на ходу.
А в дом уже набиваются люди. Приходит кузнец Меер и хватает Абрама в объятия. За ним приходит Тимоха, Оксана, Кирилл.
Мне обидно смотреть, как целуется со всеми Абрам.
Проходят дни. Абрам — председатель ревкома.
— Это не такая хорошая должность, — говорит мама.
Мне тоже не нравится. На митингах почти не выступает. Прибегает домой обросший, с вытянутыми щеками и воспаленными глазами, говорит простуженно, сипло. Или почти не говорит — валится и засыпает.
Иногда на минутку приезжает на взмыленном коне днем и тогда уже не приходит ночевать.
Хотя Абрам ходит быстро, мама говорит: «Сбился с ног».
Отец не разрешает обращаться к Абраму с вопросами, гонит нас.
— Видите, человек делает свободу. Не так легко.
Иногда я подбегаю к Абраму, когда он лежит, но веки у него опущены.
Мы ходим в новую школу. Наша школа помещается уже в здании бывшей прогимназии. Раньше я только издали видела, как сюда входят девочки в белых фартучках с крылышками. Они казались мне не настоящими, из другого мира. А теперь здесь висит красное полотнище и двери настежь.
У резных ворот я встречаю Таньку. Мы беремся за руки и весело мчимся по коридорам и лестницам. Можно поиграть на пианино в большом скользком зале. Как угадаешь, на какую косточку нажать, получается маленькая песенка. Прямо сердце заходится от счастья.
После школы подходит ко мне Левко.
— Пошли в ревком. Попросишь своего Абрама, шоб в гвардию Красную меня взял. Буду тут с вами огинаться, с девчонками и бантами. Аж покз всех беляков поубивают.
Теперь в школе учимся все вместе. И гимназистки из бывшей прогимназии. Они надевают банты и переднички. Брезгливо оглядывают нас.
— Война, правда, кончилась, — стараюсь я увернуться от хождения в ревком.
— Да-а, кончилась. Много ты понимаешь! Ничего не кончилась! Посмотри, что на площади.
На площади — бесконечные обозы, обросшие люди, цоканье, ржанье, походные кухни, как вытянувшиеся страусы.
И вот мы идем втроем в ревком. Он находится в усадьбе Деревянко. Какие-то люди с винтовками толпятся у входа. В ревкоме, как на вокзале: кругом солдаты. Шум, крики. Телеги, подковы, осколки снарядов.
В одной из групп мы видим Тимоху. Он разговаривает с солдатами:
— Пойдете завод охранять, — говорит он.
— На кой его охранять? Там нет ни черта. На фронт, беляков бить, — гудели солдаты.
В дверях появляется Абрам, суровый, задумчивый. Он увидел меня.
— Мы к тебе. Дело у нас.
— Пропустите товарищей, — говорит он патрулю.
Мы гордо проходим в дверь.
В отдельной комнате — длинный стол, накрытый бумагой. В углу свалены винтовки, обрезы, пулемет.
У Левко разгораются глаза, когда он видит ящик с патронами.
— Говорите скорей. Чего вам?
— Вот про него.
— Что про него?
— Пусть сам скажет, — теряю я храбрость, с которой вела друзей к брату.
— А чего? Сами небось знаете… — шмыгнул носом Левко.
— Вот что. Мне с вами некогда. Пойдемте со мной.
Абрам прошел с нами к небольшой женщине с бледным темноглазым лицом, в красной косынке.
— Покормите этих ответработников.
Только ушел Абрам, Левко турнул меня в спину.
— Чего ты пихаешься?
— Чего ж не просила? Эх, да я все равно сбегу на фронт, беляков бить.
Пока мы, обжигаясь, едим перловый суп с салом, за стенкой раздается голос Абрама:
— Немцы готовят эшелон для отправки в Германию. Белогвардейские банды им помогают. Эшелон пойдет через Дебальцево. Его надо отбить.
— А наш городок получит хлеб? — спросил кто-то.
— Не могу сказать. Раньше всего вернут крестьянам семена. Сейчас командиры подразделений объявят вам списки.
Левко недовольно смотрит, как я ем.
— Тебе вовсе хлебать тут не причитается. И так сыта.
— Почему это сыта?
— А твой Абрам скажет — могут сразу сто тарелок супа тебе дать. Хорошо тебе!
При выходе из ограды мы сталкиваемся с Иосифом Гордоном и его матерью… мадам Гордон.
— Мама, успокойся! Ничего не поможет. Здесь сидит главная власть… Вернемся. Ты себя погубишь. Я требую, чтобы ты вернулась. Слышишь?
Муж Леи — невысокий человек с бритой головой — останавливается и придерживает мать за рукав.
— Не говори, чего не следует, — отстраняет его руку мадам.
Она по-праздничному одета — в черном кружевном шарфе.
— Раньше-таки в этом доме были настоящие хозяева. А сейчас одни каторжники… Тоже мне власть… Хоть бы один из них не сидел в остроге. Не о чем говорить? А вот родственничку я сейчас закачу такой скандал. Босяки собрались и будут моим добром командовать!
Такой грозный вид у этой женщины, что я возвращаюсь: она может испугать Абрама.
В дверях мадам на фантастическом русско-еврейском языке объясняет патрулю, что ей нужно к Абраму.
Я хочу предупредить Абрама и открываю дверь. За столом, наклонившись над картой, стоит Абрам, и еще люди. Абрам карандашом показывает и говорит много непонятных слов.
Мадам Гордон прямо с порога начинает кричать:
— Вот так по-родственному! Что у тебя, голова высохла? Сестра твоя пришла голая, босая. В люди вывели! А ты что творишь?
Абрам сел за стол. Потер лоб, как во сне.
— Вот забрали всю лавку и вместо денег дали эту вонючую бумажку.
Абрам взял у нее из рук какой-то длинный серый листок с кружалочкой из чернил:
— Все правильно, тетушка Рива. Мануфактура нужна. В больницах солдаты лежат в грязных портках. Красногвардейцы не имеют одежды. Я б на вашем месте так не убивался.
— А ты попробуй наживи, потом раздавай.
— Иосиф, — продолжал Абрам, — у вас ведь был еще склад железа? Все, что есть, свезите на завод. К вам придут за ним.
Новый вопль мадам не дал ему закончить.
— Еврейская ли у тебя душа? Разве мы не одной веры, что ты разбойничаешь?
— Вера, тетушка Рива, у нас разная. Ваша вера — как можно больше для себя набрать. А я для себя ничего. Иосиф — здоровый, молодой. Хорошо разбирается в металле. Пойдет работать на завод. Мы его примем с удовольствием. Зачем ему торговать мануфактурой? А насчет сестры, — засмеялся Абрам, — так в семье не без урода. Согласны забрать обратно.
Вопя и проклиная, мадам ушла.
— Средь белого дня! Грабители! — долго несся ее крик.
…Прошли дни. Мы, ребята, снова гуляем на своей улице. Тепло. Только под ногами чмокает весенняя грязь.
Вдруг мы слышим щелчки. Сначала слабые, затем — как щелкание кнута.
— Стреляют, — говорит Левко.
И тут сразу же нарастает какой-то гул. Цокот копыт, конское ржание, топот. Сначала вдали, потом близко.
Мы прячемся за забором чужого двора. Сквозь щель смотрим на улицу.
Мы видим, как торопливо исчезают люди. Закрывают ставни, двери. Напротив, в лавочке, приказчик опускает железный лист на окно.
На противоположной стороне появляется группа конников. Один из них привстал на стременах и показывает рукой в черной блестящей перчатке на домик.
Там Советы и комбед.
— Гляди, это же сын Деревянко с бандой, — тихо говорит Левко и стремительно выскакивает из нашего укрытия.
— Там же батя! — кричит Танька и тоже выбегает на дорогу.
Но Левко тянет Таньку назад что есть силы. Танька не идет, упирается и садится прямо в грязь.
Слышны крики, выстрелы. Танька плачет, но все же возвращается. И мы опять втроем, уже за забором.
Левко перебегает от одной щели к другой.
У меня стучат зубы. Мы не видим — кто, но в бандитов уже стреляют.
Один остается лежать.
«А как же Абрам, сидит в ревкоме и ничего не знает»? — думаю я.
Издали видно, что кого-то ведут. Скоро все удалились. Надо бы как-то сообщить в ревком.
— Там батю убивают, — плачет Танька. — Наверно, его повели.
Мы не можем усидеть. Надо всех спасать.
— Бежим скорей в Совет! Там черная скрынька. Телефоном называют, — говорит Танька. — Я видела, как батя крутит. Наверно, сумею.
Мы несемся через площадь. Двери в Совете настежь открыты, стекла выбиты. На стене висит железный ящик с ручкой. Танька крутит ручку, снимает трубку и, обливаясь потом, кричит тоненьким плачущим голосом:
— Ревком, ревком! Миленькие, батю убивают!
Затем она смотрит на другой конец трубки и спрашивает у Левко:
— А сюда тоже говорить надо? — и, снова надрываясь, кричит: — Танька я. Тимохи Коваля дочка. Батю убивают! Всех комбедов убивают! Скорей, скорей…
Что-то в телефоне шипит, щелкает, шепчет.
Тогда Левко берет трубку и кричит:
— Ревком, банда приехала. Скорей! — затем подождав секунду, в сердцах швыряет ее, и она, беспомощно раскачиваясь, повисает на шнуре. — Надо бежать в ревком. Я швыдче вас. Вы только будете путаться, — сурово говорит Левко.
На улице слышен звон ударов церковного колокола. Так звонят на пожар.
Недавно улицы были пустынны, а теперь отовсюду бегут люди.
Левко бежит. Его вылинявший пиджак вскоре скрылся на дороге к лесу, где находится ревком.
Куда бегут люди? На Церковную площадь. Мы с Танькой устремляемся за ними.
В середине площади стоят со связанными руками мужчины и женщины. Вокруг них вооруженные солдаты. На коне гарцует офицер.
— Это Деревянко, — шепчут люди. — Его зовут кадетом.
И вдруг улицы наполняются мощным ревом заводского гудка.
Лица связанных окровавлены, и нельзя понять, кто это. Да и вечереет.
Громко плачет какая-то женщина.
Тут нас теснят к самой середине.
Плотным кольцом подходят рабочие. Сколько их! Все, как один, в черных пиджаках и картузах. Лица закопченные. Прямо с работы.
Кадет Деревянко смотрит прищуренными глазами.
Но кто там связан? Передают друг другу имена: Тимоха Коваль, Соня Циммерман, Оксана и еще незнакомые имена.
Танька заливается тоненьким звонким плачем, а меня будто кто-то схватил за горло.
Деревянко поднимает черную блестящую руку и слабым тенорком с хрипотцой кричит:
— Братья, рабочие! Граждане свободной России! Посмотрите, кому вы подчинялись? Большевикам и жидам. Большевики сеют смуту, а жиды пьют христианскую кровь.
В его слова врывается какой-то нестройный гул.
— Не всех мы поймали, — кричит он уже сильнее, подвывая в конце каждой фразы. — Остальные — среди вас. Больше им прятаться негде. Выдайте предателей России — и будете жить, как жили. Разве вам плохо было?
— Только буржуазия — помещики и фабриканты — пьет рабочую кровь! — раздается из толпы густой, такой знакомый голос, что захватывает дыхание. Из всех голосов в мире я узнаю голос Абрама. — Бейте белобандитов, товарищи!
Молнией сверкнули выстрелы, шашки. Солдаты кинулись к связанным. Но рабочие смяли их. У всех под куртками оказались револьверы, обрезы, куски железа и просто камни.
Я видела, как поднялась на дыбы лошадь Деревянко и, всхрапывая, била ногами, сбрасывая зарубленного седока.
Толпа бежит, уносит меня и Таню. Я прихожу в себя где-то на окраине. Бегу домой. А выстрелы хлопают. Куда делась Танька? Так бегу, что не могу дышать. Я никогда не была так далеко от своей улицы. Бегу и хватаю ртом воздух. Все во мне клокочет.
У калитки испуганная мама:
— Ты слышала выстрелы? Где тебя носит? Можно с ума сойти с этой девчонкой.
У нас дома теперь рано встают. Отец уходит на работу в швейную артель. Там шьют полушубки для Красной гвардии. Он мастер. Он много и горделиво хвастается маме все вечера.
Соня уходит в школу. Она теперь учительница.
Я и Хаим учимся после обеда. С утра мы уходим в очередь за хлебом, за солью. Или в лес собирать дрова. Сухой валежник.
Однажды Абрам приходит рано утром, когда все еще спят. Он ночевал в ревкоме.
— Я на пару дней должен уехать. Ты не волнуйся, мамочка. Буду как штык.
Мама отвечает встревоженным голосом:
— Зачем тебе ехать? Имеешь должность, паек и сиди на месте.
— Нужно, мама. Могут угнать хлеб, много хлеба, в Германию. Что будем сеять? Что кушать?
— Что тебе, больше всех надо хлеба? Боже мой! Зачем ты берешь винтовку? Ты будешь стрелять? — спрашивает мама с потерянным лицом.
— Нет. Это так. Для безопасности.
Но мама волнуется. Она обращается к отцу:
— Что ты молчишь? Скажи ему. Ты же отец, запрети и — конец делу.
Вмешивается Соня:
— Если не будет зерна, крестьяне не посеют, и снова будет голод.
Мама не соглашается:
— Абрамчику надо сеять? Пусть едут, кому надо. Он даже не знает этих крестьян. Вечно за всех лезете. А что матери горе — это вас не касается. — И, заплакав, мама обнимает Абрама: — Будь осторожен. Береги себя. Вперед не лезь. Не стреляй: можешь кого-нибудь еще убить.
— Я буду осторожен. Я буду лезть последним.
Дверь захлопнулась за Абрамом.
Я вхожу в кухню. Возле рукомойника, делая вид, что умывается, беспомощно плачет отец.
Соня
Ночью нас будят отдаленные хлопки. Затем опять тихо. В окно раздается настойчивый стук. Слышен шепот дяди Тимохи:
— Позовите Соню.
Весь дом просыпается.
Соня поспешно собирается уходить. Она отступает с красными.
Мама в слезах помогает ей.
— Доченька! Может, тебе не ходить? Ты же учительница. Кто тебя тронет?
Соня молча натягивает мешок на плечи. Затем целует нас всех. Уже с порога она говорит:
— Мамочка, старших пошли в рабочую слободу. Там их спрячут надежные люди. Пусть идут, не дожидаясь утра.
А утром, печатая шаг, по нашей улице идут чужие солдаты. В коротких шинелях и блестящих шапках. Рядом с ними появляются усатые казаки в плюшевых шароварах с кисточками на папахах.
Лея приходит на минутку. Только забрать узелок. Она спешит домой. У них на квартире — немецкий офицер.
Тянутся дни без Советов. Тревожные, тяжелые дни. Тишина, закрытые ставни, разговор шепотом.
Вечером стучат к нам в дверь. Идет открывать отец. У него дергается правая щека. Он держится рукой за грудь. Кашляет.
— У нас тиф, господин товарищ!
Слышится удар. Стон отца. Кто-то падает.
Пересиливаю страх и бегу в сени с воплем:
— Тиф, тиф, тиф!
Не знаю, что это за болезнь, но беляки почему-то боятся этого слова. А слово так легко выговаривается.
С пола поднимается отец. Через всю щеку у него багровый рубец. Кровь сочится по серебряным вискам.
Из двери видно, как уходит, позванивая шпорами, офицер. Нагайкой хлопает по блестящим сапогам.
Отец сказал правду: у нас действительно тиф. Болеет мама. Временами она поднимается и откидывает седую голову на спинку кровати. Она никого не узнает. Но чаще говорит внятно, беспокоится о нас. Спрашивает про Абрама.
Приходит фельдшер. Он выслушивает маму и качает головой:
— Нет сердца, — говорит он и моет руки.
Я украдкой решаюсь бежать к Лее. Бегу и, всхлипывая, повторяю:
— У мамы нет сердца. Никого не узнает. Мама умирает. Старших нет никого.
Рукавом вытираю слезы. Пробегаю двор Тимохи. У дома казаки с кисточками. Из дома слышен крик. На крыльце кровь. Она струйкой сбегает по ступенькам.
Гонимая ужасом, бегу дальше. Добегаю до ворот Гордонов. Открываю калитку. Что это? Двое здоровенных казаков тащат Иосифа со скрученными назад руками. Он в нижней разорванной рубахе. Лицо его окровавлено. Он упирается и рвется обратно в дом.
Кричу что есть силы:
— Мама умирает! Лея, сердца нету!
Выбегаю на улицу. Слышу топот погони. Уже на далеком расстоянии оглядываюсь и только тогда соображаю, что это стучит у меня сердце.
Куда я забежала? Людей мало… Эта дорога ведет к кладбищу. Поворачиваю обратно.
Навстречу мне по улице идет красиво одетая барыня. Она придерживает рукой синий шелк длинной юбки. Ее лицо неясно под вышитой черной сеточкой. Вуалетка опущена с бархатной шляпки. Виднеется край золотых волос.
Я стою как зачарованная и гляжу, как легко ступают ее атласные туфельки. Вот она подходит ближе. Затем барыня оглядывается, раскрывает бисерную сумочку, протягивает мне конверт и говорит скороговоркой знакомым голосом:
— Возьми, спрячь. Не бойся, это я — Соня.
— Соня? — таращу я на нее глаза и хочу закричать на всю улицу. Но вижу палец в перчатке, прижатый к губам.
— Положишь его с левой стороны за камень, где похоронен дедушка. Никому не говори, что встретила меня. Только одной маме.
— Мама больна, — заикаясь, говорю я. — Очень больна.
Соня секунду стоит, кивает мне головой и, глядя в сторону, шепчет:
— Потеряешь письмо — мне плохо будет. К маме придут.
Я прячу письмо в чулок и, не оглядываясь, поворачиваю к кладбищу. «Под камень с левой стороны». Я очень хорошо помню это место.
Надо идти тихо, чтоб не потерять бумагу. Я думаю о Соне. Не могу в себя прийти. Где это она взяла такую шляпку с сеточкой? А туфли? Где она живет? Куда она пошла? И какая важная! Будто дочка Иоффе. Наверно, стоит надеть дорогие туфли, и получается такая походка. И я на миг забываю все, становлюсь на цыпочки и стараюсь так же идти в своих ботинках.
И почему у нее другие волосы?
Проселочная дорога, поросшая редкой травой, выводит меня к оврагу, откуда торчит низкорослый обглоданный березняк. Тут издавна ломают веники. Опускаюсь в овраг, там вдруг что-то зашуршало. Я прижимаюсь к траве. Из-за кустов показывается кошка. Я достаю Сонин конверт. Любопытство одолевает меня, и я начинаю читать:
«Демьян — предатель. Осторожно. Школа 350 штыков, дом попа Платона — два Максима».
Я ничего не понимаю, снова кладу конверт в чулок и возвращаюсь на дорогу. Если б видел Левко, какие я бумаги ношу! Разве можно ему знать? Никто не должен знать.
Сразу за оврагом неогороженное кладбище. Покосившиеся, поросшие мхом камни-надгробия с высеченными острыми клинышками букв. Старые березы над могилами шевелят ветками и шепчут.
Ни за что бы не пошла сюда ночью. Даже днем мурашки бегут по спине.
А вот и дедушкин камень. Я хочу достать письмо. Чулок сполз до самого ботинка вместе с подвязкой. А бумага? Где моя бумага? Ее нет. Я ползу на четвереньках, вглядываюсь в каждую травинку, не верю своим глазам и шарю руками. Бумаги нет. Я снова ползу. На примятой траве нахожу свои следы. И — о радость! Вот она, моя бумага, за кустом. Теперь я ее уже не потеряю.
Как только положила бумагу на место, вспомнила про маму. Возвращаюсь быстро домой и сажусь возле нее. Если б она знала, что я видела Соню. И какую Соню!
Но мама лежит с закрытыми глазами.
Прибегает Лея. Она часто дышит и не может выговорить ни слова. Ее рыжие волосы растрепаны, блузка завернулась на бок. Глаза неподвижны и стеклянно блестят.
Отец перестает шить. Все с тревогой смотрят на нее. Мама открывает глаза и тоже смотрит на Лею. Лея спохватывается, начинает собирать шпильками волосы и поправляет блузку.
Мама говорит неожиданно внятным голосом:
— Леечка, что ты стоишь? В доме нечего делать? Верно, все голодны. Я скоро поднимусь.
Мама молчит некоторое время. Я вижу, как отяжелевшее лицо Леи оживает. Она еще там, среди разбоя. Но глаза ее теплеют.
— Леечка, — с трудом продолжает мама, — теперь мадам Гордон довольна? Нет Советов, нет Абрама — ей хорошо. Старая женщина, и не понимает, что евреям жить только при Советах…
Наступают вновь красные. Свирепствуют белые. Я с сестрами сижу в погребе. Стреляют. Так бухают орудия, что земля дрожит.
С мамой осталась Геня. Всю ночь сидим в погребе. А может, день. Противная каменная плесень. Улица со своим светом кажется далекой-далекой. Оттуда иногда проникают разные вести: то убита в каком-то дворе женщина, то казаки грабят. Наконец кто-то прибежал и сказал, что рабочие восстали и взяли власть.
Полные недоверия, решаемся открыть дверь. Яркий свет бьет в глаза. На углу стоит рабочий с винтовкой. На фуражке у него красная ленточка. Она красным пламенем горит на солнце.
Расходимся по домам.
Местечко оживает. Поток тачанок, облепленных грязью, с веселым скрипом катится по нашей улице. Раздаются крики простуженных голосов.
Жизнь возвращается.
Приходит Соня, ничего не рассказывает и выглядит по-прежнему. Не сон ли то был? А конверт под дедушкиным камнем?
Через несколько дней ранним весенним утром мы видим, как со стороны площади к мельничным амбарам потянулись подводы с мешками. Зерно! Хлеб! Едет подвода, а с обеих сторон на конях бородатые люди с винтовками. И снова подвода — и снова обросшие конники.
Мы с Танькой бежим к амбарам. Со всех сторон подходят люди, что-то сгружают, носят, смеются, запевают песни.
Вот скоро и Абрам приедет. Я всматриваюсь в конников. Может, так зарос, что и не узнаешь.
Соня тоже суетится. Наверно, волнуется за Абрама.
Танькина мама зачем-то позвала Соню и секретничает с ней. Соня сразу на глазах изменилась. Стала желтая, глаза воспаленные.
Дома я узнаю, что Абрам, Кирилл и еще много красноармейцев ранены, лежат в Луганске, в госпитале.
Отец с Соней собираются к нему. Маме ничего не говорят. У нее осложнение.
— Надо бы что-нибудь испечь, хоть бы какие сухарики, — советует Лея.
Она так и осталась у нас. Иосиф неизвестно где.
— Хорошо бы, —
говорит Соня. — Вот завтра дадут муку вместо хлеба…
Высчитывают, сколько получим муки на день. Что будет есть семья. Все отказываются от муки. Для Абрама. А я нет. Мне очень хочется свежего хлебца. И я молчу.
Только когда Танька приносит от своей мамы кулечек «для раненых», я тоже соглашаюсь. Все смеются. Оказывается, будет завтра похлебка с галушками. Всем хватит. И Абраму.
От Таниного кулечка Соня отказывается.
— А вы как?
Танька отвечает:
— Мама сказала «никак».
Но вечером неожиданно муку приносит отец, белую, полнаволочки.
— Где ты взял? — расстраивается Соня.
— Где взял, там взял, — сурово отвечает отец, — Довольно цацкаться.
— Что это значит? Ты ходил просить, унижаться перед богачами? Перед врагами Абрама, нашими?
— Успокойся! Я не так ходил, как ты думаешь, — непримиримо и жестко сказал отец. — Они мне всю жизнь недоплачивали. Я так ходил, как бы Абраму понравилось. Я свое взял.
— Боюсь, что они тебе дали, как отцу Абрама.
— Черт с ними! Лишь бы мы ему гостинцы повезли.
— Не дай бог Абрам узнает, — сомневается еще Соня.
Соня — заведующая школой. В конце коридора комната, в которой она сидит. Называется кабинет. Справа от нее комната — учительская. Мы с Танькой бегаем всю перемену возле кабинета и ждем. Ждем, когда понесут вещи для детей. Пальто и ботинки. Скоро звонок и — ничего нет. Мы заглядываем в дверь к Соне. Там сидит поп — отец Платон — и разговаривает с Соней. Его голос гудит, как труба.
Мы неплотно закрываем дверь и все слышим:
— Как же без закона божьего? — гудит поп. — Вы, как дщерь Израиля, хотите устроить гонение на православную веру? Немыслимо…
Соня отвечает твердо, но тихим голосом.
— Вы человек грамотный, понимаете, что такое закон божий. Кем он составлен? Он не нужен ученикам единой трудовой школы. Дети будут изучать другие законы — человеческие, социальные. Подлинную правду возникновения жизни.
— Вы, барышня, творите насилие над ангельскими душеньками.
В это время «ангельские душеньки» выехали на парте из класса и, разогнавшись, грохнули о стенку. Удар был такой сильный, что из учительской вышли все учителя.
Когда все стихло, нам опять слышно, что говорят в кабинете.
— Чему вы хотите учить ребят? Новому завету? Как ударят в правую щеку, подставь левую? Почему же Деревянко не подставил по божьему закону левую щеку? — уже громче говорит Соня.
— Богохульствуете, барышня! Искажаете истинную веру в господа бога… Буду искать на вас правду… — И поп поднялся.
— Я не барышня. Я заведую трудовой школой.
Мы отскочили от двери. Поп прошел, как большая летучая мышь.
Наш учитель, Архип Иванович, без руки. Недавно из госпиталя. Командир красноармейский. Мальчики ходили за ним толпой. Левко вовсе без него жить не может.
Они приносят карту России, и Архип Иванович начинает рассказывать о фронтах. Сначала палочкой показывает губернии, где какая банда, а потом кружалки рисует на доске.
Иногда мы пишем и читаем. Раз я спрашиваю:
— Когда будет арифметика?
На меня кричат мальчики. И даже Таня шипит:
— Чего ты себя выказываешь? Вроде тебе никак без арифметики нельзя.
А Архип Иванович отвечает:
— Арифметика никуда не уйдет. Не время сейчас забивать голову ерундой. Тут дела такие…
И опять все взоры — на карту.
Нарисует Россию на доске, расставит по местам «Шкуро», «Мамонтова», «Корнилова», «Каледина», «Деникина» и «Петлюру» и — «никто не тронь». Назавтра он выравнивает плавные линии — отсекает часть губернии, ломает вчерашний фронт.
Положение на фронтах не всех интересует. Бывшие «ручки» — это ученики бывшего реального училища — играют в карты, читают «Пещеру Лейхтвейса». Девочки пишут записки друг другу.
— Архип Иванович! Это урок географии? — спрашивает Левко.
— А какой тебе еще урок географии? Как хочешь считай. Тут тебе география, тут тебе и история…
— Архип Иванович, а чего хотят деникинцы?
— Архип Иванович, а куда дойдет Мамонтов?
— Архип Иванович, а как добраться до Корнилова?
— Зачем тебе до Корнилова? Ты что, за царя? Только рассказываю, как до своих добраться. Вот здесь Красная гвардия отражает Деникина…
Урок продолжается.
Сзади гогочут ребята, занятые своим делом.
— Кто нарушает порядок? Может быть, вы контра тут есть? И вас не интересует, что творится на фронтах? Не интересует, кто пьет рабочую кровь, замахивается на революцию?
Все замолкают. Потом Архип Иванович велит записать в тетрадь все, что нарисовано на доске.
Вечером Соня разговаривает с отцом. Говорят о Луганске, госпитале, Абраме.
— Чуть жив. Между жизнью и смертью, — вздыхает отец.
Соня говорит о немцах, деникинцах. Наконец и мне пригодились уроки учителя. Я выпаливаю:
— Деникин в Донбассе. Колчак на Урале…
Соня останавливает меня:
— Откуда такие знания?
Я показываю тетрадку. Сначала она смеется, а потом недоумевает.
Назавтра Архип Иванович простодушно рассказывает в классе:
— Софья Яковлевна не может разуметь, что я, как человек военный, только увижу карту, сразу делаю размещение войск. Когда я воевал, разве такие карты у нас были? Эх, если б такие! А вот она не может никак в разум взять. Какое теперь может быть ученье? Никакого. Времени хватит. Еще научимся. Сказано — женщина.
На меня все смотрят с укоризной. Мне стыдно. Но учитель продолжает:
— Но она дело все-таки придумала. Теперь отдельные учителя будут вас учить. Каждый по своей арифметике.
Класс возмущенно гудит.
— А я по военному делу буду учить. Даже винтовку будем разбирать. Это мое дело. Настоящее. Все-таки Софья Яковлевна поняла, что к чему.
Все насторожились.
— Кто хочет к доске? Рассказать про фронты? Куда какой враг забрался? Каково нашим? Уже есть среди вас совсем большие. У нас бывали разведчики помоложе. Сейчас время-то пороховое. Не подходит изучать бирюльки-фитюльки. Всякие фигили-мигили…
Поднимает руку Левко. Но Архип Иванович машет на него: ты-то знаешь, мол.
— Больше никто? Эх вы, мелюзга, темнота. Нет у вас нужной жилки.
Поднимает руку Костя Головко. Костя — сын мельника, шалун и выдумщик. Мальчик лет тринадцати. Я, не оборачиваясь, слышу, как идет к доске Костя. Неверным гулким деревянным шагом. Смотрю. Голова Кости подпирает потолок. Что это? Оказывается, он идет к столу на ходулях. Какая-то девочка не понимает и испуганно кричит.
Архип Иванович оглядывает Костю и неожиданно тихо говорит:
— Это брось, слышь. Глупо.
Класс смеется. Мальчишки стонут от удовольствия. А Костя продолжает путь.
Входит Соня. Она с порога осматривает класс, увидев Костю, деловито подходит к нему:
— А ну, слезь. Я посмотрю ходули. Кто тебе делал? Сам? Ну и молодец!
— Да я еще и не то могу сделать, — хмуро говорит Костя.
— Да что ты? А дерево есть?
— У отца есть. Да и лес недалеко.
— Вот если б делать полезные вещи. Например, костыли. — Соня обратилась к Архипу Ивановичу: — Я была в госпитале в Луганске. Не хватает костылей для раненых. Сделаем, повезем сколько-нибудь.
— Это было б хорошо, — говорит Архип Иванович. — Не для баловства. Надо работать.
— Архип Иванович, на следующий час вас просят старшие классы. Рассказать о фронтах. Пусть карту перенесут. Здесь будет урок арифметики.
Архип Иванович расцветает.
— А завтра, — обратилась к нам Соня, — уроков не будет. Все классы пойдут на завод — на субботник. И вам найдется посильная работа. Перед выходом вам дадут горячий обед здесь, в школе.
Поднялось несколько рук.
— Я не могу идти работать. Мама меня не пустит. Я занимаюсь музыкой и могу испортить пальцы, — сказала краснощекая девочка Аня, дочь инженера.
— С пальцами ничего не случится. Работать надо всем. В школе, ребята, придется теперь часто работать. На днях организуем занятия по труду. Мастерские.
— Нет, нет, я не приду.
— Захочешь учиться в школе — придешь. Разве ты больна? Работать полезно.
— У нас дома прислуга, — вызывающе отвечает Аня.
— Софья Яковлевна, а кто повезет в госпиталь костыли? — не успокаивается Левко.
— Тот, кто будет хорошо учиться и работать..
За три недели учебы Таня никогда не поднимала руки и ничего не спрашивала. Когда к ней обращается учитель, она, не двигаясь, кричит:
— Чегой-то?
А тут она поднимается и говорит:
— Тетя Соня! Она работать не хочет, потому что, наверно, за царя. Намедни мне говорит: «Убирайся, мужичка, отсюда!» А куда я денусь? Это школа всех нынче.
— Только не «тетя Соня», а Софья Яковлевна, — поправляет ее Соня.
Таня не понимает.
— Кто это? — удивляется она.
Гимназистка Аня плачет. Ее утешают подружки с других парт, глядя исподлобья на Соню.
А я довольна, что она плачет. Пусть не хватает на перемене Левко за руку. А он и рад! Бегает с ней так, что голубой бант в ее светлых косах бьется, как бабочка! Так ей и надо! Ясно, она за царя!
Назавтра мы собираемся на субботник. Все веселятся. В коридоре две барыни, важные, надутые, в богатых манто, спрашивают, как пройти к заведующей.
Мы с Танькой ведем их к Сониным дверям. Соня сегодня одета в черное ситцевое платье, на голове красная косынка. Она тоже ведь идет на субботник. Мне досадно, что она не в костюме. Соня о чем-то говорит с учителями. Барыни входят к ней.
Одна — мать Ани. А вторая? Никто не знает…
Из кабинета сразу же слышен недовольный голос одной из барынь:
— Мой ребенок не будет ходить на всякие работы. Она изнеженная и слабая.
— У нас будут посильные работы. И работа только приносит пользу и укрепляет организм. Почитайте об этом…
— Вы нас не учите, — грубо обрывает барыня спокойную речь Сони.
Из Сониной комнаты постепенно выходят учителя. Они тоже в рабочей одежде.
— Как вы вообще в учителя-то попали? Вы ведь брюки шили. Даже моему мужу. Мы не можем доверять вам своих детей…
В полуоткрытую дверь видно красное Сонино лицо. А может, так кажется от косынки.
— А вы сами не научились до сих пор брюки шить? Что же теперь ваш муж делает? Без брюк ходит? Вот скоро мы организуем учебную мастерскую, ваша дочь научится, тогда вы будете спасены.
— Я не отдам такой учительнице свою дочь!
— Нет, она пусть ходит. Коллектив ее воспитает, будет человеком. Ребенок — это будущий человек. Это не игрушка. Она сама разберется скоро, как ей лучше жить.
— Скоро придет другая власть и вас, таких учительниц, тут не будет…
— Поверьте мне, гражданки, что мы здесь навсегда.
И что-то тихо стала выговаривать матери Ани. Мы чуть расслышали:
— Зачем ребенка берете на рынок и приучаете торговать? Я видела вас с ней там. Этого мы вам не позволим. А музыке мы своих учеников тоже будем учить. И работать они будут… Кстати, все учителя здесь будут из прогимназии.
Дальше ничего нельзя разобрать. С шумом выходят барыни от Сони.
Пока мы едим горячий суп и пьем чай с повидлом, Соня с высоким учителем в очках куда-то уходят. По всей школе передают:
— Строиться по четыре человека. Пока не будет заводского гудка — никто не пойдет к заводу.
Заводской гудок! Разве может быть, чтоб заводской гудок ожил? Так давно никто его не слышал! И мы пойдем по гудку!
Радость охватывает всех. Заводской гудок! Ровный радостный гул, который всегда заглушал все звуки дня.
Архип Иванович уже выстраивает старшие классы. Как тогда — на манифестации. Наверно, это не работа! Это праздник.
Мы с Танькой беспричинно смеемся и крутимся. Левко подсчитывает, кто не пришел. Почти ни одной девочки из прогимназии. Мне жалко, что они не видят, какой у нас праздник! Еще никогда не было, чтоб ребята так строились.
И вдруг что-то загремело. Мы побросали свои ряды и кинулись на улицу. Это Соня привела оркестр.
Учителя шутят, дружески ей говорят:
— Ну и надумали! Это интересно!
В коридоре Левко тоже мне говорит:
— Выдумщица твоя Соня! — А сам так и сияет.
— Под музыку пойдем, под настоящую музыку!
Опять строятся по четыре. Впереди старшие классы. Кто с лопатками, кто с ломами. У нас все принесли тряпки. Только у Левко какая-то железная палка. И он ее торжественно держит, как винтовку.
Вдоль школы выстраиваются длинные шеренги ребят. Кто-то крикнул: «Пока не прекратятся разговоры, не тронемся».
Все замирают. Замолкает оркестр. Странное утро. Что ни скажут в самом начале колонны — слышно всем.
— Сейчас подойдем к заводу. Как будет гудок — первые войдем в ворота. А за нами уже рабочие.
Это Сонин голос. Левко стоит впереди меня. Его лицо торжественно и строго. Мне оно кажется ненатуральным. Тихо, без музыки мы подходим поближе к заводу. И вдруг счастливым басом запел гудок. У меня затрепетало сердце. Чуть не плачу, сама не знаю отчего. Вместе с гудком загремел оркестр и грянула песня:
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе…
Где-то вдали, рядом с учителями, ученики несут красный флаг школы. Оглядываемся: нас догоняет Аня с подружками. Мы на них даже не смотрим. За нами ломающимися рядами идут рабочие, женщины и старики.
Во дворе завода валяются ржавые станки, мусор, кирпич, щебень. Посредине возвышается какая-то машина. На ней стоят люди. Дядя Тимоха поднимает руку. Лицо у него строгое, требовательное.
— Граждане! Вы восстанавливаете сейчас свой завод! Это наш завод. Теперь у него нет другого хозяина. Да здравствует Ленин!
Опять играет музыка.
Еще говорят люди.
Гремит песня:
Владыкой мира станет труд…
Через несколько дней вечером Соня рассказывает отцу:
— Надо было видеть, как в совдепе встретили музыкальную школу. Они не знали, что делать от счастья. Выписали бочонок повидла специально для учеников. Я говорю: «Зачем?» А они свое: «Пусть уж будет полный праздник! Дожили наши дети!» Прямо сердце переворачивается.
— Так ты все-таки взяла повидло или нет? — интересуется отец.
— Взять-то взяла. У меня другая забота. Где взять учителя? Гителе, которая обучает богачей, боюсь, будет по-старорежимному учить. Уж старенькая очень…
— Это какая же Гителе? Кацнельсона вдова? — выясняет отец.
И советует:
— А Шимеле, что на скрипке играет на свадьбах? Сейчас он в этом, как его… ну, что надуты пузырь бьет…
— Оркестр, что ли?
— Да, да… Он так играет на свадьбах, что любо… у него было много учеников.
Вечером мы собираемся в школе, в большой комнате, где стоит пианино. Ребят собралось много. Ходит между нами учительница арифметики Домна Пантелеймоновна. Зовем мы ее Домна Панталоновна. Высокая, грузная, с маленьким курносым лицом, она раньше преподавала в прогимназии и на уроке называет нас «медамес». И мы ее дразним «медамес». Сейчас она разговаривает с Петровной, которая стоит в белой куртке возле кастрюли с повидлом.
— Сколько ребят! — сокрушается Петровна. — Не хватит кастрюли. Неужто столько будут музыке обучаться?
Домна Пантелеймоновна отвечает что-то такое, отчего мы все впадаем в тревогу:
— Нет, что вы? Будет отбор. Уверяю вас, что останется несколько человек.
Мы независимо отворачиваемся и теряем уверенность, что поступим.
Левко любит надоедать. Он не может промолчать:
— Домна Пантелеймоновна, — спрашивает он, — а как это отбор?
Учительница презрительно выпячивает тонкие губы:
— Это когда проверяют голос, слух. Будут выяснять, кто что умеет.
— Ну, что? — спрашиваем мы с Танькой у Левко.
Вокруг него собрались еще мальчишки.
— А, чепуха на постном масле, — важничает Левко. — Будет вроде представления в цирке. Может, петь, а может, плясать заставят. Это я не боюсь, — по-своему понимает Левко.
— А я ничего не умею, — тоскует Таня и по привычке переплетает золотого цвета косички. — Мабудь, не дадут мне повидла.
— Твои батя комбед. Небось… — успокаивает ее Левко.
— А когда будем выдавать повидло? — слышится голос Петровны. — Когда придет Софья Яковлевна с учителем, будет поздно.
— А хватит на всех?
— Понемножку хватит. Давайте и раздадим сейчас.
В три ряда выстраивается очередь. Кто не знал про повидло и не принес ложку — получает в руку. Левко и Костя держат в ложках блестящие бесформенные комки и едят тут же. Чавкают, сосут. Я хочу отнести маме.
Вдруг входит невысокий человек с курчавой головой. Вместо лица — большие очки. Под замусоленным пиджаком — рубашка с бантиком. В руках — скрипка. Это Шимеле. За ним входит Соня.
Большинство ребят заторопились поесть и измазали носы, щеки.
Соня говорит:
— Послушайте раньше учителя. Потом организуем группу учеников в хоровой кружок.
— Как это — хоровой? — спрашивает Костя.
— Петь группой. У вас будет учитель пения.
Шимеле вынимает из зеленого футляра пузатую скрипку. Вдруг он заиграл. Поднес к узкому подбородку скрипку, провел несколько раз смычком по струнам и заиграл. Послышалось такое пение, что все на минуту замолкли.
Я смотрю на Шимеле, на пляшущие по струнам пальцы и пытаюсь сосчитать, сколько пальцев у музыканта. Решаю, что очень много.
Звуки, чистые, радостные, льются сердце.
Но Левко не может стоять спокойно. Он отодвигает впереди стоящих и вдруг пускается в пляс. Что он, ошалел? А может, так надо, чтоб пройти отбор? А Левко приседает, охает и выбивает чечетку. Как по команде, еще несколько мальчишек начинают плясать. Поднимают руки вверх, кладут их на бока и выделывают всякие штуки.
Наверно, так надо.
А я не умею.
Музыкант перестал играть и почему-то вкладывает скрипку в зеленый ящичек.
Соня хочет что-то крикнуть, но сзади мальчишки затягивают:
Виють витры, виють буйни, аж дерева гнуться…
В песню вплетается визг. Соня машет руками. Музыкант у двери говорит ей:
— Я бывал, поверьте, на сотнях свадеб. Но такого сумасшедшего дома не видел. Будьте мне здоровы!
Соня в отчаянии смотрит на нас. Уже перестали танцевать и петь ребята, измазанные в повидло, а Соня стоит с убитым лицом.
Левко говорит ей:
— А хто ж его знав… Как это отбор?
Я смотрю на Соню, на усмехающуюся Домну Пантелеймоновну и боюсь, что Соня заплачет. Подбородок у нее дрожит. Через мгновение она разражается неудержимым смехом. Левко снова пускается в пляс. Это уже от радости.
А вскоре мы снова приходим в музыкальную школу. На этот раз нет повидла. Ребят собралось немного. Стоит столик. За ним старенькая седая женщина в черном шелковом платье — Гителе, учитель пения, и Соня.
Сначала зовут девочек. Учитель пения прижимает скрипку подбородком и берет одну ноту. Потом он говорит, чтоб мы повторяли. Он и в классе это говорил. Но у меня не получается. Еще идут девочки. У них тоже не очень хорошо получается.
Тогда Гителе садится за пианино и берет звуки, а мы должны повторять. Мы гудим по-разному. И пищим и кричим. Но вот очередь доходит до Таньки. Она ни за что не идет. Мы ее выталкиваем. У нее на глазах слезы. Снова берет учитель ноту. Таня дребезжащим голосом повторяет. «Еще!» И вдруг она повторяет свободно и легко. Следующие ноты она тянет, как скрипка, чистым серебряным голоском.
Из-за двери выглядывают мальчишки.
А Таня забыла про нас: поет ноту за нотой. Наконец Таньку отпускают. Она идет радостная с широко открытыми голубыми глазами и розовым ртом.
За столом волнение:
— Это же будет Вяльцева, — восторгается Гителе.
— Только для одного такого таланта надо открыть музыкальную школу, — говорит Соня.
Так мы начали учиться музыке.
Отец и мать
Соня обучает папу грамоте. Она приносит из школы белые картонки с черными большими буквами. Хорошо ему. Я учила без картонок. И сейчас неплохо поиграть в картонки. Но отец, как маленький, не дает притронуться к ним. Наверно, когда человек начинает учить буквы, он делается таким. Он капризничает, сердится на Соню, что так медленно его учит:
— Как ты можешь быть учительницей? Удивляюсь! Целый месяц не можешь научить газету читать.
А Соня смеется:
— Тихо, папа! Здесь же ученицы моей школы. Что ты подрываешь мой авторитет?
Но отец еще ворчит:
— Хорошие смешки!
Начинаются занятия с отцом. Мне нравится смотреть. Они занимаются редко. Когда Соня свободна. Придет с работы и накормит больную маму. Если отец не стоит в хлебном хвосте. Это очередь за хлебом.
Складываются три картонки: «Д», «О», «М».
Отец прочитывает «дом». У него захватывает дыхание.
— Дом!! — говорит он.
Соня спокойно смешивает картонки и говорит:
— А теперь…
Отец кричит с такой силой, что даже мама пугается:
— Что ты сделала? Ведь больше так никогда не получится!
Он схватывает картонки и лихорадочно ищет эти буквы. Соня быстренько снова ставит «Д», «О», «М». Отец с трудом успокаивается.
— Тебе легко приходится. Про отца бы подумала.
Руки у него дрожат.
— Успокойся, папа! Ты просто начал читать. Понимаешь, читать? — как можно бережнее, жалея отца, говорит Соня.
Но отец, не очень доверяя, придвигает к себе все картонки. Занятия продолжаются.
— Ты чего здесь торчишь? — замечает меня Соня. — Уроки сделала? Ноты переписала? Так иди перемени в очереди Рейзл…
Уроки по арифметике я делаю быстро. А что до нот — не дается мне музыка никак. В себе самой я слышу эту ноту или песню, а начну вслух, получается какая-то совсем другая.
Когда молчу, опять во мне течет нужная песня. Прямо мучение. Как будто заперли ее в сердце.
Хлебная лавка находится на Каменной. Это такая улица, на которой происходит гуляние в «Проходку». Она большая, мощеная. Девчата и парни медленно ходят то в одну сторону, то обратно. Но не вместе. Сначала плывут девчата, а потом парни и говорят веселые слова. Девчата оборачиваются, что-то вскрикивают и смеются.
На этой Каменной мы с отцом стоим в очереди за хлебом.
Отец любит разговаривать в очереди.
— Подумать, кто я был до свободы. Батрак батраком. А теперь как никак — мастер в скорняжной. У меня есть подручные. Правильно написано в книге: «Мы не рабы, рабы не мы…»
Отец хвалится своей ученостью. Мне даже неудобно. Ему возражает Самуил, муж тети Златы:
— Вы тогда не стояли в таком хвосте. Лишь бы денежки, иди и купи, что душе угодно.
— А где были денежки? У меня или у вас? Мы калачи покупали?
Тут же стоит тетя Дуня с маленьким на руках. Мать Левко. Она поддерживает разговор.
— Бедняку всегда плохо.
На крыльце лавки показывается фигура мужчины. Он поднял руку.
— Хлеб будет только к вечеру. Расходитесь и не шумите. С пекарни сообщили…
Дальше не понятно, что поднимается. Я прижимаюсь к отцу, чтоб не быть раздавленной.
Самуил с трудом вытаскивает тетю Дуню с ребенком из толпы.
— Тише, граждане! Вы же сознательные…
— А ты сознательный? Шкура, спекулянт! Сам нажрался! Сейчас пойдем в Совет, мы их там растерзаем!
Человек на крыльце отдувается и кричит тоненьким визгливым голосом:
— Граждане! Вы потеряете очередь. Моей вины тут нет.
— Мы стоим пять часов. Почему молчал?
— Граждане, я, как советский торгаш, должен быть вежливым. Не принуждайте меня спихивать вас с крыльца. Я прошу вас, будьте любезны, идите к черту!
В конце концов ему удалось войти в лавку и запереться. Весь свой голодный гнев толпа обращает к Советам.
— Пойдемте, бабоньки. Засели, зажрались! Голодом морят. Раздерем их.
Отец очень вспыльчив. И когда сердится — может оглушительно закричать. Дома мы уже давно не слышим его самой высокой ноты. Но тут он вдруг как закричит:
— Ша! Чего туда идти?
Шум обрывается. Никто не понимает, кто это крикнул.
— А в управу вы тоже ходили, вот так просто, когда вам плохо было? Или вам всем хорошо было при царе?
Не так слова отца, как его сгорбленный вид, потертое пальто и изнуренное лицо как бы заставляют группу разъяренных женщин на мгновение остановиться. И тут же с новой силой раздаются крики:
— Да у него там сын в Совете, так защищает.
— Чего его слушать. Верно, сын…
— Мой сын, — гремит отец, — чуть голову не сложил за то, чтоб не было царя. Лежит в военной больнице. И семья моя тоже голодает. Дочка моя, Соня, — учительница.
Но голос отца сорвался, и он начинает кашлять. Да так тяжело, что наклоняется прямо к земле.
Я тащу отца из толпы. Нам дают дорогу. Женщины смотрят нам вслед.
— Надо тебе ввязываться, — плачу я. — Стыдно прямо.
Через несколько дней отец приходит с работы очень веселый.
— Я сегодня выступал на собрании, — гордо говорит он Соне.
Соня улыбается.
— Ну, давай расскажи… — поощряет она его.
— Наш бухгалтер не принес получку. Мы спрашиваем, почему. Так он нам отвечает: не управился с бумагами.
— Так что ты об этом сказал? Может быть, он, правда, не успел.
— Ты меня считаешь прежним… Не думай… Я часто его вижу пьяным. Как теперь люди берутся пьянствовать? А за столом сидит и дремлет. Я взял да выступил. Я говорю так: «Если инженер сидит и думает, так, может, он что-нибудь выдумывает, а если бухгалтер сидит часами и думает, так я думаю, что он ничего не делает».
Соня заливается, хохочет. Но отец вдруг мрачнеет.
— Как ты думаешь, не турнут меня за это из мастерской?
— Нет, грей их там в хвост и гриву. Не бойся!
— Чего мне бояться? Слава богу, за свой век набоялся. Пристава боялся, Деревянко боялся. Думал, что без Деревянко не проживу. Теперь — хватит.
Только отец начинает собираться в синагогу, приезжает фельдшер. Слушает маму и что-то долго говорит с папой и Соней.
Отец остается дома. И разворачивает букварь. Соня с заплаканным лицом держит маму за руку. Мама лежит такая высохшая, что едва заметна под одеялом.
Мама умирает на рассвете. Всю ночь ее бессвязный крик держал нас возле нее.
В пасмурный осенний день у нашего дома стеной стоят люди. Откуда столько людей знали маму? Соня поехала за Абрамом в Луганск. Его пора выписывать. Крик отца и сестер не дает мне думать об Абраме. Его привозят ночью. В моей опустошенной душе что-то переворачивается. Я бросаюсь к нему. Мы сидим с ним около мамы. Он долго молчит, прижимая меня к себе и, поглаживая неподвижную руку мамы, тихо произносит:
— Мамочка! Хоть бы капельку радости ты видела от меня! Какая будет жизнь, а ты не дожила!
Рыдая, Соня что-то говорит ему об опухоли. Он не слушает ее и гладит, гладит мамину руку. И тут я впервые чувствую, что мне не хватает воздуха. Я глубоко и безнадежно плачу.
Как жить без мамы? Раньше я думала, что очень нужна маме. Всегда она меня ищет, зовет, сердится, когда задерживаюсь. Теперь я начинаю постигать другое.
Долго я еще не верю, что мамы нет. Один раз я играю на пустыре; Левко зовет тетя Дуня. А меня? Почему меня не зовут? И я тоже бегу домой. Стоит только открыть дверь в кухню — и все окажется по-прежнему. Я стою перед дверью. Открыть оказывается страшно. А вдруг ее нет? Действительно пусто. Даже маминой кровати в кухне нет.
Понурив голову, я бреду обратно на улицу. Сирота… Слово какое… Как полынь…
Все в жизни становится по-другому. Вот во дворе мы с детьми Златы ведем хоровод. Мы приседаем, поднимаемся, раздвигаем и сужаем круг:
Вот такой ширины,
Вот такой вышины…
Идет мимо двора квартирная хозяйка. Раздается ее зычный голос:
— Ну, как вам это нравится? Мать умерла, а она играет и поет. Она всегда была такой дрянью…
Я съеживаюсь, как от удара, размыкаю руки и, опустив голову, выхожу из круга. Ребята жалостливо смотрят на меня.
Выбегает соседка Злата.
— Холера на твою голову! — набрасывается она на хозяйку. — Господи милосердный, тебе бы дожить до такой радости, как у этой девчонки! Обрадовалась, что можно дитё обидеть. Царя и то убрали, а она до сих пор тут командует…
Теперь Злату остановить невозможно.
Собираются люди. Я сажусь на камень, свертываюсь, кладу подбородок на колени и горько плачу.
Детство продолжается
В доме холодно и неуютно. Ходим в пальто. Озябшими руками собираю уголь, но домой приношу его очень мало. Дома за хозяйку — Лея. Она прячет хлеб и выдает его маленькими кусочками. Нет обеда. Если достанут хлеб или другую еду, тогда быстро садятся за стол.
Соня не приходит до поздней ночи. Кончатся классы — работают мастерские. Папа говорит: «Не школа, а кузница». Кончатся мастерские — учатся старики и взрослые. Называются ликбезами.
Абрам уехал в какое-то «распоряжение».
В это утро я чищу ложки. Как научилась у хозяйки. Тут я вижу кусок хлеба, завернутый во что-то белое. Все внутри заныло. Я не хочу весь. Маленький кусочек.
Выхожу на улицу, но больше ни о чем не могу думать. Играю, а сама решаю: как только Лея выйдет во двор, побегу и отломлю самую крошечку. Нет, лучше отрежу, чтоб не заметно.
Вот Лея во дворе. Я — шмыг в кухню. Хватаю ножик. Только касаюсь хлеба, как на меня обрушиваются удары по чем попало!
— Проклятая девчонка! На всю семью получила. Порази тебя гром!
Вырываюсь из рук Леи и выбегаю из комнаты. Я знаю, куда мне бежать. К Таньке. Или к Левко. Здесь уже меня не могут побить. Я бегу в порыве горького раскаяния. К своему единственному теперь пристанищу.
Но Тани дома нет. Я бросаюсь к Левко. Он выслушивает меня и говорит:
— Один ход, шпарим на фронт. А то и вправду война прикончится, и нам тогда как? Я буду стрелять. Ты будешь милосердной сестрой. Абрама разыщем.
Я боюсь быть милосердной сестрой и молчу. А Левко продолжает:
— А уж харч там знатный. Только пойду к Архипу Ивановичу зараз, кое-чего вызнаю, а завтра чуть свет выходим.
Успокоенная, я вечером пробираюсь в дом.
Отец ласково говорит:
— На столе кулеш. Садись, кушай.
Жадно, придерживая тарелку, глотаю остывший кулеш. Острая жалость прокрадывается к сердцу. Дома кажется так хорошо, но для меня это потеряно навсегда.
Засыпая, слышу плач Леи:
— Ох, папа, Соня! Грех какой: сиротку побила.
Ко мне подходит Соня, касается рукой моей головы. Я отдергиваю голову, в то же время испытываю горькую любовь к этим милым, теплым рукам. Я заливаюсь слезами. Пусть еще больше жалеют меня. Уйду на фронт. Вернусь с крестом на косынке и с полной сумкой знатного солдатского харча. Жаль только, что нет мамы. Что никогда не будет. А она так мне нужна. И мама уже не увидит меня милосердной сестрой. Никакую не увидит. Так для чего же тогда все?
Утром в калитку заглядывает Левко. Вид у него решительный, губы строго поджаты.
— Я, наверно, не пойду. Жаль папу, Соню…
— Ну, тогда и нечего голову мне морочить. Без тебя хватит мне милосердных сестров.
Этого я не могу допустить. И я уныло плетусь за ним. Взять из дома нечего. Только старое пальто. Оно такое тяжеленное.
— Ну, чего ты тащишься? Лучше тебе сразу ворочаться.
Наш городок уже далеко-далеко. Я хочу есть, и как-то тяжело в голове.
К станции мы подходим вечером. Где-то пыхтит поезд. Вместе с другими мы бежим по маленькому перрону, перескакиваем через лежащих людей.
— Где эшелон на фронт? — спрашивает Левко, и его голос тонет в тяжелом шуме.
Я сразу теряю испуганное лицо Левко. Кругом бегут, толкаются, кричат. Никто ничего не отвечает. Навстречу, рассекая толпу, бежит красноармеец с котелком:
— Не знаете, есть тут кипяток?
Незлобливо отвечает впереди женский голос:
— Как же, наготовили тут для вас кипяток с чаями.
Я бегу вместе со всеми. Что-то кричу и я. Стоит эшелон. Фыркает и оглушающе ревет паровоз.
Люди бегут к вагонам, карабкаются, цепляются, падают. Я вместе со всеми. Но, отброшенная, оттесненная толпой, сваливаюсь в черную жирную лужу.
И уже ничего не хочу: ни на фронт, ни милосердной сестрой, ни на поезд. Ничего.
Вагоны вздрагивают и плывут в темноте. Я тяжело подымаюсь, захожу в вокзал. У женщины на коленях спит светловолосая девочка с измятой красной ленточкой.
Я вся в грязи. Голова тяжелая, и я укладываюсь на клетчатый пол, поодаль от людей.
Дрожа от страха, сырости, я вспоминаю о пальто. Ведь оно было со мной. Потеряла! А может быть, его не было? Я забываюсь в дремоте. И сразу вижу маму. Молодая, красивая, как Соня, она что-то ласково шепчет мне. Вся в белом.
— Мамочка! — прижимаюсь я к ней. — Наконец-то! Я измучилась без тебя! Прости меня за все. Но без тебя никто меня не любит… Не уходи, мама, я с тобой!..
— Встань, тебе холодно!
— Нет, мне жарко!
Мама удобно укладывает меня на протянутые руки и несет, несет. Приятно покачиваюсь. Затем покачивание усиливается. Голове даже больно. Открываю глаза. Передо мной женщина в белом халате. Она трясет меня. Я вскакиваю. С трудом соображаю, где я. Рядом с женщиной стоит рабочий с винтовкой.
— Я — тетя Катя, — улыбается женщина. — А ты кто?
— Я еду на фронт. Левко без меня уехал…
— Так, ясно! Встань! Эка ты грязная. Идем, обмоешься.
Я не спрашиваю — куда. Меня трясет. Зубы выбивают дробь. Идем и идем.
Входим в длинное здание с высокой оградой. Чистая, светлая передняя.
Тетя Катя исчезает за какой-то дверью. Брезжит рассвет. Стою занемевшая, полусонная. Из одной комнаты выбегает девочка с русыми косичками, в одной рубашке. Увидя меня, девочка останавливается, трет глаза, затем смотрит опять и неожиданно покатывается со смеху.
Через несколько минут из той же комнаты просовываются несколько девчачьих головок, и все они, весело смеясь, прячутся. Это надо мной. Куда бы мне деться? Как же тут жить, когда уже смеются? И куда пропала тетя Катя? Может быть, мне вернуться на вокзал?
Я прохожу дальше. Вот на дверях написано: «Дежурная». Я останавливаюсь. Рядом с дверью над полотенцем зеркало в деревянной раме. Вглядываюсь и обмираю: неужели это я? Лицо в полосках грязи. А волосы! Стоят дыбом! Слепленные грязью. В них солома, бумажки, подсолнечная шелуха. Шея грязная, длинная.
Дольше я не могу себя рассматривать. Подальше от людей! Я делаю шаг. Затем уже бегу к выходной двери… Но меня окликает тетя Катя. Она идет почему-то мне навстречу.
Так я вхожу в детский дом.
Через десять дней я — чистая, причесанная, в сером туальденоровом платье с белым воротничком — учу новеньких заправлять койки гладко, без единой складочки, без бугорочка, чистить до блеска ботинки и правильно стричь ногти. Чищу зубы и делаю гимнастику.
Сегодня мне директор сказал, что написали домой. Хотя я здесь недолго, но мне кажется, что я давно, всегда. Может быть, меня отправят домой. Мне кажется, что вся жизнь до детдома была только сном — так все далеко ушло. И наша пыльная улочка с маленьким флигельком во дворе, и семейная фотография над пузатым сундуком, и покореженный дуб на пустыре. Как будто никогда не было грустных глаз мамы, сгорбленной возле букваря фигуры отца, поездки на войну с Левко.
И при воспоминании об этом мне стыдно, что я одета вроде барышни, имею простыни. Каждый раз дают две и наволочку. Мне вдруг хочется сбросить платье, сдать простыни и помчаться домой.
Идет время. Проходят месяцы. Как-то меня зовут к директору.
Я испуганно открываю дверь. И на мгновение обмираю. За столом сидят папа и Соня. Они поднимаются. Соня бросается ко мне первая. Прижимает, целует меня и снова слегка отстраняет.
— Папа, посмотри, какая девица вымахала! — кричит Соня, не стыдясь директора. В глазах у нее слезы.
Отец целуется со мной и продолжает разговор с директором.
— Такая история! Кто бы мог подумать. Все двести пар ботинок покупает казна? И одежду тоже? Где же берутся такие деньги? А мы привезли ей ботинки. Конечно, не новые…
Я тащу Соню в спальню. Показать свою кровать, на которой сплю только я одна. Из-под матраца вытаскиваю мешочек с хлебом.
— Что это у тебя?
— Я откладываю хлеб домой. Сушу его.
Из мешочка видна пушистая зелень.
— Испорчены, — горестно поникаю я.
— Это ничего. Мы теперь больше получаем. И дают каждый день. Все сыты.
В спальню вбегает мальчик.
— Почему ты не вышла на дежурство? — строго начал он и осекся.
Я смущенно и виновато объясняю:
— Это моя сестра приехала. И отец… Он разговаривает с директором, — немножко хвастаюсь я.
И, встретившись с улыбчивым взглядом Сони, он говорит:
— Здравствуйте. Ничего, я назначу следующего.
— Это председатель детисполкома — Арсюша Лопатин. — И, оглянувшись, я добавляю: — Если б ты знала, как я тряслась раньше, когда встречала его.
— Почему? — спрашивает Соня. И предлагает: — Пойдем на улицу, расскажи, как ты живешь, и про Арсюшу. Он обижал тебя?
Мы выходим в весенний сад. Большой дом фабриканта Веснера, где помещается наш детским дом, со всех сторон окружен садом. Вокруг живая изгородь. Лужайки и пруд.
Я иду с Соней, а сама думаю, что ей рассказать. Впервые я имею такую возможность. Сколько раз за это время я мысленно жаловалась ей. Как я тогда страшилась непонятного, нового. Но за это время очень многое изменилось в моем представлении. Насмешливые, горластые, враждебные ребята оказались хорошими, чуткими товарищами.
— Вот про Арсюшу, — шепотом говорю я. — Он был раньше как разбойник. Это я только тебе. Нам нельзя это вспоминать.
И я подробнее рассказываю. Когда я сюда пришла, то через несколько дней Арсюша и его товарищи (тридцать четыре мальчика) бросили в воспитателя — дядю Андрея — железные миски с горячим супом. Арсюша свистнул, а они бросили, вот…
— Но что же все-таки случилось? Или так, без причины? — интересуется Соня.
— Нет, с причиной. Было очень холодно. Мальчик Саша из их спальни не послушался воспитателя. Тогда дядя Андрей взял да раздетого вытолкнул на мороз. Он стоял недолго. Арсюша узнал, поднял крик, побежал к директору. Мальчика ввели в спальню, а у него ноги как синька, которой стирают белье. Мальчик болел долго. А Арсюша хотел Ленину писать, а потом ребята меж собой договорились и бросили миски с супом.
— Ну, а вы? Испугались?
Мне вспоминается, как мы сидели с раскрытыми ртами, сдерживая крик. Как мы, ложась спать, составили все десять кроватей, легли вместе, прижались телами и тряслись.
— А дальше? Чего ты замолчала? Теперь он председатель. Все его слушаются. А про свою жизнь, — добавляю я, — и не знаю, что сказать. Я научилась вышивать.
— Домой хочешь?
Я колеблюсь и опускаю глаза.
В кабинете директор прощается с отцом.
— Приезжайте обучать своему ремеслу ребят, — говорит он.
— Спасибо. Я теперь мастер. Учеников хватает.
— А вы чего грустная? Пусть поживет. Не грустите, — говорит директор Соне. — Придет время, когда самые обеспеченные родители станут просить, чтоб ребят устроить в закрытые школы. И не будет мест. Вы до этого доживете!
— Но это, наверно, плохих детей. С которыми дома не будет сладу, — обнимает меня Соня.
— Вы не правы! У родителей не бывает плохих детей. А Юдася — хорошая девочка, слов нет.
Это я — хорошая девочка. Я больше не голытьба, не голодранка, не нянька, не дылда, не шантрапа, не дармоедка! Я — хорошая девочка. Это сказал старенький строгий директор. Я бы заплясала.
Я долго смотрю вслед уходящим Соне и папе. Тепло переполняет мне грудь. Милые мои!
Меня окликают подруги. Возвращаюсь к играм и делам. Детство продолжается.
Дорогие читатели!
Понравилась ли вам эта книга?
Автор и издательство просят вас присылать свои отзывы по адресу: г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34, Редакция художественной литературы.

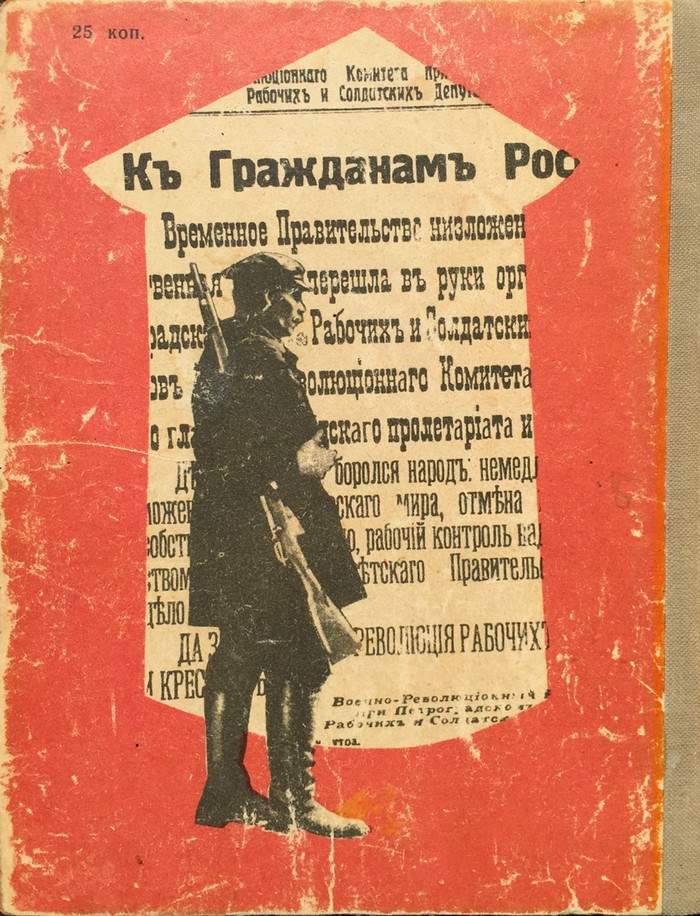
Примечания
1
Цадик — духовный прорицатель.
(обратно)
2
Гой — иноверец.
(обратно)
3
Ввиду дефекта страницы отсканированной книги абзац восстановлен частично и предположительно. —
Прим. книгодела.
(обратно)
Оглавление
Сапоги
Гарнитур
Цадик
Пожар
Мои сны
«Сядь-посиди»
Абрам
Соня
Отец и мать
Детство продолжается
*** Примечания ***