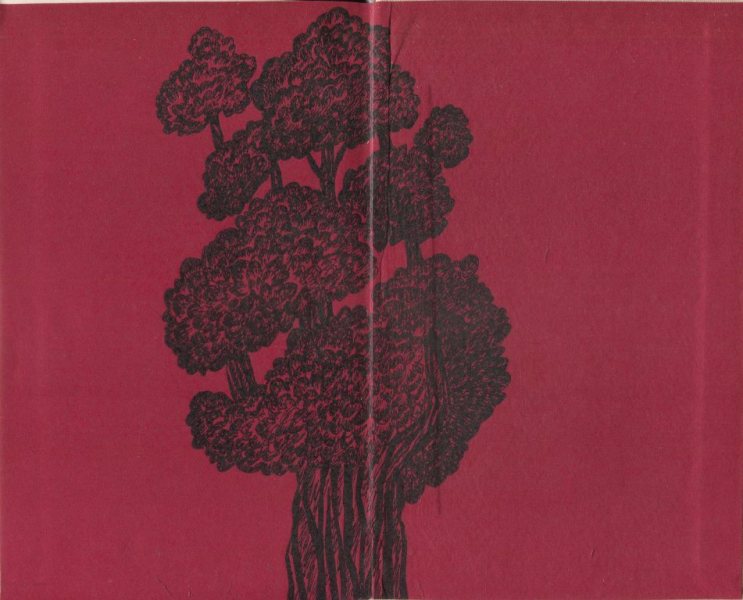
Юрий Антропов
ИВАНОВСКИЙ КРЯЖ
БИБЛИОТЕКА РАБОЧЕГО РОМАНА

«Ивановский кряж» — мой второй роман. Как и в прежних своих произведениях: романе «Перевал», повестях и рассказах, — мне хотелось показать богатый внутренний мир простого человека, чьим трудом созидается будущее. Однако в «Ивановском кряже» эта задача усложнилась: я попытался хотя бы отчасти вскрыть истоки той великой нравственной силы, которая присуща характеру советского человека.


Юрий Антропов
ИВАНОВСКИЙ КРЯЖ
роман в новеллах
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Даже не верится, что с тех пор, как я впервые встретился с Юрием Антроповым, прошли годы… И вот молодой писатель стал зрелым мастером. Путь пройден непростой и нелегкий.
Наша первая встреча с Ю. Антроповым произошла на пятом Всесоюзном совещании молодых писателей, созванном в Москве ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей СССР. Этому очному знакомству предшествовало заочное. Как руководитель одного из семинаров прозы, я прочитал рукопись геолога, работника полевой геологической экспедиции Ю. Антропова. Несколько рассказов и короткая повесть молодого писателя были написаны рукой неуверенной, нетвердой, но сквозь эту «шаткость» строк чувствовалось пристальное внимание к жизни и человеку, к подробностям быта и труда, и завораживала та мягкая, лирическая атмосфера, сопровождавшая героев, создание которой было тайной молодого автора, его индивидуальным свойством. Чем это достигалось, как возникало и складывалось, — над всем этим думать не хотелось, так как тебя покоряло и захватывало течение мысли и образов писателя. «Вот это уже талант», — думалось тогда.
Другие писатели, прочитавшие рукопись Ю. Антропова, единодушно, но каждый по-своему, пришли к этой же точке зрения.
На семинаре мы, писатели старшего поколения, и они, писатели младшего поколения, совместно и обстоятельно обсудили творческую работу Ю. Антропова. Помнится, что обсуждение было доброжелательным, но строгим, требовательным.
Первые же публикации после этого обсуждения показали, что Ю. Антропов плодотворно осваивает уроки своего литературного дебюта, он пришел в литературу с серьезными намерениями и навсегда.
Сегодня радостно сознавать, что Ю. Антропов оправдал надежды своих старших товарищей. Ныне он автор многих рассказов, повестей, таких талантливых романов, как «Ивановский кряж» и «Перевал».
В творчестве Ю. Антропова есть любимый герой — это человек труда. Как правило, герой Ю. Антропова не обладает какими-то внешними исключительными чертами, не совершает каких-то необычайных подвигов. Скорее наоборот: он предельно скромен, сдержан в действиях и словах, скуп на жесты, начисто лишен позы. Вместе с тем он не иконописен, случаются у него и ошибки и недопонимания, и по жизни он идет своей, временами зигзагообразной дорогой. Но чем он значителен, что его превращает в тип, характерный для русских людей, в фигуру советского времени — это высота его нравственных устоев, неподкупность его совести, преданность трудовой традиции своих предков, общественный интерес.
«Ивановский кряж» — произведение как раз о таких людях. Автор назвал книгу «Роман в новеллах». Возможно. Хотя лично мне кажется, что эта книга — цикл повестей. Но сущности это не меняет.
«Ивановский кряж» — понятие не столько географическое, сколько психологическое, литературное. Среди самых больших вершин этого кряжа образы Ивана Комракова и его сына Веньки. Лучшая повесть, или новелла, в этом романе «Перед снегом». В ней мастерство Ю. Антропова достигает подлинной яркости и вдохновения.
Ю. Антропов в расцвете своих творческих сил. Мы, читатели, вправе ждать от него новых произведений о нашей советской жизни, о нашем человеке, созидательную силу которого Ю. Антропов хорошо знает, как живой участник социалистического строительства.
Георгий Марков
Часть первая
ЖИВЫЕ КОРНИ

1. ДОЛГИЕ СУМЕРКИ
Перед утром в морозном чутком воздухе было явственно слышно, как что-то надсадно вздыхает, сипит, ухает в той стороне, где играют сполохи света. Одно и то же повторялось каждую ночь, тревожа душу своей потаенностью.
На этот раз Иван Игнатьевич пробудился еще раньше, чем накануне. Похоже, что он и во сне слышал какой-то гуд.
«Может, это старость-то и приходит? — мелькнула у него мысль. — Раньше ведь ничего такого вроде не наблюдалось за мной, чтобы по ночам прислушиваться. Сказать Ане — высмеет…»
С неохотой отстраняясь от теплого бока жены, Иван Игнатьевич тихонько поднялся, стараясь не скрипеть кроватью. Пока ноги сами собой нашаривали шлепанцы, он пытался угадать по синему, в мерцавших блестках, стеклу с махровыми разводьями куржака, который теперь час и сильный ли стоит мороз.
Подойдя к окну, Иван Игнатьевич долго дышал на стекло, делая проталинку. Сквозь крохотный пятачок, который тут же норовило схватить ледком, он глянул одним глазом на улицу. Стыло оцепенели в палисаднике голые, подернутые изморозью яблоньки. Совсем неживыми выглядели они под матовым светом луны, тоже окоченевшей за ночь, которой не было конца. Нигде ни огонька. Казалось, уже и не отогреться всему живому. Только над заводом и полыхало зарево, высвечивая трубы и шлаковый террикон, издали похожий на окатистую сопку после пожара. Вот будто бы из нутра этой черной махины, как мнилось по ночи, и возникал берущий за душу звук, перехлестывал через ограду и знай себе гулял по притихшему городу. Хочешь — слушай, а хочешь — спи спокойнехонько, не так уж это и докучливо, если по правде-то.
«У Ани вон спроси, — подумал он о жене, чувствуя спиной ровное ее дыхание, — так еще и не поймет, о чем это идет речь».
— Ты чего вскочил? — Легкая на помине, зевнула она спросонья.
— Спи, спи. Я так просто.
Ивану Игнатьевичу до того стало неловко, будто невесть что он сделал на виду у людей. Для отвода глаз протопал в ванную, пошумел там водой, но, когда вернулся к постели и, еще не успев лечь, услышал, что жена опять запосапывала, снова тихонько подошел к окну.
— Ты чего полуночничаешь? — По ее голосу Иван Игнатьевич понял, что она и не собиралась засыпать.
«Еще притворяться вздумала!» — хотел было он упрекнуть жену, маскируя свое смущение, но вместо этого покорно вернулся, присел на постель с краешку, посидел ссутулившись, зажав руки меж колен, и сказал:
— На пенсию, наверно, выйду нынче.
— Что это ты? — удивилась Аня.
— Ничего. Мне ж скоро шесть десятков исполнится, — ровным голосом произнес Иван Игнатьевич, словно думал об этом уже не раз и не два и давно привык к такой мысли.
Аня озадаченно притаилась. Сроду не водилось промеж них такого, чтобы обсуждать, сколько кому исполнилось лет и что из этого вытекает. Жили и жили. Справляли, конечно, друг дружке именины, все как у людей, и каждый помнил, само собой, с какого кто года, но чтобы вслух подсчитывать свои лета…
«Приболел он, что ли?» — встревожилась она.
— На здоровье пока что не жалуюсь, дело не в этом, — будто угадал он ее мысли, — хотя глаза и барахлят маленько. Еще бы! Столько простоять у печей, — стал он уже и оправдываться, — да это какие глаза надо, чтобы не повредились от огня? Сама посуди. Но ты не пугайся, — живо обернувшись, Иван Игнатьевич с игривостью похлопал жену по плечу, — еще ничего мои гляделки, смотрят пока что, насквозь тебя вижу.
— Чего ты меня насквозь видишь?
— А то. Как ты с Петром Малюгиным перемаргиваешься, когда в карты играем.
— Мелешь, че не надо…
Иван Игнатьевич, довольный своей шуткой, с нарочитой громкостью расхохотался на всю комнату, чтобы жена, чего доброго, не подумала, что он и впрямь ревнует ее к соседу.
— Тише-то не можешь? — одернула она, все же, судя по голосу, заметно сконфузившись. — Нашел время в хохотунчики играть. Ребятишек разбудишь.
«Их разбудишь, как же! — Иван Игнатьевич на мгновение представил, как спят беззаботно в смежных комнатках Бориска и Наташка. — Их и пушкой не подымешь с постели».
Он побурчал по тому поводу, что младший сын и меньшая дочка всю жизнь, видно, будут для матери ребятишками, хотя вымахали уже под потолок. Парню в армию скоро, уже восемнадцать стукнуло, а девица-молодица тоже с паспортом, вполне взрослые люди.
Конечно, если рассудить, ничего особенного в том не было, что мать все-то называет их ребятишками, дети есть дети, сколько бы лет им ни было, но Ивана Игнатьевича порой брала обида за старших, за Марию и Вениамина, которые давно жили отдельно, со своими семьями. Ведь их-то, большуху и большака, мать перестала звать ребятишками еще тогда, когда они подростками пошли на завод — Марию взяли ученицей в химцех, а Веньку удалось пристроить к слесарям. Рано стали работать, время тогда выпало такое, и жалко было отцу своих старших детей, и порой он укорял, правда, мысленно всякий раз, своих последышей, что жизнь им досталась куда более легкая и они плохо знают ей цену.
Аня, потеряв надежду на продолжение разговора, который затеял сам Иван Игнатьевич, спросила, не скрывая раздражения:
— Ну, так все-таки скажешь или нет, какая муха тебя укусила? «На пенсию, на пенсию…» — передразнила она. — Заявляешь среди ночи. Будто я привязала тебя к заводу. Неволю, что ли? Я ж давно говорила: «Уходи, Ваня, увольняйся, сколько можно мантулить?» И сейчас то же самое повторить могу. Стажу хватает с избытком, а к твоей пенсии прибавкой будет моя зарплата. Много-немного, а шестьдесят рубликов каждый месяц домой приношу, всё давай сюда. И хватит нам. Ребятишки скоро на ноги встанут, вон Бориска на работу хочет устраиваться, а Натку я в свою контору попробую принавадить. Может, секретарь-машинисткой попозже примут, пускай пока приглядывается да тюкать учится.
Такая длинная, вроде как загодя продуманная складная речь жены обескуражила Ивана Игнатьевича. Он-то ведь просто так брякнул, без всякой задней мысли, подумалось ему в ту минуту о чем-то грустном — вот взял и сказанул. А тут, извольте радоваться, целое выступление по этому поводу приготовлено: как да что планируется на тот случай, если он выйдет на пенсию.
— Никуда я пока не собираюсь, — рассерженно фыркнул Иван Игнатьевич, словно говоря тем самым, что рано его списывать со счета. — Так и заруби себе на носу. Я ж совсем другое имел в виду.
— Какое еще «другое»?
— А такое!.. Сорок седьмой год помнишь? — помолчав, спросил он помягчевшим голосом.
Аня не могла взять в толк, при чем здесь сорок седьмой год, ведь речь-то шла совсем о другом. Блажит Иван, не иначе. Хотя и трезвый, как стеклышко, ни капли в рот не брал накануне.
— Ложись-ка ты лучше спать, отец.
— Спать? Наспимся еще, належимся. Это у нас все впереди. Ты лучше ответь…
— Ну помню, помню! — нетерпеливо перебила она. — Как ты его забудешь, этот сорок седьмой год, если в ту осень и стало мне ясно, что подзастрянем мы тут, в твоем распрекрасном городе…
Иван Игнатьевич поначалу обрадовался, что жена не забыла ту послевоенную пору, когда металлурги получили первый цинк на новом заводе, который вырос за время войны на пустыре. Но в ее голосе вдруг засквозило какое-то недовольство, вроде как она жалела теперь о том, что остались тут навсегда, пустили корни, а не уехали к ней на родину, на Балхаш, как собирались сделать поначалу, когда он уверял ее, что вот отольют первую чушку цинка — и дело с концом, можно и трогаться. Неужели так и не привыкла к здешним людям, к местам и все тянет ее на родину?
Уточнять, бередить человеку душу он не стал, неурочное было для этого время — ночью, ближе к рассвету, все воспринимается обостренно, с болезненной ясностью, будто перед смертью. Ссутулившись еще больше, только и сказал:
— В сорок седьмом году, Аня, мы опрокинули за цехом первую вагонетку со шлаком. Первую. Самую первую! Теплый он был, шлак-то, горячий даже, и снег под ним зашипе-ел… А теперь погляди-ка в окно — целая сопка выросла этого шлака. Гора, черт бы ее побрал! — с неожиданной яростью повторил Иван Игнатьевич. — И теперь гора эта как бельмо в глазу. А по ночам еще и гудит, испереязви ее.
— Кто гудит? — не поняла Аня.
— Кто, кто!.. Мне вот, знаешь ли, тошно думать, что я уйду скоро, совсем исчезну, а она, испереязви ее, останется.
— Да кто она-то, господи?! — Жена в недоумении даже приподнялась в постели.
— Гора эта, кто же еще! Террикон.
Теперь Аня подняла голос:
— Ты чего сегодня дурочку из меня строишь? Да еще ночью, со сна. Дня тебе не хватает, что ли?
— Никого я из тебя не строю. Я серьезно говорю. Не по себе становится, когда представишь вот так однажды, что наворотить-то ее наворотил, эту махину, да и в кусты, а убирать за тебя дядя будет.
Аня, сдерживая себя, сказала:
— Иван! Что с тобой седни? Ты че куралесишь? Ну, террикон. Ну, понавалили этого шлаку за столько-то лет — так еще бы, это ж завод, а не печка! И пускай она стоит себе, эта гора. На твоем дачном участке она, что ли? Да ведь и то имей в виду, что тебя это теперь не касается ни с какого боку.
— То есть как это не касается?
— Ты ж не плавильщик теперь. Пять лет уж как не имеешь никакого дела со шлаками… — Аня спохватилась, что зря заикнулась про это, он же сам не виноват был, Иван-то, что из-за плохого зрения его перевели на другую работу. Спохватилась, но уже не могла остановиться. — Ты теперь, Ваня, сам по себе. Почти что самый главный человек на комбинате, — она легко перешла на шутливый тон. — Вся казенная резиновая обувь через твои руки проходит. Главный клеильщик — вот ты кто! Все бабы заводские к тебе шастают клеить. Гляди, не приклейся к которой, а то ведь я живо отвулканизирую…
«Э-эх, дура баба, хотя и хороший по жизни человек, — потерянно горбясь, втихомолку посетовал Иван Игнатьевич. — Где же ей понять? Если бы она сама нажгла в плавилке этот шлак, тогда бы иначе запела!»
Впрочем, говорил он себе, ему трудно объяснить не только жене, сроду не бывавшей на заводе, но и мужикам в цехе, плавильщикам, что именно тревожит его с некоторых пор. Стоит лишь заикнуться насчет шлака: дескать, надо разгрести дотла этот проклятый террикон, переплавить в металл, извести в дело, а потом уже и на пенсию уходить, — как они поднимут его на смех.
— Ну чего же тут непонятного?! — взмолился Иван Игнатьевич, словно забывая, что рядом только одна Аня, нет никого из цеховых.
Разбуженные, выглянули из своих комнаток Наташка и Бориска. Двери их боковушек выходили справа и слева в комнату чуть побольше, которая была спальней родителей, хотя звали ее залой, потому что здесь, кроме кровати, стояли телевизор, буфет, круглый стол, этажерка и аквариум.
— Вы что это? — спросила Наташка, кутаясь в одеяло.
— Базарите на весь дом, — буркнул Бориска и прошлепал по комнате босыми ногами. Через минуту он вернулся из туалета и, увидев, что ничего не изменилось за время его отсутствия — как сидели на постели, так и сидят старики, а сестра в дверях застыла, будто привидение, — сказал насмешливо: — Педсовет, что ли, заседает? Опять ребятишкам-тунеядцам промывание мозгов будет?
Позевывая, Бориска скрылся в своей комнате, однако дверь за собой закрывать не стал. Из темноты, с продавленного диванчика с валиками, на котором он спал, ему было хорошо видно всех троих в лунном свете, широко падавшем сквозь окно залы. Не спрятав, как обычно, голову под одеяло, Бориска услышал, как Наташка спросила отца с матерью еще раз:
— Почему не спите-то?
— Иди, иди, Ната, ложись, не стой. Мы просто так, беседуем с папкой, — успокоила ее мать.
— Беседуют они…
Отец, поколебавшись, остановил Наташку, уже готовую повернуться и уйти.
— Доча! Скажи-ка вот. Ты грамотная у нас. По-твоему, как это будет выглядеть, если, к примеру, террикон, ну который на заводе-то, так и останется на веки вечные?
— Как останется?
— А вот так. Гора горой.
— Да уж чего хорошего!
— А! — вскинулся Иван Игнатьевич, трогая за плечо жену. — Что я тебе говорил? Даже молодежь понимает, на что уж она нынче… Молодец, доча! Я вот и талдычу мамке твоей непонятливой, что не пойду на пенсию до тех пор, пока не разгребу этот шлак, испереязви его!
— Весь?
— Весь. А чего с ним чикаться?
В его голосе не было и намека на шутку. Да Наташка и без того поняла, что он сейчас не шутит. У него была привычка в минуты гнева вставлять чудное слово «испереязви», которое было в его запасе самым бранным. С некоторых пор взял он эту моду — перенял у своего тестя. Дед Наташки — а ему уже за семьдесят — то и дело по-стариковски беззлобно бурчит: «Язви вас в душу!», и вот отец переиначил это присловие на свой лад. «Переплюнул тестя», — острил Бориска.
— Он, Ната, — сказала мать, — до ста лет собирается ползать на карачках по этому террикону.
Иван Игнатьевич подобрался, как бы заранее готовясь к спору с кем-то еще более упрямым, нежели собственная жена.
— Хотя бы и на карачках! Я вам вот что скажу. Вам тут хихоньки-хахоньки, а это ж двойной вред получается. Исключительно!
— От кого вред? — вроде как простодушно удивилась Аня. — От нас?
— Да не от вас! Не прикидывайся, что не понимаешь. От этого самого террикона, я говорю, вот от кого.
— Кому ж он вредит? Стоит — и стой себе.
— Вот если бы ты, папа, хотел убрать трубы, которые дымят и газ в атмосферу пускают, — поспешно встряла Наташка, пытаясь сбить запал отца, — тогда бы другое дело. А террикон…
— Это ж похуже, чем газ! — перебил он ее. — С газом у нас борются, в газетах про него пишут, про загрязнение воздушного бассейна. Улавливатели строят. Проектируют, конструируют, деньги большие отпускают.
— Ага там… — ухмыльнулась мать, не обращая внимания на предостерегающие знаки дочери. — Много уловили, как же!
Даже Бориска, про которого все уже забыли, поддакнул из своей боковушки:
— И рыбу в Каменке травит твой завод. — Это он, ясное дело, отцу шпильку подбросил, маменькин сынок. — Плевенького пескаришку — и то не поймать.
— И не надо! — взвился Иван Игнатьевич. — Тоже мне рыбак, вся задница в ракушках. Привык лодыря гонять. Тебя хлебом не корми — дай с удочкой посидеть. Все лето проболтался на речке, вместо того чтобы какую-нибудь профессию освоить.
— Во, я же говорил! — хохотнул Бориска. — Промывание мозгов. Раньше по воскресеньям эту процедуру делали, а теперь и по будним дням. Да еще среди ночи. Поспать не дадут…
— Тебя ночью только и застанешь дома.
И тут мать, к досаде Ивана Игнатьевича, вступилась за Бориску, это уж как водится. Даже удивительно, что не сразу, а дала отцу возможность сказать ему «пару ласковых». Вскакивая с кровати и закрывая дверь в Борькину комнатку, она зашипела:
— Хватит нотации читать, пусть дети спят. Иди, иди, Ната, ложись. Мы сейчас тоже утихнем. А то нашли время митинговать…
Но прежде чем угомониться, Иван Игнатьевич все же решил досказать свою мысль:
— Я говорю, почему двойной вред получается? А вот почему. Мало того что террикон загромождает землю, так ведь он еще и вроде издевается над ней.
— Над кем издевается? — Аня застыла у кровати.
— Над землей-матушкой. Ведь в шлаке тьма-тьмущая разных металлов, испереязви их… Мы же взять-то их не сумели до конца. Потери-то какие! Землю роем, руду из шахт везем эвон откуда, а здесь добрая половина ее уходит попусту в шлаки. Изнутри вынули — снаружи похоронили. Извольте радоваться!
Ивану Игнатьевичу казалось, что такие его слова жаром пробьют сердце жены, дойдут до ее сознания, но услышал от нее совсем другое.
— Ну, тогда беги хоть сейчас, разгребай, сыпь себе пригоршнями за пазуху, если уж так приспичило… — сказала она с тихим вздохом и легла на кровать.
Он тоже вздохнул, встал, снова подошел к окну, отмахнул тюль и припечатался губами к стеклу, дыханием сгоняя на нет махровое снежное кружево и чутко вслушиваясь в приглушенный рассветом гул.
Задолго до начала смены явился Иван Игнатьевич в плавильный цех. Еще с порога уловил он, что шахтные печи гудели ровно, загрузили их вовремя, и как только соберется бригада, можно долбить летку.
Ему хотелось задержаться, глянуть, как обычно, на розлив, прежде чем идти к себе в подсобку, но сегодня у него было заделье — Иван Игнатьевич решил с утра пораньше осмотреть террикон вблизи.
Ржавая лоханка вангреса, вся в брызгах и нашлепках свинца, стояла пустая, готовая к приему тяжелого расплавленного металла. Иван Игнатьевич походя хлопнул по ней ладонью. Холодная, вроде как лишняя тут. Но только стоит заполнить ее неспокойным от жара свинцом, как она и сама станет горячей, пульсирующей, задышит вся, будто живая.
Мимоходом поздоровался с плавильщиками, не остановился даже, как обычно-то делал. Его гнало, толкало с утра пораньше в дальний конец плавилки, к высоким открытым воротам. Лишь краем глаза отметил, как из конверторов сыплют крупные искры, горохом падают на цементный пол.
Ворота были нараспашку. Видно, недавно вывезли шлак. Железная колея шла к черному террикону, макушка которого слабо курилась в мутных сумерках.
«Ишь, испереязви его, какой вымахал! Под самое небо…» — подумал Иван Игнатьевич.
По шпалам, присыпанным переновой, — на рельсах снег раздавило, сплющило колесами в бурые лепешечки, — потопал он, часто переставляя ноги.
Давненько не хаживал этой дорогой. Чего ему тут делать? Правду сказала Аня: все это не его была забота, но его печаль. Ни с какого края не касалось даже тогда, когда он работал в плавилке. С него спрашивали готовый металл — черновой свинец, ну да и штейн еще, который шел на конвертор, где получали черновую медь. Тут тебе и заработок, тут тебе и разные показатели.
Будто заводной, не видя ничего вокруг, жил тогда плавильщик Иван Комраков. На завод бежал — дума была про то, все ли там ладно, у сменщиков, от этого и настроение зависело. А восемь часов промелькнет — обратно в бытовку торопился и домой, домой скорее, вроде уже и по своим соскучился. Если, конечно, не было объявлено какое-нибудь собрание, партийное или общецеховое, мало ли какое назначалось. Поэтому помнил в цехе только одну дверь — самую главную, для людей которая. А эти высокие широченные ворота служили для «кукушки» и платформ, чтобы шлак вывозить, — коротенький паровозик, по-птичьи посвистывая, вталкивал сцепку прямо в цех, под ковш экскаватора, а после загрузки тащил к террикону.
Кучка шлака давно превратилась в горку, а там незаметно целый курган поднялся посреди города — вон еще когда тревогу-то бить надо было! Только в самое последнее время мало-помалу наладились пользоваться шлаком. Правда, пока что робко так, вроде как для отвода глаз. Брали одну-две калоши
[1] и засыпали в шихту, добавком к основному сырью. Да на шлаковозгоночную установку, которую несколько лет назад соорудили в цехе, тоже шло немного, всего ничего. Но это уже повелось без Ивана Игнатьевича, после ухода его из плавилки.
У подножия террикона, где снег вокруг почернел от шлака, словно и не выбелял его никогда, ноги сами собой остановились. Иван Игнатьевич задрал голову.
«Мать честная! — ахнул он. — Вот это наворотили, испереязви нас, таких металлургов… Добро только переводим. Да это ж сколько теперь надо времени, чтобы разгрести такую гору?! Поди, и жизни не хватит. Молодому-то еще, может, и хватило бы, а нам-то уж, которым седьмой десяток вот-вот пойдет, рыпаться, видно, не приходится. Из самих уж скоро песок посыплется, до шлака ли тут…»
Он долго стоял, глядя на макушку, где черным клювом маячил копер. Покашливая на холоде, обошел вокруг два раза, все так же задирая голову к небу, и вдруг почувствовал, что замерз; по всему телу пробежал озноб. Мороз-то, оказывается, драл немилосердно, ресницы закуржавели и стали слипаться. Тужурка на нем была бобриковая, закаленевшая от долгой носки — зим десять таскал, не меньше, — и вот проникла стужа, охватила грудь и спину. Может, и права Аня, шарфиком надо бы шею-то обматывать, рубахой не укроешь грудь от мороза, теперь уж кровь не та, что была прежде. По давней привычке щеголял с распахнутым воротом, сроду не застегивал на верхнюю пуговку и галстук надевал только по большим праздникам.
Повернув к цеху, Иван Игнатьевич, пробуя пробежаться по шпалам, невпопад подумал о том, что единственному его галстуку лет поболе будет, чем тужурке, все тридцать, наверно. Тридцать не тридцать, а около того. В сорок седьмом купила его Аня, осенью, когда первый цинк давали. Как сейчас помнит Иван Игнатьевич, ребята пришли тогда принаряженные, хотя и не сговаривались и никто им наказа не давал, как и что. Свое лучшее каждый надел, что в запасе было, хотя не шибко-то что и было в то время: рубаха-перемываха да телогреечка ватная. Вот по случаю и обзавелись ребята галстуками. Вся улица металлургов облепила заехавшего к ним накануне утильщика, который менял на тряпье всякую всячину — и крючки рыболовные, и швейные иголки, и даже галстуки на резинках. За эти коротенькие жесткие висюльки надо было сдать ремья целую кучу, но жены расстарались, набрали тряпок, и почти все плавильщики, подсобники и грузчики пришли на митинг в одинаковых галстуках. После речей повалили на розлив, к печам, даже и не подумав переодеться в бытовке. Так что галстук памятный, особый, не одну рубашку пережил. Да и, сказать по правде, удобный тоже — узел не надо завязывать, словно отлитый, и цвет подходящий, пестренький, не маркий.
А вот с шарфиком просто невезение. Сколько их покупала ему Аня! Каждый раз по трешнице выбрасывала. Как ни наденет он его — в первый же день в бытовке забудет. С непривычки, ясное дело, да и теплый выходишь после душа-то, кое-как оделся — и айда. Ищи-свищи потом этот шарфик.
И все же, сказал себе сейчас Иван Игнатьевич, дело не в морозе и не в том, что шея открыта. Скажи на милость, застудился бы он от этого! Всю жизнь ходил нараспашку — и ничего, здоров-здоровехонек, насморка сроду не знал, а тут уж сразу и замерз? Ну ладно, коли так, то стыла бы только грудь, а у него сегодня и ноги охолодели, и голова какая-то стала — будто не своя. Это в цыгейковой-то шапке с кожаным верхом, которую раньше ни мороз, ни вьюга не прошибали?! А ноги так уж и заледенели в шерстяных носках домашней вязки да в валенках с чунями?!
«Нет, не потому меня заморозило, — семеня по шпалам, рассудил Иван Игнатьевич, — что градусы на улице жмут с потягой. Душа застыла — вот в чем причина!»
Невесело ему сегодня сделалось еще с ночи. Не по себе стало от этой негаданной мысли, дьявол бы ее побрал, что вроде как напрасно жил, вхолостую. Ну, детей вырастил, это само собой. Уж какие ни выросли. А вот по работе… Он же ей половину своей жизни отдал, работе-то, а то и больше. Разве человеку после этого все равно, чего и сколько от него останется? А тут, извольте радоваться, целая гора шлака, из которого металл еще извлекать да извлекать, будет маячить вроде памятника. Пирамида египетская!
Едва войдя в цех, Иван Игнатьевич поискал глазами Истра Малюгина. Перед началом дневной смены начальник плавилки, как обычно, бывал тут, а в последнее время так и вовсе не отходил от шлаковозгоночной печи. Туда и направился прямиком Иван Игнатьевич, на ходу глядя на часы и прикидывая, сколько времени у него осталось своего, не рабочего.
— Ты чего это посинел, а? — улыбкой встретил его Малюгин.
— Посинеешь тут… — Иван Игнатьевич растер нос ладонью. — На террикон ходил.
— Зачем? — уже машинально спросил начальник цеха, озабоченно уставясь на развороченный бок шлаковозгонки.
«Зачем…» — хмыкнул Иван Игнатьевич и тоже невольно перевел взгляд на холодную махину, которая бездействовала уже не первую неделю. Подзалетели они с этой реконструкцией, дело оказалось куда как непростое. Развалить-то развалили старую схему, раз-два — и готово, а вот до ума довести, наладить новое оборудование все никак не удавалось, и Малюгин теперь небось костерил себя самыми последними словами за свою поспешность. Он же сам настоял, никто другой, чтобы переделкой установки заняться немедля, не откладывая в долгий ящик, хотя времечко было неподходящее. Со дня на день могла нагрянуть комиссия, да не какая-нибудь, а особая, небывалая. Как говорили, по эстетике и культуре производства.
«А ведь и это тоже его идея, Головастика, — подумал Иван Игнатьевич о начальнике цеха. — Чтобы, значит, в передовые выйти по всем статьям».
Он хорошо помнил то памятное партийное собрание. Назначили его, как всегда, в столовой, полторы сотни коммунистов пришло. Столько народу разместить не так-то просто, а тут и скамейки не надо ставить, только стулья развернуть, чтобы не сидели спиной друг к другу. Иван Игнатьевич стоял на партучете в своей плавилке все эти последние пять лет. Сначала считалось, что перевели его в электролитный цех, на более легкую работу, временно, по состоянию здоровья. Однако состояние это не проходило само по себе и не могло пройти — от операции глаза здешние врачи отказались еще давным-давно, а съездить к знаменитому Филатову, пока старик еще был живой, так и не удалось, да и говорили, что очередь у него на много лет вперед. Так и остался Иван Игнатьевич в двойственном положении, про которое словно бы все забыли, — работал на стороне, а на партучете стоял в плавилке. Ни одного собрания не пропускал.
Говорили в тот раз о новом соцсоревновании. И как-то незаметно, без всякой подготовки, Малюгин и внес предложение. Взял слово и сказал:
— А в дополнение к тому, товарищи, о чем сейчас говорил наш парторг, я предлагаю начать борьбу…
— Опять борьбу? — перебил его Сапрунов. Этот шустрый плавильщик вечно встревал там, где его не спрашивали.
— Не мешай ты! — одернул его с места Иван Игнатьевич, болея душой за соседа — Петра Малюгина. Уж очень тот заволновался, даже побледнел слегка. — Ну, значит, начать борьбу… — тихонько подсказал Иван Игнатьевич, и Петро услышал его, потому что в столовой, как только пошикали на Сапрунова, установилась напряженная тишина: все словно почувствовали, что борьба — это не так просто, не красного словца ради, а и впрямь битва.
— …Борьбу за присвоение нашей плавилке высокого звания цеха коммунистической культуры! — срывисто, хрипловатым голосом произнес Малюгин и замолчал, повертел головой туда-сюда, перескакивая взглядом с одного лица на другое, и сел.
«Ну, Петро! — восхитился Иван Игнатьевич. — Все же решился, а! Значит, крепенько высчитал, как и что. Недаром не расстаешься ни на минуту со своей логарифмической линейкой, вроде талисмана она у тебя… А я-то, грешным делом, думал, что ты только помечтаешь об этой самой битве за культуру производства, порассуждаешь о ней за игрой в карты да и смолкнешь, потому что дело это куда как сложное. У нас же с планом частенько заедает, к авралам привыкли, какая уж тут культура… Но, коли так, тогда уж давай жми, Петро, не сдавайся!»
В полной тишине, которую ничто пока не нарушало, Иван Игнатьевич прокашлялся с нарочитой громкостью. Он хотел, чтобы шум поднялся разом, заглушая отдельные выкрики с места, мастаков на которые было в плавилке хоть отбавляй.
Первым очнулся Парычев. Ну, оно и понятно — парторг! Он схватил со стола карандаш и зазвякал им по графину, призывая к порядку, как это ни странно, Комракова, дескать, не вовремя раскашлялся. Вслед за парторгом на бедного Ивана Игнатьевича окрысились и другие.
— Чего ты расчуфыркался?
— Тоже мне, не мог потерпеть…
— Табакур несчастный! — это уже был женский голос.
— Он не курит, а нюхает.
— Вот уж и правда Старая Графиня: один раз кашлянет, другой раз…
Парторг снова постучал карандашом по графину, и мало-помалу собрание угомонилось.
— Не пойму я что-то, Петр Устинович, — Парычев глянул на Малюгина. — Говоришь: «В дополнение к речи парторга…» — а разве же из моего выступления вытекает этот вывод, что плавилка должна немедля включиться в борьбу за высокое звание цеха коммунистической культуры производства? Я про план говорил. О первостепенной важности вопросах. А насчет борьбы за высокое звание… Мы, конечно, начнем ее. Обязательно начнем! Но только не сегодня и не завтра. И включать этот вопрос в повестку дня считаю преждевременным.
Малюгин встал, пощупал свой нагрудный карман, словно собираясь для убедительности вытащить логарифмическую линейку.
— Говори, не стесняйся! — крикнул Сапрунов.
— Так ведь я же все сказал, — пожал Петро плечами и отдернул от кармана руку.
— Как все?
— А что еще талдычить? Я же внес предложение. А оно коротенькое. Ясное. Как дважды два. Прошу записать его в протокол. Ну и высказаться, само собой. И поставить на голосование. Форменным образом.
Парторг долго смотрел на Малюгина. С каким-то укором, как показалось Ивану Игнатьевичу. А под конец усмехнулся еле заметно, вздохнул и перевел взгляд на зал, хотя, судя по всему, никого из сидящих в нем не видел, думая о чем-то своем.
Иван Игнатьевич вспомнил, как на днях Малюгин рассказывал им с Аней о своей перепалке с парторгом. Сидели, как обычно, за картами, вполглаза смотрели какую-то телепередачу, и Петро, как бы между прочим, рассуждал о графике, о ритмичности производства. Словно себя на слух проверял, правильно ли он понимает, прикидывает. Это он частенько такое проделывал — сам вроде картами занят, а говорит им совсем про другое. Они порой и не слушают его. Только и подденет кто-нибудь: «Как ты ходишь-то, с какой карты? Эх ты, фьюминг-установка…» И вот в тот раз Петро возьми и поведай им о том, как схлестнулся с Парычевым. Речь у них с парторгом зашла об этом самом предложении Малюгина — насчет культуры производства. Парычев считал, что затевать это дело рано, а Петро гнул свое: мол, так мы скорее избавимся от авралов. Расшумелись на весь партком! Но ни до чего не договорились. И вот теперь Малюгин вынес этот вопрос на партсобрание. А Парычев-то и уставился на него с таким упреком!
Между тем секретарь, молодая лаборантка, записала в протокол предложение начальника цеха. Она сделала это не сразу, и все пристально следили за ней, за каждым ее движением, будто это все и решало — внесет она в протокол предложение Головастика или нет. И как только она, неподвижно подержав свою авторучку над листом бумаги, начала писать, все же сообразив, что писать надо, чтобы все было честь по чести, собрание расшумелось не на шутку.
— Ну и сморозил Головастик!
— Чтобы нашей плавилке, где сам черт ногу сломит, дали вымпел за культуру?!
— Культура, она разная бывает. К примеру, ты матершинник, тебя в любой момент по указу можно на пятнадцать суток остричь. Так? Но ты хороший производственник! И тебе вполне можно дать почетный вымпел.
— Ага. С золотыми буковками.
— А что? Кислородно-аргонному, например, дали? Дали. Хотя они такое иногда отпускают прямо на работе — уши вянут, которые непривычные если.
— Тоже сравнил! Да в кислородно-аргонном цветы в горшочках по всему залу, хоть целую оранжерею разводи.
— Аквариум с рыбешками умудрились завести!
— Вот то-то и оно. Где уж с ними тягаться…
— У шахтных-то печей и конверторов даже брезентуха каленой становится, от жара ее коробит.
— Да ведь не в цветочках и рыбках дело-то!
— Вот именно. Нам бы шлак из цеха вовремя вывозить. Дожили, что приходится экскаватором нагружать в вагоны. Грохот, пыль столбом!
— И это посреди цеха…
— А тут еще пламя гудит, искры сыплются — ад кромешный, да и только!
Будто сговорившись, все разом примолкли, даже стульями перестали скрипеть и дыхание, казалось, затаили, и в этой полной, внезапно упавшей тишине стало слышно, как за толстой каменной стеной с глухой надсадцей гудят шахтные печи и конверторы. Они тут посиживали себе, лясы точили да покуривали в рукав, а пламя за стенкой знай работало без передыха.
Первым опять нарушил тишину Иван Игнатьевич:
— Трудный, конечно, вопрос. Удивляться не приходится.
— Но ведь культура, товарищи, — следом за ним возвестил сменный технолог, — это же, прежде всего, ритмичность, научная организация труда!
— А мы и не против этой самой энтээр, — сказала одна из женщин. — Научно-технической революции-то. Пожалуйста, свершайте! Только, мужики, вам бы с выпивкой сначала разобраться надо.
— Мы ж по пьянству на первом месте среди цехов! Стыдно сказать… Как смена — так звонят из вытрезвителя.
— Ага, в этом деле мы достигли полной ритмичности!
— А насчет текучести кадров?
Тут Иван Игнатьевич опять поглядел на секретаря и увидел, как она своей авторучкой проехалась туда-сюда по протоколу, зачеркивая только что написанное. А написанное было — предложение Малюгина. Ясное дело. Но эти же выкрики с места запротоколировала. Донельзя удивился Иван Игнатьевич: «Вот те на, да разве ж можно марать в документе?!» Когда-то и сам он сиживал за председательским столом, доводилось в свое время, но ни разу ничего подобного не видывал.
Пока он переживал тихонько, собираясь с мыслями, стали голосовать, принимать к обсуждению предложение Малюгина или нет.
Допоздна засиделись в тот раз. Не каждый же день разгорается такой сыр-бор. Даже самые отъявленные молчальники вдруг разговорились. Раскололось собрание надвое. Но все-таки с небольшим перевесом голосов предложение Малюгина приняли.
Правда, это было еще полдела. В плавильном цехе народу почти полтысячи, а коммунистов — только четвертая часть. Постановление партийного собрания стали обсуждать во всех сменах, основной шум там-то и был…
Сочувствуя сейчас Малюгину, которому пришлось хватить лиха и еще немало придется, Иван Игнатьевич вроде как забыл на минуту о том, что пуще всего беспокоило его самого, и не ответил на вопрос начальника цеха, зачем ходил к террикону.
— Сам ты виноват, Петро, — с мягким укором сказал он ему. — Так хорошо начал, а потом смазал. Нельзя было погодить, что ли, с этой реконструкцией?
Малюгин мутно посмотрел на него. Иван Игнатьевич, жалея в душе начальника цеха, уже не мог остановиться:
— Заегозил! Развалим, развалим… старая технология… Пожалуйста, развалили. Извольте радоваться! Дурное дело не хитрое. Кувалдой махать всяк может. А ты вот новую схему наладь.
— Ты чего, Иван?
— А того! Ребята ж показатели подтянули? Из кожи вон лезли. Все на одного набрасывались, будто цепные, если кто тянул назад. Немало погрызлись. Заело же их, как ты думаешь! За живое взяло. Дескать, а мы разве не люди, чем мы хуже других? И вот, пожалуйста. Теперь данные по цеху неплохие. Исключительные данные! Сам знаешь. И чистоту навели. Прямо как в клубе. Покрасили все, что нужно и не нужно, плакатов понавесили, лозунгов. Во, извольте радоваться, — Иван Игнатьевич будто впервые оглядел цех. — Пускай любая комиссия приходит. И вымпел на стенку! Вот как бы надо сделать-то, чтобы все по уму. А потом уж и этой, как ее… технической переоснасткой можно заняться. Людям же надо в себя поверить.
Не сразу, видно, дошло до Малюгина, что это он распекай ему устроил. Самый форменный. Хотя и с глазу на глаз, не принародно.
Начальник цеха заметно смутился. Толстые губы его зашевелились — не то слова какие-то подбирая, не то пробуя изобразить улыбку.
— Ты что это, Ваня, сегодня не в духе?
— Как раз в духе… — отвел глаза Иван Игнатьевич, досадуя, что малость перестарался со своей критикой.
— Нет, что-то не то! — покачал головой Малюгин и, внимательно вглядываясь в его хмурое осунувшееся лицо, сказал оправдывающимся тоном: — Я ж, Иван, как лучше хотел. Какие, к черту, думаю, мы образцово-показательные, если старье малюем красочкой? Краску только переводим. Пыль в глаза пускаем. Самая что ни на есть форменная показуха получается.
Иван Игнатьевич, мысленно соглашаясь с Малюгиным, хотел миролюбиво махнуть рукой: да ладно, мол, чего ты оправдываешься передо мной, я и сам не хуже тебя понимаю это, — но неожиданно для себя произнес совсем другое:
— Э-э-э… А еще Головастик, называется! Надо же о людях сперва подумать, а не о железяках.
И как это сорвалось у него с языка?
Малюгин вспыхнул, покраснели щеки его, пухлые, гладкие, не стариковские еще, хотя были они с Иваном Игнатьевичем одногодками. Ничего не ответил Петр, повернулся и пошел. А ведь вполне мог бы и послать куда подальше, чтобы не обзывал его каждый, кому ни вздумается.
Иван Игнатьевич расстроился: ему ведь хотелось, словно ненароком, раздразнить начальника цеха, навести его на тот разговор, который только и был сегодня у него самого на уме. Насчет шлаков этих, в терриконе которые.
— Слышь, Петро, — тихо окликнул он Малюгина, машинально идя за ним след в след. — Я ж это… совсем про другое хотел тебе сказать. А ты уже и надулся! Ничего тебе не скажи.
— А нечего и говорить, — буркнул тот, не оглядываясь. — Работать надо. Шляешься тут с утра пораньше…
«Давай-давай, так-то оно лучше! — обрадовался Иван Игнатьевич. — Сейчас я тебя расшевелю».
— У меня задача для тебя есть, Петро. По работе, не так просто. Помоги вычислить. А то ответ не сходится. Эта, как ее, линейка-то… у тебя при себе?
— Какая еще линейка? — А сам уже и остановился, с настороженным любопытством глянул на Ивана Игнатьевича, наседавшего на него.
— Ну, считать на которой.
— Логарифмическая, что ли?
— Ага, она. Прикинь задачку. Исключительно интересная!
Малюгин помедлил еще немного, все так же уставясь на Ивана Игнатьевича, словно убеждаясь, что тот его не разыгрывает, а у самого рука уже потянулась к нагрудному карману пиджака, откуда высовывался конец маленькой линейки.
— Чего считать-то?
— Сейчас скажу…
Иван Игнатьевич понял, что теперь Малюгин не уйдет от него в ожидании чисел, которые нужно разделить или перемножить, будет терпеливо ждать, пока ему зададут задачку. Эту слабинку распознал в нем Иван Комраков еще в сороковые годы, когда вместе стали работать на цинковом заводе. Как более легкий на подъем, Петр Малюгин одним из первых тогда записался в вечернюю школу, а потом раздобыл занятную линейку, на которой без карандаша и бумаги можно было вычислить, например, сколько тонн концентрата, смерзшегося монолитом, они раздолбили клиньями да кувалдами и выкинули из вагона и сколько металла получат плавильщики из этого сырья. Диву давался Иван Комраков: как это Петро справляется с такими цифрами? А тот в охотку потешал ребят своей арифметикой во время перекуров. Потом и в привычку это у него вошло. Даже когда, закончив институт, стал мастером, а потом и начальником цеха, ни разу не отказывался посчитать, хотя плавильщики порой и шутили над ним.
Придав своему лицу выражение таинственности, Иван Игнатьевич
не спеша отпахнул полу тужурки, достал из кармана брюк темный флакончик с бумажной пробкой, не сразу открыл его, а покатал в ладонях, как бы отогревая, потом натрусил на корявую ладонь, поставленную лодочкой, горку бурого нюхательного табаку и, уже поднеся щепоть к носу, вдруг надумал спросить Малюгина:
— Может, понюхаешь за компанию?
— Нет-нет.
И опять молчок. И глаза не моргнут. Только отнекался не так, как прежде бывало, — без всякой ухмылки, деловито. Нетерпение все же дало себя знать. Оно и понятно: время у него сейчас такое. И хотя в душе Иван Игнатьевич полностью сочувствовал Петру, но и тут не поторопился. Со смаком втягивая табак в ноздри, он мягко посматривал на Петра, как бы говоря ему: «А че это ты не подтруниваешь надо мной? Все высмеивал раньше-то. Старой Графиней обзывал».
Угадывая по лицу Малюгина, что эту процедуру нюхания табака он сейчас до конца не переждет, Иван Игнатьевич отряхнул ладони и сказал:
— Числа, значит, вот какие… В шихту мы добавляем на плавку сколько отходящего шлака? — И сам же быстро ответил: — С гулькин нос. Две калоши. Так. Хорошо. А сколько шлака идет на фьюминг-установку?
— Сейчас ни черта не идет! — Петр кивнул на шлаковозгонку.
— Это сейчас. А я говорю, когда шло. Ну и после реконструкции когда пойдет.
— Тебе что посчитать-то? — с плохо скрытым раздражением спросил Малюгин. Он уже догадался, видно, что задачка будет для него не новая.
— Вот и прикинь, говорю, — как ни в чем не бывало продолжил Иван Игнатьевич, — хватит ли нам с тобой остатних годов, чтобы разгрести весь террикон дотла, испереязви его.
Начальник цеха свел к переносью брови и слегка откинулся назад, сквозь прищур буравя взглядом Ивана Игнатьевича. На ощупь засунул обратно в карман свою линейку и гневно выдохнул:
— Иди-ка ты… клеить чуни! Старая Графиня…
В проходной Иван Игнатьевич неожиданно столкнулся с Агейкиным и обрадовался ему. Хотя прежде, когда оба работали в плавильном цехе, чаще всего не замечал его. Даже, если вспомнить хорошенько, порой сторонился этого тихого, словно пришибленного, мужичка, ходившего полусогнувшись, как при боли в животе. У него и внешность-то была несуразная. Нос на конце приплюснутый, вроде утиного, уши оттопыренные и шрам через всю левую щеку. Иной раз улыбнется — будто рожицу скорчит.
Конечно, не за этот вид недолюбливал его Иван Игнатьевич. Шут его знает, за что! Вроде ничего плохого Агейкин ему не сделал. Может, и двух слов поперек не сказал за все годы, которые вместе проработали в плавилке. Да и, вообще, был ли меж них хоть один разговор, но так просто — здорово да прощай, — а такой, чтобы в памяти остался? Пожалуй, что и нет. Толком-то и голоса Агейкина он не слышал, и когда столкнулся теперь с ним в проходной спустя столько времени, то в первую минуту резанул Ивана Игнатьевича — как чужой, незнакомый, отродясь неслыханный — скриплый какой-то тенорок бывшего плавильщика.
— Здравствуй, Комраков… Пррроходи, пррроходи…
Дескать, пропускаю тебя, как давнего знакомого по цеху, без проверки пропуска. То ли уважил, то ли снисхождение сделал.
На всякий случай, как бы не принимая такую милость новоявленного вахтера, Иван Игнатьевич все же достал из кармана пропуск, раскрытый и обернутый в целлофан, протянул на ладони к самому лицу Агейкина, и тот скосил на него глаза — проверил, видно, не просрочен ли пропуск и какая стоит шифровальная буква: как у обычных работников того или иного цеха или же как у пенсионеров, которым пропуск выдавали пожизненно, вроде как последнюю память о заводе, на котором прошла почти половина жизни.
— А я иду, гляжу и глазам своим не верю, — сказал Иван Игнатьевич. — Это же вон кто, думаю! Извольте радоваться…
Агейкину стало приятно. Сухарь-сухарь, а тоже расчувствовался, сообразил, наконец, что надо подать руку старому товарищу по работе. И как только, поднявшись с табурета, сунул он свою сухонькую ладошку, будто сроду не знавшую тяжеленной кочерги, в корявую разлапистую пятерню Ивана Игнатьевича, так сразу и отпустила зряшная минутная досада на Агейкина, на казенные холодные слова, которыми он встретил своего бывшего собрата во цеху.
— Вот так встреча! — от души тряхнул Иван Игнатьевич руку Агейкина. — Исключительный, можно сказать, случай. Я ж как раз домой шел со смены и про тебя вспоминал…
— Про меня? — не поверил Агейкин.
— Ну, че-то вдруг подумал. Как, думаю, он живет? Тебя ж когда на пенсию-то проводили?
— Да в прррошлом году.
— В прошлом?! — не поверил теперь Иван Игнатьевич.
— А когда же еще?
— Да я так считал, что уж года три, как ты на пенсию вышел. А может, и все четыре, а то и больше.
Агейкин пригляделся к Комракову и, убедившись, что тот не разыгрывает его, недоуменно хмыкнул. Дескать, как это понимать? Один год за четыре ему показался. То ли это хорошо, то ли плохо, что так думают про него плавильщики, с которыми он бок о бок стоял у шахтных печей. Впрочем, с Комраковым-то как раз меньше, чем с другими, довелось работать. Еще задолго до его, Агейкина, пенсии перевели этого очкарика в другой цех. Из-за плохого зрения, что ли. Так что не такие уж они однополчане.
И Агейкин, подумав так, приободрился.
— Мне ж нынче пятьдесят шесть исполнилось, — слегка небрежно сказал он и снова сел на табурет. — А если по твоему счету, то мне бы теперррь седьмой десяток пошел.
«Дак я и считал, что тебе никак не меньше, — подумал Иван Игнатьевич. — Уж кто бы молодился, только не ты. За год-то эвон как изукрасила тебя жизнь. Старик и старик. Я ж на четыре года тебя старше, а таких, как ты, двоих, а то и троих за пояс заткну. Жалко, место неподходящее, люди снуют туда-сюда, а то бы я померился с тобой. На локтях или как».
— А ты че это надумал-то? — зашел Иван Игнатьевич с другого хода, решив припечатать Агейкина без рук, одними словами. — Вахтером заделался… Шел бы уж тогда этим, как его… швейцаром в ресторан.
Агейкин все моментально понял и вызова не принял.
— Зачем мне ррресторан? Я не пьющий. Мне поближе к заводу надо было, — смиренно сказал он.
«Быстро же из него пар вышел. Тихий он и есть тихий», — Иван Игнатьевич протер запотевшие с мороза очки. Он сразу потерял всякое желание позадирать Агейкина. Только и спросил:
— Почему ж тогда не в свой цех?
— В плавилку, что ли? — будто запамятовал Агейкин.
— А то куда! Ты ж кадровый плавильщик. Кадровый! Со стажем. С нуля тут начинал. А такие, сам знаешь, на дороге не валяются, всегда на вес золота. Пускай там эта самая энтээр — ну, научно-техническая революция, выражаясь по-научному, — вперед идет и разные чудеса делает, а старый кадровик — он завсегда пригодится. Взять, например, шлаки…
Агейкин не дослушал, что именно хотел Иван Игнатьевич сказать ему про шлаки.
— Кадррровый-то я кадррровый… Был когда-то. А теперь какой из меня плавильщик? — Он заискивающе засмеялся. — У меня ж какое теперь здоровье?
— Вот те на! Да ты только что хвастался, что тебе всего ничего лет-то, как молодой жених.
— Жени-их… Этот жених всю прошлую осень по больницам бегал. Воспаление не воспаление, бронхит не бронхит. Насиделся в очереди к врачам.
— Не мели! — махнул рукой Иван Игнатьевич. — Какие в нашей больнице очереди?
Оно и правда, заводская больница почти всегда была пустая. Одни врачи по коридорам ходят. Редко где увидишь больного у дверей в ожидании приема. Разве что когда грипп начинал косить. А так, если травма или недомогание, напрямую и шли в кабинеты. В регистратуре карточку найдут — и ступай сразу к врачу.
— В том-то и дело, — сказал Агейкин, — что от нашей больницы меня отшили.
— Как это отшили?
— А так. Пока работал в плавилке — лечили. А как вышел на пенсию, завернули в пакетик мою историю болезни, перевязали шпагатиком — и дуй на все четыре стороны. Лечись где хочешь. А не хочешь — так умирррай.
Иван Игнатьевич даже отстранился слегка от Агейкина. Чего-чего, а такого он еще не слыхивал. Такое соврать — большую голову надо иметь. А у Агейкина головка была маленькая, маячила на длинной шее, как сухая тыква на колу. Вся разница, что в картузе с зеленым кантом охранника. Нет, на вранье это было не похоже.
— Ну и… куда ты с этим пакетиком? — Ему стало жалко Агейкина. А может быть, он в первую очередь пожалел самого себя — не нынешнего, а того, который скоро тоже выйдет на пенсию.
— Да куда!.. В районную больницу и подался. Куда еще? Там всех принимают. Правда, чтобы высидеть очередь, надо здоррровым приходить.
— И ты так и промучился всю осень?
— А куда денешься…
— Да взял бы и пришел ко мне! Так, мол, и так, Иван. Обсказал бы все. Я бы тебе адрес дал крымский. Там у меня родня на курорте. Брат Наум с женой Таисией и старшая дочь Мария с сыном Игорьком. Она поначалу-то здесь же, на комбинате, работала, ко мне в плавилку частенько заглядывала. Может, помнишь? Курносенькая такая, круглолицая, вся в меня.
Агейкин пожал плечами, мотнул головой:
— Нет, не помню.
— У них там хоть и тесновато с жильем, в казенных комнатках живут, но ведь земляки же! Не отказали бы, чего там.
— Спасибо, конечно… Но какой уж теперь курорт… Мертвому припарррки! — как-то перекошенно улыбнулся Агейкин, отчего казалось, что левая его щека со шрамом вот-вот расползется по шву.
Иван Игнатьевич, нахмурясь, потоптался на месте и вытащил из кармана пузырек с табаком.
— А я на леденцы перешел, — виновато улыбнулся Агейкин, догадываясь, видно, что творится сейчас с Комраковым. — Кисленькие такие. Мон-пан-сье называется, — произнес он по слогам.
«Монпансье… — вздохнул Иван Игнатьевич. — Надо бы кислее, да некуда. Извольте радоваться! Это если так с каждым пенсионером… в пакетик с бечевочкой… то я не знаю тогда, стоит ли вообще жить, испереязви их!»
— А я все нюхаю, — вроде как бодро хохотнул он. — Уж с тонну, наверно, вынюхал этого табаку!
— Бррросать надо. — Агейкин нагнулся к старой кирзовой сумке, стоявшей в углу за табуретом, и достал из нее пачку папирос «Беломорканал».
Иван Игнатьевич, держа свой табак на раскрытой ладони, уставился на Агейкина: мол, как это тебя понимать, говоришь, на леденцы перешел, бросать курить надо, а сам папиросы-деруны старой марки наяриваешь, без всякого там фильтра, весь яд и прет в легкие.
Агейкин слегка надорвал пачку и вместо папироски выколупнул розовое глянцевое сердечко. Леденцы там и были, в этой бумажной таре из-под табака!
— Во придумал! — восхитился Иван Игнатьевич. — Ну, мопасье! Ох, поздно ты свое изобретение обнародовал, — простодушно посетовал он, — а то бы я так и прозвал тебя: «Мопасье».
— Не мопасье, а мон-пан-сье, — поправил Агейкин.
— Какая разница! Главное — в точку бы попал.
— Тебя, Комраков, тоже ведь прррозвали… — ржавым голосом сказал Агейкин.
— Старой Графиней, — как ни в чем не бывало поддакнул Иван Игнатьевич.
— Ага, Старой Графиней.
Иван Игнатьевич легко засмеялся и махнул рукой. Дразнитесь, пожалуйста! Лично он ничего не имеет против. Это если бы кто другой, со стороны, дал ему прозвище, может, и было бы обидно, а то ведь он сам умудрился, так что удивляться не приходится. И Малюгину Головастика приклеил, и себя Старой Графиней окрестил, и про Монпансье сообразил, правда, жалко, что поздно. Да ведь потому и поздно, что раньше-то Агейкин леденцы не сосал, а курил табак, как заправский мужик.
— Кто ж это тебя надоумил? Насчет того, чтобы в папиросной коробке?
— А наш парторг.
— Парычев?!
— А кто ж еще? Он. Сам, говорит, отучивал себя таким макаром. Рефлексом, по-ученому. Организм просит курева, дыма этого вонючего, к которому ты с детства привык из-за людской дурости, а ты ему — ррраз, организму-то, пачку папиросную! Подсовываешь, значит, а он, организм-то, отзывается: давай, давай, не тяни! — Агейкин возбужденно потряс пачку, высыпая на ладонь слипшиеся леденцы. — Ты и даешь ему: соси, насасывай! Вернее, грызи, ломай зубы и думай, что куришь. Кто кого перрреборет! — Он яростно захрупал, перемалывая на зубах ненавистные карамельки, с трудом проглотил, судорожно двинув кадыком, и победно рассмеялся. — Вот так ему, вместо курррева! Раз попросит, два попросит, а потом откажется, никуда не денется. Тут тебе и сладко, и горько…
Иван Игнатьевич подивился про себя этой ярости Агейкина: «Вот тебе и тихий… Это он тихий, когда ему на любимую мозоль не наступаешь. А как что за живое задело — раскочегарится, не уймешь! Сам с собой вон как развоевался. А ведь ни в цехе, ни на собрании каком ни разу так не кипятился. Вот как в человеке все это уживается, сам себя толком не знаешь».
— Тяжело тебе, однако, — сочувственно вздохнул Иван Игнатьевич. — Тут хоть две тонны слопай этик конфеток — организм не обманешь. Я вон тоже курил когда-то. Ух и садил! Исключительно. Страшно вспомнить. Да и не какие-нибудь папироски, а махру, самую едучую выбирал. В санаторий меня однажды послали. В легочный, — стал вспоминать он, с шумом втягивая в ноздрю добрую щепоть бурого табаку. — Путевку бесплатную дали. От комбината. Санаторий хороший, недалеко тут. «Боровое» называется, знаешь, поди. У меня в тот год совсем плохо с дыхалкой стало, — Иван Игнатьевич стукнул себя по груди, заодно обтерев о тужурку пальцы, перепачканные табаком. — Играет и играет гармошка. Вдыхаю с хрипом и выдыхаю с хрипом. А родни на юге никакой не было. Брат Наумша в другом месте жил. А Мария тут, дома. Ну, поехал я в это самое «Боровое». Захватил с собой половину наволочки махорки.
— Зачем?! — выпучил глаза Агейкин.
— Как зачем?
— У человека дыхалка не работает, легкие и бронхи, видно, ни к черту, а он табаком загрузился! У тебя ум был?
— А как же! Был и есть. — Иван Игнатьевич отправил в ноздри еще по одной щепотке. — Я ж еще до врачей пробовал бросить курить. Брошу, целый день в рот не беру, креплюсь — думаешь, легче? Кашлем весь изойду. Еще хуже делается. Махну рукой, запалю самокрутку — куда и кашель подевается.
— Так это поначалу только.
— Хорошо хоть поначалу. А то ведь никакого перерыва.
Агейкин усмехнулся:
— Ну и дальше?
— А дальше что? Запрятал я наволочку с махрой под матрац. Курю втихаря. Наберу сколько надо, уйду в бор — и дымлю себе. Отдыхаю. Неделю так отдыхал, пока врач не застукал. — Иван Игнатьевич оживился. — Учуял, видно, что я контрабандой занимаюсь, выследил меня в сосняке и заявляет: «Либо бросите курить, либо мы вас отправим назад и на завод сообщим, что выгнали из санатория за нарушение режима». Во, извольте радоваться! — Иван Игнатьевич развел руками и засмеялся. — Что тут будешь делать? Я этому врачу и заявляю: так, мол, и так, отвыкнуть от курева не имею никаких сил, потому как мошка проклятая замучила.
— Какая мошка? — Агейкин перестал хрупать леденцами.
— Маленькая. Как точечка. Перед носом летает и летает. Я бегаю, бегаю за ней глазами, а она то налево, то направо. Аж голова закружится. Хоть ложись и помирай.
Видать, хоть и был Агейкин курильщик заядлый, а ни про какую такую мошку и слыхом не слыхивал. Вначале он думал, что Комраков его разыгрывает, но потом убедился, что все это истинная правда. Летала мошка. Ее, похоже, и сейчас видел перед собой этот мученик — снял очки и, растерянно помаргивая, водил глазами туда-сюда.
— Летает? — участливо спросил Агейкин.
— Не, теперь не так. То вроде бы появится, опять замельтешит, а то день-другой нету. Я теперь от нее нюхательным табаком спасаюсь. Как появится — я сразу нюхну. Куда и девается!
— Хм… — искренне подивился Агейкин. — А у меня никакой мошки не было, а не могу отвыкнуть от папирос, и все тут!
— И все сосешь конфетки?
— Сосу. Куда денешься? Надо отвыкать от дурных привычек. Все так говорят.
— Мало ли что говорят! У меня вот на что угодно силы хватает, как втемяшится что в голову, — не я буду, если не одолею! А вот насчет курева не могу. Тут я бессильный. Что хошь со мной делай! Я ж, считай, с малолетства курю, с детдома.
Агейкин вспомнил, что рассказ Комракова остался незаконченным.
— Ну и как же потом было, в санатории-то?
— А так и было, как врач сказал. Выписали меня досрочно и на работу сообщили. С тех пор ни в одном санатории не бывал. И от гармошки избавился. Старуха одна надоумила.
— Это как же?
— А так. Ходил я, ходил по врачам. Не хуже тебя. Один одно прописывает, другой — другое. До того долечили меня, что однажды заявляют: лечись, мол, не лечись, а хрипеть будешь всю жизнь. Хроническое, дескать. Ну, я вышел из больницы, сел на крылечко, и до того мне обидно стало — заплакал. Сижу и плачу. А тут бабка одна идет. Техничка из конторы. Подходит и спрашивает: чего, говорит, сыночек, ревешь? Я ж тогда моложе был, — смутился Иван Игнатьевич, но Агейкин и не думал ухмыляться по тому поводу, что его, Комракова, техничка назвала сыночком. — Ну, взял и рассказал ей про свою гармошку. А она меня и надоумила. Возьми, говорит, купи керосину и пей его по столовой ложке три раза в день перед едой.
— Пить керрросин?!
— Ну! Удивляться тут не приходится. Народная медицина. Исключительно помогло! Я с тех пор, можно сказать, совсем другим человеком стал. Она же, старушенция эта, и насчет мошки мне подсказала.
— Насчет той самой? — Агейкин поводил рукой перед своим лицом.
— Ага. Ты, говорит, сынок, махорку брось чадить, один вред от нее, а вот лучше нюхай-ка! И достает из кармана жакетика вот эту самую табакерку… — Иван Игнатьевич бережно подержал на раскрытой ладони темный пузырек, а потом так же осторожно закрыл его бумажной пробкой и спрятал в карман. — Вот с тех пор я и горя не знаю. Пока Аня не придумает, с какого бока ко мне подступиться. За курево-то она ох как жучила!
— Ничего, придумает, — заверил Агейкин. — Они на это дело ушлые. И ведь ты скажи! И что за характер у баб? Ну, когда за дым грызут — это понятно. Копоть на тюле, то-се. А нюхательный-то табак чем им в тягость?!
И такое неподдельное сочувствие прозвучало в голосе Агейкина, что Иван Игнатьевич смешался. Куда и девалась у него охотка поточить с этим Агейкиным лясы! Прямо хоть тут же уходи из проходной. Получалось так, что это не он Агейкина пожалел, а тот проявил к нему свою жалость. А чего его, рабочего человека, жалеть? Разве он такой же беспомощный, никудышный, никому не нужный, как сам Агейкин? Ничего подобного! Время его еще не пришло. Может, он до семидесяти лет не пойдет на пенсию. Вон главный бухгалтер, например, и не думает уходить с работы, ему на вид и не дашь столько. Правда, главный-то бухгалтер всю жизнь за чистым столом просидел, у печей не стоял, но и он, Комраков, на свое здоровье пока что не жалуется. Вот Агейкин расклеился по всем швам — это да. Ушел на пенсию — и весь год по больницам бегал. Вот за это-то и пожалел его Иван Игнатьевич, больше ни за что, хотя жалеть его и не следовало. Вернись Агейкин обратно в плавилку, к печам — и здоровье свое так-то не подорвал бы, как на безделье. Только из-за этой внезапной жалости к горемыке Агейкину он и затеял пустые росказни про табак, леденцы да про мошку. И в точку попал — тот оживился малость, забыл на время про свою печаль и даже над ним, Иваном Игнатьевичем, подтрунивать начал, а под конец, извольте радоваться, поменялся с ним местами: его, Комракова, решил пожалеть!
— Насчет жены, как она относится к табаку, — это вопрос особый и почти что для всех одинаковый. Удивляться тут не приходится, — сухо сказал Иван Игнатьевич. — А вот как ты, друг мой ситный, сплоховал насчет больницы — это я просто не знаю, испереязви тебя!
Агейкин передернул плечами.
— Как это сплоховал? Я-то здесь при чем?
— А при том, голова твоя садовая, что надо было к главврачу пойти, к директору комбината, к кому угодно, и им бы, этим паршивым деятелям, которые это… в пакетик с бечевкой… такого бы хвоста накрутили — век бы помнили! Сразу бы отбили повадку рабочего человека понукать! Мы им кто — пешки, что ли?
Иван Игнатьевич неожиданно для себя разошелся — зашумел на всю проходную, и люди оглядывались на него, а струхнувший Агейкин тихо зашипел:
— Ты что — пьяный? Нас обоих отсюда выставят. Сейчас вот придет из караулки начальник вахты…
— Или бы к Парычеву, парторгу нашему, пошел бы, — вел свое Иван Игнатьевич. — Сам же говоришь, что он присоветовал тебе эти леденцы вместо курева. Душевный, значит, человек. И при силе. Нашел бы способ нажать на врачей, оборонить тебя, чтобы не совали в пакетик и не перевязывали бечевкой.
Агейкин не вытерпел:
— Да уймись ты! Расшумелся тут, как у себя дома… Не помог бы мне твой Парычев. Он еще раньше, до врачей, сказал, чтобы я встал на партучет по месту жительства, в ЖЭК. Говорит, все партийные пенсионеры теперь будут при ЖЭКе.
Иван Игнатьевич осекся и сразу никак не мог взять в толк, почему это пенсионеров, членов партии, надо снимать с партучета на заводе.
— Ты ври, да не завирайся, — строго одернул он Агейкина, но тот лишь усмехнулся, покачав головой, и Иван Игнатьевич, безмолвно постояв перед вахтером, понуро вошел в турникет.
Всю дорогу до дому Иван Игнатьевич силился вспомнить, о чем это он хотел сказать Агейкину еще в самом начале, когда тот перебил его. «Вроде про шлаки, — гадал он. — Про что же еще-то? Ну, про них и есть! — всплыло, наконец, в памяти, как он упрекнул Агейкина в том, что кадровому плавильщику не к лицу идти в вахтеры. — Мол, у тебя же опыт вхолостую пропадает, а мы как раз со шлаками маракуем, думу думаем, что и как. Вот бы нам и подсобил!.. Подсобит он, как же! — зло взяло теперь Ивана Игнатьевича. — И зря я его пожалел. Зря! Такие, как Агейкин, сами себя жалеют, а это уже не люди, а так — одно название. Хуже шлака».
Понимая в душе, что он сейчас перехлестывает, Иван Игнатьевич кипятился не долго. Он знал про себя, что сегодня же вечером вдвоем с Аней они обсудят со всех сторон то незавидное положение, в котором оказался теперь Агейкин, а завтра Иван Игнатьевич что-нибудь да подскажет ему, посоветует. А как же иначе, ведь он тоже человек. Хотя и нескладный.
2. ВЕТВИ
Тот ночной негаданный разговор про пенсию Аня могла и забыть. Ведь ни разу за все эти дни она не напомнила мужу: мол, ну что ты, Ваня, решил — будешь уходить с завода или повременишь?
Как бы желая испытать жену, вылетела у нее из головы эта беседа или нет, Иван Игнатьевич сказал ей однажды с порога:
— Ну вот, Аня, все и разузнал я…
Произнес — и внимательно глянул на нее.
— Про что это опять? — спросила она таким тоном, будто он всегда приносил домой только дурные вести, ничего хорошего от него не услышишь. Спохватилась было, что это чересчур — словно холодной водой окатила мужа, еще и не зная, в чем дело, но Иван Игнатьевич уже сник. Во искупление этой малой своей вины Аня задержалась в прихожей на то время, пока он скидывал с себя шапку и тужурку, не ушла в кухню тотчас же, открыв дверь на звонок, как делала обычно, а слегка прислонилась к стене, скрестив на груди руки и говоря ему взглядом: почему замолчал-то, разве не видишь, что жена тебя слушает?
Иван Игнатьевич, оттирая зашедшуюся на морозе мочку уха — вечно шапку носит на макушке, залихватски подняв уши треуха кверху, — смотрел теперь на Аню с обидой: вон как ты меня встречаешь, вон как понимаешь меня…
— Ну, чего онемел-то? Я жду, когда он рассказывать станет, про что разузнал-то, а он решил в молчанку поиграть…
Иван Игнатьевич так и замер, зажав мочку пальцами. Вот ведь как выкрутилась женушка! Ты ей слово — она тебе десять, да еще и виноватый после этого останешься. Однако, хочешь не хочешь, отвечать что-то надо, раз уж заикнулся, а то она еще и надуется, сама замолчит на весь вечер, потом заискивай перед ней.
— Я говорю, все разузнал сегодня… — вроде с той же охоткой поделиться новостью сказал он, перебарывая себя. — Ну, про что ночью-то с тобой беседовали. Неделю назад.
Убей ее бог, она никак не могла взять в толк, на что это он намекает. Невольно засмущавшись, Аня махнула рукой и пошла в кухню.
— Хм, «ночью беседовали»… Мелешь, че не надо! — только и сказала она. Ему что: пришел с работы — вся и забота. Иван вечно так. Хлебом его не корми, а дай огорошить человека, поморочить ему голову.
— Не мелю, — возразил он ей вслед, — а дело говорю. Малюгин мне сегодня подсчитал… — Он следом за Аней вошел в кухню, протирая запотевшие очки. — Ну, сколько мы шлаков навалили в террикон. Вернее, сколько надо лет, чтобы разгрести его.
«Ах, вот в чем дело!» — обернулась к нему Аня. Усмехнувшись, она села на табурет, сложила на коленях руки и слабо покивала головой, будто подначивая его: давай-давай, начинай свою молитву, давно не слушала.
— Без малого два века, говорит Петро.
— Только-то?! Чего так мало? — поехидничала она. — Это же тебе раз плюнуть.
Он держал очки в руках, уставившись куда-то за окно, в палисадник, и словно уже не видел и не слышал ее. Надо бы сказать ему сейчас что-нибудь такое, посочувствовать чтобы, но это было опасно: он тотчас уловит эту податливость в ней, и весь вечер только и будет разговоров, что о шлаке да о шлаке. А в том-то и дело, что у нее была своя тема, особая, ближе которой возле материнского и отцовского сердца не могло быть ничего иного — о детях она хотела поговорить с мужем. Не обо всех сразу, а хотя бы об одном — Вениамине, от которого вот уже второй месяц ни слуху ни духу. Вся душа изболелась, а Ивану что — опять завел свою песню про шлаки. И Аня, полнясь решимостью перебить эти мысли мужа, повернуть разговор в свою сторону, ляпнула ему такое, о чем и в хороший-то момент, под какое-нибудь всеобщее веселье, у нее не хватило бы духу сказать.
— Тебе же Солдатиха нагадала, — все же увела она взгляд в сторону, — что ты будешь сто лет жить, а двести на карачках ползать. — Вспомнила шутливую ворожбу соседки. — Вот и рассчитывай на те двести лет. На карачках-то оно удобнее: наклоняться и выпрямляться не надо, ползай и ползай по террикону, разгребай помаленьку.
Такой злой шутки он никак не ожидал от жены. Остолбенел, прямо чуть очки из рук не выпустил. И тогда Аня, как бы подводя черту под одним разговором и делая вступление к другому, чаемому, скорбно сказала:
— Про Веньку сон нехороший видела…
— Какой еще сон? — не сразу дошло до него.
— Говорю же, нехороший. Не к добру, видно. Будто идет он по белому полю…
— Это когда ты успела увидать сон-то? — насмешливо перебил он жену, моментально оценив ситуацию. Теперь уже ему надо было смять это ее настроение, а то, чего доброго, и до слез недалеко. — Ты же по утрам свои сны пересказываешь. А утром седни ты про Солдатиху балаболила, чего-то опять с ней не поладила.
— Говорю — значит, видела.
— На работе, может? Пока полы в конторе мыла?
— Мелешь, че не надо! — огрызнулась Аня, но больше для порядка, потому что втайне была довольна: Иван уже весь в ее власти, сел напротив и лукаво щурится, машинально наблюдая, как она ловко чистит картошку, и придумывая небось, как бы еще-то подзавести жену. — Письма от него давно нету, — строго сказала она, опережая мужа.
— Хо, новость! Они ж вечно так с Марией. Что один, что другая. Они когда вовремя-то писали? Да никогда! — и потянулся за табаком. Скучно ему стало от такого разговора. Хотя, конечно, скучно не скучно, а поговорить надо, никуда не денешься. Аня теперь ни о чем ином думать не будет, пока не получит от Веньки весточку. Придется завтра тайком дать ему телеграмму: мол, мать волнуется, почему молчишь? — Они как рассуждают, молодые-то? А так, что покуда жареный петух в одно место не клюнет им — нечего и родителям писать. Они же сами-то про себя знают, что живы-здоровы, а от тебя письма каждую неделю идут. Чего им волноваться?
— Ой, не знаю… У него ж какая работа-то? Аварийная.
— Да не аварийная! Аварийная — это когда во время твоей работы авария может случиться. Неизбежная почти что. А у него совсем другое. Его работа — не бей лежачего, — нарочно упростил Иван Игнатьевич. — Слесарь-наладчик аварийной бригады.
— Ага! Все же аварийной…
— Дак аварийной в каком смысле-то? Это ж название бригады. Они ведь завсегда в цех являются после аварии. Авария уже случилась, уже все произошло, что происходит у них там, в этом цехе-то, уже, понимаешь, налаживать надо, а слесари-наладчики только-только канителиться начинают, противогазы свои ищут, где они там под лавками завалялись…
Аня решительно не приняла такой его оценки. Перестарался малость, уж чересчур хотел пустить ей пыль в глаза.
— Ты как скажешь… Тебя послушать, дак! — загремела она сковородкой.
— Ну, конечно… Я ж к примеру говорю. Противогазы, может, они и не теряют…
— А! Замолкни ты лучше. Что ты понимаешь? Там у него, у Вениамина, и без цеха сплошные аварии. Дома-то у него лучше, что ли?
— А что дома?
— «Что дома»… Да то, что знаю я Зинаидин характер. Она ему готова каждый день домашние аварии устраивать. «Не так встал», «Не туда пошел», — передразнила она сноху.
Вот с этим Иван Игнатьевич не согласился. И вовсе не потому, что Зинаида была ему по душе. Строптивый характер, что и говорить, на кривой кобыле не объедешь. Но любой характер, считал он, сам по себе не проявляется. Если к человеку отнестись по-человечески, то и он тем же ответит. А Венька что? Ему сам черт не угодит. Да и моду взял за чужой юбкой волочиться. Может, и так просто — покрасоваться, лясы поточить, но люди же этого не понимают. Вон в прошлом году мать Зинаиды писала им: мол, так и так, сват и сватья, моя дочь застукала Веньку с посторонней женщиной. Уж что там у них было, что это за женщина — они с Аней так и не узнали толком, ни от Зинаиды, ни от самого Веньки правды не добились, сколько ни просили их в письмах поделиться, из-за чего у них сыр-бор разгорелся. Венька прикинулся дурачком: дескать, папа и мама, все у нас в порядке, совместная наша любовь набирает силу, крепчает год от года, так что расходиться мы не думаем, хотя и дальнейшее сближение чревато последствиями, как в атомной бомбе при критической массе…
«Дать бы ему ремня по этой самой критической массе, — беззлобно подумал сейчас Иван Игнатьевич, — живо бы понял всю чреватость, испереязви его!»
— Зинаида — это что-о… — вслух заступился он за сноху. — Всему виной сам Венька. Вот уж у кого характерец!
В его голосе дала себя знать давняя обида из-за опрометчивого, как считал Иван Игнатьевич, поступка сына: после армии взял да и завихрился куда глаза глядят, уехал на строительство титано-магниевого комбината, и с тех пор пошла жизнь порознь, родного внука они с Аней в глаза не видывали, на фотокарточке только.
— Она тоже хороша, — стояла на своем Аня. — Когда спит да дома нету — можно без палки ходить, не опасаться… Че я ей плохого сделала, что она ко мне так? — засквозила теперь обида и в голосе Анны.
— Как это «так» она к тебе?
— А так! Славик родился — она его куда отправила? К своей матери! А та на ладан уже дышит, ей не до Славика. Нет чтобы к нам привезти, — разве бы я отказалась нянчиться с ним?! — она вызывающе подбоченилась, в одной руке держа большой столовый нож, а в другой — картофелину.
Иван Игнатьевич, подавленный ее воинствующим видом, поспешно поддакнул:
— Это почему бы ты отказалась? Ни в жисть! — и крепко втянул в ноздрю добрую понюшку табаку, отмечая про себя, что табачок в прошлый раз он купил неважнецкий, дохлый какой-то, не дерет, не щиплет и пахнет куриным пометом.
— С Марииным Игорьком кто, интересно, нянчился? Может, Солдатиха? — напирала разошедшаяся Аня, и он угодливо хихикнул: мол, скажешь тоже, Солдатиха… Да у той только поросята на уме, ради свиней и живет, больше ни для чего.
«Э-э, завели мы эту пластинку… — спохватился Иван Игнатьевич. — Начали за здравие, а кончили за упокой. Не хватало только еще про Солдатихиных поросят побеседовать».
— Я говорю, Аня, дело не в этом, — попытался он выправить ее мысль ближе к тому, о чем бы еще не грех было потолковать. — Не надо было Веньке ехать на этот тээмка. Дался же он ему! «Крылатый металл, крылатый металл…» Вот и поломал себе крылья. Не ястреб, не ворона. Кто он теперь? Слесарь-наладчик аварийной бригады. В карты дуются, пока нет аварий. А если бы на наш комбинат вернулся после армии, то теперь бы шапкой его не накрыл. Был бы старшим плавильщиком. За столько-то лет.
Однако Аня, раздосадованная тем, что он не дал ей выговорить до конца свою обиду на сноху, не приняла этого поворота в их разговоре. Язвительно усмехнувшись, она поддела муженька:
— Ну да, а как же! Вместе бы клеили теперь чуни. Всем заводским бабам. На пару бы работали.
— Во, опять поехала… — обескуражила его такая непоследовательность жены.
— Но я еще доберусь до твоей подсобки. Такую аварию тебе устрою, что…
Иван Игнатьевич натянуто засмеялся, шутливо отодвинувшись вместе с табуреткой в самый угол кухни, — занял на всякий случай позицию. Уж как бы там дальше повернулся разговор, кто про то знает, да в этот момент заявилась Наташка — все и скомкала.
— Опять митингуете?
— Не, доча. Это мне мамка свой сон рассказывает. Про нашего Веню.
Наташка выудила с полки, занавешенной старенькой ситцевой «задергушкой», мятный пряник. И когда только углядела, что мать принесла к чаю! Еще и Бориска подоспеет — растаскают до времени.
— Жуй, жуй давай! — заворчала мать. — Возьми уж тогда и конфеток… Порти себе аппетит, порти.
— А у меня он, мам, от сладкого, наоборот, повышается!
— Я у тебя, доча, спросить хотел…
— О чем, пап?
— О чем-то… Айда в залу. А то наша мамка подъявится обязательно, ни о чем серьезном не даст нам поговорить.
— Прямо уж там! — заметно идя на попятную, помягчела голосом Аня. Ей до зарезу хотелось, чтобы муж и дочь не секретничали, не уходили от нее со своим разговором.
В большой комнате, притворив за собой дверь, Иван Игнатьевич сел за круглый стол, стоявший посредине, как бы показывая тем самым, что вопрос у него к дочери нешутейный. Положил руки на скатерть, расправил складки. Покашлял.
— Как, дочка, учеба-то? — начал он, как ему показалось, издалека и в то же время наиболее близко к тому, о чем предстояло поговорить.
— Да так… Нормально, — пожала она плечами, еще не понимая, куда клонит отец.
— Скучаешь по дневной-то школе?
Она опять передернула плечами, но перестала жевать. Иван Игнатьевич посетовал про себя: не так, не так повел беседу! В прошлом году Наташка долго болела, пропустила в школе всю зиму и осенью заявила: не пойду в дневную, и все тут! А то получается, что она как второгодница.
— Я это к чему, доча. Мамка сказывала мне, будто ты надумала секретарь-машинисткой устраиваться.
— А что?
— Ну как «что»? Все же это такая работа…
— Какая, пап? Мне вообще-то нравится.
— А чего хорошего? — Он мучительно чувствовал, что у него не хватит слов и умения убедить Наташку в том, что работа ей нужна не такая, чтобы на побегушках у начальства быть, а уважительная, достойная дочери старого металлурга. — Это ж тебе нравится, пока ты молодая! А ну как в годы войдешь?
— Ну и что?
«Вот дурья башка!» — отчаялся Иван Игнатьевич, комкая пальцами скатерть, и тут какой-то счастливый бог надоумил его вспомнить о старшей дочери.
— Ты вон Марию нашу возьми! — сразу же окреп он духом. — Она еще младше тебя была, а уже пошла работать в химцех. Лаборанткой!
— Ну и зря, — неожиданно для себя подерзила Наташка. Ее начал злить этот разговор. Она сама еще толком не знала, что влекло ее в техснабовскую контору, стоявшую рядом с их домом. Собственно говоря, ей было все равно, кем работать. Главное, чтобы каждый день видеть Валерку. Она вся замирала от мысли, что будет разговаривать с ним, может быть, несколько раз на день.
— Как это зря! — взбеленился отец. — «Зря»!.. Да про нее в первый же год в многотиражке напечатали! Что по следам отца пошла. На завод. Почти что династия, мол, получается… — Иван Игнатьевич осекся. Насчет того, что династия, газета поторопилась, конечно, с выводом: из четверых детей только один Венька стал заводским рабочим, да еще неизвестно каким, это сначала поглядеть надо.
— То-то «династия» твоя махнула на юг, — будто услышав мысли отца, съязвила Наташка.
— Она ж по здоровью. Не как-нибудь. Вон в последнем письме писала, что прилетят с внучеком в гости. Может, и насовсем останутся тут… Мария ж писала, что по цеху скучает. Глядишь, надумает обратно на завод пойти.
— Ну да там! — нашла на Наташку супротивность. — Будет она менять пальмы на ваши дымные трубы…
«Вот глупая! — вконец расстроился Иван Игнатьевич. — Дело же не в пальмах. Разве она не читает писем от сестры? Ей там, на юге, лучше стало, легкие теперь не болят и желудок не схватывает. Уже и вернулась бы домой. Хватит, больше года прожила у моря. Да загвоздка, пишет, вышла. Схлестнулась вдруг с начальством санатория. Конфликт какой-то возник. Она же, Мария, такая! — мысленно погордился он старшей дочерью, словно уже и забыв про Наташку, которая доела пряник, но не уходила, ждала, чем закончит отец. — Ее, Марию-то, и здесь в цехе побаивались. Спуску никому не давала, если что не так. Вот она и подзастряла там. Чего-то ждет. А вернуться — все равно вернется, никуда не денется, потому как здесь у нее корешки пущены, без них ей теперь нигде не посчастливится, чтобы не на год счастье было, а на всю жизнь».
— Приедет Мария, вот посмотришь! — с какой-то ожесточенной уверенностью сказал Иван Игнатьевич. — Вы думаете, как сами хотите завихриться в разные стороны, только чтобы из родного дома убежать поскорее, так и Мария, по-вашему, такая же?!
Наташка была уже и не рада, что задела любимицу отца, большуху.
— Пусть возвращается, пап. Мне-то что?
— Конечно, тебе-то что… Вам до отца нету дела. Никогда не спросите, что у него на душе.
— А когда бы я спросила, пап? Ты, как приходишь с работы, сразу за газету хватаешься. А потом телевизор смотришь. Тут уж не пикни! — решила она схитрить, прикинуться казанской сиротой. — Вот и забьешься в угол, молчишь.
Отец виновато заморгал:
— Да ну, доча, так уж и не пикни…
— А то! Даже когда уснешь во время передачи и захрапишь на всю квартиру, все равно на цыпочках ходим. И у телевизора не посидишь из-за твоего храпа, и выключить нельзя — сразу же вскинешься и заворчишь!
Это она хватила через край, и отец, сменивший было гнев на милость, разочарованно сказал:
— Все ясно! Мамкину песню затянула… Удивляться не приходится. А я-то, доча, думал, что по душам с тобой поговорим. Насчет твоей будущей жизни.
— Ну да, ты бы хотел, чтобы я, как Люська Малюгина, в металлургический институт поступала, — совсем осмелев, с укором сказала Наташка.
— А плохо разве? Приемная комиссия прямо из Москвы к нам приезжает. С тройками бы приняли.
— Даже если и с двойками, я все равно не хочу. Вон Бориска, хоть он и парень, на металлурга тоже не хочет учиться.
— Да уж знаю я вас! У вас с Бориской одно на уме: одеться получше да покушать повкуснее… — Он понимал умом, что не прав, выговаривая все это одной Наташке, но не мог остановиться, давно накопленная обида, какая-то общая, не только на своих детей, брала теперь свое. — Вон еще один помощник пришел, извольте радоваться, — кивнул отец в сторону прихожей, куда с шумом ввалился Бориска.
Сквозь стеклянную дверь было видно, как он швырнул на вешалку свою кроличью шапку, которую надевал всегда со скандалом, уступая слезной просьбе матери. «Боря, я кому говорю, не ходи на мороз без шапки, застудишься!» — увещевала она его, а Бориска так и норовил выскользнуть за дверь с непокрытой головой: «У меня же природный мех на голове, как у Анджелы Дэвис, теплее кроличьего».
Отец ворчал, бывало: «Не трогай ты его, мать, этого дикобраза. Его и мороз-то боится. А ты ему шапку зачем-то покупала. Да еще из кролика. Тридцатку спекулянтам отвалила, надо же!»
Скидывая с ног валенки, Бориска заглянул в залу. Вид у сестры был явно невеселый, и брат с ухмылкой заключил:
— Опять педсовет…
— Чья бы корова мычала, — беззлобно пробурчал отец, — а твоя бы молчала. Все стены-то в подъездах протерли своими спинами или еще не все? Гитаристы волосатые… Какая уж тут, к черту, династия с такими детками…
Борька опять ухмыльнулся — всепрощающе, снисходительно.
— На этот раз, батя, осечку дал. Теперь я тоже рабочий класс. Капитально устроился!
Наташка уставилась на него.
— Думаешь, свист? — глянул он на сестру. — Законно говорю! Подходящая работенка…
Отец спросил с недоверием и насмешливостью:
— Какая? В ресторане, поди, в гоп-оркестре?
— Зачем мне в ресторане? — шмыгнул Бориска носом, хотя лицо его в это время говорило: «Туда не так-то просто устроиться, вот это была бы клевая работенка!» — В кислородный цех приняли.
— К нам на завод?
— А то куда?
— А кем? — рука отца со щепотью табака замерла на полдороге к носу.
— «Кем-кем»… Начальником цеха! — засмеялся Бориска, подмигивая сестре. — Баллоны таскать буду. Говорят, у вас одни слабаки на заводе, вот я и решил помочь. — И он пошел прямиком в кухню, на запах жареного.
«Это он себе на проводины подработать хочет, — подумал Иван Игнатьевич. — Весной же в армию ему. Всех своих волосанов соберет. Всю ночь гулянка будет. Чтобы, дескать, как у людей. Мода нынче пошла — всю ночь напролет куражиться, людям спать не давать. А утром, чуть свет, на сборный пункт».
Наташка переминалась с ноги на ногу, тоскливо поглядывая на дверь, откуда только и могла прийти помощь в лице матери. Но та теперь застряла на кухне, пока не накормит своего любимчика. А отец огорченно молчал. Наташке и отца-то жалко было, и стоять перед ним надоело.
Чтобы особенно не маячить у него перед глазами, она тихонько шагнула к аквариуму, насыпала рыбкам корму, поглядела на их пляски и, как бы убедившись, что отец, уставясь в махровое от мороза окно, не проронит теперь за весь вечер ни единого слова, так же неспешно, вроде как виновато понурясь, пошла из комнаты.
Конец недели выпал неспокойный, хуже не придумаешь. В обед, когда ходил в столовую, Иван Игнатьевич услышал краем уха, будто в центральной газете появилась какая-то статья. И не просто про их комбинат, а про плавилку. И будто написал ее первый секретарь обкома.
Сразу и аппетит пропал, хоть бросай поднос с тарелками и беги за газетой. Да только куда бы он побежал? Кто ему даст ее сейчас? Тут уж волей-неволей приходилось терпеть до вечера, пока в руки не возьмет свою, подписную.
Попытался Иван Игнатьевич завязать разговор с теми, кто обмолвился про статью, но толку никакого не добился. Эти люди были из других цехов, и статья о металлургах интересовала их постольку-поскольку. Слыхали звон, да не знают, где он.
Иван Игнатьевич подумал, что, наверное, и в плавилке никто из ребят не читал газету. Головастик — тот бы давно все разузнал, сбегал бы в партком, к Парычеву, но в
том-то и дело, что начальник цеха находился в командировке на руднике. А к парторгу идти — пустой номер. Парычев сам сидит небось над статьей, изучает ее, подчеркивает карандашиком. Материал, конечно, будут обсуждать на все лады — и по сменам, и на партсобрании. Примут решение, чтобы претворять его в жизнь. Чин чинарем. Но все это затеят не сегодня и не завтра. Как любит говорить Парычев, чем серьезнее вопрос, тем больше времени нужно на его подготовку.
Впервые в жизни пожалел Иван Игнатьевич о том, что нет у него привычки читать газеты по утрам. Ежели там какое историческое событие — обычно оповещают по радио, это он успевал послушать во время завтрака и к началу работы был уже в курсе дела, что с кем приключилось, кто куда полетел и для какой важной надобности. Этим и довольствовался. Да и откуда бы повелась у него привычка шелестеть газетой спросонок, ни свет ни заря? Их просто-напросто не было под рукой, свежих-то номеров, даже если взять областную газету, которая тут же, в городе, и выходила. Приносили ее подписчикам только в полдень. Видно, не успевали.
Так оно и получалось, что брал он газету в руки лишь вечером, уже после смены. Тоже неплохо, за день разные новости не убегут, и можно почитать про них без спешки, со смаком. Можно, если бы не усталость, которая с ног валит. К вечеру-то, когда приходишь домой, уже и не рад ничему, никаким новостям. Спина не держит, ломается, так и кидает на кровать, а лежа только и хватает тебя на телевизор. Лежишь бочком, прямо на покрывале в брюках, и осоловело смотришь, как мельтешит на экране. Порой и уснешь незаметно, удивляться не приходится. Аня растолкает потом, чтобы лег в постель по-человечески, раздевшись.
Но сегодня случай был особый. Не каждый день пишут про плавилку в центральной газете, да еще чтобы сам первый секретарь обкома. Уж так хотелось почитать статью! Как на грех, всю смену было много работы. Оно и всегда много, если не отлынивать, но тут был срочный заказ — склеить большую партию чуней для катодчиков электролитного цеха. Даже из столовой пришлось раньше времени вернуться, поэтому нечего было и думать, что удастся выкроить десять — пятнадцать минут, чтобы все же сбегать в партком.
Дома, не успев скинуть с себя закуржавевшую тужурку — мороз давил уж который день кряду, — Иван Игнатьевич пошел прямиком в залу мимо опешившей Ани.
— Ты куда это прешь?! Хоть пимы-то сними! На них же по целому пуду грязи!
— Это не грязь, — машинально возразил он, оглядывая и этажерку, и тумбочку с телевизором, и кровать — все те места, где могли валяться газеты, уже помятые, как всегда, а то и с вырезанной программой телевидения.
— «Не грязь»… А что же тогда? Пол в прихожей так загваздаете, что никакими силами не добудешь.
— Это заводское. Железная окалина. To-се… — Он уже видел, что газет на месте нет. — Почта где? — с непривычной строгостью спросил он.
— Знаю я ваше заводское… — обиделась Аня, и, чтобы показать, что ворчит она неспроста, не из-за характера своего, как считает муженек, тут же схватила в прихожей половую тряпку и принялась елозить по полу, вытирая свежие темные следы.
«Вот испереязви-то их, эти пимы, — на мгновение забыв про газету, подосадовал Иван Игнатьевич, отступая в прихожую. — Мороз не мороз, а напромокал где-то. Ведь хотел же натянуть на них чуни, да поленился. И лишней тяжести напугался. Без чуней-то бежишь как молодой. И вот наследил. Изволь, мать, радоваться».
— Мне газеты нужны, — с натугой сказал он, снимая валенки.
В другой раз Аня и спросила бы, почему такая спешка, но эта выходка Ивана — прямиком влететь в залу! — рассердила ее, и без того умаявшуюся в своей конторе с шестью полами, которые мыла ежедневно, и она ехидно ответила:
— Иди, иди… Есть газета, куда ей деться! Даже целых две.
— Я ведь не шуткую с тобой, Аня!
— Да уж какие тут могут быть шутки, — гнула она свое, — коли человек прямо с порога за газету хватается.
Аня бросила в угол тряпку и пошла мимо него на кухню. Весь, мол, тут и разговор с тобой.
— Ладно, спасибо… — беря себя в руки, сказал Иван Игнатьевич. — Встретила с работы мужа… Так ему и надо. Он там, на заводе, весь день газ нюхает, на хлеб зарабатывает, а дома ему и не рады, оказывается. Сразу в штыки встречают. Мог бы, дескать, и совсем не приходить… — Иван Игнатьевич выждал паузу, прислушиваясь к звукам, доносившимся из кухни. Аня деловито скоблила сковородку, жарить картошку собиралась, и по чугуну с пригорелыми нашлепками ножик цыркал размеренно, туда-сюда, будто она и не слышала, о чем ей выговаривает муж.
Швырнув пимы к порогу, чего не делал никогда прежде, — место им было у батареи, на кухне, куда перед сном он стаскивал на просушку и всю остальную зимнюю обувь, Анину и ребятишек, которые бросали ее где попало, — Иван Игнатьевич в носках потопал по коридору, нарочитым туканием пяток отмечая свой путь.
Аня выскочила из кухни.
— На, на, зачитайся! — и сунула ему, опешившему, то, что и было нужно. «Правду» за сегодняшнее число. А главное, газета была уже развернута и сложена так, что статья «Резервы роста» оказалась на виду. Бери и читай.
Название было напечатано жирными буквами. И под заголовком крупно же вывели фамилию: «В. Большенарымов». А еще пониже, мелкими буквами: «первый секретарь…»
«Оно и так ясно, что первый, по одной только фамилии, — подумал Иван Игнатьевич. — Кто его не знает? Все знают!»
И только было углубился он в чтение, стоя тут же, в коридоре, как Аня сказала ему из кухни:
— Про газету ты и во сне думаешь, а вот про письма от детей спросить — на это тебя не хватает… — и сказала-то не просто с ворчливостью, а со слезами в голосе.
Он оторвался от газеты, мутно глянул на нее. Мелькал у Ани ножик в руках, стуча по доске. Она с привычной умелостью шинковала капусту, и со стороны могло показаться, что только это и было у нее на уме — скорее приготовить ужин, — но Иван Игнатьевич насторожился.
— Про какие еще письма?
— Ни про какие. Ты же газету искал — иди, читай теперь.
Иван Игнатьевич помялся с ноги на ногу, решая, то ли ему статью читать, не слушая больше воркотню жены, то ли вникнуть в суть ее слов. И поскольку Аня будто забыла о нем, знай орудовала ножом, он тихонько повернулся и, стараясь не стучать ногами, пошел в залу. Тут-то она и выдала ему вслед:
— Обрадовался! Отец называется…
— Дак я ж говорю: «Какие письма?» — а ты мне в ответ: «Никакие!» Тебя без пол-литры не поймешь, — попробовал он перейти на шутку, и Аня, уловив эту перемену, вроде как с неохотой уступила.
— Мария письмо прислала, — сказала она, хотя и не сразу, а позвякав еще ножом. И зашмыгала носом.
— Наша Мария?
— А какая еще? Может, у тебя еще одна дочь есть на стороне?
«Ну, ботало! — беззлобно восхитился Иван Игнатьевич. — Не знаешь, чего и сказать тебе».
Понимая, что иначе поступить сейчас нельзя, он вернулся в кухню, небрежно сунул газету за шкафчик, будто тут же забывая о ней раз и навсегда, и сел на табуретку с подчеркнутой готовностью читать письмо дочери и разговаривать с женой только о письме или о том, о чем она сама захочет поговорить.
Вмиг сломала Аню такая уступчивость мужа, и она, даже засмущавшись от полного ощущения этой своей победы, вытерла руки и вытащила из кармана фартука распечатанный конверт.
Протерев очки с той неспешностью, которая сама за себя говорила жене, что читать письмо он будет вдумчиво, как и полагается, может, раза два подряд прочитает, Иван Игнатьевич взял конверт и для начала поглядел на штампы: когда отправлено было и когда получено.
— Тоже мне деятели почтовые, больше недели письмо шло, хотя и авиа, — построжав, буркнул он, давая Ане понять, что теперь, хотела она того или нет, инициатива переходит в его руки, потому что, если по письму возникнет какой-нибудь житейский вопрос, Аня волей-неволей будет ждать, что скажет он, глава семьи.
Приготовился он читать долго, но письмо оказалось на редкость короткое, короче не бывает. Мария сухо, торопливо как-то сообщала, что с отпуском придется повременить, свидеться нынче, скорее всего, не доведется. Было бы хорошо, писала она, если бы они сами приехали к ней.
— Вот это номер! Чего это она… передумала, что ли? Не могла поподробнее написать… Даже от Наума с Таисией привета не передала.
— Да уж не так просто… — опечалилась мать. — Что-нибудь случилось там у нее…
Иван Игнатьевич сразу вспомнил о том, о чем писала Мария месяц назад. Видно, тот самый конфликт с начальством и держал ее теперь. Но, чтобы как-то успокоить жену, он быстро сказал:
— Да ну! «Случилось»… Чего там с нею случиться может? Это на курорте-то?! Да и она ж там не одна. Братка мой рядом, родной ее дядя. Просто хитрит Мария, и все тут.
— Уж какая тут хитрость…
— А такая! Она ж пишет вот, чтобы мы к ней сами ехали. Ведь если бы она к нам сейчас прилетела повидаться, то мы с тобой, старуха, так и не побывали бы на море. А то, глядишь, летом и съездим.
— С печки на горшок, — махнула рукой Аня. Она помолчала и, чуть не плача, произнесла: — Ждала-ждала их с Игорьком… С самого лета банку варенья клубничного берегла для Марии. Она ж любит клубничное.
— Варенье… При чем тут варенье? — фыркнул Иван Игнатьевич.
Все планы враз разрушило это письмо. Уж так ему хотелось сводить свою старшую дочь на завод, вроде как впервые показать его ей. Кто знает, может, она бы и насовсем тут осталась. Хватит, пожила на юге, поправила свое здоровье — пора и домой возвращаться, к основному своему делу. Ведь не всю жизнь торчать ей в этом санатории! Может, она бы теперь не в химцех пошла, а в плавилку, лаборанткой. А потом бы подучилась заочно — и техником смогла бы работать или еще кем, уже по основному процессу. А там бы и внучек, Игорек, подрос и тоже, глядишь, дедовым делом заинтересовался бы.
— Варе-енье… — уже не помня, почему это слово привязалось к нему, передразнил Иван Игнатьевич и, то ли и впрямь не замечая, что Аня сидит и плачет, то ли сознательно не давая себе растравить свою душу, а тем самым и с жены сбивая это настроение, с шумом отодвинул табурет и заспешил из кухни, не забыв прихватить и газету. — У них там, на юге, этого варенья, как грязи. Нашла о чем горевать!
В зале, однако, прежде чем вернуться мыслями к статье, Иван Игнатьевич, уже сидя за столом и держа газету перед собой, минуту-другую прислушивался к звукам, доносившимся из кухни.
«Плачь не плачь…» — вздохнул он и углубился в чтение.
Кое-как дождавшись понедельника, Иван Игнатьевич примчался в плавилку чуть свет. До пересменки оставалось не меньше часа, и он обрадовался, что поспел к пуску металла. Не мешая металлургам, постоял в сторонке, с удовольствием наблюдая, как сноровисто продолбили они летку, как огненно хлынул свинец в лоханку вангреса. Минута-другая всего и прошла, а уже казалось, что угомонился, затвердел свинец громадной чушкой, но вот подставили бадью — и снова вспыхнула, ожила струя, которая вырвалась теперь уже из вангреса, и только свежие нашлепки на полу отвердели, застыли серебристой чешуей.
Любил Иван Игнатьевич такие минуты, ради этих-то мгновений — увидеть только что родившийся металл — он и напросился когда-то в плавилку. Да и теперь тянуло его сюда почти каждый день. Этим-то, можно сказать, он и жил. Ведь если бы вдруг перевели его подсобку, где он клеил проклятые чуни, куда-нибудь в другое место, откуда нельзя было наведываться в плавилку, то вряд ли выдержал бы — на кой черт жизнь такая! Но когда он знал наперед, что пусть не сегодня, так завтра забежит хоть на минутку, постоит у шахтных печей, послушает, как они гудят, беснуются, творя металл, то ему легче было терпеть любую работу да и разные неприятности, которые выпадали, тоже.
Между тем помощник мастера снова забил летку глиняным кляпом. Он раза два зыркнул в сторону Ивана Игнатьевича: мол, и чего ходит сюда, старый хрыч, вот не спится-то человеку.
«Ишь как волнуется, — отметил Иван Игнатьевич. — Недолюбливает меня Сапрунов. Удивляться не приходится».
Прошлой весной сорвался этот Сапрунов с места, заегозил: дескать, на север подамся, в Норильск, поеду в Заполярье, надоело тут, опостылела наша плавилка и завод этот, охота в других местах побывать. А работал он в плавилке сменным мастером. Жалко было Малюгину отпускать хорошего металлурга, но делать нечего. Однако не минуло и трех месяцев, как вернулся Сапрунов назад с покаянием: прошу принять обратно в свой цех кем только возможно.
— Не бери, Петро, этого летуна! — озлился тогда на него Иван Игнатьевич. — Молодой, здоровый, как бык, работать да работать надо, а он завихрился, недолго думая. Какую выгоду ездил искать? Ишь моду взяли! Знают, что все равно примут обратно, потому как безработицы у нас нету, а недостаток умелых кадров. Не бери ты его, и все тут!
Малюгин озадачился:
— Да как же я его не возьму, если он вон откуда, от Полярного круга, к нам ехал?
— А черт его туда посылал, что ли?
— Ну, Иван, это, знаешь ли… Я ж его с понижением принимаю. И вообще это не твоего ума дело, короче говоря! Чего ты суешься, куда не следует?
Тогда Иван Игнатьевич, чтобы хоть как-то проучить Сапрунова, а заодно и другим урок преподать, подступился к нему с вопросами на ближайшем партсобрании.
— Что же тебе, путешественник, не пожилось там, в Норильске-то, а? Платят, что ли, мало?
— Дело не в деньгах, — сразу обиделся тот.
— А в чем же тогда? — прикинулся простачком Иван Игнатьевич.
— Да как вам сказать… — помолчав, потупился Сапрунов. — Вроде и не хуже там, такие же агрегаты, а вот все же что-то не так. Даже запах в цехе иной…
И вот как произнес он это, так сразу и понял его Иван Игнатьевич и простил в душе. Коли даже запах вспоминал человек — это все, никуда больше не ринется, останется тут до конца. По себе судил Иван Игнатьевич. В подсобке у него пахнет неплохо будто бы, дышать есть чем, не то что у шахтных печей, где с непривычки першит в горле. Но дивно было то, что в плавилке у Ивана Игнатьевича голова сроду не болела и сердце не покалывало, а тут, в чистоте да в уюте, которой позавидовал бы любой сапожник, — хорошее помещение выделили для подсобки, ничего не скажешь, — весь больной к вечеру становился.
Добродушно улыбаясь теперь Сапрунову, бросавшему на него косые взгляды, Иван Игнатьевич под конец пуска спросил:
— Ты, Коля, не знаешь, когда Малюгин вернется из командировки?
— А я не нанимался его караулить.
«Ишь как разговаривает! Ну и молодец, что характер выдерживает», — мысленно похвалил плавильщика Иван Игнатьевич и насыпал на ладонь табачку. Значит, отчаливать не собирался, а готовился к долгому какому-то разговору.
«Видать, неспроста приперся в такую рань, — настороженно подумал Сапрунов, сбивая на затылок войлочную шляпу и осушая запястьем пот на лбу. — Не безделья же ради околачивается в цехе! Ну, Старая Графиня…»
— А Парычева ты, Коля, не встречал?
— И Парычев мне ни к чему.
Иван Игнатьевич согласно кивнул головой: мол, правильно отвечаешь, так мне и надо, чтобы не заговаривал с тобой, не отвлекал от дела, а уж если бы я хотел сей же момент увидеть начальство, то долго искать его не надо — у шлаковозгонки днюет и ночует.
— Понюхаешь за компанию? — Иван Игнатьевич, конечно, догадывался по глазам Сапрунова, что тот вовсе не настроен с ним разговаривать, но лед этот хотелось Ивану Игнатьевичу поломать, и он, без того сегодня добродушный, улыбнулся плавильщику и глазами, и лицом и даже сделал руками какое-то округлое движение, будто собирался пуститься в пляс и ждал только музыки, которую должен был сыграть Сапрунов на своей длинной кочерге.
— Давай, нюхну, — неожиданно согласился плавильщик и дернул губами в ответной скупой улыбке. — Попробовать, что за отрава.
— Во, молодец! — обрадовался Иван Игнатьевич такой сговорчивости и, понимая, что у плавильщиков сейчас выпала передышка, смело подошел ближе, протягивая пузырек с табаком и расплываясь в счастливой улыбке, что вот и его «курево» наконец-то пошло в ход. — Сыпь, сколько хочешь! Не жалей, не жалей!
— А чего мне жалеть-то? — Сапрунов и впрямь сыпнул от души, покосился на своих ребят, ждавших с любопытством, что же будет дальше, и, вобрав в щепоть сильными пальцами почти всю горку, лихо поднес к носу, сильно, со шмыгом втянул. В ту же секунду глаза его округлились, размашистые брови поползли вверх, рот полуоткрылся и ноздри хищного горбатого носа затрепетали, заподергивались вместе со щеточкой усов, и он с надрывом, вроде как испуганно, чихнул раз, и другой, и третий…
— Во, как хорошо-то! Ишь как у него смачно получается! А ну, Коля, еще разочек, — после каждого чиха приговаривал Иван Игнатьевич без всякого подтрунивания, а вполне сочувственно, даже как бы завистливо. — После такого чихания никакой грипп не пристанет и усталость как рукой снимет.
Сапрунов глянул на него слезящимися глазами не то с мольбой: подскажи, мол, ради бога, как мне остановиться, не то с предостережением, чтобы ушел совратитель от греха подальше, и снова чихнул трижды кряду, но уже тонко, надтреснуто.
— От вангреса отвернись, Коля! — ржали плавильщики. — А то свинец протабачишь, рафинировщики не примут!
Обливаясь слезами, метнулся Сапрунов к фонтанчику, из которого металлурги без кружки пили и лицо ополаскивали, и только там кое-как сбил чих, но дышал еще возбужденно, словно ждал нового приступа и не верил, что его больше не будет. Даже всхлипнуло что-то у него в груди.
— Ну, Старая Графиня! — покрутил он головой, возвращаясь. Однако в голосе его уже не было прежней холодности и натянутости.
«Малюгина бы вот так угостить, — успел подумать Иван Игнатьевич. — За картами бы всучить понюшку. Чтобы тоже потеплел малость. А то в последнее время чурается меня, как тифозного».
— Ну, дядь Вань, ты и даешь! — еще мягче сказал Сапрунов. — Это ж надо, какая крепость!.. Все ноздри разъело. Думал, все, хана мне, — хохотнул он.
— Ничего. Зато кровь разогнало! — Иван Игнатьевич светился так, будто одарил человека невесть чем.
— И сколько же ты раз свою кровь разгоняешь таким макаром?
— А вот посчитай. Пузырька на день не хватает.
— Забил, поди, все бронхи-то.
— Ничего подобного. На дыхание не жалуюсь, — момента ради приврал Иван Игнатьевич. Уж кто-кто, а он-то кашлял не приведи бог. — И голову прочищает.
— Как это? — уставился на него Сапрунов, словно поверил всерьез.
— А так… — Иван Игнатьевич хотел было рассказать ему про «мошку», но когда прятал пузырек в карман брюк, отпахивая полу тужурки, свернутая трубочкой газета с давешней статьей хрумкнула у него за пазухой, напоминая о себе, и он сразу погас, насупился, будто засовестился за свою такую праздность. — Статью-то читал?
— Какую статью?
— Да на днях в «Правде».
Сапрунов глядел на него с недоумением: ему про табак, а он тебе про статью.
— При чем здесь статья, дядь Вань?
— Вот те раз! Как это «при чем»? — Иван Игнатьевич вытащил газету, расправил ее и подошел к плавильщикам совсем близко, словно собирался ткнуть их носом в статью. — Разуйте глаза-то! Про нашу плавилку тут. «Резервы роста». Первый секретарь обкома Большенарымов написал. Вы что, впервые видите ее?! И ничего про нее не слыхали?!
— Вообще-то мне говорили вчера… — сказал тот, который постарше был. — Да нам же в ночную смену. Проспал днем, и некогда читать.
— А я центральную сейчас не получаю, — помаргивая, смутился и Сапрунов. — Я же проездил в Норильск, когда подписка была. Теперь вот без газет. Разве что когда в киоске застанешь…
Хорошо понимая, что в данный момент плавильщикам не до чтения, Иван Игнатьевич бегло, но толково пересказал им содержание статьи — цифры, какие были, называл по памяти, не заглядывая в текст. Почти наизусть выучил статью — сколько раз прочел! — и шпарил теперь как по писаному.
— Смысл, ребята, один! — рубанул он под конец ладонью. — Допущено отставание сырьевой базы цветной металлургии. Меры, конечно, принимаются, спешно идет разведка месторождений, но, как правильно подчеркивает товарищ Большенарымов, строительство новых рудников требует известного времени. Это ж не цех возвести, а громадный рудник. Так что же, спросите вы, делать? Сидеть сложа руки? Ни в коем случае! Можно уже сейчас увеличить выпуск цветных металлов. За счет лучшего использования так называемых промежуточных продуктов и отходов производства, в которых содержится немало ценных компонентов…
— Стоп, дядь Вань, стоп! — первым не выдержал Сапрунов. — Завелся. Прямо как патефон, без всякого электричества.
Иван Игнатьевич смутился, заподкашливал, но прятать газету в карман не торопился. С одной стороны, он был рад, что так удачно завязал разговор с плавильщиками о том, о чем болела у него душа в последнее время. С другой стороны, полного удовлетворения от этого разговора он не почувствовал, самое главное осталось невыясненным: как они, плавильщики, которым, не то что ему, еще стоять да стоять у печей, относятся к этой заботе о шлаках — только чтобы положа руку на сердце! — и что конкретно про них думают? И едва он заикнулся задать этот вопрос, как сзади раздался голос парторга:
— Это что еще за лекция во время работы?
Когда и успел подойти, да не один, а с Малюгиным. Вернулся, значит, Головастик. На Ивана Игнатьевича оба уставились, видно, поняли сразу, кто тут заводила.
— Здравствуй, Семен Ильич, — заулыбался Иван Игнатьевич, переложив газету в левую ладонь, готовя правую для пожатия.
— Здорово, коли не шутишь, — ответил тот, но руку подавать не торопился. Может, и совсем не подаст. В заботе они оба, что парторг, что начальник цеха. На неделе должна была появиться комиссия, и спешно шел монтаж новой фьюминг-установки.
— Ты, Петро, когда приехал-то?
— Вчера вечером.
— Вчера?! Поздно, поди…
— Да нет. Часов в пять.
«А чего ж к нам не зашел?» — хотел спросить Иван Игнатьевич, но вместо этого сказал оправдывающимся тоном:
— А я тут с ребятами про статью разговорился… Случайно заглянул перед сменой, — чего-то спасовал он. — Ребята, видишь ли, не успели газету прочитать. А у Николая вон, — кивнул он на Сапрунова, — вообще подписки нету.
Малюгин понял его и хмыкнул снисходительно.
— Зря старался. Время свое не бережешь. Не досыпаешь, поди. То-то по вечерам за картами зеваешь.
Насчет карт Иван Игнатьевич решил пропустить мимо ушей, хотя если кто и зевал за игрой, так это сам Петро.
— То есть как это «зря старался»? Ты, Петро, не пойму я… Против политинформации, что ли?
— Против болтовни.
Иван Игнатьевич униженно сжался. Даже в глазах Сапрунова, на что уж он крут временами, мелькнуло сожаление: зачем же так-то обрывать?
— Сегодня вечером, — сказал парторг поспешно, как бы торопясь приглушить обиду человека, — будет открытое партсобрание. По поводу статьи. Вот и поговорим. Все вместо. А кто не успел ее прочитать — перед собранием почитает. Мы почти всю розницу в «Союзпечати» за это число откупили, — улыбнулся он и неожиданно подмигнул Комракову.
Иван Игнатьевич хотя и ответил Парычеву улыбкой, но машинально как-то, в глазах его так и осталось недоумение.
— Почему же, Петро, болтовня?
— А потому! Форменная болтовня и есть. Ну что вот ты конкретно можешь предложить?
— Я?
— Да, ты!
— Конкретно, говоришь?.. Я, Петро, знаю только одну конкретность! Исключительную! Чтобы шлака после нас не оставалось. Никакого! А как это сделать — я не знаю. Я же не бог, не царь и не герой.
— Да уж ты не герой… Сообразить не можешь, что эти шлаки пока что нам боком выходят.
— Это почему? — простодушно удивился Иван Игнатьевич.
— А потому! Ну, что в шахтные печи мы не можем загрузить один только шлак, даже если он и богатый металлами, ты понимаешь, надеюсь?
— Это я понимаю. Шихта нужна. Как не понимать! Двадцать лет у печей простоять… — Запоздало нашла на него обида, и он смотрел теперь только на Сапрунова, почему-то именно на него. Может быть, уловил в его лице не насмешку, как у других, а сочувствие.
— Двадцать-то лет ты простоял у печей, не спорю, — вроде как мирно согласился Малюгин, но тут же съязвил: — А вот ерунду порешь, как последний… я не знаю кто…
— Да какую ерунду, Петро?
— А кто мне нотацию читал несколько дней назад? Мол, зря шлаковозгонку развалили, пускай бы старая схема оставалась. Говорил?
Иван Игнатьевич, заметно смутившись, отвернулся от Сапрунова, полез в карман за носовым платком, шумно высморкался, но и этой паузы ему было мало. Сняв очки, он для чего-то решил протереть их, долго дышал на стекла и водил по нему сухим углом платка, а глаза его слезливо щурились. Словно пытаясь издали разглядеть шлаковозгонку, Иван Игнатьевич близоруко помаргивал, вытянув шею, и бельмастый левый глаз его беспомощно помигивал тоже, уставившись туда же, куда и здоровый правый, — в сумеречную глубину цеха.
— Ну чего молчишь, Иван? — наседал Малюгин. — Говорил ты так?
— Было дело… — вздохнул Иван Игнатьевич и покосился на Сапрунова.
— Ага! Говорил, значит! — обрадовался Малюгин. — А где же тогда логика?
— Логика, Петро, такая, что мне людей жалко стало.
Иван Игнатьевич опять водрузил очки на свой широкий нос, глаза его снова ожили, не стало видно бельма, и обычно мягкий подбородок, заносчиво выпяченный вперед, обрел такую же резкую очерченность, как и выпиравшие скулы.
Сапрунов, неотрывно наблюдавший за Комраковым, даже переживать за него начал. «И чего привязались к человеку? — как бы говорил его взгляд, который он переводил с Малюгина на Парычева. — Человек же совсем старый. Законченный пенсионер. Ну и невмоготу ему, конечно, быть без настоящего дела. И он ведь не лясы точить пришел сюда, а на выпуск металла поглядеть. А в благодарность за это про статью решил рассказать. Чего тут плохого?»
— Не пойму я что-то… — нахмурился парторг. — Каких это людей тебе, Комраков, жалко и почему, интересно? Что такое произошло, чтобы кого-то жалеть?
— Не кого-то, а вот их! — Иван Игнатьевич кивнул на плавильщиков. — Они же готовились, подтягивались, а им вместо вымпела комиссия двойку влепит за то, что шлаковозгонку развалили.
— Так ведь развалили, чтобы новую поставить!
— Нашли время… Не могли ни раньше, ни позже… Пуп-то у людей зачем рвать? У нас вечно так — то спим и не чешемся, а то рвать и метать начинаем. Сразу в дамки чтобы.
Плавильщики переглядывались. Ну как же не поддержать человека, если он правду в глаза высказывает! В самом деле, устали они от такого аврала. Тут и вымпелу не рад будешь, золотым его буковкам.
— Значит, Комраков, — строго подвел итог Парычев, — тебе на двух стульях посидеть захотелось?
— Как это?
— А так. И людей, дескать, жалко, и со шлаком что-то делать надо…
— Так оно и должно так быть! — не унимался Иван Игнатьевич. — У хорошего-то хозяина.
— У хорошего хозяина? А ну-ка, хороший хозяин, растолкуй мне, что я должен делать, если передо мной стоят такие задачи… — вкрадчиво сказал начальник цеха и вытащил из кармана свою счетную линейку. — По плану я должен был дать в конце года металла сколько? Знаешь? — Малюгин отметил на линейке цифру. — Так. Хорошо. Дали мы его? Передали! Больше выплавили. Но все, что мы получили от переработки шлаков, — он передвинул ободок на линейке, — идет по графе «полупродукты», а потому в «вал» не засчитывается. Улавливаешь картину? А ведь трудовые-то и материальные ресурсы, голубь ты мой милый, — Малюгин повысил голос, — при этом расходуются, да еще как! И вот тебе форменный парадокс: чем больше мы наращиваем переработку шлаков, тем заметнее снижается показатель производительности труда. Извольте радоваться, как ты любишь, Иван, выражаться… — Малюгин щелкнул ободком, сгоняя его на место, и сунул линейку в карман.
Иван Игнатьевич, сбив шапку на затылок, наморщил натертый подкладкой лоб. Вон с какого бока зашел Петро! Его, конечно, голыми руками не возьмешь, на то он и Головастик, весь цифрами оброс, колючий.
— Так ведь коли сам первый секретарь обкома поднимает вопрос насчет шлаков, — нашел аргумент Иван Игнатьевич, — как одного из источников наших резервов, то уж, наверное, он в курсе дела, выгодно нам это или нет!
Парычев махнул рукой и выразительно посмотрел на Малюгина: мол, нечего разглагольствовать с ним, с этим Комраковым. И, чтобы уж совсем пришибить его, задал ему новую задачку.
— Ты вот мне, Комраков, ответь, раз ты такой прыткий… Кадровый вопрос помоги решить, — ухмыльнулся парторг, но ухмыльнулся не злорадно, заранее потешаясь над беспомощностью несведущего человека, а печально как-то. — У меня вот в кармане, — для убедительности похлопал он себя по груди, — семь заявлений лежат. Семь, заметь, не одно! Семь коммунистов, специалистов плавилки — специалистов, заметь! — собираются уволиться.
— В один раз?! — ахнул Иван Игнатьевич.
— Целым отделением, черти!
— Это чего на них нашло?
— А вот знай чего! На БАМ, видишь ли, захотелось…
— На БАМ?! Да кто же эти семеро? Молодежь?
Парычев хмыкнул.
— Как бы не так… Это все старые кадры. Семейные люди. Как прикажешь рассматривать? Патриотизм или текучесть кадров? Они же на трудное дело идут…
— Да-а… — почесал в затылке Иван Игнатьевич.
— Вот тебе и «да»! — Малюгин был доволен, что загнал Комракова в угол. Глянув на часы, он тронул Парычева за рукав, а сам уже вроде как забыл напрочь этот зряшный разговор, затеянный неугомонным соседом, и глядел уже только на шлаковозгонку, так и потянуло его туда, словно магнитом. И парторг готовно пошел за ним.
— Ну ты и дал им понюхать! Вон как раскочегарил! — сказал Сапрунов. — Покрепче твоего нюхательного получилось, дядь Вань!
Плавильщики засмеялись, а Иван Игнатьевич потерянно глядел на матово мерцающую сизую корочку свинца, которая за это время возникла в вангресе, будто свежая короста.
3. КОМЕЛЬ
Раз в году, ко дню тещиных именин, Иван Игнатьевич подгадывал так, чтобы взять себе отгул. Редко когда число выпадало на субботу или воскресенье. Еще загодя сверялись по календарю, и он оставался на сверхурочную работу, сколько нужно было, чтобы уж потом не знать отказа.
И вот ведь как повелось. Хотя в городе у тещи была и другая родня, в том числе и бездетная младшая дочка с мужем, которые жили хорошо, с достатком, в отдельной квартире, теща все же приезжала накануне именин не к кому-то, а только к ним, к Ивану с Аней, приезжала с ночевкой, из года в год.
Как всегда, поужинав и толком не условившись насчет часа сбора завтра, они усаживались в рядок на широкой кровати и сразу брались за письма от ребят, которые накапливались за то время, пока они не виделись. Теща сама читала их вслух, а Иван Игнатьевич и Аня слушали, будто впервые. Но в этот раз, осаживая мужа взглядом, Аня засунула письмо Марии между книгами, стоявшими на этажерке, — почему-то решила не показывать его матери. Не хотела, видно, расстраивать раньше времени. Но разговор все же коснулся и Марии. Да и не раз и не два — они опять проговорили допоздна, вспоминая, что было в их жизни, и обсуждая то, что еще могло в ней быть.
В шестом часу, с первым автобусом, Иван Игнатьевич проводил тещу. Вернувшись, он с усилием оторвал примерзшую за короткое время дверь, вошел в прихожую, потопал окаменевшими на валенках чунями, прислушался — нет, в глубине комнат никто не отозвался, хотя все это время дверь была незаперта и мало ли кто мог прийти. Значит, все еще спали. Да кто все-то? Кто и спал с вечера — так это ребятишки, Наташка и Борька. А сама Аня небось и первый сон не начала смотреть, прикорнула на неразобранной кровати.
Ведь вот чудаки они, все трое, что сам он, что Аня, что тещенька неугомонная, — чуть не до утра прочесали языками. Да теще-то и ему лично мало горя — им не на работу, а Ане надо поспеть в свою контору. Опять будет потихоньку от него и ребятишек хвататься за виски.
Жалко человека, а надо будить. Хотела с утра пораньше застать дома свою знакомую по соседней конторе и попробовать договориться: не заменит ли та ее сегодня, не за добрые глаза, конечно, а в счет их будущей взаимности, когда и той вдруг да понадобится замена.
Будить, будить надо — пусть сходит: испыток не убыток, как говорится. А то уже без десяти шесть. Вот-вот гимн заиграют. А ей еще надо Борьке завтрак приготовить, хотя бы на скорую руку, яичницу какую-нибудь, и кто еще, кроме нее, будет расталкивать, приводить в чувство любимого сыночка… Работничек! Сам проснуться не может.
Иван Игнатьевич вздохнул, скинул с себя тужурку, шапку и сменил валенки на тапки. Присев за круглый, под скатеркой, стол в центре комнаты, опять подумал о теще, как она едет сейчас в автобусе и поклевывает носом. А ведь и ей тоже дома прилечь не удастся, сразу примется за стряпню, угостить она любит, как никто другой. И откуда только берутся у человека силы? Иван Игнатьевич с удовольствием вспомнил, как, уже одевшись, перед самым уходом, теща со смехом рассказала им про своего старика — задумал, видите ли, купить мотоцикл с коляской. «Я ему говорю: тебя же вытряхнет на первой кочке! — будто впервой изумилась она. — Подлетишь в небо, как одуванчик!.. А он мне отвечает, старый хрыч: дескать, не вытряхнет, меня девчата за шею держать будут, я их на речку повезу, купаться…» И смех, и грех с такой тещей. И хорошо им на душе в эти минуты, что хоть и редко, а все же собираются они вместе, и пусть каждый из них постарел ровно на год, приблизился сколько-то еще к последней своей черте — но пока что жив и видит живыми близких ему людей.
Улыбаясь про себя, Иван Игнатьевич под звуки гимна из ожившего репродуктора подошел к кровати.
— Мать, а мать, — легонько ткнул он в плечо жену. — Шесть часов уже, надо что-то делать.
Аня вскочила с виноватым видом, и Иван Игнатьевич, тоже чувствуя неловкость, тут же нашел заделье: сел подшивать Борькины валенки, — как бы красноречиво говоря тем самым, что и себе он отдыха не дает.
— Как вы с мамой решили-то? — Она сидела отрешенная, тихая, словно пыталась найти толковое объяснение короткому своему сну.
— Да чего там решать? — ответил Иван Игнатьевич, прикусывая зубами дратву. — И решать нечего… Часикам к двум и соберемся.
— К двум… Аня раздумала зевнуть, поправила растрепавшиеся пепельные свои волосы. — К двум-то поздно, поди. Мне к пяти быть в конторе, какая надежда на подмену-то? Ладно же вы обо мне подумали!
— «Подумали», «подумали»… — мягко передразнил Иван Игнатьевич. — Чего тут думать-то? Думай не думай, а сто рублей, как говорится, не деньги. — До него запоздало дошло, что и впрямь получилось с Аней нескладно, вроде как они с тещей не посчитались с ней, и ответить ему сейчас было нечего.
— А-а, — машет она на мужа рукой, как бы говоря: и надоели же ей эти его шутки-прибаутки, ни о чем серьезном с ним и побеседовать нельзя. Нащупывает ногами войлочные разношенные тапки, сшитые в прошлом году Иваном Игнатьевичем, глядит на часы и по привычке оглаживает правое предплечье, втайне радуясь и боясь и думать — тьфу, тьфу сто раз! — что вот сегодня оно утихло, как бы не сглазить. Даже если бы Иван и спросил ее сейчас: «Ну как, Аня, рука-то у тебя сегодня?» — она бы поморщилась и ответила невнятно: «Та-а, моя рука… Нашел о чем спрашивать!» — то есть, мол, разве сам не знаешь мою руку: то саднит, спасу нет, а то отпустит малость, да это только называется, что отпустит, потому как только стоит сказать: «Да вроде седин лучше», как она тут же и вступит опять, будто и была рядышком, боль-то.
Аня встает и идет в другую комнату будить Борьку, что-то еще ворча по дороге в адрес Ивана Игнатьевича. В два часа пополудни — тоже придумали! Выходит, всего-то час-другой и посидят они у стариков — и снова бежать на автобус, в эту контору техснабовскую, будь она неладна.
«А чтобы-то, казалось, часов на двенадцать и назначить!» — думает она. Нет, что ни говори, а много Ивану не доверишь, все на свой аршин перемерит, и надо бы ей самой обо всем и договориться с матерью.
Уже готовая вот-вот забыть и об этой утренней досаде, и об именинах вообще, думая только о том, чем бы получше накормить Бориску, которому весь день таскать на себе баллоны с кислородом, она гремит на кухне сковородкой и говорит через прихожку Ивану Игнатьевичу просто так, как последнее и, в общем-то, необязательное:
— Не подумавши решили, хуже не могли придумать.
Иван Игнатьевич молчит, слушает бой отстающих настенных часов и для чего-то считает число ударов, считает как-то вдумчиво, обстоятельно, откладывая на минуту свою работу и даже приподнимая на брови очки. Слезящиеся от недавнего напряжения, не отдохнувшие, а, наоборот, наработавшиеся за ночь глаза его красны, часто помигивают, уставившись в сизое от наружной сутемени окно.
«Не подумавши… Это сказать легко», — как бы помимо своей воли бурчит про себя Иван Игнатьевич. Разве наобум скроишь сегодняшний день? Он хоть и считается отгульным, вроде как выходным, но дел-то по горло. Перво-наперво надо съездить в собес: подмывает разузнать, как у него будет с пенсией — по какой сетке пойдет, повлияют или нет эти последние годы, когда с работой у него началась свистопляска. Агейкин вон говорит, что давно можно было выхлопотать пенсию. Так-то оно, может быть, так, да ведь он и думать не хотел ни про какую пенсию. Не хотел, а надо, выходит. Никуда не денешься. Часа два придется просидеть в собесе, не меньше. Там, говорят, всегда народу под завязку. А в субботу и воскресенье туда не разбежишься. Так что все утро отгульного дня придется ухлопать на собес. А еще и на дачный участок успеть к десяти, срочно надо окопать снегом малинник, сильно ветер бесился в последнее время, все повыдуло небось, и перемерзнет, пропадет малина. Эту работу он тоже назначил сам. И не только себе — на участок приедет Анина сестра, Катя, у них там тоже целый рядок, а Катя в отпуске, делать ей нечего, вот и поможет ему за компанию. Но хуже всего то, что ключа от времянки у свояченицы нет, замерзнет снаружи без дела, если он опоздает, воркотни потом не оберешься.
Но это еще полбеды. До полудня, худо-бедно, эти два дела он провернул бы. Главная загвоздка — выкроить время и сходить на завод, склеить для тещи чуни. Давно обещал, да и дождался вот — именинница сама сегодня напомнила: «Это сколько же можно ждать твои обещанки, зятек? Вот-вот снег поплывет, весна, а мне на валенки надеть нечего, придется покупать калоши…» Ведь знает же, как уколоть человека: калоши! Да разве это выход из положения? Иван Игнатьевич тут же полез под кровать и достал запылившиеся, аккуратно перевязанные шпагатом заготовки для чуней — полосу бусой от новизны резины шириной в добрую ладонь. На, мол, гляди — думает о тебе зять или нет?
Теща, конечно, обрадовалась. А для Ивана Игнатьевича главная теперь забота — заскочить в подсобку, натянуть заготовки на колодки и сунуть их в печь вулканизации. И на это уйдет не меньше двух часов. Вот и считай. Прямо хоть разорвись! А она — «не подумавши». Да о ком, интересно, он думал и думает, как не о ней? Много у него самого дел, мало — это ладно. Устанет, не устанет — явится к теще как огурчик. Уж виду не подаст, что забегался вконец. Но ведь и там, на именинах, когда уже все, вплоть до Наташки с Борькой, соберутся и выпьют за здоровье старого человека, а потом и споют и станцуют, он будет думать все о том же — что скоро пробьет пять часов и Ане надо снова быть на работе.
Вместе с чувством полной своей правоты к Ивану Игнатьевичу приходит ощущение голода. «Проработался, как же», — ухмыляется он про себя, еще в двух-трех местах прихватывает дратвой войлочную накладку и кидает валенки под порог, где, сидя на табуретке, клюет носом Бориска, безвольно держа в руках снятые с батареи портянки.
— На, горе луковое… — беззлобно ворчит Иван Игнатьевич. — Да побольше катайся на валенках-то, протирай пятки: как же, батька починит, он ведь не казенный…
Борька берется за валенок, а губы его в это время что-то беззвучно шепчут — видно, огрызается втихомолку. Иван Игнатьевич проходит мимо него строго топающим, как он полагает, шагом.
В кухне выясняется, что Аня поджарила яишенку опять только для одного Бориски, сковородка чиста, пахнет вкусным, а кругом пусто, один хлеб на тарелке да сахар в початой пачке. А завтрак для всех будет еще не скоро — только-только приставлена кастрюля с водой, и Аня села чистить картошку. Иван Игнатьевич тут же надумывает, что ему делать. Предвкушая про себя только ему одному известное удовольствие, он берет глубокую эмалированную чашку, крошит в нее черный хлеб, режет кругляшками добрую головку лука и, прикинув на глаз, довольно или, пока не поздно, прибавить хлебца еще, густо обсыпает крошево солью и перцем. Аня снисходительно подергивает губами и переглядывается с Борькой, но Иван Игнатьевич на них ноль внимания, снимает с плитки чайник с кипятком и льет в чашку.
— Масло, постное масло-то забыл, — насмешливо говорит из прихожей Борька, косо напяливает шапку и идет к двери.
— Ох ты, якорь-то его! — досадливо спохватывается Иван Игнатьевич, вслепую сует на плиту чайник и берет с подоконника масло и льет щедрее, чем обычно.
— А ничего-о, ничего, прямо надо сказать, — пробует он мешанину деревянной щербатой ложкой, которую сберегает бог знает с каких времен для таких вот моментов, где никакая алюминиевая, по убеждению Ивана Игнатьевича, не сохранит, пока несешь хлебово ко рту, истинного аромата и вкуса. Дразня жену, он старательно чмокает, кружит ложкой в чашке, и по кухне плывет тепловатый дух размокшего хлеба и острый запах растительного масла. — Ай да тюря! Всем тюрям тюря! Давай-ка со мной, Аня, бери ложку! — Вполне счастливый, что вот и он тоже чем-то может распорядиться и даже угостить жену, Иван Игнатьевич с надеждой поглядывает ей в спину, но уже знает в душе, что той бы только посмеяться над ним и над его тюрей, никогда она ее в рот не брала и за пищу не считает, а зря. — Ну чем не еда? Ты знаешь, вот в войну, бывало…
Аня гремит крышкой, явно без толку начинает переставлять кастрюли, как бы говоря: знаю, слышала уж много раз. В другое время и послушала бы еще, да только не сегодня: начнешь слушать, кивать да поддакивать, а муженьку того и надо — подумает тут же, что вот она уже не дуется на него. Нет, она считает — характер надо выдерживать, а то о ней и совсем перестанут думать.
— Ну, тюря! — причмокивает Иван Игнатьевич.
Он понимает, что теперь до двух часов жена и слова не проронит. Она выговорится там, у своей матери, когда упреки ее вспыхнут снова, но все больше для того только, чтобы родня видела, как она держит своего Ваню в руках и последнее слово за ней. И Иван Игнатьевич как бы виновато промолчит, ища взглядом сочувствия у тещи, и та немедленно поддержит, вступится, с шутливой
напористостью накинется на дочку и обнимет его, а потом все выпьют со смехом и прибаутками, хорошо понимая, что это была у них вовсе и не ссора. И Аня не будет на него коситься, и сядут они играть в карты уже как давние партнеры, словно между ними сроду ничего такого — недомолвок, пререканий, обид — и не бывало.
Молчит женка, как воды в рот набрала. И надо бы ему помолчать тоже, но душа в нем живет как бы отдельно от разума, душе хочется праздничного общения, и Иван Игнатьевич, помимо своей воли, насухо под конец облизывая ложку, шутливой скороговоркой завершает столь раннюю свою трапезу:
Бог напитал — никто не видал,
Съел семь печей калачей,
Одну булочку…
Кто видел — тот не обидел,
Ну и слава богу!..
Аня молчит. Только ножик в руках мелькает, и свешивается до самой корзины кривоватая спиралька очистки. Иван Игнатьевич по привычке после еды хочет понюхать табачку, но вовремя вспоминает, что в кармане у него лежит вчерашняя даренка Агейкина — пачка из-под папирос «Беломор», наполненная карамельками. Уж так уверял его вахтер, будто кисленькие леденцы живо отвадят «мошку»…
Жалко, что запамятовал он вечером про эти карамельки, а то бы удивил жену, а заодно огорошил бы и тещу, которая тоже нюхальщица еще та.
Иван Игнатьевич нащупывает в кармане мятую пачку из-под «Беломора», но доставать не решается — строгое молчание жены становится ему в тягость все больше и больше. Ладно, пососет он эти леденцы потом, в проходной, за компанию с Агейкиным, или уже в подсобке, пока заготовки для чуней будут вулканизироваться.
— Ну я поехал в собес, займу очередь, — говорит он, поднимаясь. — Ты меня, значит, дома не жди — к двум часам прямо к маме и приеду.
Уже на улице, гулко кхакая на морозе, Иван Игнатьевич вдруг спохватывается, что письмо от Марии так и осталось лежать на этажерке, а надо бы его взять с собой.
Решая про себя, возвращаться ему или нет, он озадаченно мнется на месте. Мороз пробирается под тужурку, похрумкивая, каленеют зажатые под мышкой резиновые заготовки. В набрякшем стынью тумане плавает голое, без единого лучика, солнце. Деревья стоят в куржаке онемело, недвижно. «Далеко еще до весны, ой далеко-о…» — говорит себе Иван Игнатьевич. И, утешаясь тем, что Аня небось думает о дочкином письме, а потому уж не забудет прихватить его с собой, Иван Игнатьевич заспешил, ссутулившись на морозе больше обычного.
У калитки его поджидал тесть — завидел издалека, окна нового дома жениных стариков прямо на все четыре стороны света, — накинул на плечи телогрейку и, несмотря на мороз, стоял и выжидал, заранее осаживая звякавшего цепью пса. Глядел из-под стынувшей ладошки, как через первые и вторые рельсы, по-за отцепленными цистернами, напрямки от автобуса шпарит зятек. Солнце сегодня неяркое, а глаза слезятся — посмотри-ка встречь ему, да еще по свежему крахмалистому насту, размножающему лучи.
Зять Иван Игнатьевич с голой грудью, уши треуха кверху поднял. «Скажи, какой ухажер выискался», — весело прихмыкнул про себя тесть и крякнул от зависти, что ему не шестьдесят, а все семьдесят пять.
Семьдесят пять не семьдесят пять, сказал он себе тут же, а вот дом поставил сам, не дядя какой-нибудь. Другой бы на его месте махнул рукой: иди ты, старуха, отвязки со своей идеей, жили в этой саманке столько годов, поживем и еще, поди, и жить-то уж осталось с гулькин нос… Кто бы другой, но не он, — тут же побежал на эту станцию товарную, где старуха разузнала про списанные нестандартные шпалы, за бесценок, можно сказать, выписал сколько нужно штук и из тех шпал, даром что они короткие, вывел вот этот самый пятистенок. Чин чинарем: кухня, спальня-боковушка и передняя, а по-современному — гостиная. Все опасались — промерзать, мол, будут, шпалы-то, — а поди теперь, глянь: хоть в одном углу заметишь ты куржак, интересно? Теплый дом, чего там говорить. Живи не тужи — помирать не надо.
Оно и раньше им не худо было, все их молодые годы провели со старухой в передвижных вагонках. Сорок лет без малого оттрубил он на буровых работах — вплоть до старшего мастера (а как-то целых два месяца и прораба замещал, сидел в одном кабинете с начальником экспедиции), и старуха — тогда еще молодая, понятно, — всю жизнь была с ним, работы в экспедиции хватало и ей. Эх, бывало, как она напускалась на него — не пялься, дескать, на молоденьких лаборанток, кобелина этакий! Смех и грех… А саманку-то прежнюю — здесь же, на переезде, — сварганили себе на скорую руку уже в последнее их экспедиционное лето, когда стало ясно, что выстаивать на буровой смену ему тяжеловато, отекали ноги, застуженные по молодости, когда был дурак дураком и здоровья своего не берег: закатает, бывало, гачи до паха и босичком стоит в шурфе с водой, замеры разные делает и технику наверх докладывает.
Конечно, можно бы и сразу к детям, к той же Ане, — разве они с Иваном Игнатьевичем выгнали бы их? Да ни за что на свете! Или хотя бы Катю взять, меньшую. Хотя, конечно, Катя со своим Сашей…
— Здорово, папа! Ты чего это на морозе стоишь? — подкатил тут гоголем Иван Игнатьевич. Потянулся сразу целоваться, будто век не виделись.
А и правда, успел прикинуть тесть, ходим друг к дружке раз в год по обещанию.
— Здорово, здорово… Как доехал-то? Восьмеркой, поди?.. Ну! Ею и езжай всегда. А то Аня, блаженная, выдала сегодня номер: села зачем-то на трамвай, на тройку, а он же только до машзавода, а там пересадку делать на шестерку. Это ж надо придумать себе такое приключение! — восхитился тесть суматошной своей дочкой. Его глаза как бы говорили: ему лично, может, больше всех сегодня веселья хочется! Шутка сказать: первый раз со дня постройки собралась в новом доме почти вся-то родня, из ближней только внуков каких и не хватает. Аня вот с Иваном приехали, да детей их двое, да Катя со своим мужем — мало ли!
— Это чего ей в голову взбрело? — удивился Иван Игнатьевич.
Но тестю уже было не до беседы — и уши вконец застыли, и пес чего-то не узнавал Ивана Игнатьевича, рвался с цепи, и его приходилось сдерживать, цыкая на него, правда, только для блезиру — чтобы зять видел, какая у него злая собака. Подняв голик с приступки, Иван Игнатьевич толком не обмел валенки и, раздосадованно махнув рукой на пса, поспешно скрылся в сенях.
— Ну и злыдню вы завели! — с укором вошел он в кухню, где сумятились, делая сто дел сразу, теща, Аня да свояченица Катя. С порога заметил, заглядывая за портьеру в переднюю, что Саня, Катин мужик, сидит посреди комнаты на венском стуле и смотрит передачу по телевизору. «Что-то про цирк», — заволновался Иван Игнатьевич, ругнув себя, что опоздал к началу; клоун в полосатых штанах уже давно, видать, выламывался перед публикой, и Санькина спина и затылок тряслись от беззвучного смеха.
— А ты почаще бы хаживал к нам, зятек! — прищурившись, пропела теща. Она заметила в авоське у зятя готовые, как раз под размер ее валенок, чуни, но виду не подала, чтобы потом, когда уже сядут за стол, не лишать человека удовольствия выложить свой подарок. — Ты вон спроси у тестя-то своего, — кивнула она за спину Ивана Игнатьевича, шутливо остолбеневшего в дверях от такого горячего напора, — спроси-ка!..
Тесть выдвинулся из-за плеча Ивана Игнатьевича, на ходу скинул с себя телогрейку и потянулся к умывальнику, успевая зорко оглядеть, сколько чего поспело в руках женщин за время его отсутствия.
— Чего, чего у меня спросить-то? — скуповато улыбнулся он своей старухе.
— Да про то, как ты матери-то моей говорил, когда приходил к ней в гости, помнишь? «Теща! Зять пришел, ставь блины!»
— Ну, дак это и я могу так сказать! — радостно засмеялся Иван Игнатьевич, искоса наблюдая за своей Аней. Та улыбнулась уголками губ, да и глаза веселые, но для вида позицию пока что выдерживала. — Были бы блины, чего не сказать!
Но блинов на сегодня нет, не достала тещенька блинной муки, будут только пельмени, и холодец, и соленья разные, как водится, и крыть ей, как говорится, нечем. Зря заикнулась!
А тесть, подмаргивая Ивану Игнатьевичу, уже на ходу снимал пробу с последней порции самогонки — плеснул из графинчика в столовую ложку, лизнул раз, другой, водя языком по небу и уходя взглядом как бы внутрь себя; потом чиркнул спичкой, коснулся острием четкого желтого огонька края алюминиевой ложки, испускавшей сивушнотерпкий запах, и невидимые пары вмиг занялись сиреневым пухлатеньким огоньком, померцавшим-померцавшим да и исчезнувшим, ровно и не было его вовсе. Только запах тут же сменился — будто закисшее что-то невесть откуда появилось в ложке.
— Конечно, не первый уже сорт… но ничего-о! — заключил тесть, видимо, не зная, как поступить с остатком в ложке, потерявшим от огня градусы: и в графин вылить неудобно — лизал с ложки-то; и в таз под умывальником выплеснуть тоже ни то ни се — добро переводит, мол; а если взять да слизнуть как бы между делом, спрашивал он глазами зятя, то, может, и ничего, не осудят женщины, подумаешь, дело какое…
Так и поступил. Звякнул пустой ложкой о стол.
Иван Игнатьевич между тем тут же, в кухне, не проходя в переднюю комнату поздороваться с Катерининым муженьком и не спрашивая Аню, нашла замену себе или нет, напал на свояченицу:
— Ты чего это, интересно, на свиданку сегодня не явилась? (Катя моложе его Ани на двенадцать лет, было у них еще два брата, промеж них годами, да оба остались там, где и многие полегли: один — на Курской дуге, а другой — уже под Кенигсбергом, нынешним Калининградом. Стало быть, Ивана Игнатьевича она моложе на целых два десятка, сорок ей всего — репа-баба!) Я ее, понимаешь, жду, с утра побрился, наодеколонился, — кося глазом в переднюю комнату, громко начал Иван Игнатьевич, чтобы подзавести ревнивого Катерининого муженька, — поджидаю на даче-то, как условились, ровно в десять, как жених, без опоздания прискакал, а ее нет как нет! Вот, думаю, обманщица! Замерзну же, думаю, один-то тут…
Теща подвизгнула в хохотке — любила, старая, такие розыгрыши, — а Саня в комнате дернулся, наконец, на стуле и поднялся, вроде как расправляя затекшие от долгой сиденки ноги.
Катерина срочно отмежевалась:
— Ах ты, перечница старая! У самого, поди, уже песок сыплется, а он все туда: о свиданках мечтает!
Про песок она, конечно, сказанула зря, подосадовал Иван Игнатьевич, тем более при Ане; но уж зато Саня, вышедший на голос жены в кухню, был явно довольнехонек: отбрила что надо!
— Хм!.. — будто только что увидев его, с показной огорченностью сказал Иван Игнатьевич. — А он, оказывается, вот он! А я-то надеялся, что человек опять на кормак
[2] поехал со своим бугаем толстопузым — вот, думаю, с Катюхой хоть потанцую!
Саня неопределенно посмеивался, стоя на порожке передней, почти касаясь притолоки своим падающим на глаза чубом — прическа «полубокс», только что, видать, из парикмахерской, кожа на висках белая, не тронутая подкладкой шоферской шапки, и одеколоном пахнет.
— Какой там кормак! — безнадежно и вместе с тем наигранно-небрежно отмахнулся Саня. С одной стороны, он как бы говорил, что рыбалка в такой мороз — это сон наяву любого мужика, потому что далеко не каждому удается раздобыть машину да сохранить ей мотор в тепле, пока ты на льду возле лунки с окунишками возишься. С другой стороны, Саня вечно делает вид, что лично у него все это запросто получается, и доказательства тому самые убедительные — мешок, а то и два мерзлой рыбы, стыло стучащей одна о другую, привозит он каждый раз с озера. Не было случая, чтобы вернулся пустым. Мороз — не мороз. И газик всегда на ходу, трубки радиаторные еще ни разу не прихватило. — Сегодня же будний день! Мы же вот только что, в субботу, на два дня ездили. Дай отдышаться. Да еще спасибо скажи, что меня мой бугай на полдня отпустил. Еле-еле нашел я замену. Никто не соглашался, ханыги такие!
— Каждый день, — многозначительно взглядывает Катерина на мать и сестру, намекая на муженька, — является домой не раньше семи, а утром убегает чуть свет. Получается, как у колхозника — от зари до зари. Ни в кино сходить, ни к людям куда. Я уж говорю ему, — улыбается она сейчас (дома-то, поди, всю шею ему перепилила), — женился бы ты, что ли, на своем «газоне» с директором!
Саня ухмыляется с праздной снисходительностью — плохо ли ему, что даже в день тещиных именин не обошли его приятным разговором!
— А ты, вообще-то, Саша, — говорит Иван Игнатьевич, — прислушайся к совету жены. Она тебе худого не пожелает. На мое бы мнение — дак так: работа твоя, конечно, может, и привлекательная… только ведь это же полная дисквалификация.
— То есть как это? — надувается Саня.
Иван Игнатьевич мысленно ругает себя за этот бесполезный для Катерининого мужа разговор, но не высказаться уже не может.
— Ты же, Саня, весь день только и делаешь, что сидишь в кабинке или в приемной у секретарши и книжки про шпионов читаешь. Баранку, может, и не разучишься крутить, я не спорю, но чутье к машине потеряешь. Сам ведь хвалился: едва лишь забарахлит мотор, может, пустяковая поломка — а уже директор звонит слесарям: «Срочно исправить!»
Саня, сам не зная почему, сконфуженно молчит. Даже Катерина за него начинает волноваться.
— Ты-то, Иван Игнатьевич, — с тяжелой медлительностью находится, наконец, Саня, — тоже есть не кто иной, как этот самый дисквалифицированный элемент. Дачу заимел — раз, чуни для собственного пользования на заводе клеишь — два… И вообще не сегодня-завтра уйдешь на пенсию, по собесам уже околачиваешься. Какой же ты кадр? Элемент и есть. Ты кадровым-то был лет пять назад, когда в плавилке работал. А теперь — все. Подсобник. Кто куда пошлет… Это три. — И на Санином лице надолго застывает какая-то негибкая улыбка.
— Вот это сказанул! — Иван Игнатьевич лезет в карман за леденцами, пытливо косясь на Аню: какое на нее произвели впечатление эти ехидные слова Сашки. — Я ведь, — со свистом насасывает он леденец, — до дачки-то два десятка лет в горячих цехах отмантулил, все на одном и том же месте. Меня средь ночи разбуди и спроси, что и как, про любую фазу процесса спроси — и я тебе скажу без запинки! Даром что техника с каждым днем все новая и новая внедряется. Или вот у папы, — вдруг надумывает он обратиться к авторитету тестя, на него перевести разговор, — полюбопытствуй, к примеру, какие марки станков применяются сейчас на бурении.
— Пожалуйста: УРБ-400, УКС-22, АВБ-100… — подхватился перечислять хозяин дома, будто как раз такого поворота в разговоре и ждавший. — Это я имею в виду самоходные установки, по четвертичным и коренным отложениям… — И он тоже, как и другие мужчины, косит взглядом при этом на свою старуху-именинницу. — А если речь идет о глубинных скважинах, до тысячи и более метров, то здесь применяются, — готовится он загибать пальцы, — такие станки, как…
— Ой, хватит-хватит! — дурашливо затыкает уши Катерина. — Открыли, понимаешь, целую лекцию. Мы что тут, — с игривой дерзостью наседает она на отца, — про ваши механизмы разговаривать собрались?
— А че, а че такого-то, уж и рот сразу затыкаете! — наступает на дочку отец.
По нему сейчас всякий разговор и всякое дело подходили — абы только всем радостно было, что вот опять собрались все вместе, и дай-то бог, как говорится, не в последний раз. Жалко вот, старших внуков, Аниных и Ваниных детей, нету с ними. И не придут сегодня Мария да Венька… Ой, далеко они! Наташка-то с Бориской явятся с минуты на минуту, к самому столу и будут, а тех двоих уж не дождаться, видно. Может, разве что в отпуск когда и приедут, да не было бы поздно.
Заметно ссутулившийся, он присаживается на уголке табуретки и спрашивает Ивана Игнатьевича:
— Как дети-то, старшие-то, Ваня?
— Мария с Вениамином? Да как тебе сказать… — Иван Игнатьевич растерянно взглядывает на Аню, но та сосредоточенно молчит, не поймешь — рассказала она им тут о письме Марии или еще нет. — Живут вроде неплохо. Наташка вот ехать к ним собирается, а Бориску хотели к весне отправить.
— К ним, говоришь… к обоим сразу, что ли? — недоумевает тесть. — Венька же в Казахстане, а Мария — у теплого моря.
— Да она сама толком не решит. То заладит — к Марии. Охота море поглядеть. То опять — к Веньке.
— Лучше-то и не могли придумать, — говорит именинница, — Венька сам горит в своем газу, так еще и девчонку туда же.
— Да нет же, — возражает Аня. — Мария писала как-то, что камвольный комбинат есть там у них. Так вот туда. Ученицей.
— Это ткачихой, что ли?
— А что — как раз женская профессия.
— Женская-то женская, — с чем-то не соглашается тесть, — да вот у Марии, когда она здесь еще робила, вместе с вами жила когда, тоже была женская специальность…
— Дозировщица в химцехе, — подтверждает Иван Игнатьевич.
— Мне так глянулась ее работа, — ведет свое тесть, — халатик белый, как у врачихи. А потом что вышло? Собралась да уехала. И кем она теперь там, на своем курорте?
— Марии нездоровилось тут, — заступается Аня. — Желтая вся была, а теперь, пишет, румянец появился.
Катя удивляется: ишь ты, у Марии румянец! — а Сане этот разговор чем-то не нравится. Он все еще не может уняться после открытого выпада Ивана Игнатьевича и только ждет повода, чтобы отыграться.
— Хм, румянец… — ухмыляется он. — Давайте посылайте тогда на юг за румянцем и Борьку с Наташкой. А то у них щеки не шибко красные. Того и гляди кровью брызнут.
— Да мы же их не за румянцем отправляем! — вскидывается Иван Игнатьевич. — Этого в нашем роду не водится, чтобы по курортам разъезжать. Я сам за всю свою жизнь один раз только и был в санатории. Да и то не до конца срока…
— Знаем-знаем! — смеется Катя, исподволь поддерживая мужа. — На табаке погорел.
— Вот он и перешел теперь на леденцы. Снова, видно, на курорт собирается. К Марии небось.
— А может, и поеду!
— С печки на горшок… — это уже Аня встревает.
— Интересно… По-твоему, я опять весь отпуск должен этой чертовой даче отдать? Да пропади она… — заранее сопротивляется Иван Игнатьевич. — Я же сто лет нигде не был! К братке Устину в деревню выбраться не могу. А с браткой Наумшей вообще уж столько не виделся — даже не припомню сколько. Это хорошо еще, что он теперь в Крыму осел, заодно с Марией и попроведал бы я его. Он же мотался по белу свету-то… — Иван Игнатьевич, жалостливо сморщившись, качает головой. — Охота посмотреть, какой он стал теперь. Он младший средь нас троих, самый шебутной был… А отпуск я могу и весной взять, — оживляется Иван Игнатьевич, заметив, что Аня тоже пригорюнилась, сочувствуя ему. — Хотя у меня по графику осенью, но Манукян не откажет.
— А кто это, Манукян-то? — с озабоченным видом спрашивает тесть, с умыслом, чтобы поддержать зятя, переводя разговор в деловое русло, словно речь уже идет о том, с какого именно числа просить отпуск для поездки к родне.
— Манукян у нас начальник электролитного. Мой хозяин.
— А! — вроде как обрадованно произносит тесть. — Тогда конечно. С какой стати он откажет? Разве ты плохо работаешь, мало клеишь им чуней?
— Вот и съездим на юг весной вместе с ребятишками, с Наткой и Бориской. Тебя, мать, тоже должны отпустить из конторы. Подкопим деньжат на дорогу…
Готовая уже согласно кивнуть, Аня вдруг осудительно замечает:
— С ребятишками он махнет… Ну и сказанул! Лучшего ничего не мог придумать? Бориске же в армию весной, голова твоя садовая! А Натка на днях заявляет мне, — как бы тоже, в свою очередь, жалуясь, говорит она матери, — дескать, поеду на БАМ!
— Ку-уда-а?! — даже приподнимается с места Иван Игнатьевич, но Аня и не думает повторять, и тогда он, не сразу осознав смысл этой новости, с обиженным недоумением смотрит на тестя. — А мне она ничего такого не говорила, Натка-то… Я ж недавно с нею беседовал…
— Ты вообще про своих детей ничего не знаешь, что они и как, — дождавшись своей минуты, упрекает его Аня. — Про свои шлаки только и помнишь.
— Про какие шлаки? — спрашивает Саня.
— Да про те, что в терриконе. Он жить без них не может. Разгребать их собирается.
— Руками, что ли? — колыхается Саня в смешочке, будто ему и впрямь смешно.
— А то чем…
— Для чего? — с недоумением спрашивает теща, переводя взгляд с дочери на зятя.
— А чтобы дело на старости лет было.
Тут уж не выдерживает и Катя. Вместе с мужем они смеются во весь голос, а Иван Игнатьевич с упреком смотрит на жену.
— Ты, Аня, как скажешь… Что я, разве только про одни шлаки и думаю?
— А то еще про что? Статью-то вот небось не забыл с собой прихватить?
— Чего ее прихватывать? Она у меня в кармане тужурки.
— Во-во! — качает головой Аня. — Статья про эти чертовы шлаки у него в кармане лежит, а письмо от дочери на этажерке забыл.
— От Марии, что ли, письмо? — отводит от зятя новый удар тесть. — Ну, чего она пишет? Как там жизнь, на курорте-то?
И теща, тоже не спуская глаз с Ани, нетерпеливо вытирает руки о фартук, готовая тут же заполучить письмо от старшей внучки и, бросив все дела, прочитать его немедля. И Аня сдается. Слезливо морщась, она достает из рукава блузки сложенное в несколько раз письмо. Теща разворачивает его и идет к кухонной полке, где лежат старенькие очки, а тесть, как бы подводя итог этому негаданному разговору, который ни с какой стороны не касался именинницы — ведь если так дальше пойдет, то и обидеть ее недолго! — выговаривает младшему зятю по возможности мягче:
— Вообще-то, не в этом дело, Саня, кто куда поехал. За румянцем там или как. Главное в том, чтобы дети знали свою правильную дорогу. И тогда в нашем сердце, в нашей памяти они завсегда найдут место. А что касается Ваниных шлаков… Тут ничего смешного тоже нету. Ты, Ваня, — взмахнув рукой, неожиданно возбуждается тесть, — воюй за них, коли такую потребность в себе чувствуешь! Не сдавайся! Я вот, к примеру, когда у нас на бурении…
— Да вы че это седни размитинговались? — не выдержав, отрывается именинница от письма. — Мы же про ребятишек, про ихнюю судьбу, а не про шлаки да бурение!
— Во всех газетах, — тотчас пасует Саня, — на какой странице ни разверни, только БАМ и фотографируют, снимки тринадцать на восемнадцать и даже крупнее. — Он смотрит на Ивана Игнатьевича, как бы говоря, что судьба племянников и племянниц ему вовсе не безразлична.
— Ага, во вчерашней или позавчерашней «Правде», — подхватывает тесть, показывая теперь Саве, что к нему отношение у него не изменилось: мало ли о чем могли они переброситься словом-другим! — Вот в какой-то из этих двух газет как раз есть снимок одной комсомолки: молодая такая стоит возле теодолита.
Он начал рыться в газетах, сваленных как попало на подоконнике, а именинница, снимая последнее напряжение, подоспела тут как тут.
— Во-во! Да вы только гляньте на этого старого кобелину, — шутя возмутилась она, — как он суетится из-за фотографий молоденьких девчат! Ах ты, гусь мокрохвостый! — Она и впрямь замахнулась на него мучной скалкой, но тот ловко увернулся и, похохатывая, усеменил в переднюю комнату, начал расставлять стулья вокруг накрытого стола.
«Ох, дети-дети», — все еще сидя в кухне, думал свое Иван Игнатьевич и, чтобы больше не ввязываться пока ни в какие разговоры, шелестел газетой, будто всецело был поглощен чтением, а сам разглядывал снимок девушки, стоявшей у треноги, представляя на ее месте Наташку. Кто знает, может, и уедет она на БАМ. Гадай не гадай, а девчонке выходить на свою дорогу надо. А там и Бориска на очереди. Тут ли они устроятся или, как Мария с Венькой, завихрятся в другие места — все равно им пускать свои корни, свое дерево, свои ветви. А они останутся вдвоем с Аней как бы неполные — словно корень с комлем от всего-то дерева. По вечерам он по-прежнему будет помогать ей на работе, в этом техснабе, а она все так же будет воевать с мужчинами, которые после трудового дня не идут сразу к своим семьям, а остаются в конторе и режутся в шахматы, а то и, потаенно позвякивая стеклянной тарой, выпивают на морозную дорожку…
Какая-то непрошеная жалость к жене захлестнула Ивана Игнатьевича, ей-то ведь без детей оставаться еще горше. И как бы в утешение пало ему на душу зряшное до смешного желание: чтобы повторилось сегодняшнее утро, когда он возился с этой своей тюрей и весело подзуживал Аню, пробуя угостить ее хлебной мешаниной, а надо было старому дураку, вполне уважая состояние жены, серьезно повиниться перед ней — не только за то, в чем сам виноват, но и за все те большие и малые огорчения, которые выпадают ей каждый день.
Вздохнув, он поднялся, отложил газету со снимком и пошел в переднюю — садиться за стол.
4. ПЕРВАЯ КАПЕЛЬ
Высокий гость пожаловал в плавилку нежданно-негаданно. Во всяком случае, так решил Иван Игнатьевич. Где это видано, сказал он себе, чтобы первый секретарь обкома ходил по цеху в сопровождении одного лишь директора и начальника цеха?
За четверть века работы на комбинате Комракову не раз и не два доводилось наблюдать со стороны за такими свитами, из которых целую бригаду можно составить. Комплексную. Универсальную. По любому разряду. Хотя, правда, что касается разряда… Они хоть и были когда-то мастера на все руки — те, кто роем облеплял начальство, которое наведывалось на завод из высоких кабинетов, — да ведь это когда было-то! Умение что-то делать конкретно, может, еще и не потеряли, только оно теперь было уже не то, чего там говорить. Но факт остается фактом: тьма-тьмущая разных заводских деятелей ходила, шушукаясь, по пятам за министром там или еще за кем. Из цеха в цех, от ворот до ворот.
Никак не мог понять этого Иван Игнатьевич: зачем столько народу отвлекается? Ведь каждый бросает свою работу на произвол судьбы. Ну, двоих бы и занарядить на сопровождение: директора комбината и начальника цеха. Из плавилки, скажем, направляется гость в электролитный цех — все, товарищ Малюгин, оставайся у своих дверей. Пожали тебе руку — и, будь добр, ступай работай, нечего тянуться вслед за всеми, на пороге электролитного уже другой начальник цеха поджидает, он теперь и будет главный ответчик. Ну, коли так положено, пусть бы еще и парторг сопровождал. Но зачем другие-то, кому вроде как делать нечего, шляются вслед за гостем из цеха в цех? Ведь и толку от них в этот момент никакого. Только топот да шорох за спиной.
А тут — осечка. Не похожа была картина на виденное прежде. Словно услыхал секретарь обкома давние мысли Комракова и не взял с собой никого, кроме нужных людей. Идут себе по цеху. Втроем. Остановятся, поглядят туда-сюда, поговорят — и дальше двинутся. Будто так и надо! Глазам своим не верил Иван Игнатьевич.
Заглянул он в плавилку в обеденный перерыв, словно чуял, что именно сегодня надо наведаться. И только вошел в пролет, прислушиваясь к гудению шахтных печей, как сразу же наткнулся глазами на громадную фигуру Большенарымова. Его-то первого он и заметил. Массивный человек, прямо как живая глыба. И ростом бог не обидел, и в плечах косая сажень. И при всем том подвижный, просто на загляденье! Рядом с ним директор комбината Вахромеев казался щуплым и хилым, хотя дядя был еще тот. А уж про Малюгина и говорить нечего!
Краем глаза уловил Иван Игнатьевич, что плавильщики, все как один, тоже следили за этой троицей. Но от своих рабочих мест, понятное дело, не отходили. Из таких свита не получится. И тут впервые пожалел Иван Игнатьевич, что высокое начальство сегодня как на лобном месте, без шумного суетливого прикрытия. Самый-то момент подойти бы, смешаться с толпой и послушать, о чем они там втроем толкуют, но так просто теперь не примагнитишься к ним, сразу заметят и спросят небось в упор: тебе чего, Комраков?
Иван Игнатьевич не знал и не мог, конечно, знать, что полчаса назад, когда Вахромеев был в обкоме, первый секретарь без всякого предисловия сказал директору:
— Поехали к тебе.
— На комбинат? — не понял тот.
— В плавилку, — буднично уточнил Большенарымов, словно не замечая удивления и даже легкого смятения Вахромеева: ни сегодня, ни завтра, ни в другие ближайшие дни секретарь обкома, насколько это было известно директору, не собирался навещать комбинат. Такие поездки так просто не делаются. Во всяком случае, руководство предприятия обычно ставится в известность заранее.
На машине секретаря обкома они подъехали к самой плавилке. Шофер Вахромеева, которому все это было тоже внове, держался порожняком сзади. Вахромеев даже не успел сказать ему, куда и когда подать машину.
Только в плавилке директор понял, что Большенарымова интересует новая шлаковозгоночная печь. Секретарь обкома бывал раньше в этом цехе несколько раз, хорошо представлял себе, где и что тут, поэтому сразу пошел в дальний конец, за конверторы. Он долго глядел на установку, словно пытаясь прощупать взглядом насквозь все это хитроумное сплетение труб, в которых, как в живых артериях, пульсировала своя жизнь, скрытная, сложная. Весь уйдя в слух, Большенарымов склонил голову набок, и казалось, что тихое равномерное посапывание шлаковозгонки говорило ему о чем-то таком, что огорчало его, вызывая на большом мясистом лице легкую гримасу разочарования. И хотя директор комбината знал, что первый секретарь обкома был по образованию металлург, все же снисходительно улыбнулся украдкой: чего, мол, разыгрывать тут комедию, ведь есть же технические показатели, и намного лучше они стали по сравнению с теми, какие имела прежняя установка.
— Надо строить новый цех, — со вздохом неожиданно промолвил Большенарымов.
— Какой новый, Матвей Егорыч? — машинально спросил директор, все еще улыбаясь.
— Специальный. По переработке шлаков.
Вахромеев нахмурился. Разом отлетело хорошее настроение, словно дал о себе знать приступ застарелой боли. В печенке они сидели у него, эти отходящие шлаки. Посмеиваясь исподтишка над Большенарымовым, он хитрил, обманывая сам себя, делая вид, что по части плавилки ему волноваться нечего, теперь тут все в порядке, реконструкцию закончили, включили в оборот новые резервы производства. Ан нет, погас моментально, стоило Большенарымову копнуть болячку. Ох как ныла душа — ведь тысячи тонн ценнейших металлов лежали в терриконе мертвым грузом! Кому, как не ему, директору крупнейшего в стране комбината, задающего тон во всех начинаниях металлургов, думать об этом? Но думай не думай, а одним махом тут ничего не решишь. Слишком сложное это было дело.
— Цех — не фьюминг-установка, — сказал Вахромеев.
— Само собой… — усмехнулся Большенарымов. И вроде как согласно покивал головой: — Цех — это не шлаковозгоночная печь. Я бы и не стал терять сейчас время, Сергей Михалыч, и твое, и мое, если бы нас с тобой устроила еще одна такая вот шлаковозгонка. Малюгин бы сам с этим справился…
Секретарь покосился на державшегося чуть в сторонке начальника плавильного цеха, который заметно растерялся, когда увидел нежданных гостей, и все еще толком не пришел в себя, хотя до этой последней фразы Большенарымова никто ему не сказал ни слова, ни полслова, только молча пожали руку.
— Много ли пользы от нее, от этой дуры! — повышая голос, язвительно продолжал секретарь обкома, с явным недоброжелательством снова уставившись на шлаковозгонку, словно она была живым человеком, в чем-то крепко провинившимся. — Место только занимает. Да мозги вам пудрит… Рапортовали небось в министерство: все в порядке, реконструкция плавилки закончена.
— Так ведь иного выхода пока нет, Матвей Егорыч!
— Есть. Есть, Сергей Михалыч! Цех надо строить, иначе мы будем ковыряться со шлаком до морковкиного заговенья.
— Цех… Легко сказать. Сколько лет мы просим об этом свое министерство?
— А надо не просить, а делать, — с нажимом произнес Большенарымов.
Директора удивил тон секретаря обкома. Словно тот знал что-то такое, чего не знал он, Вахромеев.
— Делать?
— Да, делать. Министерство приняло соответствующее решение…
Так вот оно что! Видимо, секретарь обкома узнал об этом сегодня незадолго до их встречи. Может быть, разговаривал с министерством. И решил подразнить его, директора комбината, помариновать немного. Это он умел и любил.
Они вышли из плавилки. Большенарымову не терпелось тут же решить вопрос о месте будущего цеха, а заодно проверить, как идет строительство западной ветки от ТЭЦ, которая должна будет дать тепло и новому цеху.
Вот тут-то Иван Игнатьевич и пристроился к ним — быстренько подался к дверям и встал в широком проеме так, будто он сам по себе здесь очутился, выглянул на мороз подышать свежим воздухом, на погоду поглядеть и вообще провести оставшиеся полчаса обеденного перерыва по своему усмотрению.
Они разом посмотрели на него. Просто так обернулись, без всякой мысли, и он тоже просто так, из вежливости, взял и поздоровался. Этим-то двоим, высокому начальству, только кивнул — не будет же протягивать им свою лапу! — а с Малюгиным, стоявшим к нему ближе всех, поздоровался за руку. Во-первых, по старой привычке, во-вторых, какое-то чутье подсказало, что надо, надо протянуть ему руку. Черт его знает, почему так подумалось! Умом-то еще и не успел сообразить, что таким-то образом он как нельзя лучше втянется в разговор, а чутье вот и пособило.
Вышло, как по-писаному.
Сначала Петро, заметно поколебавшись, торопливо сунул ему руку и тут же выдернул, как бы говоря: отвязни, отвязни, Иван, только тебя здесь не хватало! И уже отвернулся от него, но дело было сделано: высокому начальству тоже ничего не оставалось, как подать работяге руку. Верно, оно бы и раньше не погнушалось, но в эту минуту вроде как сам бог велел: начальник цеха приветил, уважил, а директор завода что же — и знаться с рабочим классом не хочет? Крепко и с потряхиванием, даже поклонившись слегка, даванул Вахромеев немаленькую пятерню Ивана Игнатьевича. А следом за директором, словно так оно и предполагалось и ждали тут Комракова, не могли дождаться, шагнул к нему и секретарь обкома и тоже потряс ему руку по-мужски, уважительно. От всего сердца и Иван Игнатьевич пожал пухлую, но сильную ладонь Большенарымова и неожиданно для себя встрял в разговор:
— Стоит, зараза, — брякнул Иван Игнатьевич, подчиняясь тому же чувству что-то делать дальше — говорить, не молчать.
— Кто? — удивился секретарь обкома.
Иван Игнатьевич встретился с испепеляющим взглядом Петра, осаживающим его, загоняющим обратно в плавилку, и хотя невольно подался было назад, смущаясь еще и оттого, что не нашел второпях другого слова, не ругательного, но что-то в нем было сильнее немого приказа Малюгина, и он, отвернувшись от начальника плавильного цеха — не его же был начальник-то! — с готовной живостью подхватил вопрос Большенарымова.
— Да кто-кто! Террикон, говорю, стоит и не чешется, испереязви его…
Ну, не пентюх ли?! Вместо одного непотребного слова сразу два выкатил. По штуке на каждое ухо. Лови и удивляйся, секретарь, какие тут говоруны на комбинате.
Большенарымов засмеялся, теперь уже с любопытством приглядываясь к Ивану Игнатьевичу. Вслед за ним расплылся в улыбке и Вахромеев. А уж Малюгину, понятное дело, тоже ничего не оставалось, как сделать вид, что и ему стало весело.
— Не чешется, значит? — переспросил секретарь обкома.
— Ну! Вон какая махина вымахала! А чего ему чесаться, — не сбавляя такого неожиданного в себе напора, сказал Иван Игнатьевич, — если сами-то мы, ну которые и наворотили эту дурью гору, даже и не думаем беспокоиться? Хоть бы хны нам.
— То есть как это? — вставил директор, покосившись на секретаря обкома.
— А так, Сергей Михалыч! Если бы мы хоть маленько шевелили своей мозгой, — опять вроде как назло самому себе сказал он с какой-то грубоватостью, но теперь даже и не поморщился, — то не дошли бы до этого безобразия!
Малюгин хватко дернул его за рукав, но секретарь обкома с оживлением подступил ближе, и Петро сразу отцепился.
— Почему вы думаете, что до безобразия?
— А чего тут хорошего? Стыд и позор! Про научно-техническую революцию говорим, — Иван Игнатьевич шлепком ладони загнул на левой руке большой палец, — об охране недр закон приняли… про скрытые резервы производства чуть не каждый день в газетах пишем… — Он вытянул вперед ладонь с тремя согнутыми пальцами. — Куда дальше-то! А он стоит себе, этот черный террикон…
— И не чешется, — заключил секретарь обкома, но вовсе без пустой веселости, а с тем ехидством в голосе, которое, по мнению Ивана Игнатьевича, только и годилось в таком разговоре.
Вахромеев с Малюгиным сразу приуныли и переглянулись.
— Иван Игнатьевич… — выразительно глядя на часы, со старательным миролюбием в голосе начал было Малюгин, все-таки пытаясь, видно, отшить такого негаданного собеседника, но секретарь обкома опять помешал.
— А вы кем тут работаете? — спросил он Ивана Игнатьевича.
— Я-то?
— Плавильщик это, — вдруг ответил за него Малюгин, да так ответил, что поправить, возразить было ну никак нельзя. Ведь если строго рассудить, то, конечно же, Комраков был и есть не кто иной, как металлург, — это же не в счет, что его по состоянию здоровья временно перевели на легкий физический труд. Ай да Петро! Вот что значит старый друг!
— Двадцать лет у шахтных печей, — не умея унять в себе радость, смущенно потупился, покашлял в кулак Иван Игнатьевич. — И рабочим, и подручным, и плавильщиком, и старшим плавильщиком…
— Ну вот, Сергей Михалыч, — сказал секретарь обкома, — слушай, что сами металлурги говорят. Спасибо! — непонятно за что поблагодарил он Ивана Игнатьевича, подал ему руку и, сразу же озаботившись и как бы напрочь забыв про него, отвернулся и стал смотреть в глубину заводского двора.
Вахромеев, все еще хмурясь, тоже уставился на заводской пустырь, они заговорили о теплотрассе, которую монтажники тянули как раз в этом районе, а Ивану Игнатьевичу никак не хотелось верить, что разговор с ним окончен и взгляд и кивок Малюгина так и надо понимать, как и хотелось начальнику плавилки: мол, а теперь испарись, Комраков, закрой дверь цеха с той стороны.
«И это все, о чем удалось мне разузнать?!» — будто окаменев на месте, возмутился собой Иван Игнатьевич.
— Я, конечно, извиняюсь… — он прислушался как бы со стороны, достаточно ли в его голосе твердости и уверенности.
Секретарь обкома и директор комбината одновременно обернулись к нему. Иван Игнатьевич заметил, как страдальчески исказилось лицо Малюгина.
— Вопрос у меня к вам, товарищ секретарь. Важный. Уже не столько как металлург его задаю… потому что на другой работе я сейчас, вынужденно… а как член партии, — неожиданно для себя складно вывел Иван Игнатьевич, будто кто подсказал ему, как удержать сейчас внимание секретаря обкома.
— Слушаю вас, товарищ.
— Насчет резервов, значит. Ваша статья так называлась. Вы все правильно обсказали, исключительно даже правильно, но ведь вот какой парадокс получается… — Иван Игнатьевич посмотрел на Малюгина. — Форменный парадокс! Чем больше резервов включит в дело хозяйственник, чем больше он достигнет годового роста продукции, тем больше ему накинут план в следующем году. Ведь накинут? — спросил он Вахромеева, и тот машинально кивнул. — Во! Как пить дать накинут! Извольте радоваться. А как его выполнить, если резервы-то все исчерпаны? Он же, начальник-то цеха или директор, как для самого себя старался, все пустил в оборот, для пользы дела, ничегошеньки про запас не оставил, никаких скрытых резервов, и как ему дать после этого повышенный план?
Секретарь обкома смотрел на Комракова, плохо справляясь со своим смятением. Не потому ему стало не по себе, что человек высказал принародно какую-то запретную мысль и требует на нее немедленного ответа, — нет, ничего особенного в его вопросе не было, обо всем этом и знают, и говорят, где хотят, — смутился Большенарымов потому, что мысль эту не высказал сам в своей статье, воздержался почему-то, хотя все время думал как раз об этом. И вот дождался — простой рабочий вроде как ткнул его носом…
— Я вам отвечу, — сказал секретарь обкома так, как если бы отвечать ему надо было не здесь, на заводском дворе, и не этому человеку в потешных очках, старой тужурке, мятой облезлой шапке и валенках в самодельных чунях, а где-нибудь на партконференции или партийном активе, обращаясь с трибуны к залу. — Я скажу!.. Надо нам и дальше совершенствовать экономическую реформу, систему стимулирования, добиваться, чтобы для каждого коллектива были стабильные плановые задания роста производства на несколько лет вперед.
Иван Игнатьевич помедлил, как бы осознавая сказанное и сопоставляя его со своим мнением, и согласно кивнул.
— Правильно. И я тоже так думаю. Вот теперь я обскажу все своей старухе…
— Кому-у?! — протянул директор комбината.
— Да нет… Это я так. К слову пришлось. Разговор у меня с женой был…
Но тут повалили из цеха наружу парторг Парычев, главный инженер, главный технолог, и еще, и еще… обступили со всех сторон, учтиво здороваясь с секретарем обкома и норовя поближе к нему встать.
«Сбежались все же, — усмехнулся Иван Игнатьевич. — Ну, теперь мне тут делать нечего», — и пошел к себе в бытовку, потому что самое время было начинать работу.
В тот же вечер Петро приперся играть в дурака. Это только предлог был, уж кто-кто, а Иван Игнатьевич, едва лишь увидев его на пороге, сразу понял, что Малюгину сегодня было не до игры.
— Сгоняем в картишки? — якобы бодренько так, непринужденно предложил он, хотя глаза у самого были какие-то замороженные.
— Двое на двое или как?
Малюгин остановился на пороге залы, поводя головой в сторону и прислушиваясь к звукам, доносившимся из кухни.
— Дома, дома твоя партнерша, — хмыкнул Иван Игнатьевич. — Ужин готовит.
— Моей тоже некогда. Стирку затеяла.
— Ну и ладно. Вдвоем сгоняем. Спору будет меньше.
Петро взял с буфета колоду карт и покосился на хозяина, как бы говоря: «Ты так думаешь?»
«А разве нет?» — провокационно уставился на него Иван Игнатьевич.
«Эх, если бы все-то наши споры затевали женщины… — вздохнул Малюгин. — Жить можно было бы. Утром полаются, вечером помирятся. Что дети, что бабы. А вот мы с тобой…»
Может, он как-то иначе подумал, тасуя затертые толстые карты, но у Ивана Игнатьевича был в эту минуту именно такой ход мысли, и поэтому он, снимая «шляпу», сказал без всякого предисловия:
— А чего нам с тобой спорить-то?
— Ну как чего? — не удивился Петро такому моментальному повороту в их разговоре. — Последнее время ты лишь то и делаешь, что задираешь меня своими глупостями.
— Хо, извольте радоваться… Это какими, интересно, глупостями?
— А все теми же… Козыри черви. У меня восьмерка.
— Интересно-интересно… Ходи, у меня козырей нету. Исключительно интересно!
Малюгин хмыкнул, плюнул на палец и,
поймав за угол крайнюю карту, шлепнул ее на столешницу.
— Валет крести. Пенсионный возраст у тебя, Иван. Вот и весь интерес.
— А у тебя какой? Не пенсионный? — Задело за живое Ивана Игнатьевича. К тому же карты у него были плохие. — Мы ж с тобой одногодки, Петро, чего ты молодишься-то? Король крести… — он отдал единственную крупную карту — «картинку», остались на руках, как он говорил, одни «шохи».
— Одногодки бывают разные, — возразил Малюгин и кинул червонного валета.
— Козырей даешь?! — Иван Игнатьевич быстро сгреб карты, чтобы Петро не успел передумать и забрать валета назад, как он делал обычно. — Это я приму, пожалуйста. Давай ходи.
Малюгин озадачился: дал маху, выкинул такого козыря за просто так, в самом начале игры.
— Тоже мне одногодки… — буркнул он. — Тебя уже пять лет как списали из плавилки, а мне еще там работать да работать.
— Но тебе ведь тоже шестьдесят! — не сдавался Иван Игнатьевич. — Годы-то те же!
— Те же, но не такие же.
— Хм, не такие же! Приходится удивляться тебе. Хотя и Головастик, а ерунду порешь.
Между тем Малюгин вынужден был пойти с крупной карты, дело дошло до тузов, остальные были козыри, и довольный Иван Игнатьевич, уже как бы и не обижаясь на соседа за такие слова насчет одногодков, охотно принимал. Игра вот-вот должна была переломиться. Петро взял с кона еще одного козыря. Иван Игнатьевич тотчас догадался об этом по тому, как поморщился противник, — приходилось начинать с козыря.
— Сдавайся, Петро.
— Чего это ради?!
— Ну, как хочешь. Тогда погоны из шестерок прилажу тебе.
— Попробуй. Это еще как получится.
— А вот и получится! — засмеялся Иван Игнатьевич. — Сейчас козырей профукаешь и с кона шоху потянешь. А у меня на руках почти что одни картинки! Удивляться не приходится…
Малюгин и сам понимал это не хуже соседа и швырнул карты на стол.
— С тобой всегда так, — надулся он. — Играешь как-то ненормально. Уж и отбиться есть чем, а все принимаешь да принимаешь.
Похохатывая, Иван Игнатьевич собрал карты и подсунул колоду Малюгину: мол, давай раздавай.
— Жадность тебя обуяла, — добавил Петро. — Ты и во всем такой.
— Так уж и во всем?
— Во всем! Чего ни коснись.
Иван Игнатьевич перестал улыбаться.
— Исключительно интересно…
— Даже если работу взять, — не унимался Малюгин. — Казалось бы, тебе надо идти на пенсию. Лучший выход. Ничего иного не придумаешь. И еще пять лет назад так и надо было сделать. По горячему цеху у тебя сколько выходило? Я помню, больше двадцати лет. И возраста хватало. Чего еще нужно? Да ты бы сейчас пенсии получал больше, чем в подсобке зарабатываешь. И здоровье бы сохранил.
— Да? — съязвил Иван Игнатьевич. — Ты так считаешь? Ты бы сначала с Агейкиным поговорил. Как он свое здоровье на пенсии сохранял… — Иван Игнатьевич снова разволновался. — Я тебе, Петро, скажу так! Если я и сдал за эти годы, то только потому, что меня с работы на работу гоняли. Сегодня одно, завтра другое. Тут поневоле состаришься и все одногодки тебя в старики запишут. Удивляться не приходится.
— Я и говорю: не жадничай!
— Да разве это жадность?!
— А что еще? Тебе в плавилку обратно охота. На большой оклад. Вот ты и ходишь вокруг да около… про шлаки толкуешь.
Губы Ивана Игнатьевича заплясали.
— Да разве поэтому я?!
— Поэтому-поэтому… Тоже мне борец за научно-технический прогресс.
— За разум я борец! — выкрикнул Иван Игнатьевич, и ему самому стало неловко за казенные эти свои слова. Ведь довел до греха Головастик!
Малюгин засмеялся. Смех был натянутый, злой. Давно его подмывало высказать Комракову все, что он о нем думает. Но тут же и осекся, заметив в дверях Аню.
— Чего вы тут расшумелись? — с деланной веселостью спросила она, будто не допускала и мысли, что мужики за игрой в карты могут рассориться дальше некуда. — Кто из вас опять хлюздит-то, Иван, что ли?
Иван Игнатьевич сгреб со стола карты и в сердцах смял их, скомкал, швырнул на пол, избывая свое отчаяние на этих людей, которые не хотели его понять.
— Сдурел, что ли?! — ахнул Малюгин. — Последнюю колоду карт угробил… В магазине же их нету у нас. Шуток не понимает!
Он встал на колени и начал собирать карты.
— Тебя, Агейкин, увольнять отсюда надо, — не то всерьез, не то шутя сказал Иван Игнатьевич вместо приветствия.
Вахтер хмыкнул и поерзал на табуретке.
— Обррратно на пенсию, что ли? — попробовал он улыбнуться.
— Ты тут сидишь, как этот, как его… робот. Я вот подскажу ребятам из конструкторского, чтобы изобрели какое-нибудь чучело гороховое с электронной аппаратурой. Чтобы сунул ему под нос… вернее, под гляделки-мигалки — ну, они там придумают, куда совать! — свой пропуск или жетончик там какой — и проходите, пожалуйста, вот вам зеленый свет, извольте радоваться техническому прогрессу! Милое дело, без пересменок работать станет. И дорогу не будет загромождать этой табуреткой…
Все же, видно, он не шутил. Иначе бы сразу достал из кармана леденцы, на которые, хвастался, тоже решил перейти с нюхательного табака. Раза два уже тут хрупал.
Пришлось выколупывать карамельки из своей пачки.
— Перекурим, что ли, Игнатьевич? — кинув в рот слипшиеся разноцветные сердечки, подразнил его вахтер, смачно причмокивая.
— А то ходи мимо тебя, как мимо живого, хотя живого-то в тебе… Одно название, что человек, никакого в тебе любопытства к жизни, Агейкин! — закончил тот, будто вынес окончательный приговор.
— Ты чего… как с цепи сорррвался?
— Твоя вчера смена была днем? — вместо ответа спросил Иван Игнатьевич. И спросил не так просто, а строго, осуждающе.
— Ну, моя… — растерялся Агейкин.
— Во, извольте радоваться! Значит, ты видел, как приехал на комбинат секретарь обкома?
— Видел. Они с Вахромеевым на машине проехали. Через ворота.
— Да уж понятно, что не через проходную. А коли видел, почему не дал знать?
— Ко-ому?!
— Да мне. Кому же еще? Послал бы кого-нибудь в мою подсобку с записочкой. Так, мол, и так.
— Да ты что… В своем уме?! Зачем я тебе стал бы писать про это?
— А затем, дурья твоя башка, что я чуть не проворонил его вчера. Еще бы немного, на минуту позже пришел бы в плавилку — и все, кончен бал. И след бы простыл. И ведь как чуяло мое сердце, что надо заглянуть! Даже обед скомкал, — Иван Игнатьевич не выдержал, победно рассмеялся и потер ладони одна о другую.
Агейкин перевел дыхание.
— Ты с ним разговаривал, что ли? — недоверчиво усмехаясь, спросил он.
— А то нет? По-твоему, со стороны буду глазеть, как некоторые? Да раз он приехал к нам — значит, я могу и даже должен, — Иван Игнатьевич поднял указательный палец, — поговорить с ним, о чем хочу. Правильно я говорю? Исключительно! Чему тут удивляться? А то ведь в обком-то… к нему же так просто не придешь, там у него другие дела. Самые разные.
— Мало ли что, — возразил Агейкин. — На нашем комбинате, считай, несколько тысяч рабочих. Если каждый будет рррассуждать, как ты…
— Каждый не будет, — отмахнулся Иван Игнатьевич. Но что-то в нем уже изменилось. В глазах исчез острый, хищный блеск, пугавший Агейкина. В одно мгновение пропало у Ивана Игнатьевича желание поведать вахтеру, как собирался поначалу, о своем разговоре с первым секретарем обкома.
Только об одном не мог умолчать Иван Игнатьевич, Не хватило у него сил, чтобы так и похоронить в себе ту радость — пусть и короткую, призрачную, — которая возникла, когда его, Комракова, сам начальник плавильного цеха назвал вчера плавильщиком. Будто он был им всегда и оставался — не кем-то иным, кем сделала его судьба за последние пять лет, а именно плавильщиком. Ведь в душе-то Иван Игнатьевич ни разу не изменил этому своему ремеслу, которое считал для себя самым главным. Считал потому, что за два десятка лет прикипел к этой работе, как свинец к вангресу. Может, были где и какие получше профессии, это уж кому как, но для него вся жизнь сомкнулась на плавилке.
Однако не успел Иван Игнатьевич заикнуться, как Агейкин охолодил его ухмылкой:
— Эко диво! Плавильщиком он его назвал… Министррром, как же! Депутатом! Героем труда или там еще кем…
Иван Игнатьевич неожиданно для себя сорвался на крик.
— Да ты чего болтаешь?! Чего ты путаешь-то кислое с пресным? — с обидой в голосе произнес он. — Мини-и-стром… У тебя уши есть или нету? Исключительный ты дуб, Агейкин! И удивляться тут не приходится.
Он махнул рукой и ринулся в турникет.
— Иван, ты что?! — вскочил с табуретки Агейкин. — Что я тебе такое сказал? — Он как бы в шутку перекрыл проход красным железным патрубком, и Комраков оказался в западне.
— Пусти, а то поломаю!
— Ломать нельзя. Начальника вахты позову.
Агейкин расторопно открыл второй проход, чтобы не скапливалась пробка, и когда Иван Игнатьевич хотел поднырнуть под патрубок, вахтер коротко свистнул в милицейский свисток.
— Сдурел? — испугался Иван Игнатьевич.
— А ты не ломись. Посиди маленько на табуретке. Охолони чуток. Я ж тебе, Иван, ничего такого не сказал… — Агейкин виновато улыбнулся.
— «Не сказал»… С тобой как с человеком, а ты…
— А что я? Ну назвал тебя Малюгин плавильщиком. Ну и что с того? Плясать мне, что ли? Я бы, может, еще удивился, если бы тебя обратно плавильщиком взяли, а так…
Иван Игнатьевич вздохнул.
— Да нет уж, теперь не возьмут. Разве что если война случится.
— Какая война?
— Никакая. Глупый ты, Агейкин, и не лечишься. Это мой Бориска так говорит. Не обижайся. Сам посуди, разве возьмут меня в плавильный цех, если пять лет назад, когда я моложе был, отставили от печи как непригодного?
— А почему отставили-то? Я ж так и не знаю, — смутился Агейкин. — Ты же тогда в другой смене работал. Из-за зрения, что ли?
— Ну. Из-за него. — Иван Игнатьевич отвернулся, чтобы вахтер не разглядывал его левый глаз. — Бельмо у меня. Еще с детства. Мать мух выгоняла, махнула тряпкой, известка попала в оба глаза. А я был молочный, в люльке качался. Натер глаза кулачками. А надо бы промыть сразу. Мать-то не хватилась. Не догадалась. Ревет и ревет дите. Поревет да перестанет. А глаза-то и давай болеть. Рассказывали потом, что обложило их белым — как у вареной рыбы стали. Ну, бабка одна взялась лечить — мол, попробую хоть один глаз, правый который, вылечить.
— Везет тебе на бабок, — сказал Агейкин.
— Не говори. Да тогда и время-то было какое. Шестнадцатый год. Какие уж там врачи…
— Ну и бабка-то… — навел Агейкин на продолжение рассказа.
— Сахарином она бельмо строгала.
— Как это?
— А так. Он же мелкий, как пыль, сахарин-то. Сыпанет в глаз — и моргай. И ведь поди ж ты! — будто впервые подивился Иван Игнатьевич. — Сострогала бельмо. Спасла мне глаз. Я ту бабку частенько поминаю… Жалко, конечно, что не оба глаза строгала. Уж рисковала бы до конца. — Он помолчал и смущенно признался Агейкину: — Интересно все же мне, как это двумя глазами смотрят? Охота хоть разок поглядеть вокруг двумя глазами.
Агейкин никогда прежде не видел Комракова таким — стоял тот перед ним в переплете труб какой-то потерянный, постаревший сразу лет на десять. А ведь поначалу-то думалось об этом неуемном человеке, что все в его жизни складывается как нельзя удачно, вечно бегает шумный, задиристый, ни о чем таком не печалится. Вернее, если и выпадают какие передряги, то кто-кто, а уж Комраков находит из них выход, голову вешать — не в его привычке.
— Да какая ррразница-то? — утешил его Агейкин. — Что двумя, что одним глазом одинаково, понимаешь ли.
— Ну да там…
— Правда-правда! Я знаю. У меня ведь два глаза. Я же могу проверить. Вот! — Агейкин закрыл левый глаз, плотно прижал его пальцем и долго оглядывался, придирчиво осматривая и заеложенные стены проходной, и потолок с мутным плафоном, и цементный пол. Потом отнял от закрытого века палец, разодрал слипшиеся ресницы, проморгался и так же обстоятельно осмотрел все двумя глазами, наглядно доказывая Комракову, что эксперимент поставлен со всей научной тщательностью.
— Все то же самое. Одна и та же каррртина. Что одной гляделкой, что двумя.
Иван Игнатьевич, неопределенно улыбаясь, и слушал и не слушал Агейкина, вовсе и не глядя на него. Оказавшись в тупике, он был вынужден проверять пропуска, которые то и дело раскрывали перед ним те, кто торопился на смену.
— Картуз с околышем давай, — пошутил он.
Но Агейкину этого было мало. Ему захотелось привести еще один довод, по которому выходило, что жить с одним глазом было даже удобнее. То есть не то чтобы удобнее, но выгоднее.
— Тебя же, Комраков, и в арррмию не брали!
— Не брали, — повернулся к нему Иван Игнатьевич, — хотя я и просился столько раз. У меня ж левый с бельмом-то. Я в сорок первом пришел в военкомат и говорю: «Я все равно при стрельбе его прищурю, левый-то». А военком мне: «Нет и нет. В тылу сгодишься». Я расстроился, а новобранцы острят: мол, тебя же, Комраков, в пешем строю, на марше, вправо заносить будет…
Кто другой, может, и посмеялся бы, но Агейкин, когда речь заходила о войне, вспоминал свой первый бой, в котором осколком гранаты развалило ему всю левую щеку. Он машинально всякий раз ощупывал шов от уха до подбородка и горько удивлялся: «Это ведь надо так! Изуродовало в первом же бою…» Но минуту спустя он говорил себе: «Это еще дешево отделался. Других в первом же бою убивало наповал».
— А меня, Комраков, видишь, как царррапнуло…
— Это тебя на войне?
— А где ж еще?
— Я и не знал…
— А тебя из-за глаза не взяли.
— Не взяли. Но я же не виноват!
— Не виноват. А могли убить. В первом же бою. Вообще бы тебя не было теперь.
«Ну да, конечно, — обиделся Иван Игнатьевич, — некому было бы сейчас капать тебе на мозги».
— А меня этот случай с военкоматом, — сказал он, — по-другому как-то к жизни повернул. Я тогда-то, вскоре, и приехал сюда эвакуированный завод поднимать на новом месте. А до этого болтался где попало. Начиная с детской колонии.
— С колонии?
— Ну. Везде побывал. И в колонии, и в детдоме. В колонию попал, когда отца на гражданской убили, а мать умерла. Родня деревенская разобрала нас троих кого куда. Устин и Наум младше меня были, так и остались в деревне, а я вскоре убежал в город — не верил, что тятю убили, хотел разыскать… Хлебнул под завязку. Так что долго потом жил по запаху.
— Как это? — не понял Агейкин.
— А так. Откуда съедобным пахло — туда и тянуло. После колонии в детдоме был, а когда подрос, в колбасный цех попал, кишки набивал фаршем. Потом на Балхаше рыбу коптил. Вот где рыбы-то было! Ешь — не хочу. Там-то я и с Аней встретился. Она мне как-то и заявляет: «Меняй профессию, а то дружить с тобой не буду!» — Иван Игнатьевич, как бы до сих пор дивясь этой ее выходке, покачал головой. — Дескать, рыбой от меня все время пахнет. Ну, шутки шутками, а подался я на курсы счетоводов. И до самой войны работал в бухгалтерии хлебозавода. А однажды даже бухгалтера замещал. Во, брат, как!
Агейкин хохотнул. Такой биографии Комракова он и представить себе не мог. С колбасы человек начинал, а кончил свинцом.
— Чудеса в решете! Тебя все время по пищевой части тянуло, директором хлебозавода был бы или какой-нибудь кондитерской фабрики, а теперь ты никто. На каких-то паршивых терриконах помешался. Судьба-индейка!
— И не говори! — вздохнул Иван Игнатьевич, будто показывая, что он и сам не рад тому, что с ним творится. — Если б не война…
— А я тоже после войны сменил профессию, — сказал Агейкин, выждав момент, когда в проходной никого не было. — Я ж парикмахером работал до призыва. Стррригбрррил! — скованно засмеялся он и быстро-быстро задвигал в воздухе пальцами, словно в них были ножницы.
— Парикмахером?!
— А что? Еще каким парикмахером-то! Теперь, может, директором бытового комбината был бы. Я тогда, понимаешь ли, застеснялся. С таким шрамом, думаю, только клиентов отпугивать. Да и вообще не те уже деньги были, что до войны, меньше клиентов стало. Вот я и махнул на завод, тогда тут льготы большие были. Тоже судьба…
— Да помню я тебя, — сознался Иван Игнатьевич. — С тех пор и помню. Сразу как-то запомнил. Может, по шраму. Ты, правда, быстрее меня к плавильщикам прибился. А я еще год или больше грузчиком был. Руду разгружал.
— А после плавилки куда тебя кинули? Сразу на чуни?
— Да нет. Перевели сначала в первый электролитный, на корольковую печь поставили. Тоже вроде как металлург. И стаж там шел по вредному производству.
— Это корольки плавить?
— Да. Дросс. Отходы от электролиза цинка. И дендрит добавком, осколки катодного цинка. Все это вместе в корольковую печь засыпали. Небольшая такая печурка. Вроде деревенской. А у меня только-только конфликт наметился со сменщиком, как взрыв произошел.
— Какой взрыв? — оживился Агейкин.
— Да корольковая печь на воздух чуть не взлетела. Не доглядел я… — виновато признался Иван Игнатьевич. — Мокрый дендрит засыпал. А мокрый никак нельзя. Вот и рвануло. Я только это к дверце подошел с кочергой, чтобы на плавку глянуть, а оттуда ка-ак жахнет. Дверцу вырвало. И жидким цинком всю стену обляпало. Не дай бог, если бы я встал на пути… — Иван Игнатьевич махнул рукой: мол, поминай как звали. — Ну, начальство переполошилось, конечно. Быстренько перевели меня в анодное отделение. Свинцовые аноды лить из старых, дырявых.
— Конфликт-то какой намечался? Со сменщиком-то?
— А! Да он, видишь ли, испереязви его, сменщик-то, сырья вдвое больше нормы сыпал. Тоннаж гнал. А выход чистого цинка его не интересовал. Нам за тоннаж в основном-то платили, чтобы дроссовый склад быстрее очистить. Показатели такие по соцсоревнованию были, так что удивляться не приходится. Вот начальник цеха его и поддержал. Ну а в анодном отделении что? Тихо, мирно. Девять месяцев я работал как литейщик свинцовых анодов, а записали в трудовую — рабочий пятого разряда… — Иван Игнатьевич помедлил, пытаясь угадать по лицу Агейкина, понял ли он, в чем тут секрет, и, словно убедившись, что до него не дошло, пояснил: — Это ж на пенсии потом скажется! Мне в собесе объяснили. То — литейщик, а то — простой рабочий. Рабочий может быть только второго или третьего разряда, а пятого — это уже специалист. Беги, доказывай им теперь. Теперь всего не исправишь. За эти годы мою трудовую книжку так разрисовали, что я и сам не узнаю ее. Ни одна комиссия, как говорится, не установит, по какой сетке списывать меня на пенсию. Куда меня не кидали! Больше года лудил свинцом медные контакты, потом стоял на обрезке свинцовых анодов на гальванических ножницах. На замене змеевиков в электролизных ваннах трудился, тоже не плевое дело. А какую сетку, думаешь, запишут? В конце концов бросили в подсобную бригаду — заставили обувь ремонтировать. Дожил, называется…
— Так ведь чуни тоже нужны! Мне вот, например, хотя я и не катодчик, не под током работаю, а тоже без них никак нельзя.
— Без чуней?
— Ну. — Агейкин потопал о цементный пол своими казенными валенками. — Их же нигде не купишь. Галоши — это не то, они мелкие, тяжелые. В иной день мороз как приотпустит, как расквасится снег на дороге, как развезет все, как понатаскают сюда на ногах слякоти…
Иван Игнатьевич на минуту задумался. В нем явно шло какое-то борение. Так и не приняв определенного решения, что именно ответить на этот намек Агейкина, он сказал как ни в чем не бывало:
— А с клеем так прямо беда была! Никакой фабричный не держал резину. Чтобы как следует. Намертво. Чтобы не переклеивать десять раз. Что тут будешь делать? — он почесал под шапкой, все еще думая, как видно, о последних словах Агейкина. — Пошел я как-то на толкучку. Я по воскресеньям почти всегда туда езжу. Это ж рядом с вокзалом. А там у меня тесть с тещей живут. В своем доме. Ну, хожу по рядам, приглядываюсь, прислушиваюсь. Исключительно интересно! Иногда смотришь — сидит человек с разной ерундой, самодельные спиральки продает… Кому они теперь нужны? У всех газ. Да и в хозмаге этих спиралек навалом. Вот во время войны или в послевоенные годы — это да! Это дефицит. Тогда все было дефицитом. Ржавых гвоздей — и то негде было взять. Я тут и подумал, когда человека со спиральками-то увидел… — Иван Игнатьевич притих на мгновение, ушел в себя, как бы заново постигая ту свою мысль, которая внезапно пришла тогда к нему. — Ну, думаю, живет этот чудной человек в своем времени. Не в нынешнем. Оно для него, время-то, остановилось тридцать лет назад. Ниче он вокруг не замечает. Только одни спиральки и видит. И ведь, поди, немало еще таких людей…
— А чуни не продают? — спросил Агейкин.
— Чуни? А кто их будет продавать? Их же сделать надо… Ну я на толкучке-то и подслушал рецепт клея. Чего уж он там клеил, этот мужик, не знаю. А только говорит другому, своему соседу. Мол, обычно делают клей из каучука. Разводят его авиационным бензином. А он не держит! И никто, говорит, не догадается, что надо спирт добавить… Тогда я и пошел к Манукяну, начальнику электролитного цеха, — Иван Игнатьевич подмигнул Агейкину правым глазом. — Так и так. Надо, мол, выписать спирт. «Сколько тебе?» — спрашивает. «Два литра», — говорю. А его ж надо-то там… — Иван Игнатьевич показал на ноготь мизинца. — У меня обида на него была, на Манукяна-то. Из-за дроссовой печи. Вот я и решил его хоть на спирте обмануть, — простодушно сознался он. — А Манукян-то хитрый, хитрый, а и дурак тоже. Поверил мне! — засмеялся Иван Игнатьевич. — Подмахнул накладную на два литра. Я и попивал его целый месяц. По стопочке после смены. Для разогрева. Весь месяц свою Анну дразнил. Денег ни копейки не дает, только на обед, а я выпивши! Пускай, думаю, считает, что у меня друзей много, угощают, значит.
Агейкин хмыкнул. Ивану Игнатьевичу показалось, что хмыкнул как-то нехорошо. Тогда он достал часы и, хотя время еще было, заторопился. Поднырнул под турникет, взялся за ручку двери и сказал вахтеру на прощание:
— А насчет чуней… Ежели здесь тебе слякотно, то иди в плавилку. Там исключительно сухо, суше не надо. Сразу подсохнешь. Ты же за все время даже не заглянул туда ни разу! Только и знаешь: «Папр-рашу пр-р-опуск…» Как попугай в клетке. А попугаю чуни не нужны.
Новость дошла до Ивана Игнатьевича к вечеру, перед самым концом смены. Ребята из электролитного, приходившие за чунями, обмолвились в разговоре, что плавильщикам сегодня будут вручать вымпел.
— Какой вымпел? — не понял он в первую минуту.
— Ну, что цех коммунистической культуры.
— Так надо же сначала присудить! Чтоб комиссия решила.
Рассматривая чуни, один из катодчиков, знавший Комракова еще по плавилке, сказал ему:
— Ты тут как в норе сидишь со своей резиной. Нашу многотиражку не читаешь, что ли?
— Многотиражку я не читал, — смутился Иван Игнатьевич. — Письма вчера писал детям. А что в ней было-то?
Катодчик обернулся уже с порога.
— Заметка про то, что плавилке вымпел присудили. А сегодня во Дворце культуры будут вручать его. Иди собирайся, — мягче добавил он, пристально поглядев в лицо Комракова. — Ты же, помнится, тоже в плавилке работал…
Иван Игнатьевич остолбенел.
«Этого быть не может!» — хотел он крикнуть вслед катодчикам, хотя толком не мог сказать себе в это мгновение, чего не может быть. Вначале Иван Игнатьевич подумал, что ребята его разыграли, но он уловил в глазах одного из катодчиков выражение сочувствия, вроде как тот пожалел человека, которого незаслуженно обошли, не сказали ему про большую общую радость, не пригласили на торжество. Значит, насчет вымпела и вручения — правда. А вот не может того быть, что его не пригласят. Как это без него?!
Быстрее, бегом в плавилку! Иван Игнатьевич ругнул себя как следует, что на этой неделе он и в цех-то к ребятам не заглядывал. Прямо как наваждение. Утром стал просыпать, не хуже молодого, еле-еле к восьми в подсобку поспевал, а вечером торопился домой, на ходу вспоминая, на чем он остановился вчера, какую последнюю фразу поставил в письме. Добрую половину ученической тетради занимали его письма Веньке и Марии — настоящие жизнеописания за последний месяц. Вот и проваландался, такую новость проворонил…
Плавилка, хотя и гудела, стреляла искрами из конверторов, словно бы притаилась в каком-то ожидании. Казалось, что и людей-то в цехе было гораздо меньше, чем обычно. Иван Игнатьевич торопливо, почти трусцой, прошел из конца в конец, посмотрел на новую шлаковозгонку, выглянул за ворота, для чего-то постояв на рельсах, ведущих к террикону, будто оттуда, вместе с лучами заходящего мартовского солнца, могли появиться те двое, кого он искал, — Малюгин и Парычев.
— Ты загляни в партком, — подсказал плавильщик вечерней смены, уже заступившей, когда узнал, что Комраков разыскивает начальство. — Может, там задержались. Хотя навряд ли. Сегодня такой день. Я бы и сам убежал, если бы не моя смена.
«Быть того не может, — опять хотел сказать Иван Игнатьевич, — чтобы ушли. Никогда так рано не уходили. Ну вручение. Ну Дворец культуры. Так ведь и здесь же еще есть дела. Или уже их нету, никаких дел?»
Шумно дыша, Иван Игнатьевич поднялся на второй этаж пристройки, где находились разные административные службы. Дверь парткома, куда он торкнулся, не унимая дыхания, была закрыта. Быстренько обойдя весь этаж, Иван Игнатьевич растерялся. И впрямь никого нет. Ни единой души! Непривычно тихо тут было.
«Та-ак… — он распахнул тужурку, сбил на затылок шапку и, утирая взмокший лоб горячей сухой ладонью, прислонился к перилам лестницы. — Ушли, значит. А как же я?!»
Его обдало жаром от одной только мысли, что сегодняшнее торжество плавильщиков пройдет без него. Можно, конечно, поехать во Дворец культуры и без всякого приглашения, пустят и так — кто это его не пустил бы! — но Ивану Игнатьевичу заранее становилось не по себе оттого, что он явится туда незваным.
А может быть, это самое приглашение ему занес Малюгин прямо домой? Позвонил и отдал Ане из рук в руки. Тоже приятно.
Домой, скорее домой! Там все и выяснится. В крайнем случае, можно и к Малюгиным позвонить: мол, про меня-то забыл, что ли, Петро? С шутками-прибаутками, вроде ничего и не случилось, так и должно быть. Может, вместе и во Дворец культуры поедут, на одном трамвае. Главное, чтобы Малюгина дома застать.
В проходной Иван Игнатьевич споткнулся, увидев на табуретке в углу Агейкина.
— Ты чего тут рассиживаешь?!
— Смена моя. Заступил только что.
— Какая к черту смена? Седни же событие!
— Да знаю я, знаю уж… — как-то вяло сказал Агейкин.
— А если знаешь, то почему не подменился?
Агейкин внимательно посмотрел на Ивана Игнатьевича.
— А тебя что, пригласили?
— Да как тебе сказать… Я их, видишь ли, не застал никого. Из начальства-то. День такой был у меня. Работы много.
— Малюгин раненько сегодня пррромчался…
— И ничего тебе не сказал? — спросил Иван Игнатьевич.
— А что он мне скажет? Мы и раньше-то с ним не особо ударялись в беседы. Здорово да прощай. Удивился, правда, по первости. Это когда я вахтерррить стал. Пошутил даже: чего, говорит, не отдыхалось на пенсии-то, по работе соскучился или старуха за деньгами выпроводила? А потом уже молча ходил мимо. Иной раз и не поздоровается, идет с кем-нибудь, разговаривает. А я же в форме. Вроде солдата, — натянуто усмехнулся Агейкин. — Вот он и сегодня мимо прррошмыгнул.
— С Парычевым, поди? — с ехидцей спросил Иван Игнатьевич. Он и сам не мог бы ответить себе, почему это вдруг потянуло его на ехидцу. За Агейкина, видно, обиделся. Своя обида будто притаилась где до времени, потому что, глядя на вахтера, он ясно понимал: не у него одного, Комракова, но сходится мечта с действительностью. — Головастик с парторгом теперь не разлей-вода. Вместе небось и в президиум сядут.
— Ну и пускай сидят, — легко согласился Агейкин. Эта легкость обескуражила Ивана Игнатьевича.
— А тебе разве неохота? — словно и не торопясь никуда, примостился он на корточки рядом с вахтером, положив руки ему на колени и заглядывая в лицо снизу вверх.
— Чего — «неохота»?
— Ну, посидеть там. Поприсутствовать. Когда вручать-то будут. Вымпел.
Агейкин заерзал на табуретке, но Иван Игнатьевич, не убирая своих ладоней с его коленей, следил за ним как загипнотизированный, карауля каждое движение: тот поведет головой влево — и он качнется туда же, тот дернется вправо — и он туда наклонится. Агейкин, уходя от прямого настырного взгляда Ивана Игнатьевича, задрал подбородок, прищурился, но долго сидеть так было неудобно. Да и смешно, видать, со стороны: два старика угнездились друг против друга, нахохлясь, как петухи.
— Похрррумкай лучше… — Агейкину удалось, наконец, подняться. Он достал из кармана леденцы и, с ожесточением дробя их зубами, решил попотчевать Ивана Игнатьевича.
Так и не увидев в глазах Агейкина хоть какого-нибудь живого огонька — интереса, надежды, досады ли, все лучше, чем знобящее выражение тоскливости, будто запекшееся раз и навсегда, — огорченно крякнул, с трудом поднялся, хрустнув коленными суставами, и, разгибая поясницу, поморщился:
— Соси ты их сам, эти постылые карамельки…
Дома, ни слова не говоря, он первым делом обшарил верхнюю полку буфета, куда обычно складывались письма.
— Ты чего ищешь? — не выдержала Аня.
— Надо чего!
Опять двадцать пять! То из рук рвет газету, как голодный кусок хлеба, а то швыряет ее в сторону, даже и не глянув, про что там пишут нынче.
— Ты письма ищешь, что ли? Так их нету сегодня.
— Ни от кого?
— Ага, значит все-таки письма?
Раненько он их стал поджидать, свои-то еще не успел разослать. Это теперь через полмесяца надо ждать ответ, не раньше, и то не от Веньки, а от Марии, она аккуратная на письма. Хотя нынешней зимой тоже стала писать от случая к случаю. А про Веньку и говорить нечего, давно разучился перо брать в руки, даже удивительно, как это он надумал в прошлый раз весточкой их обрадовать.
— Ни от кого нету, — с насмешливой снисходительностью глядя на мужа, сказала Аня. — И быть пока что не должно.
— Не должно, не должно! — вскинулся Иван Игнатьевич. — Все-то ты знаешь… Петро не заглядывал?
— Чего он в такую рань явится? — Аня не могла взять в толк, что происходит с Иваном Игнатьевичем.
— Дай мне белую рубашку и галстук.
Она не двинулась с места.
— Самому мне, что ли, рыться в вашем комоде?
Старенький комод с бельем стоял в Наташкиной боковушке, в «девичьей», и Иван Игнатьевич туда не заглядывал.
— А куда это ты собрался-то?
— Куда-куда… На кудыкину гору.
Опередив Ивана Игнатьевича, Аня загремела ящиком комода. Лучше уж дать ему белую рубашку, а то перероет все, задаст ей лишнюю работу. Только вот стираная ли она, рубашка-то… С прошлого раза, когда он надевал ее в день своего рождения, рубашка не попадалась Ане на глаза. Как загваздал ее за столом, так и лежит где-нибудь скомканная. Это он умел — тайком засунуть рубашку подальше, чтобы жена не ворчала на него, что опять целый пакет порошка извела на стирку и все казанки стерла, пока добыла ее от грязи.
Рубашка, на удивление, оказалась чистой и даже отутюженной. Наверно, успела расстараться Наташка, папина доча.
— На, пачкай. Жена у тебя казенная, выстирает…
— И галстук давай.
— Я не знаю, где он у тебя. Куда клал, там и бери. — Аня выдвинула нижний ящик комода. Где его теперь искать, этот галстук? Когда он его последний раз надевал?
Иван Игнатьевич взял рубашку, стал снимать с себя старую, повседневную.
— Ты, может, скажешь все-таки, куда это навостряешься? Праздника вроде бы нету никакого.
И тут Аню охватило нехорошее предчувствие. Что-то стряслось, мелькнула у нее мысль, раз в будний день Иван засобирался куда-то, требуя галстук. «Уж не повестку ли какую должны ему прислать?! — испугалась она, замирая у раскрытого комода.
— Ваня, ты скажешь мне или нет?!
Он только мельком и глянул на нее.
— Если галстук не можешь найти — так и скажи. И нечего тут кричать.
Аня подошла к мужу со спины, грубовато поправила воротничок. Он повел было шеей: мол, не лезь, сам управлюсь. Тогда она, расстегнув резинку галстука, сзади же перекинула его на грудь Ивана Игнатьевича и, держа свою руку у него на плече, у непробритой колкой щеки — с утра-то, может, и выбрил, а к вечеру уже и защетинилась, — другой рукой потянулась со спины к подбородку, ловя свободный конец резинки от галстука.
Иван Игнатьевич послушно замер. Хоть и редко она помогала ему надевать галстук, а все же привычка, видимо, выработалась и теперь дала себя знать. Всегда со спины и подходила она на его зов — то ли потому, что так ей было удобнее, то ли потому, что стеснялась вставать лицом к лицу, почти вплотную, и вроде как обнимать его, обхватывая руками шею. Они и в молодости-то не миловались подобным образом, средь бела дня чтобы. Как-то незаметно привыкли к суховатой взаимной сдержанности, не до ласки было, все работа да забота, и долгое время жили в одной комнатке, всегда на виду у детей, а уж потом, когда жизнь стала полегче, оказалось, что они успели состариться. Да, состарились, что там ни говори. Но то чтобы совсем старики, как Анины мать с отцом, но все же успели набрать столько усталости, что даже самого Ивана Игнатьевича, на что уж он был шебутной да заводной, не часто хватало теперь на простую-то шутку.
Покорно притихнув под Аниными руками, Иван Игнатьевич сказал, как покаялся:
— Вымпел седни будут вручать плавилке. Вот я и хочу сходить во Дворец.
— А какое письмо искал? — вполне уже удовлетворенная этим тоном мужа, спросила Аня.
— Да не письмо. Конвертик заводской. Ну со штампом поверху. В них разные деловые бумаги рассылают.
— А какую тебе еще бумагу надо?
— Не бумагу. Приглашение. — Он отошел от нее и, глядясь в отражение буфетного стекла, пригладил волосы ладонью. — Помнишь, когда юбилейные значки в честь двадцатилетия комбината давали ветеранам, так в конвертах посылали приглашение? Тоже во Дворце культуры дело было. Или в прошлом году, — еще ближе вспомнил он, — когда на тридцатилетие Победы награждали, тоже приглашали через почту.
Иван Игнатьевич примолк на минуту, оживляя в памяти тот момент, когда их, ветеранов труда и войны, поздравляли с трибуны, а потом и подарки вручали. Ему достались карманные часы. Хорошие часы, за двадцать два рубля. Такие были в ходу в дни его молодости. Это-то и было приятно, прямо как знали, что ему подарить. Часы он берег и носил в нагрудном кармане пиджака. Чуть не забыл сейчас отцепить их и переложить в выходной костюм. Попутно подышал на юбилейные значки — за десять лет работы на комбинате и за двадцать. Шоркнул их рукавом — для блеска. А юбилейную медаль с изображением Ленина, которую давали в честь столетия со дня рождения Ильича, протер мягкой тряпочкой. Могла быть на пиджаке и еще одна медаль, которую в прошлом, юбилейном году решили давать ветеранам труда — «За победу в Великой Отечественной войне», — но Ивану Игнатьевичу еще не вручили ее, не дошла очередь.
— Раз ты не получил приглашение, — озадачилась Аня, — так куда же пойдешь без него?
Она спросила без всякой задней мысли, а получилось — уколола в самое больное место.
— А чего меня приглашать, — сразу взвился Иван Игнатьевич, — что ли я чужой плавилке?
— Да я ж не говорю, что чужой. Я про то, что на дверях-то, поди, стоят дежурные, и тебя они, может, в лицо не знают… Стой-ка! — осенило ее. — Давай я схожу к Малюгиным, Петро-то должен ведать, рассылали их, эти приглашения, или нет. То юбилей, а то — вымпел. Может, и не надо никаких приглашений.
Иван Игнатьевич поколебался, обдумывая этот ход жены, вдруг решившей помочь ему.
— Не надо, Аня. Зачем ходить? Я и так… Мало ли что не работал в плавилке последние годы! А эти значки, — хлопнул он себя по груди, — я где, интересно, заработал? На мясокомбинате, может? Вот то-то и оно. У тех же печей стоял. У шахтных.
Он себя успокаивал, а не ее вовсе, как поняла Аня.
— Все же схожу я, Ваня! Ну загляну как бы между прочим. За солью к Шуре. Она у меня вчера дрожжей просила, а я попрошу соли. И попутно Петра поддену: мол, чего не являешься отыгрываться, так и хочешь дураком остаться? А потом и про это самое приглашение…
Она живо устремилась к двери, на ходу поправляя на голове косынку, но Ивану Игнатьевичу это не понравилось.
— Да остынь ты, Аня! Чего засуетилась? Делать, что ли, тебе больше нечего? — одернул он жену. — Не надо никуда бегать. Я вот сейчас прямиком поеду во Дворец культуры. Там же не один Малюгин будет. Ребята подойдут, Сапрунов Коля. Вместе с ними и… Без всякого приглашения.
Иван Игнатьевич натянул на себя тужурку, шапку.
— А обувь-то? — остановила его Аня.
Он глянул на свои ноги. Вот это вырядился! Присев в коридоре на маленький стульчик, скинул тапки.
— Гляди, замерзнут ноги-то, — подала Аня припылившиеся за зиму туфли.
— А чего им мерзнуть? Я ж трамваем. А остановка рядом с Дворцом.
Встал, притопнул. Ссохлись немного. Ничего, разойдутся-растопчутся.
— Ну, я пошел.
Аня накинула телогрейку. Он поглядел на жену напоследок, но осаживать не стал — пусть проводит до крыльца. Любит она смотреть вслед, кто бы ни уходил из дому — если, конечно, по важному делу человек направляется, а не так просто. Выходит, дело у него сегодня не пустячное.
На улице Иван Игнатьевич зажмурился — до того ярко резануло солнышко по глазам, дробя на ресницах крохотные радуги. На закате оно уже было, а все же силу выказывало весеннюю. И то сказать: день теперь сравнялся с ночью. Значит, перезимовали. «Ну и слава богу, — сказал себе Иван Игнатьевич. — Уж и надоели эти морозы, испереязви их! И откуда только берется такая дурная сила?»
Он прошелся немного по темной, с лужицами в лунках от следов, тропинке и не выдержал, встал и повернулся к Ане.
— Слышишь, как синичка-то наяривает?
— Где? — спросила она, удивляясь такой перемене в нем.
— Да вон же! Ишь на ветке как хорошо устроилась. Перезимовала, варначка!
— Ага… Капели подпевает. Я еще днем слушала. Под окнами такой звон стоял! По старому тазику — дзинь, дзинь… И синичка вроде как в лад подхватывает.
— А может, со мной пойдешь? — неуверенно спросил он жену.
— Да ну… — смутилась она еще больше. — Куда я пойду? — и оглядела себя.
— Да ты переоденься. Я подожду.
Иван Игнатьевич отступил со скользкой дорожки на подтаявший снежок и притопнул ногами, убеждая тем самым жену: мол, ты видишь — я тут и буду тебя дожидаться столько времени, сколько тебе понадобится на сборы. Аня поняла это и, слегка зардевшись, с улыбкой покачала головой, словно говоря: «Нет, Ваня, и хотела бы я пойти с тобой, да не могу, мне же в свою контору надо».
Он вздохнул, тоже понимая ее без слов, и уже хотел было повернуться и идти на трамвайную остановку, но Аня, вдруг лукаво подмигнув ему, сказала:
— Погоди-ка, погоди… — и быстренько скрылась в подъезде.
«Чего это она? — озадачился Иван Игнатьевич. — Неужели и впрямь решила поехать со мной? Бросит контору немытой? Дернула меня за язык нелегкая… Мало того что самого не пригласили, так еще и жену с собой прихвачу…»
Аня, однако, вернулась быстро, по-прежнему в телогрейке и шлепанцах на босу ногу.
— Ваня! — повеселевшим голосом начала она прямо от порога. — Ты уже отправляешься, а Петро еще только бриться начал.
— Бриться? Разве он дома?
— Ага! Сидит с намыленными щеками. Говорит: «Чего это Иван не заходит? Я ж ему пригласительный билет принес, на работе не успел передать»…
Иван Игнатьевич постоял в оцепенении, затем перевел взгляд на окна Малюгиных, будто пытаясь увидеть с улицы Петра, сидевшего перед зеркалом.
— А ты зайди к нему, — подсказала Аня. — Как ни в чем не бывало. Вместе и поедете потом.
Словно не слыша ее, Иван Игнатьевич распахнул тужурку, вытащил из карманчика круглые большие часы на цепочке, поглядел на стрелки, а потом и к уху приложил. Идут. Тикают без всяких перебоев хоть в горе, хоть в радости. От уха отнимать часы он не торопился, потому что так было удобно смотреть на Аню — вроде как ненароком. Смотреть и видеть, что она переживает за него, волнуется. Косынка набок съехала, обнажила ухо и кипенно-белую прядь волос. А ведь вроде совсем недавно Аня была русой…
Ивану Игнатьевичу стало страшно от внезапной мысли, что время идет куда быстрее, чем кажется на первый взгляд. Ох, как быстро! И то, что совсем еще недавно было явью, куда-то бесследно девается, и нету ему никакого возврата. Разве что в памяти обманно всплывет иной раз, тревожа душу своей невозможностью. Ох, время, время…
— Ты чего? — спросила она.
— Да это я так…
Он спрятал часы, но еще постоял немного, глядя на жену и светло и печально улыбаясь ей.
Часть вторая
СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ

1. ЦАРИ-БОБЫ
Мать с умыслом затевала на этот раз гулянку. Ну, не то чтобы гулянку — просто решила отметить женский праздник, День восьмого марта. Хотя родню приглашать не стала. Саня-то, конечно, приедет без приглашения, улизнет от Кати играть с мужиками в домино — прямо прописался на чужом дворе, — и зайдет под конец похвастать, сколько выиграл, или посетовать по поводу проигрыша. Но Саня, хотя и ехидный, а все же безобидный человек, выпьет и про все забудет, осуждать Аню с Иваном не станет, что устроили вечер только из-за ребят.
Да, именно ради Наташки и Бориски решили мать с отцом собрать гостей — тех соседей, которые через своих детей были как-то связаны с Комраковыми. Прежде всего Петра и Шуру Малюгиных, дочку которых, учившуюся в металлургическом институте, Иван Игнатьевич ставил Наташке в пример, а семнадцатилетнего сына Павлика, десятиклассника, в шутку звал зятем. Потом родителей Лены Елизаровой, однажды приглашавшей к себе в гости Бориску. Ну и Солдатиху, ясное дело, Юлькину мать, без нее ни одна гулянка не обходится.
Оставалось неизвестным, конечно, явятся вместе со взрослыми их дети или нет. Это ведь что найдет на них: могут и заглянуть как бы между прочим, незаметно и присядут потом, разговорятся и перестанут стесняться, а могут и задичиться с самого начала, на аркане не затянешь.
Ане хотелось, чтобы на вечере повеселились не столько родители, сколько ребята. Старики что? Свое уже оттанцевали, отпели. Теперь черед молодых, считала Аня. Она надеялась растормошить Наташку — с девчонкой в последнее время что-то творилось: то задумается, никого не слышит и не видит, а то ни с того ни с сего заплачет беззвучно, отвернувшись к окну. «Может, влюбилась? — терялась в догадках Аня. — Так чего и плакать тогда?»
В самый канун праздника она сказала дочери:
— С утра пораньше пойдем в универмаг. К открытию чтобы. Предпраздничная торговля же. Может, матерьяльчик какой подберем… тебе на платье.
— Ой, правда, мам? — обрадовалась Наташка. — А за день я его сошью, с Юлькой быстренько счикаем!
Но, начав канитель со стряпней, мать словно забыла об этом разговоре. Наконец, она бросила все, суетливо кивнула головой: «Счас-счас, доченька!» — вытерла руки и убежала переодеваться. Наташка сунула ноги в разношенные сапожки с маленькими широкими голенищами, взялась за пальто и, как бы уже предвкушая предстоящую радость и исподволь желая продлить ее — чтобы она началась уже сейчас, еще до покупки, — спросила из прихожей мать:
— Тебе какой больше нравится — гладкий или с выработкой?
Мать молчала, ее и не слышно было, и Наташка, цепенея от догадки, пошла в залу, громко топая сапогами, и застала там мать прикорнувшей на краешке кровати с трикотажным жакетом в руках, который она, видно, только что собиралась было надеть, да не справилась с навалившимся вдруг сном и прилегла в чем была с мыслью, что это она только на пять — десять минут.
Наташка села на табуретку, отвернулась к окошку и, против своей воли, опять разнюнилась. Она то смахивала пальцами теплые слезины, то водила ими, мокрыми, по стеклу, по слабо наметившимся морозным узорам, скрытым крахмалисто-снежным ворсом. Вытаял под розовым пальцем пятачок сизого оконца, сумеречно на улице, и против дома над крыльцом конторы техснаба еще горела тусклая сороковаттка; но уже с хрустом подъезжали к крыльцу заиндевелые машины — пока что грузовые. Это по делам из других организаций. Не скоро еще, минут через сорок, подкатит легкая черная «Волга», сияющая лаком даже в сереньком свете этого мартовского утра так, будто ей и мороз нипочем, — это уже начальство, и маме надо к этому времени бежать в контору с ключами, открыть кабинет и сменить в графине воду. Пусть пока поспит, раз уж сморило ее…
Наташка насухо утирает краем занавески припухшие глаза, встает, идет в прихожую и нащупывает в кармане материной телогрейки связку казенных ключей. Она притворяет за собой тяжелую размороженную дверь, деревянный пол в их подъезде гулок и скользок — вчера была очередь Солдатихи, а та известно как его моет: понапустит луж, намочит только, а вытер бы за нее кто другой. Морозом схватывает дыхание, Наташка прикрывает нос варежкой и бежит, стараясь не думать, как сейчас ее будут оглядывать шоферы и снабженцы, набившиеся в коридоре, как секретарь-машинистка, разложив на окатистом валике машинки разные парфюмерные причиндалы, полюбопытствует, почему это девочка перестала ходить к ней на стажировку — или раздумала устраиваться на работу? О том, что, уже уходя из конторы, она нарочно остановится в коридоре возле вчерашнего номера «Красного алтайца» и, может быть, увидит хотя бы издали Валерку, Наташка думает в последнюю очередь.
У матери то и дело отнимается правая рука, и тогда она всю ночь не смыкает глаз — ходит из комнаты в комнату, тихо, сквозь зубы, постанывает и как-то еще умудряется подумать о чем-то постороннем: поправит сползшее с Наташки одеяло, одной рукой разложит на стуле перед Борискиной кроватью как попало брошенные с вечера его брюки, а то ни с того ни с сего включит утюг и давай гладить Борьке рубашку, хотя еще только вчера Наташка дала ему чистую и наглаженную.
А как раз вчера была эта предпраздничная уборка по техснабу. Она только называется что коллективная. Женщины, какие не разбежались сразу же по яслям и садикам за ребятней, еще поделали там кое-что, сменили на своих столах исчерканные вдоль и поперек, затертые до грязной замшевости подстилки-ватманы, выбросили из ящиков в столах разный канцелярский мусор наружу, во двор, а не забили им, как обычно, корзинки, из которых потом по пачечке, выцарапывая каждый листок из проволочных зазоров, вынимала их мать. А вот мужчины… те просидели бессовестно за шахматными досками, делая вид, что уже одним своим присутствием облагодетельствовали коллектив и главного человека на уборке — уборщицу Анну Ефимовну Комракову, Наташкину мать. А она-то, бедняжка, и упласталась, обезручела в тот вечер совсем — к шести полам прибавились и окна с подоконниками, и ножки, и перекладины столов, основательно замызганные еще по последней осенней грязи. Конечно, Наташка помогала. Куда денешься — мать. Хотя со стыда чуть не провалилась, когда Валерка, в шесть часов умчавшийся в свой вечерний институт, столкнулся с ней в конце коридора, где она наматывала на швабру тряпку.
Как обычно, он ничего ей не сказал. Так только — задержался взглядом, улыбнулся — и нет его. Да и что бы он сказал ей?..
Она опять в пальто и обуви, теперь с мороза, проходит в залу, взглядывает на неспокойно спящую мать и, как бы убедившись, что в магазин сегодня им так и не сходить и новому платью для вечера, само собой, не быть, уже без утренней безысходной горечи вздыхает, раздевается, моет руки и ставит на газ чайник. Шут с ним, с платьем! Все равно ей некуда в нем идти. В школу, как еще год назад, когда она ходила в дневную, теперь не разбежишься, вечерники для школы — народ, как говорят, транзитный: отсидел после работы три-четыре часа, поклевал носом — и домой. К семье. Просто отоспаться — для завтрашней основной работы. Какая тут общественная жизнь… Наташка — самая молоденькая в классе, и день у нее работой не занят, на нее и свалили все в кучу: она и староста — это просто смешно, ее и зовут-то «старостенок», что-то вроде страусенка; она и ответственная за стенгазету и культорганизатор, хотя за всю зиму ей только раз удалось выманить в кино небольшую часть класса, и то, может, только потому, что купила билеты на свои деньги — то есть на материны, конечно, откуда у нее свои! — и раздала их как бы в долг, до получки.
Нет, вечера у них в школе не будет. А к тем, что в дневной, она не пойдет. Семнадцать лет, а она все в девятом. Хотя сама и не виновата, но все равно как второгодница. Уж лучше просидеть дома. Может быть, и впрямь соберутся у них соседские ребята, какое-никакое, а веселье.
А Валерка, наверно, уйдет к себе в институт. С ним бы она пошла хоть куда. Но кто она для него?.. Стояли перед той демонстрацией в одной колонне, и черт ее дернул ухватиться за палку лозунга на кумаче; она сначала только и видела этот лозунг, какой-то мужчина с повязкой на рукаве пытался передать палку своим соседям, но те были заметно навеселе, беззаботно льнули к гармонисту и шутливо отмахивались от мужчины с лозунгом, и тогда она-то и подскочила, оставив мать где-то сзади, и только потом уже увидела, что с другой стороны на нее смотрит и улыбается парень. Что-то нашло на нее сразу — вдруг бросила бы эту палку и убежала куда подальше, да поздно было; а парня, прислушалась она, когда поуспокоилась и взяла над собой контроль, соседи по колонне называли Валерой. Она тут же переиначила для себя: «Валерка» — как будто давно училась с ним. «Ты почему сегодня такая?» — спросит ее Солдатова Юлька, а она только и скажет ей: «Да опять Валерку видела», — и что хочешь, то и думай обо всем этом.
А тут еще, как назло, это кино. Юлька любопытная — упросила показать Валерку. А вчера прибежала и говорит: «В этом кино один артист смахивает на Валерку. Ну он и он!» И Наташка пошла. Ходила три раза. Пока деньги не кончились. И правда — похож.
Сама не зная, что с ней творится, она проревела весь вечер и ночь прихватила. Тогда-то ей мать и сказала — тоже не спала, бродила опять по комнатам с расходившейся рукой, — что утром отправятся в магазин и выберут штапеля ей на платье. Если раньше, мол, держала тебя, то теперь иди на вечер куда надумаешь.
А вдруг-то, представилось Наташке, Валерка и пригласит ее, она подойдет к конторе будто как обычно, по делам матери, но сама уже будет одета для вечера, а он увидит ее в коридоре, поздоровается и скажет: «Знаете что, Наташа, я вас давно хотел пригласить, да все смущался». Конечно, она не испорченная, но и не ломучка, открыто обрадуется и ответит: «Вот и хорошо, я тоже ждала этого!»
Жалко ни жалко мать, а мартовский вечер бывает только раз в году, и Наташка идет будить ее.
Материальчик выбрали удачно — по бежевому фону неширокие блеклые полоски. Мать разорилась — ни с того ни с сего выбросила еще семь рублей, сама облюбовала для Наташки колье с коричневыми блестящими бусинками.
— В тон платью, ты же ничего не понимаешь! — в минуту сломила она сопротивление дочери.
Наташке не то чтобы не понравилась вещь — наоборот, и даже очень, — но к подаркам таким она не привыкла и, в свою очередь угождая матери, через силу отнекивалась.
— Говори спасибо да носи на радость, пользуйся, пока мать жива…
Мать, как обычно, в такие нечастые минуты широких своих жестов смягчала голос до слезливого и как бы поспешно отворачивалась, будто и не думая выказывать свою растроганность собственной заботливостью о детях. Впрочем, она тут же возвращала себе полное спокойствие и, пользуясь моментом, пока Наташка или Бориска — или кто из старших, когда те еще жили дома, — именинно оглядывали подарок и потому готовы были выслушивать любую нотацию, наверстывала вперед на неделю, наставляя и тех, кто ее слушался, и тех, кто иногда «взбрыкивал».
В этот раз мать, замышляя устроить вечер, накануне полночи прошепталась с отцом на кухне, определяя расходы, поэтому после промтоварного она ринулась в продуктовые отделы, оставив Наташку без обычных наставлений.
Однако радоваться было рано — предстояло выбрать фасончик и успеть еще сшить и отгладить. Шила Наташка сама — как уж там шила, не ателье, конечно, но себя обшивала лет с десяти. Машинка хорошая, ножная. Одно удовольствие — только нажимай. Поджидая Юльку, с которой хотела посоветоваться, она навалила на стол груду потрепанных журналов — некоторые были еще с пятидесятых годов, старшей сестры Марии, — и листала, приглядывалась, прикидывала, хотя определенно знала, что без Юльки не решит. Вот уж бой-девка! Шестнадцать лет, почти на два года младше ее, а знает любой модный танец. Ни с кем, конечно, не встречается, хотя симпатичная на вид и отбоя от мальчишек нету. «Вот еще, — фыркает Юлька, отвечая на испытующе-намекающий взгляд Наташки, — была нужда корявых любить!» Это у нее поговорка такая, по делу и без дела, даже если когда ее мать, тетя Зина Солдатова, посылает Юльку в магазин за хлебом. Та, конечно, все равно сходит, но полушутя-полувсерьез про корявого помянет.
К двум часам, когда у матери на кухне уже все шипело и кипело, пришел Бориска, работавший в одном цехе с Юлькой. Заваленный журналами стол озадачил Бориску:
— Ты что, в манекенщицы надумала? Клевая работа, не бей лежачего.
— Что бы ты понимал! — огрызнулась Наташка. — Юлька пришла домой?
— А я ее не караулил…
Время шло, а Юльки все не было. Уже и отец, закончивший свои пенсионные дела в горсобесе, отогрелся с мороза и согнал Наташку со стола — унес его в кухню, где, стараясь не мешать матери, стал налаживать хитроумное приспособление со стеклянным змеевиком. Поставил на огонь бачок с бражкой, и тепловатый кислый запах поплыл по комнате.
В три часа терпение Наташки лопнуло, и она сама отправилась к Юльке.
Дверь открыла непривычно смущенная и в то же время нахмуренная тетя Зина, она ни с того ни с сего поддела валенком вертевшегося под ногами поросеночка. С утробным скомканным звуком, прорезавшимся в долгий недоумевающий визг, тот перекувырнулся через спину и сломя голову засеменил в ванную, дробно стуча по паркету копытцами… Солдатиха, как зовет в доме тетю Зину и стар и млад, которую уже зиму подряд держит у себя в квартире — и об этом уже столько говорилось, и собрание общее устраивалось — одного, а то и двух поросят; на улице крутые морозы, в сарайке ни одна живая тварь не выдержит, и тете Зине всю зиму приходится терпеть поросячью вонь.
Наташка изумилась:
— Случилось что, теть Зин?
— А, идите вы все от меня… — отмахнулась Солдатиха и, скрываясь в кухне, коротко и вместе с тем с каким-то недовольством ткнула большим пальцем себе за спину, в сторону непроходной комнаты: — Там, там она…
Юлька лежала на постели, уткнувшись в подушку.
— Ты чего это, а? — Наташка решила, что неуемная Солдатиха опять поругалась с дочкой. — Ты чего, я говорю, опять поцапались?
Юлька не сразу, но качнула головой отрицательно: нет, причина другая. Полежала так еще сколько-то, пока Наташка, пройдя к этажерке, копалась в тети Зининых журналах «Работница», где на последней страничке были выкройки и чертежи. Потом встала и, не глядя на начавшую понимающе улыбаться Наташку — вот, мол, подружка, и к тебе, кажется, любовь пришла, — одернув на себе коротенький халатик, скользнула к двери. Вернулась быстро — умытая, с припухшими нареванными глазами, с убранными на затылок в узел волосами. С извечной своей прямотою, которая может напугать кого угодно, уставилась на Наташку диковатыми большими глазищами:
— Ты себе на платье купила, что ли?
— Ну… купила…
— Думаешь, может, пригласит — да?
— Ничего я не думаю…
— А вот и думаешь! Думаешь! — полыхнули Юлькины зрачки. — Ты все вбила себе в голову, а ничего-то не знаешь!
— Да отстань ты, что ты сегодня… — отмахнулась Наташка и, уже предчувствуя нехорошее, стала складывать журналы на место, будто разворошила их случайно.
— Видела твоего Валерочку, — не сбавляла пыла Юлька, — я с работы иду, а легковушка с золотыми кольцами на дверцах остановилась у загса. Я думаю, дай гляну! Я же люблю смотреть на такое, ты сама знаешь. Остановилась, гляжу… и кто бы из нее вышел, как ты думаешь?
Губы у Наташки против воли складывались в какую-то жалкую улыбку, медленно сползавшую в одну сторону.
— Я тебе говорила! — криком опередила Юлька ответную к подруге жалость. — Говорила тебе: ну что ты с этим типом носишься: «Вале-ерка, Вале-ерка!» Он у тебя из ума не выходил, а у него другая была, да и что ты в нем нашла?!
— Ты перепутала, — все никак не справляясь с этой судорожно тянущей губы своей улыбкой, сказала Наташка. — Ты же его не знаешь как следует! Ты его и видела-то издали, у техснаба, один только раз. Тебе показалось.
— Вот ты и перекрестись! — как и всегда, съязвила Юлька. — Тебе кажется — ты и крестись! А я, во-первых, видела его у техснаба не раз, а целых три, во-вторых, встречала как-то в трамвае, вот так от него стояла — на нем еще пальто с серым каракулевым воротником и такая же шапка пирожком, «москвичка» называется. Что, съела? А потом кто, интересно, еще вчера ходил на это кино, на все сеансы подряд — разве он там не похожий?
Наташка, наконец, справилась с губами и как-то отстраненно посмотрела на Юльку.
— Ну и что с того, что ты видела его сегодня у загса? Ты-то чего ревешь? Тебе-то что?..
— А не знаю: реву — и все тут! А он не свидетелем приезжал, не думай и не надейся! — опередила ее Юлька. — Женихом приезжал, а рядом с ним эта была, в фате… А свидетели — позади, разве их не отличишь!
Теперь Наташку подмывало расспросить, как она выглядит, эта, в фате… Что из себя представляет. Но как раз об этом Наташка не спросит — что ж, раз так все вышло. Она же не виновата… Да и что у нее было с этим Валерием? А ничего и не было, так только, верно говорит Юлька: внушила.
И все же что-то сильнее ее рассуждений. Она отворачивается к окну и водит мокрым от слез пальцем по намерзшим окнам. Сзади за плечи обнимает ее Юлька и тоже вздрагивает худым своим тельцем. Тетя Зина, которой Юлька все рассказала, кричит им с порога:
— Ох, девки! Сейчас вот как возьму голик из-под порога да ка-ак начну хлестать что ту, что другую! Уже четвертый час, а они тут валандаются, нашли о чем горевать! Да я бы в ваши-то годы!..
— Знаем, слыхали, — беззлобно перечит матери Юлька.
Та звучно, но не больно шлепает свою языкастую доченьку по мягкому месту, оттаскивает ее от Наташки и, пригрозив пальцем — мол, я еще поговорю с тобой, как язык распускать, испортила девчонке весь праздник, — как-то смущенно, неумело гладит вздрагивающие Наташкины плечи.
— Ах, девки, девки… Все-то у вас еще впереди, вся жизнь, — вздыхает она, что они, молодые, не ценят своих лет и даденной им радости. — Тут вот о себе иной раз подумаешь: где она, когда жизнь-то моя промелькнула? Вся — как один день… Только и стоит перед глазами та минута, когда Павла на фронт провожала. (Детей у нее от Павла не осталось, Юлька уже от другого, и этого другого, своего отца, Юлька сроду не видывала даже на фотографии.) На нем была желтенькая футболка со шнурочками — вот эта футболка и стоит перед глазами, вся до последней измятинки, будто только вчера постирала ее и надела на Павла неглаженую. С работы я тогда прибежала — а он уже дома, сидит у стола, вертит в руках повестку из военкомата и виновато так улыбается…
Теперь Юлька, знающая по опыту, что мать потом, после таких разговоров, будет и день и два ходить как потерянная, трясет ее за плечи и внятно выговаривает:
— Мама, мам!.. Погадай Наташке, ну, пожалуйста, прошу тебя!
И уже бежит в материну комнату, несет в расшитом гладью шелковом мешочке гадальные бобы. С сухим стуком высыпает их на стол. Они глянцево-темные, крупные, с сизой затертостью от пальцев — до блеклости, как на передках поношенных хромовых ботинок.
— Ох ты, язва! — смеется Солдатиха. Берет из Юлькиных рук шелковый мешочек, утирает им глаза и уже тянется к таинственно замершим на столешнице бобам. — На кого гадать-то, на тебя, что ли, Юлька? — смеется она, искоса наблюдая за Наташкой, которая сидит, все так же отвернувшись к окну. — А ну!.. — Солдатиха лопатистой своей ладонью подгребает к себе поближе россыпь бобов, выбирает наугад один из них, подносит его к губам, что-то шепчет, закрывая глаза, и уже как бы отрешается от всего земного, зряшного, и Наташка поворачивается и смотрит на нее. — Цари-бобы, — истово шепчет Солдатиха, — скажите всю правду, скажите — не соврите…
И Юлькины глаза тоже как бы становятся еще больше — очарованно замирают, и в них светло и чисто отражаются удивление и надежда.
Не дав Солдатихе толком впасть в ворожейный транс, без стука заявилась Наташкина мать. Еще в дверях, на ходу вытирая мучные руки о свой передник, она поняла, что тут происходит, и вспомнила вчерашние ночные слезы дочери, а той явно стыдно стало перед матерью за эту глупую ворожбу.
— Я-то, дура, думала: доченька моя делом занимается, а они тут, баламутки, человека от дела отрывают!
— И не говори!
Малость сконфуженная такой неожиданной почтительностью в ее адрес — «человека от дела отрывают», — Солдатиха машет рукой: совратили, совратили, вертихвостки! И уже сгребает бобы в мешочек, показывая девчонкам тем самым, что гадание не удалось — какая тут ворожба с этой Аней, влетит всегда, как ветер.
— Ну, так что вы решили с платьем-то? — как бы тут же забывая про эту гаданку на бобах, будто ее и не было вовсе, говорит Аня, оглядывая Наташку и Юльку, обеих сразу.
Такой маневр она считает сейчас самым подходящим: девок надо загодя, еще до вечера, связать общим делом, чтобы уж Юлька возилась с этим платьем до конца и никуда не надумала ускользнуть на вечер. А то, судя по всему, сердечные дела Наташки не шибко какие баские… Ах, молодость, молодость, все-то ей кажется, что горе ее самое неизбывное и вся жизнь уж будто сегодня и кончается, и попробуй им докажи, что все равно они самые счастливые, и не докажешь, хоть тресни!
А разве им самим в свое время, справедливости ради говорит себе Аня, их матери и отцы могли бы доказать такое? Вот так-то и идет из века в век.
— Сошью его к весне, — говорит Наташка о платье, как о чем-то необязательном.
— Это как это так? Нет, ты слышишь, Зина? — обращается Аня к Солдатихе, и та немедленно откликается:
— Какая еще там весна, Наташк? Да на дворе зима, еще только-только март начался, а по-старому так еще целую неделю будет февраль, а ты уже о весне думаешь! — говорит она первое, что пришло ей в голову при последних Аниных словах, и только тут спохватывается про себя, что проще было бы спросить про платье — какой материал, почем за метр.
— Я ей к этому материалу украшение купила, — обиженно говорит Аня, — старалась как лучше — такие вишневенькие бусики в три рядка, вдоль всей шеи, — показывает она Солдатихе. — Семь рублей выкинула — и вот на тебе. К весне, оказывается…
Солдатиха качает головой, осуждая дочернюю неблагодарность.
— А ну-ка, — решительно заявляет она, бросая на кровать мешочек с бобами и снимая чехол со своей швейной машинки «Тула», — неси сюда материал! Матери, понимаешь, некогда, — незлобиво бурчит она на Наташку. По перепачканным в муке Аниным рукам Солдатиха поняла, что соседи затевают гулянку. — Человек совсем с ног сбился, а ты тут еще выкамариваешься чего-то.
Она прилаживает на нос очки, выколупывает шпульку, с деловым видом роется в шкатулке, вынимает сразу несколько катушек ниток и вопросительно поверх очков смотрит на Наташку: какие нитки-то наматывать на шпульку?
— Коричневые, коричневые! — поспешно и услужливо подсказывает Аня и взглядом одергивает, срывает с места Наташку.
Та с растерянной улыбкой в сопровождении Юльки идет за материалом.
— Ой, Зи-ина! — поет между тем Аня, знающая цену Солдатихиному умению шить. — Вот спасибо-то тебе! Я уж с тобой рассчитаюсь потом…
— Очнись!.. — воздевает к ней ладонь Солдатиха. — Какие тут могут быть расчеты! Или мы с тобой не соседи? Да уж сколько годов-то мы с тобой живем в одном доме? — Она подпирает щеку рукой и испытующе смотрит на давнюю свою соседку.
«Ох, лучше бы не считать! — улыбается про себя Аня. — Немало ты кровушки, соседка, выпила из каждого из нас!»
— Много, ой много… Уже лет пятнадцать, однако.
— А семнадцать не хочешь? — поправляет Солдатиха. — У тебя в тот год, когда я переехала в эту квартиру, Наташка нашлась, а Юльки у меня еще не было.
— И правда, — соглашается Аня, незаметно для себя присаживаясь на краешек застланной пикейным покрывалом кровати. — В тот год я и родила Наташку. А Бориска мой был годовалый.
— А я хотела кумой тебе заделаться через Наташку-то, — с непозабытой обидой припоминает Солдатиха, опуская очки на глаза и берясь за шпульку, — а ты мне отвод сделала.
Аня пугливо меняется в выражении лица:
— Ой, что ты говоришь, Зина! Вот не припомню…
Солдатиха смеется:
— Я накануне твоих родов две грядки у вас в палисаднике захватила, помнишь? Да и посуди сама, — как бы с запозданием оправдывается она, — обидно же было мне: все по весне на своих грядках копаются, а я стою, бывало, у изгороди да слюнки от завидок глотаю. Дом-то ведь, думаю, казенный, — все оправдывалась она, и Аня, к собственному удивлению, все больше чувствовала себя виноватой перед той одинокой Солдатихой, которой добровольно никто из жильцов не хотел уступить места в палисаднике, — и земля вокруг, думаю, тоже казенная, общая, значит! Так какого ж, я думаю, черта!
Аня машет рукой: да не вспоминай ты, нашла о чем вспоминать! И они обе долго хохочут, всплескивая руками.
Смеющимися их и застают девчонки. Материал Юльке понравился, она тут же стала подбивать свою мать разориться и ей на такое платье.
— Будете весной, когда от пальто освободитесь, — все смеется та, — как штампованные двойняшки, в одинаковых платьях-то!
— Ну и пусть! — сопротивляется Юлька. — А мы в разное время их будем носить!
— Так еще подумают, что вы с одного плеча носите!
Юлька озадаченно умолкает, но Наташка приходит на помощь.
— К весне я уеду, тетя Зина. Так что не бойтесь — не будет двойняшек.
— Куда это ты уедешь? — удивляется Юлька, не принимая такую помощь.
— На БАМ, куда же еще…
Солдатиха смотрит на Наташку — серьезно ли та?
— Нет, правда, теть Зин!
Для Юльки, во всяком случае, это новость. Чтобы не выглядеть пустомелей, Наташка поясняет:
— Школу можно и там закончить. Вечернюю. Зато у меня уже стаж будет.
— Но ведь ты хотела на ткачиху учиться! — вскидывается Юлька. — И меня чуть не сагитировала. А как же теперь я?
Она моргает длинными, будто наклеенными, ресницами и вдруг кидается к приемничку «Рекорд», лихорадочно роется в пластинках, находит что-то и, подмигнув Наташке, заводит радиолу. А сама уже предчувствует отъезд подруги и чуть не плачет. Иголка вхолостую ширкает по ободу, все ждут.
Подмосковный городок.
Липы желтые в рядок.
Подпевает электричке
Ткацкой фабрики гудок…
— Так ты правда, что ли? — все недоумевает Солдатиха; уж так девки, пока росли, хорошо сдружились, не в пример их матерям, а хорошая самостоятельная подруга для дочки — это ведь, считай, половина материного спокойствия.
— Баламутка, — говорит Аня. — Ей что? Сорваться бы да бежать. По ним все хорошо, хоть так, хоть этак. А каково будет матке с батькой? Они об этом думают?
Но говорит она это не очень искренне — как бы только для отвода глаз, чтобы та же Солдатиха не подумала, что они вот спроваживают своих детей в разные края.
И Солдатиха понимает это и, следуя сегодня во всем только благому, опровергает соседку с неподдельной горячностью:
— Не согласна я! Чего ты на детей напустилась? Не век же им за наши юбки держаться. Так уж испокон веку ведется.
Аня вздыхает, глядит на девчат. Юлька, обняв подружку, уставилась на пластинку и губами помогает певице, а Наташка ровно и не слышит песни — задумалась о чем-то.
— Ната, Нат, — ласково окликает ее Аня, — чего ты, доча?
— Да нет, ничего… — растерянно улыбается та. И коротко взглядывает на мать с какой-то виноватостью. — Правда, мам, я так…
Ей представилось сейчас, как приходит она домой с билетом, полетит, конечно, на самолете; соберется провожать ее весь дом, и хорошо бы лететь вечерним, чтобы из дому выйти с чемоданом как раз часов в шесть. Из техснаба будут выходить после работы, и увидят ее готовую в дальнюю дорогу, и уж, конечно, начнут спрашивать: «Куда это вы, Наташа, уезжаете?» «На кого вы нас оставляете, девушка?» — станут острить молодые еще мужчины, нередко заговаривавшие с ней в коридоре, когда она приходила к матери. Но она будет только улыбаться им в ответ и делать вид, что едет вот, может быть, даже в самую Москву, не такая уж она никудыха, чтобы только и делать, что матери помогать со шваброй орудовать. И ровно в шесть выходит из конторы Валерий, он тоже не сможет не заметить ее с чемоданом, и, удивленный, приостановится, и вспомнит ту октябрьскую демонстрацию, и ему наверняка станет грустно, что уже минула зима, и она теперь уезжает, и ничего, ничегошеньки между ними и не было…
И пусть! Хорошо, что не было, значит, не судьба. Судьба ее, может быть, там, где древние горы, как рассказывал отец, маревым окоемом подпирают высокое небо, где звенят, поют на перекатах чистые студеные речки и где даже летом дуют свежие, с ледяных гольцов, неуемные ветры, под которыми, волнуясь, глухо шумит вековой лес.
2. КОРОЛЬ ЧЕРВОВЫЙ
Ближе к весне меж родни Комраковых только и было разговоров, что о скором осиротении многолюдной некогда семьи Ивана Игнатьевича и Ани. Вслед за Марией и Венькой собирались покинуть отца с матерью Бориска и Натка: сына должны были призвать в армию, а дочка навострилась в Сибирь, на стройку.
Своеобразным курьером, доставлявшим всей родне самые свежие новости, был Саня, Катин муж. Свободного времени у него хоть отбавляй, пешком ходить не надо — отвез своего начальника на какое-нибудь совещание, и сам себе хозяин. Иной раз, особенно летом, по теплу, Саня умудрялся сыграть во дворе дома, где жил Иван Игнатьевич, в домино или в карты на деньги, компанию ему составляли инвалиды и пенсионеры. А когда за столом, врытым в землю посреди двора, не было ни души, Саня заходил к Комраковым.
Сегодня он застал дома одного Бориску и от нечего делать завел с ним с виду серьезный разговор.
— Ну, как дела-то, племяш?
— Та, че дела… — шмыгнул тот носом, переходя из комнаты в кладовку, оборудованную им под мастерскую, с какими-то детальками, проволочками в руках: который уж день маракует над старым радиоприемником. — Ничего идут дела, голова еще цела! — отцовской прибауткой ответил Бориска, усмешливо глянув на Саню.
— Это хорошо-о… А с работой-то как — трудишься, говорят?
— Ага. Тружусь, — с неохотой откликнулся племянник из кладовки, включив электропаяльник.
— А что за работа, Боря? Киповцем
[3], поди, батька устроил?
— Хм, киповцем… Это не так-то просто. Это даже не баранку крутить… Баллоны я пока что таскаю, дядь Сань. Пока что их… Ты что, запамятовал?
На лице Борьки уже нет никакой усмешки, он и сказал-то это машинально, руки его уже ладят какую-то детальку. Лоб у парня взмок, дыхание замерло, все его внимание сосредоточилось на кончике паяльника, где дрожала матово-ртутная капелька расплавленного олова, готовая скатиться куда попало, только не в нужное место, чтобы тут же предательски закаменеть. В конце концов капля успокаивается именно в той части детали, где и нужно было наляпать пайку. И только тут, после облегченного вздоха, до Борьки доходит смысл последней его фразы, сказанной Сане, и он досадливо вспоминает про мокрые валенки. Отец опять будет ворчать: «И где ты вечно находишь воду? На всей территории завода сухо, а где и была вода — так подмерзла давно, а ты вот изо дня в день, ну как та свинья лужу, находишь мокрое место!»
Борька откладывает паяльник и молча идет в прихожую, находит там в углу скинутые наспех полчаса назад тяжеленные валенки. С виду они красивые, как новые-то были, казенной катки, черные, с белыми цифрами на подошве и округлой, выпирающей с добрый кулак, пяткой — и чудные же на пимокатнях колодки! Пока такую пятку разносишь, осадишь до нормы, она либо на тот, либо на другой бок свихнется, как намоченная картонка. А чуть попал таким валенком в мокрое место — сразу набрякнет, что твоя промокашка, и отяжелеет дальше некуда. Хочешь не хочешь — мочи второй, чтобы не прихрамывать на отяжелевший-то. «Как та свинья лужу!» Интересное дело! Он же смотрит вперед, сгибаясь под этим баллоном, чтобы не запнуться за что-нибудь, а уж где мокро, а где нет — разве углядишь? «Сам-то небось, — мысленно укоряет Борька отца, — без чуней валенки не надевает». Он думает об этом так, будто чуни — это невесть что, словно это какая-то привилегия для одного только отца. Борька уже и забыл, как на днях он решительно отнекался, когда отец склеил и ему из старого баллона эти самые чуни. «Да ну еще! — сконфуженно взорвался тогда Борька, сдергивая их с валенок. — Что я, пенсионер, что ли!» И еще нарочно в тот день, чтобы подчеркнуть щеголеватость своей обуви в сравнении хотя бы с отцовской, он подвернул голенища на добрую четверть. Правда, обузившиеся края валенок теперь жали ему икры ног, натирая их до красноты, но форс есть форс, он даром не дается.
Сунув под мышку мокрые, пахнущие железной окалиной валенки, Борька несет их в кухню — поставить к батарее поближе. «Если соскоблить с подошвы то, что поналипло за день, — думает он по дороге, по-прежнему не обращая внимания на гостя, — будет с полстакана разного мелкого железа. Так что железный я парень!»
Саня, усевшийся посреди залы за круглым столом, видит Борьку с казенными валенками в руках, понимает это по-своему и улыбается: пацан, мол, и есть пацан, нашел чем хвастать.
— Значит, ты теперь, племяш, рабочий класс?
— Он самый, дядь Сань, — роняет на ходу Борька.
— А тебе когда в армию-то? — все не унимается с вопросами Саня. — Весной, что ли?
— Весной, — невнятно откликается Борька, уже успев на ощупь выудить из-за линялой, видавшей виды занавески, прикрывающей самодельную настенную полочку с посудой и хлебом на тарелке, здоровенную черную горбушку. Аппетитно жует ее, пережидая, когда уйдет, наконец, незванный гость, а самому уже вспоминается вчерашний фильм — как тот парень, которого никто не любил поначалу-то, ох и играл же на гитаре! Песня такая чудная… Борька жует хлеб с каким-то остервенением, сочувствуя парню, глотает, снова вгрызается в горбушку, а сам уже не ощущает ни вкуса хлеба, ни того, что он вообще ест что-то, и сколько он так сидит — не помнит тоже, не думает об этом, только тот парень с гитарой да песня его и не выходят из головы. Борька представляет, как сам бы сыграл ту мелодию, и что же это он вчера-то, после кино сразу, не попробовал наиграть ее, а теперь вот уже и забылась концовка. «A-а, было поздно…» — вспоминает он. Мать и без того грозилась отнять гитару: много, мол, бренчишь, из-за этой гитары и школу бросил. «И ведь отнимет», — весело ужасается он. Матушка у него такая! Как что найдет на нее.
Он слышит, как хлопает коридорная дверь — видно, ушел этот, что расселся тут и приставал с глупыми вопросами. И Борька тотчас откладывает горбушку и, шлепая огромными ножищами по холодному полу, идет в свою боковушку.
Гитара всегда поначалу кажется ему легкой, какой-то игрушечной. Еще бы, хмыкает Борька про себя, весь день же только то и делаешь, что таскаешь на себе многопудовые кислородные баллоны. Гитара уже склеена вдоль и поперек. Только и радует глаз, что вся в наклейках — до одури похожие одна на другую открыточные девы. Старая гитара… Отец хвалился, что игрывал на ней, когда еще в женихах бегал!
Борька ухмыляется, никак не представляя себе отца женихом, и мягко трогает струны.
О жизни в философском значении этого слова Борька не думает. Тут и думать нечего, считает он, живи и живи, раз ты живой. Говорит, что не понимает, для чего ему так шибко может понадобиться школьная грамота, Фонвизин там или Мичурин. Другое дело — смастерить спутник! Но тут у него своя точка зрения: школа не поможет, твердит он матери в свое оправдание, если у тебя не варит котелок и ты путаешь сопротивление с конденсатором.
Позапрошлой осенью Борька первый и последний раз сходил в вечернюю школу. Высидел только один урок — геометрию. Его поразило, что вела этот урок та же «учителка», что и в дневной, когда он остался на второй год. Взрослые парни и мужики с залысинами смотрели на молоденькую учителку, не скрывая своего мужского интереса к ней и, как видно, мало думая о том, почему две параллельные прямые никогда не пересекутся, сколько бы их ни продолжали.
Отец дома, по старой привычке, схватился было за ремень, но Борька беззлобно крутанул ему руки, вырвал ремень и вышвырнул его в форточку, под осенний проливной дождь. Отец ушел на кухню и просидел там до часу ночи, а мать все шипела на него, чтобы он не травил душу ребенку. Утром насупленный, не погасивший обиду, отец подвязался бельевой веревочкой и повел Борьку в профессионально-техническое училище. По счастью, в плотницкой группе был недобор, и его записали туда безо всякого.
Молча принявший такой поворот в своей судьбе, Борька исправно ходил в училище несколько дней, а потом спросил себя: «И вся эта муть нужна мне?» Какой, дескать, прок от учебы в плотницкой группе? Кормежка бесплатная да форма? Так он и без того сытый и не голый. А косяки, рамы да разное там настилание полов, чему учили в группе, его интересовали столько же, сколько, к примеру, отцово огородничество. Что есть — что нету. Отцу с матерью надо было позарез, чтобы он записался в это самое ПТУ, он и уступил, сходил и записался. Кто виноват, что определили его, как в лотерее разыграли, не куда-нибудь, а именно в плотницкую группу? А у него, может, к этим топорам и долотам душа и вовсе не лежит. И он все более открыто стал заявляться домой средь бела дня, когда в ПТУ наверняка были занятия. Скидывал молча обувь и, минуя всякие разговоры с отцом или матерью, скрывался в своей мастерской. Только шасть туда — и нет его: хоть стучись потом, не стучись — Борька не откроет. Пока не проголодается, идол упрямый. А так как он в своем училище успевал, как правило, отобедать и только потом уже исчезал до следующего дня, то ждать Борьку приходилось до вечера. А какие вечером разговоры с ним на серьезную тему? На телевизор, как всегда, явится полдома, да еще из родни кто-нибудь, тут уж сиди и помалкивай, делай вид, что в семье у тебя все ладно, и слова поперек Борьке не вздумай сказать, спокойнехонько лежащему у себя в боковушке на диване перед крохотным экраном персонального, видите ли, телевизора, который смастерил сам. К тому же редко кто удержится из вечерних этих гостей, чтобы вполголоса, но достаточно громко, так, что слышит сам Борька, не похвалить домоседа-мальчишку, делающего полезные для семьи вещи.
Как уж после таких разговоров подступиться к Борьке с вопросом, почему это он опять удул раньше времени из своего училища, — просто язык не поворачивается ни у отца, ни у матери тем более. А утром, не успеешь моргнуть, уже и нет его. Крикнет мать вдогонку: «Ты почему так относишься к своей учебе?» — а он уже из-за двери ответит: «Разве ты не видишь, что я бегу туда чуть свет?»
И все эта мастерская, вздыхала мать, с разной ерундой в ней. Борька так обставил бывший ее чуланчик — провел туда свет, достал где-то неоновую трубку для освещения, поналадил полочек, на которых разложил вперемежку с журналами «Радио» всевозможные сопротивления, паяльники, обмотки… словом, черт-те что! И все бы ничего, да попасть теперь в каморку без Борискиного на то позволения никому не удавалось, что отцу, что матери, не говоря уже про Наташку, которая в электрических этих фокусах вообще ничего не смыслила. Какой-то моторчик с той стороны двери с въедливым натужным вжиканьем открывал ее по сигналу, который умел подавать только сам Борька, тыча спичкой в одну из крохотных дырочек вверху косяка. Как-то без него, вставая по очереди на табуретку, мать с отцом истыкали эти дырки все подряд, попереломав добрый коробок спичек — пытались найти секрет двери, — но моторчик не ожил ни разу, удерживая дверь изнутри на железном запоре.
Так и проканителились с парнем всю зиму, пока не узнали, что из училища его отчислили. А летом написали мать с отцом старшим своим детям, Вениамину и Марии: так и так, просим вашего совета, что делать с младшим вашим братом, сами уже не приложим ума, перепробовали по-всякому. Те молчали долго, а если и писали о чем, то Борькиной судьбы не касались — боялись, видимо, брать на себя эту обузу.
К осени Ивану Игнатьевичу удалось устроить сына к себе на завод — учеником в слесарный цех. Когда-то и старший, Вениамин, так же начинал. Заметно оживился Борька сразу, даже научился просыпаться вовремя. «Давно бы надо было принавадить парня к рабочему ремеслу, — говорил жене Иван Игнатьевич, — а мы все про школу ему талдычили. Какая ему школа, если у него руки по металлу скучают?»
И все было пошло как надо. Да в первый же месяц кто-то из дворовой ребятни подговорил Борьку сделать заводскими шикарными инструментами пару финок. На спор: сумеет он или нет. А Борька что — заводной же парень: это он да не сумеет?! Выбрал подходящее полотно стали, зажал его в тиски — и давай в открытую, в рабочее время обдирать его напильником то с той, то с другой стороны. Мастер подошел раз, подошел два, поглядел на него да и махнул рукой: пускай ширкает для навыка. А когда уже явственно наметился двусторонний ножик — обомлел, кинулся отнимать: ах ты щенок такой!
Тут Борька и взбеленился, как про щенка-то услышал, и нет чтобы отдать эту злосчастную финку мастеру — и от греха бы подальше, — он возьми и расслабь тиски, да и потяни заготовку за необработанный конец на себя, а обработанный уже был в ладони у мастера.
Вечером того же дня подкатил к их дому на казенной машине какой-то человек. Отец с матерью как раз сидели за столом, ели не ели, пили не пили — все говорили, как нарочно, о Борьке, будто был он у них единственным, а не четвертым в семье. Назвался приехавший председателем месткома Борькиного цеха. Побеседовал на разные отвлекающие темы да и объявляет: сынок ваш сидит пока что в запертом кабинете; если попросит у старого мастера прощения, а вы, как родители, со своей стороны оплатите ему больничный — все дело тогда и замнут, не станут губить парню молодость, а уж коли он будет упрямиться и вообще вины своей не признавать, то не век же держать его в кабинете, придется и милицию вызывать.
Спохватились они — и мать, и отец, — в чем были кинулись на завод: «Боренька, не губи ты себя, попроси прощения, ну чего тебе стоит — язык отвалится, что ли!» Мать в слезы, отец тоже не знает, что и предпринять, а парень упрямо мотает головой: пускай тот сначала за щенка извинится. Ну не идиот ли, что ты с ним будешь делать! У председателя месткома терпение лопнуло. «А ну, — говорит, — забирайте этого ковбоя отсюда, и чтобы духу его в цехе больше не было!»
На том и кончилось Борькино слесарничанье. Сидел дома почти целую зиму, и лишь когда начались в семье разговоры о проводах в армию и связанных с этим затратах, он сам устроился в кислородный цех грузчиком. Сразу и успокоились отец с матерью, надеясь, что их Борька наконец-то прочувствовал свою ответственность перед жизнью.
И вот он дома уже как гость — никто его не трогает, не пристает, и вечерами после работы к нему к боковушку набиваются разные приятели, которых та же мать раньше гнала в три шеи.
Как всегда, Борька берет гитару, и его пальцы делаются удивительно живыми и послушными. Они будто сами собой складываются, на мгновение как бы прилипая один к другому, и по два, и по три, и всевозможными лесенками, и не просто снуют по размежеванному бронзовыми полосками и перламутровыми кружочками грифу, а незримо выписывают на этой нотной графленке струнную мелодию.
— Боб, — говорит один из приятелей, — вот ты уедешь скоро, а меня так и не научил играть.
Борька сбивается и коротко взглядывает в сторону говорящего, неопределенно пробегает подушечками пальцев по всей длине струн, как бы испытывая готовность их звучать еще и еще, — он чувствует себя виноватым, что обещал, а не научил.
— А чему тут учиться-то? Ты делай вот так, и вот так и вот так!.. — Он заставляет дрожащие от нетерпения пальцы замереть, чтобы дать возможность человеку углядеть узор, какой они обозначили на грифе. — И потом делай это же, но только бойчее и бойчее, — тут же дает он волю своим пальцам. — Чего тут учиться-то?
И мелодия опять заполняет комнату, проникает сквозь двери, и мать на кухне, настораживающаяся всякий раз при паузе, опять успокоенно слушает Борискину игру, и руки ее машинально продолжают делать свою работу. И откуда Бориске знать, что на душе у матери в эту минуту робко теплится надежда на последнего в семье сына, который, как бы там ни было, тоже встает на ноги.
— Да-а, — с завистливостью тянет парнишка, осознавая на виду у остальных, что упрекнуть Борьку не в чем, — ты-то мне объясняешь, я про то ничего не говорю… но я не умею так быстро схватывать, вот в чем фокус!
Борька молчит. Будто и не слышал даже. Только эта мелодия, чистоты которой он добивался уже не первый вечер, и занимает его сейчас; он склонился над гитарой и словно не видит, не знает, как, таясь один
другого, грустят ребятишки о том, что скоро он уедет от них и некому будет и зимой, и весной, и особенно летними теплыми вечерами бренчать вот так, вполголоса, исподволь наполняя их души какой-то светлой отрадой, негласно объединяя в братство.
— Борька, — говорит другой парнишка, — а ты в какие войска хочешь попасть? Просись в десантные!
Борька молчит, смотрит куда-то в зимнее еще, тусклое окно. Не думая о том, хорошо ли, плохо ли, что откровенно подражает одному известному артисту, он старательно переводит свой голос на какую-то бесконечно простуженную хрипотцу, и парни оживляются, иные даже слегка бледнеют и норовят не встречаться в эту минуту взглядами — так задевает их это Борькино перевоплощение.
А он поет про скалы и суровую мужскую верность. И вдруг в какой-то момент затуманенный его взгляд видит совсем не то вокруг себя: куда-то деваются друзья, не стриженные по нескольку месяцев, с маленькими одинаковыми лицами под нависшими, форсисто начесанными со всех сторон прядями и челками, и нет на них фасонистых клешей, обтрепанных до бахромы, и сам он куда-то исчезает тоже, Борька Комраков, такой же в точности, как и все его друзья, только разве что поздоровее да со званием Короля, как в шутку прозвали его ребята. Нет больше Короля и нет свиты потешной, а все они солдаты, и Борька первым заменяет выбывшего из строя раненого командира.
Вперед! А там… ведь это наши горы —
Они помогут нам!..
А на кухне уже плачет мать. Она тоже вдруг представляет Борьку солдатом, ему теперь восемнадцать, и весной его наверняка призовут, только они с отцом порой забывают об этом — не знают прямо, куда пристроить парня, спихнуть на чужие руки, ругает она себя сквозь слезы, а там, кому нужно, помнят, и придет срок, и поедет остриженный наголо их Бориска в переполненном такими же, как он, вагоне, а в том месте, куда их привезут, неспокойно, и кончится Борькино детство, потому что он почувствует себя солдатом.
— Господи, только бы не убили, — шепчет на кухне мать.
Всю в слезах и застает ее Солдатиха, пришедшая одолжить дрожжей для теста.
— Чего это опять? — Она останавливается на пороге кухни с тем родственным участливым недоумением, после которого отказать ей, за чем бы она ни пришла, просто невозможно — язык не повернется сказать: нету у меня дрожжей, даже если дрожжей тех у самой осталось на одну закваску. — Опять, поди, этот твой рыжий вывел из себя?
Солдатиха прислушивается к бренчанию струн гитары и негромкому гоготку ребят в Борькиной боковушке. Борьку она, сколько тот ее помнит, зовет «рыжим». Он и есть рыжий — весь в конопушках, будто кто шутки ради пульнул в него несмываемой краской из пульверизатора, и на лицо досталось густо, но не сплошь, с просветами, а уж потом он, как бы увертываясь от струи, набычил голову — и вся волосня покрылась темным суриком ровнехонько. Девчонки со всего двора завидовали редкому цвету Борькиных волос. Может, по причине этой зависти ни одна из девчонок рыжим Борьку не дразнила, а пацаны — те, известно, боятся, хоть в глаза, хоть за глаза: у Борьки суд короткий, а рука не по годам тяжелая. Только от Солдатихи он и слышит: «Опять ты, рыжий, свою мать до слез довел! У-ух, и доберусь я до твоих красных косм, битл ты этакий!» Слово «битл» Солдатиха переняла у своей Юльки и произносит его как ругательство. Но Борька понимает, что Солдатиха заступается за его мать — даже не заступается, а заискивает перед ней, подлизывается, на что причин у нее всегда много. И, думая так, в душе и сам во всем на стороне матери, Борька принимает кличку «рыжий» из Солдатихиных уст и потому запросто откликается на нее. «А ну-ка, рыжий, — начинает иногда подвыпившая Солдатиха, когда случается ей посидеть у них за столом, — неси карты: погадаю тебе на судьбу! Рыжий-красный, для девок опасный! — продолжает она, хотя прекрасно знает, что у него с ее Юлькой нет никаких отношений, что он не бегает за ней, как другие, и пока что вообще не собирается. — У рыжих судьба счастливая!» — заладит свое Солдатиха, тасуя карты — сама таки возьмет с этажерки или отец первый не вытерпит, подаст, тоже любит позубоскалить. А Борька хоть и делает вид, что вся эта ворожба нужна ему, как мертвому припарки, однако на улицу или в свою мастерскую уходить не торопится. Топчется у аквариума, рыбок вдруг вздумает покормить — ждет, словом, чего она там накалякает ему на червового короля. Все же интересно. Хотя, если разобраться толком, ничего нового, сколько бы ни раскладывала и в каком порядке, она ему не говорит — все, что насулила в самый первый раз, то и долдонит до сих пор: радость на сердце, большая дорога, свой червовый интерес… Правда, в самый последний раз, на Новый год, Солдатиха выдала еще про какой-то казенный дом и нечаянные хлопоты через бубновую даму. Вот был номер! Борька изумился: ну ты, тетя Зина, и кикимора же, легкая на выдумку! А мать весь вечер потом не отпускала от себя Бориску и льстиво приставала к Солдатихе, что за дом казенный может быть да что за дама такая со своим окаянным бубновым интересом.
Дама-то, как показалось удивленному Борьке, в общем-то, нисколько не испугала мать, а легла ей на сердце самым благоприятным образом — даже поинтересовалась после ворожбы, улучив момент: «Как, сынок, Лена-то Елизарова — учится, работает?» — будто не знает сама про Ленку, будто не встречает ее почти что каждый день.
Он тогда буркнул в ответ что-то невразумительное — ну, был у Елизаровых, так его же пригласили первым делом как гитариста, и он весь вечер играл и был трезвым по этой причине как стеклышко, а когда Ленка, поставив на радиолу пластинку, позвала его танцевать шейк, отказался, смутившись, не потому вовсе, что застеснялся самой Ленки, а потому, дорогая мамулечка, что брюк да ботинок путных у него в тот раз не было. Конечно, он не в претензии — сам виноват: не заработал! Но и намеки разные насчет бубновой дамы пока что явно преждевременны и без адреса, хотя Ленка, может, сама по себе ему и нравится.
А насчет казенного дома не столько с помощью не вязавшей под конец лыка Солдатихи, сколько с добрым участием застолицы было решено, что это имеется в виду скорый призыв Бориски в армию. Мать, все-то помнившая тот случай в слесарном цехе из-за проклятой финки, успокоилась: дай-то бог, чтобы скорее призвали!
И сейчас, когда Солдатиха, перед тем как спросить про дрожжи, с неподдельным сочувствием стала выпытывать у Ани, почему она плачет, та ответила уклончиво:
— Да нет, это я так что-то… А с Бориской пока все в порядке, слава богу. Не ходит никуда, не пропадает до полуночи, как бывало-то. Просто, Зина, слушаю я песню — и плачу. А чего плачу — и сама не знаю.
А Борька все пел у себя в боковушке — про ребят и про горы, которые должны были укрыть их от врага. Солдатиха для приличия прислушивается и, в душе торопясь закончить это затянувшееся вступление перед тем делом, ради которого она и пришла, неожиданно для самой себя говорит еще:
— Сама ты ему повадку дала большую — вот и мучаешься теперь с ним.
Аня знает, о чем говорит соседка, и молчит, чуть кивая головой: верно, верно, да что теперь поделаешь. И Солдатихе бы остановиться и спросить, наконец, про дрожжи, но ее уже привычно понесло:
— Разве я не помню, как он у тебя уросить привыкал? Упадет на пол в общем коридоре и бузует до тех пор, пока мамонька родная не придет и не поднимет, не возьмет на свои рученьки. Ему еще и года не было, а он уже вызнал твой характер, — укоризненно тычет Солдатиха пальцем в Аню. — Я, бывало, слушаю-слушаю, надоест эта музыка, ка-ак выйду в коридор да ка-ак понужну его. Он и замолчит, залупает на меня глазенками своими зелеными, сопли по щеке размажет, поднимется на свои крендели — он же тогда у тебя косолапый был, — припоминает она ненужную, казалось бы, деталь, — и ну давай улепетывать из коридора: боялся меня как огня! Убежит на улку — тихо. Только я дверь за собой закрою — он опять явится в коридор, бухнется на то же самое место и давай выводить по новой!.. Ах ты, думаю!
— Да уж и поругались мы с тобой из-за него, — с поздней виноватостью соглашается Аня. — А он, как бы там ни было, вырос и такой же для меня ребенок, как и для других матерей их дети.
— Его ты любила больше других — больше Маруськи, больше Веньки, даже больше Наташки, — непонятно для чего говорит Солдатиха.
— Так уж и больше… Всех, Зина, жалко.
— А у меня вон Юлька совсем одна, а даю я ей повадку?
Аня улыбается:
— С твоим-то характером…
— А чего мой характер!
Они бы и поругались так-то, да из прихожей, прямо в валенках и тужурке, на ходу протирая запотевшие очки, на всполошный их разговор идет Иван Игнатьевич.
— Здорово, Зина, — говорит он.
— Здорово, здорово, Иван Игнатьевич… Чего же это, интересно, мой характер?
Иван Игнатьевич не спешит раздеваться, переводит взгляд с одной на другую — ситуация в кухне, догадывается он, складывается прямо-таки фронтовая.
— Да то твой характер, — успевает еще вставить Анна, уже заметно выходя из себя, — что все дети как дети, а мой Бориска для тебя прямо уж не знаю кто!
Солдатиха в другой раз с удовольствием бы ответила ей, но при Иване Игнатьевиче сдерживает себя.
— Поет, говорю, ваш-то, — кивает она в сторону Борькиной комнаты, — про войну поет… и ведь как за душу трогает, научился же играть на этой гитаре!
— Это его хлебом не корми, — машет рукой Иван Игнатьевич: нашла, мол, чему удивляться. — Ему только дай с гитарой посидеть. По нему — так весь день бы и трынкал сидел.
— Пусть, пусть играет, — примирительно говорит Солдатиха, искоса наблюдая за надувшейся Аней и силясь вспомнить, за чем это она пришла сюда. — Скоро ведь и его проводите. — Теперь она снова пытается разжалобить соседку.
— Проводим, конечно… не хуже людей. — Иван Игнатьевич все не раздевается. — Как только получим повестку — так и готовиться начнем, сахарку закупим, бражку поставим.
— Может, его и не возьмут нынешней весной, а только осенью… — осаживает его жена. — А то обрадовался!
— Ну да, не возьмут… Что он у нас, особый какой?
— Весной, весной и призовут, Аня, — как бы заранее разделяет с ней эту извечную материнскую печаль Солдатиха, — сколько себя ни обманывай, а от этого не уйти.
— Тебе хорошо рассуждать, — вскользь замечает Аня, — у тебя девчонка, а их в армию не берут.
— Да ты и сама вот как-то говорила, что ой бы скорее призывали Бориску в армию! — удивляется Иван Игнатьевич.
— А, — машет рукой Аня, — вы доведете, что и не такое скажешь… Конечно, я не против армии. Пускай послужит, ума поднаберется, дурь из головы выйдет.
— Жалко, учиться не захотел, — досадливо вздыхает Иван Игнатьевич, — а то взяли бы его в техническую часть. Чтобы гражданский профиль потом был. Например, пошел бы после службы киповцем.
— А это еще что такое? — из вежливости осведомляется Солдатиха.
— Контрольно-измерительные приборы. У Бориски талант по части радио, — объясняет Аня, удивляя соседку такими познаниями. — Еще каким соколом явится из армии! Накажу ему, чтобы он без значков не являлся! — смущенно смеется она, выдавая себя, что и об этом-то она давно думает. — Как вон, посмотришь, у других солдат — весь кителек в разных значках. Что твои ордена!
— Сравнила, — хмыкает Иван Игнатьевич, тут же скидывая с плеч тужурку — аж употел за время этого перемирия — и берясь за папиросную коробку с леденцами. — Им же за спорт дают, за успехи по службе.
— Ну да там, конечно, — возражает Аня, — вон тем, к примеру, после тех зимних боев на острове тоже, по-твоему, значки дали?
— Нет, — говорит Иван Игнатьевич и даже раздумывает похрумкать леденцов, прячет коробку в карман, — там все было как на войне.
— Ой, не приведи-то бог, — вздыхает Солдатиха, видимо, вспоминая своего Павла. И чтобы не разжалобить себя еще больше, она поспешно поднимается с табуретки и говорит то, ради чего и приходила: — У тебя дрожжец-то, Аня, нету ли? Вздумала тесто поставить, хватилась — а все чисто, все полки обшарила. В субботу я тебе отдам, в субботу я на рынок с утра поеду, там уж всегда любые на выбор.
3. ПРОВОДИНЫ
День проводов Борьки в армию выпал будний, неудобный. Нет чтобы на майские праздники и призвать новобранцев, заодно бы уж и отметили. А то получалась двойная гулянка. Прямой убыток и перегрузка.
Первомай — это само собой, как и всегда. Таких праздников в году, считай, не так уж много — всего три: октябрьские, майские и День Победы, когда особенно будоражит всех людей. Поэтому Иван Игнатьевич считал грешным делом не отметить каждый раз подобное событие. По давней привычке родня собиралась сначала у них. Вот и нынче после демонстрации заявились — не запылились, пришли один по одному, вроде как попроведать, но уж Аня-то с Иваном Игнатьевичем, чтобы не ударить в грязь лицом и не прослыть скрягами, приготовились загодя — было что и выпить, и закусить. Хорошо посидели, даже на ночь остались.
А второго мая с утра пораньше все потянулись к Аниным старикам — и ближняя родня, и дальняя. Это уж тесть с тещей выручили Ивана Игнатьевича. Разрядили обстановку, позвали в гости. А то сидели бы у Комраковых и другой день, пока не высохло бы в трехлитровых банках, из которых Иван Игнатьевич разливал на кухне по графинам. А ведь хозяевам надо было и на проводины оставить. Повестку Бориска получил еще накануне, но и без повестки было ясно, что парня возьмут с весенним призывом.
Целую неделю щеголял Бориска остриженным наголо. Похоже, ему даже доставляло удовольствие видеть, с каким состраданием смотрели на его голову знакомые парни и девчонки. Такая шевелюра была, всем на зависть, прямо как у артиста, — и на тебе!
Народу на проводы созвали много. Май распогодился, почки на тополях распустились раньше обычного, и уже в самый последний момент, когда стало ясно, что всем в квартире не поместиться, вынесли столы в палисадник.
— Так даже спокойнее будет, — сказал Иван Игнатьевич. — Весь двор на виду.
— А, какое тут спокойствие… — со вздохом махнула рукой Аня, начавшая плакать втихомолку еще накануне.
— Такое, что они же, молодняк-то, с нами за столом рассиживать не будут. Нальют шары — и айда фокусы устраивать. Удивляться не приходится.
— Чего ты мелешь? — досадливо поморщилась Аня. — Какие еще фокусы?
Иван Игнатьевич, поразмыслив, решил не расстраивать ее раньше времени, но тут, как на грех, заявилась в палисадник незваная Солдатиха, и он не вытерпел, навел словоохотливую соседку на разговор, от которого у самого же и защемило сердце.
— Расскажи-ка ей, Зина, — кивнул он в сторону жены, хлопотавшей у столов, — как нынче в армию провожают… Какая теперь мода пошла у новобранцев.
Аня, с умыслом не принимавшая всерьез воркотню мужа, который, как она думала, не хотел тратиться на проводины, снисходительно посмотрела на Солдатиху.
— Господи, ей-то откуда про то знать? Сыновья у нее, что ли, в армии? Разве что Юльку, егозу, призовут… Дак это и то после Бориски.
В другое время Солдатиха нашла бы что ответить языкастой соседке, но сегодня она во что бы то ни стало хотела погулять на проводинах Рыжего Битла, а потому приходилось подлаживаться под настроение Комрачихи. Наверстать можно потом, а сейчас лучше потерпеть, сделать вид, что Аня сказала невесть какое веселое слово, и так-то, тихой сапой, еще загодя оказаться в самом центре события. Солдатихе на этот раз хотелось не столько погулять на дармовщинку, сколько понаблюдать за своей дочерью. Юлька в последнее время была какая-то смурная, и до Солдатихи дошли слухи, что дочка поссорилась с одной из близких своих подруг — с Ленкой Елизаровой из соседнего дома. Да не просто так, а якобы из-за Борьки Комракова. Вот тебе и Рыжий Битл! Солдатиху подмывало теперь увидеть все своими глазами — уж, конечно, на проводины придет и Ленка, которая всю весну не отставала от Комраковой Наташки. Такая, видите ли, открылась вдруг дружба. И вот поэтому-то Солдатиха смиренно улыбнулась Ане.
— Ты как скажешь, соседушка… Что егоза Юлька — это святая правда. Только какой же из нее армеец? Ох, никуда ее не призовут, — с притворным огорчением вздохнула она. — В жены разве что… Так это еще не скоро, поди.
Солдатиха выждала паузу, тщетно надеясь, что Комрачиха подхватит эту тему, разовьет ее до желанного поворота — мол, не так уж и долго ждать, вот Бориска отслужит, и сразу посватаемся. Не тут-то было. Отмолчалась Аннушка, надулась как мышь на крупу. И даже Иван Игнатьевич, на что уж у Солдатихи было с ним всегда полное взаимопонимание, не вымолвил ни слова, ни полслова.
— У меня только у одной во всем доме сын в армии служил! — с гордостью произнесла Аня. — Вениамина же отсюда призывали. А теперь вот и Бориску. Так что никто, кроме меня, лучше не знает, как провожают.
Солдатиха спорить не стала. Правду Комрачиха сказала. Дом у них был небольшой, старой постройки — два этажа и два подъезда. Не то что нынешние коробки. И, как ни дивно, взрослые сыновья были только у Комраковых.
— В те годы, Аня, когда Веню брали, совсем не так в армию провожали, — как можно мягче возразила Солдатиха. — Я же помню.
— Помнит она… Может, лучше матери?
— Я ж не говорю, Аня, что лучше. Но я вот так же сидела рядышком с тобой, а потом все вместе проводили Веню на сборный пункт. Вечером это было. Вернее, посидели мы с часок после пяти, когда Иван Игнатьевич с работы пришел, а уж провожали в седьмом часу. Тихо, мирно. Побеседовали. Шуму-то этого не было.
— Какого шуму?
— А какой нынче бывает. Я уж рассказывала Ивану Игнатьевичу. Я ж осенью крестника в армию проводила. У меня крестник на Гавани жил. С кумой Верой я вместе работала. Так они ночью, ребятки-то, всю ограду кругом поломали, столбы кирпичные повалили — сила-то как у лошадей, а ума нету! — и ходили по улицам, горланили до света. Чтобы, дескать, память была.
Солдатиха осеклась под осуждающим взглядом Ивана Игнатьевича: мол, ты уж и расписала, подготовила Аню, ничего не скажешь, сидит вон сама не своя, не знает теперь, что и делать, не хватало только, чтобы в день проводин Бориску в милицию забрали.
— А мы ж вместе с ними будем! Всю ночь на улке проторчим! — вроде как нашла выход Солдатиха. — Куда они — туда и мы! Нам из палисадника-то во все стороны обзор будет! Да и у нас тут ограда крепкая, железная, ее не свалишь, а прутья в ограде — так их уж давно посогнули.
— Ты лучше, Зина, расскажи, какие письма твой крестник пишет, — ловко увел разговор в сторону Иван Игнатьевич. — И фотокарточки бы показала.
— Ой, и правда! Я моментом! — Солдатиха вскочила и ринулась в дом.
Аня, проводив ее взглядом, подозрительно покосилась на мужа.
— Интересно… Я ниче такого не знаю, ни про какие проводины ейного крестника, про письма да фотографии, а ты прямо так уж все до подробностей изучил.
— Так случайно же! Она у Малюгиных рассказывала. А я с Петром сидел.
— Хм, с Петром… А почему она, интересно, мне ниче не поведала?
— Тебе поведаешь, как же… — нашел довод Иван Игнатьевич. — Я-то и отсоветовал ей. Говорю: даже и не заикайся раньше времени! Она ж, говорю — ну ты то есть! — про Бориску только и думает. Изведется до поры: как да что? Удивляться не приходится.
Аня еще раз хмыкнула, но уже не воинственно, а как бы даже изумленно: такой тактики от мужа она не ожидала. Теперь и Солдатиху встретила Аня потеплевшим взглядом: тоже ведь человек не для себя старается, а о ней, матери будущего солдата, беспокоится.
— Садись, Зина, вот сюда, тут удобнее, — услужливо освободила Аня венский стул, а сама пересела на доску между двух тарных ящиков — вроде скамейки получилось.
Солдатиха уселась с именинным видом и, отодвинув от себя тарелку с холодцом, — не далеко отставила, а чуть-чуть, — разложила письма и фотографии.
— Во, какой орел мой Толик!
— И правда… А наград-то сколько! — восхитилась Аня.
— Значки это, — поправил Иван Игнатьевич.
— Что ли, по-твоему, эти значки каждый солдат может надеть? — с тайной надеждой увидеть и сына таким спросила Аня.
— Нет, не каждый. А кто заслужил, заработал.
— A-а! То-то и оно. Все равно как награда.
Солдатиха, вдруг засмеявшись чему-то, ткнула пальцем в фотографию, где ее крестник был снят в рост.
— Вот теперь сапоги-то какие у Толика стали! Блестят, что твои лаковые! А ведь поначалу-то… — она весело покачала головой.
— А что раньше? — встревоженно спросила Аня, все примеряя к своему Бориске.
— Да такие же были и раньше. Им ведь всем одинаковые выдают. Да только он загваздал их в первый же день и сунул под кровать грязные. Думал, как дома, все с рук сойдет. Мамонька родная обиходит. А там — нет! Другие порядки. Утром старшина дал ему нагоняй. Ну, пришлось чистить самому. Куда денешься? А вечером опять забыл, опять грязные на ночь остались. Мучился-мучился с ним старшина, и наряды-то ему давал в наказание, и чего только ни делал, нет-нет да и опять Толик забудет! Как-то раз подвел всю роту утром во время смотра. Ребята с вечера надраили его сапоги до блеска, в рядок с другими поставили, а он и не видел. Утром горнист разбудил их, вскакивают все, строятся, а Толик мечется — свои сапоги найти не может… — Солдатиха, зная все наперед, засмеялась первой. — Они ж блестят и аккуратно стоят, а он их с вечера под кровать швырнул! Где тут спросонья узнаешь? Так и встал в строй в одних носках. Тут уж над ним похохотали… Теперь, пишет, не забывает. Такой чистюля стал, куда там! Вернусь домой, пишет, так волосы-то до плеч отращивать не буду. Противно, дескать, стало смотреть на молодых дураков, которых на танцах от девчонок не отличишь. Они ж там на танцы ходят, когда им увольнение дают.
«Да-а, армия, она в Борискином возрасте ох как нужна! — подумал Иван Игнатьевич, перебирая фотографии и краем уха прислушиваясь к рассказу Солдатихи. — Я бы так даже раньше их призывал. Раз ты бросил школу, не стал учиться — айда, друг любезный, на сборный пункт. Там тебя живо уму-разуму наставят. И учиться станешь, и работать научишься, и военную службу пройдешь. А то шляются здоровые лбы, бьют баклуши, пить в подъездах учатся да хулиганить. Расстройство от них одно».
Но теперь, как бы там ни было, за судьбу Бориски он особенно не волновался. Самое трудное время осталось позади. Отслужит парень свой срок в армии, профессии какой-нибудь научится — и таких-то уж хлопот с ним не будет. Вот с Наташкой надо думать, что и как, — это да. Тоже решила завихриться. Не выходит у нее из головы эта амурская магистраль. Хорошо хоть то, что именно в тех краях и была Кедровка — родная деревенька Ивана Игнатьевича. И поскольку комсомольскую путевку Наташке не давали — и правильно делали: девчонка еще и школу не кончила и никакой профессии не имеет — решили на семейном совете, что для начала она поедет к деревенской родне, а уж там и до БАМа рукой подать. Рядом с Кедровкой трассу тянули, вот, может, Устин и подскажет, как лучше всего прибиться к строителям.
И все-таки жалко было Ивану Игнатьевичу свою меньшуху. Как ни крути, а самая последняя. Уедет Наташка после Бориски — и все, осиротели, считай, они с Аней, будут куковать вдвоем.
Иван Игнатьевич встал, отошел от стола, сел на валявшийся поодаль старый ящик, повернувшись к Ане и Солдатихе спиной, снял очки и, помаргивая, уставился в просвет обступивших палисадник деревьев в ту сторону, куда должна была уехать Наташка. Отсюда не видно, конечно, ни высоких, со снежными шапками, гор Ивановского кряжа, ни темных вековых лесов, среди которых стояла родимая Кедровка, но Ивану Игнатьевичу казалось, что он хорошо представляет ее. Раскинулась она по обеим сторонам быстрой речки, студеной даже в июльскую жару, а огороды и пригоны выходили к подножию крутых лесистых сопок, которые сливались одна с другой в бесконечную гряду. Скоро там зацветет черемуха, бело испятнает все косогоры, и по вечерам, когда спадет жара, к деревне нанесет ядреный терпкий запах, от которого сладкой болью заходится сердце…
«Ах, как полетел бы я сейчас туда, были бы крылья! — крепко зажмурился Иван Игнатьевич, покачиваясь на скрипучем ящике. — На один бы миг слетать, вот прямо сейчас чтобы! Глянул бы только одним глазком — и можно назад. А то ведь пока соберешься, пока вырвешься отсюда да пока доедешь… Как подумаешь об этом — сразу и не до поездки станет. Вот так и живем. Разлетелись кто куда. И каждый небось обнадеживает себя, что это еще и не жизнь вовсе, а пока что вступление. А ведь в том-то и дело, что это и есть жизнь, которой уж осталось не так-то много…»
Он до того замечтался, ушел в себя, что пропустил момент, когда в палисадник, дурашливо затеяв сутолоку в калитке — видно, маскируя этой игривостью свое смущение перед пожилыми людьми, уже сидевшими за столом, — с гамом повалили ребята во главе с Борькой и Наткой. Даже не оглянулся на них Иван Игнатьевич.
— Кончай ночевать, батя, — ломая голос, деланно важным баском, однако дрожащим, сказал Борька. Парень сегодня чувствовал себя как-то непривычно: не каждый же день ради тебя устраивают такое торжество, когда весь дом — да что там дом, вся улица! — глазеет.
Минуту спустя, когда уже все расселись за столом, Борька обнаружил, что отец по-прежнему сутулится на ящике, все так же спиной к застолице.
— Вы его что — обидели? — улыбаясь с легким недоумением, глянул Борька на мать и Солдатиху.
— Никто его не обижал… — ответила мать таким тоном, который сам за себя говорил, что и она тоже держится из последних сил, того и гляди расплачется.
Солдатиха жалостливо сморщилась, заутирала глаза пальцами, как бы тут же прощаясь с новобранцем, и до Борьки дошло, наконец, что это из-за него отец с матерью расстраиваются. Ну матушка — это ладно, это понятно. На то она и мать. Борька давно привык к тому, что мать принимала близко к сердцу все, любую мелочь, которая хоть как-то была неприятна ему, младшему сыну, не говоря уже про те случаи, когда возникала какая-то опасность. Мать есть мать — это Борька усвоил с материнским молоком. Но вот что и отец тоже слезно волнуется из-за него, своего непутевого, как он выражался не раз и не два, сына, — это было в новинку, даже странно как-то. Он же, батя-то, только и знал, что нотации читать да за ремень хвататься. Борька уж до того свыкся с отцовской ворчливостью — по любому поводу и, как иногда казалось, без всякого повода! — что не представлял себе отца ласковым, тем более вот таким растроганно жалостливым.
Донельзя смущенный этим внезапным открытием, Борька словно забыл о том, что за столом уже собрались гости. Надо бы приветить взглядом и улыбкой ребят и девчат, тоже вдруг притихших, брякнуть что-нибудь бодренькое и первым поднять свою рюмку, уже наполненную Солдатихой, но Борька выбрался из-за стола, подошел к отцу, потоптался у него за спиной и неожиданно для себя присел рядом, на краешек ящика.
За столом и вовсе притихли; если кто еще и звякал вилками, тарелками, накладывая закуску, с праздничным пустословием заводя разговор с соседями, то при виде отца и сына, повернувшихся к столу спиной и так и окаменевших, даже самые словоохотливые недоуменно смолкли.
«Чего это они, Аня?» — взглядами пытала хозяйку родня, но та, в душе как нельзя более довольная таким Борискиным поступком, прижала палец к губам: помолчите вы, бога ради, хоть маленько. А сама сидела как на иголках, так бы и выскочила из-за стола, тоже примостилась бы рядышком с мужем и сыном.
Но нет, не сделаешь, как хотелось бы, сиди и не прыгай, а то только испортишь все. И Аня, страдая, тревожась и в то же время радуясь, напряглась спиной, вся ушла в слух, и ей удалось уловить невнятные, приглушенные слова сына и отца.
— О чем задумался, батя? — с нарочитой грубоватой снисходительностью спросил Бориска.
— Да так, ни о чем… — смешался Иван Игнатьевич.
— Гляжу, в одну точку уставился…
Отец покхыкал, поерзал на ящике: тоже в диковинку было ему такое внимание сына.
— Это я, Боря, так просто глядел на террикон-то, — пояснил отец. — На нем уж, на копре, лампочка загорелась. Отовсюду видать, хоть откуда смотри. А тут как раз просвет. Между яблоньками. Я и уставился. Просто так. А думал я, Боря, совсем про другое. Не про шлаки, дьявол их побери!
Бориска засмеялся.
— А гости решили, что ты даже в такой день о терриконе заботишься.
«Зачем же он дразнит отца?» — посетовала Аня, едва удержавшись, чтобы не вмешаться. И тут Иван Игнатьевич мягко возразил сыну:
— Нет, Боря, не о терриконе. Я же сказал тебе. Натка вот на Байкало-Амурскую магистраль собирается…
Борька хмыкнул. Вроде как удивился, что отец не о нем, оказывается, размышляет, а о Наташке, хотя чего о ней и размышлять… Она же на гражданке остается, может жить где угодно и заниматься чем душа желает, а он как новобранец с завтрашнего утра человек несвободный, казенный. Разве не о нем бы и думать?
— Натка дурью мучается, — твердо заявил он.
— Ты что, Боря? Так сказать про сестру родную…
— А пусть не придумывает разную ерунду! На БАМ она, видишь ли, уедет… А кто тут матери будет помогать? Ты, что ли, станешь мыть полы в конторе да и дома тоже?
— А хоть и я помогу. Руки не отвалятся у меня после этого. Как-то ведь выкручиваются другие, у кого детей нету. Или есть, да все в разъезде. Удивляться не приходится. Разве ж вы, молодые, всю жизнь будете держаться за родителей? Рано или поздно откачнетесь. — Отец помолчал, беспомощно помигивая бельмастым глазом. — Тяжело то, сынок, — с притаенным вздохом сознался он, — что как-то враз все это… твои проводы в армию, Наткин отъезд… А там, глядишь, как Вениамин в свое время, сразу после службы подашься куда-нибудь, на стройку какую, на тот же БАМ. И все — считай, отрезанный ломоть. Даже домой небось не заедешь.
Разговор поворачивался желанной для Борьки стороной. Все-таки выдал себя отец, что главная его дума не о Наташке, а о нем, новобранце, герое вечера.
Полнясь незнакомой прежде жалостью и нежностью к отцу, Борька придвинулся к нему еще ближе, помедлил и как бы для удобства — ящик-то узенький, коротенький! — положил отцу руку на плечо.
— Интересно ты за меня рассуждаешь, батя… Как же бы это я смог домой не заехать?! Сказанул! Куда же я еще поеду, если не домой?
— А Венька куда поехал? Так же говорил, как ты.
— Так то Венька! Он же у нас особый, не как все.
— Да уж за ним-то вам не угнаться! — тут же и защитил старшего сына Иван Игнатьевич, а про себя добавил: «Был бы ты, Боренька, в своего брата, так нервы-то я не мотал бы из-за тебя, не болело бы у меня сейчас сердце, как да что с тобой будет».
Против всякого ожидания Борька не полез в пузырь, не надулся, а признался с добродушной искренностью:
— За ним, батя, мне не угнаться, это точно. Венька у нас молоток! Но и я тоже… — Он помолчал, как бы мысленно проверяя, те ли слова хочет сказать отцу. — Вот возьму и выучусь на плавильщика! — вдруг выпалил и натянуто хохотнул Борька, пытаясь преподнести все это таким образом, чтобы нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. — Жалко, в армии нету такой профессии. На шофера можно выучиться, на строителя. Ребята говорили. А вот на металлурга… — И посмотрел на отца с напряженным ожиданием.
Иван Игнатьевич сидел не шелохнувшись. Неужто на самом деле Бориска сказал сейчас про то, что хотел бы сменить отца на свинцовом заводе? Но сказал — это еще не значит, что от чистого сердца, что мечта такая появилась. А ну как все это лишь момента ради придумал Бориска на ходу, вот сию же минуту, чтобы вроде как утешить отца?
— Думаешь, я это так, заливаю от нечего делать, да? — не выдержав отцовского молчания, с укором спросил Борька.
Иван Игнатьевич зябко поежился, впервые почувствовав, какой холод настаивается в густеющем вечернем воздухе. «Надо бы все же в комнатах устраивать гулянку, — вяло подумал он. — Ну что за удовольствие сидеть под открытым небом? Это все Аня заполошная придумала. Охота ей, видишь ли, чтобы народу было больше. Пускай, мол, хоть весь дом приходит. Конечно, в комнатах шибко-то не разместишься, это верно, — будто не слыша Борькиного вопроса, размышлял Иван Игнатьевич, чтобы увести себя от этого негаданного разговора с сыном. — Да только, если разобраться-то, можно было бы вообще не устраивать никакой пирушки, — неожиданно для себя пришел он к выводу. — Глупость все это, и больше ничего! Скажи на милость, обычай выискался… Нет чтобы просто посидеть в семейном кругу. Спокойно. Без шума. Без пустых криков».
— Ты думаешь, — голос у Борьки уже и задрожал, — я совсем безнадежный, что ли? Ни на что не гожусь, да?! Только баллоны таскать!..
Теперь уже все гости расслышали эти слова Бориски, и Аня, встревожившись не на шутку, поспешно встала из-за стола, пытаясь лукаво и бодро подмигнуть Солдатихе: мол, ну-ка я вмешаюсь да прогоню их за стол, хватит, хватит секретничать, а то гости скисли!
Наташка заторопилась вслед за матерью.
Они взяли в кружок отца и сына.
— Ну, вы чего это? — вроде как беспечно улыбаясь, спросила Аня.
— Люди уже с полными рюмками сидят, а вы тут… — подпела Наташка.
— И мы сидим! — отрезал Борька, явно недовольный тем, что им с отцом помешали. — А кому надоело сидеть, пусть уходит!
— Ленка сейчас уйдет, так будешь знать! Кому интересно смотреть на твою спину?
— А чего моя спина? — сразу переместившись при упоминании Ленки, уже отходя и начиная улыбаться с прежней беззаботностью, хмыкнул Борька. — Спина что надо! Гвардейская, как сказал военком.
— Этому бы гвардейцу да ума побольше, — ласково сказала Аня и, присаживаясь рядом на корточки, провела рукой по колючей, остриженной наголо, Борискиной голове.
— И насчет ума не боись, мамуля! Это вон батя считает…
— Я ничего такого, сынок, не считаю, — помягчевшим голосом проговорил Иван Игнатьевич. — Разве же я тебя хочу обидеть? Что ты! — и сделал движение, будто собирался, в свою очередь, тоже погладить Борьку, но осекся, застеснялся, не донес руку до Борькиной макушки, уронил вниз и поспешно полез в карман за нюхательным табаком, сыпанув на корявую, изъеденную работой ладонь больше обычного.
— Это еще что такое?! — с притворным возмущением ахнула Аня. — Опять за табак принялся?! — с шутливым напором напала она на Ивана Игнатьевича, хорошо понимая сейчас, что только так и надо отвлечь отца и сына от серьезного разговора, к которому оба они еще не готовы. Вот сядут за стол да выпьют как водится, а потом еще будет вся ночь впереди и раннее утро, когда пойдут провожать Бориску на призывной пункт, и за это время они еще успеют излить друг другу душу.
— Да пускай, мам, нюхает! Тебе жалко, что ли? — заступился за отца Борька. — Сегодня я парадом командую! — Он легко засмеялся и снова обнял отца, но теперь уже открыто.
Иван Игнатьевич, счастливо притихнув под рукой сына, забыл про табак, машинально стряхнул его с ладони и тоже с легким сердцем сказал:
— Я же ведь как, Боря… Я же совсем не думаю так, что ты у меня ни на что путное не годный. Что ты! Я наоборот про тебя думаю. Если б не думал, разве бы я разрешил тебе переоборудовать кладовку под мастерскую? Мать вон сколько раз ко мне приставала: чего Бориска там попусту возится со своими радиодеталями? Баловство одно. «Мне кладовка по хозяйству нужна, кастрюли некуда ставить», — передразнил он Аню. — А я каждый раз твердил ей свое: ничего не попусту, ничего не баловство! Не надо мешать парню. Может, у него талант по части радио. А свои кастрюли ставь хоть на голову себе.
Иван Игнатьевич засмеялся, но Аня возмутилась, уже не столь и шутливо:
— Да нужна она мне была, эта кладовка! Мне кухни за глаза хватит. Ты сам же и ворчал, — уличила она мужа, — что тебе починкой заниматься негде, ты ведь для себя мечтал отвоевать эту кладовку, а я тебе не давала! А что касается Бориного таланта по радиочасти, — мать погладила сына по коленке, — то не я ли первая сказала об этом Солдатихе?
Иван Игнатьевич не нашелся что и ответить; он машинально оглянулся назад, на застолье, и Солдатиха, судачившая с соседями, только и слышавшая краем уха, что Аня помянула ее имя, готовно откликнулась взглядом: тут я, тут, говорите, приказывайте, сегодня я вся ваша.
— Тети Зины еще здесь не хватало, — буркнула Натка. — Может, все же к столу пойдем? А то прямо захвалили своего Бореньку… Между прочим, я тоже уезжаю. И еще неизвестно, когда вернусь домой, — в ее голосе засквозила обида.
Борька между тем успел переглянуться не только с Ленкой, но и с Юлькой. «Сидят, куда они денутся, — с неожиданным для себя равнодушием подумал он. — А вот у Натки никого нету, ни одного парня… То есть, вообще-то, нашлись бы, стоит ей только свистнуть, да вбила себе в голову, что никто ей не нужен, кроме Валерки. Свет клином на нем сошелся. Встретить бы мне хоть раз этого типа! Я бы ему живо растолковал, каких девчат любить надо».
— Вообще-то, верно, — Борька поглядел на отца и мать. — Чего вы тут все обо мне да обо мне?.. Давайте и Наташку заодно проводим! Отметим, так сказать. Пусть она едет, куда хочет. На БАМ — так на БАМ!
— Ну да! — запротестовала мать. — «Пускай едет»… С печки на горшок!
— Ей надо поехать, — упрямо сказал Борька, пряча взгляд от сестры и вызывая в ее душе смятенное чувство.
Отец с недоумением пожал плечами: ведь только что, минуту-другую назад, сын доказывал, что Натка мучается дурью…
— Ой, не пойму я вас! — сокрушенно махнул рукой Иван Игнатьевич. — У каждого семь пятниц на неделе. Исключительные, надо сказать, баламуты! Удивляться не приходится.
— А ты, пап, давай со мной, а? — тронув рукой плечо отца, предложила Натка.
— Чего — с тобой?
— Ну, вместе бы съездили.
— На БАМ?!
— Да нет. К твоей родне. В Кедровку. Ты же сам говорил, что БАМ от них недалеко, за хребтом. Погостим, и я дальше поеду, а ты — домой.
Аня, озабоченно насупив брови, что-то прикидывала.
— А и правда, отец… Съездил бы уж, раз такое дело. — В ее душе затеплилась надежда, что Наташкина сердечная хворь выветрилась бы по дороге в Кедровку, и она вернулась бы домой вместе с отцом. — Вот как только тепло установится, бери отпуск и поезжайте.
— Ага, придумала… — Ивану Игнатьевичу даже боязно было представить, что это и впрямь возможно. Только растравишь себе душу бестолковым разговором, а потом живи и мучайся. — Я, конечно, съездил бы с удовольствием. Уж столько лет не наведывался на родину. С браткой Устином повидаться охота. На родные места глянуть… — Он снова, как и до разговора с Борькой, уставился в прогал яблонь, словно пытаясь хоть отдаленно увидеть Ивановский кряж. — Но нынче опять не получится, — вздохнул Иван Игнатьевич. — Не разорваться же!
— А чего тебе разрываться? — настаивала Аня.
— А то, что и других тоже надо бы проведать.
— Кого это «других»?
— Господи! Да Вениамина с Зинаидой, Марию с Наумом. Кого же еще-то?!
У Солдатихи, хотя она и крепилась, терпение лопнуло.
— Чтоб вам провалиться! — шутливо напустилась она на Комраковых. — Семейный совет открыли, а! Гости, понимаешь, ждут-пождут, вино в бутылках киснет, а они тут заседают, видите ли…
— И правда, Зина! — виновато улыбнулся Иван Игнатьевич. Но, глянув на часы, нашел довод: — Так ведь еще восьми-то нету! Без одной минуты! А мы всех к восьми приглашали. Чего это раньше времени-то уселись? — с деланной строгостью Иван Игнатьевич пошел к застолью. — Ишь, как плотно! А мне, значит, опять со своей старухой рядом?
— Это кто, кто старуха?! — подоспела и Аня, подтыркивая его сзади.
Иван Игнатьевич ловко увернулся и, смеясь и веселя гостей, готов был уже и обежать вокруг стола, но времени и впрямь было много, и он, озаботившись, деловито сказал:
— Боря, сынок, давай-ка сюда переноску, мы ее на яблоньку пристроим и лампу двухсотку вкрутим. А то что это за гулянка в потемках? Правда, доча? — и он обхватил руками за плечи Натку и Борьку, крепко прижал их к себе, на мгновение уткнувшись лицом в ее волосы, а потом отпихнул легонько, как бы расставаясь с ними ненадолго, но руки его опустились не сразу — висели какое-то время в воздухе, словно привыкая к пустоте.
4. ИВАНОВСКИЙ КРЯЖ
Проводив Бориску в армию, мать не на шутку занедюжила. Сначала жаловалась на боль в руке — ну, к этому-то все уже давно привыкли; потом у нее стала неметь поясница, не давала ни согнуться, ни разогнуться; а когда вдобавок ко всему забархлило и сердце, врачи уложили ее в больницу.
Об отъезде Наташки на БАМ нечего было и думать. Все заботы по дому легли на нее. А тут еще дачный участок — через день приходилось ездить за аэропорт, в пойму Каменки, поливать грядки и лунки, которые по весне мать успела наделать. Вечерами же, когда отец возвращался с работы, они наведывались в больничный городок, к матери.
Отец частенько принимался утешать Наташку:
— Не горюй, доча! Вот мамка поднимется — и мы вместе с тобой двинем в Сибирь! Манукян обещает мне отпуск дать летом. Я ж ни разу летним времечком не пользовался. А тут запала мне, доча, в голову думка… Пока все живые-здоровые, думаю, все мои братовья, родные, двоюродные, тетки, племяши, надо повидаться, проведать. А то потом поздно не было бы…
— Летом и ехать нечего на БАМ, — твердила свое Наташка. — Там полный набор будет. Как же, будут меня там ждать!.. Лето — самый сезон. Даже поварихой — и то не примут.
— Примут! А не примут — им же будет хуже. Вернешься домой. Школу закончишь. А там, глядишь, и в институт поступишь…
Наташка фыркнула: хорошенькое дело, так и БАМ без нее построят! Но фыркай не фыркай, а ничего не попишешь. Больную мать не бросишь.
Только в конце августа, когда спала жара, Аня оклемалась мало-мало. Будто подслушав разговоры отца и дочери насчет совместной поездки в Сибирь, она сказала им без всякого предисловия:
— Езжайте на вокзал за билетами. Я тут как-нибудь одна справлюсь. Мне Солдатиха поможет, если что. А то дотянете до белых мух…
Иван Игнатьевич, не ожидавший такой податливости жены, замялся, переглядываясь с Наташкой, и, стесняясь своей ласковости, погладил Аню по плечу.
— Ты, мать, за нас не волнуйся. Себя береги…
А позже, без дочери, Иван Игнатьевич раскрыл жене свой хитрый, как он полагал, план.
— Я потому, Аня, вместе с Наткой решил ехать, что назад ее хочу привезти. Вот увидишь! Пускай она там по лесу пошастает, проветрится хорошенько, на мир посмотрит — вся дурь-то и выйдет из головы. Мошка в тайге злющая, после нее ни на какой БАМ не потянет. Это ей не в палисаднике книжки почитывать… Я, конечно, вообще-то, не против того, чтобы она самостоятельно жить начинала, пусть бы и на БАМе поработала, только ведь ей надо сначала десятилетку закончить. Без школы какой в голове умишко? Сама пока что не знает, чего хочет. Может, через год-то возьмет и поступит на
металлургический, как Люська Малюгина. Чем она хуже Люськи?
— Ох, отец… — покачала головой Аня. — Хоть так раскинь, хоть этак. Тоже ведь не женское дело — металлургия эта твоя.
— А чего, чего не женское? — Иван Игнатьевич уже готов был ввязаться в спор, забыв о том, с чего начали разговор. — Ее же никто не пошлет к шахтным печам или к конверторам. В лаборатории работы хватит. По научной части. Нам ведь, плавильщикам, тоже нет никакого интереса весь век с кочергой стоять, — не то правду сказал он, не то момента ради покривил душой. — Технику надо вперед двигать. Изобретать чего-нибудь новенькое. Чтобы после нас шлака не оставалось…
— Ну-у, запе-ел… Старая песня!
Они бы так-то и поругались опять, надулись бы друг на друга, но вовремя явилась Наташка, да не с пустыми руками — ей удалось достать два билета на ближайший поезд.
Не догадываясь о плане отца, Наташка собиралась основательно. Она побросала в чемодан все свои немудреные вещички.
— А как же с пропиской? — вспомнила она в последний момент. — Мне выписаться надо отсюда, чтобы на БАМе прописали.
— Так это не сразу, — сказал Иван Игнатьевич, не моргнув и глазом. — Надо сначала там устроиться. С жилплощадью определиться. А потом я схожу в ЖЭК и выпишу тебя.
— Жилплощадь у них там известная, — проворчала мать. — Палатки.
— Ну, тем лучше! — бодро заступился за Наташку отец. — Может, и прописываться не надо…
Всплакнув перед отъездом, Наташка немало удивилась, что мать вроде и не расстраивается. Даже приревновала ее к Бориске — когда того провожали, так мать почти потеряла сознание.
В вагоне, однако, высохли слезы и у самой Наташки. Забыв про все на свете, она ткнулась к окошку с намерением проторчать у него всю дорогу. Это была ее первая, если не считать пионерских лагерей, дальняя поездка.
Хоть и прожила Наташка на Алтае все свои семнадцать лет, но гор настоящих не видывала сроду. Лысые унылые сопки сгрудились вокруг их города, уместившегося в небольшой долинке, да щетинились там и сям в пойме Каменки изреженные тополевые куртины.
Правда, километрах в семидесяти начались отроги хребта, где природа была уже совсем иная, почти сибирская, но и те доступные места — там построили рудник и фабрику — давно перелицевал человек. Как-то ездили туда всем классом, но только намерзлись в голых верховьях гор, где сквозили по вырубкам ошалелые ветры.
— Вот погоди, доча, приедем к моему братке Устину, — нюхая табак, заговаривал с нею отец, — тогда и увидишь настоящую тайгу. Красота вокруг Кедровки исключительная! Одно слово — Сибирь. Удивляться не приходится. Правда, теперь там ГЭС одну за другой поднимают, заводы строят, фабрики, БАМ повели, техники понагнали, народ валит со всех концов. Поглядишь вон по телевизору, почитаешь газеты…
В маленьком районном городке, где заканчивалась железнодорожная ветка, им предстояло поймать попутную машину, чтобы уехать в Кедровку. То ли не доверяя своей памяти, то ли из желания пообщаться с местными жителями, почти земляками, на которых Иван Игнатьевич смотрел повлажневшими глазами, он долго выспрашивал, как лучше добраться до деревни.
Все разузнав, они сели на городской автобус и доехали сначала до окраинного совхоза «XIII годовщина Октября», откуда начиналась дорога в горы. Примостившись на бревнышке моста через быструю речушку, отец и дочь, не говоря ни слова, долго глядели на близко подступавший лес. Темной густой полосой тянулись ельник и пихтач по всему предгорью, изреживаясь на нет лишь на лобастых склонах под самыми ледниками. Сизые верховые гольцы, царапая макушками облака, уходили в запредельную даль, будто не было им конца и края.
Вскоре подоспела машина. Это была молоковозка, и в кабине уже сидел пассажир, поэтому шофер согласился взять только кого-то одного.
— Езжай ты, папа, — сказала Наташка, — а я попозже, с лесовозами. Лучше тебе первому. Я же никого не знаю в Кедровке.
Поколебавшись для виду, Иван Игнатьевич забрался в кабину. Глаза его выдавали, что сидеть на обочине у него уже не хватает терпения.
— Ищи меня, доча, у моих теток, у Анисьи да Феклы. Ихний дом как раз посреди деревни. Да ты спроси у любого — тебе и покажут! Прямо до ворот отведут. Удивляться не приходится — деревня. А Устин наверняка на пасеке сидит, к нему уж завтра с утра махнем, а то, может, и после обеда сегодня успеем…
Наташка осталась одна. Глядя вслед молоковозке, она подивилась тому, что ни разу в жизни не видела отца таким растроганным, взволнованным.
«Жалко, — подумала она, — мамы нет рядом. И Бориски. Да и Марии с Венькой. Они ведь тоже небось не знают толком, какой у нас отец хороший…»
Примерно через час повезло и ей. Задумавшись, она не сразу обратила внимание на машину, остановившуюся рядом с ней. Наташка сидела спиной к дороге, а машина съехала под спуск к мостику почти бесшумно. Да к тому же и речка внизу бесновалась среди валунов.
— Эй, землячка! — окликнули ее из кабины. — Тебе куда?
— Мне в Кедровку, — испуганно вскочила Наташка, подхватывая чемодан.
— Считай, повезло. Залезай, ёкель-мёкель!
Она увидела, что в кабине сидят два парня. Крайний слева, за баранкой, кивнув в ее сторону, что-то сказал другому, на котором была военная форма, и тихо засмеялся. Наташке показалось, что и сказал-то шофер нехорошо, и засмеялся тоже с каким-то намеком, и она, сделав шаг, в неуверенности остановилась. В ту же секунду парень в кителе выскочил из кабины и, заметно смущаясь, взял у нее из рук чемодан.
— Давайте, я его поставлю в кузов.
— А не упадет? — тоже отчего-то вдруг застеснявшись, спросила Наташка.
— Да нет! Я его хорошо пристрою там.
Он ловко закинул наверх чемодан, а потом и сам вскочил в кузов. Там, на длинных досках, выпиравших за открытый задний борт, стояла ржавая могильная оградка с памятником. Наташка от неожиданности слегка подалась назад, а потом ей и вовсе стало не по себе, когда парень в кителе пристроил ее чемодан между памятником и оградкой — чтобы не бултыхался.
Она хотела сказать ему: «Не надо так!» — но от растерянности не могла вымолвить ни слова, и тот, наверху, мельком глянув на нее, видимо, догадался, что получилось все нескладно и надо как-то переиначить.
— Дай мне кусок проволоки, Михаил! — крикнул он шоферу и выдернул чемодан из-за оградки. Повернувшись спиной к Наташке, он долго возился в углу кузова, освобождая место.
— Ты чего там, екель-мекель? — не выдержал шофер. — Хочешь весь тес и оградку на землю свалить из-за чемоданчика? Слышь, Иван? — и он опять засмеялся, подмигивая Наташке. — Садись давай, землячка, чего топчешься!
— Я с краю…
— С краю она! — вроде как возмутился шофер. — А нам, может, охота, чтобы ты посередке сидела.
— Хватит тебе, Мишка, — спрыгивая на землю, сказал Иван. Краснея и хмурясь, он поправил сбившуюся набок фуражку, одернул китель и с явной неохотой полез в кабину. Похоже, он готов был остаться в кузове, на досках, только чтобы не стеснять негаданную пассажирку. Но и с Михаилом оставлять ее один на один тоже не хотелось — этот говорун, дай ему волю, может довести девчонку до слез. — Ну и ботало ты, однако… — вполголоса упрекнул его Иван и, стараясь не встречаться с Наташкой взглядом, сказал ей: — Садитесь, поедем…
— Да ты ко мне-то не жмись, Ванюх! — засмеялся Мишка, когда Наташка умостилась на краю сиденья. — Я ж не могу скорость переключать. Мы ж ехать сейчас будем, а не на месте стоять. Вот чудаки! Да ты захлопни дверцу-то, — сказал он Наташке. — Так и будешь, что ли, висеть на подножке? Ну, дают!
Длинный рыжий чуб, выбиваясь из-под кепки, падал Мишке на лоб; он то и дело, шумно фыркая, сдувал его с глаз, плутоватых, бегающих туда-сюда.
«Зря я с ним поехала», — подумала Наташка о шофере, будто он был в кабине один.
Машина медленно въехала на деревянный мостик, и схваченные скобами бревна тяжко заскрипели. Наташка высунулась в окно кабины и с каким-то азартным ужасом, неведомым ей доселе, смотрела то под колеса, то на клокотавшую речку; ей казалось, что они неминуемо свалятся сейчас в эти буруны, на лобастые угрюмые валуны, но, странное дело, ей словно бы хотелось этого, и она слегка огорчилась, когда машина благополучно миновала мостик.
«Господи, что это со мной? — удивилась Наташка сама себе. — Вот ведь дура-то, нашла чем огорчаться».
Ей хотелось спросить про оградку и памятник, кому их везут, но что-то ее сдержало; она все же уловила, с каким напряжением, перебарывая себя, Иван возился там, в кузове. Видимо, кому-то из его родни в Кедровке и везут, подумала Наташка. Она почему-то сразу решила, что Иван и живет в Кедровке, не в гости он туда едет, а к себе домой, и это обстоятельство как бы помимо ее воли обрадовало Наташку. Какое-то необъяснимое веселье накатило вдруг на нее, и она не сумела удержать в себе этот порыв, не глядя тронула Ивана за рукав и спросила, кивая на непрерывную гряду гор, тянувшуюся справа от нее:
— Как они называются?
— Кто? — не понял тот.
— Эти горы.
— А… Ивановский кряж.
— Ивановский?! — не то восхитилась, не то не поверила она, глянув на него в полумраке кабины сияющими глазами.
— На карте так написано… — невольно отвел он свой взгляд. — А кряж — это по-деревенскому так, а на карте написано «хребет».
Их подкидывало на выбоинах, дорога была донельзя разбита лесовозами, и они то и дело невольно касались друг друга, хотя, чувствовалось, из последних сил старались удержаться на расстоянии, цепляясь за что ни попади. Михаил то и дело переключал рычаг скоростей, беззлобно поругивался и на время забыл про них.
«Ивановский кряж… Ивановский кряж… — повторяла про себя Наташка, мысленно воспроизводя какое-то величавое звучание голоса этого странного парня в кителе, когда он назвал горы. — Надо же! Они все тут Иваны, что ли? — чуть не рассмеялась она. — Мой отец из этих мест… Иван! Этот парень тоже Иван. И горы тоже… Может, в честь гор их так и называли! Или горы уже потом переименовали, потому что кругом одни Иваны?»
— Ты к кому едешь-то, землячка? — наконец, вспомнил про нее Михаил, когда дорога пошла поукатистее.
— К Комракову. Устину Игнатьевичу.
— К кому, к кому? — Мишка даже притормозил, вытаращившись на нее.
Она боязливо повторила, почему-то сразу вспомнив про оградку и памятник в кузове.
— А ты не врешь, екель-мекель? — все не верил он ей, и Иван глядел на нее с какой-то настороженностью.
— Это папин брат. Родной. Я его никогда не видела. На фотокарточке только. И в Кедровке не была. А папа там родился.
— Вот это номер! — присвистнул Мишка. — Едешь в гости, а никто про тебя и не знает.
Он сказал это не в осуждение, а все с тем же внезапным удивлением, но Иван поторопился заступиться за нее.
— Ну и что такого? — одернул он Михаила. — Я вон из армии когда ехал, тоже никому не сообщал.
— Тебя два года не было дома, — возразил Мишка Ивану. — Разница есть. И ты домой ехал, а не к дяде Ивану в гости. Ты был там у них в городе хоть раз? — кивнул он на Наташку.
— Нет…
— И я не был. И представь себе номер, что взял бы и приперся: здрасьте вам, я ваш племяш, екель-мекель!
Наташка покраснела.
— Да чего это ты сегодня? — осадил Мишку Иван. — Вот завелся-то! Говорить тебе больше не о чем, что ли?
Мишка, сообразив, как видно, что девчонка поняла его не так, как надо, поморщился:
— Да я ж не про то… Гостям у нас всегда, конечно, рады. Я не про это! Вот ты чудная какая! — засмеялся он и, наклонившись к Ивану, протянул руку и звучно хлопнул Наташку по оголившейся коленке. — Я тебе по-братски говорю! Я ж тебе двоюродным прихожусь, а ты про то и не знаешь!
Наташка, сердито отдернувшая его руку, в первое мгновение не знала, куда и деваться, хоть выскакивай на ходу из кабины, но при этих словах Михаила обмякла вся и с недоверчивостью глянула на него, а потом перевела взгляд на Ивана.
— Правда, что ли?
— Ну, — подтвердил тот и сконфузился от этого своего «ну». Черные густые брови его почти сомкнулись на переносье, а скулы с резко очерченным подбородком стали еще тверже.
— Твой отец, а мой дядька Иван, — объяснил Мишка, — с моим отцом, а твоим дядькой Устином, родные братья. У них еще есть брат, мой и твой дядька Наум, он в Крыму живет. Разобралась теперь? По старым-то временам, говорят, мы бы с тобой большой родней считались… Как зовут-то тебя?
— Наташа.
— Вот такие пироги, Наташа, — улыбнулся Мишка.
— Надо же, как бывает… — Осознавая эту новость, она уставилась на дорогу, но вдруг, что-то прикинув про себя, быстро глянула на Ивана.
— А Ваньша, значит, будет тебе троюродный, — сказал Мишка, словно догадавшись по ее глазам, о чем Наташка подумала. — Его отец, Аверьян Комраков — тоже, заметь, Комраков! — двоюродным приходился что моему батьке, что твоему.
— Почему «приходился»?
— Да потому, что нету его уже.
— Извините, Ваня, я не знала…
— Девять дней завтра исполнится, — опечалился Мишка и достал из кармана сигареты. Прижав животом руль, он закурил. — А вообще-то, ох и враждовали они с моим отцом! — крепко затянувшись, он сказал это уже как бы весело.
— Почему враждовали? — удивилась Наташка, косясь на Ивана.
— А это, сестренка, длинная песня будет, — пыхнул дымом Мишка. — Приедешь вот к нам, поживешь — сама узнаешь. Расскажут небось… Ты почему раньше-то к нам не наведывалась?
— Да все как-то не получалось, — призналась она, чувствуя, что Иван тоже смотрит на нее. — Папа, конечно, рассказывал… Но он и сам-то к вам не ездил.
— Приезжал как-то раз. Я еще пацаном был. — Мишка помолчал, а потом сказал раздумчиво: — Да-а… Во, жить стали! Про своих двоюродных ни хрена не знаешь. А ты, Ванька, еще обижался, — со смешком заметил он угрюмо молчавшему Ивану, — что между нами такие отношения. Мы ж с тобой и вовсе дальняя родня, вообще могли бы не знаться, так вот получается…
Наташка снова изумленно уставилась на братьев: что же это такое происходит у них там, в Кедровке? От Ивана можно было и не ждать ответа — сосредоточенно глядел на дорогу, словно и не слышал этого разговора, — и она с жалостливостью в голосе спросила Михаила:
— Как же так, Миша? Жить в одной деревне — и не знаться… Ну, мы в городе, далеко от вас. Это совсем другое дело. Плохо, конечно, что не пишем, не ездим, к себе не зовем… Но вы-то тут!
— А мы тоже в разных местах живем, — снисходительно улыбнулся Мишка. — А как же! У каждого свое понимание жизни, екель-мекель. Я, сестренка, давненько уже переехал из Кедровки в город. Ну, не то чтобы в самый город… Выбрал стратегический пункт, — подмигнул он Наташке. — Одной ногой в городе, другой — в деревне. Вот там, где ты сидела у мостика, в этом районе я и живу. А работаю в гэрэпэ. Геологоразведочная партия, значит. Она в Кедровке базируется, а контора — в городе. Вот я и курсирую, екель-мекель. Налаживаю, так сказать, смычку и слияние города и деревни. Ивану вон тоже хотел нынче помочь, словечко за него замолвить, когда он из армии вернулся. Да ведь разве же их, кержаков, научишь уму-разуму? — вроде как пошутил он и засмеялся. — Долдонишь им, долдонишь, екель-мекель, а все без толку.
Иван хмыкнул, улыбнувшись краешком губ, и провел по лицу ладонью, как бы разглаживая его, чтобы хоть на время, ради этой улыбки, согнать с него выражение угрюмости.
— Интересно… — сказал он насмешливо. — Какой же такой толк-то нужен?
— А очень простой — обыкновенный. Чтобы жить хорошо. В достатке и культурно. В полном соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Как и призывают нас к тому советская печать и радио, а также и телевизоры, у кого они есть.
Иван искоса посмотрел на него. Мишка поправил свой чуб, потно прилипший ко лбу, погляделся в боковое зеркальце и, видимо, остался доволен собой. Снова подмигнув Наташке, он продолжал:
— Возьми, к примеру, меня и мою Лидшу, — обратился он прежде всего к собственному опыту, отвечая Ивану обезоруживающе ясным взглядом. — Как мы живем? А вот как. Прежде всего, — он оставил сигаретку в углу губ и, выставив перед собой свободную руку с оттопыренным кверху большим пальцем, загнул этот палец к ладони, — мы нашли свое место в жизни. Это раз. Прямо точно так же говорю, — плутовато улыбнулся он, — как пишут в книжках… Что я конкретно имею в виду? — опять посерьезнел он. — А вот что. Я вернулся из армии, так? Классный водитель танков, екель-мекель! Это вам не фунт изюма. Первым делом выбираю себе невесту. Лидша у меня по всем техническим параметрам… Уж не такая худоба, сестренка, как ты! — хохотнул Мишка. — Ну, об этом потом. Я тебя еще познакомлю с ней, погостишь у нас. Я сейчас про жизнь. Стали мы с моей Лидшей рассуждать. Мне на трактор в колхоз, а ей на ферму к коровам? Не резон. С этим у нас и многие другие справляются. Тем более что новых тракторов не густо, раз-два и обчелся, а лежать на спине под каким-то утилем и ремонтировать ржавые потроха — так далеко мы не уедем. Опять же для Лидши, что приготовлено? На три коровьих гурта в Кедровке, как известно, нету ни одной электродоилки. Все пальчиками, пальчиками за сиськи дергать надо. А это кто хоть сумеет. Почему обязательно моя жена должна тыкаться носом в коровье брюхо? Пишет моя Лидша заявление: так и так, прошу уволить. Председатель, конечно, в клочья его. Тогда она явочным порядком через пару недель не выходит на работу, и все тут. Есть, дескать, у нас трудовое законодательство? Есть, параграф такой-то, пожалуйста. Я сам в город ездил, у юриста был… Ну, председателю куда деваться? Решил отомстить критикой. Сначала «молнию» отгрохали: «Позор дезертирам трудового фронта!» А потом парторг Илья Маркелыч два рядка стихов сочинил, на конторе вывесили. Я их даже вызубрил! — засмеялся Мишка. — Там, значит, так было…
Пусть она знает, что в наш новый быт
Обратный путь ей будет закрыт!
Мы партии обещаем, что получит страна
На стол всенародный продуктов сполна!
— Еще и карикатура была, — сказал Иван. — Драпает твоя Лидша во все пятки, а за нею стадо коров гонится.
— Ага, был такой рисунок, екель-мекель! Я тогда-то и подумал: ну, думаю, теперь моя очередь действовать. С другого фланга. И куда я, сестренка, наметил курс, как ты думаешь?
— В город деранул, куда еще, — усмехнулся Иван, будто спрашивали его, а не Наташку.
— О господи! — поморщился Мишка. — Ну что за серость ваша такая, прямо все на городах помешались. «В город, только в город! Жить без него не могу!» — передразнил он кого-то. — Прямо как сбесились все… Да не в город же я подался, пойми ты, — как бы умоляюще прижал он руку к своей груди, — а в гэрэпэ, а она у нас, между прочим, стоит прямо в Кедровке. Разница есть?
— Никакой. Организация это городская. И живете вы теперь в городе. А Лида — так и вовсе устроилась кассиром в автопарк. Вот и все ваше место в жизни.
— Эхма, темный лес… — Мишка удрученно покачал головой и вздохнул. — Вот скажи, сестренка! Ну что ты будешь делать с такими людьми? Смотрят себе под ноги, дальше порога никакого горизонта не видят, да еще и других оговаривают. А ведь если бы я лично, — Мишка хлопнул себя по груди, — не был патриотом своего края, родной деревни, разве бы я связался с гэрэпэ? Они же как растрезвонили: «Ищем руду, полиметаллы, — так что в скором времени медвежий ваш угол в корне преобразится — станет передовым рудником». А что такое рудник? Это и есть город. Так я понимаю. Будет, во-первых, клуб — да не клуб, а как минимум Дом культуры. Разные магазины появятся, чтобы за каждой мелочью не таскаться в райцентр. Телевизионную мачту, само собой, поставят, наконец. А то у председателя колхоза все руки не доходят. А прямо посередке, меж домов, травушку-муравушку зальют асфальтом — это же любо-дорого, гуляй себе по тротуару в лакированных корочках! А главное — разная работа на выбор, какую душа желает. С одной стороны, вроде как в городе, а с другой стороны, горы кругом родные, лес, речка…
Наташка что-то сказала Михаилу, они заспорили, а Иван, прислушиваясь к их разговору как бы издалека, вспомнил, усмехаясь про себя, как Мишка разглагольствовал в тот год перед односельчанами: «Вас, земляки, я не призываю, конечно, следовать за мной, поскольку народ вы, хотя и трудящийся, политически и граждански все же недостаточно активный. Но сам — не могу устоять! Буду идти в первых рядах».
Такие зажигательные его речи, как упрекнул Мишку парторг Илья Маркелыч, привели к тому, что вслед за Мишкой подался в город еще один демобилизованный, тоже водитель танков. Колхоз потерял двух классных механизаторов.
Однако кончилось все тем, что Мишка, как родившийся в рубашке человек, выглядел и здесь именинником: председатель Егор Сидорович, надеясь использовать в хозяйстве машину геологов, на которую сел Комраков, ни разу не помянул его имя в том смысле, что теперь Мишка ест чужой хлеб, — напротив, председатель именно тогда же и заказал Илье Маркелычу стихотворный лозунг, который по сей день висел на здании конторы:
На вашу, товарищ рабочий, заботу
Ответим ударной, дружной работой.
«Видели, как надо стимулировать жизнь?» — спрашивал Мишка односельчан и родственников, и ответить им было нечего.
Правда, все-таки нашлись и недоброжелатели, которые были не только против самого Мишки, но и против всей ГРП. Одним из таких людей оказался Пихтовый Сучок, Мишкин отец. «Не знаю, — выступал он на сессии сельсовета как председатель сельскохозяйственной комиссии, — найдут они тут у нас свою руду или нет, а вот ихнее железо, — тыкал он пальцем в начальника партии, — я уже не знаю, куда и девать, по цельной тонне на месте бурилок бросают, а потом в колхозе сенокосилки летят». Про самого же Мишку он сказал так: «Сызмальства деревню не любит — родился в райцентре, в больнице. Ничего-о! Добарышуется — и явится домой, никуда не денется. Пускай побегает его Лидша по очередям, картошку — и то с купли…»
Такая уж странная, оправдывался Мишка, у отца логика. Вроде и не против трактора, а лошадь на него ни за что не сменяет. Книжки по химии читает: «Ну и кудесница, мать честная!» — а как увидит, что пшеницу опыляют с самолета — в исполкоме кулаком стучит по столу: «Это же полное вредительство — всех перепелок отравили!»
Особенно задели Мишку слова отца, что для деревни чужой он человек. «Да я ведь такой же крестьянин, в душе-то, как и отец! — распахивал Мишка свой пиджак, будто хотел убедить всех в этом наглядно. — Я даже русскую печку сбил в своем городском доме, а про хозяйство и говорить не будем — ничем не побрезговал, даже свиней держу, а петух у меня вообще самый горластый на всей улице».
Что верно, то верно. Устроившись в ГРП шофером, Мишка вскоре скупил по дешевой цене две пустовавших рубленых избы, разобрал и перевез их в город — поближе к автохозяйству партии. Из этих двух изб собрал пятистенный дом с наличниками, стоявший теперь под железной крашеной крышей, высокие ворота с резным верхом, крепкий сарай, поветь для скота и разные мелкие строения. Тайком по вечерам гонял машину в отдаленные деревни, искал старинной выучки печника, которые нынче совсем перевелись, — не было таких умельцев даже в Кедровке. Нашел, наконец, одного седобородого, да той силы у старика, чтобы самому сладить глинобитную печь, уже не осталось, пришлось созывать соседей — или, как говаривали в старину, собирать помощь, на которую, видимо, из любопытства пожаловал сам отец. Впрочем, он тут же отказался от работы и уехал обратно, как только наткнулся в углу сарая на газовую плиту с четырьмя конфорками — чешского, неосторожно похвастался Мишка, производства, которую он раздобыл через знакомого снабженца. «Ах ты, в душу и в почки тебя! Цирк тут устраиваешь! — взвился отец. — Про русскую глинобитную почку на всю деревню растрезвонил, а сам газом обзавелся?! Тоже мне нашелся патриот деревенской старины. Чучело ты гороховое, и больше никто».
«Не прав, старик, не прав, — сокрушался Мишка, — мне же, ей-богу, приятно, когда утром проснешься, и в окнах еще сизая сутемень, а теща уже у шестка гремит чугунками, лучину щепит, и горькова-ато так напахнет дымом, и белые морозные узоры на окошке высветятся махрово, а теща по старой деревенской привычке накалит кочергу в пламени, которое уже загудело на всю ивановскую, потому как дрова листвяжные, смолевые, и давай с шипом топить на окошке наледи, и они станут враз глянцевыми, что твои петушки из сахара, и запереливаются от огня из печки…»
Он и впрямь еще с детства любил эти ранние минуты, когда лишь треск смоляных поленьев да какое-то вкрадчивое тиканье ходиков наполняют избу, перебивая сонное дыхание людей, а на улице, в стылом ломком воздухе, только-только еще прокричал петух, и в его властном зове чудилось всегда что-то древнее и неизбывное, чему Мишка не знал названия, но что и неопознанно он любил до тревожащего покалывания в сердце…
— А, пускай говорят, кому что взбредет в голову! — поспорив теперь с Наташкой, махнул он рукой и прибавил скорости. От неожиданности Ивана слегка откинуло на спинку сиденья. — Мишка — такой, Мишка — сякой!.. Правильно, так мне, дураку, и надо, чтобы не лез первым, екель-мекель. И ведь ты скажи, сестренка: сколько ни зарекался не выскакивать, когда тебя не спрашивают, — так нет же, неймется! — усмешливо посетовал он, что характер у него в этом смысле никудышный. — К примеру, однажды понадобилось срочно доставить в гэрэпэ агрегат, а дорога еще хуже нынешней была, мостики под машиной ходуном ходили, подпорки наполовину размыло, того и гляди кувыркнешься… Кого тут силком пошлешь с таким грузом? Каждый увильнуть старается, причину посерьезнее выискивает. К тому же дожди наладились — прямо как из ведра. А буровой агрегат стоит, зараза! Сам, без человека, не едет, хотя и называется самоходкой. — Мишка шмыгнул носом, как бы жалея себя самого задним числом. — Точно и не обсказал бы я тебе сейчас, сестренка, как уж я не гробанулся тогда на этой дороженьке чертовой. Правда, потом было приятно, конечно, — сознался он, стеснительно хмурясь, — когда в юбилейном году ленинскую медаль дали. В президиуме сидел, — он выпрямился и машинально пощупал воротник рубахи, будто проверяя, ладно ли завязан узел галстука. — А батя мой, так тот вообще на днях до того договорился, что назвал меня этим, как его… космополитом. Слово-то какое, вычитает же ведь где-то, Сучок Пихтовый! Природную жизнь, мол, не любишь. А что я ему сделал плохого? Только и сказал: «Ты, — говорю, — тятя, брось-ка с этим сеном возиться, каждый год у тебя драма среди лета — то ли вёдро будет, то ли дождь. Сто раз на день задираешь к небу голову. Сам с этим сеном уже поседел да и мать всю издергал». Это же легко представить, — как бы оправдываясь за те свои слова, сказанные отцу, вскинул Мишка реденькие белесые брови, — семь стогов на зиму надо, да еще и колхозу проценты отдай, хотя ты и пасечник и тебе-то уж можно было бы дать травы и без процентов, так ведь нет же, держи карман шире! Вот они с матерью и пластаются каждое лето, и ломают свою хребтину. А я возьми да и скажи ему по простоте душевной: «Да привезу я тебе пару машин прессованных тюков — и за глаза на всю зиму хватит. Брось ты свои покосы, тятя. Не ворованные же привезу-то, а за деньги выпишу через контору гэрэпэ». Ведь вроде все правильно сказал, екель-мекель. А он на меня тут-то и вскинулся, отец-то. И давай чехвостить. Ну, что ты будешь тут делать? — глянул он на Наташку, опять сбрасывая газ, чтобы она не напрягала голос, если надумает сказать ему в ответ хоть что-нибудь.
Но она молчала. И даже, похоже, не слушала его. То ли дорога с непривычки утомила ее, то ли обступивший вековой лес был ей в диковинку, — отвернувшись, она высунула голову наружу, и Мишке с Иваном не видно было ее лица, скрытого к тому же прядями волос на висках, которые распушились на ветру и казались на просвет невесомо льняными.
Мишка переглянулся с Иваном и тоже замолк. Дорога пошла на затяжной подъем, косо резавший сивер, и Мишка, как на грех, прокараулил на гривке разъезженную колею — задние колеса вынесло юзом, и они долго елозили по отмякшей после ненастья суглинистой насыпке.
На седелке, осушив тыльной стороной кисти взмокший лоб, Мишка тихо засмеялся, будто вспомнил что-то веселое, и ни Иван, ни Наташка не могли сразу взять в толк, к чему относится этот смех. Не отвечая на их взгляды, он крутил баранку явно с легким сердцем, вспоминая тот утренний момент, когда узнал, что Лидия родила ему сына.
Рассеянно глядя теперь по сторонам, на глубоко прояснившееся небо и заголубевший под солнцем пихтач у подножия гольцов, отливавших в сахарных верхушках мерцающим неострым блеском, Мишка пытался представить, как выглядит и на кого похож его новый человечек. «Шутка сказать, — заново переживал Мишка это событие, которым не успел насладиться утром из-за проклятого завгара, — три девчонки подряд, одна за другой, думал уж — все, так и буду всю жизнь в бабьем плену, а тут на тебе — пацан!»
В роддом он позвонил из гаража, прямо из конторы. Утро было как утро. Шел, как всегда, на работу, покуривал себе и думал, что не худо бы выклянчить у завгара парочку новых шин — не то чтобы успели залысеть те, которые он поставил на свой ЗИЛ-157 нынешней зимой, хотя рейсы его были всегда не самыми легкими, но просто болела душа при виде пирамидки из бусых покрышек с губастыми протекторами, объявившихся на складе. Сегодня еще лежат, а завтра, когда и ему понадобятся, днем с огнем их не сыщешь, кусай потом локоть. Однако надежды, что завгар так просто, за здорово живешь, уступит ему шины, не было у Мишки никакой. Он и думать не мог, что через несколько минут судьба повернется к нему другой стороной, и тот же завгар, будто отец родной, милостиво предложит ему не только полный комплект шин, но еще и новые аккумуляторы впридачу.
Все дело было, конечно, в том, что именно сегодня предстоял тяжелый рейс с полным кузовом досок для Кедровской ГРП. А под рукой был только ЗИЛ Михаила. И как раз в этот-то момент, когда завгар безо всяких занаряживал его машину, Мишке и сказали по телефону, что жена его Лида благополучно разрешилась мальчиком.
Еще не до конца поверив в это, Мишка без всякого предисловия, едва лишь приткнув на место телефонную трубку, как бы сокровенно поделился с завгаром:
— Я, может, отпуск у тебя сейчас попрошу, — перевел он дыхание, прислушиваясь к самому себе, к нараставшему глубоко внутри волнению. — И притом на полную катушку, екель-мекель! Прямо с сегодняшнего дня. Как ты расцениваешь?
Завгар и ухом не повел, даже не поднял от стола головы.
— Я расцениваю, — невнятно сказал он, старательно заполняя путевой лист, — что ты где-то хватил вчера лишнего, а проспаться не успел. Но ничего. На Колотушинском подъеме оклемаешься.
— А если у меня сын родился — тогда как?
— Да все так же… То есть постой — как родился?
— Вот это дает! — сказал Мишка, подмигивая молоденькой секретарше, слышавшей его разговор по телефону. — Объясни ему, ради бога, как детей рожают. Совсем закрутился человек, прямо беда. — Он сел в продавленное кресло перед столом завгара, куда ни разу еще не садился до этого, и, положив ногу на ногу, широко и счастливо улыбнулся. — Четыре двести чистого веса, понял? А советское законодательство, конечно, ты хорошо знаешь…
Словом, без ножа зарезал хозяйственника. И если бы не эти шины, пепельно легкие на вид от заводской новизны, Мишке теперь уже оформили бы отпуск. Ведь как-никак на руках будет четверо детей, и все мал мала меньше, и отказать в отпуске не имели никакого права…
— Ты слышь, сестренка, сын же у меня родился! Четыре двести. Ваньшин, значит, и твой племяш. Как, а?! — засмеялся он, не справляясь с распиравшей душу радостью. — Вот новость-то будет для стариков! А то мой батя оконфузил меня уж на сто рядов: все, мол, девки да девки. Их ведь три у меня. Не в его, видишь ли, породу я удался — бракодел!
— А чего ж ты мне сразу-то не сказал? — краснея, улыбнулся Иван. — Я бы тебя поздравил… к Лидии наведались бы.
— Да был я у нее! Утром же сбегал. К ней ведь не пускают! Я ей записочку написал, компоту купил, передал, екель-мекель!
— Поздравляю, Миша, — Наташка тронула его за локоть, и он быстро хлопнул ее легонько по руке и опять засмеялся.
— А я вот возьму, — словно назло кому-то решил Мишка, ударив по клаксону ладонью, — да и назову своего сына Иваном! Получится, что Иваны в нашем роду не переведутся.
— Так не надо… — кашлянув, сипло сказал Иван.
— Как «так»?
— А называть Иваном.
— Это, интересно, почему же?
— А потому, что назло хочешь. Ты же меня недолюбливаешь, чего там скрывать….
Протяжно крякнув, Мишка озадаченно вскинул брови. Такой прямоты от Ивана не ожидал. Да и с чего тот взял? Сроду ничего такого Мишка не говорил никому — ни родне, ни другим людям.
Он привык принимать своего троюродного брата таким, каким тот был, даже не пытаясь представить себе, что Иван мог бы вдруг изменить свой характер настолько, что это был бы уже совсем другой человек, более подходящий, возможно, ему по своей сути. Ведь представить себе такое и пожелать его — значит отказаться от существующего, плохое оно или хорошее. А вот как раз этого Мишке ни за что бы не хотелось, потому что больше всего на свете он любил постоянство жизни, которая его окружала. «Люди и без того быстро старятся и исчезают один за другим, — думал Мишка, — чтобы еще и живых обряжать не в свою шкуру». Он был убежден, что человек определяется уже с зачатья, и именно потому-то все люди вокруг — каждый на свой лад.
Правда, порой Мишке было не по себе оттого, что с чужими — с тем же Генкой Куприхиным — он сходился в любых затеях. Все парни как парни — хоть выпить, хоть на вечерки сходить, — а Иван до армии даже легкого вина в рот не брал, а уж что касается девчат… При любой краснел, как маков цвет. Что сам Мишка, что Генка Куприхин — оба не боялись ни бога, ни черта, и как-то так уж сошлось, что стали механизаторами и служили, хотя и в разное время, в одинаковых частях — и тот, и другой были водителями танков. Иван же, державшийся все время особнячком и любивший без ума лошадей, два года дозорил на заставе и вернулся, ко всему прочему, с тремя сержантскими лычками, в то время как у самого Мишки не было даже одной. «Теперь тебе, товарищ сержант, только хвосты коровам крутить, пусть матка шьет пастушью сумку, — с усмешливым подмигом сказал ему Мишка на встретинах. — Специальности путной нету, а что еще можно делать в деревне?» Но Иван только посмеялся в ответ и, не пьянея, пропел всю ночь высоким чистым голосом, от которого у Мишки в немой боли заходилось сердце, а утром, немало удивив родню, уехал в лесхоз и снова устроился объездчиком — взял себе в обход, как и до армии, кедровый Светлый ключ, славившийся тем, что в прежние годы шишкобои из города не раз привязывали к лесине, ссадив с лошади, особо рьяных лесхозников.
Именно на этой почве, как хорошо знал Мишка, были расхождения с Иваном не только у городских и деревенских браконьеров, но и у всей его родии. Никому спуску не давал. То орехи у безбилетников отберет, то за жерди, без спросу нарубленные, штраф выпишет. А однажды Иван завернул обратно в лес дядьку Аверьяна, своего отца, срубившего несколько пихтовых сутунков для плотницкого дела. «Вези, — говорит, — на то место, где срубил, чтобы в другой раз неповадно было, а то штрафану на всю катушку, тебе же дороже выйдет». Два дня возил отец Ивана обратно в лес те проклятые сутунки, да все в гору, вверх по лощине. И поматерился же он тогда!
А нынче, неделю назад, когда умер Аверьян, Иван переселился на колхозную пасеку, где раньше жил его отец. Но не это удивило односельчан — Иван и в прежние годы помогал отцу заниматься пчеловодством. Как гром среди ясного неба была другая новость: Иван увез на пасеку Любку, жену Генки Куприхина. История эта тянулась давненько. До армии Иван переглядывался на танцах с Любкой, нравилась она ему, но он так ни разу и не пригласил ее, не проводил до дому. А когда, вернувшись со службы, узнал, что Любка вышла замуж за Генку Куприхина, сел на крыльцо и, будто не видя и не слыша никого вокруг, весь вечер глядел на ее дом за проулком. Жила Любка с Генкой плохо, и поэтому никто не осуждал Ивана, когда он отбил свою давнюю зазнобу. Только старые бабки, Анисья и Фекла, тетки Устина и Аверьяна Комраковых, посетовали: «Не мог, безбожник, погодить, когда батьке-покойничку сороковины справят. Девятины хотя бы отвел!»
Поперемывали молодоженам косточки — и все вроде бы забыли про них. Все, да не все. Генка Куприхин кинулся было на пасеку, но Иван выпроводил его в два счета, недаром на заставе служил. И тогда по деревне пополз слушок: Иван Комраков потому-то и на пасеке обосновался, чтобы таскать колхозное зерно! Дескать, на ближних полях орудует. Даже подробности были известны. Якобы на исходе ночи, когда комбайнеры, заглушив фары, вздремывали на полчаса, не больше, мазурик верхом на лошади успевал бесшумной тенью подъехать к одному из комбайнов, нагрести пшеницы в переметные сумы и благополучно отъехать. Замечали его чаще всего в тот момент, когда дело им было уже сделано — пшеница в сумах, сумы на лошади, сам вор в седле. Иные комбайнеры со сна, сгоряча, схватив гаечный ключ, кидались вслед за всадником — но куда там! Для острастки стреляя вверх из двустволки, тот пускал свою лошадь галопом и скрывался в ближайшем ельнике. Устраивали засады, но ночной мазурик то ли всегда был осведомлен, то ли чутьем угадывал, к какому комбайну не стоит сегодня соваться, — всякий раз уходил, полоша ночь выстрелами. И единственной уликой был след просыпанной пшеницы — вроде как ручейком стекала из прорванного угла сумы, — который вел по проселку в сторону Аверькиной пасеки.
Дело дошло до милиции, но поймать ушлого вора так и не удалось. Сочувствуя в душе брату, на которого вдруг пало подозрение, Мишка говорил себе: «Хоть и хреновый у Ваньки характер, многих своими врагами сделал, но чтобы такую напраслину на него возводить… Нет, не его работка! Тут что-то не то…»
И сейчас, когда Иван сказал ему: «Ты же меня недолюбливаешь…» — Мишка укоризненно покачал головой.
— Эх, екель-мекель! Ты, Ванюха, сначала думай маленько, а потом говори! Недолюбливаю я его, видите ли… Да если что, так я бы тебе прямо заявил. В глаза!
Иван пристально посмотрел на него. Наташке показалось, что, если братья были бы в кабине одни, Иван сказал бы Мишке: «Ну, коли так — одним тезкой у меня станет больше!»
Наташка вытянула руку из кабины и на ходу провела ею по махровым изжелта-белым головкам высокого цветка. В лицо пахнуло пряным настоем.
— Ой, какой запах!
— Медуница, — пояснил Иван. — У нас в Сибири ее целые разливы. Идешь, будто по морю пенному.
Иван теперь и на нее посматривал смелее, взгляда не отводил. Наташка хотела было навести братьев на продолжение разговора: что именно так и надо назвать новорожденного — Иваном, но тут в прогале косогора неожиданно открылся ближний луг, на котором стояли высокие избы.
— Уж не Кедровка ли? — спросила Наташка.
— Она самая, — Мишка остановил машину. — Вот здесь твой отец и родился. Историческое место! — засмеялся он. — А это, направо, дорога на пасеку. К моему отцу. К Пихтовому Сучку, как говорят в деревне. А туда, по Светлому ключу, на пасеку к дядьке Аверьке…
— А вы куда дальше поедете?
— В гэрэпэ. Задами. Чтобы по деревне с памятником не маячить раньше времени. Сбросим тес, завезем на кладбище оградку — и махнем на пасеку к бате!
Наташка улыбнулась.
— Мне в деревню сначала надо. Там отец. У своих теток. Его увезли на молоковозке.
— Во, скрытная-то! И молчала ведь… Ну тогда передавай дядьке Ивану привет. Завтра на девятинах все и встретимся.
Иван достал ей чемодан. Наташка подождала, пока машина, с жутко возвышавшимся в кузове памятником, скрылась за деревьями, и медленно пошла в деревню.
Едва лишь она спустилась к мостику, как, сливаясь с клекотом воды, вместе с ветром наплыл на нее монотонно протяжный звук. «Это лес шумит», — догадалась Наташка. Невнятный гул будто толкнул ее в грудь, и она невольно присела на чемодан, но своей потаенностью этот звук поманил ее за собой, и она встала, как заговоренная, полнясь каким-то тревожно-отрадным предчувствием.
5. ПИХТОВЫЙ СУЧОК
О том, что к нему приехали старший брат Иван с дочерью, Устин Комраков не ведал ни сном, ни духом.
Почти безвыездно жили они с Липой на пасеке, наезжая в деревню только за хлебом. Погода на редкость выдалась неустойчивая, и Устин все никак не мог накрыть омшаник, простоявший в срубе с прошлого лета.
Уж и дался ему этот омшаник…
Возьмись он делать его лет десять назад — справился бы с ним играючи, без постыдных передыхов, от которых только больше уставал, до тяжелой дремотной истомы.
Но в том-то и соль, что десять лет назад ему и в голову не пришло хоть бы раз вглядеться вперед с той трезвой рассудочностью, когда человек загодя прикидывает, сколько и чего еще осталось ему в жизни. Значит, не пора была. Вернее сказать, это ему так хотелось тогда думать, что еще не пора. А эти-то десять лет, выходит, и были тем последним запасом человеческого износа, отпущенным каждому от рождения, без которого и жизнь-то уже не жизнь, а так — одно название.
— Слышь, Липа… — как-то несмело позвал Устин жену, опираясь о венцы сруба спиной и легонько почесывая ее, будто это он так остановился, не от усталости вовсе, а чтобы только о чем-то спросить у нее, а уж заодно почесать и онемевшие крыльца. — Как, по-твоему, старый я или ишо нет?
Он старался не улыбаться, но уже в том, как неестественно строго были сомкнуты его губы, как прищурены были глаза, притушавшие до поры шалый блеск, вечно смущавший Липу, да и просто в том, как в минуту посветлело вдруг его лицо, — она не могла не угадать, что опять затевается какой-то подвох.
Только мельком глянув на него, она тут же согнулась над лопатой, жестким тычком ноги, обутой в разношенный сапог, вогнала ее на полный штык в податливо сочную землю, отвалила от кромки цельный пласт, глянцево лоснящийся на срезе, подхватила его, не дала сползти с лопаты и, почти не разгибаясь, выкинула из ямы к ногам Устина.
Ему не видно было ее лица, на лоб она приспустила линялый платок, чтобы застил глаза от солнца, но зато он заметил, как вспыхнула, словно жаром налилась, мочка выбившегося из-под платка уха — белого, сроду не знавшего загара, и, уже довольный в душе, опять поинтересовался все с той же сдержанной скрытностью:
— Так ты чего молчишь-то? Язык проглотила, что ли?
Липа снова кинула ему — теперь уже прямо на сапоги — увесистый целик земли, который пришелся по самому носку, еще более губастому от налипшей и присохшей глины, и распался с мягким
шуршанием.
— Кидай давай. Поди, уж опять перекур? — усмехнулась она, останавливаясь на нем взглядом ровно настолько, чтобы убедиться, что ударила его не больно и он не рассердился.
— А ты дак не умаялась?
— Может, и устала. Так че теперь — давай расстелимся на травке, как отпускники какие-нибудь.
— Да уж неплохо бы небось было.
Устин словно нехотя тронул губы в улыбке, будто ненароком продлевая этот минутный отдых, но уже занявшиеся морщинками подглазья с особенной ясностью высветили и без того провально синие глаза и тем самым выдали его с головой, что так скоро он теперь не уймется. И Липа, одергивая себя в душе, все же не вытерпела — подначила, сделав, однако, вид, что это она осуждает праздных людей:
— Да уж чего и хорошего! Лежать весь день-деньской на брюхе.
— Ну не скажи! Они же и на спину переворачиваются. Было бы им в тягость, так не валялись бы на виду у всех, как пьяные. Эх, елки-палки, нам бы годочков по десять скинуть, — прищурился он, ухмыляясь, — разболоклись бы мы до исподнего и давай шлындать между ульев с дымарями в руках, а в этот бы самый момент да и принесло бы кого-нибудь на пасеку! — Устин коротко хохотнул, искренне жалея, как видно, что эта мысль не пришла ему в голову раньше, когда он был помоложе. — Отмочили бы номер так отмочили!
Внутренне противясь этому соблазну, Липа все же представила Устина и с ним рядышком себя в том окаянном виде, в котором они бывали разве что в предбаннике по субботним дням. И тут же смутилась — покраснела до корней волос: «Лучше-то не мог придумать, лешак лесной!»
Невольно улыбаясь и тая эту улыбку, она сколько-то еще покидала земли из ямы и, выпрямляясь будто затем только, чтобы очистить от глины лопату, не справилась под взглядом Устина — смешливо хмыкнула и, светясь глазами, одернула его:
— Ты че расходился-то? Ну и балаболка же ты! Только бы языком потренькать.
— Хм, вот те раз! Уже и балаболка… — обиделся он. — То говорит: «Кержак тугоязыкий, слова не дождешься», а то опять не нравится, что я шучу с тобой. Ты почему такая-то?
— Да ты шути, кто тебе не велит-то…
Она бы вовсе не хотела урезонить его так, чтобы он потом отмалчивался целый месяц, и, если уж по правде говорить, ей больше по сердцу было, когда глаза его, не полинявшие и к пятидесяти восьми годам, становились вдруг пронзительно ясными. Однако за годы их жизни она привыкла к нему молчаливо работящему, с незлобивым обычным покрикиванием, без которого в деревне мало кто обходится, да и шутил он все больше на людях, до обидного подзуживая ее, когда, хоть плачь, хоть смейся, все равно не замолчит, а еще пуще станет донимать и все как бы с тайной мстительностью. Поэтому и терялась Липа в такие вот редкие минуты, когда Устин был с нею наедине, и не молчал, и не покрикивал шумливо, а вдруг улыбался светло и вроде как даже заигрывал с нею.
— Только дошутишься опять до дождя, — сказала она, поднимая к небу лицо, озабоченная прерванным делом, но и затаенно ждущая какого-то продолжения.
— Ну и че такого, что дождь? Пускай льет. Спрятаться нам некуда, что ли? Заберемся в баню. Будто на свиданку. Как в молодости.
— В баню он заберется… — у Липы опять покраснели щеки. — Ведь смоет всю землю-то с омшаника.
Устин улыбнулся шире прежнего, снял с головы мятую шапку с подвязанными кверху ушами, в которой ходил в любую погоду, почесал в затылке и, тоже взглянув на небо, попутно перевел взгляд на верхние венцы сруба, стоявшего уже под стропилами, словно бы заново прикинул, высоко ли ему кидать эту проклятущую землю на подызбенку, чтобы утеплить к зиме потолок.
— Что мы, нанялись с тобой, что ли? — сказал он и сел прямо на свежую кучу у своих ног, накиданную Липой из траншеи, примостил на колене шапку, выложил из карманов на ее залоснившуюся подкладку кисет с махоркой и клочок газеты. — Жили же столько годов и без этого омшаника. А тут и жить-то осталось… с гулькин нос.
— Опять неладно…
Липа знала уже, что теперь Устин не скоро возьмется за лопату. Она выбралась из ямы, на ходу отколупнула прикипевшую к бревну сруба сиренево-розовую лиственничную серу, которую наляпала перед работой, чтобы не мешала дыханию. Щелкая ею на зубах, пошла растапливать летнюю печку.
— Тебя кто неволил-то? Сам же заладил: давай и давай поднимем омшаник. — Она загремела чугунками, без особого выражения выговаривая Устину за его ветреность. Ей давно надоела эта канитель со стройкой, но обычно она отмалчивалась, принимая и такую работу как нечто извечное, на роду написанное, а тут, под веселое настроение мужа, решила напомнить ему, кто нашел себе это заделье. — Ну, думаю, раз человеку приспичило — давай будем поднимать. Хотя, если разобраться, этот омшаник должен был строить колхоз.
— Ага. Построит он. Ждать придется до морковкина заговенья.
— Дак если не потребуешь…
— Хэх, потребуешь! Ну вот че ты мелешь? — удивился Устин. — Прям, гляди-ка, все бросят там, всю свою конторскую отчетность, и приедут нам омшаник строить. За двести верст машину с лесом погонят, как же. У них там, в конторе-то, лишних людей девать некуда, что ли?
Он имел в виду пчеловодческий объединенный колхоз в дальней степной Бобровке, в которую каждый год ездил сдавать мед. Один бог только знает, говорил он Липе, кто придумал такое укрупнение. Раньше пасека принадлежала местному животноводческому колхозу, но потом все пасеки в округе подчинили какой-то Бобровке. За все эти годы Устин не видал там ни одного улья и, как лесной человек, давался диву, где бы это в степи, голо обомкнувшей со всех сторон Бобровку, могли расположиться пасеки, да не просто две или три, а в таком изрядном количестве, чтобы сразу стало ясно, что это и впрямь пчеловодческий колхоз. К тому же совсем рядом, в нескольких километрах, находился областной город с дымными трубами, и пчелы могли брать тут взяток разве что на прилавках магазинов. Так что со временем у него невольно сложилось впечатление, будто все конторское начальство, кончая бухгалтерией, — это и есть головной пчеловодческий колхоз.
— Дак ведь раньше-то, — не сдавалась Липа, — такого сроду не было. Улья делай — сам. Дом себе строй — сам. А корм для казенной лошади? Мало того, что и сено самому приходится ставить, так еще ходи и выглядывай, когда и где колхоз соизволит отвести тебе пожню. Опять же только под проценты. Стог себе — стог колхозу. А теперь вот еще и омшаник…
«Так-то оно так, — молча согласился с нею Устин, — хотя насчет сена могла бы и не прибедняться». Когда это они, интересно, отдали колхозу хотя бы один стожок? Что-то не припомнит он такого случая. Других, посмотришь, и впрямь прижимают — свези государству, что положено, раз условие такое было. «Того же Аверьку взять, — вспомнил он о своем куме, — вечно мараковал, бывало, сколько стогов ему нужно ставить, чтобы и совхозу-то отдать и чтобы своей скотине хватило на зиму. А нас бог милует, чего зря трепать языком».
Правда, здесь им просто подфартило, иначе не скажешь. Пасека стоит почти у самой трассы, которую леспромхоз ведет к новым делянкам, и дорога тут всю зиму накатана до глянца, машины из города снуют по ней день и ночь, — вот колхозное начальство и уговорило Устина присмотреть за их сенцом в окрестных ложках, а то как бы оно не уплыло. А чего же не присмотреть, если колхоз согласен скостить за это проценты? Собственно говоря, совсем перестали брать с него сено, разумно рассудив, что несколько десятков скирд и стогов дороже, чем те три стожочка из травы осоки, которые дал бы им Устин по процентам.
Так что с сеном у них большая забота отпала. Да и про все остальное Липа могла бы тоже не говорить. В хорошие годы, когда медосбор высокий, платит им контора большие деньги — до полутора тысяч на двоих получают в год. И тут вроде бы грешно роптать, если и приходится иной раз постолярничать да поплотничать. Было бы из чего сделать — вот ведь что самое-то главное. А то живут в лесу — а дерева нет.
Вернее, дерева полным-полно, да ведь не каждую лесину спилишь. Это лишь Аверька брал где хотел, на какую глаз не положит. Уж и повоевал он со своим Иваном. Вот кто в комраковскую-то породу удался — племянник Ваньша, любимый крестник. А сам Аверьян, видно, по материной линии унаследовал свои повадки и характер. И ведь надо же так: оба, что отец, что сын, любили лес до беспамятства, только один переводил его на столярные поделки, а другой — берег пуще глаза.
А впрочем, как говорит брат Иван, удивляться тут не приходится. Среди ближней родни Комраковых тоже полный разлад в этом смысле. Из трех родных братьев лишь он, Устин, остался в деревне и ни на какой город не променял бы ее ни за что на свете. А Иван с Наумом всю свою жизнь по городам мотались, нашли для себя такую работу, о которой деревенские и понятия не имели: старший брат металлургом стал, в последнем письме про какие-то шлаки писал, что шибко за них переживает; а младший на старости лет связался с далеким курортным морем, температуру мерит и песчаный берег караулит… Вот как судьба распорядилась человеческой жизнью. Сам ли человек выбрал себе такую судьбу. Их отцы, деды и прадеды хлеб сеяли, скот пасли, пчел держали, а они вон что удумали делать.
Что же тут хаять молодых, того же Мишку, — этому, с нынешней ветреностью в голове, и вовсе не заказана дорога в иную жизнь. Лучше она или хуже — а уехал из родного дома, и все тут. Спасибо, что хоть неподалеку устроился, — все-таки сын, болит по нему сердце, и нет-нет да наведается к старику отцу.
Эти размышления растравили Устину душу, сразу тревожно ему стало. Умом он понимал, что дело тут не в ближней родне, про которую вспомнил ненароком, — и старший брат с детьми, и Наум со своей Таисией, и Мишка с Лидией и внучатами, слава богу, живы-здоровы пока что, где бы кто и как ни жил. За крестника Ваньшу тоже беспокоиться нечего, хотя у него врагов по лесному делу хоть отбавляй, парень умеет постоять за себя и свой лес. А вот Аверьяна не стало на белом свете — это уже беда непоправимая…
Устин еще больше ссутулился, сник. Наблюдавшая за ним Липа перестала звякать посудой, и он, притаивая вздох, поспешно выпрямился, выгнул, будто от усталости, поясницу и плотно, до боли в затылке, прижался спиной к срубу. Сквозь рубашку он ощущал шероховатость бревен и сухой ломкий мох в пазах, ему хотелось согреть вспотевшие и теперь остывшие лопатки, но сруб оставался в ненастье неприютно холодным, а успокоительное, как обычно, тепло от курева не расходилось по всему телу — его словно сгонял холод земли, на которой сидел Устин.
«Как могила получилась, — покосился он на выкопанную траншею. — Вот же дураки стоеросовые, загубили дернину! — ругнул он себя и жену, хотя Липа-то была здесь ни при чем, потому что дернину снимал он сам, кидая ее сразу, пока было невысоко, на подызбенку, а уж Липу позвал потом, когда заглубился на добрых полметра. — Надо бы снести по частям весь покровный слой к ручью, положить в рядок на илистую отмель — и ничегошеньки бы с корешками не сделалось, пока я тут чухаюсь с подызбенкой. А потом бы засыпал яму гравием и наладил бы сверху живой дерн — как тут и был бы! Придется просить шоферов с трассы, кузова три-четыре гравия, однако, надо будет, меньше тут делать нечего — траншея-то еще раздастся, еще кидать да кидать наверх-то. Был бы кум Аверька живой да как нагрянул бы на своем мотоцикле — насмешек не обобрался бы. Мол, удобную домовину себе выкопал, гипертоник, прямо под боком… Сплоховал, конечно. Из-за этого проклятого ненастья поторопился. Все льет и льет. И дня не постоит вёдро. А то бы, конечно, тех же шоферов уговорить — привезли бы с трассы отвальной земли. Подальше везти-то пришлось бы, чем гравий, — нитку теперь ведут аж за Черный Убой, — да зато бы дерн остался нетронутым. Да, остался бы. О-хо-хо…» — вздохнул Устин и закрыл глаза ладонью.
Уже понимая умом, что эти путаные мысли одолели его неспроста — растревожилась душа ожившей в сознании бедой, про которую он забыл за работой, — Устин устыдился вдруг своей слабости и долго сидел, ни о чем не думая, а только пробуя представить живым своего кума Аверьку, к нелепой смерти которого еще не успел привыкнуть.
— Это мы вот с землей запурхались, будь она неладна, — прерывая тягостное молчание, как бы продолжил он разговор с женой. — Вековечно же сырая, тяжеленная. И кидать вон куда надо. Кажилишься, кажилишься — аж глаза на лоб лезут. А так-то, если не эта подызбенка, чего бы и не строить? Взял готовое бревнышко, подпихнул его наверх, сам залез потихонечку, уложил его там как следует — и опять спустился, за новым венцом. Делов-то бы тут!
Однако Липа будто и не слышала, думая о чем-то своем, и тогда Устин, отняв ладонь от лица, сипло кашлянул и сказал без всякого перехода:
— Девятины завтра. Девять дней уже прошло! — Он покачал головой, дивясь тому, как быстро летит время.
— Девятины, ага, — готовно отозвалась Липа. — Я как раз подумала…
Она перестала драить песком закопченный чугунок, как сидела у ручья на корточках, так и замерла, и мутная струйка стекала из-под тряпки ей на сапог.
— Жил человек — и нету. Все! Будто и не было вовсе. А ведь вроде как вчера еще я видел его, прямо перед глазами стоит живой. И ведь совпало же так, ты вот чему подивись — я же утром в тот самый день и нагрянул к нему на пасеку, как раз за скобами для омшаника и приехал. Привязал это я Чалку-то и вхожу в предбанник, где у него мастерская была, а со свету-то никак не могу различить в темени, кто у верстака-то. Вроде как не Аверька. И стою, как истукан, приглядываюсь. А он мне и говорит со смешочком: «Ты чего, кум, на пороге застрял? Ругаться, что ли, приехал?» «Вот те на, — говорю, — а я думал, что не ты». «Ага, — смеется, — не я, а дух мой в чужом обличье». А я еще возьми да брякни: «Одно из двух, значит, куманек: либо разбогатеешь, либо дубаря дашь». Ведь дернула же нелегкая за язык! — укорил теперь себя Устин. — Че к чему сказанул?
— Да уж лучше-то не мог придумать, — подхватила Липа, совсем опуская чугунок в ручей, на мелкое место. — Ты вечно так: сначала ляпнешь, а потом соображать возьмешься.
— Дак вот, — согласился он с редкой сговорчивостью, покаянно помигивая красноватыми веками. — Видно, потому так все и вышло, что этого уж не миновать было. Предчувствие, значит, уже напало, хотя и не ощущалось пока сердцем-то.
Вытерев о бока руки, Липа села на бережок, касаясь носками сапог воды, и, подперев ладонью щеку, уставилась куда-то сквозь прогалину в черемуховых кустах, вроде бы увидела там, по ручью, что-то такое, к чему привыкла уже давно, а потому и глядела как на что-то понятное и ясное — с ровным вниманием, которому не мешала серная жвачка на зубах, работавших в такт монотонному покачиванию. Она уже знала наперед, о чем скажет сейчас Устин, и терпеливо ждала, как бы подчеркивая этим своим молчанием вящую значимость не промолвленных пока слов, которые исходили от кого-то свыше, а не от самого Устина и равно касались всех.
— Только Аверьян-то, поди, в ту минуту поболе моего предчувствовал, — Устин вытряхнул из шапки крошки табака и косо напялил ее на голову. — Ему-то уж и сердце сказало. Это как пить дать. Душа уже знала точно. Пробил его час — и душа не только предчувствовала, а все наперед представляла, что никакого откупа больше не будет, а самый конец это и есть. Вот ведь через что пройти-то суждено каждому: еще человек живой и даже крепкий, а уже понимает, что все, крышка!
В этом месте, пережитом уж много раз, Липа втянула в плечи голову, затаилась и невольно перестала щелкать серой, стараясь пореже глотать скопившуюся слюну, проходившую сквозь горло с каким-то икотным звуком, слышимым, казалось, далеко вокруг.
— Нет, говорит, куманек, — продолжал Устин, — дело тут не в богатстве, мое богатство короткое, как жизнь у метляка: появились деньги — спустил подчистую. А вот что на тот свет скоро отправлюсь, вслед за моей матерью — это уж, говорит, помяни потом мои слова. — Устин в глубоком недоумении пожал плечами, как бы показывая сейчас, как он тогда отнесся к этим странным словам кума. — Я говорю: да ты че городишь, кум?! Какая такая может быть смерть в твои-то пятьдесят семь лет — опомнись! А он задумался вдруг, уже вроде и не видит меня, и ти-ихо так отвечает, будто кому-то третьему, невидимому: она бы, мол, звать меня с собой не стала, моя покойная матка, если бы не пора было. — Устин хмыкнул с горьким удивлением. — А сам стоит передо мной, как вот эта кедрина, — кивнул он Липе на высокую вековую лесину за черемушником, будто она не видела ее прежде. — Заматеревший, крепкий да ладный, такого и не подумай свалить. «Блазнится тебе, что ли?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — просто сон такой видел».
— Вот-вот, оно самое и есть, — шевельнулась Липа, вытягивая шею и вглядываясь теперь в ту самую точку, куда она все время смотрела, с какой-то болезненной истовостью, будто что-то уходило от ее глаз, притягивая к себе и пугая вместе с тем неземным страхом.
Следивший за ней Устин снисходительно усмехнулся — ни бога, ни черта он сроду не признавал, как и кум его Аверьян, а только допускал веру в предчувствия, снисходившие в какой-то момент на всю земную жизнь. Может быть, именно поэтому, не помня к утру своих снов, он не стыдился пересказывать чужие, в которых непостижимым для него образом предугадывалась судьба человека, а то и какое-то событие.
— А сон, значит, такой ему привиделся, — жестко уточнил Устин, намекая жене, что разговаривать с нею он может лишь об этих неразгаданных явлениях людской природы, но не о какой-то нечистой или прочей силе. — Спится ему, значит, будто он вышел во двор — ну Аверька то есть, — а утро еще едва-едва занялось, петухи будто только что пропели — розоватенькая такая дымка стоит над сопками. И вдруг, говорит, откуда ни возьмись — моя матушка! Только вся в черном, а не в белом почему-то, в каком клали-то ее. И маячит, мол, пальцем: иди-ка, иди-ка за мной… А сама повернулась и пошла обратно, по огороду, только это уже и не огород вовсе, а черный лес будто — одни сплошные головешки да пеньки и стоят. Пошла, пошла так… а я, говорит, за ней. Чую, мол, что не надо бы идти-то, не к добру все это, а не могу! Ноги как не свои сделались — сами собой переставляются…
— Так она уж коли позвала… — перебила Липа и со вздохом качнула головой: дескать, тогда уж мы не подвластны сами себе, не мы тут собой распоряжаемся.
Устин понял, что она хотела сказать, но одергивать не стал, потому что отчитывал ее за это уже много раз и все без толку.
— Ты лучше разгадай, к чему эти деревья черные, — сказал он. — Ведь Аверька и не лежал в постели ни одного дня, если бы так рассудить, что это к хворости.
— Это к другому совсем, — быстро возразила Липа, донельзя удивленная, что он спрашивает ее о снах, потому что уж кто-кто, а Устин-то знал, что вещунья она была никудышная, не раз осмеянная им же самим принародно. — Это ему твои слезки отлились, — заявила она, про себя еще больше удивляясь такой своей догадке.
Устин даже растерялся.
— Ты чего плетешь?! — рассердился он. — Какие еще слезки? И вообще, при чем здесь я?
— Так ведь лес же…
— Ну и что?
— А мало вы погрызлись из-за него? Он же не какой-нибудь сушняк рубил, а самые наилучшие лесины выбирал, изводил для разных своих поделок, — вдруг напустилась она на покойного своего кума, будто тот вырубал ее собственный участок, посаженный когда-то ею. А ведь раньше вообще слушать не хотела ни о каком лесе. — Вечно, бывало, когда ты еще служил объездчиком, люди тыкали нам в глаза: куму так можно, мол! — Липа поднялась с земли, упирая руки в бока и с какой-то мстительностью встряхивая рыжими лохмами, выбившимися из-под платка, и вызывающе блестя на солнце потным конопатым лицом, на котором красноватый облупленный нос казался еще больше. — Хотя ты и штрафовал его люто, как никого другого, а людям все казалось, что раз кум — то и прощаешь. А все это на ком сказывалось-то? Да на тебе же самом, на ком еще-то! Уж и поматерился же ты тогда, поизводил себя с этим кумом, не дай бог!
Устин не нашелся что и сказать жене на это. Он долго смотрел ей в спину, как она снова взялась за чугунок, как ходуном заходили у нее лопатки под вылинявшим изредившимся платьишком.
«Вот ведь баба! — давался он диву. — Громче всех выла на кладбище по своему куму, а тут на тебе… высказалась!»
Недовольный женой, Устин поднялся, подошел к углу омшаника и долго с неодобрением смотрел на ошкуренную веточку пихты, прибитую к верхним венцам. Усики веточки держались сегодня как-то вяло — и не висели, как в ненастье, и не топорщились, как в вёдро.
— Выкинуть твой барометр… — буркнула Липа, уязвленная тем, что он не поддержал разговор, вроде как не согласился теперь с нею. — Пихтовый Сучок такой…
«А это уже она меня обозвала!» — втихомолку усмехнулся Устин и как ни в чем не бывало сказал:
— Нос чего-то чешется. Гость, однако, будет.
— Какой тебе еще гость? Хороший нос за три дня кулак чует. Или выпивку. Завтра на поминках наберетесь опять, мужичье охальное!
— Нет, к гостю! — оживляясь, возразил он. — Я же знаю. Племянница должна приехать, Наташка. Иван же писал. Может, как раз седни и будет. Чудно вообще-то, — помолчав, добавил он. — Никто из старших детей Ивана, ни Мария, ни Вениамин, сроду сюда не приезжали, а эта — ишь ты…
— Так она же не к нам, а на БАМ.
— Это еще неизвестно. Иван просил в письме, чтобы мы ей тут отсоветовали. Задержали.
— Удержишь их нынче…
Устин вздохнул.
— Пойду скотину подгоню. А то разбрелась, поди.
И быстро глянул на жену. Прежде чем она отвернулась и снова взялась за чугунок, он успел уловить в ее взгляде насмешливое выражение: иди-иди, побеседуй маленько со своим кедром, давно не наведывался…
Выдернув из рассохшегося паза избушки березовое кнутовище бича, плетенного в несколько коленцев с медными кольцами — память о покойном Аверьке, Устин пошел за черемушник. Длинный, утончавшийся к концу, где было завершающее звено из конского волоса, бич волочился за ним с быстрым шуршанием. Будто змея ползла по траве и никак не могла его догнать.
Уже на косогоре, когда до кедра осталось рукой подать, Устин снова оказался на виду и, хорошо зная про себя, что теперь он как на ладони, лукаво решил убедиться, смотрит ли жена ему вслед. Он замедлил шаги и в настоялой тишине уловил неясный, шепеляво вжикающий звук, — Липа машинально шоркала тряпкой с песочком по закоростевшему боку чугунка, но шорканье это было вялое, вслепую, когда человек не видит, что делает.
«Ах ты, кикимора… наблюдаешь! — усмехнулся Устин. — Сиди теперь, вызыривай на меня из-под платочка. А я под кедриной устроюсь, спиной к пасеке, за комлем, будто меня и нету вовсе. И буду сидеть, сколько захочу! Чтобы тебе неповадно было…»
Он не стал уточнять, против чего именно, по поводу какого поступка жены хотелось бы ему выразить свой протест. И без того ясно было. Уж кто-кто, а Липа-то знала, что больше всего Устин не любил в людях эту манеру — вроде как ненароком, походя очернить память человека, которого уже нет на белом свете. Ну, не брал их мир с Аверькой. Иной раз и до потасовки доходило, и немало, конечно, попортил он себе здоровья из-за такого кума, так ведь на то она и дана, жизнь-то, чтобы с одним ладить, а с другим — воевать. Хоть кого возьми. Вон брат Иван пишет, что из-за шлаков раздружился с давним своим соседом, перестал в карты с ним играть; у его дочки Марии тоже неприятности по работе; а Венька с женой Зинаидой плохо живет.
«У всех из века так идет, не одно — так другое, потому что человек превзошел самого себя», — думал Устин.
В знак душевного несогласия с женой он рывком подтянул бич, молодцевато взмахнул им — широко, до прогиба в пояснице, — и с оттяжкой, с рассыпчато звонким щелчком, раскатившимся в мелком осиннике у скального гребня косогора, полоснул по высоким головкам желтого молочая.
В ту же секунду он ощутил, как давануло слева, в груди, а у виска, придавленная шапкой, туго забилась венка. И разом, вместе с шумом в голове, прихлынула к глазам темень — но только на одно мгновение, и тут же вроде бы все прошло. Однако Устин уже знал, что за этим спадом, которого он и боялся-то, привяжется долгая тупая боль в левом боку, на сердце; эту боль он почувствовал еще сегодня утром, когда начал накидывать землю на омшаник, но в работе старался о ней не думать. А вот стоило только расслабиться…
Впервые эта боль пришла к нему лет пять назад — тогда еще слабая, невнятная, хотя уже и ощутимая. Он все время скрывал ее от Липы, боясь тех редких насмешек жены, когда он сам давал ей такую возможность — словно во искупление какой-то своей постоянной вины перед нею, хотя он никогда бы не смог сказать ни себе, ни кому-то другому, что это была за вина. А может, Липе и не пришло бы в голову смеяться над ним по этому поводу. Скорее всего, так бы оно и было, — скрывая за насмешливостью свою тревогу, Липа стала бы посылать его к докторам, хотя знала бы про себя, что ни к каким докторам он не поедет, пока держится на ногах.
Но нет, ничего он ей не сказал ни разу. Об этом его постоянном теперь недомогании знал лишь один человек — Аверьян.
В прошлом году, когда Устин помогал своему куму ставить сено, он в какой-то момент, словно подхлестываемый заходившей тучей, до того разошелся, что поддел на деревянные вилы без малого всю копну: удачно всадил в шелковисто шуршащие пласты осокоря длинные, отполированные работой березовые зубья, с хрустом надавил держак через колено и себе на удивление легко воткнул черенком в землю. Оторванный от земли навильник сена поставить на попа проще простого, главное-то было — приподнять копешку и воткнуть черенок под подошву сапога. Но как раз тут-то, когда он уже стоял под навильником, скрывавшим его всего тихо струившимися прядями осоки, и Аверька, вершивший стог, удивленно ахнув, приготовился было встретить этот здоровенный пласт сена — подцепить его граблями и не дать сползти вниз, тут-то и осекся Устин: будто сомкнулись в гармошку ребра на левой половине груди, и в тесной этой спирали от остро вспыхнувшей боли зашлось сердце. Колючие срезы осоки все так же щетинисто впивались ему в шею и лопатки сквозь мокрую от пота рубашку, а в ноздри бил терпкий ядреный запах сомлевшего в валках и высохшего до ломкости сена, но Устин уже не чувствовал ничего этого. Он медленно оседал, машинально цепляясь за гладкий черенок, и вилы с сеном, уже не поддерживаемые руками, какое-то мгновение стояли будто сами по себе, и когда заждавшийся наверху Аверька, еще не видя скрючившегося на земле Устина, ругнул его за канительность, тяжелый навильник повалился в сторону.
— Ты чего это, а? — опешил Аверька и с минуту стоял неподвижно, а потом, испугавшись, бросил грабли и сполз по скользкому боку стожка, неловко упал и, едва лишь поднявшись на колени, толкнул Устина в плечо, увидел известковую его бледность и сразу спросил: — Сердце, что ли?
Позже, когда Устин пришел в себя, Аверька прислонился спиной к стогу, достал папиросу и, беспечно уже затягиваясь дымком, долго глядел сквозь прищур на кума, словно прикидывая про себя, сказать или нет. Сплевывая на окурок и сочно растирая его пальцем на передке сапога, все же сказал:
— Вот оно, значит, какое дело, кум. Не жилец ты, однако, как я погляжу…
«Жилец не жилец, — невесело усмехнулся теперь Устин при этом воспоминании, выглядывая из-за кедра на пасеку, где сновала у печки Липа, — а живой вот пока что, пережил тебя, куманек, на целых девять дней и умирать пока что не собираюсь».
Сдал он за эти последние годы крепко, что и говорить, и хоть совсем отмахнулся от всякой выпивки, удивляя донельзя жену, проклятое сердце давало о себе знать теперь неотступно. Иной раз в избушке, без Липы, перебирая на подоконнике пахнущие порохом пустые гильзы, пыжи и тусклые свинцовые пули, лежавшие тут без надобности, он вдруг натыкался взглядом на обломок старого зеркала, косился на дверь и конфузливо минуту-другую разглядывал себя в желтовато порепанном, засиженном мухами осколке, — чего сроду с ним не бывало, если не считать те моменты, когда брился, соскребая щетину, и, в сущности, как следует себя и не видел.
Маленький, но крепкий когда-то в кости, резкой отесанностью лица и чернявой чубатостью удался он в своего деда Ераса, который дожил до ста лет и любил Устина больше всех внуков за эту похожесть на него самого — молодого. Сквозь неземную какую-то поволоку в синих глазах приглядываясь иной раз к Устину, он глухо говорил — как бы из-под земли:
— Вылитый мой тятенька, а я, сказывали, весь в него уродился… — непрямо устанавливал он эту отрадную для него похожесть. — Только, однако, ты поукладистее нас получился, матерьяла не хватило — посуше да пожиже. А такой же востроносый и твердобородый, и глаза нашенские.
В молодости, когда Устин еще ухаживал за Липой, молчаливой девахой с конопатым лицом и зеленоватыми глазами, он любил, бывало, пофорсить: лаковый козырек праздничного картуза сливался по цвету с волнистым чубом на лбу.
— Притушим маленько, — смеялся он, — лисью твою породу. А то разгораешься по весне, не знаешь прямо, куда и деваться от этого огня.
А когда поредели в последние два года его волосы и будто закуржавились белой изморозью, Липа, потешая Аверьку, стала подзуживать теперь над ним:
— Вот тебе и лисья порода… Сам белесый сделался, как русак в чернотроп!
Устин, бывало, дулся на них за эти насмешки, но теперь он дорого бы дал за то, чтобы снова увидеть своего кума, услышать его раскатистый, на весь лес, голос. Если бы знать тогда, в тот последний раз, посидел бы с ним сколько-то, успокоил бы как мог, а то посмеялся над его суеверием, которым Аверька никогда не отличался, взял скобы для омшаника и уехал, толком не простившись.
Да ладно, если бы уехал. А то завернул, как на грех, в сельпо — купил впрок несколько буханок хлеба, Липа наказывала, и тут-то Аверька догнал его. Примчался в деревню на мотоцикле.
— Возьми, кум! — принародно он протягивал Устину заветную, редкой работы, наборную уздечку. — Пускай на память тебе останется…
— Да ты что?! — опешил Устин.
— Бери, бери…
И все, кому случилось в эту пору быть в сельпо, затаились, норовя задержаться у прилавка, чтобы постигнуть до конца небывалое это событие. «Вот дивля так дивля! — шептались бабы и мужики. — Безо всякого отдает Аверька свою уздечку Пихтовому Сучку!»
Уже давняя была эта история с уздечкой Аверьяна. А началась она с того, что Аверьян заприметил стройную ладную лесину для своих столярных поделок. Глаз его пал на матерый кедр, испокон веку стоявший в верховье Гаврина ключа, где обосновался с пасекой Устин. «Рядом же с дорогой, кум, — уже как бы прицеливаясь к ней взглядом, на какую сторону валить, сказал однажды Аверька. — Вывезу ее по частям, без хлопот. А с лесхозом дело улажу, заплачу им по билету сколько надо, заботы твоей здесь не будет». Но Устин вдруг заартачился: «Кедрину рубить не дам». — «А ежели все по закону? Я же не утайкой, чего ты ерепенишься!» — «Все равно не позволю. Только подступись — крупной солью жахну по мягкому месту из обоих стволов!»
Слово за слово — переругались кумовья дальше некуда. Наезжая время от времени на пасеку на своем мотоцикле, Аверьян, захмелев, начинал куражиться, дразня Устина Пихтовым Сучком — за маленький рост и кривоватые ноги.
— Умирать буду, — хлопал он себя по широкой груди, — всем сучочкам прощу, а пихтовому — ни в жисть! В самый неподходящий момент возьмет да и выкрошится, сделает на гладком оструганном месте дыру.
— Это же еловый такой супротивный, — с улыбкой вставлял Устин, но Аверька стоял на своем: пихтовый, и все тут!
— Вот и ты такой же супротивный — жалеешь дерево, будто оно живое.
— А оно живое и есть.
— Ну раз этот твой кедр живой, как ты говоришь, я на самую макушку ему побрызгаю!
И однажды ударили они по рукам. Долго терпел Устин эти выходки кума, да соблазненный коленчатым бичом с кисточками, который тот возил с собой как подманку, поставил-таки условие:
— Если сварганишь все, как задумал, — дерево твое, раз само допустит такой позор. А если промахнешься, не дотянешь хотя бы на вершок, то оставляешь бич у меня!
Крепко верил Устин в этот высоченный кедр, который, судя по всему, был ровесником тем его предкам-староверам, которые бежали сюда из равнинной России. Уж такая свечка тянулась к небу — голову поднимешь, чтобы на вершинку глянуть, и шапка с головы падает! И ничего не вышло у Аверьки с окаянной его задумкой: хрустнул под ним верховой сук, и, если бы нижние могучие ветви не задержали его, не спружинили, на том бы и кончился их спор. Отделался кум легко — сломал себе обе ноги, да одна-то срослась хорошо, как тут и была, а вторая долго болела, лежал Аверька и в районной больнице, и в областной, и в конце концов обзавелся он костыльком — срост оказался неудачный, нога заметно окоротилась.
Вот тогда-то он и поклялся: сведу проклятую лесину на нет!
Караулил Устин свой кедр и днем и ночью. То сивер, бывало, заполыхает ни с того ни с сего, и не угляди он вовремя — огонь слизал бы черемушник одним махом, а там рукой подать и до смоляного елового колка, рядом с которым стоял кедр. А то сам Аверьян, до беспамятства пьяный, успел чиркнуть по заматеревшему стволу пилой «Дружба», пока Устин добежал на заполошный рев моторчика и вывел пилу из строя, смаху саданув по ней топором. Шла война из-за кедра у них не шуточная, хотя каждую субботу Аверьян приезжал как ни в чем не бывало на пасеку с самыми мирными намерениями — попариться в баньке кума.
В одну из суббот он и привез, нацепив на руль мотоцикла, наборную уздечку такой красоты, что Устину стало не до бани, — он весь вечер просидел на корточках, лаская взглядом чеканную поделку кума. С душой и любовью смастерил ее Аверьян, не то что в шорной артели. Это уж кум умел! Диву давался Устин, где и когда выучился Аверька такой премудрости. Совсем уж позабытое теперь ремесло — ладить из кожи и железных пластинок обиходную оснастку для коня, будь то седло или уздечка, не говоря уже о биче. Пойди найди, кто теперь заберет козью ножку в тонкий сыромятный ремешок? А многие ли умеют передать текучую змеиную чешуйчатость в многорядном коленце бича? И вот ведь пройдоха: где только и доставал он сыромятные ремни и медную фольгу!
А Устин, в том-то и дело, давно мечтал о хорошей уздечке для своей Чалки. Иноходная кобылка попала к нему случайно, как божий дар. Выменял ее Устин уже двухлеткой, гнали из горного совхоза косяк молодняка на какой-то дальний конезавод, и на маральей тропе Токсуйских гор иные лошадки посбивали копыта до глубоких болячек; вот одну из таких, уже сильно хромавших и с решенной судьбой — их должны были отсеять на ближайшей же бойне, — Устин и выбарышничал у табунщика за новую двустволку, полученную в премию. Хромированные стволы достались тогда Устину за медведей, одолевших колхозное стадо, но в последние годы, хотя теперь они зорили уже и пасеки, на них вышел крепкий запрет, а коней, напротив, позволили держать в хозяйстве наравне с другим скотом. И вот повезло на старости лет: сроду не имел Устин своей лошади, а тут вдруг досталась сразу такая, что не мог и решить поначалу, можно ли пускать ее в работу наравне с местными, мосласто мохноногими.
Иноходица была буровато-серой масти, с темными по крупу горошинами и стригущими диковатыми глазами. Выгулялась на вольной траве в какой-то месяц, и Аверьян, по субботам наведываясь на пасеку, все чаще бросал на Чалку притуманенный взгляд, как бы начиная уже догадываться, чем он может пронять своего кума. А вскоре, когда наборная уздечка с кистями была готова и, поблескивая на солнце медным своим золотом, предстала перед очарованным, онемевшим на миг Устином, и был пущен в ход последний козырь Аверьки.
— Твоя брезентовая узда идет иноходице не больше, чем корове коромысло, — больно ужалил он, и Устин заметался по пасеке.
— Кум, — прижимал он ладонь к своему сердцу, как бы утихомиривая его, — сжалься, отдай мне свою уздечку! Я понимаю, что не за так. У меня полста рублей есть, вон лежат на полке — возьми! Ну хочешь еще и пару ульев впридачу, у меня как раз пара своих, не колхозных, и есть. Приблудные рои на жердину сели. А, кум?
Аверька капризно дернул щекой.
— Зачем мне твои ульи? Я же мед не люблю, как и ты. У меня от него с детства золотуха была.
— Тогда петель даю! — задохнулся Устин от этих своих слов, не видя, как негодующе покраснело лицо Липы.
Но Аверьян, не моргнув и глазом, отвел и эту мену.
— Кедрину мне давай, — деланно зевнул он и потянулся до хруста в суставах, глянув исподлобья на маячившую за черемушником лесину.
Устин сел на землю, сдернул с головы шапку и, сморщившись, беззвучно заплакал.
— Не дам губить дерево, — шмыгнул он под конец носом и тяжело поднялся, ушел на косогор, больше не сказав Аверьке в тот вечер ни слова.
Позже, в деревне, тот будто бы хвалился, что все равно переживет Устина — мол, у кума же барахлит сердце, не долго ему и осталось, того и гляди вытянет ноги под своим кедром. И тогда уж заветную уздечку он положит ему на могилку как последний подарок, а кедр повалит в тот же самый день, потому как лесхозовский билет давно оплачен.
«Черта лысого ему, а не кедрину! — кипятился Устин. Поглядим еще, чье сердце дольше выдюжит. Хоть на один день, да переживу его!»
И вот в сельпо, когда Аверька ни с того ни с сего протянул Устину уздечку, эта история-то и припомнилась сразу каждому, кто торчал в тот момент у прилавка. А неожиданный ее поворот вызвал в людях желание подзудить человека и выставить его на смех: иным людям больше по нраву чья-то будоражливая дурь, чем младенческая доброта, от которой одно только смущение.
— Это какая муха тебя укусила, Аверьян? Знать, кума твоя Липка приворотного зелья в медовуху добавила — совсем блажной стал…
— Точно, бабы! Теперь, того и гляди, Аверька сам на себя эту наборную узду наденет, а Пихтовый Сучок будет погонять его плетеным бичом!
— Куда уж нынче ему! У него небось уже и под ногами-то снег не тает…
Аверьян подергивал губами, мучительно пытаясь улыбнуться, и переводил с лица на лицо горячечный взгляд.
— Вон как запели… Так берешь ты узду или нет, Устин?!
Бабы вмиг примолкли, будто вспугнутые перепелки, а Устину бы взять да и сказать, чтобы от греха подальше: спасибо, кум, за подарок, как можно не взять, если от чистого сердца! Но какой-то бес, видать, вселился в эту минуту в него самого. Он потащил мешок с хлебом на улицу, бросив на ходу Аверьяну:
— Иди, кум, домой. Не устраивай тут концерт.
Запинаясь о пустые тарные ящики, Аверька догнал Устина возле двери и рванул на себя мешок с хлебом. Под аханье баб посыпались на пол, мягко шмякая, белые буханки.
— А ну, погоди! — Аверька схватил низкорослого кума за грудки, подтянул к себе и, сузив глаза, долго глядел в побелевшее его лицо. — Победу, значит, празднуешь? — сипло выдавил он. — Поборол, дескать, своей святостью. Мы слепые губители, а ты хранитель?
— Опомнись, кум… — тихо прохрипел Устин, пытаясь высвободить из цепких, налитых дикой тяжестью рук Аверьяна ворот своей рубахи, удавкой охватившей его шею. — Какая победа? Нету ее, моей победы. Одно расстройство только, вся душа изболелась.
— Ах нету, значит? — еще туже, до треска материи, скручивая на груди Устина рубаху, усмехнулся Аверька. — Правильно, нету. И не будет! Попомни меня: не будет!.. — Он с силой отпихнул Устина.
Вечером того же дня леспромхозовские шоферы, заезжавшие на пасеку, рассказали, что Аверька скончался от инфаркта прямо на ступеньках сельповского крыльца. А позже, после вскрытия, Устин узнал, что сердце у его кума было совсем изношенное. Как мрачно сострил хирург, надо бы хуже, да некуда.
«Вот тебе и жилец… — горестно насупился Устин, прислоняясь спиной к бугристой коре кедра, застарело пахнувшего смоляной хвоей. — Никто про себя наперед ничего не знает».
С какой-то разлаженностью в душе перебирая в памяти и то, что было связано с Аверькой, и то, что никакого отношения к нему не имело, Устин долго сидел под кедром. Боль в боку, словно во зло белому свету, никак не хотела отступать. Временами она, садняще распирая, выдавливая ребра, подступала так близко, что в глазах начинали мельтешить какие-то темные хлопья. Устин невольно смыкал глаза, чтобы только отогнать пугающую эту несуразность — сроду в жизни не видел он черного снега, своей пухлатостью застившего солнце, и незаметно для себя как бы проваливался в какую-то мягкую, зыбко покачивавшуюся бездну, и сколько он так сидел — уже не помнил.
Приводило его в себя каждый раз одно и то же: чей-то встревоженный звук, печалясь и плача, настойчиво шелестел у самого уха. Размежевывая глаза, Устин минуту-другую силился угадать, что это был за звук, и, больше не слыша его, задирал голову вверх, к шумевшей на ветру кроне кедра, где поскрипывали ветви.
«Нет, не помру! — думал Устин. — Мало пожил, мало… У Мишки вон Лидша должна разродиться не сегодня-завтра, так что надо погодить. Помереть ишо успе-ею! — вроде как хотел он пошутить со своей Липой, но вспомнил, что она суетится возле печки, обед готовит и ни о чем таком не знает, что его прижучило малость. — Значит, хочешь не хочешь, — сказал себе Устин, слабо усмехнувшись, — а надо идти обедать…»
Верховой ветер за это время разогнал обложные тучи, там и сям стало проблескивать солнышко. То по косогору пробежит золотистая волна, будто сдергивая с распадков бусоватую пелену, то по речкам сыпанет пригоршню блестков.
С неизъяснимой отрадой в сердце окинул Устин взглядом виденные-перевиденные места.
Из края в край, будто огромный кашемировый полушалок, раскинулся Ивановский кряж — всему тут начало и венец. На сиверах, под сахарно-сизыми гольцами, которые не таяли даже в ведреное лето, сочно отливали синевой пихтовые увалы, а на палевых с сузеленью солнцепеках, под осыпями, дымчато розовел краснотал в приречных урманах, и уж совсем понизу, между долинными сопками, желтыми лоскутами, как вощинка, лежала пожня. Голубым гарусом змеились студеные речки Быструшка, Попереченка, Убинка. Еще не перевелся в них осторожный хариус, днем чуткой тенью стоял он в омутах, а на закатной оранжевой воде затевал свои пляски. Еще по утрам с крылечка, на котором умывались по старой привычке из чугунного чайника, висящего на ремешке, слышалось веснами в ядреном, настоявшемся за ночь воздухе токование глухарей в ельнике на Гребенюшке или на Мохнатенькой…
Вот тут-то, возле речек, бравших силу на Ивановском кряже, и стояло испокон веку родимое село, рубленное когда-то беглыми старообрядцами в самой середине глухоманного лиственничного бора, от которого ныне остались считанные лесины, бог весть как выстоявшие, да узловатые матерые комли с корнями, скрючившиеся на половодных
вымоинах. Еще в детстве Устина поразила пришедшая однажды мысль, что вековые здешние кедры хранят на себе затесы памяти, сделанные еще руками тех, о ком даже старики мало что знают. И вот эти-то деревья — под топор, на топливо, на поделки…
Словно его самого полоснули тогда ножом по сердцу. Устин не мог понять такой оголтелости человека, готового ради чего-то зряшного извести вокруг себя все живое. Спору нет, говорил он себе, смолистое красное дерево, простоявшее на земле не одну сотню лет, и колется на морозе весело, и горит в русской печи жарко, с неуемным бойким пощелкиванием, от которого в избе поутру словно светлее делается. Празднично помирает листвяга, что и говорить. Но такую красоту и память народную переводить на пепел Устин считал делом грешным. Ведь тот же серый холодный прах остается и от изживших свое корчей, которых нынче вдоль трассы ершится столько, что их хватило бы не на один год. Да и всегда они были в избытке — то по речкам, весной отбесновавшимся, то по закрайкам осыпи в Белках. А порушенные молнией стволы, которых тоже на любой сопке хоть отбавляй, горели вроде бы уж и не так ярко — объезжали их стороной и охотнее валили целиковые свечи, которым еще стоять бы и стоять. А не все ли равно: ведь с нынешними пилами моторными можно и черту рога отхватить, чего уж там с корчей бы не справиться.
И уж так-то жалко еще более ладное дерево — кедр. Сравнить его в России вот уж и впрямь не с чем. Береза хороша, что и говорить, но в ней только песенная душа русского народа, а вот сила и великое его долготерпение — это уж как бы от кедра…
Устин снова закрыл глаза и опять, услышав тревожный звук за спиной, с усилием заставил себя глянуть туда, вверх, где волновались метелки веток, которые словно бы хотели спуститься к земле, к нему, но никак не могли превозмочь разделявшее их пространство.
«Вот и меня этот кедр переживет, — подумал он. — Сколько ни сколько, а постоит еще, подюжит. Сам-то по себе он крепкий».
От сильного порыва ветра что-то треснуло там, вверху, и в ноги Устина упала крохотная ветка. Он долго глядел на нее, а потом дотянулся рукой и близко поднес к лицу. Иглы ее были мягкими, словно влажными, и пахла она смолой — горячими чистыми слезами дерева.
6. СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ
Этот день выдался на редкость ведреный. Ненастье, стоявшее всю минувшую неделю, отступило вроде как в честь дорогих гостей.
Не знавший, куда себя деть, Иван Игнатьевич хотел было тут же, как только пришла Наташка, бежать к Устину на пасеку, но тетки обе разом запротестовали.
— Ты че, Ваньша, — по старой привычке называя его, упрекнула Анисья, — не успел с дороги остыть, а уже и завихриться норовишь? Вот это племяш дак племяш…
— Никуды не подсобирывайся седни, — высказала свою волю и Фекла. — Будет еще времечко, будет. Нагостюешься и у братца…
Иван Игнатьевич, понюхивая на ходу табачок, побывал и в огороде, и на речке, поднялся и на бугор, к сельпо, где всегда толпился народ; кое-кто сразу же узнал его, и он был счастлив.
Ближе к обеду, когда припекло и во дворе запахло разогретой лиственничной смолой, Иван Игнатьевич, не долго думая, решил распилить матерый кряж, все лето пролежавший у ворот. С деловитым видом он засуетился по двору, доставая из разных мест пилу, топор, колун. Почему-то колун всегда держали в курятнике, и Иван Игнатьевич вспомнил об этом тотчас и был рад и горд, что вспомнил и что все это по-прежнему так, как и много лет назад. Потом он принес из чулана напильник, уселся на приступок и, на время оставив без дела Наташку, тоже загоревшуюся внезапно желанием похозяйствовать, охотки ради, в деревенском доме, усердно завжикал — стал точить пилу и править развод.
Обе старухи, под одной крышей доживающие свой век вдовами родные сестры, отнеслись к затее городских гостей каждая по-своему. Огрузлая полная Фекла следила за ними с высокого крыльца с усмешкой, которая скорее была добродушной, нежели снисходительной. А сухонькая подвижная Анисья все приняла всерьез и по пятам, как за малым ребенком, ходила за Иваном Игнатьевичем, смущая его.
— Ты, Ваньша, — приговаривала она, — вот тута примостись, на чурочку. Глянь-ка, какая она гладенькая да способистая, ро-овная аж вся!.. И тебе сподручнее будет. А для топора-то рашпиль, поди, принести? Посымай ему щеки-то, а то вишь, вахлявы, как сточили — на нет жало свели. А то брось-ка ты, Ваньша, все это дело к такому ляху — найму ближе к осени кого-нибудь, распилят! Мир не без добрых людей. Глядишь, Ваньша Аверькин пособит. Ему пока что не до дров…
Иван Игнатьевич, весело поглядывая на Наташку, отнекивался:
— Да нет, тетя, мне и так удобно… Да нет же, тетя Анисья, мы и сами с усами, распилим! Или вы думаете, что я потерял сноровку?
Начали, наконец, пилить. Бодро так начали. Наташка вцепилась в черенок пилы обеими руками и дергала изо всех сил.
— А вы, бабушка, на кряж садитесь! — подсказала Наташка. — Чтобы он не двигался.
Анисья поняла это невинное заблуждение внучки, считавшей, что кряж неподвижен только потому, что они с отцом упираются в него ногами, и не замедлила подыграть вполне искренне — взгромоздилась на комель бочком, свесив ноги на одну сторону. Фекла, щурясь на солнце, беззвучно посмеивалась.
— Ты бы, Ната, — мягко посоветовала Анисья, — не налегала на свой-то край, а то батьке тяжело протаскивать.
Наташка, уже запыхавшаяся, приотпустила немного, но пила стала прилипать к смолистым стенкам, и продергивали они ее с трудом.
— Клин, клин надо вбить? — не то сам Иван Игнатьевич сообразил, не то вспомнил виденное когда-то, объявляя невольную якобы паузу. Он держался за поясницу, выгибаясь и смахивая со лба пот.
— Клин… — хмыкнула Анисья, едва ли не первой понявшая, что из благого намерения племянника и внучки ничегошеньки не выйдет. — Надо сначала заглубиться хотя бы на вершок, а то как раз пилу-то и заклинишь…
Фекла перестала улыбаться, кряхтя, спустилась с крылечка и приковыляла за ограду, пытаясь взять у Ивана Игнатьевича пилу, с тем чтобы в паре с Наташкой попилить немного, — ей казалось, так она скорее убедит племянника в том, что дело это не такое уж хитрое.
— От дают! Ну и цирк… — Перед ними откуда-то возник улыбающийся Иван, сын Аверьяна. — Бог в помощь, что ли?
— Легок на помине… — сказала Анисья, сконфуженно слезая с кряжа. — Не узнаешь, поди? — удивленно обратилась она к Ивану Игнатьевичу. — Да и то… Он же тогда вот какой был, от горшка два вершка.
— Нет, не узнаю… — растерянно произнес Иван Игнатьевич. Протер очки и снова уставился на Ивана. — Вроде знакомое обличье, а кто — не знаю…
— Да это ж Ваньша Аверькин, — готовно подсказала Фекла.
— Мать честная! Вот это вымахал! — Иван Игнатьевич, смущая парня, сграбастал его за плечи, прижал к себе. — Батька-то твой, а?! Это как же он не уберег себя, брательничек мой… — Голос Ивана Игнатьевича задрожал, он заплакал.
Анисья и Фекла готовно поддержали его. Наташка не знала этот древний обычай русских людей — встречать родственника, в семье которого случилось горе, слезами сочувствия. Она смотрела на Ивана; по лицу его было видно, что он с трудом сдерживает себя.
— Да хватит вам! — крикнула Наташка. — Ну что вы, в самом-то деле…
— Хватит, хватит… — шмыгнул носом отец, отстраняясь от Ивана.
Анисья и Фекла, захватив пилу, пошли к крыльцу с таким видом, будто они и не плакали только что. Их уже опять, похоже, не оставляла забота с этим кряжем.
— Ты че, баушка, заставила гостей не делом заниматься? — улыбнулся Иван. — От вам неймется! Переказывал же с мамой: управлюсь на пасеке — приеду и развалю этот кряж. У Генки Куприхина пилу «Дружба» возьму, у него есть.
— Не связывался бы ты с тем анчихристом… — тихо сказала Анисья. — На кой он те сдался? Опять беду наживешь.
— Не, баушка, ничего такого больше не будет, никакой драки, не опасайтесь за меня. Мы сейчас с Генкой даже вроде друзей. Так его ни в какую не упросишь прийти со своей пилой, а я только моргну — сразу явится, как тут и был. Я вот его еще в кумовья возьму!
Анисья недоверчиво покачала головой, а Фекла поспешно встряла:
— Ну так-то и ладно, так-то бы и пускай. Ты, старуха, не вмешивайся. Ихнее дело молодое: седни подерутся, завтра помирятся. — Чувствовалось, что Феклу, наоборот, беспокоил в первую очередь нераспиленный кряж, и ей было все равно, кто будет пильщик.
Иван взял масляную краску и ушел на кладбище. Наташка с отцом увязались было за ним, но Иван, глянув на приунывших старух, сказал:
— Дядь Вань! Я сейчас Генку пришлю. С пилой. Вы тут командуйте им… А к вечеру ко мне на пасеку пойдем.
Вскоре явился Генка Куприхин — долговязый, угрюмый парень. Нескладно как-то поздоровавшись, он завел моторчик своей пилы и, много не рассусоливая, словно торопясь исполнить просьбу Ивана, с оглушительным вжиканьем начал отхватывать чурку за чуркой с тонкого конца кряжа. Иван Игнатьевич нюхал табак и подмаргивал Наташке, а Фекла и Анисья, сразу уверовав в Генкину чудо-пилу, успокоенно уселись на крылечке.
На пятом или шестом врезе Иван Игнатьевич сменил Генку, а тот взялся за топор. Смолистые чурки кололись со звоном, с единого маха.
— Ну ты и силен! — восхитился Иван Игнатьевич, выключая перегревшийся моторчик.
— Ванька не слабее, — буркнул Генка. — Чего ж он сам-то не управился? Тоже мне сродственничек называется…
Старухи промолчали, и, помедлив, Иван Игнатьевич мягко возразил:
— Иван бы и сам распилил, да ему сейчас некогда. Завтра же девятины. Удивляться не приходится.
— Знамо, что некогда… — вяло ухмыльнувшись, вроде как согласился Генка. — Всему селу известно, что времени ему не хватает, ночи прихватывает.
— А что? — простодушно поинтересовался Иван Игнатьевич.
— Да вообще-то ничего. Только вот слухи ходят… Пшеничку, говорят, из комбайнов потаскивает. На днях милиция у него была. Я сам-то не верю, конечно, в плохое, — Генка обезоруживающе улыбнулся, глядя на Наташку. — Ванька мне как-никак друг. Хотя промеж нас и были недоразумения на почве, так сказать, женского вопроса… Но верь не верь, а милиция зря не приедет.
— Ты говори, да не заговаривайся, — с неожиданной для себя грубостью сказала Наташка.
— Я — что! — пожал Генка плечами. — Только ведь в конце-то концов… Бабушка Анисья! Ты че молчишь-то? А ты, бабушка Фекла, че не подтвердишь? Была милиция или нет?
Анисья, как бы вспомнив о чем-то неотложном, скрылась в сенях. Фекла тяжело шевельнулась, вроде бы тоже пытаясь подняться.
— О господи, я-то почем знаю?.. Нашел кого спрашивать! Я где бываю-то? Дальше двора никуда не хожу. Эта вы молодые да глазастые — вот и глядите друг за дружкой. — Фекла боялась откровенно поперечить Генке-пильщику, и Ваньку, сына Аверьяна, тоже грешно было оговаривать, вот и выкручивайся, как знаешь.
— Ну ладно, — сплюнул Генка, — покрывайте, покрывайте своего сродственничка… Но сколько веревочке не виться…
Анисья загремела в сенях щеколдой, излишне громко загремела, ступила, легонькая и стремительная, на крыльцо и стала быстро спускаться. Генка осекся, подхватил свою пилу и поспешно пошел прочь.
— Ушел? То-то бы я тебе сказала…
Анисья, отмахиваясь от заворчавшей сестры, досеменила до ворот и долго глядела вслед пильщику.
Иван вернулся с кладбища, и втроем они заспешили к сизым отрогам, где стояла пасека Аверьяна.
Вышли за поскотину, по сочно-зеленой отаве пологого выгона спустились к деревянному мостку — с десяток свежеошкуренных бревен в накат.
Побулькивал у свай Светлый ключ, не осадивший свой норов на перекатах и бучилах. Стайка не то хариусят, не то простых мулек — «краснобрюхих авдюшек», обрадованно вспомнил Иван Игнатьевич, как в детстве называли они эту рыбешку, — сновала на отмели, илисто рябой, в ямках от копыт у самых закраин, как на всяком скотном броду. Носком ботинка Иван Игнатьевич спихнул в воду древесную крошку — на шлепок оголтело кинулась глупая мелюзга.
— Видела?! — засмеялся отец, приглашая Наташку, шедшую впереди с Иваном, поглядеть на рыбешек. — Ну, чертенята! Они, бывало, всю наживку с крючка стаскают, пока хариус вокруг да около ходит.
Однако едва лишь неосторожная тень с моста, когда к отцу подошла Наташка, упала на воду, мульки, словно по команде, метнулись под кочку, в промытые корни.
— Ишь ты! Крохотули — а тоже опасаются за жизнь, тоже пожить охота…
Погодя выплыли снова, одна за другой. Привычная для них, накрывала Светлый ключ повыше брода спокойная тень лиловых головок иван-чая до ивы, с весны полоскавшей здесь свои рукава.
То ли вспугнутая кем, то ли по урочной своей надобности с шумом сорвалась с луговины за красноталом пара уток и низко пошла над стерней, наносившей терпкие запахи жнивья.
Шла извечная жизнь, и все в ней с виду было просто и вместе с тем необъяснимо дорого. Иван Игнатьевич вдруг поразился, как это он раньше, за столько лет, не выбрался сюда ни разу, все какие-то другие были дела, а деревня, думалось, подождет, никуда не денется. И вот теперь, когда уже почти все осталось позади, что-то словно надорвалось внутри, хлестнуло горьким чувством чего-то несбывшегося, попусту минувшего.
Иван, поджидая их, смотрел на скошенное поле, и Наташке показалось, что в глазах его отразилось какое-то страдание.
— Не люблю стерню, — сказал он.
— А я, Ваня, уж сто лет жнивья не видел, — откликнулся отец. — Мне и стерня мила… Может, напрямую махнем? — предложил он, протягивая руку в направлении тальниковой гряды за Светлым ключом.
Пасека открылась сразу, как только уткнулись в Черемуховую лощину, в которой, как объяснил Наташке отец, и брал начало Светлый ключ. Обгоняя друг друга, поднялись на угорье и чуть было не попали на стан с ульями, если бы их не остановил заливистый лай кудлатой дворняги, метнувшейся навстречу.
— Цыть, Найда! — крикнул Иван.
И тотчас из дома выбежала на крыльцо босая простоволосая девушка.
— Никак Люба? — разулыбался Иван Игнатьевич, уже знавший о жене племянника по рассказам Анисьи и Феклы.
— Кто же еще-то! — подтвердил Иван, мягко подталкивая гостей навстречу засмущавшейся хозяйке.
Поглядывая на Любу, Иван Игнатьевич опасливо потянулся к Найде, готовый в любое мгновение отдернуть руку, но та завиляла хвостом, прижала уши, и морда у нее стала до того умильной, что и Наташка тоже не утерпела — коснулась рукой шишковатого ее лба.
Весь вечер Иван то показывал им пасеку, замирая возле ульев и вслушиваясь в тихое, усталое гудение пчел, то принимался гоняться за кроликами — расстилался плашмя, хватаясь за длинные их ножонки, и сидел на траве, обняв перепуганного зверька.
— Жалко тварей! Вот расплодились на мою голову, а убить хотя бы одного не могу! К черту такое мясо, когда надо животину порешить.
— Так ты не охотник? — удивился Иван Игнатьевич.
— Нет, дядь Вань, не охотник… — И тут же кинулся в избу, выскочил с ружьем. — А ну-ка, стрельнем по паре раз!
Он выволок из сеней старый бидон, приладил на изгороди, на колу, метрах в пятидесяти от избы.
— Ну, кто первый?
Наташка с отцом промазали по очереди, стреляли то с колена, то лежа — для упора. Иван с бесстрастным лицом судьи молча наблюдал, потом нетерпеливо схватил ружье и, едва приложившись, выстрелил — бидон тяжко, коротко звякнул, и в самом узком его месте, в горловине, вспухла рваными краями дыра.
— Ну-у, брат! — только и сказал Иван Игнатьевич. — Да ты, я гляжу…
— Нет, дядь Вань, это я случайно, — сказал Иван, счастливо улыбаясь.
Из огорода вышла Люба, глянула на бидон и, передав Наташке ведерко свеженарытой картошки, пошла к Ивану. Он замер. Люба шла, чувствуя настороженные взгляды мужчин и сурово сводя к переносью широкие брови, но губы ее дрожали от смущения. Она была по-прежнему боса, яркое ситцевое платье туго натянулось на ней.
— Ты чего, — по возможности строго сказала она мужу, — развозился, как маленький? — Чтобы не улыбнуться, Люба прикусила нижнюю губу, щеки ее густо рдели. Неожиданно ловким движением она выхватила у Ивана из рук ружье и побежала прочь.
В несколько прыжков тот догнал Любу, но она резко остановилась, крутнулась, толкнула его в плечо и скрылась за углом избы. В следующую секунду жахнул выстрел.
— Кроля убила!.. — прошептал Иван.
Люба вышла из-за дома, держа в левой руке вытянувшуюся тушку кролика.
— Вот, ровно мужчины нет на пасеке, — сказала она потрясенно смотревшей на нее Наташке, и улыбнулась, и обвела всех смеющимися дерзкими глазами. — Самой пришлось выучиться этой охоте…
Вскоре все сидели за столом, тщательно выскобленным, пахнущим сосной. Иван выставил бутылку «Экстры», купленной им по случаю в сельпо. В русской глинобитной печи потрескивали дрова, в отсветах пламени Люба, снующая от шестка к столу, была похожа на диковинную гигантскую бабочку, невесть откуда залетевшую в эту тесноватую, с темными углами, избу. Иван перехватил взгляд Ивана Игнатьевича и, должно быть, мысли его угадал — сказал, улыбаясь:
— Вам супруга-то моя, дядь Вань, нравится? Я ж выкрал залетку-то, можно сказать, силком отнял! — Глаза Ивана блестели исступленно, жарко, словно он еще и сейчас переживал тот момент, полный сладострастного и жуткого томления, как перед прыжком с высоты.
— Дура была, поверила, — с усмешкой коротко взглянула Люба на мужа. — Думала: в город увезет, в квартире с ванной буду жить, на машине раскатывать, а он меня на пасеку заточил!
— Нравится, Ваня, нравится! — засмеялся Иван Игнатьевич, и Любины щеки вновь потемнели от прилившей крови.
Иван щурился, глядя на огонь в печи и похохатывая:
— Нашла охломона: в город я ее повезу! Как же, больно надо…
Люба тут же пульнула в мужа тетеркиным крылышком, которым подметают шесток. Наташка с удовольствием наблюдала за ними, а Иван Игнатьевич вдруг вспомнит своего деда Ераса, который пасечничал когда-то здесь же, в верховье Светлого ключа. Что-то общее было в них — в прожившем долгую жизнь Герасиме Комракове, до старости звавшемся по-деревенски Ерасом, и в этом современном парне, только-только начинающем жить. Скорее всего, но обличьем были они похожи. Вот уж кто смахивал на деда Ераса — так это Устин, средний внук. Роднила молодого Ивана с тем древним, давно умершим предком какая-то первобытная основательность и степенность, как бы идущая от векового леса, стоявшего вокруг стеной, и таившая в себе немалую силу.
Да уж и силушка была у деда Ераса! Мгновенно всплыло в памяти, как сизыми зимними утрами, когда в избах еще не начинали топить печи, раздавался под окном сипловатый голос: «Эй, Анисья! Отворяйте-ка!..» И слышался скрип полозьев тяжело груженных саней: потемну, когда деревня еще спала, дедушка Ерас привозил с пасеки сено — помогал сестре, потерявшей мужа на войне. Иван Игнатьевич был тогда мальчонкой, жил у тетки Анисьи, хорошо помнит эти моменты. Выбежит, бывало, на крыльцо в одной рубашонке — и воз с сеном покажется ему целой горой. И как только управлялся с ним дедушка Ерас в одиночку! В ворота воз обычно не входил, и надо было подрубать топором плотные, придавленные бастрыком пласты сена с боков.
«Это сколько же прошло лет с тех пор? — прикинул Иван Игнатьевич. — Ой, много… Почти вся жизнь».
И тут же вспомнилась ему последняя встреча с дедушкой Ерасом. Иван Игнатьевич наведался в деревню во время войны — приехал по вызову тяжело болевшей тетки Анисьи. На другой же день, не вытерпев, он пошел на пасеку — охота было повидаться и с дедом.
Крепко сдал старик за те годы, пока Иван Игнатьевич скитался в разных краях. Но узнал внука сразу же. И заплакал, не стыдясь своих слез.
— А я уж думал, не дождусь, не увижу, какой ты стал там, в своих городах… — И вдруг оживился: — То-то Анисья намедни трундила, дескать, гостю быть. Сон какой-то ей привиделся. А я ишо посмеялся над ней, не поверил. И здря, выходит! — дедушка Ерас осушил глаза казанками узловатых пальцев, засуетился по избе, выставляя на стол угощение.
В тот раз они долго говорили о войне, — и о второй мировой, которая шла, и о первой, на которой воевал когда-то дедушка Ерас.
— Война, лихоманка, всех одной косой лупцует, без разбора, — вздыхал он. — Сколько народу полегло! Наших вон, деревенских, посчитать… В колхозе одни бабы да мы, старики. Исхлестались все… Добро ишо, что я тут дюжаю, пасеку пока не бросаю, без нее бы хана. Летось ни картошинки, ни зернинки не было, так на меду и держались. Меняли в райцентре на хлеб. Грех забывать эту пасеку, на Светлом-то ключе… А что будет после меня? Не вечный же я, Ваня. А замены-то нету… Бабу тут не поставишь, без мужика ей здесь не справиться, у любой бабы силов не хватит…
Он испытующе глядел на Ивана Игнатьевича. И было горестно оттого, что дедушка Ерас, казавшийся ему раньше воплощением и силы, и сноровки, и умения всякого, и нрава веселого, стоял перед внуком растерянный, ссутулившийся, уже вроде бы и не принадлежащий земной жизни. Долго не мог простить себе Иван Игнатьевич, что так и уехал тогда, не утешив, не обнадежив старика. Да и что бы он сказал ему?.. Лишь теперь Иван Игнатьевич увидел и понял, что настоящий хозяин Светлого ключа все же появился, пришел на смену Ерасу.
Задумавшись, Иван Игнатьевич невидящим взглядом уставился в низкое синее оконце. В переплет рамы одна за другой вклеились призывно мерцающие звезды, где-то заполошно ухал филин, позвякивала боталом лошадь. Вековечные тикали ходики, пел за печкой сверчок, догорали, постреливая, еловые дрова, и на всем — на столе, на стенах, на лицах — лежал ровный отсвет теплой ночи.
«Жалко, Устина нету рядом, — подумал Иван Игнатьевич. — Даже не верится, что завтра — какой там «завтра», сегодня! — увижу братку…»
В этой по-древнему чуткой тишине явственно возник далеко в деревне и смолк, будто надломленный, первый петушиный крик. Иван встрепенулся.
— Дядь Вань, — изменившимся голосом сказал он, — давайте-ка спать! Че мы в самом деле полуночничаем? Стели им, Люба, а я счас мигом… Гляну пойду на коня, как бы не расстреножился…
Иван встал и, ни на кого не глядя, вышел из избы. Люба выпрямилась, напряженно застыла, вся превратившись в слух. Сапоги Ивана сочно зашмурыгали по росяной траве, звук шагов удалялся стихая, и вскоре где-то у Черемуховой лощины послышалось отрывистое ржание лошади. И еще через мгновение будто ударили глухо, с дробным перестуком, копыта по мягкой пыли проселка.
— Куда это он? — сдавленно спросил Иван Игнатьевич.
Люба откинулась к стене, и лицо ее на фоне потемневшего от времени кругляка казалось неестественно белым. Теперь только было слышно как бы нараставшее тиканье ходиков, все заполнил собой их назойливый стук, оборвавшийся ружейными выстрелами, прозвучавшими далеко дуплетом.
Наташка недвижно сидела на краю лавки. «Господи, — поразила ее мысль, — да как же это жить-то надо, чтобы оставаться в согласии со всем миром?»
— Далась ему эта правда… — глухо и устало сказала Люба. — Все Генку Куприхина ловит, которую уже ночь…
Снова полнилось все тишиной, и казалось, колдовскому ее безмолвию не будет конца. Иван Игнатьевич выбрался из-за стола и вышел на улицу. Вместе с последним часом ночи падал на землю окаянный сон. Все стояло недвижимо и немо. Даже не было никаких запахов.
Но уже, словно вырастая на глазах, подступали вздыбленные Белки́ — смутно мерцавшие в предрассветных сумерках гольцы Ивановского кряжа, и над ломаным их окоемом опалово обозначился край неба. Полоса на глазах ширилась, оттесняя тухнувшие звезды в беспредельный купол, и снизу, над самыми снегами, мало-помалу начинало алеть.
Часть третья
СИБИРСКОЕ ТАНГО

1. БОЛЬШУХА
До часа дня Марии некуда себя деть.
Еще сонная, в семь утра она сходила в рабочую столовую за чаем и котлетами, отдававшими кислым хлебом. По старой привычке хотела было ругнуться с поваром, которого сама оформляла на работу месяц назад, но тот смотрел на нее теперь снисходительно и, утирая лоснящееся лицо замызганным фартуком, улыбался так, будто приготовил эти котлеты для нее одной.
На обратном пути она сделала крюк и прошла парком; гул прибоя и какой-то смятенный перестук пляжной гальки в паузах между накатами отодвинулся, скрадываясь деревьями, отступилась полосой и тонкая изморось в воздухе, бросавшая вверх небольшенькую радугу; щурясь на солнце, Мария отметила про себя, что почки миндаля начали набухать, и даже приостановилась, невольно обрадовавшись. Но тут же увидела Митю, хмуро следившего за ней из ворот гаража, вдруг заторопилась, выдернула щепку из накладки на двери сарайчика, сунула судки на еле-еле калившуюся плитку и какое-то время недвижно посидела на топчане, глядя перед собой. Вздохнула, поднялась, начала двигаться, что-то делать — и утра как не бывало: пока разбудила Игорька, пока сменила ему воротничок, почистила форменные брючки — при такой суши надо умудриться найти грязь, — вовремя выпроводила его, напутствуя разными наказами, на ходу поправляя ему ранец и косясь во двор гаража, где шоферы кончали утреннюю колготню и один за другим, рассаживаясь по кабинам, заводили машины.
Она машинально поискала взглядом Митю. Тот стоял в сторонке, у буксы, и о чем-то говорил с Кононовым. Она поймала себя на мысли, что ей вовсе не хочется знать, о чем говорят эти двое, дружки новоявленные. Она была теперь словно выстуженная изба — сразу не натопишь, не отогреешь. Незаметно как остыла ко всему на свете — и к тому, что было, и к тому, что, возможно, еще будет. Да будет, конечно, чего там, — теперь этот Кокон не оставит ее в покое, пока не съест поедом.
— Маша! Маш…
У дверей ее сарайчика в ожидающей позе застыла Тоня Чурсиха. Сделала вид, будто сейчас только заметила Марию, высматривавшую кого-то во дворе гаража.
— Я торкнулась раз — нету. А дверь без накладки, и ведь только что, думаю, здесь была!
— Игорька в школу проводила, — говорит Мария, без видимой охоты переступая через порог, быстро окидывая взглядом неприбранную постель и предчувствуя, что от соседки теперь скоро не отделаешься. Она не имеет ничего против Чурсихи, пожалуй, это единственный человек, кто ее понимает, просто Марии сейчас не хочется видеть никого.
Убежала бы, куда глаза глядят, если бы не Игорек.
— Ох уж эти мне школьники, — притворно вздыхает Чурсиха, начиная долгий разговор. — Мой вчера говорит: «Купи мне велосипед!» Нет, ты представляешь?! — хлопает себя по ляжкам Чурсиха и застывает в великолепном изумлении. Она пока временит присесть на табуретку, пристально наблюдает за соседкой, за вялыми ее движениями, как бы что-то определяя для себя.
Мария хмыкает — не то раскусила Чурсихин маневр, не то сочувствует ей, с беззлобной укоризной взрослого человека осуждая затею ее сына.
Чурсиха выжидает еще самую малость, но Мария молчит, приходится самой себе задавать вопросы.
— Я ему говорю: «Ты подумал или нет, на какие шиши мать купит тебе велосипед? Тебе рубашку к лету надо? Надо! Сандалеты надо? Надо! А штаны? Ты же из последних штанов, говорю, вот-вот вывалишься, на заднице уже не материя, а сито, все протер!» А он мне отвечает: «Мне к лету ничего не надо — в трусах прохожу».
Чурсиха уже сидит на табуретке, вслепую шарит на столе, среди посуды, спички и, не сводя глаз с Марии, при последних своих словах вдруг смеется:
— Я говорю, хотела бы я посмотреть, как ты в трусах будешь ходить!.. Да что там про них, — машет она рукой, — нам бы их заботы.
Она прикуривает папироску, которую все это время без толку мяла в руках, глубоко затягивается и, сделавшись сразу какой-то безразличной, не по утру усталой, прислоняется лопатками к дощатой стенке сарайчика, расслабленно обвисая так, что линялое домашнее платьишко пусто балахонится на груди.
— А у меня с утра во рту еще ни крошки не было, — с жалостью взглядывая на Чурсиху, как бы оправдывается в чем-то Мария. — Вроде ни дела, ни работы — а поесть все некогда. — Она снова ставит разогревать котлеты в судках и, сама себе сливая из кружки над ведром, ополаскивает две вилки. Чурсиха приоткрывает глаза, косится на плеск воды, видит, что у Марии в руках две вилки, и, сделав лицо свое еще более скорбным, снова смыкает веки. — Давай садись со мной, — мягко говорит Мария, прислушиваясь к себе, как внутри у нее все замирает в каком-то сладостном предчувствии. Ей и есть враз расхотелось, она не выдерживает и легохонько толкает в бок свою соседку: — Да брось ты думать!
И Чурсиха понимает, что дальше тянуть нельзя, а то, чего доброго, переиграешь, — она кидает папироску в ведро, еще секунду-другую смотрит, как та шипит и гаснет, и вялыми пальцами берет вилку. Будто приличия ради тычет ею в судок, в раскрошенную Игорьком котлету, и вдруг, бросив вилку на полдороге, отчаянно машет рукой:
— А! Погоди-ка…
Мария будто ничего не подозревает, а Чурсиха вскакивает, с игривой суматошностью бежит к себе за стенку, звякает там пустыми бутылками — и вот уже соседская девчонка, зажав под мышкой тару на обмен, дует прямым ходом в ларек. Мария едва успевает сунуть ей кое-какую мелочишку от себя и уже ищет куда-то запропастившийся гребень, представляя, как Чурсиха тоже прихорашивается перед осколком зеркала, вставленного в щель косяка, как закалывает свои волосы, чуть трогает губы алой помадой и пробует бубнить что-то веселое, полнясь, как и Мария, тем же предчувствием нечаянного веселья.
Минут через пять девчонка приносит бутылку вина. Чурсиха уже на прежнем месте, в углу на табуретке, сдачу великодушно жалует посыльной, ладонью снимает с бутылки налипший мусор и, будто не замечая, что на столе у Марии за короткое время ее отсутствия прибрано и даже соленые огурчики появились, деловито спрашивает:
— Открывалки нету?
Она знает, что такую бутылку у Марии открыть нечем, кроме как вилкой или об угол табуретки, но все же спрашивает, первой зряшной этой фразой как бы подводя итог сегодняшнему утру, а заодно и дню тоже: нет больше утренней хандры, и говорить тут не о чем, и надо жить, жить — и все тут!
— Хватит, хватит мне, — все еще чему-то сопротивляется Мария, отводя от своей рюмки горлышко бутылки, — мне ж еще сегодня на работу. — Но уже втихомолку весело ругает сама себя за эту ломливость, готовясь к тому, чтобы следом за первой выпить по полной.
Закуток, куда сходятся двери всех квартир и сараек, бесцеремонно заполняет хрипловатый, задерганный голос Марииной радиолы. Она включает ее вслепую привычным коротким тырчком по клавишам, нимало не заботясь о том, какая пластинка пылится на диске еще с прошлого раза. С шипом оживает песня про оренбургский платок, не очень под нее завеселишься… но, во всяком случае, они с Чурсихой могут теперь хоть на голове ходить — никто не услышит, о чем их думы-передумы.
— Так все-таки, Мария! — шумит Чурсиха, прищуром выказывая кому-то заранее свое неодобрение, презрение даже. — Ты мне все-таки толком, как дважды два, объясни, с чего это у вас все началось-то! — Она и ругает себя молчком за это возвращение к тому, от чего только что увела свою товарку, и не ругает, понимая в душе, что все равно, о чем бы они тут ни тренькали сейчас, как две сороки, на душе будет одно и то же, неизбывно ждущее своего часа. Так лучше сразу!
В лице Марии ничего не изменилось, как бы ни обманывала сама себя, что хватит, сколько можно толочь воду в ступе, внутренне с самого начала этой пирушки не пирушки она была готова к такому вопросу соседки, ждала его и удивилась бы несказанно, если бы та деликатно промолчала.
Чурсиха сделала все как надо и замерла, и Мария, чуть не плача от этого искреннего чужого сочувствия, машинально сметает ладонью крошки в кучу.
— А я знаю? Ты спрашиваешь у меня — а я знаю?! Я работала и работала, мое дело было — вовремя оформить входящие и исходящие, приказ какой или меню для столовой напечатать, — а они мне что?!
— А они тебе что? — тон в тон повторяет Чурсиха и стучит кулаком по столу, а лицо у самой уже наполовину отсутствующее, будто она прислушивается к каким-то невнятным звукам у себя за стенкой.
Но Мария на нее не смотрит. Она начинает рассказывать, в который уже раз заново переживая случившееся и удивленно отмечая про себя, что иные места этой истории, как ни странно, день ото дня обретают все новый и новый смысл.
— …Теперь я понимаю, — приходит она к заключению, — директор здесь ни при чем.
— Это как же? — запоздало вскидывается Чурсиха, обнаруживая странный оборот знакомой и ей в деталях истории.
— А что ему оставалось делать? Не прикажи он уволить Поликарпиху — ему пришлось бы расходиться с женой или самому под суд идти. Так что, кроме завскладом, некого винить.
Чурсиха старательно хмурит лоб, вникая в эту новость, но понять ее без подсказки, видимо, не может.
— Ты только представь положение Поликарпихи, — говорит Мария, глядя сквозь полуоткрытую дверь на пустой дворик. — Какие у нее, к черту, были права? Хуже птичьих! Директор принял ее, можно сказать, под честное слово — ни трудовой, ни справки какой-нибудь. Только и знал о ней, что работала когда-то в системе орса, а потом сидела сколько-то, вроде бы по вине других. Да это и по ней видно: мухи не обидит. И на старое место, как выпустили оттуда, сунуться больше и не подумала. Пропади, мол, они там пропадом. Лично я, — тычет себя в грудь Мария, — заводила ей по приказу директора новую трудовую — чистенькую! И Поликарпиха, конечно, держалась за это место. Дело знала хорошо, навела на складе порядок — работать бы ей да работать!
— Так и не надо было пускать на порог склада директоршу-то… — понизив голос, встревает Чурсиха.
— Ее не пустишь, как же! Ирина Владимировна, — кривит губы Мария, — привыкла ходить на склад с большой сумкой, как в магазин. А Поликарпиха не столько ее боялась, сколько директора не хотела обидеть. Пожалела его…
— А Кокон-то возьми и подлови Иринушку! — взвизгивая от восторга, опять вставляет Чурсиха. — Во зло директору, видно. Он же, Кокон-то, хотел свою Файку завскладом сделать. А какое у Файки право на это дело, сама посуди: пять классов, шестой — коридор.
— Ну, — кивает Мария. — Он с директором-то и схлестнулся из-за Поликарпихи. С самого начала возражал, чтобы не принимали ее. Сомнительный, дескать, элемент. На закрытом партсобрании даже выразил директору свое партийное недоверие.
— Он далеко-о метит, Петя Коконов…
— Далеко. Да сорвала я ему тогда атаку на директора. Встала и заявила: говорю, бдительность — это, конечно, хорошо, только и о доверии к человеку забывать не стоит!.. С тех пор-то он и затаился, поняла я, что теперь Кокон — заклятый мой враг. А когда я пожалела Поликарпиху, уже после случая с директоршей-то, — пересказывает снова Мария, — не стала записывать ей статью, какую велели сделать, не стала пачкать трудовую, а взяла да и записала, что увольняется по собственному желанию, вот тут-то Кокон и взвился! Тут-то и обвинил меня в соучастии, будто я сообщница Поликарпихи…
Чурсиха вздыхает.
— Уж и гад! — с злой томностью прикрывает она глаза, безнадежно качая головой из стороны в сторону. — Ты представляешь, взял привычку заявляться к нам в столовую! Мало нам директора, мало нам врача, чтобы морали читать и порядок требовать, так еще и он туда же! Ну ладно, говорил бы уж что-нибудь путное, по-человечески, дескать, как тут у вас, девочки, дела… а то ведь корчит из себя начальство, в глаза ни разу не глянет, ходит, ходит меж столиков, косится, не знает, к чему придраться. Я так думаю, Маш, — делится своей несегодняшней догадкой Чурсиха, — настоящему председателю, может, до всего есть дело, я не знаю… но я думаю так: если ты настоящий профорг, то будь добр, уважай тех, кому дело поручено, и нечего тебе в каждую дырку нос совать! Да еще с гонором!
— Уж и гонор… Куда тебе, — вяло соглашается Мария. — Ты вспомни, какой он приехал к нам — обходительный, вежливый, ко мне в приемную ни разу в кепке не вошел. А сейчас кепку сменил на папаху. В кабинете у директора развалится в кресле и папаху эту свою задрипанную с головы и снять не подумает.
— Да уж и папаха! Где только выкопал? На улице теплынь, ребятня в школу без пальто бегает, а этот придурок из папахи не вылазит. Это ж смех и грех! А ты знаешь что… — вдруг осенило Чурсиху. — А так же он выше ростом кажется! — хохочет она. — Ну, Кокон… такой, да еще в папахе, и директора подсидит, несмотря что недомерок.
Мария онемело смотрит сквозь Чурсиху как бы на просвет, словно вовсе не это хотелось ей услышать, а про что-то другое, что, возможно, и утешило бы ее хоть самую малость.
Но Чурсиха молчит, и Мария, чуть встряхивая головой, коротко роняет:
— Не подсидит. — А сама уже заметно отходит от этой негаданной утренней посиделки — выпивки не выпивки, так только, для забытья души. А забытья-то и не получилось. Еще больше растравила сама себя. — Ничего у него не выйдет, у этого Кокона, он почти всех против себя восстановил. Люди же не слепые, видят. Вот только до первого партсобрания — уж лично я молчать не буду!
Она снова возбуждена и делает вид, будто это самое собрание, которого она так ждет, вовсе не для того назначается, чтобы обсудить ее персональное дело, а для того, чтобы поставить все на свои места.
— Ты-то молчать не будешь… Да только не так уж и все против него, Маша, — с сомнением говорит Чурсиха. — Петька Кокон умеет людям пыль в глаза пустить. Большой мастер критикнуть разные недостатки! А люди-то уши развешают и думают: ну уж этот-то откроет нам правду, с таким мы далеко пойдем и на коне будем! На что уж некоторые… которые вроде неплохо к тебе относились… тоже теперь на дыбы, тоже против тебя, Маша. Или ты сама не замечаешь?
Мария чувствует, что ей лучше бы не выпытывать сейчас у Чурсихи, кого она имеет в виду, но все же не выдерживает:
— Ты это про Митю, что ли?
— А хоть бы и про него, — пожимает Чурсиха плечами, и лицо ее не выдает, что она ждала именно этого вопроса. — Сама вчера слыхала, как он говорил: хотел ее с пацаном взять, ни на что, говорит, не обратил бы внимания, а уж после такого дела — извините-подвиньтесь… Такой, говорит, славы мне не надо.
— Но я же век ее не знала, Поликарпиху эту! — чуть не плачет Мария, бездумно отталкивая от себя какую-то посуду на столе.
— Знала, не знала… Там не спросят.
Игла давно попусту ширкает по гладкой последней резьбе на пластинке. Мария морщит лицо, утирая пальцами слезы, вслепую протягивает руку и переставляет головку звукоснимателя к внешнему ободку.
В этот вьюжный неласковый вечер,
Когда снежная мгла вдоль дорог,
Ты накинь, дорогая, на плечи
Оренбургский пуховый платок…
К часу дня она подходит к административному корпусу.
Ее новая работа теперь проста: до решения заведенного на нее персонального дела директор временно назначил Комракову комендантом. Должность по штатному расписанию неполная — всего пол-единицы, с зарплатой в тридцать рублей.
Мария усмехается, вспомнив, как уговаривала ее сегодня Чурсиха: «Ты не брыкайся на собрании-то, ну чего тебе, скажи на милость, изводиться понапрасну, и Кокону не перечь, как говорится: плетью обуха не перешибешь! Ну, поругают для порядка, ну, дадут выговор — да и простят, глядишь! И работу за тобой оставят, а работа и такая не последняя: хоть и тридцать рублей, да и где их еще взять, на дороге не валяются. А ты отсидела на лавочке перед конторой три с половиной часа — и сама себе хозяйка!»
Сердобольная соседка учила ее жить. Да, может, и права Чурсиха. Вот по ее же совету она первый год нынче сдала свою однокомнатную квартиру отдыхающим. А то совсем было растерялась — на тридцать рублей на двоих не очень-то разживешься. Противно ютиться в сарайчике, да что-то же придумывать надо.
Она делает маленький крюк, будто ненароком огибая перекопанный цветник, и проходит перед окнами директорского кабинета, как бы официально отмечая тем самым свое аккуратное появление на работе.
Но в корпус не идет — в приемной теперь сидит новая секретарша, а в бухгалтерии, камере хранения, закутке эвакуатора и в процедурной у медсестры Дуськи Черненко нечего ей делать. Мария вспоминает, что в корпусе есть и еще один кабинет — вечно пустующую палату изолятора, два метра на три, отвоевал у медсестры нынешний председатель месткома Кокон. Раньше у профорга никаких кабинетов не было.
Нечего Марии делать в корпусе, там и места-то для коменданта нет; кому надо — позовут, ее место здесь.
Она садится на виду у входа, под пахнущею вербой ивою, прислоняется спиной к ребристой скамейке, прислушиваясь к сбивчивому стуку ее осиротелой машинки и не зная, куда девать руки. Ей представляется, как и директор сидит у себя и, по привычке между делом растирая немеющую руку, подергивающуюся от давней контузии, тоже прислушивается к странному ломкому звуку работающих клавишей. У Марии они пели тихо, ненавязчиво, был какой-то исподволь проникавший в тебя ритм движения. И директор не мог за год-то не привыкнуть к ее работе, и работа этой, новенькой, должна бы его сейчас огорчать и невольно возвращать к худым ли, к хорошим ли мыслям, но о ней — Марии Комраковой.
Ноги в туфлях, не прикрытые тенью от дерева, скоро нагреваются, липнут подошвами к стельке. Она высвобождает их, шевелит в воздухе пальцами и примащивает сверху на туфли; подумала, не снять ли еще и плащик, но вдруг устыдилась этой малой своей праздности, покосилась на окна и снова сунула ноги в туфли.
Когда она подходила сюда, видела, что окно медпункта было открыто и у отдернутой наполовину занавески грелась на солнышке Дуська, рано расплывшаяся и обленевшая с некрутой своей работы. До этого, бывало, Дуська частенько захаживала к ней, особенно перед танцами: «Машенька, сделай мне что-нибудь с моими лохмами!» А они у нее и впрямь лохмы: жирные, реденькие, — как смеялся Митя: «У этой Дуськи не волосы на голове, а загадка природы — три волосинки в четыре ряда!» Накрутишь, причешешь — разве она хоть раз отказалась? А теперь Дуська на людях старается с ней не разговаривать, не хочет, видно, бросить на себя тень. Ох люди…
Да что про чужих говорить, когда даже свои отвернулись от нее. Дядя Наум, родной брат отца, тоже считает ее виноватой. Правда, Таисия, жена Наума, наоборот, сочувствует Марии, хотя и не высказывает вслух этого сочувствия — чаще прежнего стала угощать Игорька конфетами. А дядя Наум даже здороваться перестал. Говорит: «Бросаешь, Мария, тень на нас, Комраковых!..»
В корпус ведут новую группу отдыхающих. С чемоданами, прямо с автостанции. Сестра-хозяйка Валя Ануфриева уже успела их где-то встретить — молодец, Валюха, работу свою знает. Тоже одна. И тоже в годах — тютелька в
тютельку тридцать. Как и ей. Как и Чурсихе. Как и Дуське тоже. «Девки на выданье», — шутила когда-то сама над собой и над ними Мария. «Ну что, девки, пойдем на танцы-то?» А сегодня точно будут танцы, вспоминает Мария, сегодня открытие заезда. Совсем вылетело из головы. А раньше как-то подбиралась вся, наполнялась каким-то щемящим предчувствием. Правда, перед прошлым сезоном это чувство было уже покойнее — тогда у нее с Митей что-то начиналось, открыто к ней он еще не ходил, но уже ревновал, дулся, если она танцевала с кем-нибудь из отдыхающих. А она нарочно дразнила его, приглашала кого-нибудь сама, хотя только и видела, как Митя стоит на веранде и курит, и у нее внутри все обрывалось от сладкой мысли, что вот кто-то из-за нее расстраивается, кому-то, оказывается, она еще нужна — значит, жизнь не кончилась. В такие минуты она забывала про своего Игорька, а потом кляла себя, вспоминая, как он ни в какую не шел домой и, пережидая танцы, по-ребячьи трудно боролся со сном в уголке на стуле. Было, ох было… Лучше не вспоминать об этом…
Она старается удержать свой взгляд на чем-нибудь простом, только чтобы ни о чем не думать, смотрит вверх на нижние ветки ивы, для чего-то считает пчел, берущих с желтых пахучих сережек первый взяток, и будто кто ее толкает в спину — она видит Митю, бок о бок идущего с Чурсихой. «Видно, из столовой, — невпопад думает Мария, — хорошо еще, что я сама не пошла, а Игорька за обедом отправила».
Митя, словно не замечая ее, что-то последнее говорит Чурсихе и сворачивает в сторону, уходит к гаражу; Мария смотрит ему вслед и краем глаза в то же время отмечает, что сама Чурсиха направляется к ней.
— Здорово, давно не виделись… — шутит соседка, маленькое лицо ее лоснится, она не спеша вытаскивает из-под рукава своего вязаного платья вчетверо сложенный платочек и осторожно, чтобы не смазать тушь, осушает щеки.
Мария еще успевает настороженно удивиться, что внутри у нее все заходится от какого-то предчувствия. И молчит. Смотрит на Чурсиху и молчит. Куда весь мир подевался со всем своим добром, будто ни солнца, ни неба, ни пчел над головой с их медовым гудом век не бывало. Одна вот Чурсиха и сидит перед ней, на скамейке напротив, и смотрит на нее с таким видом, будто сама знает давно, что никакого мира вообще не было, знает, а потому говорит ей с пугающе сладострастным удовольствием, как казнит:
— Твой-то… знаешь, что сказал?
«Про кого это она, про Митю, что ли?» — силится разгадать Мария эту новую, дневную, Чурсиху.
— …Раз, говорит, Комракова — ну ты то есть! — не хочет ни в какую выписывать из общежития свою Поликарпиху, то, говорит, он лично вынужден был присоветовать Кокону вызвать из района работников прокуратуры и ОБХСС: мол, пускай товарищи пресекут это дело в корне, раз некоторые сами того добиваются…
Мария молчит, молчит, просто ничего не может сказать, и только пугается, что молчанка эта не к добру — ей надо что-то ответить Чурсихе, а у нее от всего этого как отнялся язык. И когда Чурсиха говорит ей еще что-то и делает движение подняться и идти по своим делам, Мария будто сама себе вполголоса молвит:
— Она не виновата, — и пытается представить заплаканную Поликарпиху. — То есть она, конечно, виновата, но не настолько, чтобы мы с ней так обошлись.
Теперь Мария начинает догадываться про Чурсиху и Митю, и это открытие странным образом успокаивает ее, она снова различает гудение пчел вверху и тяжесть нагретых ступней, попеременно высвобождает ноги из туфель и вытягивает их перед собой.
Как раз сестра-хозяйка выводит своих клиентов из административного корпуса, замечает их с Чурсихой, и та, словно вспомнив о чем-то, неотложно ждущем ее дома, срывается с места.
Мария слышит, как она на ходу здоровается с Валей, будто сто лет ее не видела, и та исподтишка взглядывает на Марию, задерживает взгляд на босых ее ногах и проходит впереди отдыхающих с молчаливой деловитостью, как мимо чужой.
«Какой же он, к черту, мой, — хочет сказать Мария вслед Чурсихе, — зря ты за него хлопочешь: мне его поведение и так ясно». Но сознание ее останавливается на чем-то постороннем: при ярком сегодняшнем свете она как бы впервые увидела, что Валька-то Ануфриева как есть рыжая, лицо у нее ну все-то в конопушках!.. Кое-как всунув ноги в туфли, Мария бежит сломя голову в дальний угол парка, в общежитие.
Поликарпиха в крохотной комнатке с казенной мебелью отрешенно сидит у порога на своем чемодане. Белье сложено стопкой, пусто на душе от вида свернутого матраца и голой панцирной сетки; в большом тазике приготовила к сдаче графин, утюг, зеркало и еще какое-то санаторное барахло. В бутылке из-под лимонада стоит на подоконнике странный букетик — несколько веточек ивы с белесо опушенными почками.
— Ты чего это? — прямо с порога, не отдышавшись, говорит Мария и, нащупывая рукой холодный угольник сетки, присаживается на краешек кровати и рывком расстегивает ворот блузки. Ее больше всего удивляет, что Поликарпиха вовсе и не плачет. Не старая еще, но уже и далеко не первой молодости, она, как видно, давно отплакала свое.
— Мне Петр Ильич, — заготовленно начинает она, имея в виду Кокона, — седни наказал: если, мол, ты не хочешь, чтобы за тобой нагрянули из органов, то давай, говорит, выметайся подобру-поздорову, чтобы и духу твоего не было. А я не хочу иметь дело с органами, Марусенька, ты уж лучше отпусти меня, давай оформи, миленькая, быстрее — и…
Мария посмотрела, как та махнула рукой в сторону: «Уеду куда глаза глядят», и вместо ожесточения ощутила во всем теле какую-то ошеломляющую усталость. Совсем немного посидела-посидела, словно раздумывая о чем-то, встала, вздохнула, взяла со стола заготовленный тазик с имуществом и звякнула в кармане плаща связкой ключей.
— Пошли, Екатерина Павловна. Может, оно и лучше так-то. Еще неизвестно, какой они фокус выкинут, — сказала она, представляя, как в этот момент Кокон сидит у себя в кабинете и названивает в район. — Все равно тебе житья здесь не будет.
По пути к хозяйственному складу, поджидая приотставшую Поликарпиху с чемоданом в руке и матрацем под мышкой (Мария нарочно повела ее мимо окон административного корпуса), она говорит:
— А все-таки жалко, Екатерина Павловна, что ты два раза кряду смалодушничала.
На Поликарпихе пальто и шаль — для экономии места; она одышливо сопит, толчком меняет местами свою неравномерную ношу и тянет время, чтобы не идти рядышком с комендантшей, затеявшей к чему-то эту нотацию.
— Дала бы ей как следует по одному месту — живо бы отучила на склад шастать, — уже не оглядываясь, вяло говорит Мария это последнее, как позднее и зряшное напутствие, понимая в душе, что даром теряет время с этим разговором; не нужны Поликарпихе никакие слова. Она и свои-то — шла, шла, как воды в рот набрала, и вот чего-то надумала — выговаривает ровно через силу, чтобы, видимо, только не обидеть ее полным молчанием.
— Ничего, Марусенька, ничего. Что уж теперь, после драки-то? Мне бы вот только подальше отсюда выбраться, в другое местечко, где меня ни одна душа не знает, будь они все прокляты, люди такие… Уж теперь бы я не смолчала, теперь за мной не заржавеет! — неожиданно распаляется она, и Мария даже приостанавливается, дивясь на эту тихую, податливую бабу, — откуда что взялось в ней. — Теперь я на всю жизнь ученая!.. А слушай-ка, Маруся… — вдруг одумывается Поликарпиха, машинально ставит на землю чемодан, матрац у нее раскатывается, она кое-как, не чувствуя его, подхватывает упавшую половинку, комкает, зажимает под мышкой, и Мария только теперь замечает, что Поликарпиха взяла с подоконника вербный букет; из-за него-то и выпустила из рук матрац. — А ведь мне тебя, девушка, бросать, ой, грех… Да где ни пропадала наша: об двоих-то, глядишь, скорее зубы обломают! Возьму и расскажу все, как на духу, — пускай судят, в чем виновата!
Мария опять, как и утром, смазывает с лица теплую слезу, ставит на землю тазик и размахивает вконец онемевшей рукой.
— Вот, — сквозь слезы смеется она, — лечи мне теперь руку. А то как я кавалеров на танцах обнимать буду!
Поликарпиха подходит к ней и, тоже плача и улыбаясь, гладит ее плечо той рукой, в которой вербный букет, обнимает ее, но стесняется этого своего порывистого движения, утирает ладошками слезы и смеется:
— Бери уж тогда и меня на танцы! Пропадать — так с музыкой!
Прежде чем вернуться назад, опять мимо окон административного корпуса, они бросают на траву в сторонке от дороги Поликарпихин казенный матрац и, как бы собираясь с силами, сидят на нем самую малость. Ивовые вербы в руках Поликарпихи пахнут весной и надеждой.
В сумерки Мария бесцельно сидит у себя на топчане, без света и с притворенной дверью, хотя в сарайке и темно и душно. Игорек где-то бегает. Она и думает о чем-то и не думает, и временами до ее сознания доходят звуки не превращающейся снаружи жизни. Вжикает своей скрипучей дверью медичка Дуська и спрашивает через двор у рыжей Вальки бигуди; шумит на своего парнишку Чурсиха, тот невнятно огрызается, и Тонька, дура, ругает его непотребным словом.
«И чего все колготятся? — думает Мария. — Сколько ни суетитесь сегодня, завтра будет опять все сначала».
Она вникает в эту свою мысль и тут же соглашается сама с собой, решая, что ничего не делать вовсе невозможно. Она пробует высчитать, загибая пальцы, давно ли было последнее письмо из дома, но нет, не помнит точно. Да и сама она когда писала?
Ах, как хорошо-то бы ей было сейчас с родной маменькой, и куда это все уходит, куда все девается, и нету к прошлому никакого возврата. Брат Венька писал как-то: беспокойно ему от мысли, что все Комраковы поразбрелись-поразъехались, живут порознь, а еще одной жизни не будет, заново ее не прожить им, и не понимают люди того, что сами обкрадывают себя… Так-то оно так, вздыхает Мария. Но разве не жили они вместе, в одной семье, не работали на одном заводе? Отчего же тогда сам он не вернулся домой после армии, а уехал в Казахстан, на какой-то новый завод? Да и она тоже — напугали, будто не климат ей там, в родном гнезде, на Алтае, сорвалась, полетела куда глаза глядят. И что теперь? Значит, плохо без своего корня.
Но что же делать? Каждому дадено свое, как видно, и каждый хлещется как знает. И если бы не другие люди сгинули бы они все давно…
— Маша! Маш! — стучит в стенку Чурсиха. — Ты у себя? Я же знаю, что ты дома, чего отмалчиваешься-то?
Она глухо что-то бубнит себе под нос, хлопает своей дверью, стучит коваными каблуками туфель по асфальтовому пятачку возле умывальника, а, дойдя до Марииной двери, не решается с ходу открыть ее, деликатно гремит накладкой и истово шепчет в щелястые доски:
— Маша!.. Ты спишь, что ли?
Та молчит, только как бы ненароком шаркает по полу, переставляя ноги, и Чурсиха слышит и понимает это, как знак войти.
— Ты че это сидишь в потемках? — стрекочет она с наигранной бодростью, будто и не было сегодня неприятной сцены в обед. — А ну давай собирайся — айда сходим на танцы, что ли, че киснуть-то! Сегодня ж открытие!
Она шарит по стене, щелкает выключателем, щурится на свету и сразу проходит в передний угол, где у Марии стоит маленький тусклый трельяж. На Чурсихе все то же вязаное желтое платье, но с туалетной добавкой — на шее узелочком атласный платок, подарок отдыхающих по прошлому сезону. Она крутится у зеркала, мягко, подушечками пальцев, поправляет высокую прическу — только чтобы показать Марии да и самой убедиться, что волосы уложены хорошо, — достает из обшлага вместе с платочком маленький флакончик пробных духов, увлажненной пробкой тычет себе в мочки ушей, в щеки, в подбородок, и терпкий запах духов и Чурсихиного разомлелого под теплым платьем тела наполняет сарайчик, исподволь заражал Марию тем щемящим желанием поскорее начать суматошную зряшную канитель, без которой не бывает сборов на танцы.
— «Красная Москва», что ли? — пока еще как бы безразлично поводит носом Мария, но уже косится на Чурсиху ревниво, и глаза ее заметно оживляются, она смотрит на вешалку под старенькой занавеской, как бы мысленно примеряя, какое надеть ей платье.
— Ты знаешь че, подружка… — говорит Чурсиха, не глядя на Марию и никак не справляясь с подергивающимися губами, которыми и хотела бы улыбнуться, да не под силу сейчас ей это. — Я ж пошутила днем-то, ну про Митю твоего, что говорил он про тебя что-то… На мушку тебя брала! — желая от конфузливости быть понаглее, пробует она засмеяться и посмотреть прямо. — Ну, испытать тебя хотела: как, мол, она к этому отнесется? Так что ты не думай об этом лишнее.
Мария без всякого удивления горько взглядывает на бесталанную свою подружку, которая хорохорится и изо всех сил крепится, чтобы не заплакать, и говорит ей, как успокаивает:
— А я и не шибко и поверила тебе…
И смотрит в темноту дворика, пробуя представить, как в углу танцевальной веранды, среди нарядов и музыки, одиноко стоит сейчас человек, от веры в которого зависит вся ее жизнь.
2. ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО
Зима стояла на редкость теплая, сиротская, зато весна в два счета наверстала всю ту суровость, которая испокон веку выпадает нашей земле. Марии дивно было то, что морозы, такие же стойкие и деручие, как и на Алтае, — а может, здесь они казались еще нестерпимее, потому что держались при сильном ветре, — спустились даже на Крым. Ну, Алтай, Сибирь — это ладно, к тому уже давно все привыкли, а вот на теплое-то Черное море какой шут принес их, такие морозы?
Вечнозеленая лавровишня вся словно обуглилась, даже прихватило иные свечи кипарисов, а синички, птахи малые, перемерзли почти до единой, уцелели только те, которые чудом попали на подызбенки и обогрелись у печных труб.
И вот дождались, наконец, апреля. Студеные ветры опали, куда-то девались, и озябшие голые деревья приняли на себя как благодать первый весенний дождь. Он шел тихо, вроде как неуверенно, все еще словно раздумывая, вовремя ли спустился, но уже в том, как успокоенно замерцали повисшими каплями ломкие застуженные ветви, набираясь гибкости и силы, и как потянулись вверх, на глазах расправились реденькие зеленые стрелки травы, и как примолкли сначала, а потом наперебой зачивкали воробьи под застрехой сарая, в котором у Марии был склад санаторного имущества, — во всем этом ощущалась долгожданная перемена в природе.
Будто в предчувствии этого дождя Мария с утра не могла найти себе места, все валилось у нее из рук, и в конце концов, ни за что ни про что накричав на Игорька, доведя его и себя до слез, хлопнула в сердцах дверью и ушла на окраину поселка, к морю.
Через полчаса, малость успокоившись, она ругала свой характер: «Ну не дура ли, спрашивается? Наорала на ребенка, сорвала на нем свою злость… Господи, и что это за жизнь у меня пошла? Уже с утра сама не своя, не знаешь, как день обернется…»
Всю последнюю неделю Мария томилась, ожидая назначенного на пятницу партийного собрания, и ей казалось, что она не выдержит, сорвется, зайдет в кабинет к директору и положит на стол заявление, которое написала загодя. Уж так ее подмывало плюнуть на всю эту канитель, взять Игорька, побросать барахло в чемоданы и уехать обратно на Алтай, к отцу с матерью. Ну ее к лешему, думала Мария, правду эту, справедливость такую!
Устала она бороться. Да и какая это, к черту, борьба, если уцепиться не за что, нет вокруг ничего живого. Она считала поначалу, что воюет против Кокона, заведомо плохого человека, которого не сумели раскусить вовремя, и прокрался он на место председателя месткома, чтобы творить свои корыстные делишки; Мария была убеждена, что защищает Поликарпиху, отвергнутую от нормальной жизни из-за слабого ее характера, и тем самым волей-неволей помогает директору, уставшему от своих больших и малых забот. Еще зимой во всем этом была какая-то ясность. И вдруг в один распрекрасный день все полетело кувырком: Поликарпиха внезапно уехала из поселка, и пошли слухи, что это дело рук жены директора Ирины Владимировны, которая ревновала своего мужа к каждой юбке. Говорили, будто директор по вечерам таскался во флигель, где жила Поликарпиха. Якобы у Кокона были неопровержимые доказательства…
Хуже всего то, что директор в последнее время запил, запил не на шутку, и если раньше можно было только догадываться, что он к концу дня бывает слегка под хмельком, то теперь нередко являлся в контору на развезях уже после обеда. Да что являлся — ему за выпивкой не надо было ходить далеко. Прямо в кабинете, в шкафу, стояли бутылки с вином. Пей какое хочешь и хоть залейся. Винцо дармовое, из погребов местного винзавода. А началось все с того, что директор возил отдыхающих — не всех, конечно, а только, как он выразился, элиту — вроде как на экскурсию. Есть там что посмотреть или нет, но угостили их виноделы, видать, от души. Чуть тепленькие приехали обратно, хотя и элита. И с тех пор вино у директора не переводилось. «Вас что, зачислили в штат дегустаторов?» — хотела однажды съязвить Мария, когда еще работала секретарем-машинисткой и ей приходилось не только менять воду в графине, стоявшем в кабинете директора, но и тайком от сотрудников выносить пустые бутылки. Смолчала, глупая. Тогда он еще держался в рамках, много не пил. Может, в конце концов и сказала бы ему Мария, улучив момент, и вино бы это проклятое забрала из шкафа, да только вскоре ей уже не до того стало — Кокон завел на нее персональное дело.
Позже стали замечать директора пьяным уже не только конторские. Видно, у этой новенькой машинистки, которая теперь сидела и тюкала за Марииным столом, не было никакой охоты сдерживать человека, сошедшего с тормозов. Дескать, пьет и пусть пьет, при пьяном начальнике и работать легче…
Как-то раз изрядно подвыпивший директор встретился Марии в парке поздним вечером. До этого она норовила обходить его стороной, а тут задумалась и столкнулась носом к носу. Обрадованно заговорив с нею, он вроде как стал сочувствовать, даже сказал, что возьмет ее обратно секретарем-машинисткой, не посмотрит ни на какого Кокона, а сам, качаясь, будто ненароком положил руку ей на плечо. Мария вначале растерялась, но потом, уловив, как он противно дрожит и воровато оглядывается по сторонам, сбросила его руку. Весь вечер потом проплакала, кляня людскую способность делаться оборотнями, ни один зверь так не сумеет. Вот и думай после этого, в какой стороне добиваться справедливости.
Мария, поглядывая на поселок, куда, хочешь не хочешь, надо было возвращаться, тем более что скоро Игорька отправлять в школу, а ей самой с часу заступать на комендантскую свою службу, вышла из-под тента, где она пригрелась на скамейке. По-прежнему сеял дождик, теперь он шел посмелее, выбивая крошечные фонтанчики на рябой поверхности моря. Накат опал вместе с ветром, но волны, раскачавшие этакую чашу воды, долго еще ходили ходуном, будто жили сами по себе или кто-то невидимый плавно взбугривал их изнутри и неспешно, но могуче гонял пологие валы из края в край по всему заливу. Но уже было похоже, что силы эти на исходе, и все тише и тише, без резкого шлепанья, с мягким сонным клекотом хлюпало море у закрайка.
«Успокоилось, вроде как летнее стало, а все же холодное, — окинула Мария взглядом тусклый горизонт. — И пляж пустой, ни души».
Странно было представить, что скоро здесь некуда будет упасть яблоку. На четыре тысячи жителей поселка в летние месяцы набивалось около ста тысяч отдыхающих. Иные хозяйки умудрялись сдавать даже курятники. И приезжие лезли, особенно в июле и августе, уже без разбора. Они готовы были платить за голый топчан под открытым небом. Раньше, когда Мария приехала в поселок, за койку брали рубль в сутки, а теперь, будто сговорившись, хозяйки подняли цену до двух рублей, если дом стоял близко от моря, но меньше полутора рублей за койку уже не брали.
Ей, выросшей в рабочем городе, где каждая копейка зарабатывалась трудом, и нелегким, поначалу дико было видеть, как местные жители богатеют на дармовых рублях. Говорили, что почти у каждой семьи на книжке столько денег, что хватило бы не на одну машину. Уже у многих были «Жигули». Недавно, вспомнила Мария, купили машину Валька и Мишка Буценко, родственники Мити. Дом у Буценко двухэтажный, а во дворе стоят рядами отделанные каморки, негде повернуться — везде понастроено. Сам Мишка со своей фиксатой Валькой все лето живут под навесом, рядом с собачьей конурой. Мария как-то пошутила: «А вы и конуру сдайте отдыхающим, чего зря место пропадает?» Валька сверкнула фиксами, а Мишка деланно посмеялся: надо подумать, хорошее предложение. Чего ему не смеяться! Более тридцати коек сдают они, почти полторы тысячи в месяц. Мишка шутя выбросил на «Жигули» семь тысяч, ездят с Валькой по поселку с таким видом, будто теперь они стали лучше, чем есть на самом деле. Нет, сколько ни мой черного кобеля, а не отмоешь его добела! Ничего людского в Мишке с Валькой не прибавилось. Жадность и чужие деньги никого еще не сделали человеком.
«Это почему же такое происходит? — думала Мария. — За воровство судят, а вот за то, что куркули обирают людей средь бела дня, даже налог не берут». Валька с Мишкой, как и другие ловкачи, прибили к калитке своего дома табличку: «Комнаты не сдаются», дескать, у нас гостят только родственники, а за родственников какой может быть налог? И поссовет верит, хотя у тех же Буценко зимой снега не выпросишь, какие уж тут родственники.
Мария никак не могла понять эту несуразность. Ведь, глядя на своих родителей-хапуг, ребятишки тоже начинали думать, что главное в жизни — «это гроши да харчи хороши». Не потому ли иные ребята так рано спиваются, а девчонки бросают школу и болтаются на набережной? Разве нельзя, удивлялась Мария, запретить это в корне, такое открытое предпринимательство? Ведь рабочий человек, если ему дали отпуск, всегда достанет путевку в санаторий или дом отдыха, а молодящимся сорокалетним модницам, сроду никакого труда не знавшим, не говоря уже про косяки здоровых девиц и парней, которые днем спят на пляже, а ночью устраивают оргии, вовсе не обязательно ездить на Черное море. Прожигать жизнь можно и в другом месте, а здесь, считала Мария, люди должны укреплять свое здоровье. Страшно просыпаться по ночам, когда пьяные оравы идут с моря, горланя на весь поселок. А то и драку затеят.
«Уеду! — в который уж раз говорит она себе. — Глаза бы мои больше не глядели на этот курорт. Господи, неужели и в других местах так же?!»
Выбираясь с мокрого пляжного песка на асфальт набережной, Мария неожиданно встретилась лицом к лицу с главным бухгалтером санатория Варварой Михеевной. Толстая, тяжелая, та словно застряла на нижней ступеньке лестницы, у железных ворот, возле которых летом сидит дежурный. Мария поздно, уже ступив на лестницу, подняла голову, а то лучше бы пройти мимо, до следующих воротцев.
— Ты чего это под дождем мокнешь? — неопределенно улыбнувшись, спросила Варвара Михеевна.
— Да так, гуляю…
Мария тут же осеклась: не могла придумать лучше, что сказать Михеевне! Гуляет она… Средь рабочего дня. Правда, время у нее еще не казенное, работает она на полставки и график установили ей в конторе — им так удобнее, чтобы комендант Комракова к концу дня прямиком шла на пятиминутку, чтобы не искать, не ждать ее, как если бы она работала с утра и в обед уходила домой.
— И не надоело тебе гулять? — с плохо скрытым удивлением спросила Михеевна.
«Как будто я сама себе устроила такую гулянку!» — с раздражением подумала Мария, а вслух сказала:
— К часу я буду в конторе.
— К часу-то будешь, я знаю… Сегодня партсобрание.
— Я помню.
«Еще бы тебе не помнить…» — казалось, говорили глаза Михеевны.
— Важный вопрос будет решаться, — озаботилась она и пытливо вгляделась в лицо Марии.
«Пожалела ты меня, как же!» — мысленно усмехнулась Мария. Вообще-то, она ничего не имела против главного бухгалтера, тоже служба не самая лучшая, не хватает счетных работников, вся материальная ответственность на ней, потому что директор, говорили, в последнее время не стал вникать ни во что. Из-за годового отчета Михеевна допоздна засиживалась в конторе, до одури скрежеща арифмометром.
— Я и сама знаю, что важный, — норовя уйти от этого разговора, еще больше нахмурилась Мария. Хотя Михеевна и была парторгом, но попусту лясы точить с нею совсем не хотелось. Что толку? Сейчас Михеевна может вроде как и пожалеть ее, а на партсобрании подпоет в один голос с Коконом, разве она не заодно с ним? Была бы не заодно, так не выносили бы разговор о ней, Комраковой, на партсобрание. Была бы она, Михеевна, хорошим человеком, так не мусолили бы столько времени так называемое персональное дело. Нет уж, видно, коли поставили на диск пластинку, надо проиграть ее до конца, хотя эта музыка уже никому и не нужна.
«Лучше бы директора разобрали и пропесочили, пока не поздно!» — подмывало Марию сказать, и Михеевна, словно догадавшись, о чем она подумала, промолвила с неохотой:
— Знаешь, да не совсем. Речь не про тебя будет. Чего про тебя говорить? Разве мы тебя не знаем…
Мария во все глаза смотрела на Михеевну, и та, помедлив, сказала, как подвела итог:
— Конечно, ты не имела права так поступать, самовольно ставить запись в трудовую. Но ты за это уже пострадала. Хватит. Давай-ка вот переходи ко мне в бухгалтерию. Считать-то умеешь? — как бы нисколько не сомневаясь в этом, улыбнулась Михеевна.
«Правда, что ли? — обдало Марию жаром. — Значит, все?!»
— Ну, что ты молчишь? У тебя же десять классов, должна уметь. А чего не умеешь — научу. Будешь делать раскладку.
— Какую раскладку? — плохо соображая, что происходит, пролепетала Мария.
— Да для кухни. Сколько чего надо, каких продуктов, на дневную закладку. А зарплата тебе будет — девяносто рублей. — Решив, что Мария колеблется, Михеевна тихо добавила: — Сытая всегда будешь. Девчата на кухне подкормят и тебя, и сынишку… Да и домой иной раз… кефир там или сахар, хлеб, консервы какие…
Мария слегка откачнулась от нее, округлив глаза.
— Да нет! — усмехнулась Михеевна. — Ты меня не так поняла. Никакого мухляжа не надо делать. Просто наша Катя Пасьянцева, шеф-повар, считать не умеет. Готовит хорошо, курсы закончила, а прикинуть закладку… Вот ты и поможешь ей. А уж она…
Михеевна сделала было сердитое, крайне недовольное лицо, как бы осуждая безусловно такие порядки кухонных работников, но тут же с коротким вздохом утратила это выражение, опять на ее щеках обозначились безвольные складки усталого человека, а глаза как бы говорили: «Ох, у меня и без тебя забот полно…»
«Раскладка… закладка… зарплата… — вертелось в голове у Марии. — А как же персональное дело? Значит, его снимают совсем? Но почему только сейчас? Разве нельзя было это сделать еще зимой? Зачем же нужно было тянуть и смотреть, как мучается человек…»
Она жестко растерла мокрое от дождя лицо и, как-то неуверенно ступая, обошла Михеевну, поднялась по лестнице и села на лавочку под грибком.
— Ты что… тебе плохо, что ли? — подалась за нею Михеевна.
— Да нет, это так… сейчас пройдет.
Марии хотелось спросить, какой же важный вопрос будет решаться на партсобрании, но в груди слева у нее разрасталась боль; давнишнее, с зимы, тупое покалывание, которое она чувствовала временами, переходило теперь в острое и пугающе непрерывное давление, будто сердце сжали со всех сторон чем-то горячим. Откинувшись к спинке скамьи, часто дыша сквозь судорожно открытый рот, она видела, как в тумане, испуганное лицо Михеевны и рядом еще чье-то. Только потом, когда ей дали воды, Мария, стуча зубами о край стакана, узнала вторую — это была Таисия.
«Она-то откуда взялась?» — подумала Мария, будто запамятовав, что Таисия и дядя Наум живут прямо на набережной, в «кораблике» — дощатом крашеном домике, где поначалу был санаторный медпункт.
— Господи, что с тобой, Маша?! — чуть не плача, суетилась возле нее Таисия. — Довели человека до ручки! — люто глянула она на Михеевну. — И чего вы к ней пристаете?
— Да я ей ничего такого не сказала…
— Ничего не сказала! Не сказала бы, так человек не упал бы в обморок посреди дороги.
Мария, сидя все так же откинувшись, помотала головой:
— Я не падала…
— Так и упала бы, кабы где в другом месте была, не на лавочке, — настаивала Таисия. — Тебе сейчас, Маша, лечь надо. Я тебя потихоньку-помаленьку к себе уведу.
— Как она пойдет? — строго наверстала теперь Михеевна упущенную на время начальственную суровость. — Давай-ка не стой здесь, беги в корпус, — приказала она Таисии. — Скажи врачу или Дусе, пусть придут!
— Да не надо… — болезненно поморщилась Мария.
— Надо, надо, Маша! — И Таисия, разбрызгивая лужи, тяжело побежала в парк.
Через несколько минут, когда Мария уже сидела прямая и, гладя себя по левой стороне груди, виновато посматривала на дежурившую возле нее Михеевну, из парка выбежали на набережную Гельман в белом халате и садовник Алексей Степанович. За ними едва поспевала Таисия.
«Ой, чего они всполошились?» — Марии стало неудобно за этот свой глупый сердечный приступ. Да уж и глупый! Нет чтобы дома, когда никто не видит ее такой слабой, ну отдышалась бы, выпила капель — и все прошло бы, не в первый раз, а то, как любит говорить отец, извольте радоваться: нарисовалась посреди набережной!
Гельман, едва подскочив к Марии, поймал ее кисть и, мягко придавив запястье пальцами, стал считать пульс.
— Что это вы, Мария Ивановна, расклеились? — встревоженно спросил он.
Марии нравился этот человек. Вот уж кто выдержанный и воспитанный! От кого другого можно и матерок услышать, даже от директора, теперь это вроде моды стало, а Гельман всегда вежливый, со всеми на «вы», и приди к нему в медпункт с любой пустячной болью, выслушает с таким вниманием, что станет совестно, себя же и выругаешь: из-за пустяка отнимаешь у человека время.
— Это я так чего-то, Герман Аркадьевич, — вяло улыбнулась Мария. — Сейчас все пройдет. Спасибо, не беспокойтесь…
— Надо бы вас отвезти в медпункт, а лучше сразу домой, — озабоченно сказал Гельман и перевел взгляд на садовника, как бы говоря ему, что оставлять Марию здесь нельзя.
— Неужели ни одной машины в гараже нет? — тот требовательно посмотрел на Михеевну.
— Автобус зафрахтовал курортторг, на «рафике» прораб уехал в Ялту, к подрядчикам, остальные на ремонте, — с невольной готовностью доложила Михеевна своему заместителю по партийной работе.
— А директорская «Волга»?
— Директор уехал в Симферополь. В обком, сказал.
— Ну да, в обком… — встряла Таисия. — Конец же недели. Вот он и навострился за дочкой. Знаем мы, какую он привычку взял. А в понедельник чуть свет опять якобы в обком поедет — отвозить дочь, чтобы та на работу не опоздала.
Садовник возмущенно крякнул, а Гельман, как бы стесняясь за директора, нахмурился и, заученным движением, не глядя, достав из нагрудного кармана стеклянный патрончик и вытряхнув из него на ладонь таблетку, протянул Марии.
— Пожалуйста, проглотите… Безобразие, — тихо и горестно сказал он минуту спустя, когда Мария справилась с таблеткой, — ни машины, ни медсестры… Евдокия Семеновна, — так величал он Дуську, — как раз ушла домой, а надо бы сделать укол. Я сам сделаю, но больную нужно немедленно перевезти в медпункт. Есть же хоть какая-то машина?! В парке их вон сколько шныряет…
— Бортовая да ассенизационная, — сказала Михеевна.
— Я сама, — твердо решила Мария, прислушиваясь к себе. — Уже отошло. Спасибо, Герман Аркадьевич, спасибо… — и она, отводя руку протестующего Гельмана, не спеша поднялась и, держась за локоть Таисии, потихонечку пошла в сторону своего дома.
— Но ей же нельзя, — с мольбой и страданием сказал Гельман вслед.
— Нам всем нельзя… — неопределенно откликнулась Михеевна. — Пока ноги держат — значит можно. Чурсиха говорила, что с Марией это частенько… прихватывает.
— А раньше не прихватывало, — уверенно, все еще накаляясь, сказал садовник. — Желтая, правда, была, когда приехала с Алтая, все ходила нюхала цветочки, но на сердце не жаловалась, не замечал. Заплывала далеко за буйки, спасатели все время ругались с ней…
«Хорошие они, все хорошие», — умиляясь чужой заботе о ней, думала Мария, слышавшая эти слова, и, вспомнив, повернулась к ним:
— Вы собрание-то не отменяйте. Я к тому часу вполне готовая буду.
— Какое тебе собрание! — махнул рукой садовник.
— Так а чего тянуть-то? Сколько можно?
Садовник внимательно посмотрел ей в лицо, как бы не сразу постигая причину этого ее волнения.
— Она, глупая, думает, — умиротворяющим тоном произнесла Михеевна, — что мы ее персональное дело рассматривать будем… Нет же, Маша! Я ведь сказала, что с тобой теперь все ясно.
— Почему только теперь? — вкрадчиво поинтересовался Гельман.
— Да-а… — огорченно протянул садовник. — Ну и люди же мы! Хлебом нас не корми, а дай помариновать человека!
— Ты, Маша, не волнуйся, — темнея лицом от непривычки выслушивать все это, напутствовала Михеевна. Ей хотелось, чтобы Мария поскорее ушла с глаз долой, и можно было бы всем разойтись по своим делам. — Это собрание по другому поводу.
— По какому же? Я как член партии тоже хочу знать.
Михеевна помялась.
— Да здесь же все коммунисты! — снисходительно успокоил парторга садовник. — И я, и Герман Аркадьевич, и Таисия… Директора будем разбирать, Маша. А заодно и Кононова. Один пьянствует беспробудно, а другой склоку разводит, групповщиной занялся, во все инстанции письма строчит, от комиссий отбоя нет.
«Давно пора», — невольно вздохнула Мария и, словно все еще не веря этой новости, оглядела всех поочередно.
В парке, не успела Таисия обсудить со всех сторон предстоящее событие, им встретился Митя. С недавних пор он работал на ассенизационной машине. Только что, видно, подъехал к колодцу и еще не успел опустить «кишку», заметил Марию с Таисией и растерялся: не знал, то ли уж до конца покончить с «кишкой», сунуть ее в колодец как ни в чем не бывало или же бросить на землю, выключить мотор и, будто устраивая себе перекур, шагнуть женщинам навстречу и тут же поговорить с Марией.
В том-то и дело, что последнее время он искал с нею встреч, сначала она узнала об этом от Чурсихи, а потом Митя и сам попробовал как-то заговорить, но Мария сослалась на неотложную работу, какой у нее и в помине не было, и не стала даже останавливаться. Она почему-то сразу поняла, что этот разговор так или иначе будет связан с предстоящим партсобранием и уж никак не с их личными отношениями, поэтому еще больше замкнулась, глядела на Митю отчужденно, почти враждебно.
«Что он может сказать мне хорошего? — растравляя себя, думала Мария. — Всю зиму чурался, будто совсем незнакомый, а тут, видите ли, потянуло на беседу. За Кокона небось волнуется, за дружка своего, ведь знает же прекрасно, что уж я отмалчиваться на собрании не буду, вот и хочет правдой-неправдой заткнуть мне рот. Еще, чего доброго, подлизываться станет, снова давать обещания жениться. Нужен он мне теперь, как собаке пятая нога!»
— Это куда так торопитесь? — картавя, казалось, сильнее обычного, Митя, неуверенно улыбаясь, встал у них на пути.
— Торопимся, ага… Разбежались. Гляди, как бы не запнулись за тебя, — съязвила Таисия, давно догадавшаяся, что отношения Мити и Марии разладились. — Разве не видишь, что человек едва держится на ногах? А ну, отступи!
— А что случилось? — Митя удивленно выпучил глаза, стараясь заранее выказать сочувствие. С дороги, однако, он и не подумал сойти.
— Случилось, не случилось — это уж теперь тебя не касается, — еще более жестко отрезала Таисия.
— Не надо… — промолвила Мария, сжимая локоть Таисии. — Ничего не случилось, — пояснила она Мите, неопределенно улыбнувшись. И пристально глянула ему в глаза, как бы говоря: «Ну, я слушаю тебя… Что же ты собирался сказать мне?»
На лице Мити отразилось какое-то внутреннее борение. Видимо, он решал, стоит ли сейчас затевать разговор, тем более при Таисии, настроенной воинственно. Мария, словно догадавшись, о чем он думал, отстранилась от родственницы.
— Спасибо тебе… Я сама дойду. Сама, правда! — мягко отмела Мария попытку Таисии остаться при ней. И шагнула к скамейке, села на мокрый краешек, смахнув ладонью влагу, и снова выжидательно уставилась на Митю: хочешь — тоже садись рядом, а нет, так стоя говори, пока я тебя слушаю.
Таисия, потоптавшись на месте, вздохнула и пошла, то и дело оглядываясь на них. Митя помедлил и тоже сел на скамейку, но не близко к Марии, а поодаль, и она, усмехнувшись, отметила, что в ней ничто не отозвалось ни болью, ни радостью.
— Извини, что я так далеко сел, — смутился Митя на мгновение, уловив ее усмешку. — Я же в рабочем, грязном…
— Правильно сделал.
— А ты ершистая стала.
— Да нет, не ершистая, я всегда была такая, как есть.
Он долго возился с отмокшими спичками, пытаясь закурить; Мария поняла, что у него уже нет прежней уверенности в себе, и это открытие, против ожидания, слегка опечалило ее.
— Я вижу, Маша, что ты меня избегаешь, — начал он издалека.
— Допустим, это я избегаю тебя. Дальше что? — Ей уже хотелось поскорее закончить эту встречу.
— А как же наше прошлое?
— Прошлое прошло.
— Ты так считаешь?
— А ты считаешь иначе?
Мария уловила, что он все время стрижет по сторонам глазами, словно боясь, чтобы их тут кто не застал. Еще дальше отстранившись от Мити, глядя на него вполоборота, она с удивлением подумала о том, что еще полгода назад сходила по нему с ума. Господи, и что она в нем нашла?! Разве он не такой же, как и многие здешние мужики? Прошлым летом к нему приехала родная сестра с мужем и ребенком, жили два месяца, занимали крохотную комнатку, питались на свои деньги, и ведь приехали не жир сгонять, а подлечиться, — так Митя, не моргнув и глазом, взял с них за две койки сто восемьдесят рублей. Сестра, страдая от Митиной жадности, сказала ему, что хочет заплатить столько, сколько здесь берут другие хозяева, чтобы Валька Буценко не считала их нахлебниками, и Митя, буркнув под нос что-то невнятное, торопливо, как бы мимоходом, смахнул деньги в свой карман. Мария, сидевшая тут же, готова была со стыда провалиться сквозь землю. У Мити, однако, хватило совести выпросить у сестры, якобы в долг, еще семьсот рублей. Ни много ни мало! Кажется, сестра перезаняла эту сумму и выслала Мите из Москвы, и он купил себе машину «Москвич», чтобы, как выяснилось потом, калымить на крымских дорогах. И все это после того, как Митя, заявившись домой пьяным в канун отъезда сестры и ее семьи, кричал на весь двор: «Все лето живет у меня это кодло!..» Мария не хотела верить своим ушам, а Митя на следующий день, оправдываясь, бил себя в грудь: «Неужели я мог так сказать?! Перепил я, значит… Ничего не помню. Больше в рот не возьму, Маша, вот поверь мне!»
Она поверила, а вскоре случилась эта история с Поликарпихой, и Митя, вроде как воспользовавшись случаем, откачнулся от Марии. И вот он сидит поодаль от нее и мнется, водит по сторонам глазами, и нет в его лице ничего такого, что было когда-то дорого ей и любо.
— Интересно ты рассуждаешь… — все же смешался Митя, будто догадавшись, о чем успела Мария подумать во время короткой паузы. — Выходит, быстро ты забываешь про то, что было…
— Не надо, Митя, — на мгновение закрыв глаза, с беззащитной мягкостью попросила Мария. — Скажи лучше, почему ты не на автобусе теперь? Случилось что-нибудь?
— Да нет! Что может со мной случиться? — оживился он, видимо, восприняв эту ее внезапную мягкость как уступчивость, желание помириться, наконец. — Я же шофер первого класса! Замечаний со стороны ГАИ не имею. Просто надоело… Все время экскурсии, экскурсии… Никакого передыха. Все воскресенья в поездках.
«Ну да, — усмехнулась Мария. — Слыхала я, прижучили вас там, в этой шарашкиной конторе, в экскурсбюро. Нету теперь левых рейсов-то… Господи! — тут же одернула она себя. — О чем я думаю?! Никогда я не была с Митей такой злой…»
От этой мысли ей стало не по себе. Ведь и правда, если вспомнить, раньше она всегда тянулась к Мите с нежностью, помня только о том, что счастлива рядом с ним. Куда же все это девалось? Вроде и не любила его никогда.
«Как же все-таки странно! — потрясенно подумала Мария. — Как будто это не я была, а кто-то другой на моем месте. А если бы он продолжал все это время ходить ко мне? Если бы не было этого случая с Поликарпихой? Любила бы я его по-прежнему?»
Марию поразила внезапно пришедшая мысль, что любовь-то как раз и проверяется бедой, которая сваливается на человека, будто снег на голову. По хорошей-то жизни весь мир кажется устроенным именно так, как нужно для счастья. Но только занеладится что-то в жизни — все и меняется сразу, потому и меняется, что люди первыми откликаются на эту перемену: поворачиваются к тебе либо лицом, либо спиной. Вот тут-то и нужна человеку сила, чтобы выстоять, не испугаться этого отчуждения. И уж коли выстоял — значит научился понимать жизнь полнее, глубже, отсеивать в ней шелуху от ядрышек.
— Иди, Митя, к своей машине, не мокни тут зря, — помолчав, искренне пожалела его Мария. В душе не было к нему теперь ни злости, ни какого-то другого чувства, кроме жалости. Ну разве не жалко его такого, с красным в синих прожилках носом и жиденькими, не то мокрыми, не то сальными кудрями на висках и затылке? Сидит перед нею потерянный, никому не нужный, хотя пытается хорохориться, выставить себя в выгодном свете — дескать, время его еще не прошло, он не только ни на что не жалуется, но, напротив, планирует свою жизнь как нельзя более удачно.
— А как же наш разговор? — смешался он.
— Да никак. Какой может быть теперь разговор…
Мария поднялась и, не сказав ему больше ни слова, пошла по аллейке к дому.
3. СИБИРСКОЕ ТАНГО
Ни Мария, ни Наум не знали, что ночным самолетом к ним прилетел дальний нежданный гость.
Иван Игнатьевич собрался на юг недолго думая. Наташка все-таки уехала на БАМ, не прогостив в Кедровке и недели, и расстроенный отец, вернувшись домой, поначалу ничего не сказал Ане, а решил, пока отпуск еще не кончился, слетать на юг. Дорогое получалось удовольствие, но откладывать дальше было некуда.
Он не стал отбивать телеграмму Марии и Науму, чтобы не будоражить их. Да и охота было глянуть на этот самый курорт, на житье-бытье родных без них самих. А то как обступят, как начнутся объятия да поцелуи — весь мир и повернется, хочешь не хочешь, не той стороной, какая есть на самом деле.
До поселка доехал он с шиком, на такси. Правда, шик обошелся ему в копеечку, крымские шоферы еще нахальнее алтайских оказались. Содрали сколько можно было и еще сверх того. Но это огорчение Ивана Игнатьевича улетучилось тотчас же, едва лишь он вышел на берег моря.
Мать честная, ахнул он, это сколько же тут скопилось
воды?! А синее-то, синее! Иван Игнатьевич не верил своим глазам.
Малость придя в себя и оглядевшись, он повыспросил у женщины с метлой — уж ясное дело, была местной, не курортница, — где тут проживают Комраковы. Оказалось, что Мариина квартира у него в тылу — не знаючи миновал ее аж возле гаража, за парком, а «кораблик» Наума и Таисии, как выразилась уборщица, стоит у него перед носом.
Забыв про чемодан, Иван Игнатьевич как-то крадучись подошел к чудному домику, примостившемуся прямо на краю пляжа. Все четыре стены у него были сплошь стеклянные — окна во всю ширь от пола до потолка, а потому изнутри занавесили их циновками. «Это как же они тут живут? — смятенно подумал Иван Игнатьевич. — Не кораблик, а скворечник. Вот это устроился Наум… Не лучше цыгана в шатре».
Сноху Таисию он увидел под маленьким навесом у двери домика, выходящей к морю. Она тоже сразу узнала его, хотя виделись они за всю жизнь раза два, не больше.
— Господи, Ваня! — всплеснула она руками. — Это каким ветром тебя занесло?
Расчувствовавшись от этого простого и ласкового, как показалось, обращения к нему, Иван Игнатьевич сходу потянулся к ней поцеловаться, обнял крепко, без смущения, будто именно Таисия, а не Наум, и была его главной родственницей.
— А ты как меня узнала-то? — счастливо улыбнулся он и, сняв очки, просушил платочком выступившие на глазах слезы.
— А чего тебя не узнать? Копия — Наум! И очки все те же. Ты сними пиджак-то! Тут ведь тебе не Алтай.
— Да уж не Алтай… Я в демисезонном пальто и шляпе улетал-то, у нас же там скоро холода начнутся. Удивляться не приходится. Пришлось в Симферополе вталкивать в чемодан свою сибирскую амуницию. Ну и жара тут у вас! Похлеще, чем в плавилке.
— Где?
— В плавильном цехе, говорю.
— А… Да ты и рубашку скинул бы. Разболокись, разболокись! — засмеялась Таисия, и от этого деревенского полузабытого слова, которое припомнила сноха вроде как нарочно, душа Ивана Игнатьевича и вовсе запела. Он не знал, что ему делать в первую очередь — или бежать скорее разыскивать брата и дочь, или сначала расспросить обо всем Таисию, а то, чего доброго, она может и обидеться: за родню ее не считает, сразу умчался сломя голову к своим.
Выручила сама Таисия.
— Ты, Ваня, пока вот что… — она деловито посмотрела сначала на часы, а потом на оставленную из-за прихода гостя работу (сноха консервировала компот). — Иди-ка скупнись и позагорай малость. До обеда. Не срывай пока Наумшу с работы. А то он бросит все и прибежит домой. А ему никак нельзя оставлять пляж без присмотра. Дикари понабьются. Он же рядом тут, у тентов дежурит. И за Марией в обед сбегаем. Все вместе и посидим…
Он так и сделал. Занес чемодан, скинул рубашку с галстуком и, оставшись в брюках и майке, сел на песок, разглядывая море и пестрый от народа берег. Таисия вынесла желтый коврик и, не долго думая, швырнула его под ноги деверю. Смеясь, подсказала:
— Возьми, Ваня, поролон. Подстели под себя. Чего в песке-то рюхаться.
Жалея рельефную вещь, которую к стенке над кроватью впору прибить, он осторожно сел на поролон, подивился его мягкости и подумал: «Однако живут они тут…»
На белом теплоходике у причала с сипотцой работал усилитель. Одна песня была ну прямо занятная — про синее море, в котором плывут дельфины.
Да и все-то было тут чудно. И что теплынь вон какая, это в сентябре-то. И что море не косматое, как представлялось, а глянцевое, под вид зеркала, серебрится осколками, и нету ему конца и края. И что всяк друг перед дружкой красуется почти нагишом, — интересно, какое бы Аня высказала мнение по этому поводу, окажись она сейчас здесь.
Забыв о первом своем впечатлении, Иван Игнатьевич поймал теперь себя на том, что ему до завидок было дивно: брат Наум со снохой Таисией живут на самом берегу моря! Надо же так устроиться… Это ж если рассказать кому на Алтае, поди, еще и не поверят. Везучий в жизни Наумша, что и говорить, уж свое он не прогадает.
Иван Игнатьевич долго цокал языком, а потом разулся и, шевеля пальцами, стал было по-хозяйски разглядывать жилье брата и снохи, но в это время теплоходик протяжно гуднул, попятился от зеленых ослизлых свай, развернулся и, взмучивая придонный песок, направился близко вдоль пляжа, сообщая, что за рубль сорок пять копеек доставит желающим ни с чем не сравнимое удовольствие — прокатит к скалистым мысам с высадкой в бухтах. Приставив ладошку козырьком, Иван Игнатьевич прищурился в ту сторону, где могли быть эти самые бухты, и опять пожалел, что нет рядом Ани.
Будто игрушечный, теплоходик сделал круг и навострился обратно к своей привязи, колыхаясь на собственных волнах. Опять завел свое:
У моря, у синего моря
Со мною ты, рядом со мною…
Млея от жары, Иван Игнатьевич протянул белые лытки к воде. Мокрая галька охолодила икры прежде, чем лизнул их сонный всплеск воды. «Интересно, — подумал он, — а ведь небось у Наумши и фотоаппарат теперь есть. Сварганил бы братка мою копию на фоне синего моря и белого парохода! А я бы послал фотокарточку в деревню, Устину. Пускай бы там поудивлялись!»
— Ты че не скупнешься-то, Ваня? — ласково окликнула Таисия с веранды. — Скинь майку-то. И брюки. Вот! А вместо трусов, иди-ка, я тебе дам плавки японские, Наум на пляже нашел, забытые.
Иван Игнатьевич сконфуженно оглянулся, повыше подтягивая на животе сатиновые трусы. От цветастых плавок он отказался наотрез и, сверкая сахарно белыми мослами, робко зашлепал вдоль пляжа, забредая по щиколотку и выше. Море теперь все изрябилось, начало упруго вымахивать на берег, стеклянно постукивая галькой.
И солнце светит, и для нас с тобой
Целый день поет прибой…
Облепленный пестрой публикой, теплоходик легко заскользил к скалистому мысу. Иван Игнатьевич проводил его взглядом и повернул было назад, к своему поролону, как вдруг увидел брата. Наум в белом халате, ровно доктор какой, сидел у входа на пляж под грибком на лавочке и вынимал из футляра термометр.
«Мать честная! — в первое же мгновение поразился Иван Игнатьевич раздобревшей фигуре младшего брата и пухлым, здорового цвета, щекам его. — Это когда же разнесло его так, господи! Он же в семье самым дохлым был!»
Выйдя из воды, не спуская глаз с Наума, он нашарил рукой свободный лежак и присел на краешек.
Наум осмотрел термометр, огляделся и, поманив какого-то мальчишку, наказал ему забрести в воду не ниже колена и вверил хрупкий прибор. Когда нарочный вернулся, Наум обследовал отливавшую на солнце шкалу, нашарил в кармане мелок, взгромоздился коленями на скамейку и собственноручно вывел на черной графленой дощечке разные цифры: число, время суток, температуру воздуха… а под конец, чего-то помедлив, и температуру воды. Кое-кто, видно, от нечего делать подошел к дощечке поближе, и Наум, пряча мелок в карман, просто так сказал:
— Двадцать два градуса — теплынь! Купайся — не хочу.
И снова сел на лавочку, поглаживая выгоревшие усы, почесывая пятерней под кепкой, густым баском останавливая иных желающих попасть на домотдыховский пляж:
— Курортную книжечку попрошу. А нема курортной книжечки — попрошу отойти в сторонку, чтобы не мешать законным отдыхающим проходить под тенты…
«Ах, брательничек ты родной! — ласково вздохнул Иван Игнатьевич. — Это сколько же лет мы с тобой не виделись?»
Он вспомнил, как Наум все вербовался куда-то, трундил о колесном настроении, без которого ни сна ему ни отдыха, и долгонько ни слуху ни духу о нем не было. Потом объявился, прислал с юга письмо: «Хватит мотаться из конца в конец, жизнь-то проходит — пора и остепениться. Пока что обосновался, где застала врасплох эта мысль. А как живу — приезжайте, поглядите: все-таки курорт как-никак…»
Он-то и вызвал к себе племянницу Марию, помог ей тут устроиться. А теперь и сам Иван Игнатьевич нагрянул к нему в гости и видит: южный климат пошел Науму впрок и душу, похоже, успокоил тоже, поубавил в брате егозливости.
Не выдержав больше, Иван Игнатьевич встал с лежака и сделал шаг к Науму. Того будто кто подтолкнул. Бегло скользнув по Ивану Игнатьевичу встревоженным взглядом, он, прищуриваясь, вгляделся в лицо, и губы его мелко-мелко заплясали:
— Ваня, ты, что ли?
— Я, Наум!
Вскоре прибежала и Мария. Смаху обхватила отца за шею, заплакала.
— Ну, ну, чего ты, доча…
Иван Игнатьевич, не стесняясь глядевших на них людей, гладил по спине Марию, вздрагивающую всем телом, и шмыгал носом.
— В дом, в дом ко мне ай дате! — весело скомандовал Наум, забыв про свою службу. — Там и наревемся, и насмеемся!
— Такой дом и у меня есть, — усмешливо сказала Мария. — В моей сарайке-то даже тише да прохладнее, чем в вашем «кораблике».
Наум стрельнул в племянницу глазами: мол, не порти отцу впечатление, раз говорю «дом» — значит, наш «кораблик» так и называется по-южному.
Тут подоспела Таисия, и в конце концов сговорились отметить встречу в ближайшей бухте, до которой ходу было всего ничего.
— Там, папа, народу меньше… А почему мама-то не приехала?
— Она тебя, доча, ждет не дождется, когда ты, наконец, домой вернешься. Игорек-то небось большой стал?
— Скоро меня догонит. За крабами ушел с ребятами.
— Ишь ты!.. Аня наказала, чтобы я без него не приезжал.
— Замучается она с ним.
— Что же нам с мамкой по пустой квартире бегать, в прятки играть? Я бы Игорька на завод сводил, нашу плавилку бы показал…
Мария, смахивая со щек последние слезины, сначала улыбнулась при упоминании плавилки, а потом быстро глянула в глаза отца. Видно, ей хотелось о чем-то спросить, но Наумша скомкал их разговор — послал Марию с Таисией за выпивкой и закуской.
Через час с небольшим они уже шли к бухте. Впереди Таисия несла трехлитровую банку с бараниной в уксусе, а чуть поодаль осанисто вышагивал Наум, похожий на исполненного ответственности секунданта, — под мышками брата торчали, как шпаги, длинные шампуры. На Таисии был розовый купальник в сетку на спине и животе, а на груди висел крохотный приемничек в кожаном чехле; в таком виде свою сноху Иван Игнатьевич сроду не видывал, и ему уж так хотелось обогнать ее, чтобы она не мозолила глаза своим бесстыдным вихлянием. Музыку чересчур игривую поймала, и шаг какой-то танцующий стал, аж вся ходуном заходила! «Ну, Таисия! — сокрушался Иван Игнатьевич. — И откуда что взялось в ней? Ишь, испереязви ее, как оглядывает свой костюмец — ну невод и невод, а ведь вещь, должно, магазинная».
Портили, хмарили Ивану Игнатьевичу великолепное впечатление от курорта эти дурацкие наряды родни. Наум тоже хорош — напялил на себя малюсенькие японские плавки, живот прикрыть не хватило, ну смех и грех.
— Давай отстанем от них… — тихонько сказал Марии.
Она шла бок о бок с отцом, задумчивая, печальная, и время от времени расспрашивала его то о матери, то о Наташке с Бориской, то еще о ком-нибудь. «Несладко ей, видно, тут, — подумал Иван Игнатьевич, — хотя кругом вон какое веселье. Домой ей надо, домой!»
И только они приотстали было, чтобы толком поговорить про Мариино житье-бытье, как Наум пристроился к ним.
— Дак ты, Ваньша, рассказал бы, как съездил в деревню-то? Чего хоть там делается-то — стоит наша Кедровка? Нема каких перемен али есть?
Показалось Ивану Игнатьевичу, что спросил Наум не просто так, а с умыслом показать старшему брату, что малую родину свою он не забыл в бесконечных странствиях и что судьба родни и отчего края ему дорога и поныне. Для вящей убедительности он и брата-то назвал как прежде, бывало, в детстве, и «дакнул» при этом вроде как по привычке тоже.
Исподтишка переглянувшись с Марией, Иван Игнатьевич снисходительно усмехнулся, но, вовремя вспомнив, что и сам он порядком отбился от деревенской родни, тоже не чаще Наума наведывался в Кедровку, невольно перешел на старый дедовский говор:
— Чего будет делаться — живуть, роблють… Испокон веку так в крестьянстве: сено косять, хлеб сеють, картошку ростять. Ты-то, Наумша, забыл небось начисто про все это… — не удержался, упрекнул-таки брата. — До того оторвался от родины, что даже заговорил не по-нашенски: «Нема…»
Наум смутился.
— Чего забыл — помню… Сам когда-то вкалывал, своим горбом…
Он посмотрел куда-то в сторону, далеко-далеко. На душе у него было неладно. Как только увидел на пляже брата Ивана — будто что-то стронулось внутри. Если раньше какая дума и навертывалась, то гнал ее тут же к такой матери, чтобы понапрасну не бередить сердце. Утешал себя: чего там думать, жизнь она и есть жизнь, как бы ты ни хотел, а она все равно своим боком повернется, предложит тебе то, что на роду написано. К примеру, вот чего, спрашивается, все эти годы колесил он по стране? За длинным рублем, что ли, гонялся? Если бы в этом было все дело — куда как просто наладить такую жизнь, фартовых мест ему встречалось много. Нет, что-то все гнало и гнало его из конца в конец, и он срывался, и опять настигала его одна и та же дума, что не так живет, не на то растрачивает свои силы.
— Хо, нашел о чем вспоминать! — покосившись на брата, будто бы весело присвистнул Иван Игнатьевич. — Колхозного трудодня теперь и в помине уж нету. Тоже денежками получают. Да еще какими! Живут исключительно хорошо! Так что удивляться не приходится. Почти у каждого мотоцикл имеется. А то и машина. Мебель у всех магазинная. Не то что раньше — стол, да табуретки самодельные, да лавки вдоль стен. У них после войны-то самый главный мебельщик был Аверьян. Скончался нынче…
— Да ну?
— Девятины отвели.
— А отчего? Крепкий такой мужик был…
— Сердце вроде. Все мы нынче крепкие, а…
Наум со вздохом покивал головой: так-то оно так. Он уж и не рад был, что затеял этот разговор про деревню. Теперь, пока не уедет Иван, его поневоле оседлает эта думка — будет днем и ночью мерещиться теперь уже такая далекая, словно приснившаяся однажды, но все-то не избывшая себя из памяти родимая сторонка.
Таисия, похоже, ничего не замечая, что творится с мужем, утерла тыльной стороной ладони взмокшее лицо:
— Фу! Пришли наконец-то! Глянь, Ваня, какое место! — Она поставила банку с бараниной на камни. — Давайте, мужики, обеспечьте нас хворостом, а мы с Марией шашлыки на шампуры нанизывать начнем. Ой, ну и жарища!..
Она еще что-то затараторила про погоду, дескать, на Алтае белые мухи небось уже летают, завидую алтайцам!.. Но в голосе ее слышалось лукавое кокетство довольного своей жизнью человека, который при родственниках любит прибедняться. И Иван Игнатьевич это понял. Он посмотрел, как Наум, явно поддерживая женкино настроение, отчаянно мотнул головой, будто отгоняя негаданное наваждение, и сходу полез в море, поднимая веселенькую, пеструю, как японские плавки, радугу. И боком, боком, отвечая натянутой улыбкой на Наумовы брызги, пошел Иван Игнатьевич на склон, за хворостом, то и дело поддергивая на себе трусы.
— Ты, папа, не обращай на них внимания, — устало произнесла Мария, догнав его. — Бахвалиться любят… Хотя сама она ничего. Когда что найдет на нее.
— А Наум? — заранее удивляясь, спросил Иван Игнатьевич.
— А дядя Наум ни рыба ни мясо. Не пойму я его.
— Разве он тебе не помог тут? Ты же писала…
— Помог, помог. Встретил, отвел в контору. Как же… Я ни одной ночи у них не ночевала. Мне сразу же комнатку дали. Повезло. Свободные были. Как раз старый флигель отремонтировали.
— А Наум почему до сих пор в этом «кораблике» ютится?
— Не идет во флигель. Там же удобств никаких. Все на улице. А считается — нормальная жилплощадь. Дядя выжидает, когда новый дом сдадут. — Мария посмотрела вниз, на пляж, где суетились Наум и Таисия. Помедлила, словно прикидывая про себя, рассказывать ли дальше. — Вот он и поддерживал директора с профоргом, на меня нападал: мол, приехала позорить Комраковых…
— Это Наум?!
— А кто еще? Хорошо, хоть Таисия одергивала его. Они в разных лагерях потом были. Потеха! — Мария улыбнулась краешком губ. — Таисия у меня ночевала, пока вся эта оппозиция не кончилась.
Иван Игнатьевич забыл и про хворост.
— Почему же ты нам не написала?
— Расстраивать не хотела.
— Так бросила бы все да приехала домой!
Мария перевела взгляд к излучине залива, где остался поселок, и покачала головой.
— Нет… Я хотела раскрыть ему глаза на этого Кокона. На председателя месткома. Это я вначале хотела. А потом-то уж…
— Кому ему? Науму, что ли?
— Мите. Я ж писала как-то…
— А… Да-да! Писала.
Иван Игнатьевич смутился. Мария ни разу в жизни, сколько помнит себя, не говорила ему о своих сердечных делах, и отец не привык к подобным разговорам. Даже когда, лет десять назад, у нее произошел разрыв с отцом Игорька, летчиком Аэрофлота, она только и сказала: «Не надо, папа, не вмешивайся, чему быть — того не миновать».
— Митя упрашивал меня перед партсобранием, — продолжала Мария, — чтобы я не на Кокона нападала, а на директора. Мол, это он во всем виноват. У нас тут, папа, такое творилось… — Она покачала головой. — Ну а я взяла и выдала им всем троим: и Кокону, и директору, и Мите… Комиссия из горкома приезжала. Люди меня поддержали. Далеко не все, правда, но поддержали. Теперь у нас все по-новому! — Она улыбнулась. Пожалуй, впервые улыбнулась светло, раскованно. — Новый директор теперь. А Кокон на причале канаты таскает.
Отец обрадовался.
— Ну и молодец, доча! Теперь и домой можно, а?
— Не знаю, папа… Меня парторгом выбрали. Сложно пока что все.
— Ты ж сказала, теперь по-новому!
— По-новому. Но сложно и трудно.
Понимающе кивая, он помолчал.
— Ну а у тебя там как? — спросила Мария.
— Да тоже сложно и трудно, — улыбнулся он. — На пенсию вот собираюсь. Вообще-то давно можно было, стажу хватало, но я все думал, что в плавилку вернусь… Чтобы металлурги раньше времени не называли меня пенсионером. Да от старости никуда не денешься! — вроде как смирившись теперь с этим, неискренне засмеялся отец. — Удивляться тут не приходится.
Мария, сидя на камушке, тоже посмеялась — беззвучно, правда, больше одними глазами.
«Что-то перегорело в ней, — подумал отец. — А может, это она повзрослела просто. Пожила на стороне одна, без отца, без матери, хлебнула лиха вдосталь, вот и стала глядеть вокруг другими глазами».
Прежде чем спуститься к морю, они вспомнили и про Веньку, любимого братца Марии. Для отца было новостью, что Венька перешел в другой цех.
— А нам он ничего не написал…
«Ох, дети, дети… — зажав ладонями непробритое лицо, раскачивался на камне Иван Игнатьевич. — Сколько еще нам с матерью придется поволноваться за них! Ну, думали, вырастут вот, встанут на ноги — и душа за них не так болеть будет. Ничего подобного. Правду говорят: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы».
Внизу их встретил настороженный Наум. Заглядывая в глаза брату и племяннице, он протянул на ладони диковинную оранжевую раковину.
— Что это? — удивился Иван Игнатьевич.
— Рапан! Да здоровенный, дьявол. Дарю на память тебе. Прислони, Ваньша, к нему ухо — чего услышишь?
Иван Игнатьевич осторожно, двумя руками, поднес ракушку к уху. Что-то свербило в ней то низко, то высоко. Будто сухим песочком по донышку тазика царапало.
— Ну как, шумит?
— Шумит, ага… Исключительно шумит!
— На морской прибой вообще-то похоже, — встряла Таисия.
— Да как тебе сказать… — не согласился Наум. — Мне, к примеру, чудится, будто это лес под ветром волнуется. Лесины вековые. Кедры…
Иван Игнатьевич, подивившись словам брата, положил рапан на свернутые брюки и, пока шашлыки жарились, все поглядывал на него, как бы пытаясь проникнуть взглядом в его сердцевину, а потом, не выдержав, снова прислонил к уху. «Ведь это надо же… как шумит!» — хотел он сказать Науму, но тот отрешенно смотрел на мерцающие жаром угли, словно и не было тут никого.
После первого стакана сухого вина, который с дорожной усталости и на голодный-то желудок враз спьянил Ивана Игнатьевича, забылась обида на брата, возникшая после рассказа Марии.
— Наумша! — кричал он, покачиваясь над шипящими углями костра с шампуром в одной руке и стаканом вина в другой. — Уж так я рад-радешенек, что вижу вас всех! Господи, как во сне! Еще вчера был дома, ветер как раз поднялся, снежок полетел, а сегодня — курорт, белые пароходы с музыкой, и ты, братка, рядом! А я, грешным делом, думал уж: ну все, так и помру, не повидавшись с Наумом…
Иван Игнатьевич жалобно сморщил лицо, словно собираясь заплакать, но тут некстати помешала Таисия. Она вжикнула своим транзистором — и сразу же поймала неназойливую, знакомую еще по довоенным годам мелодию.
— Танго, танго! — вспомнил Иван Игнатьевич. — Оставь, Тая, послушаем.
Не понявшая момента сноха подскочила к нему, дурашливо шаркнула голой пяткой по камешнику и, не дожидаясь инициативы, положила руки ему на плечи, томно закатила глаза и пошла в танце, запела в такт мелодии:
Танцуй танго-о,
Мне так легко-о…
Иван Игнатьевич, смущаясь, отстранился от нее, насколько это возможно было, чтобы не нарушать танца, поймал взгляд дочери и, удерживая шею в одном положении, закричал, перекрывая своим голосом музыку:
— Танцуй, доча! Это ж какое танго! Я его знаешь как назвал: «Сибирское танго»! Ты помнишь, Наум, — перевел он взгляд, — как мы до войны, когда еще в парнях бегали, танцевали такое же танго в бывшей церкви? А ну приглашай, приглашай племянницу.
Однако Наум не стронулся с места. Отставив недопитый стакан, он устроил свои ладони меж колен и задумался, уставившись в какую-то невидимую точку на море.
Таисия, словно догадываясь, о чем сейчас думал ее муж, бросила Ивана Игнатьевича, подбежала к Науму и дурашливо затараторила:
— Наум, а Наум! Давай-ка Ваньшу твоего искупаем! Окрестим в черноморской иордани! А то ишь какой неженка, ногу в море сунуть боится. А еще деверь называется…
Наум ничего не ответил, и Таисия, замышляя что-то, кинулась к береговому обрыву. В ямках, понаделанных кем-то, она живо наколупала черной каменно твердой глины и, разжижив ее в морской воде, вымазала себя с ног до головы.
Иван Игнатьевич решил, что сноха дурачится, как иногда бывало у них в деревне на масленицу, и, благодарный ей за такую память, немедленно поддержал начинание — заляпал и себя: ноги, живот, грудь. Таисия поймала по транзистору какую-то заграничную музыку-дрыгалку и начала, и начала — так завыламывалась, что приходилось только диву даваться!
Но сношка, испереязви ее, пошла дальше — приплясывая, намазала жидкой черной глиной и свои длинные распущенные волосы… И тут уж Иван Игнатьевич струхнул не на шутку: в своем ли уме баба?
— Наум! — кинулся он к брату. — Останови ты ее, ради бога! Разве ж волосы можно натрать грязью?! Нас же люди засмеют!
— Да брось ты, Ваньша, думать о чем не надо… — Наум отмахнулся от него и, даже не глянув на жену, пошел к морю. Забредя по пояс, он нескладно взмахнул руками и боком плюхнулся в воду. Заколошматил ногами, поплыл, что твоя ракета.
— Это, папа, местное мыло такое, — сказала Мария. — Кил-глина называется. Волосы мягкими становятся, их в морской воде можно мыть.
— Да попробуй ты, Ваня! — наседала на него Таисия, норовя обнять за шею перепачканными руками. — Дай хоть раз в жизни намылю голову своему деверю.
— Да мыль ты, вот пристала! — Иван Игнатьевич со смехом наклонил голову, и Таисия единым махом обляпала ее глиной.
— Слышь, Наумша! — он тоже кинулся к воде. — Давай плыви назад! Предлагаю махнуться — я тебе свои трусы, а ты мне — японские плавки! Хватит, покрасовался, теперь моя очередь! В конце концов брат я тебе или не брат?
До того ему было хорошо сейчас, что Иван Игнатьевич ощутил в себе странное желание буйства, — взять, к примеру, да броситься вслед за Наумшей, накупать его до икоты, а потом спасти! Жалко, плавать он совсем не умел.
— Эх, Ани с нами нет!..
Иван Игнатьевич то мелким бесом выплясывал под музыку, строя подплывавшему Науму рожицы, то плюхался в воду, окунался с головой и, выпучив глаза и отфыркиваясь, пулей вылетал на берег, на бегу подхватывая сползавшие сатиновые трусы.
Мария, держа рапан возле уха, смотрела на отца с легкой светлой улыбкой, которая так похожа была на улыбку матери.
Пополудни, когда его разморило вконец и от этого сухого вина, будь оно трижды неладно, с непривычки обложило все нёбо каким-то вяжущим вкусом и стала донимать изжога, захотелось Ивану Игнатьевичу испить обычной водицы. Отмахиваясь от снохи, опять было наладившейся танцевать, заторопил он брата и Марию: мол, ну их к лешему, бухты эти ваши, айдате домой.
Едва лишь пришли в поселок, Таисия сразу же завалилась спать на веранде, подложив под голову рельефный поролон. Иван Игнатьевич переоделся и, не теряя даром времени, в сопровождении мало говорившего Наума и задумчиво-отрешенной Марии неспешно обошел и набережную, и разные санаторные корпуса, и поселок со всеми его главными пунктами: перебывал в магазинах, на рынке, наведался в одноэтажную больничку.
— Ты уж не на разведку ли сюда приехал? — спросил Наум.
— А че такого… Может, я вот выйду на пенсию и переедем сюда с Аней, — неопределенно улыбнулся Иван Игнатьевич. — Вам с Таисией можно, а нам нельзя?
— Никто не говорит, что нельзя. Хоть сейчас на работу сосватаю, — вроде как принял Наум всерьез его слова. — А будет работа — дадут и жилье, какое-никакое.
Краем глаза отметив, что Марии этот разговор не нравится, Иван Игнатьевич, уже довольный в душе, все же повел игру дальше. Будто клюнув на предложение брата, он сказал:
— Пошли поглядим, что за работа…
В богатом, с колоннами, особняке за мостком с белеными лепными перильцами располагалась бильярдная. Что ж, игру эту Иван Игнатьевич уважал. В красном уголке плавилки у них тоже стоял бильярд, шары еще полобастей, пожалуй, будут. Правда, смотрителя там никакого не полагалось, а тут, в санатории, выделили для этого дела полставки. Нехитра работенка. Пока временно следил за бильярдом франтоватый парень, Володя Козырев. Профессии маркера он обучил Ивана Игнатьевича в одночасье — для наглядности тут же наклеил на кий кожаный наконечник, ловко так присобачил, дескать, куда как это просто. Ну, это и впрямь плевое дело — не чуни же склеить. А еще надо было держать всегда наготове мелок, чтобы товарищи отдыхающие не выражали свое неудовольствие по поводу отсутствия мелка. Обсказал все это Володя Козырев — и ну давай уговаривать, видимо, колеблющегося человека:
— Чего там долго думать, дядя Ваня! Работа клевая, другой такой тут не найдешь. Времени свободного — хоть отбавляй, забот никаких.
— А сам-то чего, Володя? Коли такая хорошая работа…
— Так я ж столяр, дядя Вань! Я эти деньги за неделю имею. Правда, днем-то уж не искупаешься в море, не позагораешь, придется вкалывать… Я вот на это безделье-то и позарился поначалу, когда приехал сюда. А теперь насчет своей работы договорился. Так что пора. А то я это… соскучился, как стружкой пахнет. Особенно если еловая, — смутился Володя.
Иван Игнатьевич пытливо покосился на брата, достал из кармана дареный рапан, прислонил к уху и, слушая его сбивчивый шепот, улыбнулся, ловя себя на мысли, что думает о постороннем — не о том, о чем надо бы думать здесь, на курорте.
— Это, Володя, ты исключительно правильно говоришь. Всякая работа — она свой запах имеет. К примеру, у нас, у металлургов. Иной раз искры из конвертора ка-ак сыпанут!.. Прошьют воздух в цехе не хуже молнии. И сразу напахнет, напахнет… Будто гроза в лесу прошла. Ну, может, оно так-то лишь тебе и кажется, а все равно! Так что удивляться не приходится…
Ночью Иван Игнатьевич никак не мог уснуть. Долго сидел на раскладушке под навесом «кораблика», вглядываясь в мерцающее море. Оно протяжно вздыхало в сутемени, сонно облизывая прибрежную гальку. У причала покачивалась красная лампочка пароходика. Иван Игнатьевич силился вспомнить слова чудной песни про дельфинов, которые плывут по синему морю, однако песня на ум не шла.
Впотьмах он разыскал в карманах брюк, переброшенных через перильца, подаренный Наумом рапан. Откинувшись на подушку, прислонил его к уху и в который уж раз подивился тому, что где-то в перламутровом нутре ракушки невидимо как рождался странный звук, вовсе не на морской далекий прибой похожий, как уверяла Таисия, а на шум вековых лесин под ветром, как считал Наум.
«Это уж, видимо, кому как…» — подумал Иван Игнатьевич.
Он сунул рапан под подушку, приподнялся на локти и неожиданно увидел брата — тот сидел под тентом, у самой кромки моря. Когда и вышел из «кораблика»!
Иван Игнатьевич заволновался, сел в раскладушке, помял рукой там, где было сердце. «О-ой, бра-атка… Уж не о деревне ли ты возмечтал? Растравил я тебя, поди. Зима там скоро ляжет, Наум, зимушка. Сопки покроются снегом. А по ним, по белым-то сопкам, сизой поволокой размахнутся ельник с кедрачом. А скрип от санной завертки по морозцу-то пойдет далеко-далеко… А, Наум?!»
Иван Игнатьевич встал, накинул на плечи одеяло и, покашливая в кулак, пошел к брату.
Часть четвертая
ПЕРЕД СНЕГОМ

1. ОТГУЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Случая, чтобы он проснулся позже Зинки, не было в жизни. Он и належится-то рядом с нею, ворочаясь без сна, и встанет-то затемно, напрасно поглядывая на часы, и вообще хоть на голове ходи по комнате — супруженька и ухом не поведет: дрыхнет себе, и все тут. Ее и будить-то станешь… Мыкнет невнятно и одеяло на голову натянет, как холостячка беззаботная.
Правда, себя он тоже не хвалит. Ну какого черта, спрашивается, каждый божий день чуть свет вскакивает с постели и бежит на автобус, хотя еще вполне мог бы поспать целый час! Человеку, видишь ли, мнится, будто мимо него проходит что-то такое, чего уже не воротишь. А когда он сидит в слесарке и слышит всем телом, как за стенкой гудит первый цех, на душе как-то легче, вроде и торопиться некуда, ничего такого он не теряет.
«Ерунда, конечно, блажь, — говорит себе Венька, выглядывая в темноте в сизое окно, мерцающее от мороза и фонаря у магазина. — Просто привычка, наверно, такая — рано вставать». Это от отца ему передалось, не иначе, тот, бывало, вскочит ни свет ни заря и припрется на завод задолго до гудка.
Венька без досады вспоминает, как на днях при посторонних Зинаида уколола его — стала уверять, что он ночью скрипит зубами. Стесняясь молодой супруги приятеля Сашки, бригадира из литейного, он отнекался: ничего, мол, такого за ним не водится. «Сама ты скрипишь», — только и осталось ему огрызнуться. Но все же запало в душу: чего это, интересно, он скрипит, снов сроду никаких не помнит, может, и не снятся они ему вовсе, а — скрипит… Вот отец не жалеет ночью зубов — это уж точно. Но тот знает, чего скрипит: тому все война снится, хотя он и не был на ней.
Да ведь Зинаиду не переспоришь. Ты ей слово — она тебе пять. Спасибо Сашке, поддержал: в армии их кровати стояли рядом, за три-то года успели узнать, кто спокойный во сне, а кто — воюет.
А впрочем, все может быть. Последнее время из-за этого проклятого чепе в цехе не то что заскрипишь — скулы сводит от дикой усталости…
По отцовской привычке, когда жили еще все вместе в одной комнатешке, одевался Венька беззвучно и впотьмах, отыскивая нужную вещь на ощупь. И не включи он перед уходом в прихожей свет — это письмо так и осталось бы лежать на полу до вечера.
Весточка была от Марии. Ну и почерк у сеструхи, вечно удивлялся Венька, буковка к буковке, а конвертик фасонистый, узкий и с наклеенной в уголочке шикарной маркой.
Тут же, в прихожей, Венька бегло просмотрел его — ни про какую хворь или смерть в нем не сообщалось, про стихии природные вроде тоже, значит, подождет, в автобусе его можно почитать не торопясь, со вкусом.
На улице опять не меньше сорока. Мороз все еще умудрялся выбивать туман из вконец обессилевшего за последний месяц воздуха. В десяти шагах перед собой ничего не видно. Вымороженные насквозь трамваи кажутся хрупкими — как только не разваливаются на ходу.
Что там ни говори, не забыл похвалить себя Венька и сегодня, а вот взять хотя бы транспорт. Муторно представить, если бы ему сейчас ехать куда-нибудь в сторону машзавода или свинцово-цинкового, знает он эти трамвайчики — печки в них грели только в первую зиму, как они появились. А потом будто век их не бывало. Под потолком, как в парной бане, чуть теплятся тусклые плафончики, и свет их почти не проникает наружу сквозь намерзшие в палец окна. И все, к чему бы ты ни прикоснулся, отзывается морозным хрумканьем — что рифленый пол, что изрезанные вдоль и поперек какими-то субчиками дерматиново-поролоновые сиденья. Его прохватило бы в таком трамвае в один момент в демисезонном форсистом пальтишке — третий год собирается справить с воротником и на подкладе, да не мерзнет в автобусе-то и в осеннем, а потому отнекивается, когда напоминает Зинаида.
Все у него подрассчитано крепко: нос не успеет замерзнуть, а уж вот и автобусная остановка. Метров сто от дома, не больше. Когда ни подойди — его «шестерка» тут как тут, потому что остановка возле автостанции и хоть один водитель да торчит в диспетчерской. Проходишь сразу на ребячье сиденье, в левый угол, где печечка — вот уж печечка! Подсел к ней правым бочком — добро! Наплевать на градусы за окном, а оно, между прочим, ясное и тоже теплое, не то что в трамвае, хоть носом к нему прижимайся.
Венька и впрямь припечатывается и высматривает, что на улице делается в такую рань. Про весну и говорить нечего, солнышко встает рано и бьет как раз в это оконце, и каждый раз есть на что посмотреть — вдоль всей сорокаминутной дороги, как в документальном кино, всегда что-нибудь новое. Вот эта махина, например, Дворец спорта — сплошное стекло до неба, — мали-иново так отсвечивает. День и ночь трудятся братья строители. Это только себе представить! Стеклянная дверь перед тобой распахивается: вечер добрый, товарищ Комраков! Вот, Вениамин Иванович, ваше абонементное место…
Размечтавшись, он не заметил, как подъехали к переезду. Тут, как всегда, перекур. Шофер включил в салоне свет.
Отрываясь от окна, Венька машинально глянул перед собой — много ли народу в автобусе, но взгляд остановился на соседнем сиденье. Будто споткнувшись, Венька блудливо отвел глаза.
Сразу вдруг стало жарко. Хотя за эту долю секунды он только и схватил какое-то насмешливое выражение ее глаз.
Венька приослабил маленько шарф, быстро прикидывая: отвернуться-то он отвернулся тут же, как бы и не заметил ее вовсе, но это же просто смешно, такая комедия.
На всякий случай со снисходительной ухмылкой он тихо сказал ей:
— Привет…
Но теперь, когда он взглянул на нее опять и, можно сказать, поступил как настоящий джентльмен, она сделала вид, будто только что заметила его. То есть в тот самый момент, когда Венька промямлил свое приветствие, она, как на грех, смотрела куда-то в сторону, словно предчувствуя, что именно на эти две-три секунды надо отвести взгляд.
— Я говорю: доброе утро, Рая, — пожестче и без всякой уже улыбки уточнил Венька.
И она тотчас сдалась, кивнула.
Теперь она смотрела на него с деликатной вопросительностью, будто ждала продолжения.
— Что-то я тебя ни разу не встречал так рано… — с усилием нашелся он.
— Признаться, и я тоже…
— Лично я, — поувереннее продолжал он, — езжу на этом автобусе всегда в одно и то же время. Отходит от автостанции ровно без десяти шесть, — для чего-то сказал Венька, чувствуя, как где-то глубоко-глубоко, как бы на дальних окраинах сердца, возникает странно сосущее томление.
— Зачем же так рано — тебе ведь, как и всем, с восьми.
Он улыбнулся, пожал плечами и посмотрел в окно, прислушиваясь к себе. Похоже, уже начинали заниматься самые края сердца. Вот уж точно сдуру!
Маневровый паровозишко, наконец, натешился, надоело ему сновать взад-вперед, он простуженно свистнул на прощанье колоннам вздремнувших машин, скопившихся по обе стороны от переезда, и заклацал, и застукотел своими ревматическими шатунами.
— Так что, Рая, уезжаю я скоро, — глядя на красный фонарь на тендере паровоза, неожиданно для самого себя сказал Венька, желая растравить и ее сердце.
— Интересно, куда же это?
— На курорт, — брякнул Венька и, торопясь, чтобы она вдруг не высмеяла его, хвастанул сестриным письмом, про которое совсем было забыл. — Родная сестра к себе зовет, хватит, говорит, газ нюхать на своем заводе, — ввернул он для убедительности. — Так что весной и подамся. Заяц трепаться не любит…
Рая усмехнулась. Вид ее красноречиво говорил, что после того случая она считала Вениамина человеком несамостоятельным. Дело дошло, можно сказать, до развязки, и от него только требовалось одно — проявить характер по отношению к своей Зинаиде, заявить ей прямо — и все тут! А он вместо этого заюлил, промолчал, и ей, Раисе, сразу все стало ясно.
А вообще-то, смех один, расскажи кому-нибудь — не поверят, что Венька Комраков из первого цеха может на глазах превратиться в тряпку! А ведь еще как путный понабрал вина, закуски, привел ее к себе домой открыто, как холостяк какой…
Конечно, она знала про его Зинаиду, кто ее не знает из заводских девчонок — промтоварный ларек в десяти шагах от завода, только дорогу перейти, и в обеденный перерыв девчонки первым делом бегут не в столовую, а к Зинке Комраковой — узнать, нет ли чего-нибудь новенького.
Но что-то нашло на нее тогда. Он же птицей пел, Веня-то, уж так рассыпался, весна, наверно, им обоим в голову шибанула — сошлись нечаянно на воскреснике у сваленных в кучу голых топольков, как глухарь с копалухой, и она слушала его и черт те что воображала.
Зинаида нагрянула, когда Венька, сменяя пластинку на радиоле, куражился вовсю, называя ее, Раису, то Снежаной, то Несмеяной, и видно было, как ему хотелось поцеловать ее. И тут — крых, крых! — скрежет дверного замка аж в сердце отдался, и Венька замер над столом с рюмкой вина в руке, и она, Раиса, хоть и оробела, сразу загадала: если выпьет — значит, к счастью, к ее счастью, а поставит на стол — значит, все это были фигли-мигли… Венька тут же, как только увидел свою законную супруженьку, поставил рюмку на стол.
И скандала, конечно, никакого не было. Зинаида вошла не торопясь; через полуоткрытую дверь из комнаты было видно, как она в прихожей ширкала туда-сюда заедающими молниями, снимая старомодные резиновые ботики, как, оглядывая висевшую на вешалке чужую болонью, поправила у зеркала неестественно высокую прическу, делавшую ее еще более некрасивой и угловатой; по-хозяйски выключив в прихожей свет, шагнула в комнату, с трудом разомкнула будто замороженные губы, говоря какое-то неживое приветствие, и присела на краешек кровати, стараясь удержать недвижными на коленях руки и не спуская с соперницы взгляда.
Венька тотчас отошел к окну, нарочито энергично, как бы предупреждая, что и он сейчас огонь, с коротким треском гардинных колец для чего-то отдернул портьеру, оперся обеими руками о подоконник и ссутулился, касаясь лбом оконного стекла.
А ее, Раису, на беду, захлестнула веселость. Наверно, больше от растерянности. И еще от ясного сознания, что Зинаида совсем невзрачна, ничто в ней как в женщине не может посоперничать с ее красотой. Только позднее поняла она, в чем было превосходство Зинаиды.
— Извините, конечно, — дрожащим голосом сказала Зинаида, — что я помешала. Придется вам, — и голос ее все твердел, подкрепляемый обуревавшим ее чувством, — допивать в другом месте. Собирайся и уматывай вместе с ней, — уже без всякого усилия над собой, почти бесстрастно решила она судьбу Вениамина, — чтобы и духу твоего здесь больше не было… Я тебя не держу, не навязываюсь, любите друг друга — значит, надо открыто, и оставьте меня в покое. Уходите! — Она встала и нетерпеливо сдернула с кровати покрывало, как бы тут же, еще при них, собираясь лечь в постель.
Раиса еще чего-то ждала, но уже перестала болтать в воздухе туфлей и сунула ноги подальше под стул, а Венька прошел в прихожую, включил свет и снял ее болонью, говоря намеренно грубо:
— Я провожу тебя, идем…
Как уж потом они помирились — ее это, по правде говоря, не волновало, но уходила она как оплеванная. Куда и веселость вся подевалась.
И вот теперь Венечка хвастает каким-то письмом сестры и все тверже и прямее глядит ей в лицо — значит, отошел, и, может, ничего тогда у него и не было.
Она заговорила с девчонкой из своего цеха и, как бы для удобства разговора, поднялась, протиснулась поближе к выходу и встала спиной к Веньке.
Он ухмыльнулся и стал думать, что весной ему просто-напросто померещилось, нашла сердечная блажь по случаю весны и субботнего дня — уж такой нездешний представитель эта Рая из инструменталки. А оказалось, что его Зинуха рядом с ней сильнее выглядела. «Побольше надо бывать на улке, — решил Венька. — А то прямо как петухи после зимней отсидки в подполе — от свежего воздуха пьяными становимся!» Вот возьмет он в кредит лодку, дюралевую и чтобы с моторчиком, как у одного слесаря в их цехе. Зинаида возражать не станет — сама еще как обрадуется. И катанут же они, елки-палки! Ему уже представилось, как стоит лодчонка у берега на плесе, покачивается себе, а сиденья у нее дерматиново-поролоновые, на манер трамвайных, только где поролон достанешь…
Улыбаясь своим мыслям, Венька уткнулся в окно, за которым уже тянулась предзаводская окраина с ее подъездными путями и высоковольтными линиями, мерцавшими в темноте от сполохов сварки за оградой.
Минут за десять до смены в слесарке появился механик. Как раз был Венькин ход — он сидел с краю на длинной лавке перед оцинкованной столешницей и вдохновенно подкидывал свой кубик.
Игра была на манер «Приключений Незнайки» — каждый, стремясь вперед, передвигал свои фишки на самодельном поле из цветного оргстекла. Только в отличие от игры пацанят на ломаной дорожке, по которой двигались вперед разнокалиберные фишки, были сплошные препятствия, о них-то фишки и спотыкались, сваливаясь вниз черт знает куда по красненькой стрелочке. Только вниз, вниз — и никаких тебе взлетов на аэростатах. Вся эта веселая канитель, повторявшаяся изо дня в день, напоминала Веньке работу в аварийном цехе, когда тычешься по объекту почти вслепую, в молочных клубах прорвавшего тетрахлорида. С Венькиной же легкой руки игру прозвали «аварийщик».
Одним словом, не игра, а прямо-таки находка на тот случай, когда ты явился на смену раньше времени. Начальство вечно терялось — то ли осуждать, как, скажем, домино, то ли нет, поскольку игра наглядно вырабатывает необходимые аварийщику качества: устремленность
только вперед, сквозь опасные препятствия!
Сменный механик, покосившись на Венькину именную фишку, как бы убеждаясь, далеко ли она продвинулась на ломаном пути с препятствиями, уставился на самого игрока.
— Чего ты, Николай Саныч?.. — Венька замешкался, замирая со своей фишкой на полдороге к новому пункту. Ему показалось, что механик уличил его, догадался, воробей старый, что кубик у него склеен из разных слоев и центр тяжести его теперь кладет грань с шестеркой чаще всего кверху, то есть дает самую крупную цифру для продвижения фишки.
— Иди-ка сюда, иди, — поманил его механик.
Медленно поднимаясь навстречу, Венька словно походя сунул руку в карман брезентовых штанов, заправленных в носки, и, пальцем нащупав в уголке кармана малюсенькую дырочку, благополучно впихнул туда кубик. Граненый плексиглас тоненько шоркнул по голой коленке.
— Вот что, Комраков…
Сменный поймал прокуренным пальцем и без того еле державшуюся пуговку на Венькиной спецовке и для чего-то стал ее крутить. Венька ждал, но механик вдруг надолго замолчал, будто еще раз обдумывая что-то про себя. «Что это он сегодня, — напряженно улавливал Венька, — прямо на него не похоже». Механик помедлил еще, для чего-то сверил свои часы с заводскими и, опять скашивая глаза на слесарей за столом, отпустил, наконец, пуговицу.
— Ладно, это я так… посмотреть на тебя захотел вблизи, — коряво пошутил он. — А за спецовкой, Вениамин, следить надо — пуговку-то пришей, у меня вон на столе суровая нитка есть.
— И это все? — удивился Венька, чувствуя, как плексигласовый кубик холодит ему ногу. — Ну, ты даешь, Николай Саныч! А я-то думал…
— Ладно, ладно. Иди, говорю, пришей пуговицу.
Механик вышел из слесарки, так и не заглянув по обычаю в свою каморку со столом и телефоном, а Венька в недоумении продолжал стоять посреди, на виду у всех; забывшие на время про «аварийщика» слесаря с добродушными ухмылками звали его продолжить игру, пока есть минута-другая до смены, но он отмахнулся, не ответил по привычке что-нибудь покруче на их сметки и, удивляясь этому новому своему настроению, побрел без всякой цели, просто так.
Первый цех, едва он миновал короткую галерею и сунулся в это пекло, сразу оглушил его. Из сумеречного нутра цеха навстречу шли несколько человек, шли вразброд, каждый сам по себе, — Венька знал, это было от крайней усталости, когда перед собой никого не видишь. Во рту у каждого, как обычно, торчала противогазная соска. И газу-то сегодня было — курам на смех. Но все были с сосками, и Венька, вдруг подумав об этом, как бы не доверяя своим губам, привыкшим к пресному вкусу резины, пощупал рукой рифленый шланг у подбородка, удостоверился, что и у него соска во рту, и несказанно удивился: когда воткнул, и сам не заметил!
«Интересно, — подумал он после этого, в то же время прислушиваясь к какому-то взбрыкивающему сегодня глухому побулькиванию в шестом хлораторе, — на других предприятиях, таких же, как это, в других концах страны и вообще в мире догадались работяги до этого простого секрета или нет? В противогазе ты весь в поту, а тут маска начисто срезается — и вывернутый конец шланга гладкой, в тальке поначалу-то, изнанкой очень даже удобно держать во рту. Соска и соска. Есть газ, нету — она у тебя во рту. И по технике безопасности претензий к тебе никаких, и для себя неплохо — уж не проморгаешь. А проморгать, конечно, есть чего».
Опять мимо него, только уже в обратную сторону, бодро протукала сапогами по асфальту пола свеженькая бригада слесарей. Один из них на ходу шлепнул Веньку по спине брезентовыми рукавицами, но желания ответить ему у Веньки не было. Через минуту бригада скрылась в глубине цеха, где налаживали новый хлоратор, пускаемый вместо взорвавшегося накануне. А до Веньки, потерянно стоявшего на месте, только сейчас дошло, откуда это в нем какая-то тревожащая пустота, усилившаяся особенно после встречи с механиком, — некуда ему было сегодня девать себя, свои руки. После этого чепе с хлоратором, в ликвидации которого Венька принял не самое последнее участие, тем более что взрыв произошел как раз в его смену и надо же было кому-то кинуться к этой рваной дыре с пластырем, а он как раз оказался к ней ближе всех, — заводской врач настоял, чтобы ему и еще двум слесарям из бригады дали отгул и талоны на удвоенную норму молока. Молочком их отпаивали, как недельных телят. И совсем зря, бесился Венька, в этот раз сам он почти и не нахватался: соска-то соской, но он не дурак, чтобы на случай в укромном месте в слесарке не держать под рукой новенький противогаз по всей форме, то есть с маской. Два на брата не положено, это ясно, но кто тебе мешает раздобыть в раздаточной как бы запасной, если к тому же он тебе нужен строго для дела, а не для баловства?
Правда, если уж не врачу, а себе признаваться, то, когда жахнуло-то и по цеху пошел валкими клубами молочно-белый тетрахлорид, от которого на теле горит волос, он тут же начисто забыл о противогазе с маской: напялив до бровей кепку, кинулся как был — но с соской, конечно, — в этот сплошной туман с подходящим пластырем из номерной стали, думая только о том, чтобы не запнуться обо что по дороге.
Уже в дверях литейного с земляным, как в домашнем погребе, запахом формовок Венька спохватился: чего это, интересно, он приперся сюда — самому делать сегодня не хрена, так по цехам шататься, у людей под ногами путаться, что ли?
Но Сашка Ивлев, еще по службе в армии корешок, как единственный земляк в части, уже заметил Веньку и, удивляясь приходу его во время трудового утра, когда самая-то закваска начинается на всех рабочих местах, тут же, наказав что надо своим подручным, направился к нему, перепрыгивая через деревянные формы.
«Ну и идиот», — ругнул себя Венька, придумывая спешно хоть какую-нибудь причину.
Литейщик так сдавил его ладонь, будто собирался отпечатать на ней форму своей пятерни и затем отлить в металле на память.
— Ты чего? Случилось, может, что?
— Да нет, — смущенно заулыбался Венька. — Что со мной может случиться, посуди сам… От Зинаиды тебе привет…
Сашка уверенно качнул головой, принимая это как должное, а сам так и не моргнул ни разу, ожидая того главного, ради чего пришел человек.
— А ты мне это… знаешь че… отлил бы гантели, что ли… из чугуна! — сказал Венька, оглядываясь, будто форма для его гантелей была уже готова и лежала где-то поблизости.
— Какие гантели? — удивился Сашка. — А!.. Ладно, сделаю, конечно…
Венька, подмигнув Сашке, хлопнул его по плечу и шагнул было из цеха.
— Постой, Вениамин, — Сашка подошел к нему и с осторожностью и заботливостью, от которой Веньке стало не по себе, потрогал его за глянцево-голое, начисто лишенное волос, а потому казавшееся хрупким, как у мальчика, запястье. — Что там у вас… было-то? Опять хлоратор?
— Ну, — кивнул Венька, одергивая пониже рукава спецовки.
— Ты был в той смене?
— Да, в той. Ничего особенного.
— Я заходил к Зинаиде. Когда ни зайду — тебя все нет. Вы там что — дневали и ночевали, что ли? В цех к тебе было не пробиться.
— Ты же не аварийщик, чего тебе там делать, — отшутился Венька и вдруг неожиданно для самого себя поинтересовался с плохо скрытой стеснительностью: — А это… Зинаида-то… волновалась, поди?
— А то нет! — удивился литейщик. — Только о тебе и было разговоров: как он там да что он там… Только при мне она раза два принималась звонить на завод: жив ли, здоров ли ее Венечка…
Уже уходя из литейного, Венька рассудил, что давний дружок как бы упрекнул его этими словами — тогда, весной, через свою супругу он знал, конечно, всю историю его с Раисой-Снежаной и вряд ли одобрял, хотя и не показывал виду. «Так мне и надо, паразиту, — подумал Венька, уже освобождаясь после короткого разговора с Сашкой от сегодняшнего груза на душе. — А то ведь кошке игрушки, а мышке-то одни слезки».
Стараясь теперь попасть в свой цех с другой стороны, чтобы не маячить перед слесарями бездельником, Венька наметил себе немалый крюк, благо, везде понастроили крытых галерей, по которым запросто сновали даже «газоны» и ЗИЛы. В середине этого пути из-за дьявольского какого-то грохота, давившего на перепонки, он свернул с любопытством в сторону. В празднично-фиолетовых сполохах сварки парни в облапистых наушниках наподобие гермошлема танкистов трясущимися в руках пневматическими молотками с лязгом вгрызались в нутро реторт, сизых от недавнего жара. Титановая губка прикипела к стенкам диковинной формы кристаллами и фигурками, и Венька, заткнув уши пальцами, ругнул себя, что не наведался сюда раньше. Он долго глядел на громовую эту работу. «А ведь это они так каждый день по семь часов!» — подумал он. И никакими хитроумными механизмами работу их не заменишь, они же, что твои хирурги, огладят дрыгающим наконечником каждый закоулок реторты. Что-то сказать хотелось Веньке ну хотя бы вон тому, с длинными худыми руками, но парень долбил и долбил как заведенный.
На виду у этих парней Венька не мог позволить себе праздно копаться в поблескивающем титановом крошеве, — ребята из его цеха приносили иногда отсюда куски и, насадив такую фигурушечку на отшлифованную эбонитовую подставку, несли домой женам — для этажерки или на крышку приемника. «И без того стою тут истуканом, зенки пялю», — сказал себе Венька и заспешил, заспешил: пусть тот же длинный думает, что он от восхищения их работой остановился, а так у него дела, привет рабочему классу — и марш!
А между тем вагонетки, набитые нарубленной губкой, сами указали Веньке дорогу, и он сознательно делал новый крюк.
Тут было тихо, как в том же литейном, и воркотня дробильного барабана за стенкой доносилась глухо, укрощенно. По транспортеру зигзагами и перепадами длинно ползло совсем уже невозможное крошево; Венька хотел было тут же свернуть в дробилку и там у бункера выудить нетронутый кристалл, какой приглянется, да что-то привлекло его внимание при беглом взгляде на крайнюю у транспортера молодую женщину.
Сидела она, как и все в рядке, — ровная, будто на какой процедуре, не спуская глаз с транспортера и как бы задумчиво шныряя пальцами в крошеве, и Венька, посочувствовав неяркой ее работенке, вдруг ощутил, что на него накатывает непонятная грусть. Во-первых, именно в этот самый момент он вспомнил ни с того ни с сего про Мариино письмо, которое из-за встречи в автобусе с Раисой-Снежаной и дурацкого «аварийщика» так и не прочитал толком, с расстановкой; а во-вторых, и в том-то все было дело, эта крайняя в газовом платочке удивительным образом напоминала его старшую сестру… Венька даже слегка растерялся. И, уже приглядываясь к работнице настороженно, боком подошел к ней и тихонько буркнул:
— Я тут стою… не мешаю?
Она коротко вскинула на него глаза в мохнатых от титановой пыли ресницах, и лицо у нее было совсем не Мариино, и голос, конечно, даже отдаленно не напоминал сестрин.
— Да нет пока… Стой на здоровье, если делать нечего.
Выждав из деликатности минуту-другую, он для чего-то поинтересовался еще, вместо того чтобы повернуться и уйти:
— А это… бракуете, что ли?
— Бракуем, — не поднимая головы, все с тем же удивлением отозвалась она.
— Нудная работа, — сказал он напрямки, кусая себе язык.
— Да нет, ничего… кто как привык.
Она, может, подумала, что он просто заводской шалопай и, коротая время, пристает к ней, чтобы поболтать и познакомиться; но в Венькины планы это никак не входило, и, прежде чем уйти, ему захотелось на всякий случай разуверить человека:
— А я из первого, может, слыхали: у нас там на днях было небольшое чепе.
Она глянула на него быстрее, чем он ожидал, даже руками перестала шевелить.
— Это взрыв-то?
— Ну… только, по правде говоря, там и взрыв-то был… просто сменный технолог чего-то не подрассчитал — вот вместо газообразного и пошел жидкий хлор. А это уж само собой: вся сталь сгорела, что твоя бумага.
— И… что?
— А ничего. Подняли нас с постели, что называется, тепленьких, приехали мы в цех, заштопали, где надо, — и все. — Тут уж Венька загнул, он же был тогда в смене и видел все своими глазами с самого начала; но вот как раз об этом, обо всех этих подробностях, ему и не хотелось распространяться.
Он покосился исподтишка на свои безволосые руки, но про это, само собой, было бы и вовсе глупо говорить, — вроде как жаловаться ей или хвастаться, — и, от соблазна подальше, сунул руки в карманы.
— А что делали лично вы? — Она снова поглядела на него, так странно переходя на «вы».
— Я-то?.. Ну, во-первых, вместе с остальными слесарями бригады мы эту хреновину разболтили.
— Разболтили?
— Ну да. То есть сняли, где надо, болты. Потом поставили новые стальные пластины, а где можно было обойтись — наварили вот такие махонькие латки. И все.
— И все… А как же процесс? Ну, этот самый жидкий хлор, от которого горела даже сталь?
— Та не-ет… — улыбнулся Венька. — Вы меня не так поняли! Он тогда уже не был жидким. Что вы! Мы бы тогда были, как цыплята на вертеле! — Он опять куснул себе язык, что выбирает не те слова. — Технологи успели малость приглушить хлоратор, а мы, аварийщики-то, со своей стороны отсос на полную мощность врубили, чтобы газ уходил. Вот и всех делов.
— Понятно… Устали? — для чего-то спросила она, с запоздалым участием вглядываясь в Венькино лицо, будто он только что вышел из этой передряги.
— Устал, конечно, — засмущался Венька, поспешно отворачиваясь, будто разглядывая цех. — Но это все ерунда. Кто в наше время не устает. Брови вот жалко — это есть маленько… — не выдержал все-таки он. — Меня тут, когда я с пластиной копошился, слегка газовой струйкой накрыло, бе-елый такой газ-то, как молоко, зараза. Коже, если она сухая, еще ничего, а вот волосы — горят. Нет, точно — подчистую сгорают! — блеснул он выпуклыми, в красных прожилках белками, будто и сам восхитился этому чуду-юду. — Вот брови мои и полетели… Отрастут, как думаете? — засмеялся он, ощущая расслабляющую жалость к самому себе от этого чужого сочувствия.
Она приметно вздрогнула, не зная куда глядеть.
— Думаю, наверняка отрастут…
— Я тоже так думаю. Но это у нас впервые и, можно сказать, в последний раз… Не допустят больше… Вы лучше послушайте, — вдруг встрепенулся он, — что я у вас спрошу: вы на каком-нибудь курорте были хоть раз?
— Не приходилось… — растерялась та от непоследовательности своего странного собеседника. — А что?
— Да так… У меня сеструха на юге работает, Марией зовут. Вот письмо получил от нее: пишет — приезжай, мол, хватит тебе там газ нюхать, то есть здесь она имеет в виду, — ткнул пальцем себе под ноги Венька. — Давай, говорит, к весне, к самому купанию.
— А может, она и права, сестра ваша. Надо подумать…
— Подумать, подумать! Черт его знает! Только начни думать — голова распухнет. Чего тут думать-то?!
Она замялась, даже на транспортер перестала смотреть — не знала, что сказать ему.
Венька глянул на нее, потихоньку хмыкнул. Он понимал ее, но не умел благодарить за такое сочувствие.
— Жалко, вы не знаете мою сестру, чудная же она у меня, такая заводная! — ни с того ни с сего ввернул он, без цели постукивая носком ботинка о глухо отзывавшийся рельс под ногами. Что-то на него нашло в эту минуту, он чувствовал, что незнакомая женщина думает сейчас о нем, и это его странно волновало. — Пишет вот, — вытащил Венька из кармана смятое Мариино письмо, — что была там у нее заваруха. Отмочила, можно сказать, номер — не успела обжиться на этом самом курорте, а уж начальству поперек дороги встала. За человека, говорит, заступилась. Ей вынь и положь правду да справедливость, батин характерец. А они — ну, кому она на любимую мозоль-то наступила — возьми да и заведи на нее персональное дело. Коса на камень, значит. Раз — и на партсобрание ее, храбрую такую… — Женщина у транспортера опять перестала шевелить пальцами в титановом крошеве, но Венька засмеялся и махнул рукой: — Да не-нет!.. Ничего с ней не сделается. Что вы! Да если она права — так ты тут хоть лоб себе разбей, а в сторону ее не спихнешь! Пишет, что персональное дело против того и обернется в конце концов, кто заводил его на нее.
Женщина вздохнула и с сомнением сказала:
— Зовет к себе, а сама там воюет…
— Так она и в химцехе у себя воевала, — с чем-то не согласился Венька. — Это уж характер у человека такой. А так она добрая. И не одного меня на юг сманивает. Всех, нас, Комраковых, в одно место собрать надумала Мария-то. Шутка сказать! Мы ж разъехались, расселились по белу свету. Сама она с пацаном, племяшом моим, живет у теплого моря, хотя до курорта лет десять трубила на одном алтайском заводе, вместе с нашим батей. Я тоже там начинал, а после армии подался вот сюда — втемяшилось же что-то в голову… И вот ты скажи мне: чего не жилось всем вместе, куда это человека тянет, к чему это он вечно стремится, бежит-бежит, а настигнуть все никак не может? А то, гляди, и настигает, да когда это случается, то человеку, поди, кажется, что это совсем не то, что ему хотелось, и он опять срывается с места…
Женщина смотрела куда-то вглубь цеха и чему-то улыбалась про себя. Они не слышали, как подошел Венькин сменный механик.
— Ага, вот он где прохлаждается…
Венька быстро обернулся и первым делом машинально пошарил пальцами в том месте своей спецовки, где вместо пуговицы торчала открученная нитяная культя.
— А я думал, он потому в отгульный день на завод приперся, что дело у него какое-то…
Механик извинился перед Венькиной собеседницей и кивком отозвал Веньку в сторону.
— Ты чего сегодня ко мне пристал, Николай Саныч? — пытливо вгляделся Венька в лицо своего механика.
— А так… поздравить тебя хочу… Ну ты и гусь, скажу я тебе!
Венька выпрямился и чуток полуотвернул лицо, в то же время не спуская глаз со сменного.
— Я тебя, Комраков, еще тогда предупреждал, — с какой-то скорбной укоризной начал механик, — когда от твоей жены Зинаиды поступило на тебя заявление по поводу посторонней связи. Я тебя еще тогда оч-чень душевно предупреждал: гляди, мол, Вениамин, допрыгаешься! И ты ведь вроде как остепенился. Поверил я тебе, дурак старый, не стал выносить вопрос… А как теперь ты отвечаешь на мое доверие?
Венька долго молчал, не меняя выражения лица.
— Я так считаю, Николай Саныч, ты потому сегодня не дело говоришь, что со своей женой небось с утра пораньше поцапался!
— Дурень ты, Комраков, — сказал он. — Я вижу, все же придется, поскольку есть свежий сигнал о повторении посторонней связи… — он с нескрываемым любопытством оглядел недавнюю собеседницу Веньки, — пропесочить тебя как следует!
— Свежий сигнал, говоришь… это, значит, сегодняшний? — спросил он механика.
— Сегодняшний, сегодняшний, Веня! Однако же чует кошка, чье сало съела, — победно ухмыльнулся он.
Венька быстро прикинул: коли про сегодняшнее речь идет, то это имеется в виду его утренняя случайная свиданка в автобусе с Раисой, а значит, это не Зинкиных рук дело — сигнал механику. Когда бы она успела, она же спала еще, когда он ехал в автобусе-то! И это значит также, шел к главному своему выводу Венька, что и раньше не сама Зинаида растрезвонила про те его смехотворные шашни с Раисой-Снежаной, а кто-то из посторонних.
Венька шоркнул по лицу задубелым, пахнущим железом рукавом спецовки и не удержался — изумленно покачал головой: Зинаида-то, а?! Да разве же он еще тогда, той весной, не был в душе уверен в своей Зинухе, что не в ее характере писать разные жалобы? Она ж, супруженька его, лучше молчанкой доймет человека, будет месяц молчать, два, пока ты сам не поймешь, что поступил как последняя скотина.
— Дошло, Николай Саныч, — весело хлопнул себя Венька ладошкой по лбу, — можно сказать, усек все как оно есть! Так что против серьезного разговора я ничего не имею и даже, наоборот, душевно благодарю!
Сменный чертыхнулся и, явно обескураженный, ушел.
— Давайте прощаться, — тут же заторопившись, сказал Венька женщине у транспортера.
Похоже, та слыхала весь их разговор с механиком и ничуть не удивилась такой перемене Венькиного построения. Ее руки уже снова ворошили проплывавшее перед нею крошево.
— Слушайте, — несмело тронул он ее за рукав, — это, конечно, все ерунда… но мне охота подарить вам что-нибудь на память. Вы как, а?
Она улыбнулась, пожала плечами. Вид у нее был грустный. «Черт его знает, — отчаянно подумал Венька, — а вдруг и я ей кого-то напомнил? В жизни все возможно».
— Только у меня ничего нету, — сказал он и, понимая, что это глупо, огляделся вокруг. — Разве что вот это… — Венька, к ее изумлению, задрал штанину и выковырнул из носка давешний плексигласовый кубик, радуясь своей догадливости. — Между прочим, обратите внимание, какой тут секрет: этот кубик я так сварганил, что он падает шестеркой вверх, реже азиком, как говорят доминошники.
— Азиком?
— Ну да. То есть единичкой. Но чаще шестеркой, — твердо и даже чуточку гордо заявил Венька. — Тут все дело в центре тяжести. Вот глядите! — Он присел на корточки и бросил кубик прямо на пол. Кубик крутанулся и замер, показывая единичку.
— Азик, — сказала она.
— Чего это он… — изумился Венька и, встряхнув в сомкнутых ладонях кубик, опять подбросил его, но тут же поймал на лету и протянул ей: — Ну его, в самом деле, что мы как маленькие…
И быстро пошел по цеху, машинально нащупывая на груди противогазную соску и захватывая ее губами.
2. ВЕЩИЕ СНЫ
Ближе к весне Веньку стали одолевать сны. Да все явственные, с подробностями, будто дело происходило наяву.
Сроду такого с ним не бывало, даже в пот бросит иной раз. Приходя в себя, Венька долго сидит в постели, вглядываясь в кромешную темноту.
А утром, перед тем как собираться на работу, он вспоминает ночное и на минуту притаится под одеялом, дивясь тому, что снится ему одно и то же. Будто в цехе у них случился взрыв хлоратора. И как раз в его смену. Да не так себе, взрыв-то, а сильный, каких еще не доводилось видывать. В один миг сгорело все подчистую, а брезентовая спецовка истлела на нем от жара без всякого пламени.
Все рассосалось вместе с дымом, словно и не было вовсе никакого цеха. А он живой!.. В этих странных снах Венька всегда оставался целехоньким, не хуже ствола хилого тополька за окном слесарки, на котором каждое лето от невидимого газа сворачивались раньше срока чахлые листья, толком не успевавшие набрать силу.
Но сон сном, а вот рука начинала мозжить взаправду, как и в те дни, когда и впрямь случались аварии и ее натрудишь, наломаешь в авральной работе. Это уж, видно, теперь на всю жизнь: руку придавило еще на монтаже хлораторов, после армии, и вот стоит лишь упомянуть в разговоре про эти чертовы махины, как рука тут же и даст о себе знать. Да что там разговоры — даже глупого сна хватает, чтобы растравить проклятущую застарелую боль в кисти.
— Это все потому, — сладко зевая спросонья, рассудила Зинаида, — что ты сам глупеешь с возрастом. — Она досадовала, что Венька разбудил ее ни свет ни заря только затем, чтобы пересказать свой сон. — Ты же уверял когда-то, что вообще никаких снов не видишь.
— Мало ли что! Раньше и ты не будила меня среди ночи своим храпом, — обиделся Венька.
— Чего-чего? — Уже готовая уснуть, Зинаида удивленно открыла глаза. — Храплю! Да мне мама еще в детстве говорила, что я сплю, как мышка. А мышки разве храпят? — со всепрощающей улыбкой просунула она руку под его шею.
— Хм, мышка… — отодвинулся Венька. — Хорошенькая мышка! — с какой-то мгновенной отчужденностью глянул он на жену, напоминавшую ему своей голенастостью и худобой скорее всего цаплю. — Кошку она имела в виду, твоя мать, старую облезлую кошку! Мурлычет которая на всю комнату.
— Ну знаешь! Да если бы я не заставила себя привыкнуть…
— К чему бы это?
— А к тому, что ты зубами скрипишь по ночам. С ума можно сойти от этого скрипа, забежаться куда глаза глядят.
— Ну и беги!
— Нет, я подожду, когда ты убежишь. Думаешь, я не знаю, — Зинаида шмыгнула носом, отворачиваясь к стене, — почему ты ездишь на завод в такую рань, за два часа до работы?
— Ну, почему? — Венька даже приподнялся на локте.
— А потому, что снова шашни завел с этой Раисой, кобель чертов!
Венька вздохнул протяжно:
— Ох и ненормальная же ты, Кустицкая…
— Ага, а ты нормальный. Дальше некуда. Да, господи, — всхлипнула Зинаида, — разве я не знаю? Тебе уже и работа твоя аварийная надоела хуже горькой редьки, а ты все с ней расстаться не можешь, хотя от газа пожелтел, как початок кукурузы.
— С кем не могу расстаться, с Раисой?!
Слово за слово, переругались с утра пораньше.
«Ну что ты с нее возьмешь?» — думал Венька уже в автобусе, поражаясь тому, как Зинаида все переиначила.
Всю дорогу до завода он простоял на задней площадке, насупленно уставясь в окно. Никого не хотелось видеть, никаких знакомых, кто бы ни входил в автобус.
Вспоминая последние слова жены, Венька все больше мрачнел. Как ни крути, а сердце подсказывало: все же есть в ее словах и какая-то правда…
Смешно получалось, что она, эта правда, была как бы скрыта от него самого.
В слесарке он сразу, как только притворил за собой дверь, примостился на краешек железной скамьи. В безлюдной пустоте любые звуки отдавались тревожаще гулко, и лучше было посидеть без всякой суетни, чувствуя спиной через стенку потаенный гул хлораторов и рукавных фильтров.
Хорошие были минуты. Особенно если все цеховые агрегаты гудят, посапывают размеренно, без надрыва. Кожей чувствуешь: все в порядке пока что. И не о чем тут думать.
Только вот голая ветка тополя, которую бестолково дергало ветром, то и дело стучала в окно, и в этом стуке мнилось что-то потерянное.
А до начала смены был еще битый час.
— Ха!.. На ловца и зверь бежит. Привет, керя! — с порога улыбнулся ему Торпедный Катер, слесарь ночной смены. — Ишь как удачно я нагрянул…
В свете потолочной лампы сияли вставные зубы Торпедного Катера. Ну и глупая же у него привычка — называть Веньку керей, корешом значит. А какой он ему кореш? Работают чаще всего в разных сменах и вместе не выпивали даже в дни получки, когда каждому рад и угостил бы хоть самого черта. Он и имя-то настоящее этого Торпедного Катера не знал. Говорили про него, что когда-то служил якобы на флоте, с той поры вечно щеголял в тельняшках, и вот за это и за то еще, что был несуразно долговязым и беспримерно нахальным, прозвали его Торпедным Катером.
Венька решил было тут же отбрить его как следует. Моду взял! Пусть ищет себе керю в другом месте. Но, как назло, вспомнил, что так и не наварил обкромсанные лопасти винта для лодочного мотора, о чем христом-богом просил его этот заядлый рыбак.
И Венька смутился, не зная, куда девать глаза.
— Привет… — только и сказал он.
Тиская ладонь, Торпедный Катер ловил его взгляд, словно пытаясь заглянуть в душу.
«Гляди не гляди, — подумал Венька, — а ничем я тебя не обрадую».
— Ты знаешь, какие у нас последние дни выдались…
— Знаю! — весело хохотнул Торпедный Катер. — Чепе у нас было, но все обошлось.
«Фу, черт возьми, — Веньке стало и вовсе неловко, — он же одним делом со мной занимается, тоже аварийщик и наладчик. Хотя авария была как раз в нашу смену, мы пластались-то, крутились как угорелые, вот все и обошлось».
— А теперь я нарочно в дневную напросился, — снова блеснул Торпедный Катер железными зубами. — Вот мы и наварим сейчас мой винтик, пока время есть.
— А ты сам-то чего? Такие же руки.
— Ха, сам… Смог бы, конечно. Да ведь в том-то и дело, что у меня просто руки, а у тебя, говорят, золотые.
— Так уж и говорят…
Венька достал из ящика тяжелый облезлый винт, наклонился к автогену.
— Ты где это запоролся? А еще хвастал, что реку знаешь как свои пять пальцев.
Торпедный Катер зевнул:
— Закон пакости…
— Чего-чего?
— Закон пакости, говорю. Ты планируешь так, а оно получается этак.
Венька подумал над этими словами, хмыкнул. Чиркнув спичкой, он поднес огонек к струе автогена, но тут из-за его плеча протянулась к винту чья-то рука. Белая, с чистыми ногтями, не знавшая железной окалины. И обшлаг синий, вроде как у милицейского кителя.
Проследив, как рука взяла винт и унесла его за плечо, Венька удивленно оглянулся. Над ним стоял милиционер — маленький, ладненький, прямо как на картинке. Четыре звездочки на погоне. Молодец. Даром что молодой. И вошел хорошо — бесшумно.
— А я думаю, кто это тянется… — смешался Венька. — Рука незнакомая.
— Твой винт?
— А что?
— Спрашиваю — отвечать надо.
Венька прищурился, ноздри его затрепетали.
— А вы не тыкайте, товарищ капитан!.. — с какой-то вкрадчивой вежливостью тихо сказал он и поднялся, машинально застегивая на спецовке пуговицу.
Теперь капитан заморгал, сбился с привычного тона. Торпедный Катер вовремя вклинился.
— Мой это винтик, — оскалился он. — От моего «Вихря». Запоролся вот малость…
— Где?
— Да на всех перекатах понемногу…
— Почему же так неосторожно?
Торпедный Катер изумился:
— Что вы, товарищ капитан! Какая может быть осторожность! Когда гонишься за браконьером, разве думаешь о том, что гробишь собственную лодку, не говоря уже о собственной жизни?
«Врет», — подумал Венька, еще не зная, чему не поверил: то ли тому, что Торпедный Катер гоняется за браконьерами, то ли этой его браваде, будто он не жалеет ни себя, ни лодки.
Капитан вертел в руках винт, близко разглядывая лопасти и ловя на свет тускло мерцавшие срезы.
— А что хоть случилось-то? — не вытерпел Венька, но капитан, положив на место винт, вышел из слесарки.
— Ищи-свищи теперь, — усмехнулся Торпедный Катер, глядя на дверь. — Да и кого искать-то? И зачем? Убили, мол, сказал бы. А то подумаешь: малость стукнулись бортами… Кто-нибудь потемну налетел на этого Симагина, а тот уже и хипеш поднял. Как же, покушение!
— На какого это Симагина?
— Да на рыбинспектора. Штатник наш. А ты здорово его осадил, этого капитана! — Торпедный Катер присел рядом с Венькой, подтыркивая его под бок. — Он же не знает, за кого ему уцепиться, вот и приперся на завод… Это все Симагин его науськал. Считает, видишь ли, что каждый лодочник — браконьер. А то, что он на рабочий класс пятно бросает, — это ему трын-трава…
Венька снова зажег спичку, но к автогену подносить ее не стал, — подержал перед собой, как свечу, пока она не догорела, коснувшись пламенем пальца. Отразился в глазах у него огонек и тоже погас.
— А ты знаешь, — вдруг засмущавшись, признался он, — я ведь тоже хотел было в нештатные записаться.
— Неужели? — повел губами Торпедный Катер.
— Ну. Заяц трепаться не любит. В прошлом году еще собирался.
Венька не придал значения этой насмешливой снисходительности Торпедного Катера. От другого бы не стерпел, от слесаря какого-нибудь или даже от начальства, уколол бы ответно. А тут — случай особый. Все же был человек не просто слесарем, но еще и боевым инспектором. Хотя и нештатным.
— А может, в позапрошлом? — совсем уже открыто высмеивал его Торпедный Катер.
— Да нет. В прошлом. У нас же когда была эта кампания-то?
— Какая?
— Да по охране природы-то. Как объявили на заводе, мол, призываем помочь в деле охраны родной природы, так я сразу и подумал: а что, не записаться ли и мне? Все равно же по выходным делать нечего.
— Ну и почему же медлил, не записывался?
— Так ведь лодки же нету!
— А, лодки…
— Ну лодки. Где ее купишь-то? Город на реке, очередь в магазине на несколько лет вперед. А у нас ведь знаешь, как делается? — ни с того ни с сего озлился Венька. — Кому вообще не надо бы давать ни лодок, ни ружей, ни машин, тот как раз и достает в первую очередь. А ты жди… Сами же вооружаем разную тюху-матюху, оснащаем техникой, а потом за голову хватаемся: «Природу истребляют, дичь, рыбу!» — передразнил он кого-то.
Торпедный Катер хмыкнул, глянул на Веньку долгим пытливым взглядом. Но тот уже напялил на себя темные очки и зашумел автогеном.
Эта история, что бы теперь Венька ни делал, не выходила у него из головы. Надо же додуматься до такого — врезаться на полном ходу в лодку, в которой сидел живой человек!
Весь день, не понимая самого себя, он исподтишка посматривал на Торпедного Катера.
— У тебя руки или крюки?! — не сдержался, вскипел Венька, когда Торпедный Катер, помогавший ему заводить стальную пластину на прогоревший бок царги, чуть не уронил свой конец.
Слесаря и механик переглянулись — не бывало еще такого, чтобы Венька, выпихнув языком противогазную соску, кричал на своих ребят.
А потом, когда Венька и сам вдруг дал маху: не сумел в один прием как следует прижать струбциной лист, — он рассвирепел до того, что напустился на сменного механика:
— С такой бригадой уродоваться только, а не работать! Не цех, а проходной двор — мечутся из смены в смену… Сработаешься тут…
Торпедный Катер, однако, покорно молчал, а после работы сказал как ни в чем не бывало:
— Давай доделаем, керя, винтик-то мой. Задержись на полчасика.
Венька глядел на него в упор и вспоминал, как Торпедный Катер после смены всегда бросал свои инструменты и противогаз где попало. Приткнет не глядя — и бегом в бытовку. По себе Венька знал: одинаково радеть за свое и казенное сил не хватит. У него самого заводские инструменты были на чистеньких стеллажах, каждый в своей ячейке. Зато дома, в кладовке, где когда-то имелось все, от тисков до надфиля, черт ногу мог сломать, к тому же все путное порастаскали соседи.
«Я почему не могу ему отказать? — спросил себя Венька, чтобы не поддаваться такому соблазну. — Да потому, что Торпедный Катер как-никак внештатный инспектор от нашего завода. Без винта, он, конечно, как без рук. А почему я ему на соплях его делаю? — минуту спустя как бы удивился Венька, словно только что ненароком разоблачил себя. — Да потому, что душа у меня не на месте: хотя Торпедный Катер и внештатник, а все же не мог он угробить свой винт из-за браконьеров!»
Сознательно перекаливая металл и пуская по шву «пузыри», Венька наварил электроды на лопасти с таким расчетом, чтобы винт обкрошился на первом же перекате.
Дни потянулись вроде бы медленнее обычного.
Все та же была работа: крутились вокруг раскаленных царг, прогоравших то в одном, то в другом месте, но все же будто что-то изменилось. Словно не хватало теперь Веньке чего-то, а чего — он и сам не знал. Не хватало какой-то ясности.
Чтобы много не думать об этом, он ругал втихомолку свою Зинаиду: «Это все она накаркала! Испортила мне настроение. Надоел, дескать, завод, надоел цех, надоела работа… Сама она мне надоела, это точно».
Взбадривая себя, он стал чаще вспоминать недавнее событие, связанное с инспектором Симагиным. И в одно прекрасное время Венька вдруг решил прямо с завода поехать в рыбинспекцию. Так вот просто — взять да и заявиться! Хочу, мол, познакомиться. Ничего же в этом нет запретного. Самое, казалось бы, житейское дело — подойти к человеку и поговорить с ним по душам. Раз уж тяга такая внезапно открылась. Не выгонят же с порога, в самом-то деле!
Надолго не откладывая, он устремился в обеденный перерыв к Сане Ивлеву — позвать его после работы с собой.
Как на грех, по пути Венька чуть не столкнулся с Раисой. Она шла, не видя его, по краю аллейки, шла прямиком к ним, в хлораторный, на ходу поправляя пальцами прическу.
Разом вылетело из головы все: куда он только что топал, зачем.
Машинально спрятавшись за какой-то щит — доска Почета это была, — Венька глядел ей вслед до тех пор, пока Раиса не скрылась в цехе. Он вроде как надеялся, что вовсе не к нему она идет, но, с другой стороны, очень огорчился бы, если бы увидел, что она и впрямь прошла мимо.
Так что и смотреть тут было нечего. Все ясно как дважды два. И не только ему самому. Весь цех уже знал, что опять стала похаживать к ним в хлораторный девчонка из инструменталки, та самая, с которой он, Венька Комраков, крутил тайную любовь в прошлом году — до тех пор, пока Зинаида не разогнала их в разные стороны.
Выйдя из-за доски Почета, Венька глянул на свое отражение в стекле, пригладил волосы, провел по небритому лицу задубелой ладонью и крупными прыжками побежал вслед за Раисой.
«Дура! — шептал он. — И зачем только ходит?»
Хотя, говорил в нем другой голос, почему бы ей не ходить… Не вешается же она ему на шею. Придет, поднимется на галерку к девчонкам-киповцам, монтирующим какой-то пульт, поболтается там полчасика, поглядывая сверху на двери слесарки, и спустится в столовую. Знает ведь: он, Вениамин, первым к раздаточной не прется, он явится как раз тогда, когда все оголодавшие насытятся и в столовой будет тихо и уютно. Тут-то она и присядет со стаканом компота за соседний столик и будет как бы отрешенно глядеть мимо, в стену, поцеживая компот с таким видом, будто ради него-то, этого теплого пойла, она и пришла в чужую столовую.
Зло брало Веньку в такие минуты. Но, если честно признаться, было ему и приятно… Бросая по сторонам лютые взгляды, заранее усмиряя не в меру смешливых слесарей из своей бригады, которые взяли моду ходить в столовую в эти же минуты, прямо как на концерт, Венька в то же время украдкой разглядывал Раису, и сердце его екало при воспоминании о тех днях, когда он встречался с нею, танцевал и пел то про Снежану, то про Несмеяну.
Снежана, Снежана, Снежана,
Летят лепестки, словно снег…
— Рая, постой-ка! — он еле догнал ее в коридоре бытовки.
Она обернулась к нему так быстро, будто испугалась его голоса. А вообще-то, и впрямь испугалась — большие карие глаза ее, на которых он и помешался тогда, будто не сразу поверили, что перед нею стоит не кто иной, как Вениамин Комраков.
— А я думала, ты в отгуле…
Выходит, она знала, что вчера у них в первом цехе, как раз в его смену, была авария. Правда, там и авария-то… Одно название. Опять малость взбрыкнул этот пятый хлоратор, никак не приноровятся к нему технологи. Маракуют, маракуют над своими расчетами, а все попусту. Венька не раз уже ехидничал: «Дал бы я им вместо логарифмических линеек разводные ключи и противогазы, тогда бы живо нашли правильный режим работы хлоратора!»
— В отгуле, в отгуле… Что это вы все заладили одно и то же? — улыбнулся он Раисе.
— Кто все-то?
— Ну, кого ни возьми. Надоел я вам, что ли?
— Так ведь положено, — скованно улыбнулась и она. — После аварии, если кто наглотался газа, давать отгул.
— Ну, Рая, ты и даешь! — совсем осмелел он, засмеявшись. Он уже осмотрелся и понял, что бригада вместе с механиком ушла в столовую. Никто их тут и не увидит. — Ты-то откуда знаешь про наши порядки?
— Сам же рассказывал когда-то.
— Я?!
— А кто же еще. Слабая у тебя память…
«Ну вот, уже и намекает», — погас Венька.
Раиса словно догадалась, о чем он подумал, усмехнулась краешком губ.
— Просто жалко, говорю, человека.
— Это уж не меня ли?
— А хотя бы и тебя.
— А что же такого… жалкого во мне? — дрогнул у него голос.
— Не жалкого, а глупого.
— Ну, так уж и глупого? — вскинул он обгоревшие под тетрахлоридом брови.
— Ага, — спокойно казнила она его. — Глупого. Потому что умный не кинется в самое пекло. А тебя всегда туда тянет.
«Хм, — прищурился Венька. — Никак она и впрямь пожалела меня… От жены такого не услышишь, надо же!»
— Тянет, Рая. Это верно… Заяц трепаться не любит. К горячему меня всю жизнь тянет, — с мгновенным облегчением перешел он на шутливый тон, вдруг почувствовав острое желание прикоснуться ладонью к ее шее, поерошить пальцами ее волосы на затылке — как тогда, прошлой весной.
Она, угадав это его желание, чуть отступила от него.
— Вот ты всю жизнь и обжигаешься.
«Опять про старое…» — притаил он вздох. Но сдержать себя уже не мог.
— Послушай, Рая… — глянул он в ее затуманившиеся глаза, — а что, собственно, ты имеешь в виду?
И вот стоило бы ей сказать сейчас что-нибудь дерзкое, и у него разом бы отлегло все от души. Венька надолго черствел от чужой злости.
Но девчонка эта была себе на уме, женским чутьем поняла, что надо смолчать. Потупилась, перекатывая носочком туфли бросовую гайку, и, словно вспомнив, чем его можно пронять, подняла на него моментально преобразившиеся глаза без этой пугающей поволоки.
— Что, Веня, — вроде как весело спросила она, — опять струсил?
— Чудачка ты, — как-то судорожно улыбнулся он. — Дело же не в этом. Хотя, конечно, ты ведь знаешь все про мою Зинаиду. Жалко ее. Да и не то чтобы только жалко… — притуманились теперь и его глаза, — ведь женился-то я на ней по любви, понимать это надо. Семь лет вместе. Из жизни эти годы не выбросишь.
— А зачем же тогда целовал меня?
— Когда бы это успел? — округлил Венька глаза.
— Ах, уже и когда… Быстро же ты забыл, как твоя женушка выставляла тебя из дома.
— Хм, интересно… А как бы ты поступила на ее месте? Вот ведь бабы какие — только себя жалеете. Ну, разогнала она нас. Так на то она и жена! Законная как-никак.
— А со мной, значит, ты хотел просто время провести…
— Ну зачем же так… — поморщился Венька. — Да ведь и ничего же не было, Рая! Ничего же такого я не позволил. Ну подумаешь — коснулся губами щеки. Смотри, беда какая!
— А Снежаной звал…
— Что, Снежаной? Ох ты, господи! Ну песня такая. И я же не говорю, что ты мне не нравилась — ты и сейчас нравишься. Не нравилась бы, не стоял бы тут с тобой на виду у всего цеха.
Рая снова потупилась. Помолчала, покусывая губы.
— Значит, заяц трепаться не любит?
— Какой заяц? — смешался он.
— Да все тот же… — вздохнула она и пошла на галерку, к своим киповцам.
И тут откуда ни возьмись вывернулся сменный механик. Будто споткнувшись на месте, он долго щурился вслед Раисе.
— Симпапуля… А мы тебе, Веня, обед взяли. Остыл уж. Давно стоит.
— С чего бы это такая заботливость?
— Не понимаю я тебя, Вениамин…
— А я, думаешь, понимаю? — отрезал Венька, обходя механика на расстоянии, чтобы тот не смог сцапать его за пуговицу спецовки, как привык делать в подобных случаях.
А душа уже опять заныла, заныла чего-то…
Как бы утешая себя, что тревога эта, копившаяся в нем с недавних пор, еще рассосется и все будет как нельзя лучше, Венька решил сыграть сам с собой на костяшках домино. Он сунул их в карман спецовки еще утром — не успели доиграть партию перед сменой. Крепко зажав их теперь в ладонях, он загадал: если в правой руке цифра окажется больше, чем в левой, все будет как надо…
В левой ладони, которую он открыл сразу, лежал четверочный дубль, а в правой — всего-навсего единичка.
«Азик… — усмехнулся Венька, — всю жизнь везет мне на азики!»
Ему даже
расхотелось идти в цех термовыпаривания к Сане Ивлеву.
И в столовую не манило уже. Разве пойдет тут еда на ум?
Однако, потоптавшись на месте, Венька все же поплелся по крытой галерее.
Новость, которую он узнал, едва лишь оказался у сизых от недавнего жара реторт, огорошила его. Ивлев, сменный оператор, ушел на другую работу — в хлораторный цех.
— Ты ври, да не завирайся, — не поверил Венька знакомому парню. — Я же сам из хлораторного.
Парень пожал плечами: дескать, какой ему смысл обманывать.
— Я же на днях его тут видел! Вот так же, как тебя. Ничего он мне не сказал… Ты, может, перепутал его с кем? — уцепился Венька за эту мысль. — Черный он такой, коренастый, ну, как бы это тебе…
— Да брось ты. Знаю я Саню Ивлева.
— Так почему же я не видел его в хлораторном?!
— А он, кажись, на галерке там. С киповцами. Они чего-то монтируют вроде бы.
Ах вот оно что… Венька сразу вспомнил: центральный пункт управления и контроля! Сокращенно ЦПУК. Ну как же, слыхал он про это дело. Туда-то, между прочим, и наведывалась Раиса. Но если ее гнало безделье, с девчонками язык почесать, то Саня Ивлев сунул туда свой нос не случайно.
Венька почти бегом устремился обратно, в свой хлораторный. В несколько прыжков он влетел на галерку, стуча по железной лестнице тяжелыми ботинками. Только и успел мельком глянуть на путаницу киповских проводов, голубыми венками испещривших цветастые блоки с лампочками, как Ивлев — сразу и не узнать, синий халат напялил… — увидел его, такого взбулгаченного, запыхавшегося, и, меняясь в лице, шагнул навстречу.
— Чего ты, Вень? Случилось что-нибудь?
Случилось! Он еще спрашивает…
Венька, переводя дыхание, усмехнулся:
— Да нет… В моей жизни все железобетонно. На тебя вот пришел поглядеть. А то люди говорят, а я не верю.
— Про что говорят?
— Да что опять блажишь. Выпендриваешься перед кем, что ли…
— То есть как это? — не понял Ивлев.
— Хм, как?.. Ты из инструментального куда подался — в литейку? Ладно. Хорошо. Стал бригадиром, трудись на здоровье. Тихо, уютно, дышать есть чем. Не прошло и полгода, захотелось с ретортами повозиться!..
— До реторт я в цехе рафинирования работал, — уточнил Ивлев. — Все по уму.
— Во-во, — злорадно загнул Венька еще один палец. — Осваивал и там азы… А теперь ты прыгнул куда? В наш, хлораторный! Это с твоими-то легкими… У нас же газу, дурья твоя башка, бывает столько, что и рук перед собой не видишь. Спрашивается, — подбоченился Венька, — все ли дома у этого человека? — покрутил он пальцем у виска.
Уж кто-кто, а Ивлев-то знал Веньку и догадался сразу, что взбесило его. Гонор заел человека, он же делал вид, что его работа особая, не каждому по ноздре, за нее он платит здоровьем, а может статься, отдаст и жизнь. А тут на тебе — заявляются в цех кому не лень.
— Чудак ты, Вень. Мои легкие, во-первых, ни при чем. Ну болели когда-то. Так это когда было? Об этом и вспоминать нечего. А во-вторых, — решил он пощадить его, — я же не лезу в аварийную бригаду. Я тут с киповцами. Вроде и не в хлораторном.
Венька свел к переносью реденькие светлые брови.
— Вообще-то, правильно, — поразмыслив, согласился он. — Ты под вид подсобника тут. Маракуешь себе, и никто не знает: али получится вся эта кибернетика, али нет. Такая уж твоя судьба. Свыкайся, раз уж в учебу ударился! — снисходительно засмеялся Венька. — Вот заимеешь диплом — и всю жизнь придется тебе корпеть над бумагами, чего-нибудь придумывать. Схемы разные сочинять станешь. А лично я и мне подобные, — Венька хлопнул себя по груди, — мы будем твои схемы проверять на практике, своими руками доводить их до ума. Глядишь, — подмигнул он, — в конце концов так доведем, что твоего-то уж и не останется ничего, все сами обмозгуем как бы между прочим.
— Это конечно, — улыбнулся Ивлев. — Рабочий класс у нас головастый, он и без инженеров и разной там науки…
— А чего? Ну вот скажи по совести, кто из нас титан делает — я или ты?
— Сравнивать сейчас или с учетом полной моей учебы?
— А как хочешь?
— Ну если когда я уже получу диплом и стану, скажем, начальником хлораторного цеха…
— А это видел? — Венька сунул ему под нос кукиш. — Делатель нашелся! Много тут перебывало разных начальников, иногда и совсем их не было, а четыреххлористый титан как бежал по трубам, так и бежит! Потому что в пекле, у царг да хлораторов, я кручусь, а не начальник!
Отведя нос от Венькиной фиги, Ивлев расстроенно насупился. Не надо бы им затевать бесполезный разговор. Это лет десять назад Венька пел ему: «Крылатый металл будем делать!» Молодые были, все казалось им тогда просто.
Веньке первому втемяшилось в голову после службы в армии поехать на стройку титано-магниевого комбината. Он-то и сманил Ивлева, соседа по казарме. Приехали сюда по комсомольским путевкам, получили носилки — бери больше, таскай дальше. С нуля начали, с фундамента, чтобы стены цеха были роднее. Обычная история, банальная.
Позже стали они работать в инструментальном, в одной бригаде слесарей. У Веньки еще до армии был третий разряд, он с удовольствием шефствовал над Ивлевым, своим бывшим сержантом, учил его различать ключи и накручивать гайки. На свою шею учил, потому что шустрый дружок рос прямо на глазах и года через два сдал на шестой разряд, обскакав Веньку.
Но это были цветочки. Вскоре, как-то незаметно, Ивлев поступил в институт, донельзя обескуражив своего учителя. Чтобы не остаться в хвосте, Венька, не долго думая, ушел из инструментального цеха — устроился в аварийную бригаду хлораторного: тоже не лыком шиты, такая работа не каждому по зубам! А сидеть по вечерам за партой — это, дескать, для слабоумных…
Дальше — больше. Ивлев задался целью освоить все циклы производства. «Чего ты чудишь? — напустился на него Венька. — Раз уж ты поступил в институт, там и без этого сделают из тебя инженера». Но Ивлев заявил: «Я сам буду делать из себя инженера. Мне, Веня, не корочки диплома нужны, а знания. Хочу до последней точки добить, до самого корня докопаться».
И вот тогда-то Зинаида и взяла моду сравнивать Веньку с Ивлевым — тот и учится, и своей жене не изменяет, и то да се…
— Ну ладно, я пойду, а то ребята ждут, — буркнул Ивлев. — Переливаем с тобой из пустого в порожнее.
«Иди», — пожал Венька плечами, чувствуя, что опять заныла у него душа — снова вспомнились те проклятые слова Зинаиды.
Он мотнул головой, глянул в упор на Ивлева и, хитря, подумал, что это ему бесталанного кореша своего жалко, — вот в чем дело-то! Ну как тут не будет жалко, если человек совсем потерял голову из-за своей учебы! Мечется по комбинату, бегает из цеха в цех, а что толку?
Венька засмеялся и хлопнул Ивлева по плечу.
— Чего ты? — опешил тот.
— Да так… Поедем со мной?
— Куда это еще?
— На причал. В рыбинспекцию.
— Делать тебе, что ли, больше нечего?
— Нечего.
— Совсем?!
— Совсем.
— Счастливый человек.
— Ага, счастливый… Под завязку у меня этого счастья. Точно. Заяц трепаться не любит…
Веньку не раз подмывало выведать у Зинаиды, с чего это она взяла, что ему опостылела его работа в хлораторном цехе.
Взбрело же ей в голову! Работа у него что надо. Слесарь-наладчик аварийной бригады. Без них в хлораторном как без рук. Никакие хитроумные автоматы не заменят человека, когда надо приладить стальную заплату к прогоревшему боку царги.
Да что там говорить! Хоть два диплома будь у Сани Ивлева, а раз уж хлоратор вышел из строя, то вся эта киповская затея с разноцветными проводами и лампочками уже не поможет — все равно живому человеку надо лезть в адово пекло, в белый горячий туман, и на ощупь клацать там разводными ключами.
А много ли у них на комбинате слесарей, которые бы пошли на такое дело? Вот то-то и оно. В этом и суть — работа не как у всех. Не каждому по плечу. Так что нечего понапрасну травить человеку душу. Надоело или нет ему слесарничать в хлораторном цехе — это касается только его самого. Честно сказать, он и сам толком про то не знает. Может, и знает, да волю своему настроению не дает, держит глубоко. А то ведь стоит лишь распоясаться… Как бы не пришлось потом бежать без оглядки. А куда бежать, зачем? Разве на новом-то месте будет иначе? Правду говорят: дурная голова ногам покоя не дает.
Как-то после смены Венька зашел к Зинаиде в магазин, стоявший рядом с комбинатом, и сказал прямо с порога:
— Ты мне на мозги больше не капай! Душевно тебя прошу.
Рука ее повисла над костяшками счетов.
— О чем это ты?
— Да все о том же. Щелкай, говорю, туда-сюда, — перекинул он на счетах несколько залоснившихся костяшек, — подбивай свое сальдо-бульдо, а в разные высокие материи не ударяйся. Не твоего ума дело, ясно?
— Интересно…
Она глядела на него не мигая. Всегда вот так: сорвется, как с цепи, огорошит — и хоть стой, хоть падай.
Хорошо еще, что в магазине не было народу. До получки осталась неделя, самое безденежье, а у них горит план — конец месяца. Голова идет кругом. А тут нелегкая несет благоверного, лучшего времени не мог выбрать, чтобы выяснить отношения.
— Ты обедал сегодня?
— А тебе не все равно? Ты мне зубы не заговаривай!
— Голодный, значит, — понимающе улыбнулась Зинаида. — То-то я гляжу…
— Дай мне три рубля.
— А это еще зачем?
Час от часу не легче. Просить перед самой получкой три рубля…
— Я работаю, в конце концов, или нет? — тут же вспылил Венька, и это было дурной приметой: он сразу переходил на крик только тогда, когда сам чувствовал свою вину перед нею.
Но какую?
«Опять, наверно, Раису встретил, — затаилась она. — В глаза не глядит… Господи, и когда это только кончится?»
От заводских работниц Зинаида уже знала, что Раиса стала похаживать в хлораторный цех. Рядом с Венькой ее никто, правда, не видел, они же теперь ученые, остерегаются… Зря тогда пожалела ее, когда застала с Венькой в собственной квартире. Надо было все волосы вытеребить, чтобы век помнила, как чужих мужей соблазнять.
Зинаида вздохнула:
— Работаешь, конечно… Разве я говорю, что не работаешь? Ударник, а как же, — все не выходила у нее из головы Раиса. — До того уже заработался, что опять на сторону потянуло.
Венька шумно задышал, зрачки у него сузились.
— Слушай, Кустицкая… — прошипел он, играя желваками на скулах.
«Вот-вот, — прищурилась и она, — сразу и Кустицкая…»
Зинаида чувствовала в такие минуты, как начинают полыхать ее щеки. Она злилась и на Веньку, и на себя, и на того третьего, Кустицкого, о ком давно не надо бы и вспоминать.
Уж сколько лет минуло, но Венька все никак не мог простить ей тот случай. Он дослуживал тогда в своей части последние дни, она устала от полной неопределенности их отношений, от его ревности, от частых ссор, и в какой-то момент поддалась уговорам Генки Кустицкого, соседского парня, с которым дружила еще в школе, — уехала с ним в другую станицу. Они и расписаться не успели, как Венька разыскал ее, почти силой впихнул в машину и увез на аэродром. Он как раз демобилизовался, шебутной, не знавший меры, — ни о чем не спрашивая, решил увезти ее с собой на Алтай. Клялся-божился, что забудет все их бесконечные ссоры, простит ей это бегство с Кустицким и ни разу о нем не напомнит. Что ей оставалось делать? Если бы она не любила его, Комракова Веньку…
— Возьми из казенных денег, — смиряя себя, открыла Зинаида кассовый ящичек, — и ступай. Не мешай мне. — И снова защелкала костяшками счетов.
Венька, даже не глянув на деньги, лежавшие перед ним на прилавке, криво усмехнулся.
«Ишь, как быстро спасовала… А хотя бы и Раиса, — мысленно поперечил он жене, — что из того? Тебе можно было, а мне нельзя? Силой тогда отдавали тебя за Кустицкого, что ли? Любила бы меня — так бы не поступила. А то что это за любовь, если после ссоры бросаться на шею другому?»
— Подавись ты своей трешницей… — процедил он сквозь зубы, удерживая себя от дикого желания шарахнуть по ее счетам, чтобы костяшки разлетелись в разные стороны.
У самых дверей, когда Венька уже взялся за ручку, Зинаида вдруг остановила его:
— Погоди-ка!.. Совсем забыла. Вылетело из головы… — она поставила на прилавок обшитую холстиной посылку. — От Марии пришла. Я по пути на работу взяла на почте, да уж и не стала домой возвращаться. Чего хоть там? Ну-ка вскрой, — заинтересованно улыбнулась она, как бы уже и не помня о злых его словах.
Венька стоял, раздумывая. Надо бы, конечно, уйти немедля, чтобы выдержать характер, но ведь не каждый же день приходят к ним посылки. Любопытно все-таки, что это опять сестра Мария придумала.
Не глядя на Зинаиду, он вспорол холстину. В посылке были сушеные фрукты и завернутая в бумагу кепка. Странная такая, с широченным верхом.
— Хм… — повертел ее Венька в руках. — Видала?
Зинаида выбрала чернослив, стала обгладывать.
— А ну примерь.
Венька подошел к круглому зеркалу, стоявшему на прилавке. Надел кепку, отстранился, повертел головой. Явно несуразная кепка, и Зинаида, как понял он по ее глазам, была того же мнения. Того и гляди рассмеется.
— Широкая, как аэродром, — сплевывая косточку, сказала она с затаенной усмешкой.
— Сама ты как аэродром!
Не то чтобы кепка ему понравилась и вот теперь он обиделся на жену, осмеявшую его за такой вкус, — нет, не в этом дело. Кепка, что ни говори, была непривычная, и, если уж по правде сказать, ее проще было бы выкинуть, чем привыкать к ней такой. Но ведь это же не сам он придумал, а сестра постаралась с подарком. Родная сестра. Старшая. А Марию он всегда уважал. Это многое, конечно, меняло.
Тут-то и выпало из кепки вчетверо сложенное письмецо. Даже не письмо, а записка. Всего несколько строк. Венька сначала пробежал их глазами, а потом и вслух прочитал: «Веня, это будет тебе защита от тетрахлорида, который, как ты писал мне, сжигает подчистую брови. Надевай кепку поглубже, по самые глаза, и брови тогда уцелеют. А если уже сгорели, то не расстраивайся — под кепкой они быстро отрастут».
Венька покашлял, смущенный этой заочной сестринской заботой, и бережно спрятал записку в карман.
— Слыхала? Так что вполне нормальный кемель… И вообще, что ты понимаешь в головных уборах? У твоего Кустицкого небось шляпа была? Винодел-дегустатор, как же. Интеллигенция…
Теперь даже намека на улыбку не было на лице Зинаиды. Вот так-то лучше. А то никакого понимания — подарок, не подарок.
Напялив кепку, Венька нагреб из посылки в карман пиджака крупного урюка, глухо постукивавшего пересохшими ядрышками, и как бы мимоходом смахнул с прилавка в тот же карман смятую трешницу.
С тем и пошел к двери. Ни слова больше не сказал жене. Но зато у нее оказалось в запасе еще кое-что. Похлеще, чем посылка.
— Сашка Ивлев диплом получил, — вслед Веньке сказала она. Да и хоть бы толком сказала, а то буркнула себе под нос, обсасывая косточку чернослива.
Он быстро обернулся и встал как вкопанный. Вроде ничего особенного, к этому он был готов уже давно, а все же сердце екнуло. Как-то не по себе стало. Будто на твой лотерейный билет, от которого ты сам отказался, выпал выигрыш.
И вот что сейчас от Зинаиды требовалось? Не глупая же она, понимает, что он, можно сказать, заживо армейского кореша теряет — ну какая теперь дружба у него с Ивлевым? Еще когда и диплома-то у Сашки не было, так и то будто собака пробежала между ними. И вот что бы сейчас Зинаиде взять да сказать: а нам и без диплома неплохо, жили же раньше — и проживем, подумаешь, какая беда.
Так ведь нет, в молчанку решила поиграть, словно оголодала — шарилась в посылке, выуживая сладенькое, мяконькое. Подавиться бы ей этими сухофруктами!
И тут Зинаида будто услышала его — враз поняла.
— Возьми еще денег-то, — буднично сказала она. — Трешки-то хватит? — И снова застукала кассовыми ящичками.
Во как повернула! Словно и не было вовсе никакого разговора о Сашкином дипломе. Нет, это не жена, а находка…
Венька даже смутился — проявление такой вот внезапной доброты в людях делало его растерянным. Он сунул руку в карман, нащупывая трешницу.
— Да хватит… В рыбинспекцию поеду. Вдруг познакомлюсь с кем — пивка, может, попьем. Давно собирался съездить туда, да все как-то… Может, надоумят, у кого лодку купить. А то давай со мной? — еще больше смешался он и, перебарывая это смущение, стал бодро уговаривать ее: — Нет, правда, Зин, поехали? Посидишь там на травке, на реку посмотришь, пока я в инспекции буду.
— Так уж и взял бы с собой? — не поверила она.
— А то нет? Заяц трепаться не любит.
— Да уж этот заяц… — она тоже как будто смутилась, улыбнулась. — Не могу сегодня. Напарница уехала на базу, магазин не на кого бросить. А рука-то у тебя… не болит?
— Рука-то? — Он уже и забыл про нее. А ведь с утра, даже с ночи так и донимала. — Да нет, ничего… Ну ладно, тогда я пошел.
Венька видел по ее глазам, что Зинаиду так и подмывало спросить: а на какие шиши он собирается покупать лодку? Вопрос был вполне законный, Венька признавал за женой право на этот вопрос, и все же сейчас, в такую минуту, когда он оттаял душой, ему бы не хотелось говорить о деньгах. Да и вообще что толку рассуждать о них. От зряшной болтовни денег не прибавится. Настроение только испортится — это да. А так все равно выкрутятся они как-нибудь. Занять, конечно, придется, а отдавать будут по частям, вроде как в кредит. И Зинаида прекрасно понимала это, так зачем же попусту молоть языком?
Вот за это он ее крепко уважал. Думать о деньгах, конечно, думала. Не думать в наше время нельзя. Но если заведутся, истратит их со спокойной совестью, всегда найдется на что; а нет ни копейки — то и так перебьется. В этом смысле Зинаида была золотой человек, самый правильный при безденежной жизни.
И вот сейчас она промолчала тоже, хотя лодку с мотором купить — это не три рубля на пиво найти.
Веньке захотелось погладить Зинаиду по плечу, но как раз в это время в магазин заявилась покупательница — расфуфыренная лаборантка из химцеха. Так и заверещала: «Зиночка, ты обещала мне колготки оставить…»
Венька чертыхнулся втихомолку: «Не колготки бы тебе, а штаны брезентовые!» — и, поймав напоследок взгляд Зинаиды, вышел из магазина.
На улице он со вздохом покачал головой. Такое настроение нашло было вдруг на него — и вот на тебе. Не дали человеку проявить себя. Вечно так. А потом Зинаида упрекает его: грубый, слова ласкового не дождешься, других жен, посмотришь, мужья целуют при всех, а ты бы хоть как-то себя проявил… Проявишь тут при такой жизни. То одно у тебя на уме, то другое. Вот сегодня, например. Ведь не так же просто заходил он к ней в магазин. Было какое-то дело. Какое?.. Уже и забыл, что ли?!
Да нет, не забыл, конечно. Разве забудешь? И вовсе это не дело. Ну какое же это дело, когда нет привычного конкретного обозначения, ясного всем названия, а есть лишь подспудное томление — неотступное, теперь уже вроде как застарелое. Саднит где-то глубоко внутри, в мозгу, в сердце ли, неизъяснимое, тревожное чувство… И нет от него спасения.
Чудно получается. Жил себе человек, жил, как умел, не ломая голову: так ли уж хорошо ему живется? Чтобы все было как на заказ — такого в жизни не бывает. Он старался выгребать на самое течение, вполсилы ничего не делал и считал, что, в общем-то, все в порядке, так оно и должно быть, а выходит — себя дурил, и больше ничего.
Конечно, Зинаида здесь ни при чем, она же, если разобраться, брякнула не думавши, просто так — по бабьей злости. Чудом угодила в самую точку, и сама уже забыла небось про тот заполошный утренний разговор, а он теперь мучайся…
Венька постоял на крыльце магазина, отрешенно оглядываясь, как бы приходя в себя и соображая, почему он здесь оказался и что ему делать дальше.
Рядом, на углу, возле кучи тарных ящиков торчал какой-то парень. Цветы продавал. А кепка на нем, между прочим, была точно такая, как и на самом Веньке. Одного фасона. И новоявленный коммерсант сразу отметил это. Забыв про открытый чемодан с нарциссами, он не спускал с Веньки глаз.
— Салют, ара…
Венька не понял.
— Это ты мне говоришь, что ли?
— Тебе, слушай. Кому же еще! Как дела, дарагой? — вкрадчиво поинтересовался он.
— Хорошо, — пожал Венька плечами, подходя ближе и насмешливо улыбаясь.
— Совсем харашо?
— Ну, видишь ли… Как у нас говорят: «Очень хорошо тоже не хорошо». — Венька нагнулся к чемодану и выбрал пару стебельков с белыми непомятыми лепестками, сахаристо-матовыми на просвет. — Сколько?
— Тры рубля.
— Сколько?!
— Тры, дарагой, тры.
Венька помялся, понюхал цветы, касаясь носом желтого венчика с оранжевой каймой. Мокрые стебли приятно холодили ладонь, и Венька вдруг подумал: а ведь он ни разу в жизни, если вспомнить-то, не дарил Зинаиде цветы…
Ладно, потом как-нибудь подарит. Вот распустится в городе сирень — вроде как своя, не привозная, — и он где-нибудь наломает Зинаиде целую охапку. Пусть тогда удивляется. А то выкинуть сейчас за пару стебельков последнюю трешницу… Преподнести цветы — и тут же снова просить деньги?! Ведь могут понадобиться. Вдруг он сразу же сойдется характером с инспектором Симагиным — бывает же такое, хотя и редко, — и выпьет с ним за дружбу по кружечке-другой пивка в буфете на причале.
Покашляв, Венька положил стебли нарцисса обратно в чемодан.
3. ВЕРБА КРАСНА
Небывалая тишина стояла кругом. Он уже и отвык от такой тишины, даже уши с непривычки заложило. А как глянул на розовый отсвет на темной вечерней воде, как увидел опрокинутую зарю под грядой притихшего тальника, так и присел тут же, забыв на минуту, зачем и пришел сюда.
Долго сидел Венька на берегу Иртыша, уставясь на текучие воды, и потрясенно дивился красоте и нескончаемой силе природы. Течет и течет река. Из века так текла, когда на берегу не было и в помине никакого города. И будет течь, даже если город куда-нибудь подевается вместе со всеми заводами, в том числе и титано-магниевым. И нет конца и края этой великой жизни. И хотя человек невольно мешает ей, все равно пробьется, возьмет свое: и река потечет не тут, так в другом месте, и лес по берегам прорастет, новые корни пустит, и заря широко разольется по опалово-голубенькому небу. А вот у самого человека есть конец, и близкий, совсем рядышком…
Он вздохнул, и в тот же момент услышал сзади чьи-то шаги. Обернулся — стоит у него за спиной Торпедный Катер и душевно так улыбается.
Венька не поверил сначала, но нет — улыбка до ушей! Ведь это надо же так уметь… Ты ему плюй в глаза, а он говорит — божья роса. Ведь только вчера отчихвостил его Венька перед всеми слесарями. Опять, обалдуй, загнул обечайку не по диаметру царги. Пришлось матюгнуть. Другой бы век с ним не разговаривал после этого. Люди стали до того самолюбивы, своенравны, до того уважать себя приучились — слова им поперек не скажи, даже если они сто раз не правы. А этот хоть бы хны, скалится и скалится.
— Ну что, керя, — ласково так спрашивает, лязгая железными зубами, — все же решил наведаться? Любознательность обуяла. Ни сна от нее, ни отдыха.
Торпедный Катер вроде как сочувственно покачал головой. Он словно бы давненько поджидал Веньку и ничуть не удивился его появлению здесь. В руках у Торпедного Катера были канистры. Тяжелые, с влажными потеками от пробок. Вены на огромных ручищах набрякли. И бензином пахло.
— Айда, айда, керя, чего остолбенел-то!
Венька поглядел на деревянный дом с голубыми наличниками, стоявший на краю берегового обрыва. По виду его никак нельзя было сказать, что здесь обосновалась рыбинспекция.
— Да я так…
— Ха, знаю я твое «так». Симагин тебе нужен. Что я, не понимаю разве, ничего не вижу?.. Толя! — крикнул Торпедный Катер в глубину двора.
И сразу же залаяла собака, загремела цепью. Здоровый был пес, выскочил из-за сарая, тяжело топая лапами по выбитому до пыли двору. Венька невольно отпрянул от ворот.
— Куда ты?! — выставив перед собой канистры, Торпедный Катер перегородил ему дорогу. — Давай-давай, керя, смелее…. Так уж и быть, сведу тебя с Толей Симагиным. А то совсем осунулся за эти дни. Я сам такой, как втемяшится что в голову — вынь да положь! — вроде как легко, беззаботно засмеялся он.
Как раз тут и вышел из-за сарая Толя Симагин. Щупленький такой мужичок в клетчатой линялой рубашке, застегнутой на все пуговицы, отчего шея его казалась особенно длинной — и как только выдерживала несуразно большую для такого роста голову! Перед собой он держал на весу воронку — видно, переливал в канистры бензин.
— Что за шум, а драки нету? — с ходу пошутил он, но пошутил строго, глазами обшаривая Веньку и как бы припоминая, что это за тип: проштрафившийся браконьер, у которого внештатники отобрали снасти и мотор, или кто другой.
— Иди, иди ближе, — Торпедный Катер поманил Симагина. — Дай хоть поглядеть на тебя.
— Чего на меня глядеть…
— Ну не скажи! Знаменитым стал. Особенно на нашем комбинате.
— Почему это особенно на вашем комбинате? — озадачился Симагин, как-то по-новому глядя теперь на Веньку.
— Ну как почему… Шмон-то милиция где устроила? У нас прямо в цехах. За жабры кого брала? Работяг. Таких, как этот, — Торпедный Катер кивнул на Веньку. — Вот и захотелось людям глянуть на тебя хоть одним глазком, из-за кого, мол, разгорелся сыр-бор.
Венька нахмурился.
— Ты куда канистры-то несешь? В лодку? Вот и топай, пока светло, а то запнешься о свою же пятку.
Торпедный Катер миролюбиво осклабился и покачал головой:
— Это я успею. С тобой охота побыть, керя. Любопытный ты человек.
Симагин спросил Веньку:
— Правда, что ли, что милиция была?
— Та-а… — сморщился Венька, махнув рукой. — Слушайте вы его больше. Ну была милиция. Капитан какой-то. Интересовался винтами. А что шмон будто бы, так это он загнул.
— Была все же… — неодобрительно хмыкнул Симагин. — Ну и капитан. Неймется ему. Я ж говорил: стоит ли паниковать?
Он как-то виновато посмотрел на Веньку, пожимая плечами с таким видом, будто, с одной стороны, извинялся перед ним за этот опрометчивый ход капитана, а с другой — откровенно выпытывал у него, незнакомого человека, как же следовало поступить в таком случае, ведь надо было что-то предпринять, острастку дать браконьерам, или пусть они чувствуют слабину?
Веньке пришлось по сердцу то, что Симагин говорил с ним глазами без утайки, начистоту.
— А чего? — окрыленный этой доверчивостью, загорячился он. — И я бы на месте капитана… С нашим братом только так и следует! А то сами себе хозяева стали. Делаем что в голову взбредет. В лодку с живым человеком врезаться — это же надо!..
Симагин сначала слушал его, казалось, с интересом, притих и голову набок склонил, а тут вдруг взвился:
— Далась вам эта лодка! Может, никто на меня и не собирался налетать. Ну, случайно разве что….
Он боялся поверить в это, понял Венька. Боялся думать так, будто кто-то подстроил это нарочно. Ведь поверить — значит принять вызов. Или уйти с реки, или остаться.
И Торпедный Катер тоже, судя по всему, понимал это состояние, в котором находился теперь Симагин. Так и заблестели его рыбьи, навыкате, глазки.
— Вот керя, — кивнул он на Веньку, — меня, слышь, подозревает. Будто это я тебя долбанул… Винт для моего «Вихря» сварганил мне так, что лопасти вмиг обкрошились. Во заделал! Золотые руки, ничего не скажешь. Не успел я царапнуть по галечнику, а уже и обкромсало винтик-то.
У Веньки перехватило дыхание. Такого еще не бывало, чтобы его уличили в мошенничестве принародно.
— Обкрошились? — сипло переспросил он.
— Вчистую!
— Я тебе шпонки из титана вставил, — признался Венька, увидев, что Симагин тоже улыбается.
— Из титана?!
— Ну. Они ж любой перекат выдержат, а винт без лопастей будет.
Торпедный Катер потрясенно помолчал, вспоминая.
— Когда же ты успел? Я ж рядом крутился.
— А долго ли. Пока ты лясы точил с механиком.
— Во, керя, удумал…
— Сам же говорил, — уже дерзко глянул Венька в глаза Торпедного Катера.
— Чего я говорил?
— А про закон пакости.
Торпедный Катер словно задохнулся на вздохе, а Симагин, как бы осознав и этот Венькин поступок, и твердый, с недобрым прищуром взгляд его, которым тот одаривал Торпедного Катера, посерьезнел и сказал:
— На это он не пойдет, зря ты устроил ему такую ловушку. Не держи его в уме, выбрось из головы. Сеть втихаря поставить, переметы на осетра кинуть — это да. Это он мастак.
— А ты, Толя, хоть раз поймал меня, чтобы так говорить? — с мягкой обиженностью возразил Торпедный Катер.
— Не поймал, так поймаю.
— Интересно… — Торпедный Катер долго глядел на Симагина, словно пытаясь тут же, не сходя с места, увидеть в его лице нечто такое, что сообщало ему, Симагину, вызывающе открытую уверенность, в то же время вселяя в него самого чувство легкой, но ощутимой растерянности. — Поймает он меня. Лови хоть сейчас! — излишне бодро вскинулся Торпедный Катер, делая шаг навстречу.
— А без этого, — сказал Венька, — ну, без поличных, разве нельзя его выгнать из инспекции?
— Нельзя, — мотнул головой Симагин, а Торпедный Катер уточнил, ухмыляясь:
— Меня, керя, заводская общественность сюда направила.
— Ну и что! Ты будешь браконьерничать, ценную рыбу ловить, а у тебя не моги и корочки инспекторские отобрать?! Да моя бы воля!..
Симагин перебил Веньку:
— А у тебя моторка есть?
— Да нету… — виновато пожал тот плечами.
— А хочешь заиметь?
— Так а где ее возьмешь-то?
— Будет. Дам тебе адресок. Один старик продает. Лодка добрая, почти новая. И мотор самый сильный — «Вихрь».
Венька посмотрел на Торпедного Катера. Тот скис, похоже. Не понравился ему этот поворот, не по ноздре пришелся.
— Ловила собака свой хвост… — буркнул он и понес канистры с бензином к лодке.
День выдался тяжелый. С раннего утра прогорела царга на третьем хлораторе, и вся смена во главе с механиком копошилась на верхней площадке.
Вроде совсем недавно любил Венька эту работу. Вернее, ему по душе была сама обстановка, которая складывалась в такой момент. Не авария еще, ничего смертельно опасного, а уже мало охотников лезть вплотную к царге. Жарища адская, кожа на лице трескается, как на паленом поросенке, и хоть весь день проторчи, будто прикипевший, у бока раскаленной трубы-махины, все равно никаких льгот, никакого тебе отгула за накладку заплаты не причитается. За что, спрашивается? Это если бы взрыв хлоратора был, тогда другое дело. А так — нормальная работа наладчиков. А коли нормальная — значит, надо без всякого-кого лезть в самое пекло, и никто даже спасибо не скажет, не дождешься.
Нередко случалось, что слесаря словно ненароком прятались один за другого. Работа и попроще достанется — на подхвате стоять, неподалеку… И вот тут-то Венька, не дожидаясь, когда вмешается механик, делал шаг к царге. Он вроде как с большой охотой направлялся к ней, держа под мышкой асбестовые рукавицы и якобы от удовольствия потирая на ходу руки, которым уже было жарко. Он не видел, как слесаря переглядывались при этом с тем выражением, когда остается только покрутить у виска пальцем: у человека не все дома.
Но в этот раз Венька вдруг выпрягся — сам попер к царге того, кто чаще всех отлынивал.
— Дураков больше нету, — сказал он Торпедному Катеру, — отдуваться за всех я не буду. Закон пакости, керя.
Торпедный Катер жалко улыбнулся. А Венька как ни в чем не бывало занял самое прохладное местечко — у баллона с кислородом. Орудовать маленькими, скользкими от холода вентилями, с удовольствием ощущая ладонями отпотевший бок стального баллона, который только что притащили из слесарки, — это ли не жизнь-малина!
Давно он не любовался такой картиной со стороны. Издали пышущие жаром царги, бурые, в палевых потеках окалины, были похожи на какой-то диковинный орган — несколько здоровенных труб одна к одной, набором, на всю высоту цеха. Красота, одним словом. А вот вблизи органчик давал себя знать… Каленая незримая волна будто наждаком обдирала щеки. В один момент брезентовая роба встанет на тебе коробом, и мнится уже, что это вовсе не от автогена сыплются вокруг светляки, а от тебя самого.
Между тем прошло минутное замешательство. Все задвигались. Торпедный Катер, прихватив стальную заплату, поплелся к царге, прикрывая лицо рукавицей. Рано прикрылся, рано — работа еще и не начиналась вовсе. Сначала тебя в пот ударит, прошибет на сто рядов, а после враз обсохнешь, звонкий станешь под каленой брезентухой, как орех под скорлупой.
— Воздуха дайте! — выдернув изо рта противогазную соску, заорал Торпедный Катер.
Кто-то из слесарей, спохватившись, направил на него шланг с холодным воздухом. Но дело у Торпедного Катера все равно не ладилось, он вслепую накладывал заплату, повернув лицо в сторону воздушной струи.
Механик, державший связь с технологами, приглушившими процесс в царге, хмуриться начал, в противогазный шланг подкашливать. Послал к Торпедному Катеру в помощь еще одного слесаря, но работа и теперь не оживилась, они друг за друга норовили укрыться. А время-то шло. И газу в цехе прибавилось — все гуще кучерявился белый тетрахлорид из прогоревшего бока царги, соска уже плохо спасала, запершило в носу, в горле…
«А ну, Николай Саныч, — посмотрел Венька на механика, — гони этих работничков к такой матери!»
Тот обрадовался, с дробным перестуком хватил ключом по куску рельса, на котором выгибали заплату, и те двое готовно откликнулись на сигнал, тотчас бросили заплату и явились.
«Давай, Веня, — кивнул ему механик, — покажи этим лоботрясам…»
Только-только притерпелся Венька к жару и, стоя на коленях, едва лишь успел прихватить край заплаты, как у автогена вдруг сбило пламя. Струя газа чихнула и пусто, шепеляво засвистела.
«А, черт возьми! — стрельнул глазами Венька. — Вы уснули там, что ли!»
Торпедный Катер суетливо чиркнул спичкой. Желтоватый огонек с оранжевыми краями, занимавшийся обычно сиреневатым острым кинжальчиком, стоило коснуться пальцами вентиля, чадно раздулся и с шипом снова погас: в баллоне не было кислорода.
Перекатываясь боком, Венька на минуту уткнулся лицом в рифленый железный пол галерки, привыкая теперь к прохладному воздуху цеха.
— Тетеря ты старая, Николай Саныч, — выплюнул он соску. — Пустой баллон в такой момент — это же надо!
Механик смолчал, Веньке сошла бы с рук любая выходка, потому что каждый прекрасно знал: лезть обратно в пекло сейчас во сто крат тяжелее, хотя работы с заплатой осталось всего ничего.
— Давай пока хомутки поставим, Веня?
— Хомутки-хомутки… Их же сначала сделать надо.
Венька сам побежал в слесарку. Обогнул пару полос по диаметру царги, пробил на концах отверстия под болты — и снова соску в рот и прыжками наверх. А когда влетел на площадку, показалось ему, что без него тут что-то стряслось, народу лишнего вроде как больше стало, хотя газу уже было столько, что в таком сплошном молоке не сразу поймешь, то ли человек это маячит, то ли пустой баллон.
Только и разобрал двоих — начальника цеха и секретаря партбюро. Прошмыгнули мимо него. И пока Венька подлаживал к царге хомуток, внизу врубили аварийный отсос.
Загудело с тяжелым накатом. Ох и нудный же, истошный это звук… Душа болеть от него начинала. Хоть зажимай уши ладонями!
Зато сразу потянулись книзу тонко слоистые полосы газа. Ожил белый туман, опадать начал. И глаза щипать перестало, а у отсосных колодцев мрачновато проступили бока хлораторов, будто что-то таинственное.
«Правда что, — хмыкнул Венька, машинально орудуя руками, — берендеево царство, оно самое и есть».
Это как-то однажды, года два назад, привел он в цех свою Зинаиду. Вдруг нашла на него блажь: показать ей свою работу. Привел, оставил среди цеха, а сам с бригадой к царгам поднялся. Постояла она, постояла, повертелась из стороны в сторону как на горячем и убежала, заперхавшись, и трех минут не вытерпела. А после работы, чего раньше с ней не бывало, встретила его у проходной, да еще и с билетами в кино.
Угадали они тогда на сущую муру про царство какого-то Берендея. Прикусив себе язык, чтобы не испортить Зинаиде настроение — ну, мол, и выбрала культмероприятие, лучше-то не могла ничего придумать, хотя бы раз в жизни сводила мужа в ресторан, — Венька продремал полтора часа и только и помнит, что много было в фильме тумана. А Зинаида, прижавшись к его локтю, была радым-радешенька и даже посмеялась: «Надо бы платить этому Берендею за вредность, как в вашем цехе».
По правде сказать, он побоялся, что она, чего доброго, станет звать и его этим несуразным именем, но, слава бога, ума у нее не хватило.
Мысленно улыбаясь от этих воспоминаний, Венька заводил второй хомуток. Струйка тетрахлорида с шипением била ему в лицо, он прижимал подбородок к груди, заслоняя глаза козырьком кепки, и толком не видел, чьи руки вдруг подхватили хомуток с другой стороны царги.
По стуку ключей, затягивавших шайбы на хомутке, Венька тут же определил: слесарь был не из их бригады. Этот четко разгонистый до полного затем спада ритм, обрывающийся каким-то нутряным скрипом резьбы, когда уже крепче, не говоря про скорость, нельзя закрутить шайбу, он запомнил еще с тех пор, когда работал в инструментальном цехе вместе с Ивлевым.
Удивленный донельзя, Венька вынырнул из-за царги и увидел противогазную маску, в которой никто у них в цехе не ходил — не считая, конечно, по-настоящему аварийных дней. За стеклами очков посверкивали глаза Ивлева.
«Ах ты чучело гороховое! — зло уставился на него Венька. — Тебя кто сюда звал?!»
Однако, как только хомутики сели на царгу и Венька увидел, что Ивлев совсем запарился под маской, он требовательно дернул его за рукав, увлекая за собой. Уже у дверей слесарки, где текучая молочность воздуха сменилась обычной его сизоватостью, Венька сам рывком сорвал с него противогазную маску.
Ивлев молча разглядывал свои руки, на которых будто сроду не бывало волос — от пальцев до запястья они глянцевато лоснились, как восковые. Когда и сожгло их тетрахлоридом, не успел заметить.
— Мало еще… — ехидно усмехнулся Венька. — Тебя бы всего целиком опалить надо, чтобы не совался куда не следует!
— Следует, не следует… — поморщился Ивлев. — Чудак ты!
— Ты на кой черт сюда приперся? Все неймется, продолжаешь гастролировать? — напустился на него Венька, теряя последнее терпение.
— Да брось ты… С этого дня я буду вашим сменным механиком вместо Николая Саныча.
— Чего-чего?.. Ты в своем уме?
— А что? Старику же трудно. Его там закачало сегодня… А приказ на меня еще вчера был. Так что все по уму. А ты, Вениамин, давай кончай свою политику.
Венька даже вдох задержал. Не ослышался ли он? Эти жесткие нотки в голосе Ивлева были ему в диковинку. Даже в армии краснел Саня, когда надо было командовать отделением. А уж там-то чего стесняться, когда перед тобой десяток бритоголовых ребят, которые еще не отучились вытирать нос пальцем?
Ивлев обмахнул скуластое свое лицо подкладкой спецовки. Черные разлапистые брови его, пока что не тронутые тетрахлоридом, притеняли глаза от верхнего света.
— К нам в бригаду… надо же! А не пожалеешь, Саня? У нас ведь тут видал как? На худой конец, и на монтаже ЦПУКа сидеть можно было — в халатике да еще при галстучке. Глядишь, раз ты теперь с дипломом, и там бы высидел должность — начальника смены, к примеру.
— А может, — усмехнулся Ивлев, — я хочу сразу начальником цеха заделаться. Не возражаешь?
Чего доброго, и поцапались бы они, да повалила в слесарку бригада, убиравшая у царг инструмент. Вместе со слесарями заявился и Николай Саныч, улыбавшийся с таким видом, будто всю нынешнюю смену он провел как нельзя удачно.
Венька, отходя от этой негаданной перепалки с Ивлевым, тут же подцепил своего бывшего начальника:
— А! Разжалованный. Что ж это из тебя, старый перец, песок-то вдруг посыпался? Всю площадку засы…
Венька осекся. Николай Саныч вышел на свет, падавший из окон слесарки, и Венька с полуоткрытым ртом оглядел его с головы до ног. В жизни не было еще случая, чтобы в слесарку являлись такие нарядные. Они тут вечно в ржавых брезентовых робах крутятся, вроде как и сами из железа, даже цеховое начальство не щеголяет — хоть и в белых рубашках и при галстуках, а все же куртки напялят. Как-то уж так повелось. А Николай Саныч отмочил номер: как в президиум собрался — костюм с иголочки и все такое прочее.
— Братцы, держите меня!.. — дурашливо покачнулся Венька. — Это что же такое будет? А я уж собирался по больницам его разыскивать…
Слесаря засмеялись, но как-то сдержанно, и Веньке это вовсе было непонятно. Такое он выдал — никто и никогда не назвал бы своего механика старым перцем, — а они как воды в рот набрали.
— Да я тебе, старый хрыч, сегодня же сосватаю какую-нибудь симпапулю! — не унявшись, зашел Венька по новому кругу. — Ты же любишь симпапуль, а? — подошел он вплотную к Николаю Санычу, заглядывая ему в глаза. — Все время у меня на дороге оказывался, отбить хотел, признайся!
Все знали о молчаливой войне между Венькой и механиком, и кто-то из слесарей покашлял в кулак:
— Николай Саныч теперь у нас на коне. Эти, как их… апартаменты заимел. Для двух слесарок места хватит.
— Во весь кабинет, — подхватил Торпедный Катер, — красные ковровые дорожки. Я как-то забежал в профком, сунулся туда в чем был, а там в наших чоботах ступить некуда — всюду ковры.
— А вы не шляйтесь по кабинетам во время рабочего дня, — с облегчением заговорил Николай Саныч. — Нечего попусту рабочее время терять! — с улыбкой глянул он на слесарей, пытаясь свести весь разговор в шутку.
— Да? Интересно, — с ответной улыбкой возразили ему. — А когда же мы тебя увидим в таком случае? После четырех, пока мы в бытовке со своей робой копаемся, там же очередь соберется, у дверей кабинета-то.
Венька спохватился:
— Постой-постой… Чего вы тут мелете? Какой кабинет?
— Профкомовский, Николай Саныч теперь у нас председатель, — сказал Ивлев, и Венька от неожиданности даже присвистнул.
— Хотел сегодня последнюю смену с вами простоять, — как бы виноватясь, сказал Николай Саныч, — а уж после четырех распрощаться как полагается. Даже галстук из дома прихватил. А оно, видишь, как… повело чего-то на сторону. Думал, либо сам упаду на Комракова, либо свалю на него царгу! — Он бодренько хохотнул, но Венька озабоченно спросил:
— А бочку-то из дома принес?
— Какую?
— Обычную. Деревянную. В какой бабы капусту солят. Или уж сбегал на худой конец в пятый цех, где тару под титановую крошку штампуют, — у них там бочки из нержавейки, с рифлеными боками.
Николай Саныч выжидательно скосил на него глаза.
— А зачем она… бочка-то, Веня?
— А чтобы ноги тебе не
оттоптали, когда прощаться с тобой будем! — первым же и засмеялся Венька.
Осушая темными от железа подушечками пальцев углы глаз, в которых якобы выступили слезы от этого смеха, он повернулся к слесарям.
— Я думал, его на пенсию спровадили. Ну, думаю, теперь лафа! Хоть вздохну маленько. Все симпапули мои будут! А то ведь никакой личной жизни не было. А его, видишь ли, на профсоюз бросили… Значит, — вроде как горестно покачал головой Венька, — опять симпапуль делить придется…
Слесаря притихли. Еще у каждого были в памяти придирки Николая Саныча к Веньке Комракову, дескать, чего ради человек является на завод задолго до смены и попусту слоняется по цеху? Уж и походил он тогда за Венькой! В охотку, как для себя старался. Где только ни заставал его врасплох, и все, как на грех, возле женщин. Наклонит голову, оглядит с ног до головы и только скажет: «Симпапуля…» Помотал же он Веньке нервы! И хотя Николай Саныч оправдывался, что не по своей воле затеял такую канитель — кто-то написал ему как Венькиному начальнику, что якобы Комраков плохо живет со своей Зинаидой, чему виной заводские девчата, — вся бригада сошлась на том, что механик поторопился принять анонимку на веру. И теперь, когда Венька так подцепил его, кое-кто из слесарей подумал: «Ой, зря человек на рожон лезет…»
— Веня, а Веня, — вкрадчиво произнес Николай Саныч, — я все собирался спросить у тебя, да стеснялся… Кепка у тебя чудная появилась. Это уж не жена ли напялила? Казырьком прикрыла, а? Чтобы твои буркалы не срабатывали, как фотореле, при виде каждой юбки…
Слесаря теперь засмеялись дружнее, и Николай Саныч, снова приободрившись, сказал:
— Я в прошлом году на Черном море отдыхал. Так там в этих кепках пол-Кавказа ходит. То-то, я гляжу, Венька похожий…
— Да ведь они же смуглые, темноволосые! А я — посмотри хорошенько, разуй глаза-то!
— Бывают и белобрысые, Веня. Я как раз именно в Сочи встречал одного такого — газированную воду продавал. — Николай Саныч как бы сочувственно тронул его за спецовку, по старой привычке с укоризненным видом теребя пальцами еле державшуюся пуговицу.
Теперь уж и Саня Ивлев расхохотался. Венька спешно прикидывал, с какого бока укусить новоявленного председателя профкома.
— Это… Николай Саныч! А как теперь у тебя с намерениями-то?
— С какими, Веня?..
— Так ты же лодку хотел заиметь!
— А, лодку… А зачем она мне теперь личная-то, Веня? Погоди, дай оглядеться. Я вот через профком достану моторку — и будет она у нас для общественного пользования. Раз я прокачусь, раз ты, Веня, раз еще кто-нибудь.
— Так а мне теперь общественная ни к чему, Николай Саныч. Это же все лето в очереди за тобой стоять придется. Так что я уже купил, — приврал Венька ради случая. — Лодочка «Казанка», самое то… — вроде как с безразличным видом уточнил он. — Самый легкий ход. Выскакивает на глиссер в один момент — очухаться не успеешь, а уже летишь, как на крыльях!
— Ты и вправду, что ли… Уже купил?!
— А чего чикаться-то? Заяц трепаться не любит.
— Теперь всем браконьерам хана… — насмешливо сказал Торпедный Катер.
Николай Саныч потоптался на месте и, глянув на Ивлева, буркнул:
— Ну я пойду, пожалуй… Чего тут передавать-то? Стол из сварного железа да телефон с календарем? А эти гаврики мои, — добавил он, вроде как имея в виду всех слесарей сразу, всю смену, хотя смотрел при этом на одного Веньку, — уже и без акта сели тебе на шею… Так что давай разворачивайся!
Он бодро потопал было из слесарки, но все же у двери приостановился. Ощупывая узел галстука, опять глянул на Веньку:
— А это… мотор-то у нее какой? «Москва» небось, за двести рублей?
— В том-то и дело, — сказал Венька, — что не «Москва». Это все не моторы, а так… примусы. «Вихрь» у меня, Николай Саныч. Зверь, а не мотор, в том-то и дело. Где его нынче достанешь, даже если и через профком. Двадцать пять лошадиных сил! И цена его, само собой…
— Ну поздравляю, Комраков, — нехотя вернувшись назад, председатель пожал ему руку. — Просто от души!
Он хлопнул Веньку по плечу и заспешил, почти бегом побежал из слесарки — только его и видели.
За ним, запоздало спохватываясь, что время идет уже не рабочее, потянулись и остальные.
Только Ивлев и задержался как бы по делу. Роясь на стеллажах с инструментами, он исподтишка смотрел на Веньку, будто ждал, не скажет ли тот ему хоть что-нибудь, после чего, возможно, исчезла бы тяжесть на душе, оставшаяся после их короткой стычки.
Но Венька молчал. И тут совсем некстати заглянул в дверь Николай Саныч.
— А ты чего это прохлаждаешься, Веня? — приподнял он свои косматые брови. — Никак во вторую смену решил остаться? Его, понимаешь, красивая молодая особа ждет в проходной, а он и не чешется…
Венька мутно глянул на него.
— Чего ты плетешь? Какая еще особа?
— А я почем знаю. Симпапуля такая… — Николай Саныч вроде как простодушно пожал плечами, но глаза его выдавали, что он уже прекрасно знал, что это была за женщина, и очень, как видно, сожалел, что была именно эта, а не какая-нибудь другая. — Позовите, говорит, моего Берендея, он у вас тут самый проворный в том цехе, где баней пахнет.
«Зинаида приперлась!» — удивился Венька и, переглянувшись с Ивлевым, озадаченно спросил:
— А разве у нас тут пахнет баней?
— В самом начале цеха, — улыбнулся Ивлев, — когда входишь в него со стороны бытовок.
— Так бытовками, поди, и пахнет.
Вспомнив, чем мог быть вызван этот приход Зинаиды, Венька тихо засмеялся. Он же за лодкой сегодня поедет! Пятница, конец рабочей недели, вот они с Симагиным и поплывут на «Ракете» в залив, к леснику, который продавал моторку.
Еще накануне Венька наказал жене перехватить у кого-нибудь денег — три с половиной сотни, не меньше. Сам он уже занял у ребят столько же. Семьсот рублей надо было выложить за лодку с мотором! Целая куча денег, с ума сойти можно…
Поначалу, когда Симагин назвал цену, у Веньки глаза на лоб полезли. Думал, сотни две-три и понадобится. А потом опомнился: «Господи, да паршивенький велосипед, два колеса с рамой, и то вон сколько стоит! Чему тут удивляться?» Все равно занимать — что две сотни, что семь. Главное, было бы у кого занять. Как ни говори, это самое трудное дело — перехватить в долг. Спасибо ребятам, выручили.
Венька выждал, когда Николай Саныч скроется за дверью, и взял у Ивлева из рук противогазную маску. Чикнув по ней ножом, вывернул рифленый шланг мягкой, в бусоватом тальке, изнанкой наружу.
— Вот так и бери прямо в рот. Будто соску. Тогда и не сомлеешь. А на нос обычную прищепку приладь, — вполне серьезно подсказал он, — пока не научишься дышать только ртом, через противогаз.
Ивлев хмыкнул, а Венька, удивляя его такой запасливостью, вынул из кармана пластмассовую прищепку для белья, пощелкал ею в воздухе, как бы примеряясь, и ловко нацепил ему на крылья носа.
— Носи на здоровье, мы все так привыкали.
Чистенький, приосанившийся после душа, Венька гоголем прошел мимо строгой вахтерши, даже и не подумав сунуть ей под нос обтертые корочки пропуска.
«Старых кадровиков, мать, надо помнить в лицо и приветствовать их по имени-отчеству», — сказал он ей однажды под хорошее настроение. Пошутил, конечно, а та приняла всерьез. И хоть знала его с тех пор как облупленного, а все-таки не уважила ни разу. С ножом к горлу пристанет, бывало: покажи пропуск, и все тут! Молодой он был против нее, и она не спустила ему такой выходки. Венька фыркал: «Разным шляпам так зеленую улицу! Не пролетарской ты закваски, мать!» И только в тот день, когда он заявился на завод в чудной кепке, каких не видывали здесь, вахтерша сдалась. Ерзнув на табуретке, она молча проводила его взглядом…
В проходной Венька увидел Зинаиду. Стояла в уголочке, читала какую-то книжку.
— Фу-ты ну-ты! Жена-то у меня культурная… — съязвил он. — Дать бы ей, такой культурной, хорошую баню…
Зинаида вскинула на него подведенные глаза — сделала вид, будто заметила мужа только сейчас, а не раньше, еще в дверях за этим лабиринтом из посеребренных труб, который она окрестила про себя «загоном».
— Это за что же баню-то?
— А за длинный язык. Ну какой я тебе Берендей?! — прошипел он, косясь на вахтершу.
Зинаида засмеялась, даже и не пытаясь хотя бы для отвода глаз отнекаться или сказать что-нибудь в свое оправдание, и Венька, ошалевший от такой дерзости, выметнулся из проходной, чтобы не маячить на глазах у вахтерши.
На улице Зинаида поспешно сказала:
— Я деньги принесла.
— Сколько? — живо унял он свой пыл.
— Сколько-сколько… Ты думаешь, легко достать такую сумму?
— Было бы легко, так я бы и без тебя достал. — Венька понял, что она принесла ровно столько, сколько он просил, и успокоился окончательно. — Ты зачем к проходной-то приперлась? Я же сказал: зайду к тебе в магазин.
— Я договорилась насчет подмены, — сияя глазами, поделилась Зинаида своей радостью, и он догадался, что она собирается ехать с ним в залив. Прямо хоть сейчас.
— Правильно сделала, — равнодушно кивнул он, высматривая сквозь ажурные ворота Саню Ивлева. — Подменилась — и топай домой. Отоспись как следует и напиши всем по письмишку. Твоя матушка чего-то молчит… Как там, интересно, наш сорви-голова… — У Зинаидиной матери жил постоянно их пятилетний сынишка. Венька на секунду-другую задумался, пробуя представить, каким он теперь стал, и вздохнул. — Ну и заодно моей родне черкни хоть пару слов. А то у нас вечно на письма времени не хватает… Деньги-то давай, что ли! — протянул он руку.
— Я с тобой поеду.
— Ага. Тебя нам только не хватало. Ты же знаешь, что я еду не на гулянку, а по делу.
Зинаида покривила губы.
— А сам еще говорил: айда, Зин, со мной на причал!..
— Когда это я говорил?
— Ну да, уже и забыл… Заяц трепаться не любит.
— Ты дашь мне наконец-то деньги или нет?
— Не дам.
— Та-ак…
Тут Венька увидел Симагина. Инспектор шел к нему от автобусной остановки.
— Говори спасибо, что знакомого человека встретил, а то бы я тебе сейчас устроил…
— Вениамин! — радостно заговорил Симагин. — А я уже чуть не уехал. Спрашиваю про тебя, — глянул он на вахтершу, которая следила за ними, стоя в дверях проходной, — а мне говорят, нету здесь такого.
— Это их всех тут нету, — засмеялся Венька, — а я был, есть и буду.
— Слыхали, слыхали уже про вас, — встряла Зинаида. — Все уши прожужжал мой рыбак. Только и было разговоров в эти дни.
Венька, не подозревая подвоха, рассеянно улыбался, строя про себя догадки, почему это Симагин явился к нему на завод, а не на причал, откуда они должны были поплыть на «Ракете» в дальний залив, к старику за лодкой.
— Он думает теперь, — кивнула Зинаида на Веньку, — что вы его не будете штрафовать. Станете миловать по блату.
— Как… штрафовать? За что? — смешался Симагин.
— Как это за что? За рыбу дефицитную, за сети.
Венька почувствовал, как у него жаром налились мочки ушей.
— Ты чего это плетешь, какие сети?!
— Обыкновенные. Из ниток. Чтобы рыба запутывалась, — не моргнула она и глазом. — Которые ты в чуланчике-то прячешь. Сам же зимой покупал на толкучке.
Венька задохнулся от гнева, а Симагин, стеснительно улыбаясь, пытливо и озадаченно уставился на него.
— Дура! — рявкнул Венька. — Ты когда свои шуточки бросишь? Это же надо такое придумать, а! — вроде как восхитился он, в то же время взглядом умоляя Симагина не обращать внимания на его супругу. — У нее выходной сегодня, — пояснил он таким тоном, будто речь шла о больном человеке, — вот она и куражится.
Он осекся, заметив в дверях проходной Раису.
«Этого еще не хватало», — оцепенел Венька, а Зинаида уже напряженно прищурилась, заперебирала ремешок сумочки наманикюренными пальцами. А тут, как на грех, задерживался автобус, и на остановке было полным-полно народу.
Оглядев Раису с ног до головы, Зинаида, к своей досаде, не нашла ничего такого, что можно было бы высмеять: мол, ну и мода нынче пошла — чем ни толще коленки, тем короче юбка. Или что-нибудь в таком же духе, это она умела. Но нет, Раису не уколешь.
Полнясь ревнивым чувством, Зинаида подошла к Симагину, ухватила его за локоть, прижалась к нему одеревенелым боком и, смущая человека, ломким натянутым голосом сказала Веньке:
— Ты чего ж не поздороваешься со своей любовницей? — А губы у самой уже плохо слушались. — Подойди, приласкай кошечку. Теперь же тебе никто не мешает. Это раньше, когда ты был моим мужем, вам приходилось скрываться, а теперь-то чего же… Или уже и прошла ваша любовь? Что же так быстро-то? — частила она, мстительно переводя полыхавшие глаза с ошалелого Веньки на Раису, на которой не было лица.
Венька, наконец, пришел в себя и, оттаскивая Зинаиду от Симагина, яростно выдохнул:
— Ну погоди, балаболка!.. Уж я тебя проучу.
Он не знал, куда деваться, прямо хоть убегай. По счастью, из проходной вышел Ивлев, да не один, а вместе с начальником пятого цеха. Начальника этого Венька знал шапочно и никогда с ним не здоровался, а тут, вспомнив, что у него есть машина, бросился, словно к отцу родному.
— Извините… — переступил он ему дорогу, как назло запамятовав его фамилию. — У нас несчастье случилось. Только что на «скорой помощи» увезли товарища в больницу. А у вас «Москвич» на ходу, — кивнул он на ряд частных машин. — Подбросили бы нас до больницы, а? Как он там, может, уже умирает?.. — жалостливо сморщился Венька.
— С кем это и что случилось-то? — удивился Ивлев, но Венька метнулся к машинам.
— Который, вот этот, что ли?
— Да-да, садитесь, — засуетился начальник пятого цеха.
Они втиснулись в «Москвич» в тот самый момент, когда на ручку дверцы легли наманикюренные пальцы Зинаиды. Венька повел бровью.
— Одну минуту, мадам. Срочное производственное дело. Поехали, поехали, шеф!
Зинаиду смутило то обстоятельство, что «Москвичом» управлял человек незнакомый и вполне солидный — при галстуке и в шляпе. Она невольно отступила в сторону, а Венька, высунувшись в окно, приставил большой палец к своему носу.
— Кланяйся Раисе! Скажи ей, что я вас люблю и уважаю, беру за хвост и провожаю! — расплылся он в улыбке, довольный тем, что все вышло как нельзя лучше.
Начальник пятого цеха оказался мужиком сообразительным, он глянул в зеркальце на Зинаиду и расхохотался.
— Отличный финт!..
Сразу видно: легкий на подъем человек. Молодой еще, чуть постарше Веньки. Такие ему нравились. Хотя цех у этого начальника был хуже не придумаешь: в нем штамповали бочкотару для титановой губки. «Педалисты», — шутили слесаря над работницами пятого цеха, а самого начальника звали Бондарем. Вот это прозвище-то Венька и запамятовал, а то бы ляпнул, чего доброго, когда кинулся навстречу.
— Так куда мы едем-то? — поинтересовался Бондарь.
— Да нам бы только до первой автобусной остановки, — сознался Венька. — Не очень мы вас задержали?
— Да ну, ерунда! — Бондарю тоже, судя по всему, пришлась по душе такая компания.
— Нам бы только смыться с глаз. От юбок подальше.
— Юбки — это наш главный бич, — улыбнулся Бондарь. — У меня только вот какая загвоздка… Права сегодня утром забрали. Там и выпито-то было… Да и хотя бы свеженьким пахло, все-таки не так обидно, а то вчерашним!
— А теперь это неважно, — покашлял Симагин. — Только дыхнул — и готово. Лакмус окрасился — и уже достаточно. А когда ты пил — сегодня или еще вчера — это их не касается. Строго стало, — он сел посвободнее, даже слегка откинулся на спинку.
Бондарь согласился, хотя кивнул скорее всего машинально: он лихорадочно обдумывал, как бы выйти из положения. Сейчас кончится заводская окраина, и у въезда в поселок уже может объявиться гаишник с мотоциклом. Сам он не собирался сегодня ехать в город на машине, хотел загнать ее прямо в цех — и целее была бы. Но отказаться от редкого случая, когда судьба столкнула его с такими ребятами…
Больше всех его интересовал этот слесарь из хлораторного цеха. Комраков, кажется. Боевой парень! По слухам, он вроде собирался заводить себе лодку. Но и без лодки у него уже была хорошая репутация лодочника — налево и направо чинил моторы заводским любителям, и такой-то напарник на реке был бы ой как нужен ему.
Знал Бондарь и рыбинспектора. Как-то раз он сбился ночью с фарватера — только-только купил моторку и толком еще не умел плавать, — и кто знает, чем бы все кончилось, не подоспей вовремя этот шустрый инспектор. Так что не худо бы и с ним сойтись поближе на всякий случай.
Подогнав машину к обочине, Бондарь метнулся к багажнику, и не успели его пассажиры сообразить, что к чему, как он уже прикрепил к машине дощечку с красной надписью: «Оперативный отряд».
— Вот теперь поехали хоть к черту на кулички, — подмигнул он Веньке, попутно успокоив Симагина: — Даю гарантию, товарищ: все будет о’кей!
— Да-а, — сказал Венька и потер ладони одна о другую, загораясь каким-то азартом.
Ивлев повернулся к нему с переднего сиденья, глянул осуждающе: этого еще не хватало тебе, связаться с Бондарем, липовым оперативником, тому бы только покуролесить да выпить.
Словно угадав его мысли, Бондарь как раз и подбросил идею.
— А что, парни… может, скинемся по рваному? Так, для настроения — хоть по сто двадцать пять граммов, — засмеялся он, расплываясь широким рябоватым лицом. Придерживая руль одной рукой и не спуская с дороги взгляда, он протянул назад свободную руку — открытой ладонью кверху.
Венька смешался: «Во дает! На ходу подметки рвет! Оперативник, он самый…»
Стараясь не встречаться с Симагиным взглядом, он полез в карман, но Бондарь сказал:
— Борис или просто Боб.
Это, значит, знакомился он…
— Ах ты, Боб, хрен тебе в лоб! — с удовольствием прихлопнул Венька по его ладони.
Он был рад, что не ошибся в Бондаре. Ну разве будет стоящий мужик по рублику собирать? «Скинемся по рваному» — это же вроде как для красного словца говорится. Да в такой компании, какая у них составилась, любой за всех заплатит, кого ни возьми.
— Сверни-ка, Боб, к гастроному…
Венька снова полез в карман, где лежала тугая пачка денег. Все равно, рассудил он, на моторку не хватит, триста пятьдесят рублей остались у Зинаиды. Придется старика уговаривать, чтобы в долг поверил. Себе же хуже сделала Зинаида: от ровной-то суммы он бы сейчас ни рубля не взял.
Симагин повертел тонкой шеей, которой словно холодно было в стареньком сером плащишке с закрученными лацканами.
— Так это… Веня, — сказал он, — тебе придется без меня ехать. Так что давай не теряй время — пятичасовой «Ракетой» и дуй к нему до залива. Я старику записку написал.
Худощавое лицо инспектора с подвижными серыми глазами выражало явное сожаление. «Чего там скрывать, — как бы говорил его взгляд, — я бы тоже поехал с превеликим удовольствием, да никак не получится».
— Вот это номер! — заморгал Венька. — Ты потому-то и на завод приехал? Чтобы сказать?..
— Поездка у меня назначена, — сознался Симагин, отворачиваясь к окну. — Как раз сегодня в ночь.
— Какая поездка? — встрепенулся Бондарь. — А!.. Все ясно, ясно! — деланно построжал он: можно, мол, дальше не продолжать, мы люди с понятием.
— Толя, — Венька огорчился не на шутку, — так ведь я могу и в следующий выходной смотаться за лодкой. Никуда она от нас не денется.
Симагин понял его и улыбнулся:
— Ве-еня… Ну что ж мы, в одной лодке поплывем, что ли? Пока на глиссер выйдешь… Разве так догонишь?
— Так я бы… — начал было Венька, но Ивлев съехидничал:
— Ну да, заяц трепаться не любит… Я бы, я бы! Ты думаешь, это так просто: сел в лодку, а к тебе браконьеры со всех сторон сами едут сдаваться? А ведь ты даже и плавать не умеешь… Помнишь, в армии пришлось форсировать на учениях одну речку, — уже совсем некстати вспомнил Ивлев, — а ты как-то умудрился свалиться с амфибии и сразу пошел ко дну!
Хуже ничего другого и не мог придумать сейчас армейский дружок. Но Венька не растерялся.
— Чудак ты, — снисходительно сказал он Ивлеву. — На амфибии-то любой, кого ни посади, возьмет водную преграду. А вот ты попробовал бы проявить творческую инициативу… Допустим, — глазами призвал он Симагина на помощь, — враг открыл сильный огонь по десанту, от амфибии аж искры летят, того и гляди изрешетит тебя на нет… Что тут делать? Если сидеть, прижавши задницу к теплому мотору, как и делал обычно мой боевой кореш Саня Ивлев, то победы не видать как собственных ушей. Тут надо — рраз! — сделал Венька ныряющее движение ладонью, — и под водой, и под водой… проявить суворовскую находчивость! Щучкой к врагу-то, щучкой, а не пузом вперед.
— Так ведь тебя же вытащили еле живого, — не унимался Ивлев. — За шиворот ребята подхватили вовремя, а то бы до сих пор щучкой плавал.
Венька фыркнул, уводя глаза в сторону. Симагин и Бондарь беззвучно смеялись, переглядываясь в зеркальце.
— Ох и переманю же я в свой цех твоего слесаря, Ивлев, — как бы пошутил Бондарь. — Мне же как раз такой работник и нужен. Давно ищу. Создам ему идеальные условия. Даю гарантию!
— Ну да, а как же, — усмехнулся Ивлев, — тебе ведь на Иртыше без хорошего слесаря не обойтись. Чуть мотор забарахлит, уже и кончен бал. Сиди, как истукан, в своей лодке и жди, пока добрый дядя найдется да подплывет к тебе. А тут всегда рядом будет человек, вроде ординарца.
— Скажешь тоже…
Венька нахмурился:
— Ты это, Саня, брось. У меня пока что на плечах голова, а не тыква.
На пристани Симагин поманил Веньку в сторонку и, положив руку на его плечо, тихонько сказал:
— Ты пока поживи у Максимыча, у лесника-то. Он хороший старик. Поплавай с ним. А меня жди. Я, может, послезавтра утречком и нагряну. Вместе потом пошарим в заливах, а то местные мужички совсем распоясались, ни бога, ни черта не боятся…
Ивлев, глядя на них со стороны, ревниво отметил поразительное сходство обоих — что один, что другой сухопарые, с узкой, но крепкой костью; про таких говорят: двужильные.
На прощание Венька с инспектором выпили по стакану газированной воды без сиропа, и заскучавший Бондарь подмигнул Ивлеву:
— Видал? Ну и ну…
В самый последний момент, когда Венька уже стоял у окошечка кассы, подъехала профкомовская «Волга». На переднем сиденье рядом с шофером маячил Николай Саныч, а позади него выглядывала в окно Зинаида.
— Привет, оперативники!
Она с улыбкой помахала им ладошкой, глядя на Веньку искрящимися глазами, будто уже сто лет не видела своего муженька.
У Веньки словно отнялся язык. Он долго смотрел на Зинаиду, не зная, как быть. Вот ведь проныра! Да и Николай Саныч хорош — удружил ему…
Венька взял билет, быстро взбежал по трапу и, наклонившись к дежурному матросу, шепнул ему что-то, кивая на Зинаиду и «Москвич» с красной дощечкой. Матрос не то удивленно, не то подозрительно поглядел на Венькину кепку, однако Зинаиду на борт не пустил. Не пустил, и все тут: иди жалуйся начальству, а мы уже отплываем.
И он звучно защелкнул дверцу.
— Молодец, товарищ, — значительно сказал ему Венька, — старайся так же и дальше.
Зинаида не выдержала — пустила слезу. Размазывая тушь на ресницах, она крикнула вслед отходившей «Ракете»:
— Ты не думай, я все равно к тебе нагряну!.. Дождешься у меня!
Солнышко светило так, будто грело его одного. Наверстывало, поди, за много лет. С коих пор Венька не был в отпуске: то дела в цехе не отпускали, некому, видишь ли, было заменить его, а то самому не хотелось ехать куда-то, попусту транжирить время. Да оно и спокойнее как-то было, когда каждый день жил словно заведенный — вскакивал и бежал на завод.
И теплый ветерок, спускавшийся с верховьев Иртыша, льнул к нему тоже вроде как с умыслом: дескать, расслабься, Веня, распахни душу-то, пусть маленько отмякнет.
А уж про синюю, с белой пенной каемкой воду за бортом и про залитые заленью берега и говорить нечего — так бы и остался тут на веки вечные, чтобы не видеть больше дымного города, труб его мрачных и всего другого, от чего незаметно как черствеет сердце.
Одним словом, попал Венька в иной мир, и петь бы его душе на все лады — хотя бы это отпущенное короткое время попела, — да вот досада-то: не пелось ей чего-то. Непонятная тоска на него нашла: затаилась душа в каком-то нехорошем предчувствии… Так бы и повернул назад, к городскому причалу.
В деревне, не застав лесника — соседи сказали, что старик уплыл на кордон, — Венька и вовсе увял. Торопыга и есть торопыга, ругал он себя. Чего ради поперся, бросив на произвол судьбы Симагина, не говоря уже про Зинаиду?
Поплелся Венька на берег. У стожка на сваях под старой плоскодонкой хлюпали мелкие дробненькие волны. От прошлогоднего сена терпко пахло прелью. Венька выдернул стебелек, покусал его, озабоченно глядя на противоположный берег Иртыша, где за скалистым мысом, в заливе, стояла избушка лесника.
«Передумал небось, — выплюнул Венька изжеванную травинку. — Тут целую неделю с ума сходишь, мечтаешь, планы строишь, а он, старый врун, брякнул: «Продаю лодку!» — а потом на попятный».
Обидно Веньке стало до слез — успел растрезвонить на весь завод. И Симагин пронадеется на него. То-то смеху теперь будет — тот же Торпедный Катер уж и позубоскалит. Прямо хоть на глаза не показывайся.
Разозлившись, Венька скинул туфлишки и полез в плоскодонку, в которой скопилась мутная вода и плавало сломанное весло. Не я буду, сказал он себе, если не уломаю старика.
Пошла посудина зигзагами — больно вертлява оказалась. Всего разок и гребнет с одной стороны, а она уже и развернулась. Надо бы при этом табанить веслом-то, но Венька поспешно заносил его на другой борт, брызгая водой. И закрутился на месте. А волна знай себе шлепала, того и гляди опрокинет. Когда лодчонка вставала к ней боком, Венька каждый раз обмирал, присаживаясь и цепко хватаясь за что ни попадя.
«Ну, заяц! — ругнул он себя. — Не сиделось сопле в тепле…»
Так бы и отнесло его невесть куда, если бы не моторка. Затарахтела, выскочила из-за мыска на том берегу и сразу пошла наискосок — не к деревне, а к нему, терпящему бедствие.
Венька бросил весло и поджал под себя покрасневшие ступни. Не то обрадовался он, не то растерялся, когда понял, что старик в форменном картузе, бочком сидевший у мотора, — это и есть лесник.
— Бери на буксир, батя!
Моторка близко пошла кругами, старик смотрел на него настороженно. Ну какой же он старик? Щеки, конечно, дряблые, но глаза еще ясные и быстрые. Картуз с дубовыми листьями и зеленой окантовкой сидел на нем слегка набекрень, придавая ему молодецки бравый вид.
«На отца чем-то смахивает, — удивился Венька. — Тот хоть и старый на вид, изработался, а все еще молодится, на любом морозе уши у треуха кверху подняты».
— Ты спасать-то меня думаешь, батя?
— Не знаю. Это еще поглядеть надо.
— Вот это здорово!
— Надо бы здоровее, да некуда…
— Чего же мне делать-то, батя? — заискивающе улыбнулся Венька. — Уплыву к Ледовитому океану.
— А че знаешь, то и делай. Забрался в чужую лодку…
Венька сдрейфил малость. Того и гляди лесник повернет к деревне.
— Максимыч, я же к тебе на кордон хотел плыть! У меня записка от Симагина! — Венька торопливо пошарил в кармане. — Во, гляди!
Старик подчалил, наконец.
— Фу ты, господи! — цепляясь за борт моторки, вздохнул Венька. — Ну и кержак ты, батя.
Пока старик читал записку Симагина, Венька успел оглядеть моторку и вдоль и поперек. Даже под ложечкой заныло: «Чего тянет резину?»
— А зачем тебе, парень, моторка? Че это приспичило?
— Мечта такая. Поплавать охота.
— Ишь ты… — старик улыбнулся одними глазами и поглядел на Венькины ноги. Красные, как у гусака. Хорош моряк, нечего сказать.
— Что я, хуже других… что ли… — шмыгнул Венька носом.
Все же дрогнул его голос, и старик уловил это.
— Ну, раз не хуже, то пересаживайся.
Веньку будто пружина какая подбросила. Только что вяло сидел на корме плоскодонки, хлопая по воде покрасневшими ступнями, а тут — раз! — и в моторной лодке оказался, не на шутку перепугав старика.
— Да ты, парень, я гляжу…
— Ага, есть маленько, — до ушей улыбался Венька. — Поплыли, что ли?
Привязывая плоскодонку к моторке, он вроде ненароком нагнулся, оперся о плечо старика и дотронулся-таки до рукоятки мотора — даже пальцы свело от нетерпения.
Старик мягко отвел Венькину руку и взялся за шнур стартера.
«Погоди, не егози», — сказал он ему глазами.
Венька не расстроился — ладно, подождем. Он посвистывал, не отрывая взгляда от руки старика, управлявшей мотором. Подчиняясь какому-то безотчетному чувству, Венька наклонился к нему, расправил скрученный воротничок пиджака с зелеными петлицами и такими же дубовыми желтыми, как и на фуражке, листочками. Тот покашлял от растерянности, а Венька, набрав в грудь воздуха, вдруг затянул песню, ни с того ни с сего пришедшую ему на ум:
Та-ам на го-о-оре верба кра-асна,
Ве-ерба кра-а-асна, верба ря-ясна…
Он не знал как следует слов ее и, удивляясь такому своему выбору, перешел на мычание, с надеждой глядя на старика: не подхватит ли?
Но старик молча глядел на него. Отбуксировал к стожку плоскодонку, привязал ее и, меняясь с Венькой местами, сказал:
— Давай в залив, за доярками. Ты все углядел-то, как и что я делал?
— Да господи, — поперхнулся Венька, — кого бы учить-то…
Он заметно побледнел, но сделал все как надо. Даже вхолостую газануть не забыл, подготавливая двигатель к нагрузке.
Лодка чутко пошла по воде, и Венька, будто срастаясь с нею, тихо засмеялся.
— Мама родная! — только и крикнул он, на середине реки поворачивая рукоятку газа до конца.
Обдало их студеными брызгами, засвистел в ушах ветер. Старик придерживал на голове фуражку, но не вмешивался, хотя сам сроду так не гонял. Свою кепку Венька бросил в ноги, на решетку, ветер глянцево пригладил его светлые, как обтрепанный ленок, волосы.
У входа в залив кружило в пенной воронке ветку вербы. Моторка проскочила мимо, и Венька вдруг подумал о Зинаиде. Где она сейчас, чем занимается? Плачет небось, ясное дело, чем ей еще заниматься… Ну и жизнь у них — все не как у людей получается. Кружит их по кругу, как эту вербу в воронке…
Венька тут же загадал про себя: если он выхватит ветку из воды на полном ходу — значит, ничего еще не потеряно, все еще будет у него в жизни, хотя толком он и подумать не успел, чего бы такого пожелать ему в первую очередь. Ну а если промажет или, чего доброго, вывалится — стало быть, все это пустые хлопоты.
— Держись, Максимыч!
Он круто заложил руль, умудрившись развернуться в узкой горловине залива. Мелькнул перед носом скалистый мысок. Воронку разрезало килем пополам, и ветка, по счастью, оказалась как раз с правой стороны — свободной рукой и схватил ее Венька.
— Видал? — счастливо засмеялся он. Серебристые капли стекали с пепельно-бусых сережек.
Старик и тут смолчал. Хотя за такие проделки кого другого он бы пересадил от руля.
Та-ам на го-о-оре верба кра-асна,
Ве-ерба кра-а-асна, верба ря-ясна…
Венька горланил, перекрывая звук мотора. Доярки, побросав коров, сбежались на берег залива. Эх, жалко, не видит его сейчас Зинаида!
На радостях он сплоховал — слишком резко сбросил газ, побоялся береговой отмели, не захотел царапать днище о галечник. Мигом набежала сзади волна, поднятая своей же лодкой, и окатила его по самую поясницу.
— Мамоньки! — ахнули доярки. — Он че же это вытворяет?
Венька конфузливо покосился на них, охлопал о колено кепку и плоско, по заводской привычке, напялил ее до бровей. Чтобы хоть как-то выкрутиться, сделать вид, что студеная вода ему нипочем, и даже, может быть, в охотку, он спрыгнул в чем был в воду, чтобы подтолкнуть лодку к берегу.
— Да он пьяный, бабы!
У Веньки от холода перехватило дыхание, он вытянулся весь, подобрался, округляя глаза и с придыханием втягивая в себя воздух, но тут же справился с собой и даже похлопал по воде ладошками.
Заснул он в этот вечер сразу же, едва лишь уронил голову на подушку. Будто после аварии в цехе, когда вдосталь накрутишься, наломаешься у хлоратора или царги.
Но вот диво-то какое — снился ему вовсе не цех, как обычно. Ничего подобного. Да и то сказать: сколько можно смотреть один и тот же сон? Это же прямо как наказание.
Помнит, что, когда раздевался, его поразил полузабытый запах в избе старика. Дома, бывало, пахло в точности так же. Не у себя в городе, а у отца с матерью. А чем это пахнет, сразу вроде и не поймешь. То ли геранью на подоконнике, то ли отволглой известкой на стенах. А может, и домотканой дорожкой на крашеном полу, и постелью, не по-городскому мягкой — гусиный, легкий пух под цветастым ситчиком…
И тут же на Веньку навалился сон, и он увидел себя как бы со стороны. Будто плывет на лодке и веслом помахивает. А одежда на нем странная — вроде как морская, капитанская. Погоны на плечах так и сияют.
Плывет и поет песню про вербу. Далась ему эта верба!
Он будто поет, а Максимыч на борту лодки сидит, разутый, ногами в воде бултыхает и горько плачет. Надо же, думает во сне Венька, как приглянулась Максимычу эта песня: слушает и плачет. А потом и спрашивает: «Откуда ты, Веня, мою любимую песню знаешь?»
«Крепко же мы вчера обмыли мою лодку! — удивляется Венька во сне. — Я и сам плакал, не помню почему, но плакал».
И вот теперь она, «обмытая», еще лучше плывет. Так бы и нестись в ней на край света, хотя зачем, толком Венька не знал.
«Ну как же зачем, Веня? — кричит издалека Симагин. — Ты же меня спасать плывешь!» — а сам в сети запутался, и сети эти Венька никак не может достать рукой: он к ним тянется, а они уходят на глубину, их багром подцепил Торпедный Катер и топит, топит, а Венька ничего сделать не может.
И тут слышит он голос Сани Ивлева:
«Ты мне, мне помоги, Веня! — Из хлоратора будто вылез Саня, обгорелый весь, только кепка на голове целая, и тянет к нему руки. — Не оставляй меня, а то я совсем запурхался без тебя!»
Жалко ему стало армейского кореша, всех Веньке жалко, и он посоветовал: «А ты, Саня, дипломом закрой прожог-то! У тебя же теперь диплом есть».
И растаял Саня Ивлев в молочно-белом тетрахлориде, а на берегу Раиса стоит, платочком машет.
«Ты откуда это такой красивый?» — спрашивает.
«Из Сочи. С юга, — говорит он ей. — Морской капитан. Разве не видишь? Садись, пока жены нет».
«А не обманешь?»
«Заяц трепаться не любит».
И только села она к нему в лодку — глядь, откуда ни возьмись Зинаида!
«Эй, капитан! — кричит. — Забери свои вещи, я уезжаю от тебя к сыну».
Он хоть и сонный, а сразу вспомнил: «Это она к Славику собралась, под Краснодар. Сын же у меня там растет, с тещей живет. Поплывем-ка вместе, а Раису высадим на необитаемом острове».
Стал он маячить Зинаиде — мол, садись, давай, а она возьми да швырни в лодку что-то тяжелое. Чемодан не чемодан… Альбом с фотографиями это был! В кладовке все время валялся. Так и легли веером по воде белые фотокарточки. И поплыли. Он плывет, Зинаида, Славик…
Быстрехонько содрал он с себя капитанский костюм и прыгнул в воду. Так и обожгло всего! И понесло его, понесло… Он машет руками, машет, а волна захлестывает. Крикнуть хочет, а голоса нет. Зашлось сердце, вот-вот разорвется. И тут он увидел — целится в него из ружья Торпедный Катер.
«Не стреляй, керя! — закричал он ему. Сразу и голос появился. — Не стреляй, я тебе титановый винт сделаю!»
Торпедный Катер сверкнул зубами — и тут же оглушительно грянуло. С ломотой отдалось в висках, и Венька сквозь сон сообразил: это и впрямь кто-то выстрелил.
Продирая глаза, он приподнялся на локтях, глянул в окошко. По заливу, серому от высокого тумана, ходила кругами моторка. Кто-то сидел в ней, одной рукой держась за руль, а другой ружье вскинув. На ходу целился в кого-то, не понять, в кого.
«Охотится, что ли?» — подумал Венька. За кустами на берегу увидел Максимыча. Старик размахивал руками — кричал, наверно. Венька вышел на крыльцо. В это время снова жахнуло — дробь стеганула по воде, и Максимыч заковыристо выругался.
«Браконьер это!.. — со сна тревожно подумал Венька, чувствуя, как гулко заколотилось сердце. — Вот оно, значит, как бывает!..»
Он сразу вспомнил о Симагине и, словно спасать надо было его, Толю, метнулся в избу, рывком поднял на плечо мотор, стоявший в углу, и побежал к своей лодке. Браконьер заметил его и с явной неохотой повернулся к Иртышу.
— Не гоняйся! — подскочил сбоку Максимыч. — Протурили — и ладно. Кому говорю, не суетись!
— Он в кого стрелял-то?
— Да в норку. Вон гляди…
Глянцево-коричневая головка, оставляя за собой след на воде, плыла к берегу. Достигнув галечника, гибкая кошечка выметнулась на берег и скрылась в кустах.
— Ты не заметил, — спросил Венька, — зубы у него не железные случайно?
— У кого?
— У кого же еще? У этого, стрелял-то который.
Максимыч невесело усмехнулся:
— У них тут почти у всех железные. Лучше не связываться с ними. Христом богом тебя прошу…
Вчера Венька думал только о лодке, и лишь теперь он вспомнил рассказ Симагина про этого лесника. Последние годы старик стал гонять браконьеров. Вроде бы это и не касалось его, но оголтелая братия, у которой не было ничего святого, вывела человека из терпения. Начал Максимыч орудовать без всякого мандата, умудряясь отбирать капканы и сети даже у матерых мужиков. Врасплох захватывал. Прошлым летом они и порешили у него лодку с мотором. «Ветерок» был, слабенький моторчик, и лодка самодельная, деревянная, а жалко все-таки, сгинуло добро бесследно.
Максимыч не унялся. Однажды выследил он, как три гаврика залетных пошли за косулями, и стал их поджидать. В одиночку! Ну стариковское ли это дело?.. Больше суток ждал — таился в пихтаче. Едва не окочурился. Мороз уже под сорок, пробрало до костей, а их все нет как нет. На рассвете слышит: в распадке снег заскрипел… Разодрал Максимыч смерзшиеся ресницы, глянул — идут гуськом, козьи тушки на загривках тащат. Под луной-то хорошо их видно было — на белом снегу на волков похожи издали. Три черные фигуры одна за другой крадутся… Вышел Максимыч из пихтача, а ружье-то из-за спины достать не может, руки не слушаются — до того замерз. «Стоп, — говорит, — ребята, отохотились». Первый, вроде вожака, потоптался озадаченно перед Максимычем да и оглоушит его, не долго думая, окостеневшей на морозе козьей тушкой. И как только не убил, мороз, видно, пособил Максимычу, очухался он и приполз к избушке.
Но это еще что. Прошлой весной кто-то подпалил сухой карагайник, огонь дошел до самого кордона, чудом отстоял Максимыч свое жилье. А перед ледоставом пырнули ножом стельную корову и годовалого бычка. Продал Максимыч загубленную скотину на мясо и с помощью Симагина купил дюралевую лодку и сильный мотор, хотя и подержанный. И кто его знает, как бы оно дальше было, но зимой умерла старуха, и Максимыч заметно сдал. Он все чаще прихварывал. «Отвоевался, хватит, — сказал он Симагину, — теперь только и осталось, что печку под собой караулить». И к нынешней весне старик надумал продать лодку, уйти на пенсию и уехать куда-то в Поволжье — на родину, хотя там почти никого у него не было.
— У меня, Максимыч, — сказал Венька, — своя голова на плечах. Ты мне таких советов не давай: связываться, не связываться…
— Тогда тебе не лодку, а вот это! — сунул ему старик фигу под нос. — Деньги ты мне не все отдал? Половину только. Вот и охолони малость…
Венька опешил.
— С тобой, Максимыч, не соскучишься.
— Дак и ты парень веселый. Своей смертью не умрешь…
«А как же Толя?» — подумал Венька о Симагине и, разозлившись на старика, сказал в сердцах:
— Слушай, Максимыч!.. Ты мне голову не морочь! Я же не для прогулок беру моторку. Ты что, не понимаешь? Я Симагину хочу помочь. — Венька мысленно представил, как Торпедный Катер смотрит на них с Толей и насмешливо улыбается, уверенный в своей неуязвимости. — Я тебя, Максимыч, в чем угодно послушаю, а что касается моторки и всего прочего… тут я сам себе хозяин!
Старик стоял ссутулившись, растерянно помаргивая, и Веньке стало не по себе. Не зная, что бы такое сказать или сделать, он хотел было приобнять старика, но вдруг, застеснявшись, отвернулся.
«Возьму я его с собой в город, — подумал Венька. — Пускай на причале дежурит. Все не так одиноко ему будет».
— Сплавать мне на Иртыш, что ли?.. Вдруг моя Зинаида с утра пораньше явится. Грозилась! — улыбнулся он, коротко взглядывая на старика.
— Да ну? — заметно отходя, как бы весело переспросил Максимыч. — Гляди, че делается… Она у тебя погонялка.
— Как это? — не понял Венька.
— Ну, гоняется за мужем.
— А!.. Это есть маленько. Она у меня такая…
Ни слова больше не говоря, Венька завел мотор. Однако двигаться пришлось потихоньку — на воду лег плотный низовой туман. Скалы по сторонам, поверху розоватые от невидимого солнца, будто плыли на белых облаках. Ближе к берегу сочно шлепалась крупная рыба. Венька снова вспомнил Симагина. Где-то притаился он сейчас в какой-нибудь протоке, карауля мужиков с сетями, — самое тихое времечко, самое хитрое…
Стоило солнцу подняться чуток выше, оторваться от гребня лесистой сопки, как туман сразу же стал сходить в воду. Венька продрог на речной потяге, пережидая у бакена, когда рассосутся белые шевелящиеся хлопья, из-за которых не видно было фарватера. В нескольких метрах от него, истошно сигналя, пронеслась «Ракета», державшаяся на видимые с высоты ее борта огоньки бакенов.
Не успел Венька подплыть к дебаркадеру, как его окликнули из тальника.
«Никак Раиса! — удивился он. — Ее вроде голос. Вот это номер…»
Вглядываясь в другую женскую фигурку, смутно маячившую на дебаркадере, он сбавил обороты и медленно поплыл к берегу.
— Ты откуда это взялась? — глупо спросил он вышедшую из кустов Раису, в то же время краем глаза следя за дебаркадером.
— На «Ракете» приплыла, — улыбнулась Раиса, напряженно вглядываясь в его лицо. — Сегодня же выходной. Хочу позагорать на той стороне. Перевезешь меня?
Венька пошевелил покрасневшими от холода пальцами ног.
«Хорош кавалер! — усмехнулся он. — Босиком, зато в кепке. Когда я кепку-то успел напялить?»
Раиса шагнула в лодку и, кутаясь в легкий плащ, уселась на скамейке. Она знала, что затеяла рискованную игру. Вчера, после этой глупой встречи у заводской проходной, что-то нашло на нее — так и подмывало уколоть ответно Зинаиду. Поймав такси, Раиса поехала за профкомовской «Волгой» на причал и увидела всю сцену — как Венька не взял с собой свою законную, как Зинаида плакала, размазывая тушь на ресницах. Это еще больше подхлестнуло Раису, и утром, не отдавая себе отчета, она чуть
свет примчалась на причал и первой вошла на «Ракету», и Зинаида увидела ее, и всю дорогу они глядели друг на друга через большое круглое зеркало, висевшее в салоне. «Вот и пусть побесится! — твердила себе Раиса. — Ведь ничего же не было у нас с Венькой, в чем же я перед ней виновата?»
Венька, помедлив еще немного, оттолкнул моторку от берега, и в тот же миг услышал чуть хрипловатый, знакомый во всех оттенках голос:
— Вениамин, подожди-ка!..
На краю дебаркадера, четко выступавшего из тумана, стояла Зинаида. Объявилась как привидение! То-то чуяло его сердце: недаром он все время оглядывался.
— Да-а… — растерянно улыбнулся Венька. — Ты, Зин, вечно с фокусами…
— Я вижу, ты тоже не отстаешь, — срывающимся голосом сказала Зинаида и, пренебрежительно окинув взглядом притихшую Раису, пошла вдоль берега, поигрывая сумочкой. Будто для того только и приехала сюда, чтобы прогуляться у реки.
— Зин, ты чего это… садись, давай, что ли!
Венька засуетился в лодке, от спешки не управляясь с веслом. Ругая себя, что лучше бы сразу завести мотор и подплыть к Зинаиде чин чинарем, удивляя ее такой сноровкой, он плюнул в сердцах, бросил весло и выпрыгнул из лодки. Опять, как и вчера, ухнул в студеную иртышскую воду. Но сейчас Венька холода не почувствовал: оскальзываясь на камнях, он стал подталкивать лодку к берегу и вниз, догоняя Зинаиду.
— Зин, перестань… Садись давай. Места всем хватит, — брякнул он невпопад. — Ей-богу, Зин, ну что ты в самом-то деле!.. Слушай, — глянул он на Раису, — скажи же этой психопатке, что я тебя случайно здесь встретил, это же черт знает что! Ты слышишь, Зин, что тебе человек говорит?! Ну смотри, как знаешь тогда…
Он уже не успевал за нею. Сбивая в кровь босые ноги, приткнул кое-как лодку к берегу и выскочил на обрыв — мокрый и жалкий, с опущенными руками.
Зинаида теперь почти побежала, он кинулся было за ней, но потом остановился, сел на траву и, ударив по земле кулаком, обхватил лицо ладонями, уткнув его в мокрые колени…
На следующий день, так и не дождавшись Толю Симагина, он к вечеру уплыл на своей моторке. Своим ходом угнал ее в город.
Ветка вербы, не такая уже пушистая, лежала на дне лодки. Глядя на нее, Венька вспомнил вчерашнее — как он загадывал. Наворожил, ничего не скажешь. С женой поцапался, друга не встретил… Надо бы хуже, да некуда.
На заводском причале, пустынном в поздний час, он долго сидел в лодке, как бы раздумывая, что ему делать дальше. Ничего не хотелось. Даже мелькнула мысль: «Зря, пожалуй, затеял я эту куплю. Хорошего мало — трещит мотор у самого уха, оглохнуть можно».
В сумерках засветились от лунного света, мерцая искорками на срезах, полосы нержавейки, из которых вверху, над воротами, было составлено слово «Титан» — название заводского причала. И только тут Венька заметил, что в тени за тополями прячется какой-то человек.
— Эй, кто это? Толя, ты?
Венька выпрыгнул из лодки, и навстречу ему шагнул старый знакомый — капитан милиции, приходивший на завод нынешней весной.
— Ты чего тут делаешь? — удивился Венька, а сердце у самого так и упало.
Капитан молчал, не то приглядываясь к нему, не то вслушиваясь в далекий звук лодочного мотора на Иртыше. Капитан уже знал, что Венька ездил за лодкой к леснику в залив.
— Симагин погиб, — сказал он. — Сегодня утром выловили его в низовье…
4. КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ
Всю неделю Венька почти не видел того, что делал.
Кажется, раза два или три прогорали царги, но хлораторы держались, и с Ивлевым, новым сменным механиком, они насадили, как обычно, заплаты.
— Выкинь ты из головы, ради бога, что это убийство, — высказался было Ивлев. — Мало ли как могло случиться.
Венька только поморщился. Чего, дескать, лезет не в свое дело? Ни разу не был на реке, толком не знает, что к чему, а туда же — советует… Одного такого умника Венька уже отчихвостил как следует — капитана милиции. Надо же такое выкинуть — выпустил из-под стражи Торпедного Катера, арестованного было под горячую руку. Видите ли, алиби у него оказалось: как раз в ту ночь, когда погиб Симагин, Торпедный Катер был на свадьбе у своего брата. До утра, мол, шумели — весь дом в свидетелях.
Растяжимое это понятие — до утра. И четыре часа — утро, и семь часов — тоже еще не день. А за эти-то три часа, пока солнышко обогревается по-над сопками, можно побывать на краю света. Долго ли на лодке смотаться к нижним протокам? Да если еще машина под рукой, то поспеть к свадебным блинам проще простого. И всем будет казаться, что никуда не отлучался, тут и был.
Позже капитан снова стал вызывать на допросы Торпедного Катера. Кроме того, он добился, чтобы инспекция поставила Симагину памятник на берегу Иртыша. Правда, на скорую руку сделали — дощатая крашеная пирамидка с фанерной звездочкой, но все же памятник. Как бойцу.
Разве Саня Ивлев поймет это? Вот кто поддержал Веньку, так это Бондарь.
— Точно! — горячо согласился он. — Долбанули инспектора. Туман же был, подходящий случай свести счеты…
Заглянул Венька в бочкотарный цех по печальной необходимости. Он вспомнил, что там из квадратных пластинок титана штампуют пробки для бочек — хорошие заготовочки, с блеском, из них можно сварганить звезду и табличку с надписью, чтобы пирамидка стала похожа на памятник.
Присев у кучи заготовок, Венька тут же начертил мелом звездочку на облюбованной пластине, а Бондарь-то его и заметил. Слонялся, видно, за махинами станков и сразу подошел узнать, кто это там без спроса шарится.
— О, кого я вижу! Привет, привет… — он сунул Веньке руку и, склонив голову набок, вгляделся в разметку. — Для лодки, что ли?
— Чего для лодки? — не понял Венька.
— Ну звезда-то… — Бондарь, улыбаясь, ждал ответа с таким видом, будто заранее разгадал Венькин замысел — украсить лодку титановой звездочкой. Глаза его говорили, что он бы и сам не отказался от этой затеи как далеко не последний любитель моторных лодок.
— При чем здесь лодка? — нахмурившись, буркнул Венька, но вовремя спохватился, что Бондарь — хозяин этого цеха и может запросто выставить его, отобрав титановые пластины. — Зачем же такие звезды для лодки? — уже мягче переспросил он и, чтобы человек не обижался, как бы заново оглядел заготовку с белой звездочкой и озадаченно прищурился, заглазно примеряя ее к борту. Нет, ни к чему она там была. — На бронированный колпак разве что приварить ее, — натужно улыбнулся он.
— А колпак зачем? — засмеялся Бондарь. — Лишний же вес.
— А чтобы с браконьерами драться. Тогда уж ружье не ружье — ни одна сволочь не уйдет.
Венька насупился, погладил ладонью холодный металл и вздохнул.
— Это я одному инспектору на памятник хочу приладить.
— Это какому инспектору-то? — с участием спросил Бондарь, присаживаясь рядом на корточки.
— Да от рыбнадзора тут был один… Хороший парень. Толик Симагин.
Венька с умыслом не сказал фамилию сразу, он думал, что так, с растяжкой, известие прозвучит еще горестней, но Бондарь даже не дрогнул, не удивился.
— Симагин, Симагин… — вроде как припоминал он, делая вид, что знает в инспекции всех наперечет. — Это длинный такой, все время в тельняшке ходил?
И чего ради вспомнил кого не надо! Венька поморщился:
— Да не-ет… Это слесарюга из нашего цеха. Торпедным Катером дразнят. С этим хмырем сто лет ничего не сделается. Такие не горят и не тонут.
— Тогда кто же это…
— Да знаешь ты его! — терял Венька терпение. — Все лодочники его знают. Весь Иртыш. Он же тогда в машине вместе с нами был, когда ты на пристань-то нас подбросил, ну когда мы от баб деру-то давали, — еще более досадливо поморщился Венька, как бы говоря, что сейчас ему не до смеха и он припомнил об этом случае вынужденно.
И Бондарь сразу же вспомнил.
— Тот самый?! Погиб?! — присвистнул он, только теперь, видимо, постигая весь смысл этой новости и надолго останавливая свой взгляд на звездочке. — Ну как же, знал я его, конечно… Бензину как-то раз перехватывал у него. Застала меня темнота у понтонного моста, а тут еще заглох мой «Вихрь». А там же самая неразбериха — то мель, а то опять течение прет, бакены кругом понатыканы. А меня сразу хоп — и повернуло кормой. А уж если крутануло, то и ориентиры сбились. Кругом свет на воде, береговые столбы с лампочками тоже вроде бакенов стали… — Бондарь покосился на Веньку — как тот относится к этому случаю. — Новичку бы, конечно, туго пришлось, сам понимаешь, но я в тот момент…
— А он как увидел-то, что тебя закрутило? — перебил Венька.
— Кто увидел?
— Ну Толик Симагин-то, кто же еще-то!
— А, ну да… Заметил как-то, — пожал Бондарь плечами. — Дом-то его как раз возле понтона, ты же знаешь. Я не успел еще предпринять что-нибудь, чтобы самому выкарабкаться, к берегу причалить, например, а он уже на моторке ко мне подскакивает: «Что, говорит, случилось, товарищ?»
Венька готовно кивнул, словно бы знал Симагина давно.
— Он такой, Толик…
— Подплывает, значит. Давай, говорит, за мной держись. И попер прямо на понтон. А он, дьявол, еще больше кажется, чем днем, вроде как всем брюхом прилип к воде, и нету под ним ни одной щелочки. А Толик твой жмет на полном газу. А сам фонариком мне светит, чтобы я шел киль в киль.
— И не зацепили?!
— Чисто прошли! Причем на полном ходу!
Венька ухмыльнулся:
— А говорил, что бензин кончился… Сказал бы уж, что духу не хватило.
Бондарь рассмеялся, погрозив Веньке пальцем, но тут же вспомнил:
— Да, ну так как же погиб-то он, Толик-то?
Венька помолчал нахмуренно, пожевал свои вечно потресканные губы. Ему стало не по себе: судачат про что не надо, как две базарные бабы.
— Как-как… — передразнил он. — Никто же не видел. Лодку инспектора поймали уже у Форпоста, ниже проток. Плыла себе вверх дном. А самого Симагина нашли у Локатора.
— Это где коса-то, что ли?
— Ну.
— Так ведь там же палаточный городок на берегу, народу всегда полно!
Венька хмыкнул.
— Да уж понятно, что не здесь его приголубили, а где-то выше…
Он невидящим взглядом уставился на звезду, как бы еще раз прикидывая, не промахнулись ли они с капитаном, когда решали, где ставить памятник.
— Лично я и сам толком не знаю, как это все получилось, — со вздохом признался он.
Ему пришлось рассказать Бондарю про Торпедного Катера. Хотя о чем тут особо-то распространяться? Так себе история — одно душевное несогласие, и никаких пока что фактов.
Бондарь притомился сидеть на корточках и, к немалому изумлению Веньки, не жалея свою новую болонью — а может, просто не думая о ней в такую минуту, — плюхнулся на цеметный пол и тоже вытянул ноги.
— Ломай тут голову как знаешь, — сокрушенно сказал Венька.
Ему было приятно, что Бондарь принял близко к сердцу этот трагический случай. Не то что Саня Ивлев. А ведь это хуже нет, когда посоветоваться не с кем, душу излить некому. И Бондарь, похоже, уловил это его настроение.
— А ты поменьше-то не мог выбрать заготовку? — с укоризной заметил он Веньке.
— А что, маленькая, по-твоему?
— А по-твоему, большая? Надо, чтобы звезду было видно издали.
Венька с благодарностью посмотрел на Бондаря.
— Правильно!
— А со временем и новый памятник инспектору сделаем!
В голосе Бондаря появились знакомые каждому рабочему начальственные нотки, и Венька, сам того не сознавая, вмиг подобрался и был уже полон внимания и какой-то внутренней, как бы исподволь копившейся в нем потребности что-то делать.
— А я еще хочу барвинок достать, — сказал он. — Травка такая с голубенькими цветочками. Пускай растет на могилке. Чтобы приятно ему было.
— Кому приятно-то? — удивился Бондарь. — Уж не Симагину ли?
— Кому-кому… Может, и ему. Почем мы знаем.
Бондарь посмотрел на него внимательно — и смолчал.
В два счета они заново перекроили чертеж, обрезали лишнее и, прежде чем отнести заготовки на сварку, решили отшлифовать их пастой.
В маленькой запущенной слесарке, отделявшейся от цеха дощатой дверью, Венька ловко надраил пластины на шлифовальном круге, и Бондарь, неотрывно наблюдавший за его работой, вдруг предложил ему перейти в их пятый цех. Слесарем-наладчиком.
— Это бочки-то делать? — засмеялся Венька. — Тут же одни бабы! Педальная деятельность. Веселая была бы комедия…
— А ты подумай, подумай! — не отступал Бондарь. — Во-первых, здесь чистый воздух, — он шумно принюхался, как бы от удовольствия закрывая глаза. — Никакого тебе газа. Разве что духами в цехе пахнет… — подмигнул он. — Во-вторых, сам себе хозяин. Вернее, во-вторых — это вот что будет: седьмой разряд и те же самые деньги, что ты и в хлораторном получаешь! Ну как, все о’кэй?
Венька хмыкнул с улыбкой и покачал головой.
— Нет, Боб, ни за какие коврижки. — Но, глянув на сникшего Бондаря, вдруг смилостивился и вывел уклончиво: — Вот если бы эту вашу педальную деятельность заменить конвейером… ведь можно же что-нибудь смараковать — подумаешь, какие сложности, спутники, сказал бы, делать, а уж эту-то бочкотару…
Он скривился, как бы показывая, что тут и говорить им не о чем, но Бондарь, живо смекнув, что к чему, встрепенулся.
— Так в том-то и фокус, что мы как раз и намечаем полную модернизацию цеха! Не век же нам кустарями быть, сам посуди. Бочек-то сколько надо, знаешь? А ты бы с самого начала принял участие в наладке нового современного оборудования. А может, кое-что изобрел бы по ходу дела, усовершенствовал бы, так сказать… Даю гарантию!
Вот тут-то Венька и смешался — не то чтобы сразу же соблазнился, но просто как бы невольно прикинул про себя: «А не худо бы, совсем не худо. Одно дело — титан. Там химия сплошная. Дундук дундуком ходишь возле хлораторов. А тут работа с механизмами, все на виду, валики, шестереночки… Уж смикитил бы не хуже других. И опять вроде как равновесие у нас с Ивлевым: точно не скажешь, кто впереди оказался».
— Давай, Боб, так, — напоследок сказал он Бондарю, — ты пока получай новое оборудование, а я тем временем подумаю…
Хороший был мужик этот Бондарь, и обижать его Веньке не хотелось.
Венька растерялся, когда увидел на пороге Саню Ивлева.
— Можно? — смущенно улыбался тот.
— Входи, конечно! Еще спрашиваешь…
Раньше Саня не спрашивал, а порой и вообще не звонил — открывал дверь запросто, шел как к себе домой. Даже Зинаида одно время до того привыкла к нему, что шлындала при нем по комнате в халате нараспашку.
Мало ли что было раньше.
— Ты как это надумал? — Радуясь в душе приходу Ивлева, Венька все же не мог обойтись без язвительности.
— Чего надумал? — вроде как не понял Ивлев.
— Да зайти-то ко мне.
— Скажешь тоже… Как будто я не захожу, — Ивлев неуверенно присел на краешек тахты, оглядывая комнату. — О, да у вас новый телевизор!.. Какая модель-то?
Венька, стоя посреди комнаты, выжидающе глядел на Ивлева, скрестив на груди руки.
— Чего ты?.. — выдержал Ивлев его взгляд.
— Да так… Телевизор, модель… — Венька хмыкнул. — Ты зачем пришел-то?
— Ты спятил, что ли?! — Ивлев округлил глаза.
— Я же вижу, что не так просто, а по делу.
— С чего ты взял?
— Сидишь плохо. Бочком. На краешке.
Ивлев огляделся — как же это он сидит-то? И впрямь как бедный родственник. Или того хуже — со скандальным делом заявился.
— Во психи стали! — хохотнул он. — Все не по уму делаем, разную ерунду замечаем за другими и все на себя переносим!
Ивлев передвинулся к середине тахты, откинулся на спинку:
— Так сойдет?
— Так другое дело!
У Веньки будто гора с плеч свалилась. Эта раскованная интонация Ивлева напомнила ему то счастливое время, когда, бывало, собравшись под вечер с женами, они дурачились от души кто как умел, и всем им было хорошо. Саня мастак рассказывать анекдоты. Это сейчас от него только и слышишь: «Цех… четыреххлористый титан… царги… план… график…» Как молитва — каждый день одно и то же. Вот и было ему тягостно думать, что Ивлев пришел не по старой дружбе, а по какому-то делу, касающемуся их цеха.
— Чудак ты! — сказал Ивлев уже на кухне, разливая по стаканам принесенное вино. — По делу, так я бы позвонил тебе, и вся недолга! Да и нельзя же только про этот чертов цех думать! Так и чокнуться можно. Скажешь, нет? — тут же и засмеялся он, как бы подчеркивая этим поспешным смехом, что говорит он все это просто так, момента ради.
Венька тотчас уловил эту неискренность Ивлева, но придираться к ней не стал — спасибо, мол, и за то, что хоть так-то сказал. Он ответно улыбнулся, торопливо выпил и, не закусывая, замер на секунду-другую, закрыв глаза и словно прислушиваясь к себе, а потом взглянул на Ивлева.
— Молоток, Саня, что зашел! Жизнь стала какая-то… — глаза его лихорадочно заблестели. — Даже выпить неохота. Правда! — пожал Венька плечами, будто и сам удивлялся этому странному обстоятельству. — Хотя другой бы на моем месте… Представляешь, Саня, такую картину, — оживился он, как бы нащупывая самый верный тон их разговора, хорошо знакомый по прошлым временам. — Повадились к нам шастать в подъезд разные забулдыги. Тут же рядом гастроном, сам знаешь, а наш подъезд ближе всех. Стучат как к себе домой. Моя же квартира самая первая на пути.
— Да ну?! — подыграл Ивлев, выпучив свои черные глазищи.
— Чего… «да ну»? — не понял Венька. Он слегка ошалел от этой негаданной сегодняшней радости.
— Да что первая на пути. Я как-то не заметил.
Венька моргнул и засмеялся долгим счастливым смехом:
— Даешь ты, Саня!..
— Нет, это ты даешь.
— Чего я даю? — Венька замер с улыбающимся открытым ртом, заранее готовясь к тому, чтобы после Сашкиных слов раскатиться еще пуще.
— Стаканы, конечно. Они же и стучат к тебе, чтобы стакан выпросить. Забулдыги-то, а?
— Ну! — в азарте хлопнул Венька ладонью по столу. — Стучат, хмыри такие: дай стакан! А мне давать надоело, только и знаешь, что открывать да закрывать дверь. Я уж на звонок сразу со стаканом стал ходить. Короче чтобы. Открою дверь, суну не глядя — и всех делов.
— Рацпредложение оформи.
— Можно. Пропадите, думаю, вы пропадом вместе со стаканом. Зинаиде сказал, чтобы десятка два купила. Половины уже нету.
— Что-то придумать надо, чтобы возвращали, — вроде как озаботился Ивлев. — Может, ящик на дверь прибить, как для газет? Большое отверстие сделать и написать: «Для стаканов».
— Я сегодня перед твоим приходом, — вспомнил Венька, — как обычно, сунул стакан в притвор, а его не берут.
— Как это не берут?
— А так. Повисла моя рука со стаканом в воздухе, никто не хватает.
— Ну?
— Я тоже удивился. Открываю дверь шире — стоит какая-то дамочка в шляпке. «Вам кого?» — говорю. «Вас… Агитатор я». Ты понял, как влип?! — захохотал Венька. — Так что тебя я встретил уже без стакана.
— Не повезло, конечно.
Помолчали. Из крана капала вода в раковину. На улице тренькнул трамвай.
— Может, партию сгоняем?
До Ивлева не сразу дошло, он уставился на Веньку: какую партию?
— В шахматишки…
— А? — Ивлев вздохнул потихоньку и посмотрел на часы. — Можно бы вообще-то…
А глаза у самого были какие-то отсутствующие. Не о шахматах он думал. А может, и про него, Вениамина, уже забыл.
Венька сразу погас. Вот оно как получалось. Как ни старайся, а прежних отношений нет как нет. Ему и самому не очень-то весело, если честно сказать. Хоть и тараторит, а на душе кошки скребут.
— Ты все же зачем пришел-то, Саня?
Ивлев нахмурился. Зачем он пришел… В двух словах не объяснишь. Когда он решил наведаться к Веньке, ему хотелось бы думать, что идет он просто так, как бывало раньше, — пришел и все тут. Может, через пять минут обратно пойдет, к себе домой, а может, весь вечер просидит — какая разница. Как будет, так и будет. Но уже на пороге, увидев Венькино растерянное лицо, Ивлев понял, что чем дальше он станет откладывать тот разговор, который неминуемо должен был состояться между ними, тем труднее ему будет начать его.
— Чудак ты… — Ивлев снова попробовал было посмеяться. — Ну если бы и поговорили мы с тобой о работе… Скажи на милость, беда какая! Ты не лучше ребенка, который боится страшных сказок на ночь. Приснится он тебе, что ли, наш хлораторный цех? — повысил Ивлев голос, не давая Веньке опомниться. — Как черт ладана стал опасаться с некоторых пор любых разговоров про работу! Разве это дело?
Венька покивал головой. Откинувшись на спинку стула, он взял вилку, потыкал ею в ускользавшую шляпку гриба, усмехнулся криво: давай начинай — послушаю…
И вдруг ни с того ни с сего улыбнулся светло, раскованно, будто Ивлев глазами сказал ему что-то приятное, совсем не то, что произнес вслух.
— Насчет сна — это ты угадал! — обескураживая Ивлева, легко сказал Венька. — Сны у меня прямо как на заказ. Моей Зинаиде вон то пальмы какие-нибудь на берегу моря привидятся, то дом с белыми колоннами — сплошная красота, словом. Она же ни разу в жизни ни на каком курорте не была, ну, ей и приятно на все это поглядеть. Я бы тоже от такого сна не отказался, да еще бы если русалка по бережку ходила…
— Вроде Раисы-Снежаны, — вставил Ивлев.
— Можно и вроде нее, — выдержал Венька его взгляд. — Главное, чтобы вся была, как на картиночке. Не то что наши мымры — хоть мою взять, хоть твою.
— Ну так и какие же тебе сны снятся?
Венька вздохнул.
— Цех, Саня, снится. Наш первый цех.
— Хм… Прямо вот точно наш?
— Ага…
Ивлев проследил за Венькиной вилкой, все еще гонявшейся за скользким опенком, и глупо уточнил:
— Что-то конкретное снится, что только у нас в хлораторном, или вообще что-нибудь заводское — трубы там какие-нибудь, реторты?
— В том-то и дело, Саня, что конкретное. Вчера, например, пятый хлоратор снился, сегодня шестой…
Ивлев взял грибочек с блюдца прямо пальцами, кинул его в мойку и забрал у Веньки вилку.
— Ты все хохмишь?
— Какие тут могут быть хохмы…
— Но как это возможно?! — помолчав, воскликнул Ивлев.
— А я почем знаю, — пожал Венька плечами. — Для меня, по крайней мере, дважды бывает одна и та же авария: один раз в цехе, а другой раз дома, во сне. Со всеми подробностями, чин чинарем.
— Вроде как многосерийный телефильм получается, что ли? — скупо улыбнулся Ивлев, все еще думая, что Венька его разыгрывает.
— Похлеще! — махнул тот рукой. — Сам себе такие истории показываю — даже пот прошибает, проснусь — майку хоть выжми.
— И все, выходит, аварии снятся?
— Они самые.
— А ты, значит, и во сне геройствуешь?
— Как это?
— Ну, тебе виднее, как… Очертя голову бросаешься к хлоратору. Грудью прожог закрыть чтобы.
Венька прищурился.
— А что я, по-твоему, должен делать? Тебя ждать? Пока ты, шибко грамотный, очухаешься и сообразишь, что к чему?
Ивлев натянуто рассмеялся, показывая всем своим видом, что никакие запальчивые слова не выведут его из себя, не собьют с толку.
— Интересно, Веня, что тебе сниться будет, когда хлораторы перестанут взрываться?.. Что ты сам будешь делать со своей геройской профессией?..
— А с какой это стати они перестанут взрываться? Такого не бывает.
— Должно быть. Они должны работать чисто — ритмично, по программе. Как хорошие часики: тик-так, тик-так… — покачал Ивлев пальцем, как маятником.
Венька долго смотрел на этот поднятый кверху указательный палец Ивлева с желтоватым от тетрахлорида ногтем, потом перевел недоумевающий взгляд на его лицо.
— Хлоратор — и чтобы никогда не взрывался?! Царги — и чтобы никогда не прогорали?.. Ты соображай хоть маленько, когда говоришь, — Венька подставил свой палец к виску. — Ты же дипломированный инженер, а не заяц.
— Вот я и соображаю как инженер.
— Соображает он!.. Чтобы при нынешнем уровне развития техники не было никаких чепе в таком цехе, как хлораторный?! Да как это возможно, если вы, инженеры, не научились делать съем тепла?
— Правильно. Пока не научились. Но научимся.
— Когда же это? Уж не в этой ли пятилетке? — съехидничал Венька.
— В этой нет. Но в следующей — да, возможно. Появятся новые образованные специалисты, новые технические идеи, новые технологические линии…
— Ну да, конечно, — усмехнулся Венька, — ученье — свет. Только вот куда неученых девать будете…
— Вот об этом я и хотел поговорить с тобой. Пока не поздно.
— Пока не поздно? — с подчеркнутым удивлением переспросил Венька.
— Да. Пока не поздно. Тебе учиться надо! Хватит валять дурака! Разыгрывать из себя творца! Как же — пуп земли… — Ивлев незаметно для себя разошелся, говорил хлестко, яростно, и Венька, хотя умом и понимал его правоту, полез на рожон.
— Учиться?! — с шелестом произнес он. — Прожил полжизни, изломало всего, извертело, и вместо того чтобы дать мне нормально пожить, меня за школьную парту?! В этом мое спасение?! — Желваки заходили у него на скулах. — Ну спаси-ибо…
— Но ведь иного выхода нет! — стукнул Ивлев ладонью по столу так, что звякнули тарелки. — Неужели ты не понимаешь?
Венька осторожно передвинул тарелки подальше от края, помолчал и тихо спросил:
— Чего ты расшумелся-то? Всех соседей перепугаем… Учиться, учиться… — передразнил он. — Помешались все на учебе. Учатся и кому надо, и кому не надо. Лишь бы корочки заиметь… Ты, Саня, не принимай меня за полного болвана. Ты считаешь, Венька Комраков сопит в две ноздри, как щенок слепой, и думать ни о чем не думает? Ошибаешься. Думал я уже… Не раз и не два. И так думал, и этак… Голова распухла. А толку? После такого думанья совсем хоть в петлю. Легко сказать — начать все сначала! Хотя бы десятилетка у меня была за плечами, а то ведь я и восьмой-то класс не кончил…
Зачем он говорит ему все это? Разве Ивлев не знает про его прежнюю жизнь, почему он не учился?
Так уж у них в семье не задалось. Работал один отец — в плавильном цехе. Зарплату получал не ахти какую, если учесть, что, кроме самого отца, в семье было еще пять ртов. Мать крутилась с ребятишками. Вот и пришлось Веньке, когда он был уже в восьмом классе, заявить дома: пойду на завод. Повздыхал-повздыхал отец — махнул рукой. И кончилась на том Венькина учеба раз и навсегда. До армии слесарил в механосборочном. За день так уставал, что вечером и танцам не рад. Какая уж тут учеба…
— Тебе хорошо рассуждать, — с обидой в голосе сказал Венька Ивлеву, — ты закончил среднюю школу в нормальном возрасте, в детстве. О куске хлеба не заботился. А потом два лета кряду, пока не призвали в армию, сдавал в институт экзамены. Сноровка была. Да и знания тоже. А я бы с чего начал? Со школьной парты? Да она, эта школа, из меня все жилы бы вытянула! А потом еще столько лет пурхаться… А результат? Заделаться к сорока годам хреновеньким инженером, таким, как наши технологи? — Венька презрительно повел губой. — Уж лучше я хорошим работягой останусь. Ничего-о! На мой век хватит слесарных ключей и гаек. Ты вон с дипломом… А без слесарей-наладчиков тебе и делать нечего в первом цехе. Куда ты без нас, Саня? — засмеялся Венька, как бы пытаясь снова настроиться на веселый бесшабашный лад. — Слабо тебе без нас.
— Я-то? Я-то без вас обойдусь, — ответил Ивлев. — Если не сегодня, то лет через пять, через десять, в крайнем случае. А вот вы, такие… без инженера никуда! Тоже мне творец крылатого металла… Подсобник ты, кто куда пошлет.
Венька изменился в лице.
— Ты с тем и пришел… — напружинился он, — чтобы сказать мне все это?
Теперь Ивлев готов был к самому худшему. Он чувствовал, как у него набухла и туго бьется венка на виске, словно вот-вот прорвется. Выждав еще немного, он поднялся и пошел к двери.
Венька молча смотрел ему вслед. Стукнув затылком об окопный косяк, он стиснул зубы и до боли в глазницах зажмурился.
На следующее утро, удивляясь самому себе, Венька долго не вставал с постели. Такого с ним еще не бывало. Даже Зинаида, на что уж спала всегда крепко, забеспокоилась спросонья, раза два мягко ткнула его кулаком под бок:
— Ты чего не собираешься на работу? Солнце уже вон где… Может, заболел? Перекупался небось со своими пассажирками…
— Сама ты перекупалась! У меня отгул сегодня.
— Так ты и в отгульный день на завод уматываешь.
— А вот это уже мое дело… — Венька откинул одеяло, сел в кровати, потом нехотя опустил ноги на пол и какое-то время сидел недвижно, уставясь в окно.
На улице потренькивал трамвай, отдаленно гудели автобусы. В который уже раз Венька во всех подробностях перебирал в памяти вчерашний разговор с Ивлевым…
«Думай не думай…» — притаенно вздохнул он и, покосившись на Зинаиду, которая снова сладко засопела, потянулся за брюками.
На первые автобусы он опоздал, потом пропустил подряд несколько битком набитых, и лишь в начале восьмого втиснулся в заднюю дверь последней «шестерки», которой еще можно было поспеть к началу смены. Какой уж тут отгул, думал Венька, если Саня Ивлев, новоявленный начальник, поставил вопрос ребром. Надо было что-то решать, но голова шла кругом, как у потерянного. Всю дорогу Венька морщился, словно от зубной боли. С трудом развернувшись на месте, он прислонился лицом к ребристым, плохо смыкавшимся створкам автобусной двери, сквозь которые с тонким посвистыванием просачивался ветер.
У самой проходной он отбился от плотной, нестройно рысящей толпы, повернув к административному корпусу, громоздившемуся за частоколом разных плакатов и лозунгов. Ему вдруг захотелось повидаться с Николаем Санычем, бывшим сменным механиком. Тот на днях попросил Веньку обкатать новый лодочный мотор, приобретенный профкомом. Как раз этого-то Венька не собирался делать: пусть сам Николай Саныч возится с мотором, ведь лодка-то будет как его собственная! Но сегодня, уже в автобусе, Венька поймал себя на мысли, что жалеет об уходе из цеха Николая Саныча. Дорого бы он дал теперь за то, чтобы сменный механик у них оставался старый, хотя с ним в свое время они намучились дальше некуда. Намучились, да зато душа была на месте. А этот Саня Ивлев не успел еще поработать как следует, а уже вознамерился разогнать аварийную бригаду. Прыткий оказался, куда с добром!
«Так и быть, обкатаю ему мотор, — подумал Венька, подходя к двери профкома. — Он же, вообще-то, неплохой старик, хотя и преследовал меня из-за истории с Раисой. Мало ли что! Он ведь наш начальник был, а с начальника спрашивают. Сами мы еще те гуси… Другой бы на месте Николая Саныча разве так повернул бы?! Того же Ивлева взять. Ни с того ни с сего готов придраться. А Николай Саныч — тот со мной считался порой побольше, чем с начальником цеха…».
В тот момент, когда Венька уже взялся за ручку двери, его кто-то окликнул сзади:
— Комраков, постой-ка!
Это был секретарь комитета комсомола. Редькин, кажется. Знал его Венька так себе — только и помнил, что шустрый упитанный этот парень вечно сидел в разных президиумах, как бы пожизненно представляя молодежь комбината, хотя уже давно ему было за тридцать. Но зато Редькин, судя по всему, знал самого Веньку, как облупленного.
— Ну надо же! — округлил глаза секретарь, одаривая его послушной гибкой улыбкой, которая была у него отработана во всех тонкостях. — На ловца и зверь бежит, как говорится… Ты небось, как всегда, в отгуле, у вас же, в этом хлораторном, вечно какие-нибудь чепе, а вас молочком отпаивают. Молочные вы ребята! — хохотнул он, но, словно боясь утратить тон, который считал единственно нужным при своем положении, погасил улыбку и со строгой озабоченностью сдвинул брови: — Зайди-ка к нам в комитет, Комраков. Героем очерка хочешь стать?
«Ишь ты, какой свойский, — хмыкнул Венька. — Зайди — и все тут».
Тотчас заметив среди штатных комитетчиков одетого в белый плащ незнакомца, скучно сидевшего у окна на стуле, Венька сразу догадался, что это, скорее всего, какой-то далекий гость, и Редькин со своей братией надумал сбагрить его в первые попавшиеся руки, чтобы не таскаться с ним по цехам. Однако пошел следом.
Чего давно еще никак не мог понять Венька — это той неохотливости, с которой иные выборные секретари наведывались на рабочие места. В первое время вроде еще и видно человека — чинно прогуляется раз-другой, как бы прощаясь с недавней своей работой, а вскоре уже и забудешь о нем начисто, как о без вести пропавшем. Только на собраниях потом и вспоминаешь о нем — мол, гляди-ка, а это же Редькин пожаловал, видали, какой самостоятельный стал!
Порой Венька давался диву: почему эти молодые ребятки, иной раз бывает, изменяются, в чем причина? Позже, когда он и сам стал членом цехового бюро — правда, партийного, — ему как-то пришло в голову обсудить этот вопрос, но Николай Саныч скомкал его атаку: дескать, не лезь-ка ты на рожон, без году неделя как в партии, а уже поучать собрался… А потом он и сам забыл об этом — случалось, его занимали дела и заботы поважнее комсомольских.
А Редькину между тем сунули в руки телефонную трубку — кто-то ему звонил. Два его помощника — черноволосый верзила с длинными ногами, далеко высунувшимися из-под стола, и рыженькая худышка, уже начавшая с меланхолическим безразличием пощелкивать костяшками счетов, выводя на бумаге какие-то цифры, — на минуту оставили свои дела, одним глазом поглядывая на незнакомца у окна, ждавшего с вежливым терпением, а другим глазом следя за Редькиным, который стал совсем пунцовым.
— Послушай, Паша, — вкрадчивым голосом сказал Редькин, — ты эту свою анархию бросай!.. Вовремя, не вовремя — это уж мы сами тут как-нибудь разберемся. Зря бы тебя беспокоить не стали, уж будь уверен. Раз я просил передать, чтобы ты немедленно зашел в комитет, — значит, дело у нас к тебе важное. Я думаю, как секретарю первичной организации, тебе было бы очень интересно поводить по своему цеху товарища писателя…
Редькин одними глазами улыбнулся человеку у окна, как бы говоря этим взглядом, что лично ему самому было бы, уж конечно, не менее интересно, чем какому-то там Паше, походить по комбинату часок-другой вместе со столичным гостем, да ведь вот беда: дел неотложных по горло, просто поедом заела текучка.
О том же он и Паше сказал напоследок:
— Ты там давай не занимайся этой своей арифметикой: сколько у меня штатных помощников — это не твое дело, понял? Секретарь комитета комсомола пока еще я.
Венька поглядел, с какой невозмутимостью чернявый парень чистил свои ногти, близко подошел к москвичу и тихо сказал ему, чуть наклонясь:
— Пойдемте. Какой вас, собственно, цех-то интересует? Если гидролизный, то придется часы оставить, а то намагнитятся и остановятся, — улыбнулся он, в то же время удивляясь себе, что сам набивается в провожатые, да еще по чужим цехам. Тут в свой-то не знаешь как войти…
«А может, — с облегчением подумал он уже у окошка раздаточной, получая брезентовую спецовку и два новеньких противогаза — для себя и для гостя, — так-то оно и лучше — появиться на глазах у Ивлева не в одиночку, а вместе с незнакомым человеком, при котором он скорее всего смолчит и хоть на время прикусит свой язык».
— Я как знал, — улыбнулся Венька, примеряя противогаз своему подопечному, — что мне надо зайти в административный корпус. Уж сто лет не бывал там, а тут, думаю, дай загляну!
Маска пришлась гостю впору, да и натянул он ее до того сноровисто, что Венька даже восхитился: молоток, писатель, бывал, видать, в переделках, хотя и совсем молодой. Ничего такого, конечно, он ему не сказал — просто отметил про себя, и только, а вот когда взялся за рифленый шланг, прикидывая про себя, не пластануть ли по нему ножом, чтобы не сомлел человек под резиной, и тот сам догадался об этих его мыслях и с улыбкой протянул ему свой перочинный ножичек, — тут уж Венька не сдержался:
— Ну, товарищ!.. Да вы, как я погляжу…
— Зовите меня Дмитрием, — засмеялся гость. — И не думайте, что я такой уж бывалый. Ничего подобного! Я же вижу: у вас все так делают, — кивнул он на сменных слесарей, только что вошедших в бытовку из цеха.
«Вот ведь охломоны, — восхитился Венька, — даже по бытовке с соской во рту разгуливают!»
Он словно не догадывался, что и сам делал точно так же, причем, как и эти слесаря, соску у своих губ даже и не чувствовал, выпихивая ее языком лишь тогда, когда надо было снимать брезентовую робу.
— Ну, с богом, как говорится, — улыбнулся Венька, направляясь к дверям цеха, и что-то же было, наверно, в этой его улыбке, что-то тронуло душу московского гостя, потому что Дмитрий вдруг заволновался, заморгал, глядя на своего провожатого, и, не зная, видно, что бы такое сделать для него, поправил на Веньке воротничок серенькой рубашки, выглядывавшей из-под спецовки.
Уже улавливая пряно банный, приятно щекочущий ноздри запах, дававший о себе знать в этой части цеха гораздо сильнее, как ни странно, чем в самой бытовке, и уже проникаясь до самого сердца глуховато бубнящим, как бы подземным протяжным гудом, идущим от хлораторов и рукавных фильтров, Венька все же отвлекся от всего этого и глянул с удивлением на Дмитрия: «Чего это он?..»
Он еще в бытовке, минуту назад, сделал для себя неожиданное открытие, что этот человек напоминал ему своими деликатными повадками его отца, Ивана Игнатьевича, хотя был моложе его, по крайней мере, вдвое. Тот вечно, бывало, вот так же норовил не обидеть человека ни словом, ни жестом. Но ведь отец, считай, уже почти старик. Ему теперь, как говорится, сам бог велел проявлять свою любовь к тем, кто останется после него на земле. Таков уж закон жизни. Беззащитно ласковым человек является на белый свет, добрым и смиренным он должен и покинуть его. Правда, помнит об этом далеко не каждый. Не говоря уж про тех, кто давно не младенец, но далеко еще и не старец. Теперь в моде, говорят, напористость. Это слово Венька слышал в одной телевизионной передаче. У него, мол, все шансы добиться успеха, потому что он обладает одним из ценных качеств — напористостью. Может, оно и так. Только напористого от бессовестного случается, нелегко отличить, вот ведь как. А этот Дмитрий, наверное, меньше всего обеспокоен тем, сколько у него и каких именно шансов.
Чтобы не травить себе душу этим негаданным сравнением Дмитрия со своим отцом, Венька хотел было подмигнуть писателю, а то взять да и хлопнуть по плечу: все в порядке, Дима, держи хвост морковкой! Но вдруг подумал: «Шут его знает! Может, и я тоже напомнил ему кого-то?.. Нынче же вон какая жизнь: все живут по отдельности, один здесь, другой — там…»
— Давайте, Дима, сделаем так, — как можно тверже сказал он, глядя в глубину цеха. — По всему этому хозяйству я вас, конечно, проведу, покажу вам все эти царги, кюбили, которые, кстати, зовут у нас «рюмками» за полное их сходство, значит… И про вентиляционный боров, и про отсосы тоже… Но только я предлагаю начать с одного интересного места, — оживился он, заметно волнуясь. — Это там, наверху, — ткнул он пальцем на галереи, внимательно следя за лицом Дмитрия, как бы угадывая, не знает ли он случайно об этом заповедном местечке, не успел ли кто рассказать ему о нем. — ЦПУК сокращенно… слыхали? Ну, центральный пульт управления и контроля! — засмеялся он, уже понимая, что человек об этом ничего не знает.
Дмитрий улыбнулся и опять пожал плечами. И опять это вышло у него до того похоже на памятную манеру отца пожимать плечами — как-то мягко, вроде бы ненароком, от идущего из глубины души удивления перед миром, — что Венька даже приостановился. Но в ту же минуту, как на грех, откуда-то вывернулся Николай Саныч, увидел его, разулыбался еще издали и направился прямиком к нему.
— А я тебя везде ищу, ищу, Веня…
«Опять песню про мотор заведет, — поморщился Венька. — Ну совсем без понятия человек! Ему это раз плюнуть — сбить настроение. Тут в кои веки случай подвернулся…»
— Обкатаю я тебе мотор, Николай Саныч, обкатаю! — и Венька, подхватив Дмитрия под руку, хотел увести его на галерею, но Николай Саныч резко догнал их.
— Погоди же, Вениамин! Куда бежишь-то? — Он близко качнулся к ним и, дыша Веньке в самое ухо, спросил шепотом: — Это что за корреспондент с тобой?
Венька покосился на Дмитрия. Тот, отойдя в сторонку, зачарованно глядел на фиолетовые сполохи сварки под ажурным потолком цеха.
— При чем здесь корреспондент?.. Это брат мой, Николай Саныч. Из Москвы прилетел.
— Брат?
— Ага.
— Родной, поди? — не поверил Николай Саныч. — Скажи, пожалуйста, какой нарядный… И блокнотик из кармана торчит…
— Так он ведь, знаешь ли, — не моргнул Венька и глазом, уже мстительно желая как следует разыграть председателя, — не какая там тюха-матюха, а крупный специалист… ответственный работник министерства.
Николай Саныч насупился.
— Ладно, Комраков, хватит финтить… Брат, брат!.. Скажи мне прямо: к жалобе это не имеет отношения?
«К какой?» — чуть не вырвалось у Веньки, но он ответил со вздохом:
— В том-то и дело, что имеет.
— Вот ведь гуси! — вроде как восхитился Николай Саныч. — Я же им говорил: «Не торопитесь вы с этим письмом. Вы думаете, там сидят дураки, не знают без вас, по какой сетке ценить работу наладчика?»
И Венька сразу понял. Эти разговоры в бригадах слесарей велись уже давно — ребята возмущались, что операторы, имеющие дело с теми же хлораторами, что и они, проходили по самой высокой, первой сетке, а они, аварийщики, на долю которых достается порой самый густой газ, довольствуются всего лишь второй сеткой.
Но, господи, мало ли кто о чем говорит! Венька и сам любил при случае, как он выражался, помолоть языком. Но чтобы письмо в министерство…
«Кто это у нас, интересно, такой пронырливый?» — подумал он и, как бы желая помочь теперь председателю, милостиво предложил, притаивая в углах губ усмешку:
— Ладно, Николай Саныч, беру этот случай на себя. Неприятность, конечно, большая…
Председатель выжидательно поглядел на Веньку.
— Да уж приятного мало.
— А чего же ты ждал тогда, интересно, раньше-то? — надумал построжиться Венька, понимая, что сейчас ему сойдет с рук любая выходка. — Разве тебя, как председателя профкома, этот вопрос не волновал?
Николай Саныч протяжно вздохнул, но тут подошел Дмитрий, которому не терпелось, как видно, идти дальше, и Венька, подхватывая его под руку, сказал напоследок председателю:
— Заглянем к тебе сегодня… Но ты уж никуда не отлучайся, жди у себя в кабинете.
Он украдкой подмигнул ему, но Николай Саныч смотрел на него все с тем же недоверием и не ответил на улыбку; однако верх в душе председателя все же взяли какие-то определенные чувства, он заспешил с ответным подмигом и уже в спину Веньке сказал с веселым напором в голосе:
— Между прочим, Вениамин Иваныч… жена у тебя, должен заметить, мировая!
— Да что ты говоришь? — даже приостановился Венька. — Это когда же ты умудрился разглядеть?
— Ботинки у нее вчера покупал. Вот эти. Импортные. Так она сама вспомнила, как весной мы с нею на профкомовской «Волге»
догоняли тебя с Бондарем, — засмеялся Николай Саныч. — Ну, когда он подвозил-то тебя с инспектором на пристань. Ты еще за лодкой тогда ездил.
— Как же, как же, — сказал Венька, на мгновение уходя глазами в это воспоминание. — Было дело… — вздохнул он, и сразу поскучнев, быстро пошел впереди Дмитрия.
На галерке он тотчас отыскал то, что и было ему нужно. Место под пульт управления отвели в самой светлой и чистой части цеха — перед первым хлоратором. В просторном высоком зале вкруговую разместились слитные в ряд блоки панелей, а весь верх, будто купол в церкви, был цветасто разрисован схемами технологических линий.
Не чувствуя, что стоит с полуоткрытым ртом, Венька долго молчал, как бы стараясь тут же, не сходя с места, вникнуть в эту таинственную, непостижимую связь между многочисленными лампочками на схемах и концами проводов на несобранных панелях, с одной стороны, и всеми организмами громадного цеха — с другой.
«Правда что организмами», — понравилось ему самому это сравнение, и он понял, что пришло оно на ум неспроста: такое же чувство удивления перед человеком он испытал много лет назад, еще в школе, когда увидел в учебнике физиологии мышечное строение тела и схему кровообращения. Но тогда его поразил сам человек как бесконечно сложное живое существо, теперь же он не менее был потрясен хитроумной сложностью дел человека.
Конечно, он не из тайги приехал — видывать, особенно в армии, ему кое-что приходилось, и в технике, что там ни говори, он разбирался. Но одно дело, когда что-то придумано неизвестно кем и сооружено бог знает где, а другое — когда все это рождается в твоем родном цехе и, можно сказать, у тебя на глазах.
Сухо откашлявшись, Венька снял кепку, провел тыльной стороной ладони по лбу и, косясь на ребят в ладненьких синих комбинезончиках, собиравших панели, тихо сказал Дмитрию:
— Значит, так… Допустим, где-то на трассе тетрахлорида что-то случилось или только еще хотело случиться, а тут уже лампочки и среагировали, уже тебе и замигали…
Он подумал немного, пытливо всматриваясь в стенды, и, как бы проникаясь догадкой, уверенно поправил себя:
— Хотя нет… тут главное — автоматически устранить неполадки в работе всех звеньев, чтобы, значит, без вмешательства человека. Вот конечная-то задача! Правильно я говорю, а, Дмитрий? — улыбнулся он счастливой улыбкой человека, которому открылась вдруг какая-то истина.
Потом он спросил почти без всякого перехода:
— А как вот ты, Дима, считаешь, — покосился он опять на молчаливо-сосредоточенных наладчиков, — сколько, по-твоему, нужно учиться, чтобы здесь хозяйствовать?
— Да лет пять, не меньше, — быстро глянул тот на него. — Если, конечно, у человека есть десятилетка…
— А если нету?
— Ну, тогда считай сам. Хотя для начала можно ведь и в техникуме учиться, — тут же поправился Дмитрий, словно о чем-то догадываясь.
Несколько минут Венька следил за работой наладчиков — следил с пристрастием, будто проверял их работу. Улучив момент, он вполголоса спросил крайнего из них, пальцы которого сновали меж проводов панелей увереннее, чем у остальных:
— Тебе сколько лет, а?
— Тридцать два, — не сразу ответил парень, пожав плечами.
Но в эту самую минуту, как на зло, загудел отсос у шестого хлоратора, его надрывный, как у сирены, звук, проникая в сердце, заставил даже наладчиков бросить свои панели.
Весь уйдя в этот звук, Венька машинально напялил на голову кепку и, нашаривая на груди противогазную соску и заметно бледнея, бросил на ходу своему гостю:
— Стой и жди меня здесь, а вниз не суйся!
Каблуки его тяжелых ботинок застучали по железному полу галерки, и вскоре он пропал из виду. Какие-то люди в таких же, как у Веньки, спецовках торопливо прошли в ту же сторону — и цех будто вымер. Ни души кругом.
А сирена все выла и выла, и в высоких узких окнах цеха метался ее зов.
Бондарь обрадовался ему как родному.
— Я так и знал, что ты все же надумаешь! — Крепко пожимая Веньке руку, он заглядывал ему в самые глаза. — Не прогадаешь, даю гарантию… Все будет о’кэй!
Венька пошевелил стиснутыми пальцами и вяло потянул на себя руку, с какой-то сконфуженностью оглядывая цех, прислушиваясь, принюхиваясь к нему как бы заново.
Дробно накатывал из края в край жестковатый на слух шум станков, непривычный после тихого посапывания хлораторов у них в первом. С коротким сухим лязгом кроились листы под тяжелыми челюстями ножниц — обрезки падали на кучу с колким рассыпчатым звоном. Полная молодая работница в рукавицах не спеша брала заготовку, толкала ее в смеженные валики и, пока лист загибался в цилиндр, успевала глянуть на них с Бондарем. А рядом другие станочницы нажимали свои педали: раз — и готова плиссировка шва, раз — и гофрировку на бока навели, еще разок — и донышко накрутили. А пошустрее которая была — ее поставили за штамп, выбивать пробку.
«Правда что педальная деятельность, — усмехнулся Венька. — Подсовывай заготовку да педаль нажимай. Всех и делов-то. Недаром одни девчата у станков стоят. А Бондарь ихний начальник… Хотя вон еще один мужик по цеху слоняется, не знает, бедняга, где бы ему вздремнуть малость».
— Кто это?
— Про кого ты спрашиваешь? — готовно откликнулся Бондарь. — Про этого, что ли? Да мастер наш. Он сейчас временно вместо слесаря-наладчика, вот и дуется ходит — как же, заработался в доску.
— А это… конвейер-то, — спросил Венька, отводя глаза, — когда предполагается начинать?
— Какой конвейер? А… Это скоро… Ты давай-ка сразу же подключайся. Чего тянуть-то? Баночки нам нужны под титановую краску. Позарез! — провел Бондарь ладонью по горлу. — Так что выручай. Вся надежда на тебя.
— Баночки?
— Литровые. Нам их, видишь ли, один завод поставляет. Канительно получается: то и дело сроки поставки срываются. Прямо хоть по карманам разливай эту краску, — хохотнул Бондарь, заметив, что Венька приуныл.
— Так я тебе как их наделаю… без конвейера-то? — глупо ляпнул Венька. Дался ему этот конвейер! — Кустарным способом? Так ведь я же не жестянщик.
— Что ты! Почему кустарным? В том-то и дело, что станочек надо сварганить. Чтобы донышко и крышку накручивать. А боковой шов — это мы на эллипсных роликах тиснем, как и для бочек. Да ты лучше меня знаешь — чего я тебе рассказываю! — опять хохотнул Бондарь, сделав попытку легонько приобнять Веньку.
Венька мягко повел плечом — вроде бы машинально — и рука Бондаря почти не задела его.
«Никакого конвейера тут не будет до скончания века, — подумал Венька, хмуро оглядывая цех. — Как была бабья педальная деятельность, так она и останется… Вот и влип я, кажется».
Еще совсем не поздно было повернуться и уйти. Мало ли что уже назвался. Детей ему крестить с этим Бондарем, что ли. Взять и уйти…
Но вместо этого Венька сказал со вздохом:
— Ладно, Боб. Раз надо, изобретем эту тару. Заяц трепаться не любит.
В редкие минуты что-то находило на Веньку, ему становилось жаль Зинаиду, уставшую терпеть его выходки.
— Ну чего ты киснешь, Зин? — вроде как мимоходом проводил он ладонью по ее волосам. — Веселее гляди на жизнь! Держи хвост морковочкой!
На обратном пути из комнаты в комнату он уже притормаживал возле жены и похлопывал ее по спине, а ладонь у него была мягкая, будто не бугрились на ней мозоли, и под конец он задерживал ее на плече, заглядывая Зинаиде в глаза.
Она смотрела на него не мигая, зрачки ее словно бы становились еще больше. И Венька, стесняясь себя такого, непривычно ласкового, заговаривал с нею о том, что смутно тревожило его:
— Ты представляешь, Зин… ведь накаркал же, говорю, тогда этот Бондарь. Все равно, мол, переманю в свой цех! Прямо как в воду глядел! Вот тебе и дал гарантию…
Глаза Зинаиды гасли, она ждала совсем не такого разговора.
— Так еще бы… с кем бы тогда он совершал свои прогулки по Иртышу, — сбрасывая со своего плеча Венькину руку, язвила она. — Вас же только двое на всем причале, холостых кавалеров-то.
Венька обиженно сводил к переносью брови. Вот что он никак не мог терпеть, так это подобных выпадов Зинаиды. Ну разве же она поймет мужской интерес к лодкам? С женским легкомыслием глядела на это занятие: мол, он стал пропадать на причале только потому, что Бондарь, вечно скандаливший со своей женой, то и дело норовит завихриться куда глаза глядят и тянет с собой за компанию своего персонального слесаря. Персонального… Ведь скажет же! Но хуже всего было то, что она связывала эту ежевечернюю его отлучку, когда он прямо с работы ехал на причал, с какой-то посторонней женщиной.
— Тебе, ей-богу, как нашему председателю профкома Николаю Санычу, кругом одни враждебные бабы только и мерещатся, — безнадежно махал он рукой. — Ну, была эта история с Раисой… по глупости, конечно, по молодости. Так ведь не корить же теперь человека всю жизнь за этот опрометчивый, так сказать, поступок! Да и что за разговор у нас получается? Я тебе про попа, а ты мне про попадью.
— Интересно, чем же тебе не угодил этот самый поп-то… То уж такие друзья были, прямо не разлей-вода, а теперь клянешь его: накаркал, переманил в свой цех, такой-сякой…
— При чем здесь это… угодил, не угодил. Если уж на то пошло… очень он мне был нужен, этот Бондарь, как же! Что я, сам ему навязался, что ли? Если бы не памятник Толе Симагину…
— Ну да, конечно, — снова ехидно подступалась Зинаида, — это все инспектор рыбнадзора виноват — не вовремя вздумал утонуть.
— Не утонуть, а погибнуть! — уже кипятился Венька. — Если бы не этот памятник, то как бы я, интересно, попал в пятый цех?!
И тут Зинаида отличилась.
— Ты ври, да не завирайся! — охолодила она Веньку. — Я же знаю, что ты с Ивлевым поцапался. Он всю вашу братию, всех слесарей, учиться заставляет. А ты взбрындил, видишь ли. И убежал к своему Бондарю — бочки делать.
— Этого еще не хватало!.. — задохнулся он от гнева. — Чтобы ты, у которой всего-то восемь классов, про учебу мне талдычила?! Сама небось давным-давно алфавит забыла и таблицу умножения!..
«Ну спрашивается, есть на свете справедливость или нету? — Венька скрестил на груди руки, уставившись на Зинаиду. — Это она только сейчас про учебу рассуждает, а возьмись я за книги — ведь скандалов не оберешься. Это уж как пить дать, тут же переведет языкастая супруженька на свою излюбленную тему: не иначе, мол, как все из-за какой-нибудь юбки с ума сходишь, инженерша, поди, попалась, вот и об учебе сразу размечтался, глядишь — и в академики так-то выведут…»
Зинаида молчала, и Венька, не чувствуя сопротивления, незаметно для себя уже переключался на то, о чем Зинаида не дала ему толком высказаться. Не сводя с жены укоризненного взгляда, он вызывал в памяти это другое — сначала памятник, потом Толю Симагина, а потом уже совсем невольно начал думать о том, о чем ему, в сущности, только и хотелось бы думать, — о своей лодке. Забота теперь, а как же. А тут еще новый мотор вдруг отказал…
— Это у него, скорее всего, — покачивая головой, рассуждал он вслух, — бобина барахлит. Нижняя свеча не работает.
Зинаида презрительно улыбнулась краешком губ, горько хмыкнув: дескать, другого поворота она от него и не ждала.
— Нет, точно, — словно доказывал Венька кому-то в пространство, для удобства, чтобы лишним движением не вспугнуть эту нечаянную мысль, присаживаясь на краешек тахты. — Больше там ничего не может быть. Только бобина. И ведь ты скажи! — восхищался он, как бы призывая жену в свидетели. Дернула же меня нелегкая поменять мотор!..
Какое-то время Венька сосредоточенно молчал, не то с удовольствием, не то уже и с раскаянием вспоминая, как на прошлой неделе он решил, не долго думая, судьбу лодочного «Вихря», купленного профкомом для заводских любителей. Конечно, это только так считается, что на профкомовской моторке может покататься каждый, кому захочется. Не тут-то было. Хозяин у нее только один — Николай Саныч. Как свою собственную оглаживает, глаз с нее не сводит. Поэтому-то Венька, когда Николай Саныч попросил его обкатать мотор, украдкой поменял корпус: в свой облезло-помятый обрядил новехонький профкомовский двигатель — и все шито-крыто. Хорошо получилось — и обкатывать не надо.
«Только бог-то шельму метит», — усмехнулся теперь Венька. Толком и не поездил на новом моторе — все что-нибудь да не так. И ведь на самой-то быстрине, как нарочно, то и дело подводит, а Николай Саныч, как назло, плавает без всякой заботы и не нахвалится Венькиной легкой рукой, что замечательно обкатал…
— Я ведь почему так поступил? — поделился Венька с Зинаидой. — А, думаю, за столько лет работы на заводе в одном и том же цехе, который всем цехам цех, я еще и не такой премии заслужил. Но ведь в том-то и дело, что подарок мне дадут не раньше чем я состарюсь и пойду на пенсию, а тогда он мне, может, нужен будет, как мертвому припарки. К тому же, если глубоко посмотреть в корень, — Венька уставился в пол, широко раскрыв большие серые глаза в белесых ресницах, будто и впрямь намеревался сию же минуту постичь этим взглядом какую-то вящую мудрость жизни, — то справедливость опять будет на моей стороне. — Во-первых, он сочным хлопком ладони загнул большой палец другой руки, в то же время глазами приглашая жену проследить за ходом его размышлений, — мотор мне нужен не для личных целей, а для общественных…
— Ну да, а как же, — перебила Зинаида, — небось уже всех городских баб перекатал.
— Слушай, Кустицкая… Ты говори, да не заговаривайся. Я же являюсь общественным инспектором рыбнадзора. Мне скорость нужна! Чтобы ни одна сволочь от меня не ускользнула. Это во-первых. А во-вторых, — Венька вяло шлепнул по пальцу, но взгляд у него уже был отстраненно-твердым, в прищуре, словно он говорил этим взглядом, что разговора по душам, как и всегда, у них не получилось, — а во-вторых, я бы мог тебе сказать и о председателе профкома Николае Саныче, который и на веслах-то еще не научился плавать, не то что на моторе, но ничего такого я тебе больше не скажу. Пускай будет по-твоему, будто я разных баб, как ты некультурно выражаешься, катаю на своей лодке. Конечно, если ты имеешь в виду лично себя, то это твое дело, можно и так назвать.
— Ты вроде про памятник начал да про Бондаря, — сдержанно напомнила Зинаида, потерявшая надежду, что Венька сам вернется к тому разговору, который только и был ей нужен.
— А?.. Ну, про них. Я и говорю, ты не думай, что я слабохарактерный или там на поводу у кого иду. Если только захочу, так я и лично Бондаря могу послать в одно место.
— Так за чем же дело-то стало?
Но Венька уже отошел совсем от утренней душевной расслабленности, как он называл про себя такое свое состояние, да и на работу пора было собираться, и он только покачал головой.
— Ох, Кустицкая, тебя послушать, дак… Ты за меня, что ли, газ-то потом будешь нюхать?! — теперь уже и накалялся он, зная наперед, что только криком и можно сейчас прекратить этот пустой разговор, эту напрасную трату нервов.
Хлопая дверью до звона стекол в шибках и проходя мимо окон их квартиры на первом этаже гулко топающим шагом, Венька показывал жене, до какого кипения довела она его своими глупыми упреками. Смотри и майся, с каким настроением идет человек на работу! Ну просто житья ему не стало из-за этого пятого цеха. А ведь сначала вроде бы обрадовалась: «Чистый воздух. И потери в зарплате никакой».
«Да и сам я тоже хорош, — напоследок подумал Венька, — сунул голову куда попало. Свет клином сошелся, что ли, на этом бочкотарном цехе?»
Утренний разговор с Зинаидой, затеянный им, видно, в честь ясного солнышка, целую неделю томившегося за тучами, выбил его из колеи. Прямо хоть на завод не ходи.
А тут еще Ивлев подъявился. Венька уже был за проходной, у росистого от ранней поливки цветника, когда услышал его голос.
— Постой-ка… ты куда так бежишь-то? — Ивлев заметил его, наверно, еще на автобусной остановке, а может, и в самом автобусе, но не мог протолкаться к нему, или же просто не хотел начинать разговора на людях, а теперь догонял, что-то доставая на ходу из внутреннего кармана пиджака. — Ты вроде бы так никогда не бегал к нам, в хлораторный… — натянуто пошутил он, пытаясь, как видно, обрести ровный, спокойный тон, будто между ними не было вовсе никакой ссоры.
— Да боюсь, как бы наши бочки не растащили, — неловко отшутился и Венька, вдруг слегка оробев не столько от самой этой встречи, сколько от смущенного вида Ивлева. И, замедлив шаг, пошел рядом, отодвинувшись на самый край тротуара, в то же время давая понять полуповоротом головы в сторону негаданного спутника, что, как бы там ни было, выслушать его он готов самым внимательным образом.
— Это верно, за народом глаз да глаз нужен, — улыбнулся Ивлев.
— Так ведь это кроме шуток — тащат наши бочки почем попало. Прямо не цех, а павильон бытового обслуживания.
— Я то и имею в виду, — невозмутимо согласился Ивлев. — Скоро же осень. Соленья всякие пойдут.
— Так ведь сталь-то отличная, — вроде как уже и защищался Венька, — нержавейка что надо, ей же ни черта не сделается, хоть сто лет простоит с рассолом!
— А я о чем? Да все об этом же.
Вот ведь человек! Поддел его как бы мимоходом и легко вышагивал рядом, будто для того только и окликнул, чтобы сравнить новую работу Веньки бог знает с чем.
Однако их первый и пятый цехи, стоящие друг от друга через дорогу, были уже совсем рядом, и они оба чувствовали, что на бочках, будь они неладны, останавливаться им нельзя, а то другой такой случай может и не скоро представиться.
Ну и глупое же положение… Они вроде бы и не ссорились. Просто крепко, напрямую, как и подобает мужчинам, поговорили тогда на кухне, и с тем Венька и уволился из первого цеха. Он и двух слов не сказал больше Ивлеву, только протянул заявление, мол, черкни резолюцию, и тот не удивился, не стал вдаваться в расспросы, уговаривать. Даже на двенадцать дней, как положено, решил его не задерживать. И вот теперь та обида притупилась немного, и верх брало старое чувство. Все же дружба у них была давняя, прикипели сердцем один к другому.
— Совсем забыл, — сказал Ивлев, протягивая ему стопочку белых квадратиков с заводской печатью на них. — Все никак не могу передать тебе талоны.
— Какие это еще талоны? — нахмурился Венька, хотя уже видел прекрасно, что речь шла о бесплатном, выдаваемом только работникам хлораторного цеха, молоке и кефире.
— Не знаешь, что ли? Все те же, что и раньше были, — Ивлев терпеливо держал перед Венькой раскрытую ладонь с пачкой талонов.
— Интересно… Какое я к ним имею теперь отношение! Слава богу, у нас в пятом воздух чистый, и без молочка не загнемся.
— Так-то оно так… Но мне, видишь ли, снова их дали на тебя.
— А разве эти конторщики не знают, что я уже в пятый перешел?
— Должны бы, вообще-то, знать… Как же не знают?
— Ну тогда в чем же дело?
— В талонах, я же говорю! — весело напирал Ивлев. — Я за них расписался и обязан вручить тебе. Не могу же я их бросить в мусорную корзину, сам посуди! Так что хочешь не хочешь, а пить молочко придется.
«Это же провокация, — восхитился про себя Венька. — Он делает вид, что я вроде бы никуда от них не уходил, а так просто, временно помогаю пятому цеху».
— Ты вот что, Саня, — сказал он с хмурой деловитостью. — Отнеси-ка их обратно, где взял. Пускай они там дурака не валяют.
И он замялся посреди дороги, ругая себя втихомолку самыми последними словами. Ему же, по правде говоря, не хотелось уходить от Ивлева ни с чем — так вот, толком не помирившись, не поговорив ни о чем путном. Но и стоять на месте было теперь неудобно: ведь сам же только что подвел черту, выбил из-под ног у человека, которому так же дорога была эта встреча, последнюю надежду на добрый исход.
— А ты че это осунулся? — вроде как с насмешливой снисходительностью спросил он вдруг Ивлева, ненадолго останавливая смущенный взгляд на его подгоревших, начисто утративших черноту и не таких уже разлапистых бровях. — С женой нелады, что ли?
— Да нет, все по уму… — Ивлев тоже смутился. — Ты же знаешь, мы с нею душа в душу. Тебе привет, кстати, от нее.
Венька мыкнул что-то невнятное и кивнул головой, дескать, это само собой разумеется и он, конечно, благодарит.
— Ну я пошел.
— Пока, — легко согласился Ивлев, будто расставались они теперь совсем ненадолго, и быстро, как бы между прочим, подал ему руку.
Вот этого-то момента Венька и ждал с самого начала. Он цепко ответил на пожатие, чувствуя, как суха и горяча у Ивлева ладонь.
— Ну, бывай… — И Венька раз за разом крепко тряхнул его руку, как бы молчаливо говоря ему: ну вот и все, мало ли что было между нами, как говорится, кто старое теперь помянет…
— Так я загляну к тебе к концу дня, — сказал Ивлев, стараясь хотя бы прищуром притушить в своих глазах радость. — Часикам к четырем, да?
— Конечно, заходи! — улыбнулся Венька, разряжая этой улыбкой то приятное смятение, охватившее его, какое не так часто выпадает человеку.
Он трусцой, как бы уже и впрямь торопясь, пересек дорогу и, не оглядываясь больше, скрылся за железной дверью пятого цеха.
В тихом полумраке пролета между станками, еще немыми и неуютно холодными, возле которых не было ни единой души, Венька словно запнулся и пошел совсем медленно, с неосознанной пока неохотой, исподволь полнясь знакомым тревожным чувством, наплывавшим на него все чаще и чаще.
Его глухо томило, не находя выхода, ощущение какой-то неустроенности. Он знал, что это давно с ним такое происходит, еще с тех пор, когда он работал в первом цехе. Просто он как бы привык, притерпелся к этой застарелой неявственной боли, и временами, обманывая себя, думал, что она от него отступилась.
Теперь, после встречи с Ивлевым, Венька понял, что боль эта в нем отныне будет острее, чем когда-либо прежде.
В самом начале девятого, как только собралась вся женская бригада, работавшая в одну смену, ожили станки. Сквозь дверь слесарки Венька слышал и различал любой из них — от ножниц до штампа. Все шло, как и должно было идти, и очень может быть, что его и не позовут ни разу до самого конца рабочего дня. Тем более что штампы он менял вчера вечером, теперь дня два будут выбивать из пластин не пробки, а верхние крышки с отверстиями.
Это была единственная, в сущности, работа — наладка штампов, за которую не так стыдно бывало Веньке. Тут приходилось и попотеть как следует, и немалую сноровку проявить, чтобы почувствовать по ходу пресса малейшие зазоры или прижимы, которые следовало свести на нет.
Но даже и с таким делом, по правде говоря, справился бы любой слесарь-наладчик третьего разряда, и Веньке всегда казалось, что многие видят и понимают это, но только не высказывают прямо в глаза — оттого ли, что Бондаря боятся, или самого Веньку обидеть не хотят, а может, просто стараются ни во что не вмешиваться.
И уже вовсе совестно было ему думать сейчас про остальную свою работу, какая иной раз выпадала на дню. Из-за сущего пустячка бегут к нему бабы. «Веня, шов на бочке неплотно смыкается», «Веня, гофрировка кособочит чего-то…» Подойдет он, подкрутит, где надо, или малость приотпустит, наоборот, — и опять направилось дело, и опять он торчит у себя в слесарке, не зная, к чему применить свои руки.
«Ей-богу, как заключенный, — думает Венька про себя, — так и свихнуться недолго, с работой такой…»
Коротая время, он то шампуры из титана отполирует, то корпус из плексигласа для шариковой ручки выточит. А то просто сядет на верстак и сидит, и сам не ведает в такие минуты, думает ли о чем или дремлет с открытыми глазами.
А тут еще Зинаида стала над ним потешаться… Началось с того, что разные цеховые помещения пронумеровали на случай эвакуации при пожаре, и вот для слесарки досталась восьмерка, и Зинаида, прознавшая про это, то и дело подтрунивает теперь над Венькой — полюбила, видите ли, пение, и поет все одну и ту же песню, бог знает где и когда услышанную:
Ка-амера восьма-а-ая…
Под большим замко-о-ом,
Там сидит парнишка —
Горько плачет о-о-он…
Больше всего удручало Веньку то, что в этой странной обстановке его и увидит сегодня Ивлев, будто он и впрямь проштрафился и вот дали ему самую захудалую работенку, в которой особенно стыдным было это узаконенное безделье. Только встанет на пороге — и сразу поймет.
Уж кому-кому, а Ивлеву пыль в глаза не пустишь, он тут насквозь все знает. И вся эта ухоженность слесарки, все эти полочки из нержавеющей стали, на которых в строгом порядке тускло отсвечивали в ячейках разные инструменты — и нужные, и ненужные для пятого цеха, раздобытые Венькой впрок, — кого другого еще и могут убедить, но только не Ивлева, что его работа не так проста, и что здесь у него нечто вроде дежурного помещения, какое имеется у слесарей и в первом цехе, и что то дело, на которое могут его позвать в любую минуту, возможно, столь же серьезно и опасно, как и там, в хлораторном…
Пополудни, напевая себе под нос один и тот же куплет про камеру восьмую и большой замок, Венька надумал выставить внутреннюю раму на окне и, повыдергав гвозди из косяков, снял пыльную ржавую решетку, давно мозолившую ему глаза.
За этим задельем и застал его Бондарь, заглянувший по обычаю в слесарку. Вместе с ним принесла нелегкая и председателя профкома.
Бондарь недоуменно глянул на решетку, не сразу сообразив, как видно, откуда она тут взялась.
— Пережитки прошлого ликвидирую, — ухмыльнулся Венька, сунув председателю руку, перепачканную пыльной паутиной. — Это же черт знает что! Комбинат коммунистического труда, белым по красному написано на воротах у проходной, а окна от самих же себя зарешечиваем.
Бондарь настороженно прищурился.
— Ты чего это не в духе сегодня, Комраков? — Он привык называть Веньку при посторонних только по фамилии, как бы заранее отдаляя тем самым его от себя на всякий случай.
— Будешь тут в духе…
— Ты это… штампы сменил?
— Еще вчера.
— А ролики на третьем выправил?
— Да сменил, выправил! От, господи…
— Ишь ты, какой быстрый… Чего же тогда не в духе?
Венька тоскливо поглядел на просторный, заметно раздавшийся вглубь подоконник, где в толстом слое пыли между рамами лежали матерые сизые мухи, давно угодившие в эту западню и там окочурившиеся.
«Опостылела мне эта педальная деятельность», — хотелось сказать ему прямо в глаза начальству, но он только плюнул в сердцах.
Бондарь, темнея лицом, пытался поймать Венькин взгляд.
— Ну а где же ваша баночка? — вспомнил тут председатель и, как бы пощупав пальцами воздух, раскрыл перед собой ладонь, дескать, показывайте, показывайте скорее.
— А это счас, Николай Саныч, — встрепенулся Бондарь, — он сам все и покажет, наш рационализатор…
Венька смотрел на них как на полоумных.
— Профком интересуется нашей затеей, — подмигнул ему Бондарь. — Ну насчет того, чтобы эти баночки под титановую краску не завозить из Бийска, вон откуда, а делать самим, на своей базе.
«Интересуется, так пусть идет и смотрит», — сказал Венька глазами.
— Давай-давай, покажи…
Венька хмыкнул и, надвинув кепку на глаза и сунув руки в карманы брюк, нехотя, вразвалку пошел в цех. Сзади плелись Бондарь и председатель, чувствуя себя неловко оттого, что на виду у работниц никак не могли приноровиться к такому шагу строптивого слесаря.
В пять минут, отпустив работницу, Венька заменил кое-какие детали станка и тут же, на глазах у начальства, накрутил добрый десяток баночек.
— Гляди-ка, — изумился председатель, — и впрямь не хуже бийской получается. Это сколько же мы сэкономим на этом деле? — оживленно посмотрел он на Бондаря.
Тот с именинным видом, плохо замаскированным под озабоченность, приготовился выдать арифметические выкладки, но Венька уже слышал это много раз и, громко зевнув, как бы случайно поддел одну из банок носком ботинка. С жестяным звоном она запрыгала по цеху.
— Не по уму все это, как говорит один мой кореш.
— То есть? — насторожился председатель, следя за банкой, катившейся по цементному полу.
Бондарь насупился, тяжело засопел носом.
Но как раз в это время в дверях цеха появился Ивлев. Забежал перед самым концом смены — был еще в брезентовой робе и с противогазной сумкой через плечо. Последних Венькиных слов он, конечно, не слышал, но понял, как видно, что разговор тут идет нешуточный.
— Ага-а… — протянул Бондарь. — Все ясно теперь.
— Чего тебе ясно-то? — нетерпеливо осведомился Ивлев.
— Да вот мой шеф уразумел наконец-то, — обрадовался Венька приходу Ивлева, — что на такие наши баночки рекламаций потом не оберешься. Верхняя же крышка дает зазор в этом месте, — постучал он по банке ногтем, — где боковой шов. Тут же вырез был для закрутки. Вот он и не сходится из-за нашего кустарного приспособления.
Ивлев взял из Венькиных рук банку и долго вертел ее во все стороны, а председатель с Бондарем невольно ждали теперь, что он скажет. Но Ивлев не торопился. Он поднял с пола заготовку, внимательно оглядел и ее, а под конец, осмотрев и ощупав станок, вставил заготовку меж дисков и по очереди накрутил и донышко, и крышку.
— Действительно, — сказал он с облегчением, поглаживая пальцем утолщение на стыке швов, где на первый взгляд ничего не было видно, никаких зазоров, — красочка тут потечет, это определенно.
— Да с чего ты взял-то?! — взвинтился Бондарь, выхватывая из рук Ивлева банку.
— Да все с того же самого, — невозмутимо улыбнулся тот, и Венька почувствовал, что невольно улыбается тоже.
Председатель профкома выразительно глянул на часы.
— Ну ладно… Обсудим эту баночку потом, в рабочем порядке.
И он пошел по цеху старательно бодрой походкой, зная наверняка, что его провожают взглядом. Венька заметил, что лопатки у Николая Саныча выпирали особенно сильно, больше прежнего сутуля его. Не красила человека кабинетная работа, что и говорить.
«Надо бы уж сказать ему про мотор-то, — поздно спохватился Венька. — Как бы у него гляделки на лоб полезли».
— Зря-я, ой зря, — надумал Бондарь посокрушаться. — Ты же, Вениамин, по рацпредложению за эти баночки уже получил? Получил. Так какого же, собственно говоря…
Но досадовал он как бы понарошку, не от души. Тем более что глаза его в это время неотрывно следили за Ивлевым.
— Ну что ж. Придется тебе, Веня, баночку эту доделать. Довести до ума, как любит выражаться наш общий знакомый… Но это после, конечно, после, — улыбнулся Бондарь и, пошарив у себя в карманах, кинул Веньке ключи от машины. — Держи-ка! А я пока загляну в дирекцию…
Он исчез с их глаз быстрее, нежели Венька осознал значение того факта, что ключ от личной машины начальника вдруг очутился у него на ладони и принадлежал — на какое-то время — как бы ему самому, и никому больше.
«Иди-ка ты со своим «Москвичом» знаешь куда!..» — хотел было он крикнуть вслед Бондарю, но, с одной стороны, человек уже вышел из цеха и поэтому нечего было попусту орать, пугая ни в чем не повинных работниц, а с другой стороны, отношения между ними не поздно выяснить и в какое-то другое время, почему обязательно сегодня?
— Поехали со мной, Саня? — весело предложил Венька, подкидывая на ладони ключи и с удовольствием ощущая нетяжелую их прохладность.
— Куда это, интересно?
— Да в гараж. Заправимся только — и назад. А потом на причал махнем, само собой.
Ивлеву что-то не нравилось во всем этом.
— Да мне бы домой, вообще-то, надо… — нахмурился он, хорошо представляя себе, как Венька скажет ему сейчас: «Ну как хочешь», и ему ничего не останется, как повернуться и уйти ни с чем. — Ладно, давай уж съездим! Посмотрю-ка я, какой ты шофер. Лодочник, ходят слухи, ты ничего, а вот шофер какой — это надо посмотреть.
Венька засмеялся и вприпрыжку побежал из цеха — подогнать машину, стоявшую возле административного здания.
5. ПЕРЕД СНЕГОМ
Максимыча он забрал с кордона сразу после гибели Симагина. Зинаида относилась к старику хорошо, но Максимычу было тоскливо в пустой городской квартире, он целыми днями сидел у подъезда на скамейке, и тогда Венька устроил его на заводской причал. Купил ему транзистор и привел на веревочке бродячего колченогого пса.
— Ну, теперь и помирать неохота! — говорил Максимыч, щурясь на серебрившийся под солнцем Иртыш, на который он мог отныне смотреть целыми часами.
Каждый вечер он поджидал Веньку, но в этот раз, приметив Зинаиду, сидевшую у самых ворот на травке, Максимыч озадачился: сроду не приходила в такую рань, да еще и одна, без мужа… Опять, небось, в ссоре. И старик, не окликнув ее, ушел в сторожку, и тут-то подъехал Венька.
— Нет, вы поняли, а? — изумился он, выворачивая «Москвич» с дороги прямо на свою жену. — Ты чего это приперлась в будний-то день? — высунувшись в окно, крикнул он, мягко сгоняя ее буфером с насиженного места. — Ну ты и гулена… опять, поди, прилавок бросила на свою напарницу?
— Хм, прилавок бросила… Ты почему такой-то? — пришла в себя Зинаида, прокараулившая «Москвич» из-за солнца, слегка приморившего ее на теплой, бьющей в голову мягким дурманом траве. — Ты почему никогда не выслушаешь-то сначала? Я ключ сегодня потеряла, сама не знаю, где он и выпал из сумочки… И как же, думаю, я попаду вечером домой, если Вениамин вдруг опять загуляет где-то? И если, думаю, в пятом часу его не перехватить — ну, тебя то есть — на лодочной станции, то поминай потом как звали. Завихрится опять на своей «Казанке», да еще и с ночевкой.
Венька опешил от этой дерзкой речи жены, произнесенной к тому же при его друзьях. Мельком поймав в зеркале спокойно-насмешливое выражение лица Ивлева — небось подтрунивал мысленно сразу над обоими, как и всегда, — Венька покосился на Бондаря. Этот пустобрех еле сдерживался, чтобы во всю глотку не загоготать на весь Иртыш.
Вытащив из-под сиденья моточек проволоки, Венька открутил изрядный конец, продел им связку ключей от дома и, позвякав ею на весу, кинул к ногам жены.
— Повесь себе на шею, как медальон. И носи на здоровье.
Он сдал назад, объехал не шелохнувшуюся Зинаиду и даже ни разу не обернулся, пока не завернул за угол гаража. Но когда через минуту Венька снова увидел Зинаиду, преспокойно подошедшую к самому причалу, глаза его сузились.
— Чего уж теперь прогонять ее, пускай погреется на солнышке, — вполголоса предложил Максимыч. — Места нам жалко, что ли… У них там, в промтоварном, ну и духотища же, Зина сказывала. Им за вредность воздуха надо платить, как у вас на заводе, ей-богу! — хохотнул старик, и Венька сдался.
Они с Бондарем прямо на тельняшки надели прорезиненные куртки — коробом вставшие на теле, глянцево-зеленые роканы, к которым Венька приучил и Бондаря, обычно цеплявшего на себя ярко-оранжевый спасательный жилет. «Ты заруби себе на носу, шеф, — поучал его Венька, — со мной на воде не должно быть никакого маскарада. Одежда на нас должна быть какая? Незаметная — раз, неухватистая — два!»
— Кемель-то свой забыл… — не открывая глаз, сказала Зинаида.
Венька словно не поверил, потрогал вихрастую макушку рукой.
— И правда… — смутился он. — Как же бы я без кемеля? Это же вроде как талисман у меня, — засмеявшись, сказал он Ивлеву и пошел к машине за кепкой. — Я его, этот сеструхин подарок, чуть не утопил на днях. Ты помнишь, шеф? — насмешливо глянул он на Бондаря.
— Да уж помню… — Бондарь вздохнул.
— Это когда ты ночью на скалу налетел? — спросил Максимыч.
— Ну, у Вороньего мыса. Гнался за одним хмырем, засек его с сетями и хотел срезать угол… И как меня только из лодки не выбросило… Очухался, цап за макушку, а на ней пусто!.. Меня чуть кондрашка не хватила. Что ты! Я же как к ней привык, к этой кепке.
— Я подлетаю на своем курвете, — вставил Бондарь, — фару врубил, а он склонился через борт и ладонями по воде щупает… Я уж думал: все, ухайдакал кого-то.
Бондарь посмотрел куда-то вниз по реке, как бы мысленно представив себе, сколько ему из-за Веньки довелось натерпеться страха нынешним летом, еще раз вздохнул протяжно и пошел к лодке.
— Ну что, ребята, — покосившись на жену, вслух поделился Венька, — возьмем с собой одну интересную особу, а? Есть тут одна на примете…
У Зины, сидевшей на травке лицом к солнцу, дрогнули веки, но глаза остались закрытыми.
— Возьми, конечно, — сказал Максимыч. — Какой может быть разговор?
— Только я ведь кланяться долго не буду, — как бы самому себе напомнил Венька.
— А тебя никто и не заставляет, — сказала Зина и переменила позу, умащиваясь поудобнее, будто собиралась загорать здесь до скончания века.
Бондарь уже отъехал на своем «Прогрессе» и, развернувшись носом на течение, ждал их, гоняя мотор на малых оборотах. Венька раскачивался, хрупая на прибрежной гальке своими бахилами, и очень терпеливо улыбался. И вдруг подскочил к Зинаиде, обхватил ее сзади за колени и, не укрываясь от ее легких шлепков, понес в лодку.
В это время подъехал на «Волге» Николай Саныч.
— Гляди-ка, гляди-ка… — донельзя удивленный столь необычной Венькиной игривостью, сказал Максимыч. — Это ведь он с жинкой своей балует, не с посторонней, прямо как молодожен какой! — тронул старик за рукав председателя профкома.
— Она у него симпапуля…
Венька усадил Зинаиду в лодку и, упираясь в килевой угольник, с резким тугим скрежетом спихивая ее в воду, крикнул Ивлеву:
— Прыгай, Саня! Чего остолбенел?
На быстрине Венька завел мотор и выправил «Казанку», радостно чувствуя, как мелко, учащенно бьется у него в руке руль. Именно этот момент он любил больше всего: стоит нажать кнопку — и лодка рванется вперед, обдавая прохладными брызгами.
Выждав еще самую малость, когда лодка оказалась рядом с косо выступавшей отмелью, Венька включил скорость и мягко провернул послушную рукоятку. Разом отодвинулся назад вскипевший бурун, лицо освежило невидимой водяной пылью, и лодка невесомо вышла на глиссер.
Венька засмеялся и, перекрывая грохот, хрипловато прокричал:
— Не мотор, а зверь, ты слышишь, как он поет, Саня?.. Это я обратно свой забрал. А новый втихаря вернул Николаю Санычу, пускай на нем чухается!
Венька сделал вираж на полном газу. Лодка круто разрезала свою же волну и, словно пытаясь взлететь на воздух, устремилась прямо на берег. В нескольких метрах от него, когда уже казалось, что они неминуемо врежутся в причал, Венька резко заложил руль, падая грудью на противоположный от берега борт. Приосевшая носом лодка, на секунду обнажая из воды винт, вхолостую прокрутившийся с надрывным ревом, рванулась вперед, оставив после себя крупную разгонистую зябь, сочно зашлепавшую о днища прикольных лодок.
— Ты гляди-ка, как он расходился, а? — восхищенно сетовал Максимыч. — Сроду такого цирка не позволял себе…
— Николай Саныч! — прокричал Венька, заходя на второй круг. — Давай наперегонки! Я на старом моторе и с пассажирами, а ты на новом, в одиночку. Давай?
Председатель профкома, крякнув, оглянулся — не слышал ли кто-нибудь еще, кроме ухмылявшегося Максимыча, — и укоризненно посмотрел на Веньку. Тот покуролесил еще немного и устремился вниз по течению. Бондарь тоже развернулся, пересек продольные волны и вышел в их пенный след.
— Ну и балаболка же ты, однако, — беззлобно сказала Зинаида, кутаясь в кусок брезента.
— Это у меня бывает, — простодушно сознался Венька. — От избытка чувств, как говорится.
Он перемигнулся с Ивлевым и надолго замолчал. Теперь только грохот мотора стоял в ушах и давил на перепонки. В этом реве, казалось, объявшем все вокруг, как-то неестественно плавно надвигались на них берега и так же неспешно отходили опять вдаль. Только город, со всеми его трубами, долго шел с ними рядом, но сразу за понтонным мостом, где река поворачивала к западу, как бы переместился вправо и стал отставать, уменьшаться на глазах, и чем дальше они уплывали от него, тем все более наливалось сизой темнотой небо над ним.
«Век бы туда не возвращаться», — по привычке подумал Венька, зная заранее, что этой его мысли хватит ненадолго, что без города ему так же теперь не жить, как и без этой реки, с ее потаенной глубиной и вечностью, без этих берегов, каждое место которых было на свой лад, на особицу.
Он любил эти минуты, когда ехал бездумно вперед и, краем глаза отмечая мелькавшие мимо бакены, лодки и суда, разглядывал далеко берега, державшие на себе чью-то чужую жизнь. То свежим сеном, то стерней, а то и близким пожарищем пахли они, в клубах пыли катили куда-то мотоциклы, с великой терпеливостью маячили в протоках, где густо зеленел осокой кочкарник, темные фигуры оцепеневших рыбаков с удочками, а вдоль кучерявого тальника отрешенно стояло в воде, спасаясь от овода, стадо коров, провожавших лодку немигающими глазами, в которых отражалось извечное недоумение всякого живого перед миром. А к вечеру ложились на притихшую, с глянцевым блеском воду оранжево-розовые отсветы закатного неба, и бурун за лодкой как бы вырастал, становясь кипенно-белым.
Но в каком-то месте вдруг нападало на Веньку желание поскорее пристать к берегу, разбить палатку и развести огонь из сухого плавника, и тогда огненные переплески на воде протягивались к середине реки и дальше, слизывая отраженные в ней звезды, а в прохладном, пахнущем мокрой травой воздухе настаивались горьковато-отрадные запахи костра…
— Ну, как, а? — близко наклонясь к Зинаиде и заглядывая ей в лицо, спросил Венька и, не дожидаясь ответа, счастливо улыбнулся и тихо, вполголоса запел, будто для самого себя только:
Ка-а-амера восьма-а-ая
Под большим замко-о-ом…
И вдруг он услышал, как Ивлев и Зинаида, словно сговорившись, ладно вступили, вторя ему двумя голосами:
Там сидел парнишка —
Горько плакал о-о-он…
Слова не улетали дальше лодки, их сбивал плотный шум мотора, но Бондарь, шедший поодаль, догадался как-то, что они поют, и, догнав их и почти сцепив лодки бортами, хотел было тоже пристроиться, но слов, как видно, не знал и умолк, растерянно глядя на Веньку.
Дисковые зажимы для закрутки баночек Венька разобрал и выкинул накануне ухода Бондаря в отпуск.
Испытания показали, что баночки протекали в боковом шве, но Венька наотрез отказался доводить свое изобретение до конца.
— Знаешь что! — сказал он Бондарю. — Я тут с тобой совсем потерял себя, кругом одни бочки да баночки, как у лавочников… У меня от такой работы кисть мозжит хуже чем от безделья.
Бондарь не растерялся, калач тертый.
— А как же с твоим рацпредложением быть, Веня? — вкрадчиво спросил он.
— С моим? Это не мое рацпредложение, а твое! Ты ходил оформлять, а не я. И в профкоме с
этой баночкой носишься, как дурень с писаной торбой.
Бондарь оглянулся, не слышат ли их работницы.
— Но деньги-то, Веня… ты получал, а не я.
Венька удивленно округлил глаза. Они же вместе оставили эти проклятые деньги в ресторане «Иртыш»!
— Ну, раз такое дело, — усмехнулся он, — пускай из моей зарплаты высчитают. Зато совесть будет чистой.
— Нет, не будет, — закрыв глаза, вроде как печально покачал головой Бондарь. — Рабочая твоя совесть, Веня, чистой не будет, даже если ты и откупишься. Главное — это производственные интересы. Заводу позарез нужны баночки. Тут и доводить-то осталось… только руки приложить. А ты, видишь ли, не хочешь.
— Правильно. Не хочу.
— Ну что ж, — вздохнул Бондарь, — значит, так тому и быть…
Ему давно уже, по правде говоря, надоели Венькины чудачества. То спиртного в рот не разрешает брать, даже если мотаются по реке без сна и отдыха двое суток. То от конфискованной рыбы отказывается — даже на уху не дает, хотя адская жара стоит, и вся рыба, пока ее довезут до рыбинспекции, все равно протухает. А уж про технику и говорить не приходится — взял привычку заставлять его, своего начальника, копаться в лодочном моторе, чтобы полезный навык был. Нет, не такого напарника мечтал он получить, когда сманивал Веньку в свой цех.
— Придется, видимо, — решил Бондарь, — искать тебе замену. Свято место пусто не бывает!
В тот же день он привел в пятый цех нового слесаря-наладчика. Венька глянул на него и остолбенел: перед ним стоял Торпедный Катер и приветливо так улыбался будто лучшему другу.
— Нет, это уже чересчур… — заиграли у Веньки желваки на скулах. — Ты что, шутишь, Боб?
— Здесь я решаю, а не ты, — как бы вскользь заметил Бондарь. — Это такой же слесарь, ничем не хуже тебя. Кстати, тоже из первого цеха. Ты думаешь, Веня, только тебе надоело газ нюхать? Да они бы все разбежались, все твои аварийщики во главе с Ивлевым, только дай им хорошую зарплату.
— Ты Ивлева не трогай, не тебе чета!
— Ну еще бы! Вы же с ним одного поля ягоды. Подвижники, творцы крылатого металла. Без вас и заводу не быть, как же…
А Торпедный Катер стоял и как ни в чем не бывало улыбался, поблескивая железными зубами. Прямо как наваждение!
«Нет уж, черта с два!» — скрипнул зубами Венька.
Именно такая замена никак не устраивала его, хотя, казалось бы, ему должно быть все равно. Одна только мысль, что в его каморке под номером восемь, с ухоженными стеллажами для инструментов будет отныне находиться тот, кого он выслеживал все лето, приводила его в бешенство.
— Ладно, давай так, — Венька отозвал Бондаря в сторону. — Ты когда уходишь в отпуск-то? На той неделе? Ну и уходи с богом. На юг, поди, полетишь, в Сочи? Во, отдохни как следует, сил наберись. А я тем временем с баночками разделаюсь… Надо, конечно, куда денешься! Заяц трепаться не любит.
Он толком не знал, что будет с ним не только через месяц, но даже через день. А у Бондаря мелькнула догадка: сломался Венька, теперь про свой гонор забудет и станет послушным. Знай, сверчок, свой шесток.
— Лады, согласен, — с грубоватой снисходительностью сказал Бондарь и одной рукой на ходу похлопал по спине Веньку, а другой обнял за плечи Торпедного Катера, уводя его из цеха.
Венька зябко повел спиной, но смолчал, набираясь терпения.
Миновал месяц.
В один из осенних дней, когда Бондарь вернулся из отпуска, Венька решил сплавать в последний раз по нижним протокам, где стоял памятник Толе Симагину.
— Давай с нами, — предложил он Ивлеву.
— С вами — это с кем же еще, кроме тебя?
— А с Бондарем.
— Так ведь ты же говорил, — возмутился Ивлев, — что теперь презираешь этого прохиндея!
— Мало ли что… — уклончиво ответил Венька. — Все же он какой-никакой, а внештатный инспектор. С удостоверением. Тоже сам выхлопотал ему. Для солидности, думал…
Ивлев понял, что Венька что-то задумал. В последнее время, пока Бондарь был на юге, Ивлев принавадился плавать вместе с Венькой и незаметно для себя стал участником налетов на браконьерские лодки. Однажды, когда ездили сдавать в инспекцию конфискованные сети, Сашке тоже выдали удостоверение. Правда, через неделю, после нелепого случая, Ивлев лишился этого мандата с красными корочками, при виде которого сходили с лица матерые мужики. Смех и грех, если вспомнить-то, как это все произошло.
…Сашка вздумал заступиться за хилого бельмастого старичка, которого они застукали прямо у сети. Там и сетенка-то была — одно название. Пяток сорожек трепыхались в ячейках, когда Венька смотал ее и бросил в свою лодку. Старик виновато шмыгал носом, но когда Венька стал снимать и мотор с его «Казанки», старик взмолился: «Не губи, сынок! Где я другой раздобуду?» «А тебе и не нужен другой, — отрезал Венька, — потому как ты злостный браконьер». «Да какой же я злостный? Три-четыре сорожинки на уху старухе…» «А в прошлый раз? — взвился Венька. — Я же у тебя капроновую сеть забрал, восьмерочную! На сазана ставил, на ценную рыбу. Тоже на уху старухе? Я тебя честно предупреждал: попадешься еще раз — отберу мотор, пеняй на себя!»
Старик заплакал. Поймав сочувственный взгляд Ивлева, стал жаловаться на судьбу: в трех войнах участвовал, Георгиевский крест и медаль «За отвагу» имею, но в таком позорном плену, чтобы вернуться домой без мотора, еще сроду не оказывался. Дело дошло до того, что устав подмигивать Веньке, дескать, отпусти ты старика, Сашка открыто напустился на него: «Оставь человека в покое, иначе я тебе не попутчик». «Ах, не попутчик?! — взбеленился и Венька. — Тогда немедленно сдай удостоверение внештатного инспектора и пересаживайся к этому ушлому разбойнику». Ивлев, на беду свою, так и сделал. Перебросил в лодку старика сеть с рыбой и уплыл с ним вниз по реке — решил добраться до первой деревни, чтобы уехать в город на автобусе, — но, как бывает раз в кои веки, по пути их задержал какой-то штатный инспектор соседней области и, тоже пожалев старика, выписал штраф на одного Ивлева.
Уж и пореготали над ним ребята, когда эта история стала известна на комбинате. «Штраф-то уплатил?» — как ни в чем не бывало поинтересовался Венька, встретив Ивлева у проходной. «А как же! Закон есть закон, — невозмутимо ответил Сашка. — Учить надо нашего брата». «Неужели? Ты так думаешь?» «А ты разве иначе полагаешь?» — улыбнулся Ивлев, и Венька невольно улыбнулся тоже.
И вот теперь он заявил, что возьмет с собой в инспекционное плавание не только Сашку, но и Бондаря.
— Что ты затеял, Вениамин?
— Да ничего особенного! Ну, вроде закрытия сезона, что ли… Пока лед не встал.
Они решили подождать Бондаря у его «Москвича», стоявшего за оградой. Начальник пятого цеха, загорелый и улыбчивый, вышел из административного корпуса почти тотчас же, словно увидел их в окно и заспешил навстречу. Как всегда с настороженной пытливостью заглядывая в глаза Ивлеву, особенно когда рядом с ним оказывался Венька, Бондарь, поежившись, сказал:
— Ну и погодка тут у вас… Просто не верится, что еще вчера утром я купался в Черном море. — Он свойски подмигнул Веньке и пропел:
Эх, ча-айка, черноморская чайка,
Белокрылая чайка,
Моя мечта!..
— Ну что, братцы, — прервав песню, предложил Бондарь, — скинемся по рваному в честь встречи?
Венька будто не понял намека. Сдерживая себя, он тоже свойски улыбнулся Бондарю:
— Чайки — они и на Иртыше есть. Мы вот с Саней как раз собирались…
— Да ну его на фиг, Иртыш! Это уж теперь до весны, братцы, — махнул рукой Бондарь.
— Вот те раз! А как же насчет закрытия сезона? Мы же еще в августе планировали с тобой, что самыми последними поставим свои лодки на прикол.
Бондарь, сдвинув шляпу на лоб, почесал затылок. Ему хотелось выпить, но денег, видимо, после отпуска не было. А тут — закрытие сезона, это уж пусть Венька сам раскошеливается, его затея, не чья-нибудь.
Собрались быстро.
Поле за автостанцией было нетронуто белым. Нигде не видно даже собачьих следов, и Бондарь, оставивший машину дома, грузновато раскатывался на траве, покрытой снегом, и вслух завидовал той собаке, которую добрый хозяин держит дома в тепле.
— Буря назревает, братцы, — мрачно пророчил он, таращась на мутное низкое небо, набрякшее до косматой огрузлости. — Поверьте моей интуиции! Давайте прямо на причале и закроем сезон…
— Только после того, как поймаем хоть одного браконьера.
— Господи, Веня! Какие теперь могут быть браконьеры?! Все на печках сидят да у телевизоров. Мы же нагнали на них страху за это лето на весь остаток жизни.
Боявшийся шалой осенней воды, начальник пятого цеха как бы исподволь склонял ребят к тому, чтобы отказаться от этого позднего плавания, но Венька оставался непреклонен.
Причал встретил их какой-то нежилой тишиной. Ни души на берегу! Венька удивился тому, что Трезор не облаял их, как обычно. Встревоженно вглядываясь в окна сторожки, Венька прямиком направился было к двери, но Бондарь остановил его.
— Гиблое дело, братцы! Приякорились. Я же еще в сентябре свой курвет из воды вытащил. Мы его теперь, втроем-то, не спихнем в воду ни фига. На нем одного льда, глядите, сколько. Снежок-то подтаивает, а ночью подмерзает, прямо как на севере, оледенение, да и только! — восхитился Бондарь, уверенный, что плавание не состоится.
— На льдине поплывешь. С песней про чайку…
Венька повернул назад, с ходу уперся в крутой нос тяжелой лодки, напрягся, раскорячиваясь и оскальзываясь на снегу, и сипло выдохнул:
— Чего стоите?
Примерзшие к доскам настила борта цепко держали махину на месте. Венька забористо выругался, низко присел, вцепился в замковую петлю на носу лодки и, наливаясь кровью, дернул ее вверх, страгивая с места. По оледенелым доскам дюралевая посудина ползком съехала на землю с острым и резким верещанием, а дальше, по заснеженной мокрой траве, уже перевернутая днищем книзу, заскользила к воде почти сама.
— Вот тебе и курвет твой готов, — усмехнулся Венька, утирая взмокший лоб и щеки, с которых уже отлила кровь. Он не любил эту тяжелую, около четырехсот килограммов весом, посудину своего шефа — прогулочный катер «Прогресс» с таким же мотором «Вихрь», что стоял и на его, Венькиной, «Казанке». Катер не был рассчитан для погони за быстрыми лодками браконьеров, и Венька всегда страдал при мысли, что вынужден брать с собой эту обузу.
Они споро управились с поклажей и какое-то малое время без дела толклись на берегу, как бы собираясь с мыслями, прикидывая про себя, не забыли ли чего важного, да и просто уступая, как видно, неосознанной потребности напоследок ощутить под ногами землю, почувствовать незыбкую ее надежность, которой не будет хватать на воде. И когда уже столкнули было лодки, раздробившие у самой кромки ледовый припай, из избушки пришел Максимыч в старенькой, накинутой на плечи шубейке.
— А мой-то, кобелина колченогий, — ругнул он собаку, — в спячку ударился. Ведь ни разу не тявкнул на вас, оглоед бессовестный. И я тоже хорош — завалился на топчан и полеживаю, как байбак…
Они переглянулись и молча, не сговариваясь, поднялись на обрыв.
Глаза у старика, отметил про себя Венька, за эту неделю запали в орбитах. А зима-то еще и не началась. Это разве зима — так себе, первая проба. Большого тепла, правда, уже не будет, но снег этот еще растает, черно развезет дороги и отстанут на короткое время припаи — уплывут по реке, дробно отсвечивая на перекатах.
— Удружил я тебе, да, Максимыч? — виновато спросил Венька.
— А че такое?
— Та-а… че! Знаешь, поди, че… Чихвостишь небось втихомолку, что я сманил тебя сюда.
Старик засмущался.
— Да брось ты об этом думать, Вениамин. Чего мне тут еще не хватает? И сыт, и в тепле. И зарплата идет, — он щербато улыбнулся.
— Ты знаешь что… — Венька задумался. — Давай-ка переезжай ко мне. Все равно квартира пустует. Мы же весь день на работе с Зинаидой. А вечером все вместе телевизор будем смотреть, а? — оживился он.
Старик вздохнул и покачал головой.
— Куда уж мне теперь… А вы далеко ли собрались? — плутовато сменил он разговор. — Поди, под маркой ловли браконьера, — это он явно Зинаиду копировал, — опять поехали чужих баб катать?
— Да вот решили еще раз попробовать проверить протоки, — улыбнулся Венька. — Охотка-то, как говорится, пуще неволи.
— Да уж это так, — подтвердил старик. — Как что в голову придет… А приемничек твой, Веня, у меня, считай, не умолкает, — вспомнил он, — на ночь разве что и выключаю. А так, весь день — то песни, то речи. Будто не один в домике-то. Может, чайку перед дорожкой попьете? По чашечке, а?
«Ну и скотина же я, — ругнул себя Венька, — окончательно помешался с этой рекой… Ведь так бы и уплыл, не повидавшись».
— От чая у меня лично уши опухают, Егор Максимыч, — вяло сказал Бондарь. — А чего покрепче — это наш капитан решает, когда давать, а когда нет, — ухмыльнулся он, как бы показывая свое снисходительное отношение к чудачествам Веньки. — Браконьер, говорит, должен видеть в нашем лице образец честного советского лодочника, любителя природы и вообще живого мира. Я вот даже побрился перед дорогой.
Старик оглядел их всех троих.
— Вы-то, гляжу, — сказал он Бондарю и Ивлеву, — подсобрались… куда с добром! Ишь как наснизнились: и полушубки себе раздобыли, и шапки пушистые, прямо как из магазина. А Вениамин-то у вас ведь замерзнет, — как бы укорил он их, жалея Веньку взглядом.
— А вот вы с ним сами и поговорите, Егор Максимыч, — подсказал Ивлев. — Облачился в свой рокан и думает, что так и надо.
— У меня же под ним фуфайка, чудак ты! — смутился Венька от такой непривычной заботливости. — Меня же ни одним ветром не прохватит!
— Ага, еще и кепочкой потом прикроешься, — язвительно согласился Сашка.
— А чем тебе не нравится мой кемель? — отшутился Венька, кособоча помятый козырек набекрень. — Из классного драпа, между прочим.
— Был из классного.
— Это уж да-а, — весело мотнув головой, засмеялся Венька.
— А этого-то, — тихо промолвил старик, насмешливо глядя в спину Бондаря, — какая нечистая из дому тянет? Прямо ни на шаг от тебя. Скажи, каким матросом заделался!
— Да пусть плывет, жалко, что ли.
— Уж и курвет у него… Все отстает, поди? Не блудит по протокам-то?
— Так мы же поджидаем.
Старик понимающе кивнул, — ты-то, мол, не бросишь, чего тут зря говорить. Поддернув за полы сползавший с плеч полушубок, задумчиво потрогал давно не бритые свои щеки, редко поросшие сивой щетиной. Перехватывая Венькин взгляд, всмотрелся вдруг в самые его зрачки.
— Слушай, Веня, чего я спрошу… А если бы ты, к примеру, уже поймал того субчика, за которым гоняешься… то уж сегодня-то, в такую погибель, — перевел он взгляд на недобро косматившееся небо, — поди, и не поплыл бы никуда, а?
Венька пожал плечами.
— Поплыл бы, наверное. Все равно.
— За другими гоняться?
— Ну, за другими. Если б попались, конечно.
— А если бы знал, что не попадутся, что нету сегодня на реке ни единого человека?
В глазах Максимыча заметно посветлело, и Венька тут же простил старику это его любопытство, разбередившее ему душу, потому что не раз и не два уже думал об этом сам — о смысле всего того, что он делал, во что верил и к чему стремился.
— Наверно, все равно бы поплыл, — сказал он старику, отворачиваясь, как бы давая тем самым ему возможность осуждать его прямо на месте.
Старик потупился.
— Да-а… — протянул он. — Иной раз смотришь и думаешь: «Ведь все вроде есть у человека — и молодость, и сила, и достаток… А чего он тогда беспокоится, мечется, стремится еще к чему-то?»
Венька молчал, нетерпеливо поглядывая на гребешки волн, которые уже потеребливал поднимающийся ветер.
— Ну, плыви с богом, — со вздохом сказал старик. Он снял с себя матерчатую шапку и латаную шубейку и, смущая до слез Веньку, попробовал всунуть ему в руки. — Бери-бери, а то обижусь. Я-то в тепле тут. Да и телогрейка на худой конец есть.
— Да что ты, Максимыч! Все в порядке! — Венька порывисто приобнял старика за худые плечи и быстро сбежал с берега.
Они уже сидели в лодках, веслами проталкиваясь сквозь припай, а старик все еще стоял на обрыве — в одной рубашонке, неровно заправленной в штаны. Шубейку он держал в руках, все еще, видимо, жалея, как бы не прогадал этот парень, бездумно-нерасчетливый по молодости.
— Ты иди, иди, Максимыч! — крикнул Венька. — А то застудишься, чего доброго.
Старик согласно кивнул, а сам нагнулся и, по-прежнему глядя им вслед, стал гладить ушастую, вздрагивающую на ветру собаку.
Как никогда прежде, Веньку вдруг охватило странное состояние, слова Максимыча запали ему в сердце, угодив в самое больное место. «Ведь все вроде есть у человека, — как бы случайно обронил старик, — и молодость, и сила, и достаток… А чего он тогда беспокоится, мечется, стремится еще к чему-то?»
Лодки шли по Иртышу одна за другой. Бондарь опять отстал на своем «Прогрессе», и Венька, уступив место у руля Ивлеву, горбился на носу лодки, развернувшись боком так, чтобы и вперед-то поглядывать, и курвет шефа из виду не упускать. Под рев мотора, будто уносивший его, Веньку, в недавнее прошлое, он вспоминал, как еще нынешней весной ему казалось, что все в его жизни идет с налаженным постоянством, не хуже комбинатовской «шестерки», которая ходила почти минута в минуту, по заведенному раз и навсегда расписанию. Одно и то же повторялось у него каждый день. Сразу после работы он торопился домой, включал телевизор, что-нибудь жевал всухомятку, дожидаясь Зинаиду, и, вяло потом поужинав и перебросившись с нею словом-другим, тотчас засыпал, покоряясь вынужденной привычке рано ложиться в постель, чтобы чуть свет бежать на первый автобус, которым добирался до завода без всякой давки, чего просто не мог терпеть.
Он так втянулся в этот замкнутый круг, что не знал, куда девать себя в выходные дни, и мучительно пережидал это пустое время, чтобы снова бежать на завод. В какой-то момент ему стало уже казаться, что торопится он в свой цех вовсе не из-за транспорта — его манила вчерашняя неоконченность чего-то дельного и стоящего, которая требовала от него той особой сноровки и смекалки, какая не часто проявлялась в других. Он поэтому ждал тех дней, когда в цехе случалось какое-нибудь чепе. Мысленно совестясь этого своего желания, за которым нередко могли стоять и чьи-то судьбы, трезво считая его несовместимым с той аварийной работой, для которой и была предназначена их бригада слесарей, Венька тем не менее уже определенно знал, что в такие дни он будет исподволь полниться ощущением собственной значимости, незаменимости его в каком-то конкретном деле. Это ожидание такого его состояния уже заранее будоражило Веньку, настраивая на четкий ритм и как бы на особую чистоту жизни, и если что-то и принято называть счастьем, то вот это его состояние им и было.
Однако весной он вдруг ощутил, что на одних чепе далеко не уедешь. И чем длиннее становились между ними паузы, тем все более тягостной оказывалась для Веньки его служба в аварийной бригаде. Разная мелкая работа, конечно, не переводилась, но уже сама мысль, что с этим попутным, случайным делом, которым их загружали как бы для того только, чтобы они не обленели совсем, может вполне справиться слесарь-наладчик и более низкого разряда, приводила Веньку в бешенство.
Как раз в это время и подвернулся ему Бондарь. Напел он ему тогда много — Венька знал только уши развешивал. И ведь соблазнил-таки его Бондарь! «Где наша не пропадала!» — подхлестнул тогда себя Венька, втайне радуясь этому хоть и малому, но все же новому в своей жизни.
Почти полгода он отдал проклятым бочкам. Ох, и осточертели же они ему: и гофрированные, и гладкобокие, и громадные, и маленькие — под титановую краску, его, так сказать, детище. Век бы их не бывало!
Спасла Веньку старикова лодка. После смены, когда солнце висело еще высоко, он стал ездить прямо с завода на причал, как другие бегают в детсад за ребятишками. Первым делом, прежде чем открыть кабинку с мотором, он спускался на галечниковую отмель и, перепрыгивая через причальные цепи, тянувшиеся от воды к самому обрыву, вдоль которого была протянута по земле проволока, высматривал свою лодку. Каждый раз ее сдвигали то в одну сторону, то в другую. Днем на причале хозяйничали отпускники, не знавшие привычки ставить свои лодки на одно и то же место, — приткнутся, где случится, и довольны. К тому же часто сбрасывала воду ГЭС над городом, и тогда вода поднималась до метра, притопляя галечник, и подбиваемые волной теплоходов лодки скользили на цепях вдоль берега, пока крайняя не натягивалась у конца проволоки. Еще издали, среди многих таких же свинцово-серых, Венька безошибочно узнавал свою «Казанку». Вспрыгнет на нос, посидит немного, спустив босые ноги в реку, — и уже хорошо на душе, уже можно и делом заняться. Все собирался последнее время заново покрасить ее, да что-то удерживало — вдруг жалко становилось каждую царапинку на ней, которая хранила в себе какую-нибудь свою тайну.
Повидала свое лодка, довелось на ней поплавать по всем верхним и нижним протокам, со скрежетом надраивая днище на косах и перекатах. В ночное время поцарапало корягами краску и выше ватерлинии, а однажды, когда гнался в темноте за браконьерами, налетел у Вороньего мыса на подводную скалу. Не вылетел из лодки только потому, что с первого же дня приучил себя цепко держаться правой рукой за бортовую ручку, довел эту привычку до полной машинальности — тихо ли ехал или вовсе стоял на месте, а правая кисть всегда была сжата так, что поначалу немели пальцы. Усидеть-то усидел в тот раз, только кепка с головы слетела да корпусом мотора садануло в поясницу, но дюралевый килевой угольник лодки прогнуло внутрь, словно какой-нибудь ржавый тазик. Пришлось выправлять и усиливать корпус дополнительным угольником — из хорошей номерной стали. Вид у нее стал уже не весенний, но тем крепче верил Венька в свою лодку.
Просто страшно было думать, что делал бы он летом без нее. Однако после реки, после плавания по ночным протокам, где Венька чувствовал в любую минуту свою волю и умение, ему стало еще тяжелее возвращаться туда, где он занимался не тем, чем хотелось бы, — на завод. Испытанное им в лодке полное чувство собственного достоинства, когда он сам себе был хозяином, как-то исподволь заставляло его теперь иначе думать и о своей работе — ему бы хотелось такой же самостоятельности, смелости и незаменимости там, в цехах, чтобы самые главные восемь часов своей жизни — а с дорогой и того больше — чувствовать себя так же легко и счастливо, как в лодке или на причале.
«Но ведь не штатным же инспектором или бакенщиком мне работать, в самом-то деле! — насмешливо говорил себе Венька, а вскоре, в один прекрасный момент, он вдруг с удивлением заметил, что и в лодку садится уже без прежней охоты, а как бы по привычке. — Скажи мне сейчас кто-нибудь, — подумал он тогда, — что такое вот плавание на лодке и будет моей основной работой, причем хорошо оплачиваемой, уж лучше сразу тогда головой в омут, чем такую вести жизнь…»
Между тем с Бондарем, приотставшим от них на добрых полмили, что-то стряслось — он раз за разом выстрелил в воздух. Самый звук невесомо пропал в пустом просторе, в котором студеная затаенность блеклого неба незаметно сменялась широким неявственным звуком, падавшим от приникших к земле туч. Венька чудом углядел в этой тяжелой мглистости два вспухших белых облачка, оставшихся от дымного пороха, и молча отмахнул рукой Сашке, чтобы сбросил газ, а сам уже поднялся в лодке и нетерпеливо вглядывался туда, где ходил по реке кругами катерок Бондаря.
— Чего он там опять? — спросил Сашка, не упустивший момента оттенить эту заминку в том смысле, что с этим непутевым Венькиным шефом у них вечно такая история.
— Да на месте чего-то кружит. Поди, опять рулевые тросики соскочили. Ну курвет этот… — Венька выругался и, шагнув к корме, знаком велел Ивлеву подвинуться от руля. Они частенько так делали, когда им нужно было особенно быстро плыть — тесно прижавшись плечами, оба садились в рядок на коротенькой узкой скамейке у мотора, и лодка почти сразу выходила на глиссер, шла с высоким, вздыбленным над водой носом.
Когда Бондарь заметил, что ребята возвращаются, он тут же направил свой катер в неширокую протоку справа, у входа в которую и кружил.
— Ты понял? — усмехнулся Венька. — Кого это он там узрел, а? Вот тебе и капитан курвета…
— Да никого там нет, померещилось ему, — отмахнулся Сашка. — Мы же проплывали, глядели.
Но протока была уже рядом, они влетели в нее на полном ходу, и Сашка, не умея скрыть смущение в голосе, только и сказал:
— Ты гляди-ка: и правда!
Посреди протоки, делавшей здесь крутой поворот к Иртышу, тихо сплывала книзу лодка, которую стало видно лишь от основного русла. У мотора возился мужик в кожушке, бестолково рвал на себя шнур стартера, будто вовсе не замечая никого вокруг. А Бондарь остановил свой катер метрах в двадцати выше и не просто отсек путь к отступлению этого невезучего лодочника — над чем Венька с Ивлевым уже готовы были и посмеяться вволю, — он с деловитой озабоченностью склонился над водой, пробуя поддеть веслом притонувшие поплавки сети.
— Ты понял, а? — присвистнул теперь Сашка, уже и жалея, как видно, что это не он первый наткнулся на браконьера, с бесстыдной ловкостью орудовавшего прямо под самым городом. — Ай да капитан курвета!
— Придержите-ка мне этого типа, я сейчас, — как бы дал указание Бондарь, подцепив, наконец, верхнюю бечеву сети. Весь решительный вид его красноречиво говорил, что он сам намерен разделаться с браконьером, это его законная добыча, и Венька с Ивлевым призываются разве что в понятые. Теперь он торопился, чтобы его не опередили и не начали составлять акт без него. Коротко чиркнув ножом по шпагату, Бондарь бросил в воду грузило и, вместо того, чтобы выбирать сеть прямо в лодку, стал наматывать ее на локоть, как бельевую веревку. Рукав белого армейского полушубка потемнел от воды, она стекала уже по полам, и Венька, чуть придерживая свободной рукой лодку браконьера, по-прежнему с непостижимой отрешенностью возившегося с мотором, отпустил на мгновение рукоятку руля и покрутил пальцем у своего виска — ты посмотри, мол, Саня, что он там вытворяет!
— Вот болван-то! — прошипел Венька в сторону, и, толкнув ногой Ивлева, решившего было пересесть на всякий случай в лодку браконьера, указал ему глазами на обмылок в боковом отсеке: — Дай-ка сюда…
Увесистый кусок хозяйственного мыла, запущенный Венькой, угодил Бондарю прямо по спине. Тот свирепо глянул сначала на браконьера, но мужик стоял как ни в чем не бывало все в той же позе — склонившись над мотором, пряча за опущенными ушами треуха свое лицо, и Бондарь только тогда догадался, что произошло, когда увидел, что Венька буравит свой висок пальцем и смотрит на него испепеляющим взглядом.
— Я думаю так, Борис Дмитриевич, — сказал Венька, — что гражданин, которого вы задержали, пускай сам свою сеть снимает.
И вот тут-то браконьер выпрямился и, сдвигая на затылок свой матерчатый треух, с глубочайшим удивлением оглядел их всех троих.
— Елки-палки, — восхитился он, — да тут целая флотилия! Это я когда на вас наткнулся, ребята?
— А когда задницей выехал из-за мыса, вот когда, — строго уточнил Бондарь, швыряя собранную сеть на нос катера. Как бы примеряясь взглядом к незнакомцу в лодке, он уже доставал из нагрудного кармана свое удостоверение. — Последние кольца сети сбрасывал, — сияя лицом, сказал он Веньке, — наловчился, видать, в одиночку ставить — сплывал себе по течению, а меня и не видел. Думал, вас пропустил — и все, пронесло! А у меня как раз мотор заглох, меня без шума же волокло — вот он и прохлопал ушами.
Человек показался Веньке знакомым, но нахмурился он совсем по другому поводу.
— А почему это, интересно, заглох-то?
— Да понимаешь, какая ерунда, — смешался Бондарь, — пробку у бачка забыл открутить. Ехал-ехал, и вдруг на тебе — чих-чих! — и заглох. Думаю, бензин, что ли, кончился? А там, черт, оказывается, давления воздуха нет.
Сашка улыбнулся, переглядываясь с Венькой, а их пленник будто только сейчас спохватился:
— Так вы что, ребята, никак за браконьера меня принимаете? Да я эту сеть впервые вижу! Даже удивляюсь теперь, как это я за нее винтом не зацепил.
— Да? — ухмыльнулся Бондарь. — Что ты говоришь! Вот как интересно… Ну, заливай-заливай, а мы послушаем, торопиться нам некуда, приятно побеседовать с такими, как ты…
«Идиот! — скрипнул зубами Венька. — Ну что он себе позволяет, разыгрывает тут черт знает что! Я же сто раз ему твердил: надо вежливо, культурно, без этих обезьяньих ужимочек: «Граждане, вы задержаны на месте совершения браконьерских действий, я являюсь общественным инспектором рыбоохраны…» Тут надо выдержать паузу и уверенно так, дескать, спешить мне, инспектору, некуда и бояться тоже нечего, я кругом себе хозяин и власть, и на моей стороне закон, — вытащить из папки, которая лежит на виду, удостоверение с золотым гербом.
Отдавать его в руки задержанных не положено, но в какой-то неопасной ситуации, как сейчас, например, когда встретились трое на одного, можно и дать подержать: пусть человек почитает, придет в себя, соберется с мыслями и осознает свое положение, чтобы не было никаких эксцессов, как говаривал покойный штатный инспектор Толя Симагин. И уже после этого, раскрывая перед собой папку с бланками актов, со спокойной деловитостью сказать: «Прошу предъявить ваши документы — гражданские, а также на лодку и ружье». И хотя ты уже точно знаешь, что никаких документов тебе не предъявят, но шариковую ручку все же держишь наготове.
Кстати, как раз тут-то надо и ухо держать востро — с виду вроде как думать только об акте, а на самом дело следить за каждым движением браконьеров: ведь они уже успели очухаться и теперь прикидывают, как бы им половчее выпутаться из этой истории. Конечно, по своей натуре не все они волки, есть и зайчишки. Но в конечном счете все зависит от того, как и с чем они влипли. Одно дело, если они уже успели поставить сеть — тут сам черт им порой не докажет, что сеть их собственная, а не чья-то чужая. Но совсем другой поворот, если в лодке у них и сеть, и рыба, да еще к тому же какая-нибудь промыслово-ценная, вроде нельмы или сазана, а то и осетр, пуда так на два.
Тут уж, как убедился Венька, надо быть шустрее самого шустрого. Если ты выследил наверняка, лучше всего сразу же прыгать к ним в лодку: ехал будто на обгон, по каким-то своим делам, ссутулившись у мотора, и вдруг, как только поравнялся, — скок! И если ты не промахнулся, а они не успели вовремя раскусить твой маневр и отпихнуть тебя, а попросту говоря, выкинуть за борт, считай, полдела сделано: взял их на абордаж. Процедишь сквозь зубы: «Госрыбинспекция, сидеть спокойно». И сразу сгоняешь со скамьи моториста, пока эта братия еще не пришла в себя — пока она в шоке, как любил выражаться Симагин. А руки твои в это время работают по-разному. Левая, на запястье которой шнур от твоей лодки, успела показать заранее приготовленное удостоверение и тут же хватается за рукоять их мотора. В том-то и дело, что лодка должна плыть, причем в ту же сторону, куда и направлялись браконьеры, а не назад, что сразу бы вызвало панику. А правая рука твоя — та, по сути дела, остается дежурной, как бы готовой в любой момент выхватить из-за пазухи пистолет, которого у тебя, конечно, нет и сроду не бывало.
И вот таким макаром доставляешь всю флотилию к ближайшей деревне или к дому бакенщика, а там уже хоть оттого спокойнее, что надеешься: при свидетелях никакие субчики на мокрое дело не пойдут. И вообще, самое главное — на фарватер их вывести. Там и теплоходы, и баржи, и лодки снуют.
А если ты подходишь к браконьерам не один, то, конечно, намного проще. Сам с ходу прыгаешь к ним в лодку, а твой помощник, ну, тот же Сашка, например, сразу же отваливает и быстро уходит в сторону, чтобы, как свидетелю, держаться поблизости и в то же время в хорошей позиции, чтобы из ружья не могли достать.
Но все это хорошо только при белом свете дня, а вот ночью… Тут, конечно, совсем другая наука, и дорогому шефу ее в жизнь не освоить.
— Отцепи-ка мне один поплавок, Борис Дмитриевич, — как следует выругав про себя Бондаря, сдержанно попросил Венька.
Тот с явной неохотой, что сбивают ему работу, отложил в сторону приготовленный бланк акта и, сняв крашеный пенопластовый поплавок с мокрой сети, кинул его в лодку. Знатный это был поплавок — сероватый, с сузеленью, почти неразличимый в воде. Первый признак большого браконьерского опыта.
— Ценная работа, — крякнул Венька. — А ну-ка, Саня, загляни в багажничек к этому гражданину: сколько у него там еще осталось этого добра, они же для инспекции дороже самих сетей, такая, понимаешь ли, маскировка…
И сникшему мужику в кожушке, как и рассчитывал Венька, сразу стало ясно, что тут уж лучше без дураков — повиноватиться, как на духу, и молить бога только об одном: чтобы не конфисковал еще и мотор.
— Да ладно: пишите, все данные скажу на совесть…
— Была у волка совесть, — оборвал его Бондарь, снова нацеливаясь ручкой в бланк акта.
— Да мы же с одного завода, ребята!
— Свисти больше, милый. Глядишь — и поверят. Только не мы, не на тех нарвался. А ну, давай документы!
— Э-эх, начальник… — посетовал браконьер. — Где тебе простого работягу заметить… Но ты-то, Комраков, — неожиданно обратился он к Веньке, — должен же был меня приметить хоть раз за все эти годы! По одним и тем же цехам порой ходим. Вот я, к примеру, тебя знаю…
— Ладно, хватит разглагольствовать! — прикрикнул на него Бондарь. — Я вот выпишу тебе сейчас штраф на ползарплаты, тогда сразу прикусишь себе язык…
Все три лодки прибило к рагознику, казавшемуся не палево-зеленым, а изумрудным от белого снега в пахах листьев. Свежие изломы камышинок источали полузабытый пресный запах ранней, весенней зелени, так остро ощутимый на воде.
Снова начал мельтешить скопившийся вверху снег, Бондарь и браконьер все о чем-то бубнили и бубнили, и Веньке в какой-то момент стало казаться, что сидят они тут давно, а зачем — никто и не знает толком.
«Кто же это и когда говорил мне, — подумал Венька, — что самое главное в жизни — это любой ценой добиться власти, чтобы чувствовать себя человеком? Да шеф, однако, кто же еще-то! Кому еще другому западет в голову подобная мысль? Он потому-то и ко мне приблизился, чтобы здесь, на реке, наверстывать то, что не удавалось ему на заводе. Там-то не шибко раскричишься на рабочего, не те времена. Вот и изгаляется над кем ни попадя. А что до всего этого, — окинул Венька взглядом и свинцово тяжелую реку, и притихший под переновой краснотал, — без чего истинно русская душа и жить-то не может, то начхать ему на все это, было бы только где плавать да над кем командовать. На наш век, говорит, этого добра хватит… Ведь вот что делает с человеком, — вздохнул Венька, — такая дьявольская потребность властвовать. Прямо подвижником стал дорогой шеф, вон в какую погибельную погоду за мной увязался: пускай, мол, и не встретим на реке никого, не покомандуем ни над кем, так зато потешим себя сколько-то, что можем, можем это сделать!..»
Венька поморщился и сник еще больше, не зная, куда бы деваться ему сейчас. Он вспомнил, что еще недавно и сам спал и видел во сне красные корочки инспекторского удостоверения.
«Вот и возьми человека, — поразился Венька. — Выходит, каждый, в душе-то, хотел бы чего-то такого для себя, что ставило бы его над другими, так, что ли?»
Однако этот вывод чем-то не устраивал его; он чувствовал, что здесь все не так просто. Взять того же Ивлева: в цехе его голоса почти и не слышно, он больше руками действует, чем языком, — первый начинает какую-нибудь работу, и вроде уже все ясно, и ты тут же пристраиваешься рядышком. Но, с другой стороны, Ивлеву не все равно, кем ему работать — просто слесарем или сменным механиком.
«Да и до меня доведись, — вдруг признался себе Венька, — я бы, пожалуй, не отказался, чтобы каким-нибудь инженером-технологом в том же хлораторном цехе поработать. Подучиться бы если, конечно. И пусть бы вся моя власть только над хлоратором и была, самим-то процессом, однако, интереснее управлять, чем последствия разных аварий ликвидировать… Так что, дорогой шеф, — словно очнулся он, слегка встряхивая головой, выпячивая нижнюю губу и сдувая с носа и бровей хлопья снега, — вся твоя философия — это хреновина с морковиной, как говорится».
— Тэ-эк-с… — с облегченным вздохом сказал Бондарь, протягивая мужику акт. — Распишись вот здесь и живо мотай домой, чтобы и духу твоего здесь больше не было.
Непослушными пальцами тот взял карандаш и коряво вывел свою фамилию на бумажке, сделавшись сразу тихим и подавленным.
— Сам ты с нашего комбината, — глянул Венька на рыбака, — а лодку твою на причале я что-то не видел ни разу.
Мужик безразлично помолчал, поеживаясь. С крутояра то и дело налетал в протоку, как в трубу, шалый сивер и бестолково теребил гриву высокого черемушника на излучине.
— Потому и не видел, — с неохотой отозвался он, — что не моя она. Свояка моего, а тот держит ее в другом месте. Да, господи, он такой же рыбак, свояк-то, как я вот. Прокатится разве что когда с семьей. Да и сеть тоже чужая. Из меня, например, вязальщик, как из стригаля парикмахер, — натянуто хохотнул он, вглядываясь в лицо Веньки. — Чужое все это — и сеть, и поплавки. Выпросил сдуру у одного. Дай, говорю, все равно лежит без дела. Он сам-то весной только ставит, когда путина. А я вот сейчас, кое-как выпросил… за поллитру. Дай, думаю, отдохну хоть раз по-мужски, — невесело посмеялся он над собой. — Мне и рыба-то эта… хоть сто лет бы ее не ел. Я баранину люблю, — улыбнулся он Веньке, — до завода в колхозе работал.
— Ладно, ладно, выгребай отсюда, — перебил его Бондарь, — да еще спасибо говори, что мотор не сняли.
Венька поморщился.
— Погоди ты… Дай-ка сюда акт. Давай-давай, когда просят. И удостоверение свое покажи-ка…
Венька взял удостоверение, старательно обернутое в целлофан, и, развернув его, долго глядел на фотокарточку Бондаря, уставившегося в объектив с плохо скрытой снисходительностью. Обмакнув картонные корочки в воду, он содрал ногтем фотокарточку и, не поднимая глаз на Бондаря, прилепил его изображение к борту «Прогресса».
Начальник пятого цеха только ойкнул, когда Венька опустил руку с его удостоверением в воду, и перехватив насмешливый взгляд Ивлева, откинулся на спинку сиденья и затаился, удивляясь не столько самому поступку Веньки, сколько тому, что он сделал это именно сегодня и в тот момент, когда его следовало, наоборот, отметить за такую оперативность.
«Ну что ж, — подумал он, стараясь не глядеть, как Венька прячет в нагрудный карман пустые, безглазые корочки, еще минуту назад воплощавшие в себе немалую силу, — так мне и надо, дураку. Большую повадку я ему дал. Раскусил он меня, что я цепляюсь за него. И сел на шею. А я вот попру-ка его в понедельник, — прищурился он, — к такой матери!.. Вернее, посажу на четвертый разряд, как и положено. Чип чинарем, спокойно так, деловито, точь-в-точь как он сейчас поступил. Вот и пусть тогда бежит к своему механику. Давно не нюхал газу-то, пусть похлебает».
А буря между тем расходилась уже вовсю. Стало слышно, как за черемушником, прогибавшим под ветром щетинистую хребтину, гулко зашлепали волны о скалистый мысок. И вдруг ветер упал — так же внезапно, как и налетел, — и тут же густо и тяжело повалил снег, он ложился на воду с легким и частым шепелявым звуком, мягко приглушая сочное, сильное хлюпанье расходистой волны Иртыша.
В одно мгновение лодки неровно побелели, онемело выделяясь теперь среди припорошенной, но ставшей еще более ясной по цвету, куги; а сами они, наверно, казались со стороны, если бы глянуть на них поверх метелок, заживо окочурившимися чудаками, которым не сиделось дома. Снег щекотал лицо, застревая в ресницах, но Венька даже сдувать его перестал; он только пошевеливал шеей в просторном вороте телогрейки под роканом, и скопившийся на затылке снег, подтаивая, проваливался ему за шиворот.
— Ну, чего ты еще ждешь-то? — провел Венька ладонью по лодке рыбака, сгребая в горсть мягкий влажный снежок, поднося его ко рту и захватывая шершавыми губами.
Тот засуетился, пытаясь отпихнуться веслом, но оно гнулось и проваливалось в прибрежный ил, и мужик, бросив его на дно лодки, разогнул голенища бродней и спрыгнул в воду. Колко цокнулись борта один о другой, и лодки, слегка разойдясь, потянулись к течению, освобождая примятые днищем стебли.
Скашиваясь на пузырившийся за кормой след, Венька представил себе, как выберутся они сейчас на фарватер, как он высадит Ивлева в «Прогресс» Бондаря и один, чтобы не было больше никаких разговоров, сплавает до нижней протоки. Ему напоследок захотелось глянуть на обелиск в прогале — попрощаться с Толей Симагиным до будущей весны.
— Ну что, гаврики… — вздохнул Венька, когда лодка рыбака ушла вверх, на красный бакен. — Давайте-ка хватим по маленькой и — в разные стороны. Вот и закроем сезон…
Он вытащил из багажника граненые бутылки, задумчиво повертел в руках, как бы впервые разглядывая цветастые наклейки, отвинтил у одной из них пробку и пустил по кругу.
— Вот это другой коленкор, — с придыханием отрываясь от горлышка бутылки и облизываясь, прицокнул языком начальник пятого цеха. — Только почему это… в разные стороны? Погоды, что ли, испугался?
То ли просто лукавил человек, то ли впрямь уже не было у него в душе обиды на Веньку, только глаза его опять ожили — уже и заоглядывался вокруг, не затарахтит ли где потаенно какой мотор, не выплывет ли откуда лодка.
«Ничему-то он не научился», — снова вздохнул Венька, и, прежде чем зайти по новому кругу, он отвинтил пробку и у второй бутылки, взял их в обе руки, высоко поднял над водой и, не спуская глаз с рябого лица начальника цеха, перевернул их вверх донышком.
Ему до зарезу вдруг захотелось увидеть, как вылезут из орбит белесые глаза Бондаря, да и просто красиво и жутко, когда алое нежное пятно растекается по тускло холодной воде.
…Давно не было на Иртыше бури, а тут разыгралась не на шутку. Стон стоял на реке, попряталось все живое.
И будто, кроме них, ни души на всем белом свете. Венька сразу узнал в гребце Торпедного Катера. Лодочка под ним была легкая, синенькая, под цвет воды. Венька давил на ручку мотора, налегал спиной на горячий кожух, как бы подстегивая свою «Казанку», но синюю лодку догнать не мог.
Вроде как неведомая сила не пускала его вперед. Ветер с брызгами больно хлестал по щекам, давил в грудь, все лицо было мокрое, а плыть надо. Надо, хоть плачь! И
вот когда он уже выбился из сил, за каким-то пределом все переменилось враз. Куда и буря девалась. И упала такая первородная тишина, что сделалось слышно, как печально шелестит камыш, будто плачет.
Не по себе стало Веньке от этого плача. Но хода назад теперь не было. Стеной стоял позади рагозник, а впереди, будоража душу какой-то потаенностью, открылась протока. Видно, здесь-то, подумал Венька, и затаился Торпедный Катер перед тем, как выскочить на лодке к Симагину.
Теперь откуда-то и у Веньки взялось весло, и он медленно поплыл по протоке. Взбаламученное илистое дно пускало пузыри, и они лопались под бортами лодки с глуховатым побулькиванием.
И вдруг видит Венька — Торпедный Катер пятится к берегу из камыша, волоча за собой синенькую лодку!..
Ждал не ждал Венька этого часа, а сердце так и упало. Больно стало в груди. Эта боль была посильнее той, какая накатывала на него в иные ночи, когда снилась авария в цехе. И такой страх захлестнул Веньку — кричать захотелось. Но он только судорожно раскрывал рот, оцепенело глядя на Торпедного Катера, вставшего над ним как привидение. Огромный такой и черный почему-то, глядит на него и смеется, блестя железными зубами.
«Что, керя, — спрашивает, — выследил все же меня?»
«Выследил», — говорит Венька, а про себя подумал: «Эх, поторопился я… Пускай бы Торпедный Катер не ведал обо мне ни сном ни духом, сначала бы сети снял и переметы. Набил бы лодку рыбой. И только тут рывком включить мотор и выскочить к нему из камыша!»
Засмеялся Торпедный Катер, словно угадав эти Венькины мысли. Заклацал зубами. И дикий его хохот понесся эхом над протокой, и достиг того мыска, где в прогале тальника виднелся памятник Толе Симагину, и ударился там о тускло мерцающую звезду…
«Убью я тебя, керя, по закону пакости», — хотел сказать Венька, но в руках у Торпедного Катера появилось весло, такое же громадное, как и он сам. Ударил его наотмашь — и померк свет в глазах Веньки. Только издали откуда-то, слабо проникая в его сознание, доносился голос Зинаиды:
— Венька! Be-ня!.. Ты слышишь или нет?! Да, господи, что же это такое!..
Голос-то он узнал. Как не узнать, столько лет прожили вместе. Как начнет, бывало, выговаривать ему… В печенки вошел этот голос. И что обиднее всего, даже тут не могла удержаться. Вот ведь привычка какая. Человек умирает, можно сказать, а ей и горя мало. Талдычит одно и то же: «Ты слышишь, Веня?!» Он слышит ее, конечно, и удивляется про себя: «Здесь-то ты откуда взялась?!»
И тут он увидел ее. Сидит Зинаида на кровати в ночной сорочке, плачет и по щекам его хлещет.
— Да проснись ты, ирод! Да, господи, что же это за жизнь такая?! С вечера уснуть не даешь — жду, когда явишься со своего причала, а посреди ночи криком будишь, базлаешь как оглашенный!..
— Кто, я, что ли? — разжал Венька спекшиеся губы.
— Нет, я!
— Подумаешь… Как я терплю твой храп, так это ничего.
— Да замолчи ты!
Зинаида натянула на голову одеяло и упала на подушку. Венька чувствовал, как она вздрагивает всем телом, и сначала досадливо морщился, а потом укорил себя со вздохом, что надо бы промолчать, дешевле бы обошлось, ведь все равно же ей не докажешь, что он и не думал кричать во сне.
Всю неделю он доводил диски, пока закрутка не пошла, наконец, как ей и положено было идти. Даже вечера пришлось прихватывать — являлся иной раз домой за полночь.
В пятницу, собираясь на работу, он наткнулся в прихожей на чемодан. Прошел было мимо, хотел тихо, как и всегда, шмыгнуть за дверь, чтобы бежать на автобус, да вдруг подумал: а чего это ради он тут стоит? И вспомнил, холодея, что чемодан и вчера здесь стоял, и позавчера…
Венька рванул замки, а там весь немудреный гардероб Зинаиды. Он тут же растолкал ее, а она и не спала, оказывается, глаза ее были красные, в припухших от слез веках.
— Ты чего это надумала, а? — перехватило у него горло.
— А ты только что заметил…
Венька вертел в руках кепку, часто моргал и не знал, что делать, что говорить.
— Ну ты даешь… — он попробовал улыбнуться и, не подворачивая край простыни, присел прямо на постель. В другое время Зинаида шуганула бы его куда подальше — не садись на белье в верхней одежде! — а тут смолчала, будто так и надо. И это встревожило его еще больше. — Зин, ты чего?..
Венька несмело тронул ее за плечо, почувствовав под ладонью теплое мягкое тело. Беззащитно пульсировала у ключицы маленькая венка. Когда-то он любил целовать в это место — в самую ямочку над ключицей, и Зинаида всегда поеживалась, но не отталкивала его, хотя боялась щекотки. Господи, как давно это было, будто и не было вовсе — так, привиделось. Что же это за жизнь такая, все уходит куда-то, исчезает незаметно…
Он смотрел на Зинаиду и чувствовал, как жалость к ней захлестывает его сердце. Надо бы наклониться и поцеловать, как прежде. И стоит ему сейчас сказать ей одно только слово — хорошее, конечно, выбрать, не как всегда, — и она отмякнет, горько и счастливо заплачет сначала, еще больше бередя ему душу, а потом глаза ее посветлеют враз и губы порозовеют, хотя и будут солеными от слез, и упреки ее, после которых она вконец успокоится, будут как бы последним очищением.
Конечно, кое в чем она и переборщит, не без этого, обязательно скажет, что он совсем не любит ее, не нужна она ему и так далее… но это уже надо сносить с покорной терпеливостью, тут же горячо убеждая ее в обратном. А как же иначе? Ведь сколько она хлебнула за эти годы из-за него, непутевого, из-за дурацкого его характера! Уж за одно то, что она не возненавидела его, не прокляла и не сбежала, как давно бы сделала другая, к ногам ее нужно упасть.
«Но ведь она тоже собралась куда-то!» — снова вспомнил он чемодан в прихожей, и пальцы его, гладившие ее плечо, стали будто деревянные. И этот-то миг все и решил.
Зинаида сбросила с себя его руку.
Венька обомлел.
— Оставь меня… — только и сказала она и крепко, мучительно зажмурилась.
Ему страшно было трогать ее в эту минуту, его руки потерянно лежали на коленях. Он встал и неслышно вышел на улицу. Шел он как всегда, просто сам не слышал в эту минуту своих шагов.
«Вечером поговорю обязательно, — сказал себе Венька уже в автобусе. — Хотя нет. В обед зайду к ней на работу». Давно он не был у нее в магазине — то в ссоре живут, то дела какие-то заедают. Уж и какие теперь у него дела… Прокрутятся возле станков вместе с Бондарем, проточат лясы.
Днем он забыл про эту утреннюю сцену, а вечером нашел на столе записку: так и так, устала она с ним жить — уезжает к матери, к сыну.
«В отпуск, наверно, — мелькнула у него спасительная мысль. — Куда же еще-то… Не насовсем же, в самом-то деле? Давно бы ей надо съездить к сынишке, пора наведаться…»
Всю ночь Венька не спал, ворочался с боку на бок. А ближе к утру тревога рассосалась как-то незаметно, обо всем думалось уже проще, будничнее. Так и не обвинив себя ни в чем сущем, он спозаранку уехал на причал. И только в понедельник, зайдя в магазин, Венька узнал, что Зинаида уволилась и уехала совсем.
Ее пожилая напарница, оставшаяся за прилавком одна, смотрела на Веньку с плохо скрываемым осуждением.
За два дня он подписал обходной лист, снялся с учета, выписался, — все, такого человека здесь больше не существовало.
Напоследок Венька решил зайти в хлораторный цех. Не заглядывал он туда с тех самых пор, как ушел из бригады Ивлева. Это сколько уже прошло времени?..
Венька понимал, что надо бы открыто попрощаться с ребятами — кто про то знает, придется ли еще увидеться. Но у него язык не повернется сказать им, что он уволился. Им это покажется до того невероятным, что поначалу они поднимут его на смех. Это, мол, его Торпедный Катер выкурил. Они бы меньше смеялись, если бы он сказал им, что возвращается к ним в первый цех. Так что лучше не травить себе душу.
Боясь кого-нибудь встретить, Венька пошел в цех не со стороны бытовок, а через крытую галерею. В свое время он частенько хаживал этим путем, хотя гулкий, прохладный даже летом тоннель предназначался для разного транспорта.
Едва войдя в открытые ворота галереи, в полумрак, за солнечный свет, стеною вставший на пороге, Венька невольно подался навстречу глухому невнятному гулу, идущему из скрытых за поворотом глубин цеха. Так бы и побежал туда, где в сизом дыму плавали хлораторы. Может, как раз авария там какая-нибудь. Копошатся ребята, обжигает им грудь брезентовая спецовка, прокаленная адским жаром царги. Ох как не хватает им сейчас пары таких рук, как Венькины!..
Незаметно для себя он и впрямь затрусил. Лицо его выражало страдание — будто он виноват был в том, что подвел своих ребят, слесарей из бригады Ивлева. Вся горечь, накопившаяся в душе Веньки за нынешнее лето и в особенности за последние дни, словно выхлестнулась теперь наружу. Ему хотелось заплакать, как бывало с ним в детстве, от непереносимой, казалось тогда, обиды.
— Ты куда это разбежался, Комраков?! — осадил его чей-то голос.
Венька вздрогнул, остановился. Чуть не налетел на председателя профкома!.. Носом к носу столкнулся с ним уже у входа в цех.
Против обыкновения Николай Саныч не стал к нему присматриваться: что это, дескать, с тобой, Комраков, лица на тебе нет… — а разулыбался до ушей и, раскидывая руки в стороны будто для объятия, легонько похлопал его по плечам.
— Здорово, Веня, здорово… Давненько мы с тобой не встречались.
«Да уж лучше бы век нам с тобой не встречаться», — подумал Венька, жадными глазами оглядывая цех.
— Ты никак, Веня, решил вернуться обратно в родные пенаты?
— А ты сам, Николай Саныч, как, не собираешься?
Председатель внимательно поглядел на Веньку, пытаясь понять, шутя или серьезно спрашивает он, и перевел взгляд в глубину цеха, куда-то в сумеречное его нутро.
— По правде сказать… — сипло откашлялся он, и Веньке вдруг захотелось поверить ему, как никогда в другое время, — по правде сказать, так я бы хоть сегодня пошел обратно в свою слесарку. Ей-богу, соскучился! Вот даже сам себе удивляюсь порой, до чего стосковался. Руки во сне чешутся, будто от потных рукавиц, когда возле царги, бывало, возились… Ты можешь себе представить, а? — как бы весело восхитился он странным таким дивом.
— Если уж спится, — потупился Венька, — то тогда, конечно…
«Все же неплохой он, однако, мужик, — подумал Венька. — Только что же это… не знает он, что ли, про то, что я уволился? Или тоже не верит?»
Не сказав больше ни слова, Венька поднялся на галерку, прошел вдоль дышащих жаром царг, сверху окинул взглядом весь пролет цеха и, уже повернув было назад, вдруг решил заглянуть на минутку в крайнее крыло галерки. В последний раз он был тут в то памятное утро, когда водил по цеху Дмитрия, московского писателя. Сколько воды с тех пор утекло!..
Стоя с задранной кверху головой, он краем глаза вдруг заметил Саню Ивлева, тот, грустно улыбаясь, маячил сбоку, почти рядом. Когда и подкрался.
— Ты где пропадаешь, Саня? Я уже сто лет тебя не видел.
— Это я тебя не видел уже с каких пор… Когда едешь-то?
— Завтра.
— Куда?
— Куда-куда! К теще на блины.
— А потом?
— А потом видно будет. Сначала заберу Зинаиду и сына…
Ивлев помялся, раздумывая, сказать или нет Веньке о том, что сегодня приказом по комбинату он был назначен начальником первого цеха. Вздохнув, он коротко и сильно сжал Венькину руку и заспешил, не оглядываясь.
Венька проводил Ивлева долгим взглядом и, с грохотом скатившись по железному трапу, быстро пошел из цеха той же дорогой, через пустынную галерею.
От дверей проходной он оглянулся напоследок, разом охватил взглядом скопище труб, корпусов и галерей, растерянно поморгал и, резко повернувшись, шагнул к турникету.
Знакомая вахтерша не обратила на него никакого внимания, и Венька приостановился.
— А я, мать, теперь без пропуска, — похлопал он себя по карманам.
Вахтерша вяло посмотрела на него.
— Ты че, мать, не слышишь?
— Да ладно тебе выламываться. — Она скрипнула табуретом. — Идешь и иди…
Веньке стало обидно. Он же и к вахтерше этой привык за столько лет как к родной. А ей, выходит, трын-трава: что был Венька, что нету его. Только и запомнит небось его необычную кепку. Вся тут и память о человеке.
Поджидая автобус, Венька вспомнил, как весной, на этом же самом месте, он хотел купить Зинаиде букетик цветов. Купил, ничего не скажешь… Магазинишко этот серенький, с обшарпанными стенами и замусоленной дверью, показался ему теперь до того дорогим, что плакать хотелось. А раньше он неделями сюда не заглядывал, торопливо пробегал мимо.
В автобусе он не сразу заметил Раису. Она стояла рядом, поглядывая на него. Автобус покачивало на поворотах, их лица то как бы уплывали одно от другого, то сближались почти вплотную.
— Странно все же… — тихо сказала Раиса будто сама себе, в то же время не спуская с него взгляда.
— Что странно? — словно очнулся Венька.
— Да так…
— Говорят, что ты теперь с киповцами работаешь, — сказал он. — То-то все лето бегала к ним на галерку.
В глазах ее уже оттаивало напряжение, появлялся текучий знакомый блеск, когда-то бросавший Веньку в жар, и Раиса, словно почувствовав это секундное его замешательство, тихо засмеялась:
— Расту! Даже в техникум поступила.
— Да ну? — через силу улыбнулся и Венька. — Когда успела?
— Нынче, — пожала она плечами. — Что я, хуже других, что ли?.. Сказала — сделала. Заяц трепаться не любит.
— Так ведь никто же не говорит, что хуже, — покраснев, выдавил из себя Венька. И снова выдержал долгий пытливый ее взгляд. — А я вот, Рая, видишь ли, уехать решил.
Она помолчала, глядя куда-то мимо его плеча, будто вспомнила что-то из прошлого — какой он раньше был потешный, Венька Комраков, совсем безбровый, белобрысый. И чего она в нем нашла? Казалось, что и не переживет она тот момент, когда он стал выпроваживать ее из своей квартиры, а сам остался с Зинаидой. А после и похлеще был случай, когда она, Раиса, сидела в его лодке, а Венечка шел по воде вдоль берега и умолял свою женушку сесть тоже в лодку. Веселенькая была бы история!
Он вроде как догадался, о чем она думала, стиснул ее пальцы и вышел из автобуса за два квартала до своего дома. «Пройдусь пешком», — решил он. Кто знает, когда еще доведется ему побывать здесь, на этой улице, которая выросла на его глазах.
В эту ночь Венька долго не мог сомкнуть глаз.
Его томило какое-то навязчивое чувство, будто он что-то не сделал, не выполнил, не закончил, и уезжать ему потому было еще горше.
Уже под утро он вспомнил Максимыча — не сходил к нему попрощаться, вот ведь как получилось! От досады Венька даже вскочил с постели. Он вспомнил, как старик смотрел на него в прошлый раз. Глаза его были неспокойные, вроде как предчувствовал что-то…
Венька стиснул зубы. Прямо хоть сейчас беги на причал. Пусто и тихо там сейчас. Все лодки вытащили из воды и, перевернув вверх дном, составили в ряд на дощатых козлах, и они, припорошенные снежком, издали похожи на свежие, не осевшие еще могилы. У берегов Иртыша появились матово-хрупкие припаи, вода взялась в опалово-ледовую оправу, а в студеном воздухе суетливо, как неприкаянные, хороводятся, мельтешат снежинки…
Но что-то еще тревожило Веньку, не давало покоя. Лишь во сне, коротком, предутреннем, он увидел то, что должен был сделать наяву. Попрощаться с Толей Симагиным. Будто сел он в лодку и, легко выходя килем на высокие гребни барашковых волн, мигом домчался до протоки, чтобы глянуть напоследок на обелиск в прогале тальника.
«Здорово, мол, Толик. Это я, Комраков Венька… Ну, как тебе тут лежится — скучаешь, поди, по воде-то? Все лето не плавал в лодке… Болит небось сердце-то, что не можешь отомстить лиходею. Ты же его частенько видишь, как он проплывает мимо. Видишь, а не крикнешь, не остановишь… Ничего, Толик, он еще поплачет у нас! Я еще вернусь! Я вернусь, Толик, верну-усь!..»
Тревожное эхо пошло по воде, и звезда на обелиске померцала ему в ответ.

 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Вагонетки.
(обратно)
2
Вид зимней рыбной ловли.
(обратно)
3
Слесарь по контрольно измерительным приборам.
(обратно)
Оглавление
Юрий Антропов
ИВАНОВСКИЙ КРЯЖ
роман в новеллах
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Часть первая
ЖИВЫЕ КОРНИ
1. ДОЛГИЕ СУМЕРКИ
2. ВЕТВИ
3. КОМЕЛЬ
4. ПЕРВАЯ КАПЕЛЬ
Часть вторая
СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ
1. ЦАРИ-БОБЫ
2. КОРОЛЬ ЧЕРВОВЫЙ
3. ПРОВОДИНЫ
4. ИВАНОВСКИЙ КРЯЖ
5. ПИХТОВЫЙ СУЧОК
6. СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ
Часть третья
СИБИРСКОЕ ТАНГО
1. БОЛЬШУХА
2. ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО
3. СИБИРСКОЕ ТАНГО
Часть четвертая
ПЕРЕД СНЕГОМ
1. ОТГУЛЬНЫЙ ДЕНЬ
2. ВЕЩИЕ СНЫ
3. ВЕРБА КРАСНА
4. КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ
5. ПЕРЕД СНЕГОМ
*** Примечания ***

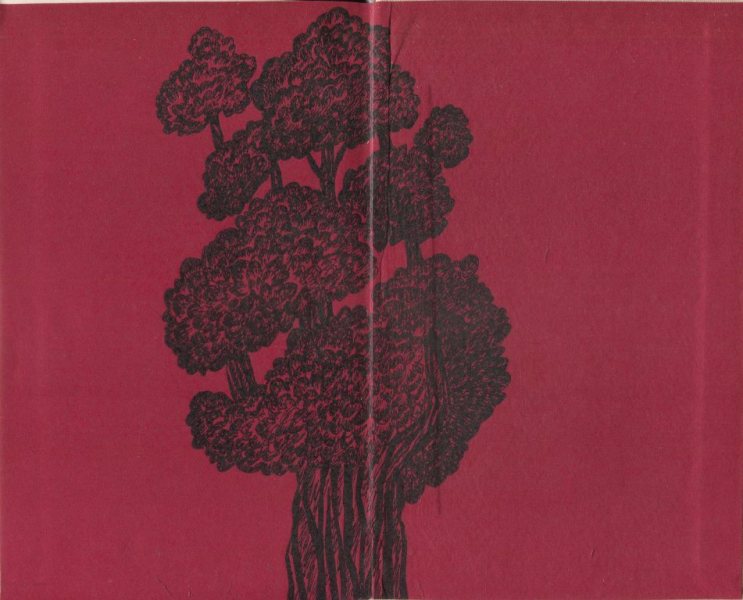








 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.