Предисловие от издателя.
"Летописец с кинокамерой", так назвали статью Татьяны ТЭСС в журнале "Наука и жизнь" за июнь 1980-го года. В сети этот текст я нашёл под названием "На всю жизнь молодой". Оба названия для рассказа о человеке-легенде Романе Кармене, правильны, но недостаточны. Такие люди как Роман Кармен, не появляются из ничего и не исчезают в никуда. Публикация была расширена фотографиями и дополнительной информацией. Биография Романа Кармена началась ещё до его рождения. Его отец Лазарь Осипович Кармен (настоящая фамилия Корнман, вариант Коренман; 1876, Одесса — 1920, там же) — русский писатель и журналист. Уже в 1892—1893 годах состоялась «проба пера», в свои шестнадцать-семнадцать Лазарь Кармен сам издает журналы «Эхо Одессы» и «Ракета». Журналы были заполнены собственными стихами и статьями. В 19 лет вышла первая книжка очерков и рассказов. Дальше по одной-две небольшие книжки очерков и рассказов выходили ежегодно. Он сотрудничал в «Южном обозрении», «Одесском листке», «Одесских новостях». Рассказы Кармена охотно публикуют такие солидные журналы, как «Русское богатство» и «Мир божий», и массовые еженедельники «Нива» и «Пробуждение». К 1904 году Кармен уже обладает огромной популярностью как «одесский Горький», как заступник «униженных и оскорбленных». В конце сентября этого года покончил с собой 19-летний учащийся еврейского ремесленного училища «Труд», утопился в море, оставив тоскливые стихи и письмо, адресованные сотруднику «Одесских новостей» господину Кармену. Кармен прочел и… отправился на пароходе в Палестину. Оттуда он привез рассказы о еврейских детях поселений, дочерна загорелых и полных дикой энергии, презирающих опасность и не знающих тоски. Он искал альтернативный путь для «грезящих о возвышенном» бедных еврейских юношей ... Таким, полным энергии и презирающим опасность, он вырастил своего сына.
Он-то и подарил Роману первый фотоаппарат - «Кодак» (http://www.privatelife.ru/2005/cg05/n9/5.html)
В Одессе Кармен пережил первую революцию и написал о «потемкинских днях», здесь встретил Февраль 1917-го и написал рассказ
«Сын мой», в котором завещал сыну выйти вместе на улицу и стать «в ряды рабочих и солдат, чтобы не отдать вырванной с таким трудом у палачей свободы». И сын ответил: «Да, папа». Сын перевыполнил данное за него отцом обещание. Продолжая дело отца, он стал журналистом, самым востребованным в ту горячую эпоху - документалистом хроникёром.
" ... Семья переехала в Москву. Роман поступил на рабфак, сотрудничал в рабфаковской стенгазете. Мама работала тогда в журнале «Огонек» и привела сына к главному редактору Михаилу Кольцову. Снимки были, конечно, любительские, но главный доброжелательно сказал: «Ну что ж, ты уже умеешь снимать». И вручил юному Роману корреспондентский билет. А вскоре на страницах «Огонька» появился и снимок, подписанный: «Р.Кармен». Это было в сентябре 1923 года. Парень оказался талантливым. На выставке «10 лет советской фотографии» Роман Кармен удостоился почетных грамот. Он был самый молодой из награжденных. Но уже поглотила заветная мечта - не фоторепортаж, а кинорепортаж. И осенью 1929 года поступил в Государственный техникум кинематографии на операторский факультет. По окончании пригласили его на Центральную студию документальных фильмов. Сектор кинохроники тогда занимал две комнатки. Ну, и началась счастливая, творческая судьба. В пургу и стужу был Кармен рядом со строителями Магнитки, в знойных пустынях снимал Турксиб, первые тракторы на колхозных полях, участвовал в первых арктических экспедициях. Роман был вездесущ со своей кинокамерой. Именно с нею он отправился и на фронтовые дороги. Вот мы и подошли к главной теме наших заметок - о фронтовом кинооператоре Романе Кармене. В Испании уже шли бои. В «Правде» - блестящие корреспонденции оттуда Михаила Кольцова. Роман всю ночь писал письмо с просьбой послать его в Испанию. Утром отнес прошение в бюро пропусков Кремля: «Товарищу Сталину. Лично». Через две недели вызывают к начальнику Главного управления кинематографии Борису Шумяцкому: «Летите в Испанию!» Отъезд был обставлен секретно, ведь визы в Испанию, охваченную гражданской войной, быть не могло. Пробирался через Париж. Первым объектом был город Ирун. Многое показал нам Роман Кармен: и женщину, всю в черном с охотничьим ружьем, и старого крестьянина с двустволкой. Интернационалисты отбивались от артиллерии и авиации устаревшими винтовками. Да Кармен и сам-то был вооружен старенькой кинокамерой. Уже на следующий день пришлось пробираться через границу обратно в Париж, чтобы передать в Москву огромный материал, снятый всего за сутки. А еще через два дня на экраны Москвы вышел сенсационный «Выпуск № 1. К событиям в Испании». ..." http://www.privatelife.ru/2005/cg05/n9/5.html - "Три войны Романа Кармена"
После Испании Кармен почти год провел в Арктике на острове Рудольфа: участвовал в экспедиции, снаряженной на поиски летчика Леваневского. Вернувшись из Заполярья, он улетел в Китай, где началась борьба с японцами. После Китая — снова на Север. На этот раз он принял участие в экспедиции по спасению ледокола «Георгий Седов». Во многом благодаря Роману Кармену сейчас в архиве находятся уникальные кадры, на которых запечатлены эпизоды отечественной и мировой истории.
Потом на страну обрушилась Вторая мировая война. Снимать её с позиций на линии огня, отправился уже опытный, обстрелянный Мастер. Он прошёл её от звонка до звонка, от блокадного Ленинграда до Нюрнбергского процесса.
Для того чтобы оценить мужество фронтового кинооператора, работавшего тогда без нынешней техники, без нынешних мощных телеобъективов, надо, глядя на эти старые кадры, всякий раз мысленно представлять себе ту точку, на которой находился человек с киноаппаратом. Сейчас, после войны, я хорошо представляю себе это и высоко ценю то незаурядное мужество, которое неизменно сопутствовало Кармену с самого начала его фронтовой работы, оставаясь при этом, если можно так выразиться, „за кадром“. — К. М. Симонов. О Романе Кармене.
Потом были съёмки на других войнах, включая вьетнамскую и преподавательская работа. Биография Романа Кармена продолжена в его детях:
Роман Кармен (1933—2013), режиссёр, оператор
Александр Кармен (1941—2013), латиноамериканист-международник, преподаватель Московского государственного института международных отношений МИД России.
Внук - Максим Кармен, продюсер, кинооператор
Правнук — Никита Максимович Кармен, в июне 2018 года окончил с красным дипломом операторский факультет ВГИКа (мастерская И.С. Клебанова).
Но, пора передать слово тому кто имеет больше права писать о Р.Кармене - его другу и очевидцу, Татьяне ТЭСС, ведущей журналистке газеты "Известия".
P.S. Работа над изданием не завершена, вы можете принять участие в нём, в рамках проекта "Нигде не купишь".
Первая книга Кармена в руках
Рядом с альбомом семейных фотографий, на круглом, покрытом бархатной скатертью столе лежала небольшая книга в синем коленкоровом переплете с тисненной на ней фамилией автора. Придя в этот дом, я знала, что мне предстоит пробыть в нем долго, и уже заранее томилась от сознания, что заняться здесь будет совершенно нечем.
Единственной надеждой была лежащая на столе книга, у автора которой оказалась странная фамилия, известная мне только как название первой увиденной мною оперы, а имя его и вовсе не было указано. Я взяла со стола книгу и начала ее читать.
Фамилия автора была Кармен. В тот дом меня привела мама, которая пришла в гости к знакомым, и было мне тогда семь лет.
Читать я начала рано, в четыре года, и к семи годам уже прочла немало книг, которые без разбора тянула из маминого библиотечного шкафа. В нашей семье выписывали «Ниву» с литературными приложениями, и приложения эти в коленкоровых твердых переплетах и были главным моим чтением, его основой, которая, несмотря на всю мешанину в детской голове, сохранилась на всю жизнь. Одновременно со сказками я читала Пушкина, Чехова, Лескова, Тургенева, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Камо грядеши» Сенкевича. Понимала я из прочитанного, наверное, десятую часть, и все же нежная любовь к Чехову, живущая в нашей семье, ощущение, что писатель может стать для тебя близким и необходимым, как родной человек, - эти чувства передались мне именно тогда, в детские годы, и с той поры из души уже не уходили.
Но книги, лежащей в чужом доме на покрытом бархатной скатертью столе, я никогда не читала, и странная фамилия Кармен была мне незнакома. И, уж конечно, я и представить не могла, что это отец человека, с которым спустя немало лет я встречусь, подружусь, буду вместе ездить на съемки, вместе работать, вместе учиться водить машину, спорить о прочитанных книгах, ссориться, мириться, шутить, бродить по новой Москве.
Воспоминания детства
В книге его отца рассказывалось об особом народе - об одесских портовых грузчиках, чья жизнь была причудливым соединением изнурительного труда, беспощадных правил товарищества, неистребимого одесского юмора и верности выработанным трудной жизнью традициям. Когда я читала книгу, мне казалось, что я вижу этих громадных сильных людей с тяжелыми мешками на спинах, - сейчас они откроют дверь и войдут в комнату, где я сижу. При мысли об этом сердце мое сжималось от страха и жгучего интереса. Испытанное мною чувство я запомнила хорошо, ибо книгу читала не раз: моя мама часто приходила в этот дом и всегда брала меня с собой. Других книг мне никто там не давал, советуя рассматривать для развлечения альбом с семейными фотографиями. Незнакомые усатые дяди в форменных фуражках и пухлые голенькие младенцы, лежащие на животе, мне быстро прискучили, и я снова бралась за оставленную на столе книгу, хотя уже знала в ней каждую страницу.

Грузчики Одессы начала 20-го века
Почему я никогда не рассказывала об этом Роману Кармену? Наверное, потому, что в юности воспоминания детства - это редкие гости нашей памяти, и рассказывать о них кажется неинтересным. А познакомилась я с Романом Карменом, когда мы оба были очень молодыми, на заре нашей трудовой жизни. И так уж случилось, что историю о книге его отца я не рассказала ему ни тогда, ни позже. А ему, наверное, было бы приятно ее услышать: он бережно хранил намять об отце.
[1]
С Романом Карменом я встретилась в первые годы моего московского бытия, в веселую, беззаботную, полуголодную пору, когда отсутствие денег и постоянного крова над головой полностью погашалось уверенностью в счастье, которое обязательно придет. Никаких веских оснований для такой уверенности, в общем, не было, если не считать того обстоятельства, что в московских журналах появилось несколько моих стихотворений. Это были стихи о поездах, об угле, о водопроводе, о заводской проходной, о коммунальной квартире, о простых, зримых вещах, зримом реальном мире. Михаил Кольцов зорким своим взглядом усмотрел в моих сочинениях нечто, позволившее предположить, что я могу попробовать писать прозу. Кольцов дал мне первую командировку, напечатал в «Огоньке» мой первый очерк. Вскоре после этого мне предложили написать очерк для журнала «30 дней».
Страсть к сенсациям
Так назывался ежемесячный журнал короткого рассказа и очерка с большим количеством иллюстраций. Заместителем редактора и душой журнала был Василий Александрович Регинин, человек в каком-то смысле легендарный. У нас дома, под сиденьем старого кожаного дивана, хранились номера выходившего до революции «Синего журнала»; в одном из номеров целую полосу занимала фотография, где был изображен Регинин, снявшийся в клетке со львом. Эту фотографию я не раз восхищенно разглядывала в детстве. И вот случилось чудо: тот самый Регинин вызвал меня к себе.
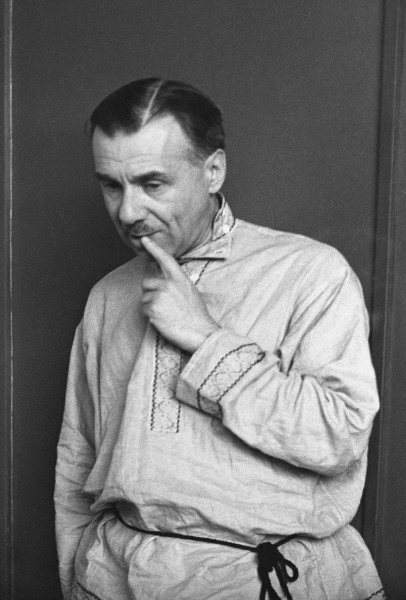
Журналист Василий Александрович Регинин (1880-1952)
К моему удивлению, он изменился мало: те же короткие, подстриженные усы, та же прическа с прямым пробором, галстук «бабочкой»... Даже бамбуковая легкая трость, стоявшая в углу его маленького кабинета, казалась мне той самой, с какой он когда-то входил в цирк. Регинин сидел за канцелярским столом, заваленным авторскими рукописями, а я, пяля на него глаза, видела его таким, каким запомнила по знаменитой фотографии: элегантным «бонвиваном», с беспечной храбростью развалившимся на стуле перед огромным, удивленно взирающим на него львом.
Страсть к сенсациям, оставшаяся у Регинина с давних времен, соединялась в нем с отличным знанием полиграфии, изобретательностью и редакторским чутьем. Журнал «30 дней» был прекрасно оформлен, в числе иллюстраторов были лучшие художники, фотографии отличались свежестью сюжетов с неожиданностью ракурсов. В литературном мире он знал всех и все знали его: не существовало, кажется, ни одного крупного писателя, какому не было бы известно, что в ту самую минуту, когда он закончит новый рассказ, его настигнет телефонный звонок Регинина, который будет просить этот рассказ для журнала и постарается первым его получить.
[2]
Была у Регинина еще одна черта: он любил «открывать» новые имена, с охотой привлекал в журнал молодых. Так на страницах журнала «30 дней» рядом с работами известных фоторепортеров появились снимки молодого Романа Кармена. Мало кто из репортеров - да и сам Кармен - могли предполагать, что это начало пути знаменитого кинооператора и кинорежиссера, будущего лауреата многих премий, будущего Героя Социалистического Труда..
Первый очерк для «30 дней»
И вот для журнала «30 дней» мне предстояло написать очерк.
В ту пору строительство новой Москвы представлялось нам огромным миром, полным увлекательных открытий.
Каждое новое здание, новый Дворец культуры или жилой дом воспринимались как событие не только общественного значения, но и нашей личной жизни. Заложенному фундаменту мы радовались так, как если бы это строился наш дом, хотя сами мы по большей части жили в комнатушках перенаселенных квартир, а о новом жилье и не помышляли. И все же, в широком смысле, это действительно строился наш дом, огромный светлый Дом нашего будущего, в которое вкладывал свой труд и силу своего сердца каждый из нас.
Количества поэтических сравнений и пышных эпитетов, какими был наполнен мой первый очерк для «30 дней», хватило бы, наверное, на несколько поэм. Регинин, усмехаясь в подстриженные усы, легко прошелся по моему сочинению карандашом, убавив чрезмерность молодой восторженности, и сдал очерк в набор. Вскоре он снова вызвал меня в редакцию, чтобы предложить новую тему.
Неожиданно для самой себя я стала часто печататься в журнале. Очерки обычно сопровождались большим количеством фотографий, и я старалась ездить на съемки вместе с фоторепортерами, чтобы подсказывать главные, по моему суждению, точки для съемки.
Однажды Регинин сказал, что на этот раз снимки к моему очерку будет делать Рима Кармен. И я решила позвонить Кармену и договориться, где и как мы встретимся, чтобы вместе поехать на съемку.
Мы не были знакомы и даже никогда не видели друг друга в глаза, что меня, впрочем, нимало не смущало: те годы были Временем Первых Знакомств, а это, как известно, прекрасная пора. Смущало меня иное обстоятельство: как мы узнаем друг друга? Место встречи для совместной поездки обычно назначалось на остановке трамвая, народу на остановке могло собраться много. Главной приметой, которая могла бы отличить моего будущего спутника, был, конечно, фотоаппарат. Но незадолго до этого, когда я договаривалась о съемке с другим фотографом, которого тоже не знала в лицо, со мной приключился такой конфуз, что снова упоминать об этой примете я побаивалась.
Встреча на остановке
В ту пору фотокамеры были довольно крупного размера, часто фотограф брал на съемку и штатив, на остановке я видела обычно нагруженного аппаратурой человека с тяжелой сумкой через плечо. Узнать его в толпе было очень несложно.
Но вот однажды Регинин сказал мне, что фотографии к моему очерку сделает Александр Родченко. Я позвонила по телефону Родченко, чтобы условиться о поездке: спокойный негромкий голос, ответив мне, назвал день и время съемки.
- А как мы найдем друг друга? - спросил спокойный голос в трубке. - Ведь вы же, наверное, меня не знаете...
- Не знаю, - сказала я беспечно. - Я вас никогда не видела. Но ведь найти вас очень просто.
- Очень просто? - с удивлением переспросил голос.
- Конечно! - ответила я весело. - Я сразу найду вас по фотоаппарату.
Наступила пауза. Несколько большая пауза, чем, казалось, было необходимо.
- Ну что ж...- наконец сказал спокойный голос. - Тогда все в порядке. Значит, до скорой встречи.
На трамвайной остановке, где мы условились встретиться, толпился народ: там проходили трамваи нескольких маршрутов. Пробираясь сквозь толпу ожидающих пассажиров, я внимательно вглядывалась, но человека с фотоаппаратом среди них не было.
Звеня и раскачиваясь, тяжелые трамваи подходили к остановке, их брали приступом; на ступеньках, держась за поручни, висели гроздья людей... Вскоре на остановке осталось всего несколько ожидающих. Но ни у одного из них не было фотоаппарата.
Напрасно я вглядывалась в прохожих, надеясь, что вот-вот появится человек с фотоаппаратом и сумкой через плечо. Его не было ни на остановке, ни среди прохожих. Дул холодный ветер, и в своем легком одесском пальто я изрядно озябла. Родченко не появлялся. И вдруг, когда я совсем отчаялась его увидеть, меня окликнул негромкий спокойный голос.
Широкоплечий, крепкого сложения человек с твердо очерченным лицом смотрел на меня, и мне показалось, что он с трудом сдерживает улыбку. Стоял на остановке он уже давно и, так же как я, кого-то ждал. За время ожидания я не раз пробегала мимо него, но не видала ни аппарата, ни штатива, ни сумки через плечо. Ничего этого у него не было. И тем не менее это был Родченко.
Фотокамера «Лейка»
Так я узнала впервые, что существует фотокамера «Лейка» - маленькая камера, которую можно спрятать в карман или повесить на ремне под пальто.

Объектив камеры в транспортном положении вдвигается внутрь, камера удобно помещается в кармане.
До встречи с Родченко я ни у кого такого аппарата не видела. Думаю, что по растерянности, с какой я металась на остановке, Родченко давно угадал, что я ищу именно его, полагаясь на кажущуюся мне неоспоримой примету, и не отказал себе в безобидной шутке. Тактично не замечая моего смущения, он подсадил меня в подошедший трамвай, и мы отправились на съемку.
Родченко сделал «Лейкой» несколько великолепных фотографий к моему очерку: это были новые дома, снятые в неожиданных и смелых ракурсах, с такой тонкой проработкой углов и объемов, тени и света, какая дана только мастеру.
И вот, припомнив встречу с Родченко и свою оплошность, я несколько призадумалась перед звонком новому моему спутнику для поездки на съемки, Роману Кармену.
Веселый, быстрый голос, ответивший по телефону, был так дружелюбен, что стеснительность моя сразу исчезла: через несколько минут мы разговаривали, как давние знакомые. И вдруг я снова запнулась: как же все-таки мы с ним узнаем друг друга?
- Проблемы нет, - сказал веселый голос - Я найду вас на остановке сам. На эту тему можете даже не думать.
Еще с площадки трамвая я увидела, что на остановке, как и в прошлый раз, толпится парод. Но не успела я сойти со ступенек вагона, как меня кто-то окликнул по имени.
Навстречу быстро шел легкий в движениях, мальчишески худой человек; у него было молодое красивое лицо и волосы, тронутые сединой, - от этой седины лицо казалось еще более молодым.
- Здорово! - сказал незнакомец, приятельски мне улыбаясь, - Сейчас вы услышите аплодисменты: это будет аплодировать вся улица от восторга, что я вас сразу узнал. Без всяких опознавательных примет.
Это был Рима Кармен.
Мы отправились на съемку спортивного бассейна, построенного неподалеку от большого московского завода. Открытие еще не состоялось, и тишина, царившая в высоком пустынном здании бассейна, была так прозрачна, что наши шаги звонко повторяло эхо. Голубая вода слепяще блестела, по светлым, облицованным плиткой стенам скользили солнечные «зайчики». Кармен обошел вокруг бассейна, потом легко, как белка, взобрался на вышку для прыжков... Он продолжал шутить, но глаза его впивались в каждую деталь, ничего не пропуская.
Необычайная легкость в работе
Я смотрела снизу, как он стоит на вышке и снимает: тонкая, мальчишеская его фигура четко прорисовывалась в голубоватом воздухе, а сзади на брюках была явственно видна большая, аккуратно пришитая заплата. Этой заплаты он не только не стеснялся, но, наоборот, носил ее с достоинством и элегантностью.
Да и чего, собственно, было стесняться? Латаные штаны и платья ничуть не омрачали нашей молодости.
По дороге на съемку Кармен рассказал мне, что живет вдвоем с матерью и ему приходится «здорово крутиться», чтобы заработать на хлеб насущный. Я его прекрасно понимала, потому что знала это по себе. И вместе с тем с первых же дней нашего знакомства я заметила у Кармена одну черту, которую потом не без зависти наблюдала много раз: необычайную легкость в работе. Неутомимый труженик, одержимо преданный своей профессии, он работал с такой незаметностью усилий, будто все давалось ему само собой, без всякого напряжения.
Кармен обладал счастливой уверенностью в доступности любой задачи, если по-настоящему решил за нее взяться. В первую же нашу встречу он рассказал мне смешную историю о том, как он начал кататься на велосипеде.
Велосипеда у него не было, а ему ужасно хотелось научиться ездить. Хотелось взобраться на седло и покатить по аллеям Петровского парка, где тогда были специальные дорожки для велосипедистов, мчаться навстречу ветру, с азартом крутить педали, наслаждаться своей невесомостью, упоительной скоростью движения... Ему по ночам снилось, что он едет на велосипеде.
Приятель, у которого был велосипед, взялся его учить. Выйдя во двор, приятель стал подробно объяснять, как нужно садиться на велосипед, как держать руль, как трогаться с места, не боясь упасть... Переминаясь от нетерпения, Кармен, не слушая, взял из его рук руль, вскочил на седло и поехал. Сделав несколько кругов по двору, он вылетел в переулок и помчался с такой быстротой, будто ездил уже множество раз.
- Он решил, что я ему наврал, будто не умею ездить, - рассказывал мне Кармен, заливаясь смехом. - Но, честное слово, я сел на велосипед впервые! Просто я давно об этом думал и очень хотел покататься. Вот и все...
Легкость в обучении
Мы часто ходили в Дом печати, как тогда назывался Дом журналиста, туда стремилась попасть молодежь. В Доме печати выступал Маяковский, устраивались диспуты, открывались выставки, каких нельзя было увидеть в другом месте; там можно было встретить знаменитостей, имена которых казались нам легендарными. Иногда, в дни получения гонорара, можно было даже рискнуть пообедать в тамошнем ресторанчике.
Как-то, придя в Дом печати, я увидела на доске объявление о соревновании снайперов. Рядом висел список победителей: первое место занял Кармен.
Стрелять из снайперской винтовки он, наверное, научился с такой же легкостью, как и ездить на велосипеде. Легко давались ему и более серьезные и, как теперь я понимаю, жизненно важные для него дела. Он поступил во ВГИК с первого же захода, причем ни разу не говорил, когда и как успевает готовиться к экзаменам, хотя мы и часто встречались в ту пору. Став студентом, он продолжал ездить на съемки, зарабатывать на жизнь фоторепортажем и никогда не жаловался, что «здорово крутиться» не так-то просто, если одновременно надо учиться в институте и вовремя сдавать зачеты.
Москва была полна событий, каждый день в ней происходило что-нибудь интересное, новое, привлекающее внимание... И каждый день на углу Тверской, как тогда называлась улица Горького, и Малого Гнездниковского переулка в фотовитрине появлялись новые снимки, рассказывающие о происшедших за сутки событиях. Фоторепортер должен был повсюду успеть, ничего не пропустить, не опоздать доставить лучшие снимки к нужному сроку, чтобы они попали на фотовитрину. Это была отличная школа оперативности и мастерства для каждого фотокорреспондента.
Однажды в Москву приехал из-за рубежа прославленный писатель, встречать его на вокзале собралось много народа; каким-то образом оказалась в числе встречавших и я. Поезд медленно подошел к перрону; возле выхода из вагона, в котором ехал знаменитый гость, собрались, кажется, все лучшие фоторепортеры Москвы. Тесня друг друга, они пытались пробиться как можно ближе и занять лучшее для съемки место.
Снимки молодости
И тут я увидела Кармена.
Он стоял на крыше вагона - стройный, крепкий, как тугая пружинка, - стоял совершенно один и снимал сверху, с точки, где никто ему не мешал. Знаменитый гость прошел вперед, и Кармен с акробатической ловкостью перескочил на крышу другого вагона. Пока шла процедура встречи, он не переставал щелкать затвором, делая один снимок за другим, а потом наклонился и громко назвал фамилию писателя. Тот удивленно поднял голову, посмотрел вверх и, увидев стоящего на крыше вагона Кармена, улыбнулся. Кармен успел снять его улыбающееся лицо; это был лучший появившийся в печати снимок.
Известна разница между глаголами «смотреть» и «видеть»: бывает, что мы смотрим на мир широко раскрытыми глазами, не умея по-настоящему видеть свет и краски, тени и линии, - живые подробности, тонкие, чуть прорисованные детали, без которых целое может утратить свою силу и полноту. Рано постигнув умение видеть, молодой Кармен охотно делился этой наукой с другими; товарищескую щедрость его я узнала на собственном опыте.
В первую нашу встречу, когда, возвращаясь после съемки, мы ехали через всю Москву на петляющем по улицам и переулкам трамвае, у нас было много времени для беседы. Держась друг за друга, мы стояли на задней площадке раскачивающегося вагона и говорили обо всем, что приходило на ум.
Я созналась ему, что пробую фотографировать; Кармен тут же вызвался меня учить. Не прошло и недели, как мы вместе отправились в Парк культуры и отдыха, вооруженные фотокамерами: Кармен - своей «зеркалкой», а я - стареньким, подаренным мне отцом аппаратом.
В тот солнечный день я поняла, как много можно открыть в окружающем мире, если умеешь видеть.
Я поняла, что вода реки может быть одновременно тусклой и сверкающей, а листва деревьев темной или полной подвижных бликов, - все зависит от того, откуда и как ты ее видишь. Обычный шланг для поливки, лежащий на теплой, пыльной земле, может волшебно ожить: вот шланг вздулся, наполнившись водой, и тотчас же, с шипеньем и треском, вода вырвалась из него, засверкав на солнце тысячью искр, блистая радужной окраской, рассекая воздух тугой, свежей, лучистой струей...
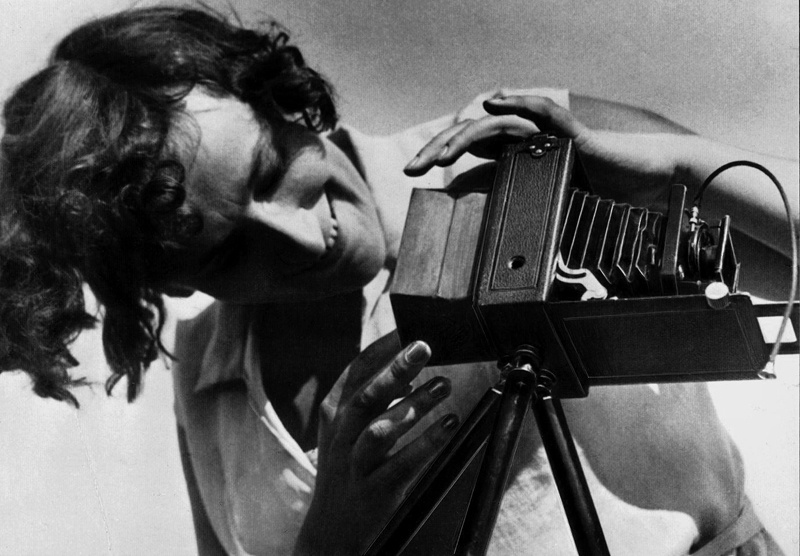
Корреспондент «Известий» Татьяна ТЭСС (январь 1933)
Автор: Роман Кармен
Увлечение фотографией
Ствол дерева, павильон на лужайке, тенистая аллея, читающий газету толстяк, загорелый спортсмен в байдарке, стройный, как тополек, фонтан, смеющийся ребенок - все это могло проскользнуть мимо, не отпечатавшись в сознании, но могло и стать твоей находкой, твоим открытием, богатством, которое унесешь с собой.
Я узнала, что такое неповторимость минуты, хрупкое чудо, которое так легко упустить: на миг замешкалась, и вот уже облако, в какое не успела вглядеться, убежало, слилось с другими, свет изменился, тень расплылась - и картина, что так манила и радовала, исчезла бесследно, ее уже не повторить. Быть может, увидишь другое облако, другие пятна света на листве, быть может, они будут еще красивей и ярче, но того, что упустила, не вернуть...
Стоя рядом со мной, Кармен учил меня видеть, наводить на фокус, определять выдержку, я щелкала затвором, и стеклышки пластинок послушно вбирали образы жизни в их живой прелести.
Фотографированием я увлеклась, но в дальнейшей жизни фотокамера все же не стала моей постоянной спутницей. Литература заняла все мои помыслы, увеличитель я забросила, фотоаппарат подарила. Так уж сложилось. Но удивительный день, проведенный с Карменом, помнится с такой явственностью, словно это было вчера: веселый и добрый мой спутник научил меня видеть в окружающем мире многое, чего я не видела раньше. Уроки фотографии, которые он дал, помогли тогда сделать снимки дорогих мне людей, ставшие для меня драгоценными.
В ту пору дружбы завязывались быстро: наши молодые, раскрытые ко всем впечатлениям души требовали общения. Мы много работали и в то же время старались повсюду успеть: пойти по контрамарке в театр (лучшие спектакли Художественного театра я посмотрела, сидя на ступеньках бельэтажа), обсудить новый роман Эренбурга, прорваться на вечер поэзии в Политехнический, послушать знаменитого Боровского в Большом зале Консерватории, потанцевать на вечеринке под модную пластинку «Района»... До чего же длинными были тогда дни!
Как-то Кармен радостно сообщил мне, что едет в Ленинград. Вскоре от него пришло письмо - он остановился в семье Чуковских, которую знал с детства. Не знаю, как это получилось, но на письмо я сразу не ответила и тут же получила от него второе.
Возвращение из труднейшего автопробега
Конверт был пухлым, словно в нем лежала целая пачка исписанных страниц, я вскрыла его и вдруг из конверта выпрыгнуло на меня что-то новое, упругое, ударив прямо в лоб.
Оказалось, что в отместку за молчание Кармен упрятал в бумагу большую пуговицу с туго закрученной в рогульку резинкой; освободившись из конверта, пуговица прыгала прямо на адресата, как развернувшаяся пружина. Оправившись от испуга, я нашла в конверте маленькую, лукаво торжествующую записочку...

Кинооператор Роман Кармен ведет съемку на ледоколе «Иосиф Сталин» (1939 год)
Автор: Дмитрий Дебабов
Когда Кармен сменил фотокамеру на киноаппарат? Зная легкость, с какой он овладевал каждым новым для него делом, я тогда не поняла серьезности этой перемены для всей его дальнейшей судьбы. Киноаппарат сразу стал казаться неотделимым от Кармена, словно был в его руках всегда. Могущество этого аппарата и значение его в жизни моего товарища я осознала по-настоящему только тогда, когда Кармен оказался в Испании.
Он вернулся из труднейшего автопробега длиною в тридцать тысяч километров, по маршруту Москва - Каракумы - Москва.

Оператор Роман Кармен среди участников автопробега в одном из горных районов. Фото: www.rus-texnika.ru.
Случилось так, что колонна машин, завершая в Москве свой огромный путь, остановилась около Красной площади: улицу преграждала цепочка милиции. На Красной площади шел массовый митинг москвичей - митинг солидарности с испанским народом, поднявшимся на борьбу с мятежной фашистской военщиной.
И Кармен, исхудавший, выжженный солнцем пустыни, кинооператор и водитель, на ладонях которого еще не зажили мозоли от лопаты, какой он откапывал застрявшую в песчаных барханах машину, а в складках походной куртки белел каракумский песок, - Кармен тут же принял решение сделать все от него зависящее, чтобы улететь в Испанию.
Каждое утро, открывая газеты, мы искали сообщения из Испании, телеграф приносил горячие новости из Мадрида, Барселоны, Севильи: там шли уличные бои. Города, само название которых еще недавно звучало для нас романтично и певуче, как музыка, сейчас стали символом борьбы и мужества народа.
Рассказы Кармена
В старых журналах и книгах мы разыскивали фотографии прекрасного, мирного Мадрида и вглядывались в них, стараясь представить эти улицы и дома в чугунном кружеве витых балкончиков такими, какими они стали: наполненными едким дымом, засыпанными щебнем и осколками разорвавшихся снарядов. Карабанчель-Бахо, Университетский городок, парк Каса дель Кампо - все эти названия стали нам хорошо знакомы; повторяя их, мы видели перед собою баррикады, воронки, израненные деревья, разрушенные стены... В «Правде» появлялись корреспонденции Михаила Кольцова: вернувшись из окопов, он писал их в мадридском отеле под завывание сирен воздушной тревоги, а иногда и прямо в окопе, пристроив блокнот на колене...
О том, что Кармен вместе с оператором Борисом Макасеевым улетел в Испанию, я узнала только тогда, когда он оказался на испанской земле: отлет был внезапен, с соблюдением секретности, - видимо, потому, что предстояло лететь через фашистскую Германию, уже ставшую на сторону испанских мятежников.
Из рассказов Кармена, услышанных много позже, мне особо запомнился один.
Кармен рассказал, как в первые же дни он оказался в Сан-Себастьяне, дорогом, изысканном испанском курорте. Знаменитый бульвар был залит солнцем, неторопливо гуляли нарядно одетые люди, красивая молодая женщина катила по аллее детскую коляску, на скамейках сидели, обнявшись, влюбленные... Пахло морем, розами, вода бухты была неподвижна, все дышало покоем, и почти не верилось, что где-то идет война. Теплый воздух был так пьяняще ленив, что Кармен неторопливо зашагал по бульвару, снимая беспечно прогуливающихся людей.
И вдруг он осознал, что война совсем рядом.
Ударила тугая волна воздуха, земля содрогнулась, Кармена оглушило взрывом. Из стеклянной морской лазури вырвался, высоко взлетев, водяной столб. Послышались крики, толпа рассыпалась, побежала... Раздался второй взрыв, Кармен успел спять фонтан воды, грозно взлетавший в воздух, и тут же развернул камеру на бегущую толпу.

Осада Алькасара, Толедо 11 - 26 сент. 1936. Роман Кармен c киноаппаратом во время осады Алькасара.
Рассказ Кармена о встрече
Мелькнуло искаженное ужасом лицо женщины, она бежала, задыхаясь, по аллее бульвара, толкая перед собою детскую коляску.
- Понимаешь, ее лицо меня поразило, - сказал Кармен. - Я направил камеру на нее и снимал эту бегущую женщину столько, сколько смог. На полный завод пружины камеры.
- О чем ты в это время думал? - спросила я. Сама я думала о том, каково ему было снимать под обстрелом. Выросший в мирной стране, он никогда ведь не слышал до этого, как рвутся снаряды.
- И потом что было?
- Что потом? - удивился Кармен.- Я же сказал тебе, что снял на полный завод. Женщина исчезла, я сменил оптику, поставил другой объектив. Ясное дело. И стал ждать нового разрыва. И тут громыхнуло прямо в середине бухты, и с такой силой... Столб воды чуть не до облаков! На бульваре уже ни души, только вдали вижу Макасеева, а снаряды летят уже прямо над головой: оказалось, это бьет по Сан-Себастьяну мятежный крейсер. Мы все это потом сняли - раненых жителей, развалины, развороченные клумбы с цветами...
Ничто не могло остановить Кармена, если он считал, что ему необходимо быть с кинокамерой в горячей точке. Он снимал в Испании боевые эпизоды на передовой, снимал пилотов на полевом аэродроме, ездил на Арагонский фронт, был под Уэской, снимал бои на окраинах Овиедо, митинги в Барселоне, колонны беженцев на дорогах в Мадрид, - да где только он не был! В «Известиях» появились его корреспонденции из Испании, он и здесь остался верен себе, легко овладев новой для него профессией: это были корреспонденции профессионального журналиста.
Я помню его рассказ о том, как после Мадрида он встретил Кольцова в Бильбао и как они обрадовались друг другу. Сев за руль машины, Кармен долго возил Кольцова по тревожному и сумрачному городу.

Роман Кармен и Михаил Кольцов
Слушая его рассказ об этой встрече, я старалась представить улицы Бильбао, вокруг которого уже сходилось грозное кольцо, а перед моими глазами неотступно стоял Никитский бульвар, Дом печати, пожилой инструктор, терпеливо учивший нас водить машину. Как запомнилась эта старенькая, дребезжащая учебная машина, за руль которой мы с Карменом попеременно садились, и то, как долго не давался мне подъем с ручного тормоза в гору на Трубной, а Кармен великодушно это прощал и не подшучивал надо мной... И вот где привелось ему, вспомнив московские наши поездки, сесть за руль - в Испании, в столице басков, в суровом, осажденном городе, на окраинах которого уже рыли окопы. Могли ли мы представить себе это?
Возвращение Кармена в Москву
Много удивительных рассказов услышала я от своего товарища. Он рассказывал, как в штабе 12-й интербригады, разыскивая легендарного генерала Лукача, увидел идущего ему навстречу улыбающегося человека, приветливого, свежевыбритого, с добрыми внимательными глазами, - и узнал в нем Матэ Залку. Несколько раз ему попадался на глаза плотный, плечистый здоровяк, неуклюже шагающий по окопам. Незнакомец был одет в светлый, перепачканный окопной глиной плащ, под которым топорщился мешковатый пиджак и свитер; на голове у него был черный баскский берет. Однажды их познакомили, это оказался Хемингуэй.
Потом они встречались не раз, Кармен провел у Хемингуэя несколько вечеров в его накуренном, всегда забитом людьми номере мадридского отеля «Флорида». Изрешеченные осколками стены этого отеля приютили в ту пору писателей, журналистов, кинооператоров, фоторепортеров многих стран; до передовой от отеля было, что называется, рукой подать. Кармен быстро стал известен во «Флориде»; его общительность, храбрость, открытый и дружелюбный нрав помогли ему снискать расположение всех, с кем он встречался в Испании.
При первой же возможности кассеты с кинопленками отправлялись в Москву. Возле московских кинотеатров выстраивались на улице длинные очереди: люди стремились посмотреть хроникальные кадры испанских событий. Из материала, снятого Карменом и Борисом Макасесвым, на экраны вышли двадцать два выпуска кинохроники «К событиям в Испании». Я хорошо помню эти выпуски, - забыть их нельзя.
И вот Кармен снова в Москве.
Он все такой же - живой, веселый, неутомимый, но, мне кажется, что-то изменилось в его лице, оно стало чуть строже. ...Один хороший писатель сказал, что седина приходит, как снег: утром проснешься - и все кругом белым-бело. К Кармену это не относилось: поседел он чуть ли не с юности, и все мы давно привыкли к его седине. Но все же, все же... Я не могла избавиться от ощущения, что он изменился: в углах его рта пролегли две четкие морщинки, я видела их впервые.
Сборы в «горячую точку»
Мы по-прежнему были друзьями, по-прежнему встречались, но не так часто, как раньше: Кармен уже давно не фоторепортер, и на съемки мы вместе больше не ездили. Однажды, столкнувшись на улице Горького, мы радостно кинулись друг к другу и тут же решили пойти пообедать в Дом литераторов.
Там, сидя за цыплятами табака, Кармен сообщил словно мимоходом, что на следующий день улетает - опять в «горячую точку». Он не объяснял, куда, и я, по понятным причинам, не спрашивала. Когда мы вышли после обеда на улицу, он сказал, что хотел бы показать несколько снятых в Испании фотографий, - мне, наверное, будет интересно на них взглянуть. Был он, как всегда, оживлен, много рассказывал за обедом, и вместе с тем я вдруг почувствовала, что ему не по себе и не хочется оставаться одному.
Чутье меня не обмануло: выяснилось, что близкие Кармена были в отъезде и возвращался он в пустую квартиру, а перед далекой, долгой и трудной поездкой у человека не всегда бывает легко на душе. В квартире не оказалось «холостяцкого» беспорядка, но вместе с тем на всем лежала неуловимая печать запустения и неуюта, какая бывает во время отсутствия хозяйки. В кухне мурлыкал белоснежный холодильник - это был первый холодильник, который я увидела: в ту пору у нас еще их не выпускали. Кармен открыл блестящую толстую дверцу, - на пустых полках одиноко стояла бутылка «Боржоми».
Он разлил ледяное «Боржоми» по высоким бокалам, стекло сразу запотело, мы молча выпили. Открыв ящик стола, Кармен достал папку с фотографиями.
На одной из них я увидела его самого, он весело улыбался, сидя на земле рядом с плечистым человеком в черном баскском берете и потертой светлой куртке. Человек сидел, обхватив руками колени; его большие ноги в пыльных башмаках крепко уперлись в землю, за спиной темнели недавно вырытые окопы. Это был Хемингуэй.

Роман Кармен, Эрнест Хемингуэй, Йорис Ивенс
Показывая фотографии, Кармен повеселел, стал снова рассказывать об Испании. Я попросила, чтобы он подарил мне фотографию, где снят вместе с Хемингуэем, он сказал, что надпишет ее, «за себя и за мастера», вытащил толстую самопишущую ручку, прищурился, обдумывая надпись...
Тяжелая поездка
И вдруг из пера, прямо на мое платье, брызнула струя ярко-синих чернил. По светлой ткани расплылось большое темное пятно.
- Эй! Что ты наделал! - закричала я. Платье было новым, а при моих тогдашних заработках я не предполагала, что смогу вскоре сделать себе другое. - Ты что, не мог осторожней?
- Подумаешь! - спокойно ответил Кармен - Велика беда...
- Да ведь это же чернила, их не выведешь никакой чисткой! - сказала я огорченно и вдруг запнулась: чернильное пятно
неожиданно стало бледнеть.
В растерянности я смотрела, как огромное пятно на моем платье таяло, уменьшалось и наконец исчезло совсем. Будто его никогда и не было. Тут я увидела, что Кармен смеется.
Смех у него был заразительный, лукавый; глядя на него, стала смеяться и я.
Оказалось, что он специально для розыгрыша привез откуда-то этот сувенир - ручку, заправленную жидкостью особого химического состава: под воздействием воздуха «чернильное» пятно исчезало, не оставляя следа.
Так, смеясь, мы расстались, и я была рада, что прощанье наше оказалось веселым.
На следующее утро Кармен улетел. Поездка действительно оказалась тяжелой и длительной.

Роман Кармен снимает партизан особого района Китая (январь 1939) Автор снимка неизвестен.
Снова встретились мы не скоро и, но странному совпадению, опять на улице Горького, в том же месте, где судьба нас столкнула в прошлый раз.
В ушанке и светлом полушубке, с военной портупеей через плечо, Кармен быстро шагал по улице. Заснеженная, малолюдная, с витринами, закрытыми мешками, наполненными песком, улица Горького выглядела совсем не так, как в прошлую нашу встречу. Москва стала другой. Стали другими и мы.
Дополнение от Р.Кармена
Съемки в жесткий мороз
Это был декабрь 1941 года, первая военная зима.
Прошло всего несколько месяцев после начала войны, но сколько событий произошло за это время и в жизни каждого из нас! Нам с Карменом казалось, что мы не видели друг друга вечность. Мы вместе пошли в редакцию «Известий»: я жила там на казарменном положении, один из редакционных кабинетов заменил мне мой дом. Кармен радостно сообщил, что у него есть целый час свободного времени, но как короток, как мал оказался этот час, если в него надо было вместить все, что пережито с первого дня войны..
Кармен говорил быстро, перескакивая с одной темы на другую, но в рассказе его была такая удивительная четкость изображения, что я зримо представляла каждый пережитый им фронтовой эпизод, словно видела их на кинопленке.
Я видела Кармена с кинокамерой в руках, снимающим все, что мог схватить объектив: бой у деревни, горящие поля, раненых в медсанбате, сбитый фашистский самолет, бредущих по дороге беженцев, пленного эсэсовца, пулеметный расчет, плачущих у сгоревшей избы детей... Воспоминание о раненном в живот, умирающем солдате, которого он нес на спине, пытаясь спасти ему жизнь, прерывалось рассказом о счастливом июльском дне, когда его чудом соединили по полевому телефону с московской квартирой и он узнал, что у него родился сын, впервые услышал сквозь разряды и треск в телефонной трубке далекий звонкий крик своего ребенка...

Нина Орлова и Роман Кармен с сыном Александром[3]. 1941 год.
Я спросила его о боях под Москвой, и Кармен стал рассказывать, как трудны были съемки в жестокий мороз, когда пар от дыхания превращался на лету в иней, а кинооператоры отогревали замерзающие камеры на груди и продолжали снимать, чтобы запечатлеть картину великого сражения. Никто из них тогда не думал о масштабности будущего фильма, важно было схватить живую, горячую правду события. Кармен старался как можно больше мне рассказать и вдруг остановился, что-то вспомнив...
Он вспомнил старую женщину, встретившуюся в освобожденной деревне, и стал рассказывать, как стояла она на заснеженной дороге, как обнимала вошедшего в деревню бойца, гладила его лицо почерневшими руками, потом торопливо крестила уходящих вперед солдат и смотрела им вслед, а по ее щекам текли и замерзали слезы...
Уезд Кармена на фронт
Позже я увидела эти кадры в фильме «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», в фильм вошли и съемки Кармена. Но впервые я узнала эту старую женщину по его рассказу, и, когда она появилась на экране, мне казалось, что я знаю каждую морщинку на ее лице и те полные слез глаза, - глаза солдатской матери...
Вскоре Кармен снова уехал на фронт. Когда он попадал в Москву, то, случалось, забегал к нам в редакцию «Известий».
В затемненном, заснеженном городе здание редакции было островком, где за плотно зашторенными окнами горел яркий свет, было тепло и в редакционных кабинетах жили и работали несколько человек; все остальные были на фронте.
На пятом этаже находилась комната военных корреспондентов, которую мы называли «казармой». Когда военкоры уезжали, в комнатке царила степенная тишина. Но вот «казарма» наполнялась шумом, громким говором, запахом военных полушубков, на столе рядом с исписанными листами бумаги появлялись концентраты гречневой каши, ржаные сухари: мы встречали приехавших с фронта товарищей - Евгения Кригера
[4], Леонида Кудреватых
[5], Петра Белявского, Павла Трошкина
[6]... Приходил в «казарму» и писатель Евгений Петров
[7], бывал там, вернувшись после поездки в партизанский штаб, Ираклий Андроников
[8]. Над дверью в «казарму» висел нарисованный художником Виталием Горяевым удивительный петух: клюв его был задорно приоткрыт, петух показывал большие, крепкие зубы...
За стеной кабинета, в котором я жила, находилась комната Владимира Лидина:
[9] он был в ту пору специальным корреспондентом «Известий» и тоже жил на казарменном положении в редакций. Владимир Германович писал много, газетные очерки давались ему легко. Сквозь стену я слышала, как быстро и дробно звучит его пишущая машинка, потом стук затихал и было слышно громкое чтение: Лидин, закончив очерк, любил читать его самому себе вслух. Читал он не торопясь, что называется, «с выражением», и я, вздыхая, слушала сквозь стенку его мерный голос. Сама я писала медленно, мучаясь над каждой строкой, и быстрота, с какой Лидин справлялся с очередной работой, вызывала во мне отчаянную зависть.
Встреча в Колонном зале Дома Союзов
Некоторое время я совсем не видела Кармена. И вот мы встретились снова.
Произошло это в Колонном зале Дома Союзов. По вечерам в Москве часто объявляли воздушную тревогу, и концерты, так же как спектакли, бывали обычно днем. В тот день в Колонном зале впервые исполнялась Седьмая симфония Шостаковича.
Никогда, кажется, люстры знаменитого зала не излучали столько света. Они свисали с потолка подобно сияющим гроздьям, свет дробился и сверкал, отраженный белизной колонн. На первое от прохода место в задних рядах партера смущенно сел тоненький, как подросток, человек в больших очках; на затылке его мальчишески торчал белокурый хохолок... Я сразу узнала этот взгляд, открытый и вместе с тем замкнутый, узнала это нежное лицо, застенчивое, чуть настороженное, словно человек прислушивался к чему-то слышимому ему одному и сам смущался своей таинственной силы...
Это был композитор Дмитрий Шостакович.

С той поры я много раз слушала Седьмую симфонию, но ничто по могло сравниться с чувством, пережитым во время тогдашнего исполнения. Белые колонны, люстры, переполненный слушателями зал - все исчезло, словно смытое певучей волной: осталась лишь музыка, и она говорила с каждым из нас.
Музыка говорила о недавнем счастье мирной жизни, прерванной нападением врага, мы слышали злую барабанную дробь, рыдания женщин, крик осиротевших детей, стук вражеских сапог, топчущих нашу родную землю. И наконец сквозь мучительную, нарастающую боль звучаний, сквозь терзающие душу голоса проступала великая гармония победы, дыханье светлого утра и звучал обращенный ко всем нам могучий, чистый и счастливый голос Родины...
Руки у меня похолодели от волнения, сердце сжималось; музыка завладела всем моим существом. Неожиданно я почувствовала на себе чей-то взгляд и оглянулась.
У одной из колонн стоял Кармой. Мы даже не кивнули друг другу — так велико было наше волнение. Мне показалось, что по его лицу скользнула смутная грустная тень...
Эпизоды съемок Кармена
Спустя некоторое время я оглянулась снова. Кармена у колонны уже не было, там стоял кто-то другой.
Позже я узнала, что прямо из Колонного зала Кармен уехал в блокадный Ленинград - грузовик ждал его в переулке. Вместе со съемочной аппаратурой он вез в Ленинград продовольствие для группы кинооператоров, работавших в кольце блокады.
С того дня мы не встречались очень долго.
Это не значит, что я ничего не знала о своем товарище. Мне доводилось бывать в Лиховом переулке, на Студии документальных фильмов; в маленьком просмотровом зале прокручивали кинопленки, привезенные с фронтов.
Горящие здания, улицы, на которых шел бой, переправы под бомбежкой... Глядя на экран, я думала о том, что человек с киноаппаратом бежал по лестнице этого горящего здания, лежал в щели рядом с этими пулеметчиками, полз по размытому дождем полю во время обстрела, находился на переправе, когда ее бомбили, короче говоря, все, что он снимал, видел вплотную, находясь рядом с событием. Кинооператоры, усталые, с обветренными лицами!
Среди эпизодов, которые прокручивали в будке просмотрового зала, были и съемки Кармена. С их помощью можно было определить, где он в то время находился. Вот он со своей кинокамерой на Висле, вот на Одере; вот его съемки на площади перед рейхстагом; вот он вместе с другими операторами снимает в зале, где подписывается акт о безоговорочной капитуляции фашистской армии...
Когда мы снова встретились, он показал мне белую эмалированную табличку с надписью «Унтер-ден-Линден»
[10], - табличка была наискось прошита пулеметной очередью. Кармен привез ее из поверженного Берлина, сняв со стены разрушенного дома.

Роман Кармен снимает у Бранденбургских ворот (май 1945)
Автор: Евгений Халдей
(Унтер-ден-Линден (нем. Unter den Linden — «Под липами») — улица идёт от Бранденбургских ворот и Парижской площади на восток до реки Шпрее,)

Три товарища: Роман Кармен, Евгений Долматовский, Евгений Халдей (2 мая 1945)
Автор: Евгений Халдей
Я долго держала в руке табличку, потом, подняв глаза, посмотрела на Кармена... Он улыбался, довольный произведенным впечатлением, и на его лице я прочла хорошо знакомую мне озорную гордость, словно передо мной был не прошедший дороги войны известный кинооператор, а все тот же мальчишка, друг моей юности, с торжеством показывающий очередную удивительную находку...
Сценарий о строительстве нового здания МГУ
Прошло несколько лет после конца войны. И вдруг как-то вечером позвонил телефон, и я услыхала в трубке знакомый веселый голос.
Это был Кармен; он предложил мне написать сценарий документального фильма.
- Будем писать вместе, работать на пару, как раньше, - говорил Кармен, - Помнишь, как было здорово?
Мне тоже, как и ему, захотелось этой совместной работы, как на «утро наших дней»; она представлялась увлекательной, легкой, верилось в ее удачу... И вот однажды, встретившись у Кармена на квартире, мы начали диктовать стенографистке первые эпизоды сценария. Воображение наше заработало, сюжеты рождались один за другим, мы диктовали наперебой, щеголяли друг перед другом находками, метафорами... Хорошенькая глазастая стенографистка едва поспевала за нами. Из соседней комнаты жена Кармена Нина кричала сонным голосом: «Что вы так расшумелись ни свет ни заря, я еще хочу спать...» Но мы не могли утихомириться, пока не отдиктовали страниц двадцать.
Это был сценарий о строительстве нового здания МГУ. Почему он остался недописанным? Сейчас на это трудно ответить. Наверное, потому, что требовательные наши профессии призвали нас к другим темам и разлучили друг с другом. Но судьба все же снова свела нас в работе, хотя и не так, как мы предполагали.
Я уехала в командировку в Баку, писать о морской нефти. В те дни на Нефтяных Камнях гремело имя бурового мастера Михаила Каверочкина. Я собралась переправиться к нему на буровую, но мне отсоветовали: Каверочкина ждали в городе, он должен был вскоре вернуться на берег.
Наконец день возвращения наступил.
В новом поселке, по жаркой, залитой солнцем улице с победными криками бежали ребята, загорелые, с облупленными от солнца носами и щеками. Ребят было множество, целая армия, и бежали они посреди проезжей части, остановив движение. За ними шли родные, друзья, соседи, у одних были в руках цветы, другие несли сумки, в которых желтели дыни и матово светились тяжелые гроздья винограда.
Труд бурового мастера
В центре этого удивительного шествия шагал сам Каверочкин: широкоскулое его лицо сияло. По одну сторону от Каверочкина шла его жена, а по другую - мать, высокая женщина, прямая, как ружье, в черном платье и черном платке. Мать шагала молча, торжественно, глядя поверх всех голов в какую-то видимую ей одной точку.
По пути Каверочкин остановился у киоска с надписью «Минеральные воды»; в ящиках рядом со славянской водой было выставлено шампанское. Он купил, наверное, с десяток бутылок шампанского, и мальчишки, расхватав из его рук горячие от солнца бутылки, ликующе понесли покупку к его дому. Стол, в большой комнате уже был уставлен южным угощеньем: пылали помидоры, благоухала икра из синих баклажан...
Каверочкин сел на почетное место; рядом, не снимая черного платка, села мать, ее лицо по-прежнему было торжественным и строгим. Послышались залпы открывающихся бутылок; теплое шампанское с силой вырывалось из горлышек. Вместе со всеми пила за здоровье хозяина и я, наслаждаясь открытой доброй радостью этой встречи мастера, вернувшегося на берег после долгого отсутствия. Что такое Нефтяные Камни, я узнала, побывав там сама.
Только тогда я поняла, сколько мужества и силы требует труд бурового мастера, день и ночь борющегося со стихией, когда скалистый островок, на котором установлена вышка, сотрясается от ветра и ударов тяжелых воли...
Настал день, и я встретилась с Каверочкиным снова. На этот раз я увидела его не в море и не на берегу, а на экране, в фильме «Повесть о нефтяниках Каспия»
[11] Романа Кармена.

Странное чувство я испытала, смотря на экран. Я забыла, что хочу писать об этом фильме, забыла о просмотровом зале, о том, что сижу в зале не одна, а с мастерами кино, тоже пришедшими на просмотр. Мне чудилось, что вернулись дни юности, казалось, что я снова, как раньше, была на съемке вместе с моим другом, и Кармен снимал именно то, что было мне всего важней. Вот Каверочкин в мокром брезентовом плаще стоит на сотрясаемой штормом вышке, и слова его команды, обращенные к подручным, смешиваются с грохотом волн. А вот он в короткие минуты отдыха - загорелый, усталый человек с детскими голубыми глазами. Он присел не то на доски, не то на ящик, он молчит, уйдя в свои мысли, обветренное его лицо полно спокойной, простодушной доброты...
Голос человека с кинокамерой в руках
Когда налетел небывалой силы шторм, Каверочкин погиб, не покинув своего поста на разведывательной буровой...
Кармен долго жил в море вместе с нефтяниками, по-настоящему полюбил их — не только как героев фильма, но как близких друзей. Спустя несколько лет он сделал о нефтяниках второй фильм, «Покорители моря»,- обе работы ему были по-особому дороги. За создание двух этих фильмов Кармен был удостоен Ленинской премии, - и какое же это счастье для мастера, когда награжден не только его труд, но и его открытое людям сердце...
Годы шли, ни для кого они не проходят бесследно, но, казалось, Кармена их власть коснуться не может. Он по-прежнему был бесстрашен, легок, подвижен, по-прежнему оказывался в «горячих точках», как бы далеко на земном шаре они ни находились. Но где бы он ни был: в джунглях Вьетнама, на Кубе или в Чили, - его не оставляла мысль о главной работе, которую он видел для себя впереди. Он мечтал создать документальную киноэпопею о Великой Отечественной войне.
Когда мы с ним встретились, он тут же стал рассказывать мне о своих планах. Это было в театре «Современник», на одной из премьер; мы стояли в фойе, мимо нас степенно прогуливались нарядные зрители, а Кармен увлеченно рассказывал, сколько в фильме будет серий, кого он хочет сделать ведущим, каким ему видится заключительный эпизод.
Главную работу своей жизни Кармен успел закончить, но увидеть ее на экране кинотеатров судьба ему не дала. Жизнь его оборвалась раньше.
Миллионы зрителей в разных странах, в разных частях земного шара смотрели киноэпопею «Великая Отечественная», миллионы людей услышали в заключительном фильме «Неизвестный солдат» голос Кармена.
Он звучал с экрана, этот знакомый голос, быстрый и мягкий, - голос, полный молодой, невянущей силы.
Голос человека с кинокамерой в руках, талантливого мастера и труженика, который успел за свою жизнь увидеть и показать на экране несчетное число счастливых и горестных событий, происходящих на большой, беспокойной и прекрасной нашей Земле.
Послесловие
С первого дня войны советские кинооператоры стали военными людьми в полном смысле этого слова. Кармен был назначен руководителем одной из фронтовых киногрупп. Он принимал участие в создании кинолетописи Великой Отечественной войны: снимал разгром немцев под Москвой, блокадный Ленинград, Сталинградскую битву и пленение фельдмаршала Паулюса, взятие Берлина. Его камера запечатлела торжественный акт капитуляции фашистской Германии. В 1946 году он присутствовал на Нюрнбергском процессе, создав фильм «Суд народов».
Кончилась война, и боевые эпизоды сменились на экране темами мира и труда. Роман Кармен снимает фильм «Повесть о нефтяниках Каспия». Через несколько лет он снял его продолжение — «Покорители моря».
В 1954 году он отправляется во Вьетнам, где ведет съемки в боевых условиях. С камерой в руках ему пришлось прошагать сотни километров по джунглям, под бомбежками, по горным тропинкам, в зной и в тропические ливни.
В 1955 году Роман Лазаревич Кармен снимает фильм «Утро Индии». Эта работа тоже проходила в трудных климатических условиях, но все работали с большим энтузиазмом и полной отдачей. Кармен был руководителем съемочной группы и режиссером, имел в своем подчинении большую группу операторов и сам мог не снимать: у него хватало дел и без этого. Но он говорил: «Я не могу работать без камеры в руках, ведь я все свои мысли, все, что я задумываю, хочу выразить через камеру, и вообще, пока у меня будут силы, я буду держать камеру в руках». Затем последовали фильмы о Латинской Америке.
В кинематографе все расписано по дням и по часам. У этого «конвейера» Роман Кармен проработал полвека. Он не научился в жизни лишь одному — равнодушию. Человек, повидавший весь мир, бывший очевидцем, участником и летописцем событий истории, был полон самых смелых творческих планов и органически не мог произносить слова «не интересно» или «мне безразлично».
Почти в семьдесят лет он взвалил на себя еще одну огромную работу — создание двадцати телевизионных фильмов о Великой Отечественной войне по заказу американцев. Кармен считал своим долгом воспользоваться возможностью рассказать посредством телевидения американскому народу всю правду о войне. Поэтому сериал и был назван «Неизвестная война». Острая полемика с американскими продюсерами по поводу каждой строчки, каждого слова текста стоила ему колоссального нервного напряжения, но он делал это терпеливо и настойчиво. Порой легче было встать из-за стола и прервать переговоры, чем убедить, доказать свою правоту, но Кармен все-таки доказывал и отстаивал свою точку зрения.
Он торопился успеть сделать фильм так, как он это видел и понимал. Он боялся не за себя, он боялся каких-нибудь неожиданных событий, которые могли бы прервать эту работу. Хотя чувствовал себя уже неважно. В одном из писем от 5 апреля 1978 года (за двадцать три дня до смерти) Роман Лазаревич Кармен писал: «Я сейчас весь без остатка погружен в завершение трудного и очень сложного дела с этими фильмами для американского телевидения. Буквально света божьего не вижу, поднимаюсь в шесть утра, а завершаю рабочий день далеко за полночь. Силы иссякают, сердце напоминает о себе постоянно, ведь два инфаркта я уже имел, казалось бы, нужно беречь себя, а я вот так играю с огнем».
Игра с огнем стала для него обычной. В самом деле, он так и не почувствовал себя стариком и работал до последнего дня своей долгой рабочей жизни. Смерть совладала с ним лишь в тот момент, когда он уже закончил свой последний, поистине неимоверный труд — серию фильмов о Великой Отечественной войне. Он только что смонтировал двадцатый фильм из этой серии, быть может лучший из всех, какие он создал за всю свою жизнь, — фильм «Неизвестный солдат». Смонтировал, озвучил его, сам наговорил на пленку свой, как всегда, типично «карменовский», берущий за душу текст. И как только работа была полностью завершена, умер. Это была в полном смысле слова солдатская смерть на боевом посту.
Источник: http://biografiivsem.ru/karmen-roman-lazarevich
Во время работы над этим изданием выяснилось, что в Рунете очень плохо представлены работы Романа Кармена. Может их придерживают те, кто считает их СВОИМ коммерческим достоянием? С нравственной точки зрения, они сильно ошибаются, мягко говоря. Всё что делал Роман Кармен, делалось "городу и миру" при финансовой и организационной поддержке советского государства, адресовано потомкам, чтобы знали и помнили, т.е. нам. Его же потомки, а среди них есть уже правнук, который продолжит дело династии, не осилили создания информационного портала о своём предке, с достоверной информацией, а не сплетнями СМИ о его жёнах. В частности не удалось найти информации о его маме. Вот вам и Mater semper est certa - мать известна всегда. Портал - сложно и дорого, но уж статью то в Википедии можно было бы поддерживать в порядке.
24 июня 1941 г. Третий день войны
Кармен Р. Л. Но пасаран! — М.: «Сов. Россия», 1972. — 384 с. с илл. на вкл. («Годы и люди»). Тираж 100 000 экз.
Кинорепортер, как правило, не живет прошлым. Всегда находясь в гуще жизни, он увлеченно вглядывается в явления современности, он устремлен в завтрашний день. И все же они возникают — раздумья о прошлом. Бывает, что происходящее сегодня властно вынуждает перелистать страницы прошедшего. Порой смотрю я в усталые, но живые глаза моих товарищей по оружию — операторов кинохроники, и передо мной встает большая, трудная и яркая жизнь, прожитая каждым из них. Человек с киноаппаратом! Он вездесущ, этот пытливый и жадный летописец эпохи — советский кинохроникер. Как много мог бы рассказать каждый из них — участник и живой свидетель больших событий нашего времени. Профессия бросает его туда, где в большинстве случаев не окажется ни писатель, ни журналист. Меня всегда тянуло к старым путевым блокнотам, они помогают многое восстановить в памяти. Беспокойная профессия киножурналиста за сорок лет работы щедро оделила меня яркими впечатлениями. Где только ни пришлось побывать с камерой в руках — Арктика, знойные пустыни Средней Азии, плавания по морям и океанам, походы в горах, сражения Великой Отечественной войны… Мне довелось производить съемки в странах, народы которых сражались за свою независимость, сражались против фашизма, против империализма, колонизаторов. Незабываем год, проведенный на фронтах в Испании; съемки в борющемся с японскими захватчиками Китае; джунгли Вьетнама; съемки фильма "Пылающий остров" на революционной Кубе…
Прошли годы. Через какие испытания прошло человечество за эти сорок лет, пронесшихся, казалось бы, так быстро! Но, оглядываясь на пережитое, взвешивая цену пролитой народами крови, я вижу события этих десятилетий в монолитной связи, в одной цепи. В сражениях с фашизмом, в борьбе и труде побратались воин Вьетнама и строитель Днепрогэса, защитник Мадрида и герой Сталинградской битвы, ополченец Гаваны и люди, стоявшие у стен Ленинграда. Капитан
Рубен Ибаррури погиб на берегах Волги, сражаясь за родной Мадрид, а генерал
Семен Кривошеин, дравшийся у стен Мадрида, первым ворвался со своим танковым корпусом в пригороды Берлина. Бойца Пятого полка, сражавшегося в Гвадалахаре, я встретил спустя двадцать пять лет в Гаване, одетого в форму Народной милиции Кубы, он громил американских наемников на Плайя Хирон, твердо веря, что сражается за освобождение родной Андалузии.
О людях, с которыми повстречался на трудных дорогах, о событиях минувших дней рассказываю я в этой книге. Многое, казавшееся обыденным, сегодня озаряется светом героической романтики.
Мысленно вглядываюсь в образы людей, запечатленных на пленку,— их множество! Они через годы смотрят на меня, словно говорят: "Помнишь?.." Помню. Испанский крестьянин в окопе под Уэской, колхозница
Анна Масонова, богатырь-шахтер
Никита Изотов, китайский партизан, раненый с искаженным от боли лицом, нефтяник
Михаил Каверочкин, полярный летчик
Илья Мазурук,
Хэмингуэй в блиндаже на Хараме, умирающий от голода на обледенелом Невском безымянный ленинградец,
Че Гевара, смотрящий на меня усталым мечтательным взглядом… Сотни, тысячи лиц, глаз, человеческих судеб, с которыми сплелась и моя судьба. Помню их. И тех, кто ненадолго мелькнул, запечатленный на пленку, и тех, кто стал частицей жизни кинорепортера, кого повстречал и с кем породнился в море, в поле, в бою, во льдах, на родной земле и на далеких меридианах… Биография оператора кинохроники неотделима от событий, свидетелем и участником которых он был. Многие из этих событий стали памятными вехами нашей эпохи. Выходит, что не о себе нужно рассказывать, а обо всем пережитом, виденном. Но что из пережитого важнее? На чем остановить взгляд, озирая жизненный путь, пройденный с кинокамерой в руках? С чего начать свои воспоминания? С тех детских лет, когда впервые взял в руки любительский фотоаппарат? С первого метра снятой кинопленки? Какая веха в жизни важнее — первый неуверенный шаг или неизгладимый рубеж возмужания?
Эту книгу хочу начать в нарушение хронологических законов, по которым строятся мемуары, - с самого трудного, что было за истекшие десятилетия в жизни моего народа, моей страны.
Война. Она была самым тяжелым испытанием и в моей жизни. Вот уже более четверти века храню у себя белую эмалированную табличку с надписью "
Унтер ден Линден". Эмаль наискось прострочена пулеметной очередью. Я привез этот "сувенир" из поверженного Берлина. Это было в мае 1945 года. Долог был наш путь к этой победной дате, очень долог. Память часто возвращается к тому дню, когда мы только начали этот путь, — к 22 июня сорок первого года.
24 июня 1941 г. Третий день войны
Мы покидали Москву в ночь на 25 июня. По улицам затемненной столицы студийный автобус, груженный аппаратурой и пленкой, вез нас к Белорусскому вокзалу. Нас было четверо, уезжавших на фронт. Операторы
Борис Шер и
Николай Лыткин, администратор
Александр Ешурин и я. Меня провожала жена Нина. Ей — со дня на день рожать. Ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. Что ждет нас впереди? Какая она будет, эта война? Что ожидает ребенка, который вот-вот появится на свет? Настороженная тишина опустевших московских улиц была невыносимо печальной. В мирное время заполночь по теплому асфальту мостовой шли с песнями компании молодежи… Сегодняшняя тишина была чужой, пугающей. А на привокзальной площади — шумная толчея, толпа, заполнившая перроны. Пройдя вдоль составов, я выяснил, что воинский поезд на Ригу отойдет часа через два-три. Поезд на Ригу!.. Что произошло бы с пассажирами этого поезда, если бы он действительно дошел до Риги! Кто встретил бы на перроне рижского вокзала воинский эшелон с командирами, которые возвращались в свои части из отпусков? Никто не знал, что в ближайшие часы падет Рига, что немцы войдут в Каунас, Минск… Мы сложили свой багаж у вокзальной стены. Рядом на асфальте расположились молодые ребята — новобранцы. На расстеленной газете — селедка, соленые огурцы, лук, хлеб, водка. Заправила этой компании — рабочий паренек — поднял стакан, широким жестом обращаясь к окружающим, сказал: "За встречу в Берлине!" И добавил: "За скорую встречу!" Выпил до капли, еще налил себе и товарищам и подтолкнул гармониста. Тот растянул мехи, ребята запели:
Если завтра война
Если завтра в поход
Если черная туча нагрянет…
Ребята пели на затемненном перроне "Если завтра война", а она, война, уже третьи сутки бушевала на наших землях. Шли по полям Украины и Белоруссии нескончаемые колонны немецких танков, горели города. И отчаянно дрались застигнутые врасплох войска. Немецкую военную кинохронику июня — июля 1941 года я просмотрел лишь много лет спустя. Были там и кадры танковых колонн, были и солдаты с засученными рукавами, смеясь шагавшие по горящим нашим деревням, были и надменные генералы над картами, и трагические образы захваченных в плен советских солдат. Эти кадры и сейчас трудно смотреть. Но есть кадры, которые смотрятся с чувством гордости. Немецкие солдаты, пригнувшись к земле, ползут в дыму. Окровавленные, искаженные страхом лица. Бегут по дымящейся земле, несут на плащ-палатках своих раненых и убитых, прижимаются к стенам домов. Где-то на городском перекрестке (кажется, в Каунасе) из подворотни на полную мощность запускают громкоговоритель, отчеканивающий с прусским акцентом:— Сопротивление бессмысленно! Сдавайтесь! Не сдавались. Не стало немецкое вторжение парадным маршем. И хотя сила вначале, бесспорно, была на стороне врага, каждый шаг стоил ему крови. Бойцы Красной Армии дрались там, где застала их война, дрались отступая, дрались в окружении, сражались и умирали без почестей. Их пулеметные очереди, их выстрелы из противотанковых пушек, связки ручных гранат, брошенные под танки,— все это было первыми залпами по рейхстагу. Те, кто пришел в Берлин весной сорок пятого года, помнили принявших первый бой. Ночью на ступенях Белорусского вокзала паренек выпил за встречу в Берлине. Когда немцы были под Москвой, я с горечью вспоминал его тост. Вспомнил этого паренька и много позже, когда на дорожном знаке прочел: "Берлин — 11 км". Дошел ли он до Берлина? Дожил ли до встречи, за которую выпил с товарищами в тревожную ночь в Москве перед отправкой на фронт?.. Кажется, вечность прошла с той минуты, когда лязгнули буфера и поезд медленно тронулся с московского вокзала. Нам удалось захватить закрытое четырехместное купе. Рассовав по полкам аппаратуру и пленку, мы расположились с комфортом, стойко выдерживая натиск людей, колотящих в дверь. Устроившись, вытащили на свет божий бутылку водки, хлеб, консервы, колбасу. Еще не разорвался над нашими головами первый снаряд, еще не упали мы, прижимаясь к земле под бомбежкой, — все это началось несколькими днями позже. А сейчас — мерное постукивание колес, покачивающийся вагон. Накрепко связаны были мы подсознательной верой, что если суждено кому из нас попасть в беду, то честная мужская дружба на войне - вот, что может уберечь человека вернее всего. И что удивительно, все мы четверо, пройдя в войне такой путь, о котором не рассказать словами, остались живы. Чего не испытал
Коля Лыткин*! Даже в штрафную роту угодил, там в бою добыл орден Славы и снова возвратился во фронтовую киногруппу, ходил с караванами судов в Атлантике.
Боря Шер — и летал к партизанам, и в воздушном бою в Орловской битве, сидя на штурмовике за стрелка, сбил атакующего его "фокке-вульфа", и в сталинградском пекле с камерой был — живой остался. И мне за годы войны тоже пришлось немало хлебнуть.
Коля Лыткин был в нашей компании, пожалуй, самой штатской личностью. Голубоглазый романтик, окончив за несколько лет до войны Институт кинематографии, уехал на Дальний Восток, полюбил этот край и остался там корреспондентом кинохроники, как ему казалось, навсегда. Там, где шли по тайге геологи, строители, где рождались города и заводы, можно было видеть человека с кинокамерой, худощавого, долговязого, с доброй улыбкой. Колю Лыткина знали и любили таежные охотники, летчики, строители, партийные работники, капитаны кораблей, матерые тигроловы. Лыткин восторженно относился к своей профессии кинорепортера, гордился ею. И вот в трудный для страны час он в вагоне воинского эшелона одним из первых кинооператоров направляется на фронт. Он увлечен мыслью о предстоящей работе, расспрашивает меня об Испании, о киносъемке в боевой обстановке. С Борисом Шером мы уже несколько лет работаем вместе. Он был моим ассистентом, потом его призвали в армию, два года он отслужил в кавалерии, снова вернулся на студию. Любому кинооператору можно было только мечтать о таком напарнике. Скрупулезно точный, любящий аппаратуру и оптику, на вид медлительный, но на событийной съемке прицельно точный, успевающий без излишней суеты занять лучшую точку, запечатлеть кульминационные фазы события. Снайпер кинорепортажа. Любил я Бориса не только за его профессиональные достоинства, но и за главное в нем — за чувство товарищества, возведенное у него в закон жизни. За самоотверженную честность. Борис вырос в семье профессионального революционера — ссыльного большевика, родился в Якутии. Похожий на цыганенка — черные, как смоль, волосы, глаза, как маслины, цедящий слова, вроде нескладный. Из тех "нескладных", которые, не раздумывая, бросаются в горящий дом, услышав зов о помощи, спасают товарища в горах. С такими, только с такими "нескладными" быть рядом на войне. Я вспоминал в эту ночь в поезде товарищей-кинорепортеров —
Марка Трояновского,
Владика Микоша,
Мишу Ошуркова,
Сережу Гусева,
Соломона Когана,
Бориса Небылицкого. Они сейчас, как и я, эшелонами, самолетами направлялись на указанные им участки фронта. И никто из нас не знал, что это будет за война. Не знали те, кому довелось уже побывать под огнем — в Абиссинии, Испании, на Халхин-Голе, на финской войне. А остальные войну видели только на больших маневрах. Покачивался вагон, спать мне не давал Коля, его занимали проблемы сугубо практические — можно ли, например, перед разрывом снаряда слышать шум его полета. — Можно, Коля,— терпеливо разъяснял я ему, — правда, бывают случаи, что человек, прислушивающийся к свисту приближающегося снаряда, может не услышать грохота его разрыва.— Почему?— Потому что, Коленька, в момент разрыва этот человек иногда становится мертвым.— Ясно,— улыбался Коля.— А если бомба — то как?.. Больше к нам в купе не стучались. Последними, кто рвался в дверь с необыкновенным упорством и в конце концов прорвали нашу "долговременную" оборону, оказались двое писателей. Терпеливо дождавшись, пока кто-то из нас решился выйти по нужде, они вломились в купе, произнеся при этом множество слов, унижающих наше человеческое достоинство. Писатели
Юрий Корольков и
Рудольф Бершадский были одеты в новенькую комиссарскую форму со знаками отличия в петлицах, опоясаны еще хранящими запах воинского склада, скрипящими, ярко-желтыми ремнями, портупеями, кобурами и планшетами. Очень воинственно выглядели Корольков и Бершадский в нашей штатской компании. Один я, правда, раздобыл перед отъездом у кого-то из друзей поношенную гимнастерку, ремень. К гимнастерке я привинтил боевой орден Красной Звезды, которым был награжден за Испанию, и орден Трудового Красного Знамени, незадолго до войны полученный за работу в Арктике. Однако как просчитался я, надев в дорогу коричневое кожаное пальто, купленное в комиссионном магазине несколько месяцев назад! Светло-шоколадного цвета, пижонское, заграничное — оно привлекало всеобщее внимание. Чуть не каждый наш выход на перрон при остановках поезда кончался тем, что меня вели в комендатуру для выяснения личности. О диверсантах, забрасываемых в наши тылы, тогда сообщалось в сводках Совинформбюро. Мое пальто ни у кого не вызывало сомнения — гитлеровский агент! Не успевал я шагнуть на перрон, как вокруг меня смыкалось кольцо людей. Через минуту они уже торжествующе волокли меня в комендатуру с возгласами: "Знаем мы!..", "Подумаешь, документы…" Ребята мои мчались на выручку … Эшелон наш был переполнен командирами Красной Армии. С некоторыми мы уже перезнакомились, большинство держало путь в Ригу. Сведения о положении на фронте узнавались только из сводок Совинформбюро. На каждой станции официальные сообщения пополнялись слухами, самыми противоречивыми, но, в общем, дающими представление о большой беде, нагрянувшей на страну. Ничего толком не могли сказать и пассажиры встречных поездов. Одно было ясно — там, впереди, бомбят железную дорогу, поезда, станции. Чем дальше, том сильнее бомбят. И уже не было уверенности, что нашему эшелону удастся пробиться к месту назначения. У Королькова и Бершадского, как и у меня, было направление Главного политического управления в штаб Северо-Западного фронта в Ригу. Но с каждой остановкой, с каждой сводкой Совинформбюро все меньше оставалось надежды, что мы попадем в Ригу.
...
"Фронтовые кинооператоры и многие, кто меня знает, до сих пор убеждены, что я был в штрафной роте. Это не правда. В штрафные роты попадали по суду. Провинившихся судили в их присутствии, можно было оправдаться. Осуждённый имел определённый срок, который сокращался в случае ранения. По окончании срока штрафнику возвращалось звание, должность и всё остальное, снималась судимость. Меня же отправили на передовую, не задав ни одного вопроса. Тайным приказом. Только потом я узнал о той "рубке леса" в верхах, от которой полетели на передовую "щепки" — я и редактор фронтовой газеты. Нужно было отстранить командующего фронтом. Для этого и было подстроено моё назначение — а командующего обвинили в том, что он "окружил себя подхалимами, которые расхваливали его в газете и снимали в кино".
Источник оцифровки
Лазарь Кармен
Сын мой[12]
***
– Сын мой, радость моя!
– Папка, где ты пропадал? Я три дня не видел тебя!
– Неужели соскучился?
– Конечно. Как же ты так?
– Мальчик золотой!..
Отец в сильном возбуждении несколько раз горячо поцеловал сына, потом поднял его высоко на руки и стал подбрасывать к потолку, громко напевая «Марсельезу».
– Папка, что с тобой? Ты такой веселый!.. Ой, боюсь, уронишь! – И мальчик заболтал в воздухе ногами и засмеялся.
– А-а, трусишь! Я и не знал, что ты такой трусишка! Ну, да бог с тобой. – И отец бережно опустил его на пол.
– Папка, где ты измял так свой костюм? И почему лицо у тебя усталое, небритое?
– Я две ночи не спал, детка. Мама где?
– Она на шоссе. Туда все пошли, там участок горит.
– Вот как. Стало быть, и здесь то же самое.
– Папа, вчера у нас тут шли с красными флагами, пели «Марсельезу», и у всех нацеплены были красные ленточки. У меня тоже такая ленточка, мама купила.
Сын побежал в детскую и вернулся с красной ленточкой, приколотой к груди.
– Папа, папа! – захлебываясь, продолжал мальчик. – Я видел на станции девочку с большим черным пуделем. На шее у пуделя был красный бант; это она нацепила ему. И всем, кто проходил, она говорила: «Собака тоже сдалась, как тот министр».
– Ха-ха-ха. Забавно.
– Папка, да расскажи же, где ты пропадал и что делал?
– Сейчас, дай только умыться и закусить.
Отец освежился холодной водой, с жадностью поел кусок хлеба с маслом, выпил стакан молока и закурил папиросу. Он подошел к окну, в котором виден был весь дачный
поселок с его бревенчатыми игрушечными домиками, садиками, пустырями, заборами и уличками, выбеленный снегом. День был солнечный, и снег искрился и сверкал, отражая, как в зеркале, оголенные черные кустики калины, мелкие ели и сосны. Из множества труб вились серебристые дымки. У окна сильно припекало.
– Благодать, – проговорил отец.
– Папа, ты ведь обещал.
– Да-да!
Отец обнял сына, подвел его к оттоманке и, усевшись с ним поудобнее, поуютнее, притянул его золотую головку к своей груди.
– Где пропадал, хочешь знать, мальчик мой? В городе.
– Но там, говорят, стреляли из пулеметов.
– Да, стреляли.
– И ты не боялся?
– Вначале боялся, а затем привык.
– Если бы я знал, папка, не пустил бы тебя.
– Глупенький… А здорово палили. Ходишь по улице, и сверху – трр, трррр, та-та-та.
– Тебя ведь могли убить.
– Могли. Но я был осторожен и обходил опасные места. Но были такие отважные, которые совсем не боялись пулеметов и шли прямо навстречу смерти с пением.
– Папа, отчего это все? – И светлые глазки мальчика с жадностью уставились в отца.
– Отчего?… Изволь… Тебе теперь следует все знать.
Отец закурил папиросу и кратко стал знакомить его с историей народного движения. Он рассказал о задавленных бесправием и нищетой крестьянах и рабочих, о гонимых инородцах, о светлых девушках и юношах, которых за попытку облегчить страдания народа старое правительство тысячами отправляло в Сибирь и на виселицу. Тонкое и нежное личико мальчика становилось все строже и серьезнее.
– Папа! Папа!
– Жутко, не так ли?… А помнишь, детка, наш внезапный отъезд из Куоккалы, Финляндии. Он был так неожидан для нас и наших друзей. После долгой, суровой зимы мы наслаждались дивным апрелем и радостно готовились к лету. И вдруг является ленсман с двумя полисменами и объявляет, что по распоряжению кронштадтского коменданта мы в три дня должны оставить Куоккалу. Почему? За что? Неизвестно. Ленсман чувствовал себя очень неловко, извинялся и говорил, что они (финны) ни при чем, это русское правительство… И мы должны были в три дня сложиться и убраться. Нас выселяли, как преступников, как зачумленных. И мы не смели протестовать… Мы с мамой скрывали от тебя правду, говорили, что хочется повидать новые места. Ты был такой маленький, и мы не хотели вливать отравы в твою нежную душу…
– Папа, а я знал, что нас выселяют. Мне говорили финны на станции.
– Вот как, детка!.. Ай, как больно было… На станции – весенняя толчея. Переезжают дачники, играет у пакгауза на гитаре и губной гармонике, прилаженной к гитаре, слепой гитарист. Солнце, теплынь. Пахнет свежей землей, березовыми почками, щебечут птицы. А мы с мамой, как оплеванные, стоим в сторонке. Люди в эту благодать едут за сколько верст, а мы отсюда. Но мы не выдаем нашей боли и смеемся и шутим с горсточкой преданных милых друзей, пришедших провожать нас с букетами цветов. Но минутами меня охватывает бешенство. «По какому праву?!» Надо отправить тебя и маму, а самому вернуться назад в пустую квартиру, забаррикадироваться. Пусть выселяют силой. Я требую! Я хочу знать, за что! Они скажут, я еврей и потому неблагонадежен. И я брошу им: «Кровопийцы, врете, нагло врете!.. Вам необходим для вашей гнусной политики такой поклеп… Это ваши Мясоедов, Сухомлинов, Штюрмер, Фредерикс, а не мы!» Но они и говорить со мной не станут – заберут и кинут в тюрьму или расстреляют… Но слушай дальше. С разрешения выборгского губернатора мы выехали в Вильманстранд. Как на грех, здесь было очень хорошо. Помнишь? Но не прошло и десяти дней, как явился полисмен, потребовал две марки и вручил нам бумагу о вторичном выселении. Нас опять гнали, не дав передохнуть. Я помчался к губернатору. Выяснилось, что чиновник по ошибке указал нам на Вильманстранд, здесь также евреям жить не разрешалось. Я насилу отвоевал вас – тебя и маму, мне же было предложено немедленно оставить Вильманстранд. Прихватив немного белья, в тот же день отправился в Петроград. Здесь мне по закону уж никак жить не полагалось, но благодаря добрым друзьям, дававшим мне ночлег, и чисто звериной осторожности я кое-как тянул свое существование. Я очень тосковал по вас. Иногда бродишь по пустынным улицам в белые ночи один и в отчаянии хочешь стукнуться головой о стену дома. Стосковавшись вконец, я сажусь в поезд и мчусь к вам через Белоостров. Я старался приезжать с сумерками и, как вор, крадучись вдоль заборов и хоронясь за соснами и придорожными камнями, пробирался к вам. Первые два дня я прячусь дома, а на третий, осмелев, выхожу на улицу. Помнишь, мы катались по Сайме и рвали огромные и светлые, как фарфоровые чаши, водяные лилии, ходили к шлюзам и смотрели, как пропускают груженные лесом лайбы. Иногда мы забирались на один из сотен островков на воде, разводили костер и пекли картошку. И всегда, когда я попадал на такой островок, я с болью думал – уж чего пустыннее, чего диче этот островок, один камень, сосна, змеиные норы, а и здесь жить строго-настрого воспрещено…
А помнишь еще, как однажды мы возвращались с тобой на велосипеде домой за пять верст из соседней деревни лесом. Ты стоял сзади меня на подножке в своей полосатой фуфаечке и пестрой итальянской шапочке. Хорошо было. Пахло сосной, звонко куковали кукушки. Иногда в просветах елей, берез и сосен усмехнется серебристая Сайма. Часто на ходу ты соскакивал с подножки, подбегал к сосне и, набрав свежей земляники, подносил мне. Иногда навстречу нам показывалась цыганская фура, набитая цыганами, или мчался автомобиль с туристами, возвращающимися с Иматры, и шли рабочие с катушечного завода и одинокие крестьянки с молочными продуктами.
Вдруг из-за сосен вывернулся полисмен, тот самый, который вручил мне бумагу о выселении. Ах, как он выпучил глаза. Его ошеломила моя дерзость.
«Н-да-с!» – вырвалось у меня.
«Что да-с, папа?» – спросил ты.
«Ничего, детка, когда-нибудь узнаешь». – И я сильнее нажал на педали.
По приезде домой я тотчас же собрался и оставил деревню. И хорошо, что поспешил, полисмен не замедлил нанести визит нашим хозяевам, добрым финнам, и пригрозить им штрафом…
Переехали мы наконец сюда, и здесь нам не давали жить. Помнишь, всю зиму и лето толклись у нас урядники и понятые – грязные, бородатые дворники с запахом махорки. Ясное, красивое лето они превратили в сплошные сумерки. Я поседел, постарел.
Конечно, я мог избежать всех этих мучений, стоило только переменить религию…
А помнишь, как однажды я исчез на целую ночь и вернулся домой под утро с большим ломтем черного хлеба в кармане? Меня арестовали за бесправие, и всю ночь я просидел в одной камере с ворами. Пристав был великодушен и отпустил меня, но посоветовал не попадаться в другой раз, иначе будет плохо…
Мама твоя, когда я познакомился с нею, была очень молода и нежна, – ты видал ее на портрете. Маму тогда очень волновал рабочий вопрос. Она посещала все собрания, сходки. Однажды она отправилась на сходку далеко за город у заброшенной каменоломни. Мне так не хотелось ее отпускать. Я как бы предчувствовал недоброе. Сходку накрыли. Рабочих окружили в темноте здоровенные, откормленные полицейские и полосовали всех нагайками и били железными наручниками… Слышишь? – Голос отца дрогнул. – Полосовали нагайками и маму твою, нашу милую, родную маму…
– Папа… – Сын стремительно прижался к щеке отца. Личико его побледнело, и в глазах загорелись огоньки.
– Да, да, – продолжал, забывшись, отец. – И на другой день, когда я явился в участок, меня не допустили к ней. Ее усадили со скверными женщинами, и только на пятый день я увидал ее через толстую ржавую решетку камеры. Лицо у нее было в синяках, измученное. Но я долго не знал, что ее били; она скрывала от меня… Знай бы я тогда, я, быть может, посчитался бы с ними… Детка, вчера их вели… по улицам… десятками, наших врагов, наших палачей, мучителей… Их снимали, как гадов, с чердаков, куда они попрятались и откуда стреляли, с благословения царя, из пулеметов по голодному и изболевшемуся народу… Они шли мимо меня униженные, жалкие, разбухшие, как пиявки от человеческой крови. Их окружали солдаты и матросы, и им свистали и грозили кулаками…
– Папа, а ты? – спросил, тяжело дыша, сын… – Ты ничего им?
– Ничего… Я ни словом не обмолвился. Бог с ними. Они и так наказаны. На этом великом и светлом празднике они как пасынки… Но зачем я тебе все это рассказываю? – спохватился отец и порывисто и горячо обнял сына. – Зачем я омрачаю твою нежную душу? Все прошло. Их – этих палачей – уже нет. Они растаяли, как снег под ярким солнцем. Мы теперь свободны, и никто не придет больше терзать и гнать нас. Ты понимаешь теперь, почему я так весел? Вчера народ с оружием восстал против своих врагов и победил их.
Лицо мальчика озарилось кротким светом.
– Папа, ты сражался?
– Нет, дитя. Мне стыдно сознаться. Я пришел уже к концу, когда замирала стрельба, и почти все было кончено. Чтобы сражаться впереди за свободу, надо быть очень сильным и красивым.
– Папа, много убитых?
– Много… есть и женщины и дети… Завтра хоронят их. Мы пойдем на похороны, прихватим цветов, побольше цветов и возложим на дорогие могилы.
– Да, да, папа!
– Помни, дитя, вот завет мой: люби рабочих, писателей, всех-всех, кто всегда боролся и борется за правду и лучшее будущее человечества. Особенно – рабочих.
Лицо отца вдруг стало озабоченным, серьезным.
– Дитя мое, сейчас вокруг нас ясно, светло, но кто знает, быть может, враг, не сломленный окончательно, точит в тиши нож и, выждав удобный момент, кинется на нас, чтобы вернуть себе власть. Если это случится, мы бесстрашно выйдем с тобой на улицу и станем в ряды рабочих и солдат, чтобы не отдать вырванной с таким трудом у палачей свободы. Не так ли, сын мой?
– Да, папа!
Примечания
1
Журналист Лазарь Осипович Кармен (Коренман или Корнман; 1876–1920) давно и прочно забыт, о нем вспоминают разве как об отце знаменитого кинооператора Романа Кармена. Умер он рано. Друзья и родственники два-три раза переиздали его рассказы, опубликовали несколько мемуарных очерков о нем – вот, пожалуй, и все.

Темой Кармена-журналиста была жизнь обитателей одесского порта. Жизнь местных Карменсит также находилась в поле его зрения. Их судьбам были посвящены рассказы и очерки Кармена. Повесть «Берегитесь!» тоже о них. Начинается она патетически: «Берегитесь! Я обращаюсь к вам – женщины! Берегитесь страшного чудовища, имя которого – проституция! Обходите старательно расставленные на вашем пути капканы и соблазны! Защищайтесь до последней капли крови и не давайте закоренелому врагу вашему победить. Ибо горе побежденным. Горе! Горе! Чудовище скомкает вас и безжалостно разобьет вашу жизнь». В том же году вышла еще одна книга Кармена «Проснитесь!» с подзаголовком «Доброе слово к обитательницам “веселых домов” и “одиночкам”».
Кармен вслед за Горьким открыл для себя тему одесского дна. Как и ранние очерки Горького, репортажи Кармена написаны в романтическом духе. Да и сам журналист в душе всю жизнь оставался романтиком. Корней Чуковский так описывал своего друга, «талантливого сотрудника одесских газет» в воспоминаниях о днях, связанных с броненосцем «Потемкин»: «Кудрявый, голубоглазый, румяный, сентиментальный, восторженный, он бросается меня обнимать <…> Я разделяю его энтузиазм вполне. Он близко связан с рабочими одесских предместий. В порту у него много друзей среди “босяков” и грузчиков»
Описал Кармена и Жаботинский в романе «Пятеро», правда не назвав имени: «Один из них был тот самый бытописатель босяков и порта, который тогда в театре сказал мне про Марусю: котенок в муфте. Милый он был человек, и даровитый; и босяков знал гораздо лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по настоящему и не жил, по крайней мере, не у нас на юге. Этот и в обиходе говорил на ихнем языке – Дульцинею сердца называл “бароха”, свое пальто “клифт” (или что-то в этом роде), мои часики (у него не было) “бимбор”, а взаймы просил так: нема “фисташек”? <…> Его все любили, особенно из простонародья. Молдаванка и Пересыпь на eго рассказах, по-видимому, впервые учились читать; в кофейне Амбарзаки раз подошла к нему молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала: – Мусью, как вы щиро вчера написали за “Анютку-Боже-мой”…»
Кармен и Жаботинский занимали в газете «Одесские новости» прочное положение, а Чуковский был еще в начале своего литературного пути. Судьбу его во многом определил Жаботинский, по совету которого Чуковский в 1903 году поехал корреспондентом в Лондон. Именно там произошло его окончательное самоопределение как критика.
И Кармен, и Жаботинский писали Чуковскому в Лондон письма, но если Жаботинский писал ему как наставник, то тональность писем Кармена была приятельской, его письма рисовали обстановку в редакции, семейные новости, поверял он Чуковскому и сердечные тайны
Узнаем мы из этих писем и подробности, касающиеся Жаботинского. «Володя сейчас в Италии, – писал Кармен Чуковскому осенью 1903 года. – Он должен скоро приехать. Но я отношусь к его приезду довольно холодно. Я и он – два противоположных полюса. Некоторые обстоятельства показали мне, что он типичный мещанин и человек черствый и бездушный и с большим самомнением. Я ничего не имею против его самомнения, Б-г с ним. Но он душит тебя. Временами он больно наступает тебе на мозоль и дает тебе понять, что ты ничтожество, а он гений. Но Б-г с ним». Это письмо было написано во время пребывания Жаботинского в Риме, куда он поехал сразу после 6-го Сионистского конгресса в Базеле, проходившего 9–23 августа по старому стилю, Жаботинский пробыл тогда в Риме до ноября.
Пребывание на конгрессе, встреча с Теодором Герцлем многое изменили в его жизни, он отходил и от прежних своих тем, и от старых друзей. Чуковский недоумевал по поводу критических нот по адресу Жаботинского, которые появились в письмах Кармена. 22 августа 1904 года он записал в дневнике: «От Кармена получил письмо. Опять жалуется на Altalen’у. Что это значит – не пойму»
Причиной обиды стал один из фельетонов Жаботинского, о котором он позднее вспоминал в «Повести моих дней»: «Однажды <…> я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому “клоунами”. Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, анонима в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы клоуны в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: “Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту”. Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?»
С иронией о профессии журналиста он писал и в своей постоянной рубрике «Вскользь». Эти публикации задели Кармена, он писал Чуковскому: «Я — не рыжий. Если бы я на минуту подумал или пришел к убеждению, что я рыжий, я бросил бы работу. <…> Я задумал большое дело. Я хотел широко осветить, как никто, это темное царство, показать, что падшая – наша сестра и, что если поскоблить с нее грязь, мы натолкнемся на чудный розан, на чудную душу, чего нет у многих девиц и дам, умащающих свои телеса благовонными маслами. У этих – чистое тело, но на месте души – ком грязи. <…> Удивительный народ! Некоторые говорят, – вот их подлинные слова:“к чему нам это знать?”, т. е. как живут и страдают проститутки. Зачем писать об этом. А одна модная артистка, вся сотканная из лучей, звуков и молитв, говорит мне – “у вас, Кармен, хорошие струны, но зачем вы занимаетесь гнилью? Пусть гниет. Оставьте ее”. Как ты думаешь – оставить ее – гниль эту самую, или иначе всё, что в слезах и обливается кровью?! Да отсохнет моя десница, если я ее оставлю!.. Помнишь рассказ мой “Моя сестра”? Ты знаешь, что первые ласки я получил от падшей, проститутки, и я никогда не забуду их. Погоди! Я напишу когда-нибудь рассказ под заглавием “Сверхпроститутка”. Молодец Ницше. Если бы он только и сочинил всего одно слово “сверх”, и то он был бы гениален. “Сверхпроституткой” я называю даму – семейную, так называемую “порядочную”, фотографическая карточка которой находится в альбоме в Колодезном переулке. Если карточка ее нравится тебе, хозяйка посылает к даме служанку, и та вызывает ее. Дама бросает детей, мужа, чай, гостей, садится в дрожки и лупит в Колодезный переулок, получает за свой сеанс 25 руб. и возвращается назад к столу и разливает опять свой чай. А завтра у нее – новая шляпа, шелковая нижняя юбка и фильдекосовые чулки. Она, которая продает себя ради шляпки, – порядочная, смотрит смело в глаза полиции, а та, которая бродит по улице и продает себя потому, что – голодна, – падшая, непорядочная и т. д. Сволочи и фарисеи! Не привыкла публика к смелым и правдивым фельетонам, но надо ее приучить»
Отдельное издание рассказа Кармена «Моя сестра» вышло под заглавием «Одна из многих» в книге «Ответ Вере. Одна из многих» в Одессе в 1903 году. Автором предисловия был Altalena. Книга не случайно называлась «Ответ Вере», подразумевалась весьма популярная в конце 80-х годов книга немецкой писательницы Бетти Крис (псевдоним Вера). Содержание этой книги Кармен пересказал в предисловии: добродетельная и целомудренная барышня Вера вышла замуж за Георга, надеясь на то, что и он столь же добродетелен, как и она. Но, узнав, что у него были до нее женщины, она уходит из жизни. Кармен ответил этой псевдо-Вере рассказом «Моя сестра» – о том, как согрела и поддержала его в тяжелую минуту проститутка. Рассказ предварял эпиграф за подписью Altalena:
Для того должны мы с торгу
отдавать свои тела,
чтобы девственница девство
охранять в себе могла...
В послесловии этот же Altalena назидал Веру: «Не в том дело, имел ли он “прошлое”, имела ли она, – а в том, вышел ли он и вышла ли она из этого прошлого благородным и человечным».
Вскоре после возвращения Чуковского из Лондона и он издал в Одессе вместе с Карменом любопытную книжечку. Содержание ее составляли предсмертные стихи Наума Грановского, одесского мастерового, покончившего с собой, бросившись со скалы в море. Перед смертью Грановский попросил передать его стихи Кармену, с которым даже не был знаком. Кармен был тронут и издал эти беспомощные стихи на свои средства под названием «Предсмертные песни», с собственным послесловием. Редактировать стихи он поручил Чуковскому, который серьезно подошел к своей задаче и отобрал для сборника то немногое, что могло представлять литературный интерес. Редактура Чуковского не понравилась Кармену, с точки зрения которого качество стихов не имело значения. В послесловии он писал, что его друг «выкинул и урезал больше половины стихов. Уважая г. Корнея Чуковского как художественного критика, я, однако, не солидарен с ним. Я лично отпечатал бы все стихи Н. Грановского, ничуть не заботясь об их дефектах».
В точке, именуемой Одесса, Чуковский, Жаботинский и Кармен были и оставались друзьями, несмотря на все разногласия. И не случайно один за другим перебрались они в Петербург. Свой отъезд в Петербург Жаботинский связывал с историей, которая произошла у него в театре с приставом Панасюком, вот как описал он ее в «Повести моих дней»: «Не только в городском театре, но и в остальных одесских театрах у меня было постоянное место в первых рядах партера. В тот вечер, незадолго до христианского Нового года, Панасюк не узнал меня, когда я поднялся со своего кресла во время антракта в Русском театре. Он остановил меня у выхода и заревел как бык: “Почему ты пролез вперед?” У меня было лицо подростка и одет я был по-цыгански (то, что теперь называют за границей “в стиле богемы”) – согласно полицейской мерке место мое, как видно, было среди студентов на галерке, а не здесь, внизу, среди городской знати. Я оскорбился и ответил ему. Вокруг нас собралась толпа. Жандармский генерал Бессонов, начальник охранного отделения, которого я встречал некогда в тюрьме, привлеченный криками, подошел и обратился ко мне с наставлениями. Я и здесь не полез за словом в карман. По прошествии нескольких дней я получил повестку: явиться к градоначальнику графу Шувалову.
Я надел свой парадный костюм, как это было заведено в те времена, – тот самый черный редингот, достававший мне до щиколоток, который я заказал в честь премьеры своей пьесы, и стоячий воротничок, врезавшийся мне в уши, и отправился в крытой пролетке во дворец градоначальника. Перед отъездом я сунул свой паспорт в один карман, а в другой положил весь капитал, оказавшийся в наличии дома, около 30 рублей, и, подъехав к дворцу, велел извозчику ждать меня. Аудиенция была назначена на 11 часов, а в полдень из Одессы отходил прямой поезд на север. Я собрал дома также свой чемодан и вручил его одному из своих друзей, чтобы он принес его к этому поезду.
Беседа моя с правителем города была очень краткой. “Он всегда рычит, – сказал Шувалов, показав на Панасюка, который стоял перед нами, вытянувшись в струнку. – Говоря со мной, он тоже рычит. Мы уведомим вас еще сегодня о том, какое наказание мы наложим на вас”.
Я вышел, вскочил в пролетку и помчался на вокзал. Купил билет до Петербурга. Друг не поспел с чемоданом к отходу поезда, и я отправился в двухдневную поездку без мыла и зубной щетки»
Так Жаботинский перебрался в Петербург, где включился в работу журнала «Еврейская жизнь».
В 1905 году отбыл в Петербург и Чуковский, но для него сотрудничество в «Еврейской жизни» стало лишь эпизодом. Чуковский погрузился в литературную жизнь столицы и стал влиятельным критиком.
В 1906 году приехал в Петербург и Кармен. Он, который в Одессе гремел, в Петербурге как-то потерялся. 8 марта 1909 года Чуковский записал в дневнике о своем визите к Кармену: «Он был и в Палестине, и в Константинополе, но говорить с ним не о чем. Как с гуся вода. “Дам я, понимаешь ли, картинку!” – это на его языке называется “написать очерк”. Я спрашиваю: ну что же Палестина? – “А это, понимаешь ли, пальмочка, пилигримчик и небо голубое, как бирюза”. Мне стало безнадежно»
В Палестине Кармен побывал приблизительно в конце 1907 года, его рассказ о Палестине «Ибрагам Михель», фрагменты из которого перепечатал Роман Тименчик (Лехаим, 2006, № 4 [168]), был опубликован в журнале «Русская мысль» за 1908 год.
Кармен остался приверженцем романтического стиля, повествований с душераздирающими сюжетами. Но то, что на страницах одесских газет находило отклик, в столице его не получило. Кармен утратил то, что можно было бы назвать «своей темой». Он общался с известными писателями, но печатался в основном в маргинальных, хотя и имевших большие тиражи журналах. И только в Одессу по-прежнему наезжал как триумфатор.

К. Чуковский в своем кабинете.
Чуковский и Кармен жили в Куоккала – дачном пригороде Петербурга. От этого времени сохранилось несколько стихотворных экспромтов Кармена, записанных в Чукоккалу, упоминается Кармен и среди посетителей куоккальских сред, которые устраивал Илья Репин у себя в Пенатах. Но тесного общения с Чуковским уже не было, не упоминал о встречах с Карменом в последующие годы и Жаботинский.
Кармен первым из троих ушел из жизни. По воспоминаниям В. Львова-Рогачевского, в 1918 году у Кармена обнаружилась опухоль груди (по другим сведениям – туберкулез) и семья переехала в Одессу, в которой тогда происходила непрерывная смена властей. Кармен занял пробольшевистскую позицию. «…Когда наступил 1917 год, – писал О. Семеновский, – у Кармена не было сомнений: Октябрьская революция была его революцией. “Под красной звездой” – так писатель озаглавил вышедший в Одессе сборник рассказов о первых днях советской власти, предварительно они были опубликованы в красноармейской газете “Красная звезда”».
Скончался Кармен в апреле 1920 года, вскоре после того, как в Одессе установилась советская власть. Позднее в журнале «Силуэты» была помещена заметка о могиле писателя: «Четыре года тому назад скончался в Одессе популярный в рабочих кругах писатель Лазарь Осипович Коренман, писавший под псевдонимом Кармен. <…> Похоронен писатель на 2-м еврейском кладбище, где могила его почти заброшена. Следовало бы нашим культурно-просветительным органам увековечить память покойного писателя воздвижением на его могиле достойного памятника».
Памятник поставили, но само кладбище было снесено в 70-х годах, и, как писала Анна Мисюк, «на христианское кладбище напротив перенесли поспешно несколько памятников еврейским писателям, революционерам». Среди этих памятников был и памятник Лазарю Кармену, который сейчас находится на Новодевичьем кладбище в Одессе.
Источник:
https://lechaim.ru/ARHIV/195/ivanova.htm Трое. Евгения Иванова
Книги Лазаря Кармена оцифрованы и есть в сети:
серия Дети-глухари
1. Шарики. 2. Мама!. 3. Жертва котла. 4. В «сахарном» вагоне.
Книги вне серий
1. Воскресный очажок. 2. Дети набережной. 3. Дорогие аплодисменты. 4. Дунька. 5. За что?!. 6. Маленький человечек. 7. Мурзик. 8. Осень в порту. 9. Павший в бою. 10. Под рождество. 11. Поздно. 12. Портовые воробьи. 13. Пронька. 14. Разменяли. 15. Река вскрылась. 16. С привольных степей. 17. Сорочка угольщика. 18. Сын колодца. 19. Сын мой. 20. У меня на плече. 21. Цветок. 22. Человек в сорном ящике.
(обратно)
2
РЕГИНИН Василий Александрович
1883–1952
Журналист. Редактор журналов «Синий журнал», «Аргус», «Тридцать дней».
«В старом Петербурге Василий Регинин был, однако, известен не столько своими писаниями в „Вечерней биржевке“, сколько как неутомимый выдумщик всяких трюков в таких журналах (им редактируемых), как „Аргус“

или шумный „Синий журнал“. Один из его трюков прославил и стремительно поднял тираж иллюстрированного ежемесячника „Аргус“. По идее Регинина один из номеров „Аргуса“ продавался свернутым в трубку, на трубку была надета державшая ее маска популярнейшего в те годы Аркадия Аверченко. Журнал с маской Аверченко был расхватан читателями-петербуржцами, да и в провинции его распродали быстрее обычного. Девизом Регинина, как редактора, было: все что угодно, только чтобы читателю не казалось скучным!
Уже в советские годы постаревший, но по-прежнему подвижной, говорливый, веселый Вася Регинин редактировал одно время иллюстрированный ежемесячник „30 дней“. И, редактируя советский журнал, оставался верен своему петербургскому девизу. Порядок чтения рукописей в его редакции был таким же, как в „Аргусе“. Как-то я принес ему рассказ для журнала. Регинин взглянул на название (он назывался „Поведение человека“), прикинул на глаз размер и тут же вызвал свободную машинистку. „Вот вам рассказ, читайте скорее, автор ждет“. Машинистка привычно уселась в уголке кабинета и стала при мне читать мой рассказ. Регинин продолжал болтать…
Болтая, рассказывая анекдоты, Регинин искоса поглядывал на машинистку, проверяя, как ей читается. Даже раза два попробовал отвлечь ее пустячным вопросом, убедился, что машинистка отвлекается неохотно, и, не дождавшись, когда она дочитает, сказал: „Ладно, рассказ берем. Кажется, интересно“.
Одобренный машинисткой рассказ сам читал только в верстке. Было бы читателю интересно, остальное его не касалось. За все остальное отвечает автор. Редактор обязан только одно: не печатать скучного. Рассказы испытывал на машинистках. Машинистка – читатель. Средний. Типичный. Нелицеприятный. Если и машинистке скучно – рассказ не шел» (Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники).
«Василия Александровича Регинина, или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.
…Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, какая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стенли, отыскавший в дебрях Африки Ливингстона из чисто спортивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.
До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные „желтые“ журналы вроде „Синего журнала“ или такие журналы на всеобщую потребу, как „Аргус“ или „Хочу все знать“. Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.
Серьезный, „вдумчивый“ читатель привык к скучноватому, но строго „идейному“ „Русскому богатству“, к солидному „Вестнику Европы“, к „Ниве“ с ее прекрасными приложениями, к „Журналу для всех“, наконец, к передовой „Летописи“. Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.
Число „желтых“ журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в „Синем журнале“ на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.
Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в „Синем журнале“ из номера в номер.
Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногсшибательное рекламное занятие.
Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинезелли редактор „Синего журнала“ Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожными и благополучно выйдет из клетки.
Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в „Синем журнале“ в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за „Синим журналом“.
В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинезелли был набит людьми до самого купола. Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.
Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.
Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.
Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брандспойтами, бледные служители.
Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.
В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали бешено их трясти и выламывать.
Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брандспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы.
Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.
Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии – себя с тиграми. „Тогда, – сказал он, морщась, – я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж «Синего журнала» до гомерических размеров“.
Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.
После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал „Тридцать дней“, один из интереснейших наших журналов.
Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.
В „Тридцати днях“ он первый напечатал „Двенадцать стульев“ Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли „воздержаться“ от печатания этой удивительной, но пугающей повести.
…Самая манера работы (или, как принято говорить, „стиль работы“) Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.
Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом:
„Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей“, – выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.
Регинин прожил большую и разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.
…Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в „Моряке“: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами» (К. Паустовский. Повесть о жизни).
(обратно)
3
КАРМЕН Александр Романович (1941 – 2013)

Родился и умер в Москве.
Журналист. Сын режиссера, кинодокументалиста, оператора, педагога, народного артиста СССР, профессора, Героя Социалистического Труда Р.Л.Кармена (1906–1978). После окончания факультета международных отношений МГИМО работал в иностранном отделе газеты «Известия». С 1974 – собкор «Комсомольской правды» в странах Латин. Америки и на Кубе, в 1977–84 – в Перу (Лима). Перейдя в Агентство Печати «Новости», на семь лет уехал в Уругвай (Монтевидео). С 1995 в Москве – обозреватель журнала «Новое время», заместитель заведующего международного отдела газеты «Век», спецкор газеты «Время МН», заместитель главного редактора журнала «Латинская Америка» РАН. В последние годы преподавал на факультете журналистики МГИМО, пользуясь большой популярностью у студентов.
Несколько лет работал над книгой «Неизвестные войны Романа Кармена», ставшей достойным памятником выдающемуся кинодокументалисту ХХ в. (премия Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство»). Обладатель ряда престижных наград, в т. ч. премии Культурного фонда Юлиана Семенова «За большой творческий вклад в развитие экстремальной геополитической журналистики», специальная премия Союза журналистов России «Золотая полка российской журналистики», дипломов от Национального союза журналистов Перу и агентства Пренса Латина (Куба) за вклад в развитие отношений с этими странами. Итогом жизни Кармена стала книга «Единственная и неповторимая» – о любви к своей профессии, уникальный и своеобразный учебник по журналистике.
Жил на ул. Б. Полянка, 28. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А–Я. Дополнения. М.: ОАО «Московские учебники», 2014
(обратно)
4
Евгений Генрихович Кригер (01 [14] марта 1906, Одесса, Российская империя — 2 ноября 1983) — советский актёр и сценарист, журналист, военный корреспондент.
Евгений Кригер родился 01 [14] марта 1906 года в Одессе/
Школу окончил в Архангельске (1922). Учился в Бакинском театральном техникуме (1923—1926), стал актёром. С 1926 года начал публиковаться в советских газетах и журналах. Во время Второй мировой войны был военным корреспондентом «Известий». С 1942 член Союза писателей.
Как журналист специализировался на очерках. Автор нескольких киносценариев: «Слава труду» (1949, совместно с Р. Григорьевым), «Счастливое детство» (1953, совместно с Н. Родионовым), «О Москве и москвичах» (1957) и др.
Член КПСС с 1942 года
(Википедия)
"На войне я понял, что такое человек"
14 сентября 2006, 16:27
Эдуард Графов
Был у нас в тогдашних "Известиях" самый любимый человек. Звали его Евгений Генрихович Кригер. Человек ласковый и мужественный.
Несмотря на значительную разницу в возрасте, мы были с ним близко дружны, я его хорошо знал. Но вот мужественным Кригера никак представить себе не мог. Хрупкий, тихий, в неизменных круглых очечках, он больше подходил для чаепития на даче, а не для бомбежек пикирующих бомбардировщиков. Этот застенчивый человек прошел фронтовым корреспондентом три войны - белофинскую, Отечественную, японскую кампанию.
Уже 28 июня 1941 года известинец Кригер вылетел на фронт. И ни одна пуля за четыре года его не тронула. Благословенно это чудо! А уж он-то от пуль не прятался и в Сталинграде, и на Курской дуге, и под Берлином. На что отчаянным военкором был Константин Симонов, так он об обожаемом Жене Кригере потом писал: "Наверное, как и у всех людей, страх у него был. Но он так здорово его всегда прятал, что нам за всю войну так и не удалось подсмотреть куда?"
Я читал дневники Кригера военных лет. Приведу существенный именно для него фрагмент. "20 сентября 1942 года. Война это не только смерть, но и жизнь. По дороге к Самофаловке очень сильно бомбили. У обочины сидит солдат, перемывает в желтой воде куски говядины для борща. И никакого внимания не обращает на бомбежку". Войну Кригер увидел и такой.
Про фронтовые годы не рассказывал. Я это замечал у многих фронтовиков, будто в вечность горе запечатали. На вопросы о войне хмурился, нервно поправляя очки.
Его сверстники в "Известиях" тянулись к нему, а самого Евгения Генриховича тянуло к моим сверстникам. Он был очаровательно хорош в молодой компании и насчет коньячка не отставал, и в разговоре не отсутствовал. Впрочем, все больше внимательно слушал: новое поколение ему было интересно. Евгений Генрихович вел себя столь тактично и обаятельно, что мы были с ним как бы на равных, ему это было дорого.
Правда, случались и неуместности. Одна юная дама, чрезвычайно гордая своим дружком, молоденьким корреспондентом "Известий", поощряюще спросила Евгения Генриховича: "А вы тоже в штате "Известий"?" "Да, любезно объяснил Кригер, с 1932 года". Мы захохотали, а Женя смутился. Он все-таки уговорил меня называть его Женя и попросил на "ты". "Хорошо, сказал я. Но "ты", Женя, вам не будет".
Не помню, чтобы он произнес о ком-то дурное слово, ему это претило. Только про одного нашего пожилого коллегу, существо лукавое, сказал мне: "Ну этот в конце 30-х годов сильно развернулся". Меня удивила интонация: ему, пожалуй, было жаль этого неверного человека. Он умел жалеть.
Подлость словно отстранял, к благородству относился как к должному. Видать, война научила не спешить осуждать и не торопиться восхищаться. Может, потому, как никто другой в "Известиях", он справедливо и убедительно писал о хороших людях. Не припомню за ним так называемых критических статей. Он пытался переделывать жизнь праведностью...
Иностранный корреспондент у Кригера спросил, что дали ему годы войны. Кригер сказал: "На войне я понял, что такое человек, и сам в большей мере, чем прежде, стал им".
Я войну краем детства задел, не прошел того сурового чистилища. Очистительную роль в моей жизни сыграл именно Женя Кригер, рядом с ним, хочется надеяться, я стал пусть хоть немного лучше.
На похоронах Евгения Генриховича Кригера в ноябре 1983 года впереди военкора несли его боевые ордена.
Евгений Кригер
(1906-1983)
Специальный корреспондент "Известий"
с 1932 по 1973 год
E-mail:
istclub@izvestia.ru Станиславу Сергееву
https://iz.ru/news/317197

Военный корреспондент газеты «Известия» Евгений Генрихович Кригер ( справа) беседует с командиром советской части
"На Орловско-Курском направлении". "ЛЮДИ И "ТИГРЫ". От специального военного корреспондента "Известий". "(...) Бой приблизился к этому клочку земли. Разрывы поднимаются за холмом, где стоит наша пехота. Снова "юнкерсы" начинают кружить свою утомительную карусель, а в небе все чаще появляются рваные клочья дыма - немецкая шрапнель. Все знают, что это значит. Осатаневшие от четырех попыток пробиться, немцы снова начинают атаку". (...)
Очерк об артиллеристах и саперах, сдерживающих гитлеровские танки. Подпись: "Евгений Кригер. Действующая армия".
На моем столе - письмо от ветерана "Известий", бывшего заведующего военным отделом газеты Григория Аксельрода. Это воспоминания о человеке, который был легендой редакции, - Евгении Генриховиче Кригере. Выдержки из письма - лучший комментарий к давней заметке из известинской подшивки.
Оно начинается цитатой из дневников Константина Симонова: "Для тех, кто знал на фронте тишайшего, нескладнейшего и храбрейшего из нас, военных корреспондентов, Евгения Кригера, не составило труда догадаться, откуда взялся в моей пьесе ("Русские люди". - "Известия") журналист Панин".
...Круглые очки в тонкой оправе. Гимнастерка. Поперечная портупея. Ордена, медали. Но вид далеко не бравый. Типичный интеллигент.
Он был газетчиком по призванию. Печатался только в "Известиях". И выступал исключительно с корреспонденциями, хотя в ту пору газетные полосы несли к читателю и рассказы, и стихи, и даже пьесы. Сквозь свирепую цензуру в его военных публикациях прорываются вещи, о которых мог знать только очевидец. (...) В газетчике Кригере с его точным, рельефно выпуклым письмом растворился незаурядный мастер художественной прозы. (...)
Кригер писал буквально на коленках. Ни воспоминаний, ни записных книжек, как у Симонова или Гроссмана, не осталось. Львиная доля времени уходила на доставку материалов в Москву.
О его храбрости ходили легенды. Ему везло. На Западной Украине он случайно разминулся со своим напарником, известинским фоторепортером Павлом Трошкиным. Тот угодил под смертельный выстрел бандеровцев, а Кригер без помех добрался до освобожденного Львова.
Под выстрелами и бомбежками прошла звездная пора газетной работы Кригера. После Победы он практически перестал
писать и публиковаться. Замолчал. Надолго, почти до самой смерти. Перед тем его настиг злой рок. Нелепо, в расцвете лет погиб единственный сын. Кригер мужественно перенес потерю. Но стал еще больше молчалив, как-то сразу по-стариковски одряхлел, а за толстыми стеклами очков возник и больше не исчезал влажный блеск.
Первые публикации Кригера затерялись в толще газетных подшивок. Последняя же за его подписью появилась под сенью "Известий" в 1983 году, и я имел к ней отношение. Издательство выпустило мою книгу "Присяга" с предисловием Кригера. Вскоре он скончался.
Для подготовки некролога пришлось заглянуть в его личное дело. И выяснилось: в пятой графе анкеты слово "немец" зачеркнуто и вписано - "русский". Сбоку - педантичная пометка кадровика: "Исправлено лично самим Кригером 23 июня 1941 года". Что же происходило в его душе потом, когда он сталкивался со зверствами оккупантов? О чем думал, когда слышал призыв "Убей немца"?
Словно на другой же день войны на борьбу с Адольфом Гитлером поднялся лично он, Евгений Генрихович Кригер - русский немец из Одессы, ставший одним из лучших военных журналистов времен Великой Отечественной".
https://iz.ru/news/304130
(обратно)
5
Леонид Кудреватых
В 1920-е годы был селькором газет «Правда» и «Беднота», а с 1927 - зав. отделом газеты «Вятская правда». В 1930-е годы работал в редакции газеты «Известия». В 1941-1945 - военный корреспондент «Известий» на Западном, Центральном, 1-м Белорусском и других фронтах. 8 мая 1945 года присутствовал при подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. Автор книг и очерков о войне, выдающихся современниках. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями.
http://vvkorrespondentvov.shpl.ru/korr.html
 (обратно)
(обратно)
6
Павел Артемьевич Трошкин (1909—1944) — фотокорреспондент газеты «Известия», участник Великой Отечественной войны, майор.

Родился в 1909 году в Симферополе.
Затем вся семья переехала в Москву, где после окончания школы Павел пришел работать в типографию газеты «Известия». Через несколько лет начал работать в фотоотделе редакции. В 1936 году стал специальным фотокорреспондентом «Известий».
Участвовал в боях на Халхин-Голе, советско-финской и Великой Отечественной войнах. Член ВКП(б)/КПСС. В Отечественной войне принимал участие с первого дня войны. Снимал оборону Москвы, Сталинградскую и Курскую битвы, сражения в Крыму и освобождение Украины.
Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги».
Погиб 19 октября 1944 года под городом Станиславом (ныне Ивано-Франковск, Украина)
(Википедия)

Судьбу и будущую профессию Павла Артемьевича Трошкина (1909-1944) определил отец – типографский работник издательства «Известия», в 1925 году приведший своего Павку в цинкографию. Спустя несколько лет молодого ударника труда поощрили – перевели в фотоотдел редакции.
У Павла Трошкина было обостренное чутье газетного репортера на новизну и достоверность. Эти качества плюс отчаянная храбрость помогли ему на фронте делать уникальные снимки, среди них – знаменитая панорама после сражения под Могилевом, запечатлевшая десятки разбитых немецких танков, полных награбленного добра. Увеличенный снимок Трошкина выставили в фотовитрине известинского дома на Пушкинской площади, и москвичи несколько дней толпились перед ней, рассматривая картину поля боя, вселявшую надежду на большую Победу.
Затем последовали трошкинские фотографии, сделанные в освобожденном Можайске, в сражающемся Сталинграде, на полях Курской битвы, при форсировании Днепра. По воспоминаниям коллег-газетчиков, Павел Трошкин всегда лез в самое пекло, ходил в рукопашные схватки, участвовал в уличных боях, не расставаясь с фотоаппаратом. Уроженец Симферополя, он явно тяготел к местам, где действовали 1-й и 2-й Украинские фронты. С ними участвовал в штурме Киева, изгнании захватчиков из Одессы и Севастополя. Вместе с войсками дошел до Западной Украины, где в октябре 1944 года смерть нашла неистового фоторепортера.
Спустя много лет писатель Константин Симонов, режиссер Александр Столпер и актер Зиновий Высоковский запечатлели яркие черты характера Павла Трошкина в образе Мишки-фоторепортера в фильме «Живые и мертвые». Симонов, знавший Трошкина еще по боям в Монголии, нашел очень точное определение этого характера: «Готовый к немедленному действию, как взведенный курок»
Правда, сцену гибели фоторепортера авторы художественного фильма сознательно героизировали. В жизни было так: Трошкину предстояло на машине перебраться из Черновиц в тогдашний Станислав (теперешний Ивано-Франковск), куда вели две дороги. Выбрали более короткую, но более опасную. В лесочке под Коломыей напоролись на засаду. Остановились выяснить, что случилось. Внезапно по машинам был открыт шквальный огонь. Это были бандеровцы. Пуля попала фотокору прямо в сердце. Вспышка – и конец!
Павла Трошкина похоронили во Львове на Холме Славы.

Взвод снайперов стреляет по самолетам (фото П. Трошкина)

Сбитый немецкий летчик, 1943 г. (фото П. Трошкина)
Из беседы с дочерью П.А. Трошкина, опубликованной в газете «Вечерняя Москва» 8 мая 2015 года, в день 70-летия Победы.
Как это было
– В 1936 году папа стал специальным корреспондентом «Известий». Ездил на правительственные конференции, съезды на самом высоком уровне. Впоследствии ему выпало пройти три войны. Первой стала война 1939 года на Халхин-Голе. Вместе с войсками СССР и Монгольской Народной Республики он прошел ее от первого до последнего дня. Маршал Чойбалсан наградил Трошкина высшим орденом своего государства и вручил бесценный по тем временам подарок – фотоаппарат «Лейка». С этой камерой он прошел еще две войны.
Папа был в командировках чаще, чем дома. Халхин-Гол, Карельский перешеек… Это была его работа – не помню, чтобы отъезд на фронт в 1941 году чем-то отличался.
… – А вот это – первые подбитые нашими солдатами фашистские танки, – показывает знаменитое фото Карина Павловна. – Стрелковый полк полковника Семена Кутепова накануне вывел из строя 390 боевых вражеских машин! Когда папа узнал об этом, загорелся идеей, во что бы то ни стало показать, как наши останавливают врагов, которые тогда казались неудержимыми… Танки были разбиты в двухстах метрах от зоны боевого охранения – между небольшим леском и полем. Территорию запросто могли обстрелять с любой стороны.
Отец все равно пополз к танкам. Ему любой ценой хотелось сделать панораму, позволяющую понять масштаб той первой победы. И тут в небе возник «мессер». Очередь с бреющего полета прошла у него над головой. Он сумел спрятаться под танк. Риск стоил цели… Это была первая публикация о крупном успехе Красной армии. Сообщение прошло по всем газетам, потом его и в иностранной прессе перепечатывали: корреспонденция «Горячий день», фотография Трошкина, текст Симонова.
– Фотокорреспондент Яков Рюмин, бывший рядом с Трошкиным в самые горячие дни обороны Сталинграда, годы спустя рассказывал мне, как часто ради небольшого снимка ее отец ночью пробирался на передний край обороны: «Во время боев в междуречье Дона и Волги, где каждый метр отстаивался ценой бессчетного количества жизней, Трошкин проявлял чудеса храбрости. Мы по десять раз на дню хоронили его, а он являлся в корпункт с очередной съемкой. Черный от гари и пороховой пыли, в шинели, пробитой осколками, он проявлял пленку и мчался на пункт сбора донесений, чтобы отправить негативы в редакцию самолетом… Он рисковал. Все время. И не боялся, хотя однажды за это чуть не пришлось поплатиться – он чудом не оказался в… советском плену».
… – Это – отдельный рассказ. На Смоленщине, под Дорогобужем, после бомбежки города, возвращавшиеся на базу немецкие «юнкерсы» обстреливали дороги, над которыми пролетали. Один самолет подбили наши зенитчики. Немцы решили не бросать сбитого товарища и стали кружить над местом его падения. Папа и Константин Симонов оказались рядом. Папа выскочил из автомобиля, забрался на крышу какого-то стоявшего в стороне от дороги строения. При каждом новом пике крыло немецкого самолета чуть не задевало его голову! Сняв в упор «юнкерс», он спрыгнул вниз, чтобы сфотографировать пленных немецких летчиков из подбитого самолета. Тут его и задержали как диверсанта…
А что еще могли подумать? Испанская кожаная куртка. Синяя летная пилотка. «Лейка». Появился внезапно… Диверсант! …Трошкина и поспешившего к нему на выручку Симонова под угрозой расстрела вместе с пленными повезли в ставку.
Папе, как и немцам, связали руки. Симонова везли с упертым в живот автоматом. Папа орал всю дорогу на особиста, руководившего захватом летчиков: «Ты, дурак, мальчишка! Я третью войну воюю, а ты еще первых немцев видишь. Панику устроил!» Особист его начал осаживать, приказал молчать. «Хорошо, – кричал папа, – я замолчу! Хорошо, буду сидеть связанный… Отодвинь от меня, дурак, этих немцев, чтобы я с ними хоть рядом не сидел».
Но кому какое дело до возмущений «предателя»?.. Когда в штабе разберутся, папа будет еле держаться на ногах. Как выяснилось, у него была температура под сорок градусов и гнойная ангина – его забрали в больницу.
…Однажды, по рассказам коллег, Трошкин загорелся идеей снять картину боя с воздуха. Если подумать, ну кому бы так просто командование для съемки выделило У-2 с летчиком? А ему дали. Сейчас бы сказали – вот это харизма! Как только самолет поднялся над противниками, фашисты открыли огонь по «летающей этажерке». Раненый летчик смог посадить самолет перед нашими окопами. Трошкин сначала дотащил раненого пилота к своим, а потом пополз обратно к самолету, зацепил его тросом и с помощью солдат вытянул У-2 из-под вражеского огня… И только потом пожаловался на ранение: «Меня царапнуло в руку, перевяжите, ребята», – обратился он к военным. А вечером уже посылал в газету свои снимки.
… – О том, что папа пережил на фронте, мы с братом Владиком узнали только после его смерти, – припоминает Карина Павловна. – В письмах с фронта он об этом не писал. Да, письма… До сих пор их храню – там такие слова! Сейчас таких писем уже никто не пишет… Вместо обычных сентиментальных слов в них было много гражданского пафоса, но не придуманного, а идущего от сердца. Он всегда верил – мы победим! Только по возвращении из командировок папа рассказывал маме: увиденное на фронте по ночам не дает ему спать. И ощущение после съемок в освобожденном концлагере он описывал так: «будто голова растет вверх».
И как у него душа не очерствела? Он так нежно относился к нам с Владиком… Маме наказывал растить сына настоящим мужчиной. Мне, едва только научившейся читать, писал на открытках текст крупными буквами. Отмечал дни рождения моих кукол – одной дарил сервиз, другой брошку. Сделал мне паспорт с фотографией, написав в нем: «выдан семейным советом».
… – Мама его всегда ждала. Первая похоронка пришла еще во время финской войны, под Новый год. В канун праздника раздался звонок в дверь. На пороге стоял он… Но мама спустя годы повторяла, что сердцем чувствовала: все кончится трагедией. Возможно, он и сам это предчувствовал. Не думая, что едет в последнюю командировку… отдал маме чемодан с отснятыми за всю войну негативами, бросив на ходу: «Это наследство моих детей»…
… – Когда коллега отца Виктор Полторацкий передал в редакцию весть о его гибели, мне было всего 8 лет, – говорит Карина Павловна. – Брату Владику – 14. Маме -36. Замуж она больше выходить не хотела.
О том, что награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени, папа не узнал. Приказ о награждении был подписан за две недели до его смерти…
https://voynablog.ru/2019/04/22/fotokorrespondent-gazety-izvestiya-pavel-troshkin/
(обратно)
7
Евгений Петров (настоящее имя — Евгений Петрович Катаев; 30 ноября [13 декабря] 1902, Одесса — 2 июля 1942, Ростовская область)

— русский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Соавтор Ильи Ильфа, вместе с которым написал романы «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», книгу «Одноэтажная Америка», ряд киносценариев, повести, очерки, водевили.
Брат писателя Валентина Катаева. Отец кинооператора Петра Катаева и композитора Ильи Катаева. Вероятный прототип Павлика Бачея из повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» и романа «Хуторок в степи», Володи Патрикеева из повести Александра Козачинского «Зелёный фургон». Главный редактор журнала «Огонёк» c 1938 года. После смерти Ильфа работал самостоятельно или в соавторстве с писателем Георгием Мунблитом над киносценариями и фельетонами. В годы Великой Отечественной войны — фронтовой корреспондент. Погиб в авиакатастрофе в 1942 году. Произведения Ильфа и Петрова были переведены на десятки языков мира, выдержали большое количество переизданий, неоднократно экранизировались и инсценировались.
(Википедия)
(обратно)
8

Ираклий Луарсабович Андроников (Андроникашвили; 15 [28] сентября 1908, Санкт-Петербург — 11 июня 1990, Москва) — русский советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий. Народный артист СССР (1982). Лауреат Ленинской (1976) и Государственной премии СССР (1967). Доктор филологических наук (1956). Орден Ленина (1978).
(Википедия)
(обратно)
9
Лидин Владимир

ЛИДИН Владимир Германович (псевдоним; настоящая фамилия Гомберг; 1894, Москва, — 1979, там же), русский писатель.
Родился в ассимилированной семье владельца экспортной конторы. Учился в Лазаревском институте восточных языков, в 1916 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 1908 г. опубликовал два рассказа, регулярно печатался с 1915 г. В 1918–21 гг. служил добровольцем в Красной армии. В рассказах первых сборников («Трын-трава», «Вороные кони», оба — 1916 г.; «Полая вода», 1917; «Моря и горы», 1922) о жизни и быте интеллигенции заметно влияние А. Чехова и И. Бунина.
В маленьких повестях Лидина «Ковыль-скифский» (1922), «Курга-баба» (1923), написанных, как и другие его произведения 1920-х гг., в стилистическом ключе А. Ремизова и Б. Пильняка, проводится сменовеховская идея единства русской и советской истории. В сборнике «Мышиные будни» (1923) о маленьких, непримечательных людях вошло единственное художественное произведение Лидина на еврейскую тему — «Еврейское счастье», посвященное горькой судьбе евреев в период послевоенной разрухи. Главные герои сборника «Норд» (1925), романов «Идут корабли» (1926), «Отступник» (1927) и, отчасти, «Великий или Тихий» (1933) — смелые авантюристы-ницшеанцы, борющиеся за личное счастье и место в жизни. В начале — середине 1930-х гг. Лидин обратился к темам «разоблачения буржуазной действительности» («Могила неизвестного солдата», 1932) и «строительства социалистического общества». Язык и образная ткань его произведений, сохранив красочность и выразительность, упростились и стали более традиционными.
Во время Второй мировой войны Лидин был военным корреспондентом газеты «Известия» (1941–43; сборник очерков «Зима 1941 года», 1942). Недовольство И. Сталина одним из очерков Лидина привело к назначению писателя работником фронтовой газеты. Лидин не печатался с сентября 1943 г. по 1946 г. Очерк «Тальное» о поголовном истреблении евреев украинского городка был написан для так и не изданной в Советском Союзе «Черной книги» (Иер., 1980) о Катастрофе.
После 1946 г. Лидин опубликовал ряд рассказов и несколько романов. Написанные с оглядкой на цензуру воспоминания (сборник «Люди и встречи», 1957; несколько расширенное издание — 1961, 1965) состоят из очерков-портретов, героями которых являются также и евреи: писатели Ш. Аш, Ж. Р. Блок, Ф. Вольф, Э. Казакевич, К. Липскеров (1889–1954), Й. Рот, Э. Толлер, С. Цвейг; литературовед М. Гершензон; книговед Д. Айзенштадт; актеры Б. Зускин, Л. Леонидов, Ш. Михоэлс; художники А. Нюренберг (1887–1979), И. Рабинович.
Источник:
https://eleven.co.il/jews-of-russia/in-culture-science-economy/12451/ Электронная еврейская энциклопедия (ЭЕЭ)
(обратно)
10
Леонид Утёсов, Эдит Утёсова - На Унтер-ден-Линден 1944 год
У фрау фон Линды
На Унтер дер Линден
Три года назад, вечерком,
Полковник фон Шмутце,
Фон Шпрутце, фон Штрутце
Сидели за пышным столом.
Подняв бокал в торжественный час
Вся компания весело пьет:
Ми едем все в Россия сейчас,
Предстоит нам приятный поход:
На Нэвел, на Гомел, на Карьков, на Киев,
На Днэпропетровск и Донбасс,
На Курск, на Брянск, Смоленск, Люганск,
На Владикавказ и Кавказ!
А время мчится на всех парах
И вот вам нежданный финал:
С небес в Берлин фрау Линде на днях
Фугасный подарок упал!
От фрау фон Линды,
От Унтер дер Линден
Остался лишь пепел один!
И знают все люди - не то еще будет!
Заплатит фашистский Берлин
За Невель, за Гомель, за Харьков, за Киев,
За Днепропетровск и Донбасс,
За Курск, за Брянск, Смоленск, Луганск,
За Владикавказ и Кавказ!
(обратно)
11
[…] В фильме «Повесть о нефтяниках Каспия» была предпринята одна из наиболее значительных в послевоенном документальном кино попыток изображения современной действительности.[…]
ДРОБАШЕНКО С. Роман Кармен: путь в искусстве // Роман Кармен в воспоминаниях современников. М., 1983., Источник
http://test.russiancinema.ru/index.php?e_dept_id=1&e_person_id=7076
[...]я прочел в «Новом мире» очерк писателя И. Осипова «Остров семи кораблей». Он рассказывал о том, как бакинских геологов на протяжении многих лет привлекала каменистая гряда в открытом море. Вокруг выступающих из-под морской волны черных скал видны были радужные пятна нефти. Волны перекатывались через заржавелые остовы разрушенных, потерпевших кораблекрушение на этих скалах кораблей. Бывалые моряки называли гряду «кладбищем кораблей».
Геологи решили во что бы то ни стало разгадать тайну черной каменистой гряды. Все говорило о том, что у этих скал на морском дне таятся богатейшие месторождения нефти. На крохотном островке высадился десант энтузиастов. Они построили небольшой свайный домик, установили рацию, начали строить буровую вышку. Среди высадившихся на островке был знаменитый буровой мастер Михаил Каверочкин.
Девяносто дней и ночей провели первооткрыватели морской нефти на этом островке. Буровая вгрызалась в глубокие недра. И вот наступил день, волнующий, памятный, когда морские глубины должны были ответить на зов людей: есть ли нефть под этими скалами, пойдет ли нефть из буровой.[...]
Главным героем нашего фильма стал буровой мастер Михаил Каверочкин. Много часов провели мы с камерой на его буровой в открытом море. Наблюдали за его работой, снимали, а в свободное от вахты время в беседах с ним постигали сокровенные черты его отношения к своему труду. Широкоскулое, пористое лицо его потемнело от соленых ветров. Под чуть припухлыми веками — светлые глаза, внимательные и добрые, когда он говорит со своими учениками. А на буровой, когда Михаил Каверочкин стоял в мокром, словно лакированном плаще из негнущегося брезента, облитом нефтью и потоками колючего ливня, когда ураганный ветер сбивал с ног, его глаза становились холодными, цвета штормовой волны. Отрывистые команды он подавал властно, повышая голос лишь настолько, чтобы в шуме моря, ветра и скрежета буровой слова доходили до слуха его подручных. В эти минуты единоборства со стихией он был собран в тугой узел решимости, воли. Человек этот словно чувствовал далекое биение пульса глубоких недр морского дна, хранящих пласты невиданной емкости. Он, как никто, умел безошибочно проникать в эти пласты, вкладывая в мастерство глубокого бурения подлинный талант и вдохновение.
Каверочкин стоял на содрогающейся от ударов волн и ветра буровой, широко расставив ноги в резиновых сапогах, его рукам повиновались тяжелые механизмы, и лицо, обрызганное глинистым раствором, казалось каменным.
И снова после трудной вахты лицо его, грубое, кремневое там, в грохоте урагана, обретало застенчивую теплоту. Положив на стол крепкие руки труженика моря, он вел неторопливый разговор с товарищами, и в усталых, [326] снова ставших голубыми глазах его светилась доброта щедрого сердца.
Если бы мы не жили в море полгода, в поле зрения нашего объектива не попали бы явления, которые нельзя предусмотреть никаким сценарием.[...]
Кармен Р. Л. Но пасаран! — М.: «Сов. Россия», 1972. — 384 с. с илл. на вкл. («Годы и люди»). Тираж 100 000 экз., Источник
http://militera.lib.ru/memo/russian/karmen_rl/14.html
Снимая фильмы «Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители моря», я не задавался целью рассказать, как добывается в море нефть. Хотелось создать образ героического трудового коллектива, раскрыть характеры людей в не выдуманных, а подсказанных самой жизнью обстоятельствах. С документальной точностью передали мы факты, события, явления, свидетелями которых были, находясь в море в общей сложности почти год. Драматургия обоих фильмов — подвиг людей, покоряющих стихию, горечь потерь, радость и торжество трудовых побед.
Роман Кармен ("Покорители моря"; из книги "Но Пасаран!")
(обратно)
12
Сейчас этот рассказ-наставление может показаться наивно пропагандистским. Но нужно учитывать контекст времени и стиль общения с детьми на рубеже веков. Для сына же, потерявшего отца в том возрасте, когда Отец и Бог синонимы, такое завещание неизбежно программное.
(обратно)
Оглавление
Предисловие от издателя.
Первая книга Кармена в руках
Воспоминания детства
Страсть к сенсациям
Первый очерк для «30 дней»
Встреча на остановке
Фотокамера «Лейка»
Необычайная легкость в работе
Легкость в обучении
Снимки молодости
Увлечение фотографией
Возвращение из труднейшего автопробега
Рассказы Кармена
Рассказ Кармена о встрече
Возвращение Кармена в Москву
Сборы в «горячую точку»
Тяжелая поездка
Съемки в жесткий мороз
Уезд Кармена на фронт
Встреча в Колонном зале Дома Союзов
Эпизоды съемок Кармена
Сценарий о строительстве нового здания МГУ
Труд бурового мастера
Голос человека с кинокамерой в руках
Послесловие
24 июня 1941 г. Третий день войны
Лазарь Кармен
Сын мой[12]
***
*** Примечания ***


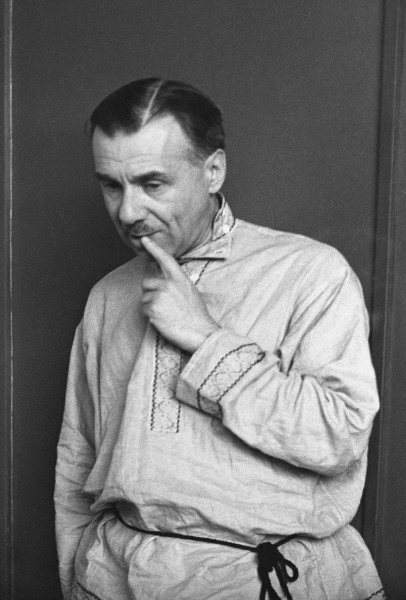

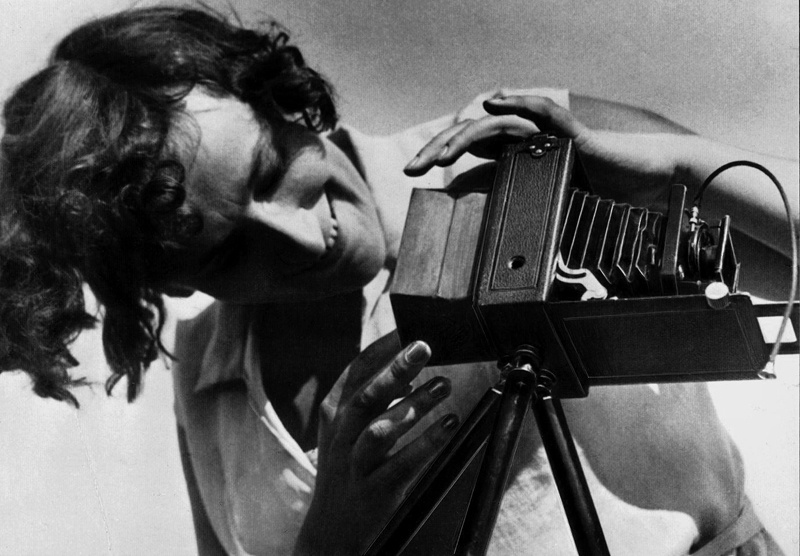







 С той поры я много раз слушала Седьмую симфонию, но ничто по могло сравниться с чувством, пережитым во время тогдашнего исполнения. Белые колонны, люстры, переполненный слушателями зал - все исчезло, словно смытое певучей волной: осталась лишь музыка, и она говорила с каждым из нас.
Музыка говорила о недавнем счастье мирной жизни, прерванной нападением врага, мы слышали злую барабанную дробь, рыдания женщин, крик осиротевших детей, стук вражеских сапог, топчущих нашу родную землю. И наконец сквозь мучительную, нарастающую боль звучаний, сквозь терзающие душу голоса проступала великая гармония победы, дыханье светлого утра и звучал обращенный ко всем нам могучий, чистый и счастливый голос Родины...
Руки у меня похолодели от волнения, сердце сжималось; музыка завладела всем моим существом. Неожиданно я почувствовала на себе чей-то взгляд и оглянулась.
У одной из колонн стоял Кармой. Мы даже не кивнули друг другу — так велико было наше волнение. Мне показалось, что по его лицу скользнула смутная грустная тень...
С той поры я много раз слушала Седьмую симфонию, но ничто по могло сравниться с чувством, пережитым во время тогдашнего исполнения. Белые колонны, люстры, переполненный слушателями зал - все исчезло, словно смытое певучей волной: осталась лишь музыка, и она говорила с каждым из нас.
Музыка говорила о недавнем счастье мирной жизни, прерванной нападением врага, мы слышали злую барабанную дробь, рыдания женщин, крик осиротевших детей, стук вражеских сапог, топчущих нашу родную землю. И наконец сквозь мучительную, нарастающую боль звучаний, сквозь терзающие душу голоса проступала великая гармония победы, дыханье светлого утра и звучал обращенный ко всем нам могучий, чистый и счастливый голос Родины...
Руки у меня похолодели от волнения, сердце сжималось; музыка завладела всем моим существом. Неожиданно я почувствовала на себе чей-то взгляд и оглянулась.
У одной из колонн стоял Кармой. Мы даже не кивнули друг другу — так велико было наше волнение. Мне показалось, что по его лицу скользнула смутная грустная тень...


 Странное чувство я испытала, смотря на экран. Я забыла, что хочу писать об этом фильме, забыла о просмотровом зале, о том, что сижу в зале не одна, а с мастерами кино, тоже пришедшими на просмотр. Мне чудилось, что вернулись дни юности, казалось, что я снова, как раньше, была на съемке вместе с моим другом, и Кармен снимал именно то, что было мне всего важней. Вот Каверочкин в мокром брезентовом плаще стоит на сотрясаемой штормом вышке, и слова его команды, обращенные к подручным, смешиваются с грохотом волн. А вот он в короткие минуты отдыха - загорелый, усталый человек с детскими голубыми глазами. Он присел не то на доски, не то на ящик, он молчит, уйдя в свои мысли, обветренное его лицо полно спокойной, простодушной доброты...
Странное чувство я испытала, смотря на экран. Я забыла, что хочу писать об этом фильме, забыла о просмотровом зале, о том, что сижу в зале не одна, а с мастерами кино, тоже пришедшими на просмотр. Мне чудилось, что вернулись дни юности, казалось, что я снова, как раньше, была на съемке вместе с моим другом, и Кармен снимал именно то, что было мне всего важней. Вот Каверочкин в мокром брезентовом плаще стоит на сотрясаемой штормом вышке, и слова его команды, обращенные к подручным, смешиваются с грохотом волн. А вот он в короткие минуты отдыха - загорелый, усталый человек с детскими голубыми глазами. Он присел не то на доски, не то на ящик, он молчит, уйдя в свои мысли, обветренное его лицо полно спокойной, простодушной доброты...
 Темой Кармена-журналиста была жизнь обитателей одесского порта. Жизнь местных Карменсит также находилась в поле его зрения. Их судьбам были посвящены рассказы и очерки Кармена. Повесть «Берегитесь!» тоже о них. Начинается она патетически: «Берегитесь! Я обращаюсь к вам – женщины! Берегитесь страшного чудовища, имя которого – проституция! Обходите старательно расставленные на вашем пути капканы и соблазны! Защищайтесь до последней капли крови и не давайте закоренелому врагу вашему победить. Ибо горе побежденным. Горе! Горе! Чудовище скомкает вас и безжалостно разобьет вашу жизнь». В том же году вышла еще одна книга Кармена «Проснитесь!» с подзаголовком «Доброе слово к обитательницам “веселых домов” и “одиночкам”».
Кармен вслед за Горьким открыл для себя тему одесского дна. Как и ранние очерки Горького, репортажи Кармена написаны в романтическом духе. Да и сам журналист в душе всю жизнь оставался романтиком. Корней Чуковский так описывал своего друга, «талантливого сотрудника одесских газет» в воспоминаниях о днях, связанных с броненосцем «Потемкин»: «Кудрявый, голубоглазый, румяный, сентиментальный, восторженный, он бросается меня обнимать <…> Я разделяю его энтузиазм вполне. Он близко связан с рабочими одесских предместий. В порту у него много друзей среди “босяков” и грузчиков»
Описал Кармена и Жаботинский в романе «Пятеро», правда не назвав имени: «Один из них был тот самый бытописатель босяков и порта, который тогда в театре сказал мне про Марусю: котенок в муфте. Милый он был человек, и даровитый; и босяков знал гораздо лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по настоящему и не жил, по крайней мере, не у нас на юге. Этот и в обиходе говорил на ихнем языке – Дульцинею сердца называл “бароха”, свое пальто “клифт” (или что-то в этом роде), мои часики (у него не было) “бимбор”, а взаймы просил так: нема “фисташек”? <…> Его все любили, особенно из простонародья. Молдаванка и Пересыпь на eго рассказах, по-видимому, впервые учились читать; в кофейне Амбарзаки раз подошла к нему молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала: – Мусью, как вы щиро вчера написали за “Анютку-Боже-мой”…»
Кармен и Жаботинский занимали в газете «Одесские новости» прочное положение, а Чуковский был еще в начале своего литературного пути. Судьбу его во многом определил Жаботинский, по совету которого Чуковский в 1903 году поехал корреспондентом в Лондон. Именно там произошло его окончательное самоопределение как критика.
И Кармен, и Жаботинский писали Чуковскому в Лондон письма, но если Жаботинский писал ему как наставник, то тональность писем Кармена была приятельской, его письма рисовали обстановку в редакции, семейные новости, поверял он Чуковскому и сердечные тайны
Узнаем мы из этих писем и подробности, касающиеся Жаботинского. «Володя сейчас в Италии, – писал Кармен Чуковскому осенью 1903 года. – Он должен скоро приехать. Но я отношусь к его приезду довольно холодно. Я и он – два противоположных полюса. Некоторые обстоятельства показали мне, что он типичный мещанин и человек черствый и бездушный и с большим самомнением. Я ничего не имею против его самомнения, Б-г с ним. Но он душит тебя. Временами он больно наступает тебе на мозоль и дает тебе понять, что ты ничтожество, а он гений. Но Б-г с ним». Это письмо было написано во время пребывания Жаботинского в Риме, куда он поехал сразу после 6-го Сионистского конгресса в Базеле, проходившего 9–23 августа по старому стилю, Жаботинский пробыл тогда в Риме до ноября.
Пребывание на конгрессе, встреча с Теодором Герцлем многое изменили в его жизни, он отходил и от прежних своих тем, и от старых друзей. Чуковский недоумевал по поводу критических нот по адресу Жаботинского, которые появились в письмах Кармена. 22 августа 1904 года он записал в дневнике: «От Кармена получил письмо. Опять жалуется на Altalen’у. Что это значит – не пойму»
Причиной обиды стал один из фельетонов Жаботинского, о котором он позднее вспоминал в «Повести моих дней»: «Однажды <…> я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому “клоунами”. Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, анонима в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы клоуны в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: “Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту”. Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?»
С иронией о профессии журналиста он писал и в своей постоянной рубрике «Вскользь». Эти публикации задели Кармена, он писал Чуковскому: «Я — не рыжий. Если бы я на минуту подумал или пришел к убеждению, что я рыжий, я бросил бы работу. <…> Я задумал большое дело. Я хотел широко осветить, как никто, это темное царство, показать, что падшая – наша сестра и, что если поскоблить с нее грязь, мы натолкнемся на чудный розан, на чудную душу, чего нет у многих девиц и дам, умащающих свои телеса благовонными маслами. У этих – чистое тело, но на месте души – ком грязи. <…> Удивительный народ! Некоторые говорят, – вот их подлинные слова:“к чему нам это знать?”, т. е. как живут и страдают проститутки. Зачем писать об этом. А одна модная артистка, вся сотканная из лучей, звуков и молитв, говорит мне – “у вас, Кармен, хорошие струны, но зачем вы занимаетесь гнилью? Пусть гниет. Оставьте ее”. Как ты думаешь – оставить ее – гниль эту самую, или иначе всё, что в слезах и обливается кровью?! Да отсохнет моя десница, если я ее оставлю!.. Помнишь рассказ мой “Моя сестра”? Ты знаешь, что первые ласки я получил от падшей, проститутки, и я никогда не забуду их. Погоди! Я напишу когда-нибудь рассказ под заглавием “Сверхпроститутка”. Молодец Ницше. Если бы он только и сочинил всего одно слово “сверх”, и то он был бы гениален. “Сверхпроституткой” я называю даму – семейную, так называемую “порядочную”, фотографическая карточка которой находится в альбоме в Колодезном переулке. Если карточка ее нравится тебе, хозяйка посылает к даме служанку, и та вызывает ее. Дама бросает детей, мужа, чай, гостей, садится в дрожки и лупит в Колодезный переулок, получает за свой сеанс 25 руб. и возвращается назад к столу и разливает опять свой чай. А завтра у нее – новая шляпа, шелковая нижняя юбка и фильдекосовые чулки. Она, которая продает себя ради шляпки, – порядочная, смотрит смело в глаза полиции, а та, которая бродит по улице и продает себя потому, что – голодна, – падшая, непорядочная и т. д. Сволочи и фарисеи! Не привыкла публика к смелым и правдивым фельетонам, но надо ее приучить»
Отдельное издание рассказа Кармена «Моя сестра» вышло под заглавием «Одна из многих» в книге «Ответ Вере. Одна из многих» в Одессе в 1903 году. Автором предисловия был Altalena. Книга не случайно называлась «Ответ Вере», подразумевалась весьма популярная в конце 80-х годов книга немецкой писательницы Бетти Крис (псевдоним Вера). Содержание этой книги Кармен пересказал в предисловии: добродетельная и целомудренная барышня Вера вышла замуж за Георга, надеясь на то, что и он столь же добродетелен, как и она. Но, узнав, что у него были до нее женщины, она уходит из жизни. Кармен ответил этой псевдо-Вере рассказом «Моя сестра» – о том, как согрела и поддержала его в тяжелую минуту проститутка. Рассказ предварял эпиграф за подписью Altalena:
Темой Кармена-журналиста была жизнь обитателей одесского порта. Жизнь местных Карменсит также находилась в поле его зрения. Их судьбам были посвящены рассказы и очерки Кармена. Повесть «Берегитесь!» тоже о них. Начинается она патетически: «Берегитесь! Я обращаюсь к вам – женщины! Берегитесь страшного чудовища, имя которого – проституция! Обходите старательно расставленные на вашем пути капканы и соблазны! Защищайтесь до последней капли крови и не давайте закоренелому врагу вашему победить. Ибо горе побежденным. Горе! Горе! Чудовище скомкает вас и безжалостно разобьет вашу жизнь». В том же году вышла еще одна книга Кармена «Проснитесь!» с подзаголовком «Доброе слово к обитательницам “веселых домов” и “одиночкам”».
Кармен вслед за Горьким открыл для себя тему одесского дна. Как и ранние очерки Горького, репортажи Кармена написаны в романтическом духе. Да и сам журналист в душе всю жизнь оставался романтиком. Корней Чуковский так описывал своего друга, «талантливого сотрудника одесских газет» в воспоминаниях о днях, связанных с броненосцем «Потемкин»: «Кудрявый, голубоглазый, румяный, сентиментальный, восторженный, он бросается меня обнимать <…> Я разделяю его энтузиазм вполне. Он близко связан с рабочими одесских предместий. В порту у него много друзей среди “босяков” и грузчиков»
Описал Кармена и Жаботинский в романе «Пятеро», правда не назвав имени: «Один из них был тот самый бытописатель босяков и порта, который тогда в театре сказал мне про Марусю: котенок в муфте. Милый он был человек, и даровитый; и босяков знал гораздо лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по настоящему и не жил, по крайней мере, не у нас на юге. Этот и в обиходе говорил на ихнем языке – Дульцинею сердца называл “бароха”, свое пальто “клифт” (или что-то в этом роде), мои часики (у него не было) “бимбор”, а взаймы просил так: нема “фисташек”? <…> Его все любили, особенно из простонародья. Молдаванка и Пересыпь на eго рассказах, по-видимому, впервые учились читать; в кофейне Амбарзаки раз подошла к нему молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала: – Мусью, как вы щиро вчера написали за “Анютку-Боже-мой”…»
Кармен и Жаботинский занимали в газете «Одесские новости» прочное положение, а Чуковский был еще в начале своего литературного пути. Судьбу его во многом определил Жаботинский, по совету которого Чуковский в 1903 году поехал корреспондентом в Лондон. Именно там произошло его окончательное самоопределение как критика.
И Кармен, и Жаботинский писали Чуковскому в Лондон письма, но если Жаботинский писал ему как наставник, то тональность писем Кармена была приятельской, его письма рисовали обстановку в редакции, семейные новости, поверял он Чуковскому и сердечные тайны
Узнаем мы из этих писем и подробности, касающиеся Жаботинского. «Володя сейчас в Италии, – писал Кармен Чуковскому осенью 1903 года. – Он должен скоро приехать. Но я отношусь к его приезду довольно холодно. Я и он – два противоположных полюса. Некоторые обстоятельства показали мне, что он типичный мещанин и человек черствый и бездушный и с большим самомнением. Я ничего не имею против его самомнения, Б-г с ним. Но он душит тебя. Временами он больно наступает тебе на мозоль и дает тебе понять, что ты ничтожество, а он гений. Но Б-г с ним». Это письмо было написано во время пребывания Жаботинского в Риме, куда он поехал сразу после 6-го Сионистского конгресса в Базеле, проходившего 9–23 августа по старому стилю, Жаботинский пробыл тогда в Риме до ноября.
Пребывание на конгрессе, встреча с Теодором Герцлем многое изменили в его жизни, он отходил и от прежних своих тем, и от старых друзей. Чуковский недоумевал по поводу критических нот по адресу Жаботинского, которые появились в письмах Кармена. 22 августа 1904 года он записал в дневнике: «От Кармена получил письмо. Опять жалуется на Altalen’у. Что это значит – не пойму»
Причиной обиды стал один из фельетонов Жаботинского, о котором он позднее вспоминал в «Повести моих дней»: «Однажды <…> я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому “клоунами”. Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, анонима в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы клоуны в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: “Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту”. Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?»
С иронией о профессии журналиста он писал и в своей постоянной рубрике «Вскользь». Эти публикации задели Кармена, он писал Чуковскому: «Я — не рыжий. Если бы я на минуту подумал или пришел к убеждению, что я рыжий, я бросил бы работу. <…> Я задумал большое дело. Я хотел широко осветить, как никто, это темное царство, показать, что падшая – наша сестра и, что если поскоблить с нее грязь, мы натолкнемся на чудный розан, на чудную душу, чего нет у многих девиц и дам, умащающих свои телеса благовонными маслами. У этих – чистое тело, но на месте души – ком грязи. <…> Удивительный народ! Некоторые говорят, – вот их подлинные слова:“к чему нам это знать?”, т. е. как живут и страдают проститутки. Зачем писать об этом. А одна модная артистка, вся сотканная из лучей, звуков и молитв, говорит мне – “у вас, Кармен, хорошие струны, но зачем вы занимаетесь гнилью? Пусть гниет. Оставьте ее”. Как ты думаешь – оставить ее – гниль эту самую, или иначе всё, что в слезах и обливается кровью?! Да отсохнет моя десница, если я ее оставлю!.. Помнишь рассказ мой “Моя сестра”? Ты знаешь, что первые ласки я получил от падшей, проститутки, и я никогда не забуду их. Погоди! Я напишу когда-нибудь рассказ под заглавием “Сверхпроститутка”. Молодец Ницше. Если бы он только и сочинил всего одно слово “сверх”, и то он был бы гениален. “Сверхпроституткой” я называю даму – семейную, так называемую “порядочную”, фотографическая карточка которой находится в альбоме в Колодезном переулке. Если карточка ее нравится тебе, хозяйка посылает к даме служанку, и та вызывает ее. Дама бросает детей, мужа, чай, гостей, садится в дрожки и лупит в Колодезный переулок, получает за свой сеанс 25 руб. и возвращается назад к столу и разливает опять свой чай. А завтра у нее – новая шляпа, шелковая нижняя юбка и фильдекосовые чулки. Она, которая продает себя ради шляпки, – порядочная, смотрит смело в глаза полиции, а та, которая бродит по улице и продает себя потому, что – голодна, – падшая, непорядочная и т. д. Сволочи и фарисеи! Не привыкла публика к смелым и правдивым фельетонам, но надо ее приучить»
Отдельное издание рассказа Кармена «Моя сестра» вышло под заглавием «Одна из многих» в книге «Ответ Вере. Одна из многих» в Одессе в 1903 году. Автором предисловия был Altalena. Книга не случайно называлась «Ответ Вере», подразумевалась весьма популярная в конце 80-х годов книга немецкой писательницы Бетти Крис (псевдоним Вера). Содержание этой книги Кармен пересказал в предисловии: добродетельная и целомудренная барышня Вера вышла замуж за Георга, надеясь на то, что и он столь же добродетелен, как и она. Но, узнав, что у него были до нее женщины, она уходит из жизни. Кармен ответил этой псевдо-Вере рассказом «Моя сестра» – о том, как согрела и поддержала его в тяжелую минуту проститутка. Рассказ предварял эпиграф за подписью Altalena:

 или шумный „Синий журнал“. Один из его трюков прославил и стремительно поднял тираж иллюстрированного ежемесячника „Аргус“. По идее Регинина один из номеров „Аргуса“ продавался свернутым в трубку, на трубку была надета державшая ее маска популярнейшего в те годы Аркадия Аверченко. Журнал с маской Аверченко был расхватан читателями-петербуржцами, да и в провинции его распродали быстрее обычного. Девизом Регинина, как редактора, было: все что угодно, только чтобы читателю не казалось скучным!
Уже в советские годы постаревший, но по-прежнему подвижной, говорливый, веселый Вася Регинин редактировал одно время иллюстрированный ежемесячник „30 дней“. И, редактируя советский журнал, оставался верен своему петербургскому девизу. Порядок чтения рукописей в его редакции был таким же, как в „Аргусе“. Как-то я принес ему рассказ для журнала. Регинин взглянул на название (он назывался „Поведение человека“), прикинул на глаз размер и тут же вызвал свободную машинистку. „Вот вам рассказ, читайте скорее, автор ждет“. Машинистка привычно уселась в уголке кабинета и стала при мне читать мой рассказ. Регинин продолжал болтать…
Болтая, рассказывая анекдоты, Регинин искоса поглядывал на машинистку, проверяя, как ей читается. Даже раза два попробовал отвлечь ее пустячным вопросом, убедился, что машинистка отвлекается неохотно, и, не дождавшись, когда она дочитает, сказал: „Ладно, рассказ берем. Кажется, интересно“.
Одобренный машинисткой рассказ сам читал только в верстке. Было бы читателю интересно, остальное его не касалось. За все остальное отвечает автор. Редактор обязан только одно: не печатать скучного. Рассказы испытывал на машинистках. Машинистка – читатель. Средний. Типичный. Нелицеприятный. Если и машинистке скучно – рассказ не шел» (Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники).
«Василия Александровича Регинина, или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.
…Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, какая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стенли, отыскавший в дебрях Африки Ливингстона из чисто спортивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.
До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные „желтые“ журналы вроде „Синего журнала“ или такие журналы на всеобщую потребу, как „Аргус“ или „Хочу все знать“. Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.
Серьезный, „вдумчивый“ читатель привык к скучноватому, но строго „идейному“ „Русскому богатству“, к солидному „Вестнику Европы“, к „Ниве“ с ее прекрасными приложениями, к „Журналу для всех“, наконец, к передовой „Летописи“. Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.
Число „желтых“ журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в „Синем журнале“ на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.
Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в „Синем журнале“ из номера в номер.
Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногсшибательное рекламное занятие.
Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинезелли редактор „Синего журнала“ Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожными и благополучно выйдет из клетки.
Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в „Синем журнале“ в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за „Синим журналом“.
В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинезелли был набит людьми до самого купола. Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.
Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.
Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.
Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брандспойтами, бледные служители.
Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.
В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали бешено их трясти и выламывать.
Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брандспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы.
Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.
Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии – себя с тиграми. „Тогда, – сказал он, морщась, – я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж «Синего журнала» до гомерических размеров“.
Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.
После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал „Тридцать дней“, один из интереснейших наших журналов.
Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.
В „Тридцати днях“ он первый напечатал „Двенадцать стульев“ Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли „воздержаться“ от печатания этой удивительной, но пугающей повести.
…Самая манера работы (или, как принято говорить, „стиль работы“) Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.
Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом:
„Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей“, – выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.
Регинин прожил большую и разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.
…Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в „Моряке“: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами» (К. Паустовский. Повесть о жизни).
(обратно)
или шумный „Синий журнал“. Один из его трюков прославил и стремительно поднял тираж иллюстрированного ежемесячника „Аргус“. По идее Регинина один из номеров „Аргуса“ продавался свернутым в трубку, на трубку была надета державшая ее маска популярнейшего в те годы Аркадия Аверченко. Журнал с маской Аверченко был расхватан читателями-петербуржцами, да и в провинции его распродали быстрее обычного. Девизом Регинина, как редактора, было: все что угодно, только чтобы читателю не казалось скучным!
Уже в советские годы постаревший, но по-прежнему подвижной, говорливый, веселый Вася Регинин редактировал одно время иллюстрированный ежемесячник „30 дней“. И, редактируя советский журнал, оставался верен своему петербургскому девизу. Порядок чтения рукописей в его редакции был таким же, как в „Аргусе“. Как-то я принес ему рассказ для журнала. Регинин взглянул на название (он назывался „Поведение человека“), прикинул на глаз размер и тут же вызвал свободную машинистку. „Вот вам рассказ, читайте скорее, автор ждет“. Машинистка привычно уселась в уголке кабинета и стала при мне читать мой рассказ. Регинин продолжал болтать…
Болтая, рассказывая анекдоты, Регинин искоса поглядывал на машинистку, проверяя, как ей читается. Даже раза два попробовал отвлечь ее пустячным вопросом, убедился, что машинистка отвлекается неохотно, и, не дождавшись, когда она дочитает, сказал: „Ладно, рассказ берем. Кажется, интересно“.
Одобренный машинисткой рассказ сам читал только в верстке. Было бы читателю интересно, остальное его не касалось. За все остальное отвечает автор. Редактор обязан только одно: не печатать скучного. Рассказы испытывал на машинистках. Машинистка – читатель. Средний. Типичный. Нелицеприятный. Если и машинистке скучно – рассказ не шел» (Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники).
«Василия Александровича Регинина, или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.
…Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, какая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стенли, отыскавший в дебрях Африки Ливингстона из чисто спортивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.
До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные „желтые“ журналы вроде „Синего журнала“ или такие журналы на всеобщую потребу, как „Аргус“ или „Хочу все знать“. Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.
Серьезный, „вдумчивый“ читатель привык к скучноватому, но строго „идейному“ „Русскому богатству“, к солидному „Вестнику Европы“, к „Ниве“ с ее прекрасными приложениями, к „Журналу для всех“, наконец, к передовой „Летописи“. Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.
Число „желтых“ журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в „Синем журнале“ на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.
Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в „Синем журнале“ из номера в номер.
Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногсшибательное рекламное занятие.
Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинезелли редактор „Синего журнала“ Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожными и благополучно выйдет из клетки.
Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в „Синем журнале“ в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за „Синим журналом“.
В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинезелли был набит людьми до самого купола. Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.
Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.
Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.
Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брандспойтами, бледные служители.
Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.
В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали бешено их трясти и выламывать.
Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брандспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы.
Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.
Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии – себя с тиграми. „Тогда, – сказал он, морщась, – я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж «Синего журнала» до гомерических размеров“.
Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.
После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал „Тридцать дней“, один из интереснейших наших журналов.
Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.
В „Тридцати днях“ он первый напечатал „Двенадцать стульев“ Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли „воздержаться“ от печатания этой удивительной, но пугающей повести.
…Самая манера работы (или, как принято говорить, „стиль работы“) Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.
Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом:
„Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей“, – выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.
Регинин прожил большую и разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.
…Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в „Моряке“: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами» (К. Паустовский. Повесть о жизни).
(обратно)
 Родился и умер в Москве.
Журналист. Сын режиссера, кинодокументалиста, оператора, педагога, народного артиста СССР, профессора, Героя Социалистического Труда Р.Л.Кармена (1906–1978). После окончания факультета международных отношений МГИМО работал в иностранном отделе газеты «Известия». С 1974 – собкор «Комсомольской правды» в странах Латин. Америки и на Кубе, в 1977–84 – в Перу (Лима). Перейдя в Агентство Печати «Новости», на семь лет уехал в Уругвай (Монтевидео). С 1995 в Москве – обозреватель журнала «Новое время», заместитель заведующего международного отдела газеты «Век», спецкор газеты «Время МН», заместитель главного редактора журнала «Латинская Америка» РАН. В последние годы преподавал на факультете журналистики МГИМО, пользуясь большой популярностью у студентов.
Несколько лет работал над книгой «Неизвестные войны Романа Кармена», ставшей достойным памятником выдающемуся кинодокументалисту ХХ в. (премия Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство»). Обладатель ряда престижных наград, в т. ч. премии Культурного фонда Юлиана Семенова «За большой творческий вклад в развитие экстремальной геополитической журналистики», специальная премия Союза журналистов России «Золотая полка российской журналистики», дипломов от Национального союза журналистов Перу и агентства Пренса Латина (Куба) за вклад в развитие отношений с этими странами. Итогом жизни Кармена стала книга «Единственная и неповторимая» – о любви к своей профессии, уникальный и своеобразный учебник по журналистике.
Жил на ул. Б. Полянка, 28. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Родился и умер в Москве.
Журналист. Сын режиссера, кинодокументалиста, оператора, педагога, народного артиста СССР, профессора, Героя Социалистического Труда Р.Л.Кармена (1906–1978). После окончания факультета международных отношений МГИМО работал в иностранном отделе газеты «Известия». С 1974 – собкор «Комсомольской правды» в странах Латин. Америки и на Кубе, в 1977–84 – в Перу (Лима). Перейдя в Агентство Печати «Новости», на семь лет уехал в Уругвай (Монтевидео). С 1995 в Москве – обозреватель журнала «Новое время», заместитель заведующего международного отдела газеты «Век», спецкор газеты «Время МН», заместитель главного редактора журнала «Латинская Америка» РАН. В последние годы преподавал на факультете журналистики МГИМО, пользуясь большой популярностью у студентов.
Несколько лет работал над книгой «Неизвестные войны Романа Кармена», ставшей достойным памятником выдающемуся кинодокументалисту ХХ в. (премия Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство»). Обладатель ряда престижных наград, в т. ч. премии Культурного фонда Юлиана Семенова «За большой творческий вклад в развитие экстремальной геополитической журналистики», специальная премия Союза журналистов России «Золотая полка российской журналистики», дипломов от Национального союза журналистов Перу и агентства Пренса Латина (Куба) за вклад в развитие отношений с этими странами. Итогом жизни Кармена стала книга «Единственная и неповторимая» – о любви к своей профессии, уникальный и своеобразный учебник по журналистике.
Жил на ул. Б. Полянка, 28. Похоронен на Троекуровском кладбище.

 (обратно)
(обратно)

 Судьбу и будущую профессию Павла Артемьевича Трошкина (1909-1944) определил отец – типографский работник издательства «Известия», в 1925 году приведший своего Павку в цинкографию. Спустя несколько лет молодого ударника труда поощрили – перевели в фотоотдел редакции.
У Павла Трошкина было обостренное чутье газетного репортера на новизну и достоверность. Эти качества плюс отчаянная храбрость помогли ему на фронте делать уникальные снимки, среди них – знаменитая панорама после сражения под Могилевом, запечатлевшая десятки разбитых немецких танков, полных награбленного добра. Увеличенный снимок Трошкина выставили в фотовитрине известинского дома на Пушкинской площади, и москвичи несколько дней толпились перед ней, рассматривая картину поля боя, вселявшую надежду на большую Победу.
Судьбу и будущую профессию Павла Артемьевича Трошкина (1909-1944) определил отец – типографский работник издательства «Известия», в 1925 году приведший своего Павку в цинкографию. Спустя несколько лет молодого ударника труда поощрили – перевели в фотоотдел редакции.
У Павла Трошкина было обостренное чутье газетного репортера на новизну и достоверность. Эти качества плюс отчаянная храбрость помогли ему на фронте делать уникальные снимки, среди них – знаменитая панорама после сражения под Могилевом, запечатлевшая десятки разбитых немецких танков, полных награбленного добра. Увеличенный снимок Трошкина выставили в фотовитрине известинского дома на Пушкинской площади, и москвичи несколько дней толпились перед ней, рассматривая картину поля боя, вселявшую надежду на большую Победу.



 Ираклий Луарсабович Андроников (Андроникашвили; 15 [28] сентября 1908, Санкт-Петербург — 11 июня 1990, Москва) — русский советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий. Народный артист СССР (1982). Лауреат Ленинской (1976) и Государственной премии СССР (1967). Доктор филологических наук (1956). Орден Ленина (1978).
(Википедия)
(обратно)
Ираклий Луарсабович Андроников (Андроникашвили; 15 [28] сентября 1908, Санкт-Петербург — 11 июня 1990, Москва) — русский советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий. Народный артист СССР (1982). Лауреат Ленинской (1976) и Государственной премии СССР (1967). Доктор филологических наук (1956). Орден Ленина (1978).
(Википедия)
(обратно)
 ЛИДИН Владимир Германович (псевдоним; настоящая фамилия Гомберг; 1894, Москва, — 1979, там же), русский писатель.
Родился в ассимилированной семье владельца экспортной конторы. Учился в Лазаревском институте восточных языков, в 1916 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 1908 г. опубликовал два рассказа, регулярно печатался с 1915 г. В 1918–21 гг. служил добровольцем в Красной армии. В рассказах первых сборников («Трын-трава», «Вороные кони», оба — 1916 г.; «Полая вода», 1917; «Моря и горы», 1922) о жизни и быте интеллигенции заметно влияние А. Чехова и И. Бунина.
В маленьких повестях Лидина «Ковыль-скифский» (1922), «Курга-баба» (1923), написанных, как и другие его произведения 1920-х гг., в стилистическом ключе А. Ремизова и Б. Пильняка, проводится сменовеховская идея единства русской и советской истории. В сборнике «Мышиные будни» (1923) о маленьких, непримечательных людях вошло единственное художественное произведение Лидина на еврейскую тему — «Еврейское счастье», посвященное горькой судьбе евреев в период послевоенной разрухи. Главные герои сборника «Норд» (1925), романов «Идут корабли» (1926), «Отступник» (1927) и, отчасти, «Великий или Тихий» (1933) — смелые авантюристы-ницшеанцы, борющиеся за личное счастье и место в жизни. В начале — середине 1930-х гг. Лидин обратился к темам «разоблачения буржуазной действительности» («Могила неизвестного солдата», 1932) и «строительства социалистического общества». Язык и образная ткань его произведений, сохранив красочность и выразительность, упростились и стали более традиционными.
Во время Второй мировой войны Лидин был военным корреспондентом газеты «Известия» (1941–43; сборник очерков «Зима 1941 года», 1942). Недовольство И. Сталина одним из очерков Лидина привело к назначению писателя работником фронтовой газеты. Лидин не печатался с сентября 1943 г. по 1946 г. Очерк «Тальное» о поголовном истреблении евреев украинского городка был написан для так и не изданной в Советском Союзе «Черной книги» (Иер., 1980) о Катастрофе.
После 1946 г. Лидин опубликовал ряд рассказов и несколько романов. Написанные с оглядкой на цензуру воспоминания (сборник «Люди и встречи», 1957; несколько расширенное издание — 1961, 1965) состоят из очерков-портретов, героями которых являются также и евреи: писатели Ш. Аш, Ж. Р. Блок, Ф. Вольф, Э. Казакевич, К. Липскеров (1889–1954), Й. Рот, Э. Толлер, С. Цвейг; литературовед М. Гершензон; книговед Д. Айзенштадт; актеры Б. Зускин, Л. Леонидов, Ш. Михоэлс; художники А. Нюренберг (1887–1979), И. Рабинович.
Источник: https://eleven.co.il/jews-of-russia/in-culture-science-economy/12451/ Электронная еврейская энциклопедия (ЭЕЭ)
(обратно)
ЛИДИН Владимир Германович (псевдоним; настоящая фамилия Гомберг; 1894, Москва, — 1979, там же), русский писатель.
Родился в ассимилированной семье владельца экспортной конторы. Учился в Лазаревском институте восточных языков, в 1916 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 1908 г. опубликовал два рассказа, регулярно печатался с 1915 г. В 1918–21 гг. служил добровольцем в Красной армии. В рассказах первых сборников («Трын-трава», «Вороные кони», оба — 1916 г.; «Полая вода», 1917; «Моря и горы», 1922) о жизни и быте интеллигенции заметно влияние А. Чехова и И. Бунина.
В маленьких повестях Лидина «Ковыль-скифский» (1922), «Курга-баба» (1923), написанных, как и другие его произведения 1920-х гг., в стилистическом ключе А. Ремизова и Б. Пильняка, проводится сменовеховская идея единства русской и советской истории. В сборнике «Мышиные будни» (1923) о маленьких, непримечательных людях вошло единственное художественное произведение Лидина на еврейскую тему — «Еврейское счастье», посвященное горькой судьбе евреев в период послевоенной разрухи. Главные герои сборника «Норд» (1925), романов «Идут корабли» (1926), «Отступник» (1927) и, отчасти, «Великий или Тихий» (1933) — смелые авантюристы-ницшеанцы, борющиеся за личное счастье и место в жизни. В начале — середине 1930-х гг. Лидин обратился к темам «разоблачения буржуазной действительности» («Могила неизвестного солдата», 1932) и «строительства социалистического общества». Язык и образная ткань его произведений, сохранив красочность и выразительность, упростились и стали более традиционными.
Во время Второй мировой войны Лидин был военным корреспондентом газеты «Известия» (1941–43; сборник очерков «Зима 1941 года», 1942). Недовольство И. Сталина одним из очерков Лидина привело к назначению писателя работником фронтовой газеты. Лидин не печатался с сентября 1943 г. по 1946 г. Очерк «Тальное» о поголовном истреблении евреев украинского городка был написан для так и не изданной в Советском Союзе «Черной книги» (Иер., 1980) о Катастрофе.
После 1946 г. Лидин опубликовал ряд рассказов и несколько романов. Написанные с оглядкой на цензуру воспоминания (сборник «Люди и встречи», 1957; несколько расширенное издание — 1961, 1965) состоят из очерков-портретов, героями которых являются также и евреи: писатели Ш. Аш, Ж. Р. Блок, Ф. Вольф, Э. Казакевич, К. Липскеров (1889–1954), Й. Рот, Э. Толлер, С. Цвейг; литературовед М. Гершензон; книговед Д. Айзенштадт; актеры Б. Зускин, Л. Леонидов, Ш. Михоэлс; художники А. Нюренберг (1887–1979), И. Рабинович.
Источник: https://eleven.co.il/jews-of-russia/in-culture-science-economy/12451/ Электронная еврейская энциклопедия (ЭЕЭ)
(обратно)